Мария Спасская Девять жизней Николая Гумилева
Пролог Санкт-Петербург, июнь 2017 года
Каждый, кто заходил в ресторан Пулковского аэропорта, невольно обращал внимание на сидящую за крайним столиком пару. Мужчина интереса не вызывал, смотрели на женщину. Она была невероятно хороша собой — тонкая смуглая брюнетка с раскосыми васильково-синими глазами в обрамлении длинных пушистых ресниц, точеным носиком и пухлым, красиво очерченным ртом. Даже стрижка — короткая под мальчика — ей удивительно шла. Склонив голову к плечу и не обращая внимания на принесенный официантом сок, красавица показывала на смартфоне фото и говорила:
— Вилла в Сан-Хосе, расположена в одном из живописнейших мест в Испании. Площадь восемьсот квадратных метров. Девять спален, пять ванных комнат. Первая линия, терраса выходит прямо на море — пляж в ста пятидесяти метрах от дома. При этом есть бассейн. И свой мандариновый сад. И стоит не слишком дорого — миллион семьсот тысяч евро.
Мужчина с удивлением присвистнул, и в грудном контральто собеседницы послышалась легкая обида.
— Разве это дорого за такую роскошь? Хотели два миллиона, но я сбила цену. И договорилась, можно взять в рассрочку, часть денег я уже внесла. Небольшую, всего двести тысяч. С остальным готовы подождать. Подводить людей я не стану. Меня не волнует, каким образом ты решишь этот вопрос, но к концу следующего года оставшаяся сумма должна быть перечислена продавцу. Тем более что ты не хуже меня знаешь, что деньги эти реально существуют.
Мужчина нервно дернулся, он явно хотел поспорить, но брюнетка пресекла попытку дискуссии.
— Только не начинай, — сердито выдохнула она. — Я знаю все, что ты мне скажешь. Ждать я не намерена. Имей в виду — если не ты, мне поможет кто-нибудь другой.
— А если я найду недостающие средства, мы сможем быть вместе? — в голосе мужчины звучала робкая надежда.
— Когда найдешь, тогда и будем разговаривать, — сухо обронила женщина.
В отдалении прозвучал зуммер, и механический голос диктора объявил регистрацию на рейс Санкт-Петребург — Мадрид. Женщина неспешно убрала смартфон в дорогую неброскую сумочку, поднялась из-за стола, демонстрируя великолепную, обтянутую стильным платьем фигуру, и проговорила:
— Не надо, не провожай. И подумай о том, что я тебе сказала.
Подхватив чемодан, обогнула стол, вышла из ресторана и направилась к стойке регистрации. И, пока она шла, мужчина не отрываясь жадно смотрел на удаляющуюся точеную фигурку, понимая, что, если не сотворит чуда, не увидит эту женщину больше никогда.
Аддис-Абеба, 1913 год
Вечер обещал быть нескучным. После жаркого африканского дня, проведенного в сонной одури непрезентабельного «Гранд-отеля», наконец предстояло пусть сомнительное, но развлечение. Вилькин изнывал на низком, липком от пота диване, лениво пережевывая принесенный из лучшего в этой дыре ресторана ланч, когда в дверь постучал чернокожий гонец с письмом от русского посла в Аддис-Абебе. Милейший Борис Александрович Сольский и его очаровательная супруга просили Семена Вилькина пожаловать к ужину, обещая знакомство с корреспондентом из петербургского журнала «Аполлон».
Российских подданных здесь, в столице Абиссинии, было немного, и со всеми соотечественниками общительный Вилькин уже успел перезнакомиться. А с отдельными заносчивыми гордецами даже поругаться, так что новый персонаж пришелся бы очень кстати. Скука в Африке была непереносимая, что для авантюрной натуры Семена было смерти подобно. И с чего это он решил, будто бы здесь, в Абиссинии, ему уготованы сплошные приключения?
Много лет назад матушка, тяжело вздыхая, переодела маленького Сему в приберегаемую для синагоги курточку, отец посадил сына на подводу зеленщика Боруха Бейлиса, и тот отвез мальчишку с окраины Киева в одну из лучших в городе книжных лавок, работать за еду. Жили Вилькины более чем скромно, отец портняжничал, перешивая соседям за малое вознаграждение обноски, и восемь малышей-погодок частенько голодали. Предложение владельца книжной лавки Михаэльсона, приходившегося Вилькиным дальним родственником, пристроить к делу старшего, Семена, родители приняли с радостью.
Честно говоря, работа у Михаэльсона была не слишком утомительная. Днем мальчишка разносил клиентам заказанные книги, ночами забирался в подсобку и, уютно устроившись на топчане, читал занимательного Жюля Верна, авантюрного Майн Рида, завораживающего Проспера Мериме. Читал запоем, с головой погружаясь в созданные буйной авторской фантазией удивительные миры. А если попадались книги на других языках, брал толстенные словари и, переводя, попутно изучал языки.
Когда Сема проглотил все имевшиеся в лавке приключенческие романы, он перешел на пыльные, никем по многу лет не открывавшиеся философские труды. Играючи одолел Вольтера и Руссо, но из-за яркости языка и стройности философских воззрений особенно приглянулся ему Шопенгауэр. Приглянулся настолько, что юный Вилькин даже простил немецкому мизантропу сквозившее в каждом высказывании презрительное отношение к семитам. Хотя сделать это оказалось нелегко, ибо отец был ортодоксом, превыше всего чтящим Закон, и Тора являла собой для Семена самое святое, что только может быть. То, что жило глубоко в душе и оберегалось от посторонних взглядов. Михаэльсон же к вере отцов относился без фанатизма, и Семен его за это молча осуждал.
Когда и философские книги подошли к концу, мальчик открыл для себя поэзию. Надо ли говорить, что из всех поэтов в мятущуюся душу юного Вилькина больше всего запали бунтарские стихи Шарля Бодлера и Артюра Рембо. Заинтересовавшись авторами, мальчик отыскал на пыльных полках биографии и пришел к выводу, что Бодлер был нытиком и тряпкой, зато Рембо — выше всяческих похвал. Чего стоил один написанный им в семнадцать лет «Пьяный корабль»! Подростком Артюр удрал из дома, много путешествовал и много писал, писал свои замечательные стихи.
А в один момент покончил со стихами, которые вдруг отчего-то счел заблуждением молодости и позже именовал не иначе, как «нелепое омерзительное ребячество». Вместе со стихами выкинул из жизни своего наставника и любовника поэта Поля Верлена и устремился в Африку, где рассчитывал разбогатеть, торгуя оружием и слоновой костью. Сказать по совести, так и не разбогател, зато жил ярко, умер молодым. Одно слово — герой, каких мало. Что и говорить, прав был Рембо. Деньги и слава — вот жизненные цели, которые оправдывают любые средства.
Имея перед глазами заразительный пример француза-бунтаря, Сема Вилькин принялся писать стихи. Писать и рассылать во всевозможные периодические издания — в редакцию «Одесского листка», в газету «Гудок», в журнал «Колосья». И несколько его произведений даже опубликовали, но это было совсем не то, к чему стремился честолюбивый посыльный из книжной лавки. Слава получилась какая-то жиденькая, а денег не было вообще. В ночь, когда Семену исполнилось четырнадцать, ему вдруг отчетливо открылся весь ужас его положения. Кто он такой? Бедный еврейский юноша без связей и перспектив, обреченный всю свою жизнь прозябать в приказчиках. Не сказать, чтобы в лавке к нему плохо относились — старик Михаэльсон даже по-своему любил сообразительного и расторопного помощника, просто такая жизнь была не для Семена. Умного, смелого и не склонного к рефлексиям юноши. Решение пришло само собой.
В памятное утро своего четырнадцатилетия, доев кусок праздничного пирога, испеченного специально для именинника заботливыми руками мадам Михаэльсон и преподнесенного с торжественностью прямо-таки необыкновенной, нагруженный книгами Вилькин, как обычно, вышел на улицу. Но не пошел по адресам заказчиков, а устремился на Бессарабку. Здесь на рынке целыми днями отирались жиганы из банды известного на весь Киев Кости Артиста. Приметив одного из людей Артиста, по виду — своего ровесника, Семен принял независимый вид и, отозвав парнишку в сторону, проговорил, прикуривая от его папиросы:
— Сегодня ночью совершенно случайно забудут запереть заднюю дверь в книжную лавку Михаэльсона. Передай своим, если есть желание — могут заглянуть.
Гости не заставили себя ждать. Той же ночью Артист обчистил плотно набитый сейф, воспользовавшись любезно предоставленными Вилькиным ключами. Семен ушел вместе с бандой и некоторое время промышлял с людьми Артиста налетами на киевских толстосумов. Но в этом не было никакой романтики, одна неприкрытая уголовщина. Вся слава, как и большая часть денег, доставалась главарю. Кроме того, в банде Вилькин получил унизительное прозвище Сема Жид и, скрепя сердце, вынужден был на него откликаться. Душа Вилькина томилась под гнетом несправедливости и нереализованных мечтаний до конца осени, пока он случайно не познакомился в ресторане гостиницы «Европа» с Эстер Коган.
В непринужденном разговоре за бокалом шампанского дочь преуспевающего дантиста поделилась с новым другом захватывающими идеями устранения закостенелых в своих взглядах правительственных чиновников — основных врагов грядущей революции. Вилькин не на шутку заинтересовался рассказом Эстер, а еще больше предложенными девушкой книгами — этюдами Антонио Лабриолы[1], работами Бельтова[2] и трудами Маркса. Тем более что боевая организация левых социал-революционеров, к которой и принадлежала милая барышня из благополучной киевской семьи, имела изрядное финансирование, денег не считала и, если верить дочери дантиста, по первому же требованию выдавала своим членам столько наличности, сколько захотят.
Буквально на следующий день юноша вступил в боевую группу и сделался одним из самых отчаянных боевиков. Семену самому предложили выбрать партийный псевдоним, и он стал называться Азраэлем — по имени ветхозаветного ангела смерти, упоминание о котором Вилькин встречал в книге Еноха. Разлад в душе был устранен — эсер Вилькин больше не нуждался в деньгах и в то же время чувствовал себя героем.
После серии особенно удачных террористических акций возникла настоятельная необходимость покинуть Россию, и Азраэль отправился в Базель, на Сионистский конгресс, где председательствовал Теодор Герцель, пользовавшийся большим уважением в синагоге Лукьяновки. Но в Базеле новоявленный эсер заскучал, слушая, как по сотому разу ругают книгу Дюринга «О еврейском вопросе» и обсуждают необходимость создания своего, сионистского, государства.
Вернувшись в Петербург, Семен снова взялся за подрывную деятельность и в следующий раз, когда потребовалось немедленно убраться из России, бежал уже не в скучную Европу, а в таинственную Африку, ибо сердцем Вилькина давно и безраздельно владел великолепный Артюр Рембо. Да еще, ко всему прочему, на глаза эсеру попался сборник стихов некоего Ник. Гумилева, озаглавленный «Шатер» и повествующий как раз таки об африканском путешествии автора.
Стишата были вполне обычные. Если бы захотел, Вилькин мог бы сочинить и лучше, но было в этих стихах что-то цепляющее, мальчишеское, из детских его ночей, проведенных с приключенческими книжками в подсобном помещении лавки Михаэльсона. Некоторые вирши даже непроизвольно заучил наизусть. «Я пробрался в глубь неизвестных стран, восемьдесят дней шел мой караван… Мы рубили лес, мы копали рвы, вечерами к нам подходили львы… Но трусливых душ не было средь нас, мы стреляли в них, целясь между глаз… И тая в глазах злое торжество, женщина в углу слушала его». Верно подмечено. Ничего человек не боится, укрощает диких зверей и открывает новые материки, а вернется домой — и какая-нибудь скверная бабенка так скрутит героя в бараний рог, ни вздохнуть, ни охнуть. Правильный поэт. Как такому не поверить?
И вот скрывающийся террорист Азраэль здесь, в Африке. Кинув тоскливый взгляд на засаленный томик стихов Ник. Гумилева, Вилькин поднялся с продавленного топчана и стал собираться на званый ужин. Душу жгла обида. Горькая усмешка кривила губы. Эх, поэт, поэт. Зачем же так? Что ни говори, а подвел его Гумилев. Расписал африканские красоты так, как будто и в самом деле на Черном континенте путешественника ждет что-то особенное. Где он отыскал эту свою зулусскую принцессу, от которой глаз не оторвать? Сколько ни ищи, нет среди местных дам красоток. Хотя, конечно, на вкус и цвет… Признаться, в первое время Вилькин даже находил некоторый шик в чернокожих любовницах, чуть ли не каждый день наведываясь в публичный дом при Английском клубе и воображая себя то Бодлером, то Рембо, но скоро пресытился. Пахнут они как-то странно, ну и вообще чересчур экзотичны.
От скуки разочарованный Семен скупил почти весь товар в двух имеющихся в городе больших лавках, принадлежавших богатым индусам. В результате чего гостиничный номер был завален шитыми золотом шелковыми одеждами, кривыми саблями в красных сафьяновых ножнах, кинжалами с серебряной чеканкой и всевозможными восточными украшениями, которые Сема, гуляя по городу, щедро раздаривал первым встречным красоткам. Красотки спешили на свой лад отблагодарить дарителя, и некоторое время это казалось забавным. Но скоро и игра в Гаруна-аль-Рашида ему наскучила, и Вилькин снова затосковал.
Семен распахнул дверь и окунулся в липкий зной африканского вечера. Запер гостиничный номер, закинул за спину мягкую сумку из рыжей гипопотамьей кожи и двинулся по эвкалиптовой аллее к конюшням «Гранд-отеля». Можно было поехать и на авто, но с машинами в африканских дебрях дело обстояло неважно. Его «Паккард» стоял сломанным у гостиничных ворот, и надежды, что хитроглазый механик с белозубой улыбкой на блестящем, как антрацит, лице когда-нибудь его починит, оставалось все меньше и меньше. Резоны местного умельца были вполне очевидны — если машина не на ходу, то кому она нужна? Следовательно, русский когда-нибудь уедет, бросив ее у гостиницы. И вот тогда хитрый механик откроет капот и заберет себе все, что сумеет снять, открутить и выломать.
Честно говоря, Семен и не рассчитывал на этот «Паккард». Да что там какой-то «Паккард»! Если бы захотел, Вилькин мог бы купить себе хоть десять машин — их завозили в эти места тоскующие по цивилизации европейцы, но местный автопарк являл собой столь жалкое зрелище, что обжегшийся на «Паккарде» Вилькин безоговорочно предпочитал взятый напрокат гужевой транспорт. Не торгуясь и заплатив черномазому каналье явно больше положенного, он выбрал из предложенных лошадку порезвее, лихо запрыгнул в седло и отправился в предместье к Сольским.
Даже вечером африканское солнце палило нещадно, и лучше всего было ехать в тени, прячась под сенью глинобитных построек и стараясь не попадать на не защищенные тенью участки неширокой улицы.
Русская миссия, будто оазис, вынырнула из облака песчаной пыли, поднятой вялым мулом, тянувшим перед Вилькиным груженную кокосами повозку. У ворот расслабленно стояла пара босоногих ашкеров[3] в мятых рубашках и холщовых английских штанах. При виде посетителя воины скрестили копья и изобразили на лицах непреклонную решимость не пустить его внутрь. Семен осадил коня, извлек из сумки переданный через посланца пропуск, показал его ближайшему стражу ворот и только после этого был допущен на территорию посольства.
Молодой чернокожий садовник из местных с привычной небрежностью подстригал кусты, не позволяя буйной тропической растительности заполонить собой все имеющееся пространство широкого двора. У коновязи Вилькин спешился, бросил поводья угольно-черному мальчику при конюшне и устремился вверх по ступеням к застывшему посреди веранды послу. Отменно сидящая визитка делала высокого плотного Сольского похожим на оперного певца. Посол стоял перед выставленными в ряд акварельками и вопросительно посматривал на свою крохотную суетливую жену, с самым комическим видом делающую умоляющие гримаски.
Вилькин подошел поближе и посмотрел на картины. Акварели казались совсем детскими, словно выполненными рукой не имеющего понятия об основах композиции новичка, пытавшегося, как умеет, передать африканский пейзаж и коренных обитателей этих мест. Деревья поражали безумной зеленью, фигурки негров — необычайной кривобокостью. Рядом с картинами, приосанившись и надменно посматривая на присутствующих, прохаживалась Зиночка Бекетова, сотворившая это безумие. Белоснежная чалма с павлиньим пером ловко сидела на ее белокурой головке, укороченный алый лиф обтягивал высокую девичью грудь, в то же время открывая соблазнительный мягкий животик, а прозрачные шальвары не столько не скрывали, а, напротив, всячески подчеркивали стройные ножки.
«Хороша, чертовка. Жениться на ней, что ли?» — лениво подумал Вилькин, не без удовольствия оглядывая прелестную художницу.
С недавнего времени Зиночка брала уроки живописи у супруги посла, и Вера Васильевна, так же, как и все окружающие, изнывавшая в этой богом забытой дыре от скуки, искренне считала, что ее воспитанница делает несомненные успехи, которыми и спешила похвастаться. Посол Сольский славился излишней прямолинейностью, знал за собой этот грех и предпочитал лучше смолчать, чем кого-нибудь обидеть неосторожным словом. Как ни подсказывала мадам Сольская намекающими взглядами нужную линию поведения, слукавить Борис Александрович не решался. Заметив поднявшегося на террасу Вилькина, он торопливо протянул для рукопожатия мягкую влажную ладонь и с видимым облегчением произнес:
— Ну наконец-то! Если бы вы знали, Семен Аркадьевич, как я рад вас видеть, милый вы мой!
— Взаимно, Борис Александрович, — Вилькин ответил на рукопожатие и направился к дамам.
— Как добрались? Без приключений? — шагая рядом, вежливо уточнил посол.
— Благодарю, доехал с божьей помощью, — смиренно проговорил Вилькин, прикладываясь к дамским ручкам.
Желая переложить неблагодарный труд критика на плечи гостя, посол оживленно осведомился:
— Ну, господин Вилькин, что скажете по поводу нашей импровизированной картинной галереи? — И многозначительно добавил: — Это работы Зинаиды Евсеевны.
— Зинаиды Евсеевны? — недоверчиво переспросил Вилькин.
Он отлично знал, что представляет собой Зиночка Бекетова — прехорошенькая шестнадцатилетняя дурочка, от скуки и из природного упрямства приехавшая из Петербурга погостить к папеньке и теперь невыносимо страдавшая от недостатка мужского внимания. За короткое время знакомства Семен успел понять, что Зиночка — девушка на редкость ограниченная. Мыслит категориями дамских романов и делит представителей мужского пола на «героев» и «негероев», стремясь первым понравиться всем своим существом, а вторых в лучшем случае не замечая, а в худшем — окатывая ледяным презрением и осыпая насмешками. Причем перемены от одного полюса к другому происходили столь стремительно, что в первый момент бывало трудно догадаться, как в данный промежуток времени Бекетова относится к собеседнику.
Судя по тому, как Зиночка на него смотрела, Вилькин в ее понимании сейчас был «героем», ибо пару дней назад подарил ей несколько ничего не значащих ювелирных безделушек из лавочек индусов. Как джентльмен, Вилькин не мог обмануть ожиданий дамы, тем более что искусством вранья, в силу специфики своей деятельности, владел виртуозно. Отогнав крамольную мысль, что, будь они на Бессарабке, такая краля от него и без всякой женитьбы бы не ушла, эсер одарил Бекетову затуманенным страстью взглядом и с воодушевлением завел переливчатым басом:
— Гоген! Ну, совсем Гоген! Та же чистая цветовая гама, те же композиционные решения. Бодлер сказал: «Je hais le mouvement qui deplace les lignes»[4]. Но поэт сказал так только потому, что не видел ваши прелестные акварельки.
— Бросьте лукавить, Семен Аркадьевич, — кокетливо надула пухлые губки начинающая художница. — Разве я не вижу, что мои картины пока еще недостаточно хороши?
Вилькин покопался в памяти, надежно хранящей книжные премудрости, выудил еще одну подходящую к случаю цитату и страстно выдохнул, целуя маленькую девичью кисть:
— Произведение искусства создается для того, кто умеет видеть. Картины — зеркало, в котором отражается состояние души художника. Это опять не я. Это сказал Гоген, творения которого так похожи на ваши потрясающие работы.
— Ну, вы-то понятно, — фыркнула прелестница, игриво вырывая изящную ручку из крепких ладоней Вилькина. — Вы мне грубо льстите, потому что влюблены в меня. А вот у господина посла на лице написано отвращение к моим картинам, и все равно он бессовестно врет, что акварельки хороши. Неужто и Борис Александрович в меня по уши втрескался?
И, обольстительно улыбнувшись, так, что обозначились ямочки на щеках, Зиночка лихо подмигнула Сольскому, стараясь смутить.
— Что вы такое говорите! — замахал руками побагровевший посол, поддавшись на провокацию.
— Тогда выкладывайте начистоту, — резвилась проказница, — что вы думаете о моей мазне?
— Прошу вас, Зинаида Евсеевна, — сменил тему окончательно смутившийся хозяин виллы, увлекая девушку к столу с напитками. — У вас нет ни малейших оснований подвергать сомнению вердикт господина Вилькина. Семен Аркадьевич гораздо лучше меня разбирается в искусстве. Если он говорит, что картины хороши, значит, так оно и есть. Вот, не откажите, бокал шампанского.
Сунул Зиночке пузырящуюся в хрустале «Вдову Клико» и, обернувшись к жене, взмолился:
— Вера Васильевна, голубушка, займитесь своими прямыми обязанностями — развлекайте гостей. А я должен откланяться. Ничего не поделаешь. Дела.
И, смущенный, почти бегом скрылся в доме.
— С минуты на минуту должен прибыть Гумилев! — встрепенулась хозяйка, вглядываясь через ограду в синеющие на горизонте горы.
Вилькин не подал вида, что удивлен, хотя в душе и шевельнулось изумление. Вот как! Неужели тот самый Гумилев? Стихотворец, завлекший его в эти адские дебри? Ибо Вилькин не сомневался — если и существует ад, он именно такой.
— Николай Гумилев? — оборачиваясь к Вере Васильевне, с деланым безразличием осведомился он.
— Да-да. Николай Степанович. Этот милый юноша уже приезжал сюда, и мы с ним справляли Новый год, — заулыбалась жена посла. — Представьте себе, у нас была даже елка! Так, ничего особенного. Привезли деревце, напоминающее нашу ель, украсили громадными свечами, цветами да лентами — в общем, было недурно. Зажгли в Сочельник и на Рождество в присутствии доктора и Гумилева. — Вера Васильевна пригубила игристое вино, продолжая возбужденно щебетать: — Представьте себе, в прошлый раз муж устроил Николаю Степановичу приглашение на прием в императорский дворец Гэби. Само собой, мы там тоже присутствовали. Ах, это было так удивительно! Вообразите себе, Семен Аркадьевич, в приемном зале установили большой стол для европейцев — дипломатов, служащих банков, врачей. Я сидела по левую руку абиссинского министра иностранных дел, а по правую расположилась жена английского посланника Тотенхейма… Вы его, господин Вилькин, знаете по клубу. На наш стол подавались европейские кушанья, приготовленные поваром французского посла, тоже вашего клубного знакомого. Все, что приносили наследнику, сперва пробовали телохранители и пажи — вы же знаете, в стране непростая обстановка, император Менелик Второй совсем плох, а его внук Лядж Иясу заигрывает с турками. Ходят слухи, что принца вот-вот свергнет оппозиция.
— Да ну, Вера Васильевна, не выдумывайте, какая там оппозиция, — закуривая, чтобы скрыть волнение, с наигранным добродушием рассмеялся Семен.
Эсер Вилькин знал об оппозиции гораздо больше, чем разговорчивая мадам Сольская, но ни в коем случае не должен был показывать свою осведомленность. Не далее как неделю назад Семен обедал в Английском клубе. Гарри Тотенхейм сразу показался ему не в меру возбужденным, если можно так сказать о стопроцентном английском джентльмене с лишенным мимики лицом и арктически холодными глазами. В тот вечер чисто выбритые щеки Гарри окрасил едва заметный румянец, а обычно плотно сжатые губы змеились усмешкой.
Закончив партию в бридж, Тотенхейм не покинул по своему обыкновению клуб, а перешел из большой гостиной в малую — низенькую и грязную, куда обычно заглядывали проигравшиеся игроки, дабы пропустить успокоительный стаканчик дармового виски. Англичанин не бывал здесь никогда, считая посещение подобного свинарника ниже своего достоинства. И вдруг — почтил присутствием, что выглядело странно.
Когда Вилькин вошел в пустую темную залу, он не сразу заметил, что его любимое кресло занято, и, лишь приблизившись вплотную, увидел расположившегося в нем Тотенхейма. Английский посланник дремал, откинувшись на высокую спинку кресла. Полагая, что это всего лишь недоразумение и Тотенхейм не знает, что это его место, Вилькин устроился на низком табурете со стаканом адского пойла, глотнул обжигающую жидкость. И вдруг заметил, что Тотенхейм его разглядывает.
— Что вы думаете о лошадях? — не меняя позы и не открывая полуприкрытых глаз, сухо осведомился британец.
— Кой черт мне думать о лошадях, когда я продулся подчистую? — удивился Семен, даже не пытаясь скрыть прозвучавшее в голосе раздражение.
— И все же я хотел бы, чтобы вы, мистер Вилькин, взглянули на дивного арабского скакуна, которого я приобрел на днях. Скажем, завтра, часов в одиннадцать пополудни. Я встречу вас у ворот британского посольства и провожу в конюшню.
Вилькина передернуло от досады.
— Что за бред? С чего это я должен смотреть на вашего скакуна, когда я в лошадях ни черта не смыслю?
— Поверьте мне, сэр, вам просто необходимо увидеть этого красавца, — монотонно увещевал британец. — Если не придете, будете жалеть.
— Ну, если вы так настаиваете… — с сомнением протянул Семен, начиная кое о чем догадываться.
Заинтригованный, Вилькин явился к британскому представительству в назначенное время и в самом деле был препровожден Тотенхеймом на конюшни.
— Как вы понимаете, дело не в лошади, — убедившись, что поблизости никого нет, бесстрастно сообщил англичанин. — Я навел справки, и мне сказали, что Азраэль лучший в своем деле, а вы знаете, как с ним связаться. Вы знакомы, не так ли?
Эсер усмехнулся и уклончиво ответил:
— Приходилось встречаться.
Британец приблизился к Вилькину, приобнял его за плечи и повел в угол, к длинным, во всю стену, поилкам.
— Ни для кого не секрет, — понизив голос, говорил Тотенхейм, — что наследник Менелика Второго всей душой стремится к исламу, в то время как Абиссиния уже много столетий страна христианская. Не скрою, у Антанты[5] свои интересы, и в наши планы не входит смена Абиссинией религиозной конфессии. Мы наметили человека, способного продолжить линию старого доброго Менелика.
Дойдя до поилок, британец остановился и замолчал, глядя на плотно пригнанные доски. В конюшне повисла тишина, нарушаемая лишь хрустом сена, что пережевывали крепкие челюсти хваленого арабского скакуна. Вилькин подождал и, не услышав продолжения, раздраженно обронил:
— Это вы хорошо сделали, что наметили человека. Всегда полезно подумать о будущем.
Англичанин неторопливо обернулся к собеседнику и снова монотонно заговорил, рассматривая переносицу Семена.
— Тут, мистер Вилькин, имеется одна тонкость. В этой варварской стране существуют свои традиции, пусть нелепые, однако с ними приходится считаться. Абиссинцы вообразили, будто бы их императоры ведут свой род от царя Соломона и царицы Савской. Наш же ставленник состоит лишь в очень отдаленном родстве с библейским царем и потому по местным обычаям на трон претендовать не может. Ибо существует строгая очередность, и наш человек в этой очереди отнюдь не первый. У нас имеются серьезные опасения, что абиссинцы нашего человека могут не принять. Вот если бы у него оказался символ власти — кольцо Соломона, передающееся от одного монарха к другому и свидетельствующее о праве раса[6] Тэфэри Мэконнына на абиссинский трон…
— Достаточно, господин посол! Я и так услышал слишком много, — оборвал британца Вилькин. — Все, что Азраэлю необходимо знать: где хранится кольцо, и как охраняется помещение. Ну и, конечно же, размер гонорара, который заинтересованные лица готовы заплатить.
Тотенхейм сунул руку во внутренний карман легкого пиджака, извлек блокнот и протянул Семену.
— Здесь схема дворца, часы смены караула и другая информация, которая может заинтересовать исполнителя. Что же касается гонорара… Кольцо хранится в шкатулке с другими драгоценностями императорской семьи. Как вы понимаете, мистер Вилькин, это не просто украшения, а самые настоящие сокровища. Среди них есть золотая диадема супруги негуса, украшенная изумрудом такой величины и чистоты, что стоимость его определить довольно затруднительно. Есть бесценное алмазное колье с рубиновыми подвесками, есть баснословно дорогой сапфировый браслет. Самым же уникальным предметом является гемма из камня астерикса. Царица Саввы приказала нанести на этот уникальный минерал изображение и название церкви, где она спрятала Ковчег Завета. Из достоверных источников известно, что перед тем, как сесть на трон, каждый новый негус[7] из колена Соломонова получает эту гемму от своего предшественника и только тогда узнает, где хранится Ковчег Завета. Новый император Абиссинии отправляется в указанное место и беседует с Богом, заручаясь поддержкой Всевышнего.
— Вот даже как! — непроизвольно вырвалось у Семена, взволнованного услышанным.
— Да, именно так. В отличие от кольца Соломона гемма царицы Савской не относится к зримым атрибутам императорской власти. Это атрибут, скорее, сакральный. Поэтому судьба геммы нам неинтересна, — многозначительно намекнул британский посол. — Нам нужно лишь, чтобы исполнитель вынул из шкатулки заказанное кольцо и в условленное время в условленном месте передал нам. Что Азраэль сделает с остальными сокровищами, нас не касается.
Об утраченном давным-давно Ковчеге Завета Вилькин знал от ребе Менахера-Ицхока из бесед в хедере[8], куда ходил, когда был ребенком. Ребе рассказывал, что Ковчег Завета имеет особую силу. Это видимый знак присутствия Господа среди людей, дарованный израильскому народу. Объект, наделенный сверхмощью. Семена ничуть не удивило, что абиссинские негусы посредством Ковчега беседуют с Богом, ибо, согласно Ветхому Завету, слово Божье исходит из облака между двух находящихся на крышке Ковчега серафимов, следовательно, такая беседа вполне возможна.
Также Вилькин знал, что артефакт был давным-давно похищен из Храма Соломона и до сих пор его местопребывание неизвестно. Но если заполучить гемму царицы Савской и вернуть святыню иудеям, униженные и оскорбленные сыны Израилевы снова обретут силу, власть и мощь. В памяти всплыл Базельский конгресс, долгие беседы о необходимости сионистского государства, и Вилькин, представив, как вернет единоверцам утраченное могущество, явственно ощутил дуновение славы.
Договаривающиеся стороны ударили по рукам. А уже на следующий день Вилькин принес в конюшню британского посольства кольцо Соломона. Футляр, в котором хранилась гемма — красный, сафьяновый, с золотой сканью по бокам, эсер разобрал на составные части и безжалостно сжег на заднем дворе отеля, где чернокожие работники сжигали мусор. А гемму — гладко отполированную, овальную, необыкновенного изумрудного оттенка, с наложенной поверх тонко вырезанной белоснежной церковью и белыми же странными буквами — спрятал. Вместе с остальными сокровищами негуса небрежно положил на столик в гостиничном номере среди россыпей закупленных у индусов побрякушек, ибо твердо усвоил золотое правило — прятать нужно на самом видном месте.
Хотя и понимал, что хранить при себе драгоценности опасно. После ограбления императорского дворца обыскивали всех уезжающих из страны иностранных подданных, подозревая в каждом заговорщика, спешащего вывезти царские сокровища. Как он будет переправлять украденное на родину, Вилькин еще не придумал, но очень верил в свою удачу и рассчитывал, что провидение само подскажет верный способ.
— Семен Аркадьевич, не прикидывайтесь глухим и слепым, — укоризненно взглянула на Вилькина жена российского посла.
— Вот вам святой истинный бог, ничего не знаю, — округлил глаза Вилькин.
Понизив голос, Сольская продолжала:
— Ну так слушайте, я вам расскажу. Злоумышляет против Ляджа Иясу та самая оппозиция, которая лишила принца символа императорской власти. На каждом углу трубят, что по обвинению в краже царских драгоценностей задержали бывшего подданного Российской империи фельдшера Лутошина. Ужасная история! Мы даже не можем за несчастного вступиться, ибо фельдшер не принадлежит к русской общине, отказываясь считать себя русским. Самое кошмарное в том, что по местным законам казнить его будет жена. И как казнит! Разрубит на части на базарной площади при большом стечении народа. Борис просил, чтобы хотя бы мальчика, их сына, не заставляли смотреть на казнь, но они даже посла слушать не стали. Звери, чистые звери!
— Как это так — просто взять и казнить? Надо же доказать, что это именно фельдшер украл! — возмущенно повысила голос Зиночка.
— Считается, что вина Лутошина доказана, — вздохнула Сольская. — В момент кражи кто-то усыпил стражу, подсыпав в чан с тэджем[9] сонного порошка. А в мусоре нашли несколько бумажек от снадобий, которыми фельдшер пользовал местную бедноту. Надо понимать, что Лутошин проживает в Абиссинии с тысяча восемьсот девяносто седьмого года! Прибыл с атаманом Красновым, назначенным начальником конвоя первой русской дипломатической миссии в Аддис-Абебу. Обосновался, выписал жену, а недавно она родила здесь ребенка. Бедный, бедный малыш! Совсем еще маленький мальчик! Супруги хотели помогать страждущим, лечить неимущих аборигенов. Как вы думаете, стали бы они участвовать в антиправительственном заговоре?
— Будем надеяться, что все обойдется, — закрыла неприятную тему Зиночка. — Лучше расскажите еще о корреспонденте. Этом, как его…
Вилькин охотно напомнил:
— Гумилеве.
— Очень образованный человек, — тут же переключилась Вера Васильевна. — Николай Степанович окончил Сорбонну и Петербургский университет.
— Откуда это известно? — ревниво осведомился Вилькин, задетый за живое Сорбонной.
— Николай Степанович в прошлый свой приезд рассказывал. Тогда он только-только женился на киевлянке.
— Так он женат? — разочарованно протянула Бекетова.
Глаза хозяйки оживленно блеснули.
— И тоже необыкновенная история! — интригующе выдохнула она. — Вообразите, почти сразу же после свадебного путешествия в Париж Гумилев выехал в Абиссинию и прожил здесь полгода. Мы, конечно, не спрашивали о причинах, побудивших его покинуть молодую жену, но Николай Степанович однажды сам высказался, что между ним и его супругой решено продолжительными разлуками поддерживать взаимную влюбленность. Видимо, Гумилев невероятно состоятельный человек, если может позволить себе подобные эскапады. А вот и он! — рассказчица помахала рукой в сторону ворот. — Сейчас сами увидите.
Вилькин скептически усмехнулся. Значит, корреспондент журнала «Аполлон»? Ну-ну, любопытно взглянуть, что этот типчик из себя представляет.
Санкт-Петербург, наши дни
Я часто так делаю — захожу в социальную сеть и, не регистрируясь, проверяю, что у нее новенького. Любопытно же, что произошло за то время, пока мы с ней не виделись. Вот! Добавился новый музыкальный альбом и еще одна фотография ее совершенной фигуры в неглиже на фоне ослепительной средиземноморской зелени. Маме сорок пять, а она выкладывает в Сеть такие откровенные картинки! Иногда мне кажется, что это хорошо, что мама ушла от нас с отцом к своему юному итальянскому другу, все равно она никогда не любила ни меня, ни папу. Но все же мне как-то спокойнее знать, что где-то там, далеко-далеко, в прекрасной солнечной Италии, есть она, такая любимая и такая ненавистная моя мама.
— Кораблина! Я к вам обращаюсь!
Я сунула смартфон в карман и посмотрела на главного редактора. Сегодня Олег Иванович выглядел франтом — в белоснежном поло и малиновых брюках. Понятное дело, только вчера вернулся из Вены, потому и смотрится очень по-европейски.
— Вы поняли задание?
Для того планерки и существуют, чтобы стимулировать и озадачивать. Каждый понедельник мы, журналисты издательского дома «Миллениум», собираемся в кабинете главного редактора Полонского и сначала получаем кнуты и пряники за прошедшую неделю, а затем — задания на неделю предстоящую. Нас набивается в роскошный кабинет главреда довольно много, так что некоторым не хватает стульев и приходится стоять, но в этот раз мне удалось занять неплохое сидячее местечко рядом с Романом.
Я особенно ни с кем не контактирую, общаюсь только с Ромой Чащиным из спортивного отдела. Чащин пишет про всевозможных чемпионов и про их тернистые пути к вершинам. Мне же, как правило, достаются культурные мероприятия. Потому, не моргнув глазом, я уверенно сообщила первое, что пришло в голову:
— Я должна осветить открытие выставки в «Артмузе».
По кабинету пронесся ехидный смешок, а Полонский посмотрел на меня долгим пристальным взглядом и сухо попросил:
— Софья Михайловна, задержитесь после планерки, надо кое-что обсудить.
— Как скажете, — потупилась я. И, поймав на себе тревожный взгляд Романа, сделала едва заметный жест рукой — дескать, не беспокойся, никто ничего не узнает.
Дело в том, что я не сплю. Совсем не сплю. В смысле, не могу закрыть глаза, расслабиться и прогрузиться в сладостное небытие со всеми вытекающими последствиями — с захватывающими сновидениями и утренним пробуждением отдохнувшей и посвежевшей. И только при помощи барбитуратов, которые мне поставляет Роман, я имею возможность хоть немного отключиться. Смешно, правда? Здоровяк Чащин, кровь с молоком — и барбитураты. Пропагандист здорового образа жизни, певец спортивной славы и — толкает в редакции колеса.
Хотя, быть может, в этом как раз таки есть своя извращенная логика? Так сказать, потребность действовать от противного? А может, это вообще каким-то хитрым образом тесно связанные между собой звенья одной цепи? Хотя какое мне до всего этого дело, когда во рту стоит специфический вкус только что принятой таблетки, а по телу разливается блаженное расслабляющее тепло? Меня тронули за плечо, и я, обернувшись, прогнала сонную одурь, в последнее время сделавшуюся моим привычным состоянием. В кабинете было пусто — похоже, уже все разошлись, а я и не заметила. Только главный редактор стоял рядом со столом и сверху вниз вопросительно смотрел на меня. Полонский по-отечески провел по моей голове узкой холеной рукой и спросил:
— Соня, что с вами?
Губы его шевелились на чисто выбритом лице, как два бледных червяка. Я представила, как давлю их каблуком, и испытала что-то вроде радости.
— В смысле? — протянула я, запрокинув голову и с извращенным интересом рассматривая главного. Он никогда мне не нравился. Смазливый, гладкий, какой-то весь целлулоидный, как Кен, друг Барби.
— В прямом, — проговорили червяки над мужественным, с ямочкой, подбородком. — Вы снова выпадаете из реальности. Ну скажите, какая «Артмуза», когда речь шла об «Артплее»?
— Непринципиально, — дернула я плечом. — «Артплей» так «Артплей».
Полонский улыбнулся так, словно одарил меня конфетой. И насмешливо произнес:
— Что-то не слышу энтузиазма в голосе!
— А чему радоваться? Сегодня «Артплей», завтра — «Артмуза», послезавтра — еще какая-нибудь «арт»-ерунда. Разницы никакой. Во всех этих новомодных кластерах устраиваются так называемые арт-проекты, однообразные до ужаса. Тоска. Хоть вешайся.
Главный поскреб подбородок мизинцем и с видом доброго дяденьки, разговаривающего с плачущим ребенком, присел передо мной на корточки.
— Слушайте, Соня, а давайте я отправлю вас в командировку! Прямо с завтрашнего дня. Смените обстановку, развеетесь.
— Я не могу, — с трудом выдавила я из себя.
— Не можете что?
— Не могу уехать.
Шеф выглядел удивленным.
— А в чем проблема?
— Я должна купить запас продуктов. Для родных.
— Само собой, сначала вы позаботитесь о родных, потом все остальное. Отложим наш разговор до завтра, — вежливо улыбнулся Полонский. И великодушно добавил: — Вы же отлично пишете! Нельзя зарывать такой талант в стылой питерской земле.
— Спасибо, Олег Иванович, тронута вашей заботой, но думаю, что лучше мне остаться в городе. Для всех лучше, — проговорила я, поднимаясь перед ним, сидящим на корточках, в полный рост. Одернула юбку, поправила чулок и уточнила, делая шаг к дверям: — Я могу идти?
— Идите, Софья Михайловна, — вяло махнул он рукой, и в голосе его прозвучало отчаяние от невозможности что-либо изменить.
Лавируя между расставленными вкривь и вкось стульями, я прошла через кабинет и толкнула приоткрытую дверь. В коридоре томился у окна здоровяк Чащин. При виде меня он шагнул навстречу и шепотом осведомился:
— Ну что, Сонь? Чего он от тебя хотел?
— В ссылку отправляет, — хмыкнула я. — Думает покончить со мной раз и навсегда. Чтобы глаза не мозолила.
Рома присвистнул, сунул руки в карманы коротких, узких, невероятно стильных штанов и, качаясь с пятки на мысок, неодобрительно протянул:
— Да ладно! Куда хоть гонит-то?
— Пока еще не решил.
Приятель кинул на меня сочувственный взгляд и нарочито веселым голосом, каким обыкновенно разговаривают со смертельно больными, предложил:
— Сонька, айда в макдачную, вкусить вредной пищи!
— Никак не пойму, Чащин, как в тебе уживается любовь к колесам, холестериновым забегаловкам и черный пояс по карате.
— Легко, — усмехнулся он, подхватывая меня за талию и устремляясь к лифту.
Домой я попала ближе к полуночи. «Макдоналдс», в который мы пошли, внезапно оказался рядом с домом Чащина, и Рома уговорил зайти к нему попить чайку. И я подумала — отчего бы не заглянуть к приятному юноше? И вот теперь, в первом часу ночи, стараясь не греметь ключами, я осторожно открывала дверь своей квартиры. Потянула на себя тяжелую дверную створку, шагнула в темную прихожую и нос к носу столкнулась с Жанной.
Кузина по отцовской линии стояла, уперев руки в полные бока, и скептически взирала на мое деликатное возвращение домой. Очки ее угрожающе поблескивали, не знавшие помады губы кривила скептическая усмешка. Жанна приехала в гости из Орла на пару дней и гостит уже не помню сколько месяцев. Обжилась, завела подруг-единомышленниц — таких же феминисток, как и она сама, и даже ухитрилась прославиться как популярная блогерша. На просторах интернета она известна как Жанна Жесть, или Орлянская Дева.
Ее позиция предельно проста — максимальная свобода женщинам, ибо общество устроено так, что мужчинам можно все, а нам — ничего. Вина общества в том, что приучило нас, женщин, носить неудобные наряды и испытывать дискомфорт, дабы порадовать внешним видом мужчин. Жанна называет это женской гендерной социализацией и всячески с нею борется. В принципе, я не против пребывания Жанны у нас — квартира огромная, в самом центре, в большом старинном доме. Однако тотальный контроль и давление со стороны кузины начинают изрядно надоедать.
— И где ты, Сонечка, пропадала до часу ночи? — бесцеремонно осведомилась Орлянская Дева.
— На работе была, — независимо буркнула я, кидая сумку на подзеркальник.
— Хватит заливать! — сердито оборвала кузина. — Ну, и как? Удобно ходить разодетой, как кукла-дегенератка? В туфельках на шпильках, чулочках и узенькой юбочке? А эта твоя кофточка с идиотским вырезом до пупа? Для чего она? Чтобы выставить юные перси на всеобщее обозрение?
— Это редакционный дресс-код, — оправдывалась я, — Полонский требует от сотрудниц по понедельникам являться одетыми в офисном стиле.
— By the way[10], одеваться и краситься ради того, чтобы потакать мужчинам, — триумф объективации[11], — назидательно сообщила Жанна.
Как по мне, так это на редкость глупая привычка — вставлять в речь английские фразы и выражения, но Жанне, должно быть, кажется, что так она приближается к свободной и очень феминизированной Европе. И, глядя, как я с наслаждением разуваюсь, Орлянская Дева неумолимо продолжила:
— Полагаю, ты не можешь не знать, что узкие туфли на шпильке уродуют ноги, а тугие пояса вызывают изофагит желудка.
— Как хочу, так и хожу, — огрызнулась я.
Жанна тут же сменила тактику и ласково затянула:
— Я уважаю твой выбор, но ты должна понимать, что этот выбор тебе навязан обществом. Такой уж тебя воспитали, внушили, что девочка должна носить розовые юбки, а мальчики — голубые штаны. Пошли ты, Сонька, к черту эти бьюти-практики! Look at me![12] При росте сто семьдесят сантиметров я вешу восемьдесят кило, потому что люблю вкусно покушать и ненавижу тренажерные залы. С какой такой стати я должна истязать себя? Только потому, что кому-то не нравится мое тело? И лифчик я не ношу из принципа, ибо он сковывает движения. Почему мы, женщины, должны испытывать дискомфорт?
Она задрала растянутую футболку и похлопала себя по плотному животу.
— Пусть нас любят такими, какие мы есть! Мое тело — мое дело!
— Жанночка, пропусти меня в спальню! — взмолилась я. — Можно я уже переоденусь? Прилечь очень хочется.
Кузина торжествовала. Поправив указательным пальцем очки на переносице, она с демонстративным сочувствием выдохнула:
— Что, не есть комфортненько валяться на кровати в такой вот кофточке? Грудь вываливается? Чулочки дорогущие жалко порвать? Ну и на черта такие трудности, answer![13] Ты должна быть ценна для мужчины сама по себе, а не подвязками и духами. Футболка, джинсы, кроссовки — вот одежда нормального современного человека. Причем, замечу, вид одежды не зависит от формы гениталий. Ладно, иди, жертва сексуальной тирании, переоденься и поешь. Дядя Миша плов приготовил.
Дядей Мишей Жанна зовет моего папку. Папа военспец, много лет провел в далеких командировках, в детстве я его почти не видела, растила меня мама. Когда же приезжал, я не слезала с его рук, таскала с собой гулять, в кино, на каток, в бассейн, в музеи, на симфонические концерты, к учителям и преподавателям, ревела и требовала, чтобы папка перестал уже уезжать и жил дома. И вот мой папа вышел на пенсию и плотно осел в нашей уютной квартире. Настолько плотно, что его на улицу и калачом не выманишь.
У нас в семье он по хозяйству. Само собой, в свободное от просмотра фильмов и спортивных занятий время — в его комнате оборудован спортивный зал с боксерской грушей, тренажерами и зеркалами по стенам, а в гостиной имеется домашний кинотеатр. Пока наша феминистка торчит в интернете, размещая мужененавистнические посты, отец с удовольствием хлопочет по дому, готовит, прибирает и возится с Катюней, добирая теплоту и нежность, которую недополучил, пропадая в своих командировках, когда я была маленькая.
Теперь о Катюне. Ей пять лет, и она очаровательна. Катюню привела к нам жить Орлянскакя Дева, кратко поставив в известность, что мать малышки — ее подруга-феминистка, страдающая затянувшейся послеродовой депрессией. Также сказала, что в этом болезненном состоянии мать девочки винит своего мужа и, собственно, Катюню. Поэтому малышке лучше побыть в отдалении от приболевшей родительницы, чтобы дать возможность оправиться и пережить трудные времена. Папа ужасно обрадовался, я тоже была не против. Так Катюня поселилась в моей бывшей детской.
Девочка смотрит с папой кино, играет с моими игрушками и, невзирая на наличие уютной детской кроватки, все равно спит в том же самом платяном шкафу, в котором когда-то спала и я. Не подумайте, что я забиралась в шкаф всегда. Нет, не всегда, а только тогда, когда к маме приходили разные мужчины, а папа был далеко-далеко и не мог их выгнать. Тогда я пряталась в шкафу и плакала, умоляя их уйти, а мама запирала меня в моей комнате и не позволяла несколько дней выходить. И теперь она где-то на юге Италии, а я изучаю ее страничку в интернете, радуясь, что она просто есть, и все.
Это моя семья. Мы живем очень дружно и камерно, и нам никто не нужен.
* * *
Бар «Вторая древнейшая» на Васильевском острове соответствовал названию, ибо представительницы «первой древнейшей» профессии — проститутки — в заведение наведывались редко, зато журналистов было хоть отбавляй. Неприметный снаружи, кабачок постоянно под завязку заполнялся пишущей, снимающей и выкладывающей в интернет новостные блоки братией, снующей от отгороженных перегородками диванчиков к барной стойке и обратно. К барной стойке посетители двигались с пустыми руками, к столикам возвращались с напитками. Заведение считалось демократичным, собирались здесь только свои, и редко кто дожидался загнанную официантку, предпочитая самообслуживание.
За одной из перегородок расположились два очень непохожих друг на друга клиента. Олег Полонский был хорошо выбрит, отлично подстрижен, одет в идеально сидящие брюки «Bognar» и рубашку того же солидного бренда. Его длинноволосый приятель — Сергей Меркурьев — сидел на диванчике, кинув рядом с собой сетчатую, со щитками, мотоциклетную куртку. Также на диване рядом с его рюкзаком краснел шлем от мотоцикла, окончательно отметая сомнения — если они у кого-либо еще оставались — о способе передвижения руководителя одного из отделов пресс-службы аппарата управделами президента. Налив в стакан минералки и залпом осушив его, Меркурьев расстегнул рюкзак и вынул синюю папку.
— Ты просил — я сделал, — пятерней зачесывая назад непокорную челку, проговорил он, протягивая папку Полонскому. — Здесь все: отчеты, выписки, свидетельские показания. Целое досье на Софью Кораблину.
— Спасибо, Сережа, — откликнулся главный редактор «Миллениума», вынимая из кармана брюк плотно набитый конверт. Положил конверт на стол и придвинул к приятелю. — Это за работу.
— Да ты что! — возмутился Меркурьев. — Обидеть меня хочешь?
Полонский отпил минералки и сдержанно пояснил:
— Ты ведь тратился на взятки, добывая информацию.
— Да перестань, какие там взятки, — широко улыбнулся Сергей. И со значением понизил голос, округляя подернутые поволокой выразительные глаза: — Личные контакты, пара шоколадок и один-единственный ни к чему не обязывающий поход в кино. Уверяю тебя, Олежек, это меня не сильно разорило.
Полонский склонил к плечу зачесанную на идеальный пробор голову и, убирая деньги обратно в пиджак, без выражения проговорил:
— Как скажешь, Сережа. Буду должен. Понадобится помощь — обращайся. Хотя смешно — какая от меня помощь? — Полонский невесело усмехнулся. — Впрочем, могу твое фото на обложке какого-нибудь глянца разместить. Скажем, как тебе «Звезды эпохи»?
— Не, фото не надо, моя физиономия не так хороша, чтобы повысить продажи твоего глянца.
— Не хочешь твое, могу фото Веденеевой разместить.
— Не, ее тем более не надо, — отрицательно мотнул челкой Меркурьев. — И так прохода мне не дает, а если респект Галине оказать, вообще невесть что о себе возомнит. Лучше свести общение с ней к минимуму. Встречаться исключительно по работе. Черт! Как вспомню о работе — страшно становится. Полный завал. Мне в Москву надо срочно выбраться и в Женеву. Тоже срочно. И в Бежецк. Некогда, совершенно некогда. Одновременно надо оказаться в трех местах. Что я, волшебник? Я сначала планировал попросить Веденееву съездить с дедом вместо меня в Бежецк, а потом передумал. Только попроси о чем-нибудь, от нее потом не отделаешься.
К их столику с подносом торопливо приблизился лично владелец заведения, и мужчины замолчали, давая ему возможность поставить на стол две чашки кофе. Несмотря на демократичность заведения, сидевшие за дальней перегородкой клиенты были слишком важными персонами, чтобы хозяин «Второй древнейшей» доверил их обслуживание нерасторопной официантке.
— А может, зря ты с ней так? — проговорил Полонский, придвигая к себе блюдце, беря чашку и делая первый глоток. — Галка девушка породистая. Присмотрелся бы к ней, Сереж. Может, замуж бы взял.
— Слушай, Олежек, заканчивай меня сватать, — попивая обжигающий кофе маленькими глотками, поморщился Меркурьев. — Ты с Ириной развелся и перекрестился. А меня в когти дьяволу толкаешь. Мне Симы на всю оставшуюся жизнь хватит. Мы с ней разбежались, а до сих пор дохнуть не дает. Сам ведь знаешь, с отцом ее ношусь как с писаной торбой. Старик дурит — капризничает, а я только в пояс кланяюсь. Как же! Академик Граб! Сам себя ненавижу, а ничего поделать не могу, ибо многим ему обязан. Зато теперь я научен горьким опытом. Больше никогда не женюсь.
— А я, Сереж, опять жениться собираюсь.
— Да ладно! — Меркурьев недоверчиво вскинул брови. — На ком же?
— На ней. На Соне Кораблиной.
Голос Полонского дрогнул, лицо покрылось стыдливым румянцем.
— Не сейчас, конечно, — смущенно добавил он. — Со временем.
— А Ирка как? Глаза не выцарапает? — приятель заинтересованно подался вперед. — Бывшие жены, они знаешь какие злопамятные? Меня Серафима до сих пор на коротком поводке держит, хотя давным-давно свалила за рубеж и превосходно себя чувствует. А я должен присматривать за ее отцом, как будто других забот у меня нет.
— А ведь тебе весь курс завидовал, когда ты дочь самого академика Граба под венец повел. Ты тоже, помнится, радовался.
— Дурак был, вот и радовался, — Меркурьев отодвинул пустую чашку и расслабленно откинулся на спинку дивана, закинув руки за голову. — За Симкой весь универ бегал, а она меня выбрала. А потом такой змеей оказалась — мама дорогая. Я как диссертацию под руководством Викентия Павловича защитил, сразу охладел к Серафиме Викентьевне.
— Сплошь и рядом такое бывает, — сухо кивнул Олег.
— Сам все понимаешь, — усмехнулся Меркурьев. — В общем, с Симой, получается, мы расстались, а старика я бросить не могу. Душа за него болит — все-таки девяносто два года академику.
— Да, возраст. И как его самочувствие?
— Бодр и свеж и рвется в бой. Видит слабо, а в остальном вполне сохранен. Презентует, где только может, свою книгу. На гумилевские чтения в Бежецк собирается, и Сима требует, чтобы я ехал вместе с ним и глаз с него не спускал. А когда мне за стариком присматривать? Мне собой заняться некогда. В тренажерном зале уже месяц не появлялся, в бассейне полгода не был. Бывшая жена, а так за горло взяла — не дохнуть. А Ирина дама не вредная, не станет тебе руки выкручивать.
— Да, Ира порядочная. Честно тебе скажу, я от нее только из-за Сони ушел. Помнишь, как я переживал, что детей у нас с Иркой нет? А теперь понял, что Господь нам специально детей не дал, чтобы мы могли разойтись без особых сожалений. Я, когда Соню увидел, поговорил с ней, понял — или она, или никто. Моя женщина. И дети у нас с ней будут. И все будет. Не сейчас, конечно. Пусть пройдет время.
Меркурьев неожиданно подался вперед, облокотившись локтями на стол, и азартно проговорил:
— Слушай, Олег, а давай твою Соню на недельку устроим помощницей к академику Грабу? Пусть съездит со стариком в Бежецк. Ну, никак у меня поехать не получается. А Сима напирает, требует, чтобы отца ее не бросал ни в коем случае. Ты же знаешь, как Викентий Палыч к людям относится. Мало кто может найти с ним общий язык. А хорошенькая девушка всегда имеет массу преимуществ.
По лицу Полонского было заметно, что идея ему не нравится.
— Может, все-таки Веденееву попросишь? — недовольно протянул он.
— Да ты что, Олежек! — рассмеялся Сергей. — Дед таких, как Веденеева, на дух не переносит. Помнишь, как Машку Савельеву с факультета культурологии третировал? И глупа-то, и вульгарна, и пробы на ней ставить негде. А Соня девушка приличная, не вертихвостка, старик таких одобряет.
— Куда нужно ехать?
— Да говорю же, в Бежецк. Я представлю ее академику как литературного секретаря с обязанностями сиделки. Ну, там, рубашку помочь сменить, проследить, чтобы всегда у него было свежее белье и отутюженный костюм. И, само собой, записывать все, что Викентий Павлович надиктует, коль найдет вдохновение.
— Ну, не знаю, — продолжал сомневаться главный редактор. — Я хотел Софью взять с собой в Латвию на ежегодный фестиваль сыров. Так сказать, пообщаться в неформальной обстановке. Выезжаем завтра, утренним поездом. Я и билеты заказал.
— Не рано ли? Может испугаться, если станешь форсировать события.
— А может, ты и прав, — задумчиво протянул Полонский. — Пусть для начала Соня поработает с академиком Грабом, глядишь, представится случай поболтать с ней о старике, а там и до неформальной обстановки на Рижском взморье очередь дойдет. Ладно, Сереж. Считай, договорились.
Меркурьев широко улыбнулся, перегнулся через стол и хлопнул приятеля по плечу.
— Спасибо, Олежек, очень выручил. Теперь главное, чтобы твоя красавица согласилась.
— А куда она денется? — пожал плечами Полонский. — Сам знаешь, у журналистов не принято обсуждать задание начальства. Только я бы на твоем месте особенно не обольщался насчет того, что Соня сработается с Грабом — старик найдет к чему придраться.
— Характер у моего бывшего тестя не сахар, я давно ко всему готов. Но попытка — не пытка. Завтра часикам к двенадцати пусть Кораблина подъедет к дому Викентия Павловича, я познакомлю Соню с подопечным и введу в курс дела. Помнишь, где живет Граб?
— Скинь адрес по ватсапу. Только ты ее обязательно встреть и проводи.
— Да не волнуйся ты за свою Соню, ничего с ней не случится.
— Все, Сережа, — поднялся из-за стола Полонский. — Я пошел. Еще раз спасибо за информацию.
— Всегда пожалуйста, обращайтесь, если что, — привстав и поклонившись, дурашливо откликнулся Меркурьев.
И, прищурившись, пристально посмотрел в спину удаляющемуся другу. Дождавшись, когда главный редактор издательского дома выйдет из кафе, пиарщик вынул смартфон и набрал нужный номер.
— Добрый вечер, Андрей Андреевич, это Сергей. Наша договоренность остается в силе. Завтра я подъеду к вам в архив и передам половину оговоренной суммы. Вторую часть денег получите сразу же после приезда академика в Бежецк.
Аддис-Абеба, 1913 год
Сидя на высокой террасе белого посольского дома, слушая болтовню хозяйки и потягивая до омерзения теплое шампанское, Семен Вилькин, не отрываясь, смотрел, как по пыльной дороге к вилле приближается мул с двумя седоками. Про седоков проницательному эсеру сразу же стало все ясно. Восседающий первым держался важно и выглядел так, словно аршин проглотил. Второй был явно подавлен авторитетом первого и вид имел приниженный и жалкий.
Миновав разомлевших в воротах ашеров, взбодрившихся при виде посетителей, мул ступил на территорию посольства, неспешно проследовал по усаженной розами дорожке, остановившись перед высокой верандой. Седоки спешились и, передав животное на попечение чернокожих слуг, взошли по лестнице. Чинно ступая, первым поднялся узкоплечий господин в пыльном холщовом костюме. Длинное лицо его с крупным мясистым носом было надменно, широко посаженные глаза казались плоскими, и, кроме того, один зрачок заметно косил. За косоглазым взбежал по ступеням смущенный приземистый юноша с детским румянцем во всю щеку. Подобрав юбки, навстречу прибывшим гостям устремилась Сольская, радушно приговаривая:
— Ну наконец-то! Николай Степанович! Как добрались?
«Ну точно! Николай Гумилев!» — с неприязнью отметил про себя Вилькин, еще внимательнее рассматривая некрасивого господина.
— Благодарю вас, Вера Васильевна, — учтиво проговорил косоглазый, деревянной походкой направляясь к хозяйке.
Едва поэт раскрыл рот, как Семен отметил про себя, что в речи Гумилева имеется едва уловимый дефект, эдакая легкая картавость, режущая ухо и вызывающая раздражение. А Гумилев продолжал, обращаясь к хозяйке:
— Ваша охранная грамота сослужила нам с Колей отличную службу.
Обернувшись к своему спутнику, поэт сделал широкий жест и, кивнув на юношу, проговорил:
— Прошу любить и жаловать. Мой племянник Николай Леонидович Сверчков. В семье мы называем его Коля-маленький. Коля помогает мне собирать этнографический материал.
— Как же, как же, мы наслышаны! — заулыбалась хозяйка, обернувшись к Бекетовой. — Зиночке уже, кажется, доводилось встречаться с господином Сверчковым? Помнится, вы что-то такое мне утром рассказывали. Позвольте представить, Николай Степанович, Зинаида Евсеевна Бекетова.
Бекетова царственно кивнула, окинула застенчивого юношу оценивающим взглядом и, явно не причислив к «героям», безразличным голосом выдохнула:
— Совершенно верно, не далее как вчера ближе к полудню я застала Николая Леонидовича за ловлей цикад. Ну, уважаемый господин энтомолог, как ваши успехи? Изловили что-нибудь стоящее?
— Да я, собственно… — начал было Коля-маленький, еще больше покраснел и сбился, ибо его собеседница вовсе не интересовалась ответом, а, развернувшись к Гумилеву, беззастенчиво рассматривала поэта, классифицируя по привычной для себя шкале.
Должно быть, придя к выводу, что и Гумилев «не ее герой», Зиночка сухо представилась и с досадой отвернулась. Вилькин, темноволосый, смуглый и широкоплечий, справедливо считающий себя красавцем, даже проникся к поэту легкой жалостью. Бледный какой-то, хилый, должно быть, болеет много и быстро устает, да еще косоглаз и картавит.
— Гумилев, Николай Степанович, — манерно поклонившись, отрекомендовался Вилькину поэт.
— Очень, очень приятно, — приподнялся в кресле Семен, пожимая протянутую женственную руку, неожиданно крепко сжавшую лопатообразную ладонь Вилькина.
После рукопожатия новый гость удобно устроился в ротанговом кресле рядом с эсером, достал папиросу из черепахового портсигара, закурил и, от возбуждения картавя сильнее прежнего, принялся излагать свои взгляды на жизнь. Послушав пару минут, Вилькин понял, что говорит с человеком, рассуждающим совсем как подросток лет шестнадцати. Не старше. И если Семен придерживался взглядов социал-революционных, то взгляды Гумилева были целиком и полностью утопическими.
— Я очень уважаю монархию, и особенно государыню императрицу, однако твердо убежден, что только поэтам должно быть позволено управлять миром, — вполне серьезно сообщил Гумилев, одним глазом взирая на Вилькина, вторым — на синеющие вершины гор.
Под его раздвоенным взглядом Вилькин испытал странное чувство, точно собеседник обращается не только к нему, но и к вселенной в целом. Гумилев вынул из портсигара очередную папиросу, закурил от предыдущей и, выпустив из широких бледных губ синеватый дым, вдохновенно продолжал:
— Ведь если мы, поэты, владеем искусством выбирать самые лучшие слова и расставлять их в наилучшем порядке, то неужели не сможем принимать нужные для государства решения?
Зиночка взглянула на говорящего с любопытством, словно увидела в первый раз, а Вилькин, барабаня пальцами по столу, раздраженно думал: «Черт меня подери, если он не болен психически! А я-то тоже хорош, начитался стишков! Поддался бредовым фантазиям и приехал за семь тысяч верст кормить москитов!»
— Так вы поэт? — кокетливо улыбнулась Зиночка. — Как вы сказали, ваша фамилия? Гумилев? Нет, не знаю. Я Ахматову люблю. Как там у нее? «Я на левую руку надела перчатку с правой руки…»
— Анна Андреевна моя жена, — без выражения сообщил поэт.
— Да что вы говорите! — обрадовалась Бекетова. — Так это о вас Ахматова так много грустного написала? Если судить по ее стихам, вы, Николай Степанович, умерли самой трагической смертью.
Гумилев перевел на Зиночку свой странный, двоящийся взгляд, затушил в пепельнице едва закуренную папиросу и сухо проговорил:
— Вы ошибаетесь, милая барышня. Аня пишет не столько обо мне, сколько об абстрактном лирическом герое.
— А где можно увидеть ваши стихи? — не унималась Зиночка, кокетливо улыбаясь не столько поэту Гумилеву, сколько мужу самой Ахматовой.
Гумилев приосанился и не без гордости сообщил:
— Я выпустил несколько сборников. И издаюсь в журнале «Аполлон».
Он снова закурил, а на лице Бекетовой отразилась растерянность.
— Как жаль, не слышала о таком.
— Ничего удивительного, что не слышали. Мне Николай Степанович в прошлый раз говорил, что журнал его из декадентских, — снисходительно пояснила хозяйка дома.
Гумилев вдруг оставил папиросу в пепельнице, наклонился к Зиночке и с чувством проговорил, глядя ей прямо в глаза:
— Хотите, посвящу вам стихотворение?
Девушка вспыхнула, а поэт, не отрывая гипнотизирующего взгляда от ее лица, подхватил Зиночкину руку, порывисто сжав в ладонях, и Вилькин его окончательно возненавидел.
Красавица Бекетова покраснела от удовольствия и кокетливо обронила:
— Не скрою, господин Гумилев, я очень хочу, чтобы вы посвятили мне стихотворение.
— Дайте мне пару минут, — попросил поэт, продолжая пожирать собеседницу глазами. Немного помолчав, он принялся нараспев декламировать:
Уедем, бросим край докучный И каменные города, Где вам и холодно и скучно, И даже страшно иногда…Для экспромта стихотворение оказалось довольно-таки длинным, витиеватым, с ярко выраженным африканским колоритом и заканчивалось словами:
И, не тоскуя, не мечтая, Пойдем в высокий Божий рай, С улыбкой ясной узнавая Повсюду нам знакомый край.— Это вы прямо сейчас сочинили? — не поверила Зиночка.
— Прямо сейчас, — скромно потупился поэт.
— Потрясающе! — ошеломленно прошептала девушка. И тут же похвасталась: — А я картины пишу. Правда, пока еще не слишком хорошие. Хотите, покажу?
Зиночка проворно поднялась из-за стола, увлекая за собой поэта. Перед картинами уже топтался Сверчков, рассматривая кривобоких африканцев.
— Вполне в народном духе получилось, — оптимистично проговорил он, с обожанием глядя на начинающую художницу.
— Вам правда понравилось? — обрадовалась Зиночка.
Миловидное лицо ее озарила улыбка, обозначив ямочки на щеках. Коля-маленький радостно кивнул, и Зиночка обернулась к Гумилеву.
— А вам? — прищурилась она.
— И даже очень, — скупо обронил Гумилев без тени улыбки. И деловито добавил: — Знаете что? Подарите мне эту картину, — указал он на самое большое полотно. — В обмен на мое стихотворение, идет?
— Берите все! — расщедрилась художница.
Гумилев выглядел удивленным.
— Нет, в самом деле? — недоверчиво переспросил он. — Можно забрать? Вот спасибо! Вы даже не представляете, милая Зинаида Евсеевна, как мы с Колей рады вашему подарку!
— Не нужно никаких отчеств! Для друзей я просто Зиночка.
— С радостью буду вас так называть. — Гумилев кивнул племяннику, тут же принявшемуся сносить картины с веранды вниз и пристраивать в седельную сумку на спине мула. — В нашей этнографической коллекции они будут как нельзя кстати. Как говорят, каждое лыко в строку.
— Я к вашему отъезду еще нарисую! — вдохновенно обещала Зиночка. — Вы надолго здесь?
— Думаю завтра отправиться в Харрар, — важно сообщил поэт, продолжая снимать картины с подрамника и передавать Сверчкову.
Вилькин с возрастающим раздражением наблюдал за странной манерой Гумилева с невероятно значительным видом изрекать будничные фразы и, важничая, делать самые обычные дела.
— Это город древний, загадочный, — с апломбом вещал Гумилев. — В свои первые визиты мне не довелось наведаться в глубь страны, но теперь Академия наук снабдила нас верительной грамотой и некоторой суммой денег.
Вилькин перестал выстукивать по столешнице баркаролу, вскинул глаза на Гумилева и, подавив клокотавшее раздражение и все еще пытаясь казаться учтивым, любезно проговорил:
— Дело в том, Николай Степанович, что разрешение на путешествие в Харрар может дать только дэджазмач[14] провинции, рас Тэфэри Мэконнын. Я имею определенные связи в местных высокопоставленных кругах и, если хотите, замолвлю за вас словечко.
Подобная любезность грозила Вилькину разоблачением, но Семен все равно решил показать свою значимость и тем самым утереть заносчивому поэтишке нос, пусть даже ценою собственной свободы. Однако Гумилев не оценил проявленного великодушия. Передав последнюю картину Сверчкову, деревянными шагами вернулся за стол, рухнул в кресло и, чиркнув спичкой о коробок, закурил очередную извлеченную из портсигара папиросу, резко парировав:
— Благодарю, в протекциях не нуждаюсь. Здешние правила мне хорошо известны. Ящик коньяку открывает любые двери.
И, посчитав беседу законченной, Гумилев отвернулся от Вилькина к Зиночке. Улыбнулся бледными бесформенными губами, проговорив:
— Мадемуазель, вам очень идет этот наряд. Это из Константинополя?
— Николай Степанович, вы же не знаете! — задохнулась от волнения Сольская. — Наша Зиночка едва не стала в Константинополе наложницей! Страшно подумать, если бы не капитан корабля, как его? Кажется, Гавриков? Зиночка сейчас бы томилась в гареме. Зиночка, расскажите!
Девушка томно откинула со лба вьющуюся светлую прядь и, пригубив шампанское, манерно протянула:
— А что, собственно, рассказывать? Ничего особенного. Когда я плыла по морю к папе, наш пароход остановился в Константинополе. Я отправилась пройтись по магазинам, накупила всяких разностей, в том числе и этот наряд. И в одной из лавочек меня взяли в плен.
— Да что вы говорите! — заинтересовался Гумилев.
— Представьте себе, — самодовольно откликнулась Зиночка. — Хозяин вдруг набросился на меня, запер в кладовке и не хотел выпускать. Я кричала и молотила в дверь, и только поэтому меня услышали полицейские и вызволили из западни. Освободили и передали в руки вовремя подоспевшего капитана Гаврикова. При этом полицейские рассказали капитану, что турок-лавочник уже договорился продать меня в гарем.
Зиночка дернула круглым розовым плечом и весело сказала, с озорством глядя на насупленного Вилькина:
— Только и всего.
Не желая подыгрывать подлой обольстительнице, Вилькин безразлично отвернулся, хотя мог бы в отместку за ее флирт с поэтом рассказать, как было на самом деле — Семен не раз выпивал с тем самым капитаном Гавриковым, в чьи руки передали Зиночку, и знал правду. А было так. Как только остановились в Константинополе, мадемуазель Бекетова сошла на берег и отправилась бродить по магазинам. Накупив всяких разностей и истратив почти все деньги, барышня зашла в ювелирную лавку и попросила показать понравившиеся сережки. Одну пару сережек купила на последние деньги, вторую вставила в ушки и со смехом сообщила, что это «present». Но дарить сережки турок наотрез отказался, требуя украшение вернуть. Капризная Зиночка закусила удила и не захотела подчиниться. Лавочник затолкал сомнительную покупательницу в кладовку и послал за полицией. Подоспевший страж закона вник в ситуацию и, опасаясь международного конфликта, призвал на помощь капитана корабля. И Гавриков выкупил Зиночку, заплатив за так приглянувшееся ей украшение.
— Николай Степанович, господин Сверчков говорит, что вы отыскали какой-то необыкновенный ковер? — словно издалека донесся кокетливый голос Бекетовой.
— Да! Да! — горячо подхватила госпожа Сольская, возвращая Семена к действительности. — Расскажите о ваших находках!
Вилькин окончательно пришел в себя и тяжелым взглядом воззрился на поэта.
— Что ж, извольте, — оживился Гумилев. — Действительно, сегодня утром на центральном базаре Аддис-Абебы нам с Колей посчастливилось приобрести диковинную вещь — древний шелковый ковер. На ковре вышита царица Савская, вступающая в Иерусалим.
— Вот бы одним глазком взглянуть! — заинтересовалась Вера Васильевна.
— Коля, — обернулся к племяннику Гумилев, — будь так любезен, принеси ковер.
Сверчков проворно сбежал по ступеням, устремляясь к мулу. Зашел с тыла меланхолично жующего животного, привстал на цыпочки, стараясь дотянуться до перекинутых через широкую шею мула полотняных торб, и, изловчившись, вытащил из-под Зиночкиных африканских полотен плотный сверток. Прижав добычу к груди, бегом вернулся назад. Торопливо поднялся по ступеням и бережно передал свою ношу родственнику. Гумилев с силой встряхнул сверток, разворачивая ковер, и перед зрителями предстала великолепно выполненная вышивка, изображающая сидящую на белом верблюде женщину. Пышноволосую голову венчал изящный обруч с павлиньим пером, пристегнутым крупным зеленым камнем. Точно такой же массивный камень был вставлен в перстень на указательном пальце ее правой руки, придерживающей поводья.
Вилькин шумно сглотнул, но постарался, чтобы охватившее его волнение не слишком отразилось на лице. Кольцо было то самое, которое он передал британскому послу. А зеленый камень из царского венца сейчас валялся среди прочих безделушек в его номере в виде геммы, инкрустированной белоснежной церковью и непонятными буквами.
Проводя ладонью по гладкому шелку ковра и любуясь рисунком, Гумилев задумчиво произнес:
— К слову сказать, на пальце у императора я видел кольцо, как две капли похожее на это. Должно быть, точная копия.
— Вовсе не копия, это то же самое кольцо, — возразила супруга посла. — Кольцо Соломона, которое перешло к его сыну от царицы Савской — Менелику Первому, основавшему императорскую династию Абиссинии. Нынешний негус, Менелик Второй, ведет свой род от легендарного царя и царицы Савской, потому и надевает во время приемов это символичное кольцо.
— Хотелось бы запечатлеть Менелику Второму свое почтение и в этот раз.
Сольская болезненно поморщилась.
— Боюсь, Николай Степанович, ничего у нас с вами на этот раз не получится. Для русских в Абиссинии настали не лучшие времена.
— Вы представляете, кто-то выкрал из царских покоев это самое кольцо Соломона! — затараторила Зиночка и ткнула пальчиком в шелк ковра. — Подозрение пало на одного русского — фельдшера Лутошина.
— Это трагическое недоразумение, — поспешила заверить присутствующих хозяйка дома. — Полагаю, так или иначе, все разрешится…
Вера Васильевна оборвала свою речь на середине фразы, подавшись вперед и с тревогой всматриваясь в заросли.
— Будто медом ему тут намазано! — сдавленно проговорила женщина, наблюдая, как чернокожий садовник, оглядываясь на кусты, торопливо скрывается в сарае. И, обернувшись к сидящим на веранде, взволнованно вскрикнула: — Господа, было бы нелишним перебраться в дом!
— Что-то случилось? — встрепенулся Вилькин.
— Опять этот несносный черный леопард, — торопливо пожаловалась хозяйка. — Два года после смерти прежнего посла дом пустовал, и на территории посольства жили леопарды. Когда мы поселились здесь, все леопарды ушли, только черный никак не уходит.
— Почему же его не убьют? — надменно осведомился Гумилев.
— Да что вы! — замахала руками Сольская. — Это никак не возможно. У местных племен с леопардами связан целый культ. Абиссинцы почитают леопарда как тотемное животное. Мы просили с ним что-нибудь сделать, но садовник даже слушать не стал. Заявил, что у этого животного девять жизней, его невозможно убить. Нет, убить его, конечно, можно, — тут же поправилась Вера Васильевна, — и даже тот, кто этого зверя убьет, заберет себе девять его жизней, но это не принесет смельчаку счастья. Дух леопарда не даст ему покоя.
— И мертвые позавидуют живым, — усмехнулся Гумилев, не двигаясь с места и продолжая вглядываться в темнеющую у сарая зелень.
— Вы зря смеетесь, — насупилась хозяйка. — Во время разговора о леопарде наш садовник, похоже, был сильно напуган.
Рассказывая, Вера Васильевна торопливо встала из-за стола и, устремившись к дверям, ведущим в комнату, потянула за собой Зиночку.
— Скорее в дом! Николай Степанович, Семен Аркадьевич, Коля! Что же вы сидите? Поднимайтесь скорее и пойдемте! Леопард сейчас будет здесь!
Вилькин присмотрелся и тоже увидел, как в кустах и в самом деле мелькнула черная шкура. Он уже хотел уйти в дом следом за дамами, но неожиданно Зиночка вырвала руку у Сольской и сбежала с вернады.
— Миленький мой, хорошенький, — высоким голосом звала она, протягивая подрагивающие ладони к кустам. — Леопардик, иди сюда! Ну, пожалуйста, иди! Не бойся!
Кусты качнулись, и Вилькин вдруг увидел угольно-черного зверя размером с дога, изготовившегося к прыжку. Будто подсвеченные изнутри, глаза его горели желтым огнем, неотрывно следя за приближающейся девичьей фигуркой. Тело зверя напряглось, точно сжатая до предела пружина. Еще секунда, и леопард бы кинулся на свою добычу. Застыв от напряжения, Семен с любопытством следил за развитием событий, точно он был патрицием и с трибуны Колизея наблюдал за ярким, искрометным шоу — пожиранием девы хищным зверем.
Вилькин помнил, что в боковом отсеке сумки покоится отличный короткоствольный «герстал», купленный по случаю у французского капрала, но вынимать оружие не торопился. Ему вдруг до боли в висках захотелось увидеть, как зверь рвет нежную девичью плоть. И потому Семен очень рассердился, когда поэт Гумилев угловато поднялся с кресла, неторопливо достал из кармана полотняных брюк пистолет и, тщательно прицелившись, выстрелил в затаившееся в зарослях животное.
Раздался полный боли рык и треск ломаемых веток, Гумилев выстрелил второй раз, и все стихло. И тут же из сарая выбежал перепуганный садовник, увидел убитого леопарда и с горестными криками повернул обратно. Буквально через минуту пережидавшая в сарае обслуга под предводительством садовника выбежала из своего укрытия и кинулась к воротам, но Вилькин не обратил внимания на торопливое бегство аборигенов с территории посольства. Разочарование было так велико, что некоторое время он тупо смотрел перед собой и молчал.
Кто его просил, этого тщедушного поэта Николая Гумилева, лезть поперек батьки со своим револьвером? Повелитель мира! Взял и выстрелил! Испортил такое зрелище! Чтобы скрыть охватившее его бешенство, Вилькин отшвырнул с дороги плетеное кресло, прыжками спустился с веранды и устремился в заросли.
Подломив под себя крупные лапы, леопард черной тушей лежал на измятых эвкалиптовых стеблях. Обе пули вошли точно в правый глаз, сразу лишив зверя жизни и не попортив шкуру. За спиной послышалось громкое сопение, Вилькин обернулся и увидел племянника поэта.
— Хочу помочь перенести леопарда в дом, — застенчиво проговорил юноша, отводя глаза от хмурого лица Вилькина.
— Берите за задние лапы, я подхвачу под передние, — распорядился Семен, склоняясь над черной тушей.
Вдвоем они доволокли зверя до дома и опустили на пыльную землю рядом с нижней ступенькой лестницы, ведущей на веранду. Находящиеся на веранде устремились вниз. Застыли перед величественно лежащим на земле грозным хищником и некоторое время молчали, рассматривая лоснящиеся черные бока.
— Вы изверг! — всхлипнула Зиночка, оторвавшись от созерцания туши и с отвращением глядя на Гумилева. — Вы чудовище! Зачем вы убили этого миленького прелестного леопардика?
— Что вы такое говорите?! — искренне возмутился Вилькин непроходимой глупости этой прелестной дуры, в порыве злости даже позабыв, что еще секунду назад испытывал ненависть к поэту. — Николай Степанович спас вам жизнь.
Девица Бекетова пошла пятнами, сделавшись необычайно хорошенькой — Вилькин невольно залюбовался.
— Я никогда вам этого не прощу! — яростно выкрикнула Зиночка поэту в лицо. — И картин для вас рисовать не буду! Вы злой! Злой! Правильно Ахматова вас хоронит!
— Но, Зиночка… — миролюбиво начал Гумилев, предпринимая попытку взять ее за руку.
— Не смейте называть меня Зиночка! — крикнула Бекетова, сердито отстраняясь. — Я для вас Зинаида Евсеевна!
Семен смотрел в перекошенное лицо девушки невидящим взглядом и думал о своем. Разрозненные обрывки фактов в его голове вдруг начали складываться в целостную картину. Он понял, почему в паническом ужасе разбежались чернокожие слуги.
— А знаете, я догадался, что вызвало испуг аборигенов, — задумчиво проговорил он. — Все дело в аниото.
Вилькин закурил, замолчав и рассматривая леопарда.
— Простите, в чем? — растерянно заморгала Вера Васильевна.
— Я поясню, — отбрасывая окурок, охотно предложил Семен. — Совсем недавно от скуки я прочел купленную на базаре ветхую книжицу на французском. Какой-то этнограф — фамилию я не запомнил — вполне толково рассказывал о тайных обществах африканских племен с их дикими пугающими похоронными ритуалами и магическими верованиями. Честно говоря, большинство ритуалов вызывали у меня улыбку и недоумение. Однако я был слегка шокирован аниото — людьми-леопардами, считающимися в этих местах сверхъестественными оборотнями, рвущими свои жертвы зубами и выедающими отдельные части трупов. Упомянуто это было как бы вскользь, но тема меня заинтересовала.
— Мы с Николаем Степановичем тоже записали легенду о людях-леопардах! — залился румянцем Сверчков. — Николай Степанович, можно я прочту?
— Читай, если хочешь, — дернул уголком рта поэт.
Коля-маленький достал из кармана блокнот, пролистнул в поисках нужной страницы и принялся читать:
— Легенда о братстве на крови…
Вилькин вновь уселся в кресло и прикрыл глаза. Даже Зиночка затихла, слушая легенду.
— «Неженатые молодые люди буквально сходили с ума от юной красавицы Мариам, но она уже сделала выбор, отдав предпочтение двоюродному брату, шестнадцатилетнему Сиссоко. Вот только жениться он пока еще не имел права — Сиссоко пока не состоял в «обществе леопарда» и не мог считаться взрослым мужчиной. Девушка сама себе подписала смертный приговор, когда заявила влюбленному парню, что выйдет замуж только за настоящего безжалостного «леопарда».
Делать нечего. Юноша пошел к вождю «общества леопардов» — старому Кадуку. И попросил «борфиму» — магический амулет, который делает человека непобедимым и всемогущим. Кадуку ответил, что для его приготовления нужна человеческая печень, и Сиссоко согласился убить человека. Он не знал, что нужна печень юной девушки, его близкой родственницы, а такая девушка была только одна, его возлюбленная Мариам. Кадуку тем временем объявил матери девушки о предстоящем жертвоприношении. Ночью Сиссоко вытащили из хижины люди в масках, одетые в леопардовые шкуры, и увели в лес. Там на костре варилась похлебка, и Сиссоко поел ее — это была похлебка из человечины. Его заставили дать клятву верности обществу и вручили нож с двумя лезвиями, сказав, что теперь он — человек-леопард и завтра ночью должен добыть печень для «борфимы».
На следующий день мать Мариам послала дочь в джунгли за листьями целебного кароко, сказав, что она сильно занемогла. В джунглях девушку ждала засада. Поняв, кто стал жертвой, Сиссоко чуть не убил старого Кадуку, но люди-леопарды связали его и заткнули рот пучком травы. Кадука в это время перерезал девушке горло, и следом его помощник вырвал горячую печень из рассеченного девичьего живота. На следующий день тело девушки разделили на мелкие кусочки, и каждый житель деревни, включая и ее мать, съели свой кусочек. Кадуку взял себе голову, кисти и ступни ног. Срезав лоскут с отсеченной головы, Кадуку обернул в него кусочек жира из почек и кусочек печени — это и была магическая «борфима», которую, как амулет, Сиссоко должен был теперь носить всю жизнь на груди. «Борфиму» требовалось периодически смазывать человеческой кровью и жиром, чтобы она не потеряла магических свойств, а значит, ее владелец вынужден каждый раз убивать людей. Трупы поедались членами общества».
Коля замолчал и убрал блокнот в карман.
— Это все? — Вера Васильевна вскинула брови.
— Все, — растерялся Сверчков. — Такая вот легенда.
— Фу, какая гадость! — брезгливо скривилась Зиночка. И насмешливо заметила, окидывая поэта неприязненным взглядом: — Как бы местные оборотни не начали мстить Николаю Степановичу, но зато теперь у него в запасе девять жизней.
— Я предпочитаю рассматривать местные поверья исключительно как народные легенды, — сухо заметил Гумилев. — Господин Вилькин, я непременно запишу ваш рассказ и присовокуплю к Колиной легенде. А в качестве иллюстрации привезу в Петроград шкуру этого красавца, — кивнул он на тушу.
Вилькин даже вспотел от внезапного озарения. Да вот же он, верный способ вывезти сокровища из Аддис-Абебы!
— Да-да, господин Гумилев, вы совершенно правы! — вынимая платок и промокая покрывшийся бисеринками пота квадратный лоб, горячо заговорил Семен. — Вам непременно нужно взять в Россию шкуру этого зверя! Для вашей этнографической коллекции.
— Только вот боюсь, местные таксидермисты остерегутся прикасаться к леопарду, — с сомнением в голосе произнесла Вера Васильевна.
Вилькин взглянул на нее с благодарностью — жена посла словно специально ему подыгрывала. Вне всяких сомнений, Гумилев — превосходный курьер! Такого уж точно никто не заподозрит! Стоит, рисуясь и поигрывая пистолетом, гордится, простая душа, своей отвагой и меткостью. И даже не догадывается, что станет для Вилькина перевозчиком императорских сокровищ! В принципе, сокровищ-то этих не так уж и много, прекрасно поместятся в небольшой холщовый мешок, который можно будет припрятать в голову леопарда. О лучшем контейнере для транспортировки нечего и мечтать.
— У меня на примете есть превосходный таксидермист, — интимно понижая голос, сообщил Вилькин. — Испанец, отчаянная голова, не боится ни Бога, ни дьявола. Если желаете, могу помочь с изготовлением трофея.
Похожее на металлическую маску лицо Гумилева на секунду оживилось.
— Вы и в самом деле можете помочь? — деловито уточнил он, убирая пистолет в карман холщовых брюк.
— Ни о чем не волнуйтесь! Как и планировали, отправляйтесь в глубь страны, — Вилькин отечески похлопал поэта по плечу, — а на обратной дороге заберете готовую шкуру в Россию.
— Даже не знаю, как вас благодарить, — протянул руку для рукопожатия Гумилев. — Сколько я вам должен?
— Да что вы, голубчик! — растрогался Семен. — Помогать ближнему своему — святая обязанность каждого порядочного человека. А трофей и в самом деле хорош! Не леопард — красавец!
— И вы, господин поэт, этого красавца хладнокровно убили! — раздраженно заметила Бекетова.
Вилькин взглянул на Зиночку, и на душе его сделалось тепло. В устремленных на него лучистых девичьих глазах светились восторг и обожание. Перемена в Зиночке была так разительна, что даже слепой догадался бы, что поэт развенчан, и уступивший Гумилеву пальму первенства Вилькин снова из категории «негерой» перекочевал в противоположный лагерь и сделался «героем».
Санкт-Петербург. Наши дни
Едва я перешагнула порог редакции, ко мне тут же устремилась секретарша Вика и обычной своей скороговоркой выпалила:
— Кораблина, Полонский вызывает. — И снисходительно добавила: — Только что командировку на твое имя оформила.
Я обмерла. Я все-таки еду? Куда? Зачем? Накликала беду на свою голову! И почему мне не сиделось в уютном Питере и не писалось про «Артплеи» и «Артмузы»? Заметив смятение в моих глазах, Виктория указала на дверь начальственного кабинета, насмешливо проговорив:
— Ничего не знаю, все вопросы к Олегу Ивановичу!
Как обычно в этот час, в редакции царило оживление. Туда-сюда сновали сотрудники с бумагами в руках. Под пристальными взглядами коллег пройдя через приемную, я стукнула пару раз в дверную филенку и, подождав, пока крикнут «открыто», вошла в кабинет. Развернув кресло, Полонский сидел спиной к дверям, внимательно глядя в окно. Я бы даже сказала, что он там кого-то высматривает. Как оказалось, меня.
— Добрый день, Олег Иванович, — проговорила я. — Вызывали?
Полонский крутанулся в кресле и уставился на меня своими рачьими глазами.
— Здравствуйте, Кораблина. Вы вошли в здание двадцать минут назад и только что соизволили явиться. Где вы были?
Он что, серьезно? Ну и зануда! Краем уха слышала, что он развелся с женой. Немудрено. Мало кто выдержит такой тяжелый характер. Прямо вот хочется позвонить его бывшей и сказать, что мысленно я с ней.
— Туалет посетила, — промямлила я. И смущенно добавила: — А что, это возбраняется?
— Нет, просто у нас с вами нет времени на прогулки по редакции. Дело в том, что меньше чем через два часа отходит поезд в Латвию.
Этого еще не хватало!
— В Латвии я не была, возможно, когда-нибудь и хотела бы съездить, но, если можно, не сейчас.
— В Латвию едете не вы, а я, — оборвал меня Полонский.
Я перестала вообще что-либо понимать, чувствуя, как заливается краской лицо. И растерянно произнесла:
— Виктория говорила, что выписала мне командировку…
— Совершенно верно, Соня, вы тоже едете, — согласился шеф. — Только не в Латвию, а в Бежецк в качестве литературного секретаря и отчасти сиделки академика Граба. Полагаю, вы знаете, кто это такой?
— Понятия не имею.
— Вы что, Кораблина, телевизор вообще не смотрите? Хотя бы канал «Культура»?
— Нет, не смотрю. Предпочитаю интернет.
— Тогда буквально в двух словах введу вас в курс дела. Академик Граб часто мелькает на канале «Культура», одно время даже вел передачу «Плеяда звезд Серебряного века». Очень уважаемый ученый. Он возглавляет городской совет по надзору за архитектурным и историческим наследием Петербурга, состоит в комитете бывших узников сталинских лагерей. Да и много еще где состоит. Прямо сейчас вы должны отправиться к нему, познакомиться и помочь собраться. Завтра в половине десятого утра отходит ваш поезд.
— Я еду в качестве секретаря академика Граба? Но я никогда не работала секретарем.
— Поверьте, Соня, в этом нет ничего сложного, — Полонский благожелательно улыбнулся. — Когда я учился в университете, Викентий Павлович преподавал литературу Серебряного века. Теперь академик Граб в довольно преклонном возрасте и нуждается в элементарной помощи. С сиделками он не ладит, ему нужна помощница с литературными навыками. Вы, Соня, подходите на эту роль, как никто другой. Это ненадолго, на пару дней, не более. Только на время поездки академика в Бежецк.
Ну и зачем престарелому Грабу в Бежецк? Ведь этот спрятавшийся где-то под Тверью маленький уездный городишко ничего из себя не представляет. Известен только тем, что там родился поэт Николай Гумилев, а больше ничем не славен. И потом, как я уеду? Папа любит готовить, но не любит ходить по магазинам, закупаюсь в основном я. А Жанна со своими фемками?[15] Кузина из дома тоже почти не выходит — не хочет встречаться с нефеминистически настроенными девами и их мужьями. И, главное, Катюня! Катюня останется без меня! Я почувствовала, как глаза застилает теплая муть, а к горлу подкатывает ком, шмыгнула носом и шумно сглотнула.
— Только не надо слез! — замахал шеф руками. — В качестве бонуса редакция оплачивает проживание в пятизвездочном отеле на полном пансионе, плюс неограниченные представительские расходы. Идет?
Я справилась с подступившими слезами и хмуро кивнула.
— Вот и отлично! — обрадовался Полонский. — Возле дома академика вас встретит мой друг, на попечении которого находится Викентий Павлович. Друга зовут Сергей Меркурьев. Вы подниметесь к академику, Меркурьев представит вас друг другу и отправится по делам, а вы, Софья Михайловна, приметесь за свои прямые обязанности, кои заключаются в выполнении распоряжений Викентия Павловича.
Главный редактор протянул мне конверт и закончил:
— Здесь билет, деньги и адрес. Я очень надеюсь на вас, Кораблина! Не подведите.
Я убрала в сумку конверт и вышла из кабинета. Ну до чего неприятный тип! И друг его, должно быть, такой же отвратительный.
Но в отношении Сергея я ошибалась. Перед подъездом старинного доходного дома с кованым козырьком и богатой лепниной в стиле позднего ампира меня ждал очень интересный мужчина. Он прохаживался перед подъездом и поглядывал в сторону арки. Мне друг Полонского показался похожим на Марлона Брандо в роли Джонни, предводителя «Черных повстанцев» из культового «Бунтаря» Ласло Бенедека.
Я проехала мимо вяло махающего метлой дворника и попросила таксиста припарковаться рядом с «Харлеем», с сожалением отметив, что мотоцикл — вовсе не «Триумф», которым управляет бесподобный главарь кинематографической банды протобайкеров. Это потом уже были Джон Траволта в «Биллионе», Мэл Гибсон в «Безумном Максе», ну и, конечно же, душка Рурк в «Харлее Дэвидсоне и ковбое Мальборо». Но первым в пятьдесят третьем году был именно он — божественный Марлон.
— Соня Кораблина? — широко улыбнулся «Брандо», глядя, как я выбираюсь из машины.
— Совершенно верно. А вы, должно быть, Сергей Меркурьев?
Я захлопнула дверцу такси, с любопытством взглянула собеседнику в лицо и поняла, что ошиблась. Ни разу не Брандо. Разве что издалека. Должно быть, меня ввела в заблуждение кожаная куртка с косой молнией. А до чего же некрасив, голубчик! Лет сорока, с квадратным подбородком, коротким вздернутым носом, но ласковыми глазами, которые смотрят так, что с ума можно сойти. И манеры! Какие манеры, боже ты мой! Сергей взял мою руку в свои ладони и благоговейно поднес к узким твердым губам. От неожиданности я отшатнулась, а он улыбнулся и богато окрашенным баритоном пророкотал:
— Ну что ты, Соня. Таким девушкам, как ты, нужно не только руки, нужно ноги целовать. И давай сразу на «ты». Терпеть не могу формальностей.
— Отлично, давай, — осмелела я. — Так даже проще.
— Вот и славно. Не возражаешь, если для начала мы заглянем в ресторан? Здесь недалеко, в соседнем доме.
— Я полагала, мы идем знакомиться с академиком… — смутилась я, плавясь в лучах его завораживающих глаз.
— Обязательно познакомимся, только сначала заберем из ресторана обед Викентия Палыча. Я обычно делаю это сам, теперь придется тебе кормить академика. К счастью, старик не капризен. Завтракает он самостоятельно — варит себе кофе, обед приношу я, на ужин он пьет либо кефир, либо коньяк, смотря по настроению.
— Разве в ресторане нет доставки?
— Конечно, есть, — баритональные модуляции его голоса приняли легкий снисходительный оттенок. — Да не про нашу честь. Викентий Палыч не допускает к себе чужих. Несколько раз его квартиру пытались ограбить, и это сильно повлияло на характер старика. Граб доверяет исключительно мне. И будет доверять еще и тебе, когда я тебя представлю.
Мы двинулись вдоль дома к горящей на соседнем здании солидной вывеске «Вена». Заведение статусное, это сразу бросалось в глаза. Двери как в «Астории», в дверях ливрейный швейцар. Фойе просторное, отделанное зеркалами в барочных завитушках и тяжелым мозерским хрусталем. Неспешно следуя через холл, Сергей махнул рукой девушке за золоченой стойкой ресепшена, приветливо проговорив:
— Здравствуй, Надюша! Это Соня, Соня будет приходить вместо меня.
— А вы, Сергей Анатольевич? — забеспокоилась сотрудница ресторана. — Мы что же, совсем вас больше не увидим?
— Ну что ты, Наденька. Обязательно увидите. Просто я буду занят некоторое время, и Соня любезно согласилась помочь моему престарелому родственнику, для которого я беру еду.
— Сиделка, что ли? — презрительно обронила девица, окидывая меня неприязненным взглядом.
— Можно сказать и так, — не стал возражать Сергей. — Надюш, сделай нам как обычно.
— Куриный шницель, картофельное пюре, овощной салат без лука. И штрудель. Все правильно? — перечислила девушка.
— Ты умница, Наденька. Ничего не забыла.
— Скажете тоже — забыла, — усмехнулась сотрудница ресторана. — Второй год одно и то же каждый день берете. Тут и склеротик запомнит.
Выбравшись из-за стойки и цокая каблуками, Надежда скрылась за едва приметной дверцей, откуда повеяло кухонными ароматами. И тут же вернулась, неся в руках увесистый фирменный пакет с пластиковыми лотками. В обмен на деньги отдала пакет, рассыпалась в благодарностях и с натянутой улыбкой смотрела, как мы покидаем ресторан.
— И сразу же заходим в супермаркет за кефиром, — наставлял меня Сергей, сворачивая в двери соседнего здания, на первом этаже которого располагалась «Азбука вкуса». — Ну, и, само собой, за коньяком. Кофе в зернах я только вчера купил. Пакет изрядный, на первое время должно хватить. В общем-то, это все. Можем отправляться к Викентию Палычу.
Попасть в парадное оказалось возможным только при помощи сложного ключа на длинной ножке. Такие ключи теперь не делают, они остались в далеком прошлом вместе с конными пролетками, фиксатуаром для усов и высокими мужскими котелками.
— Жители этого дома — жуткие скупердяи, экономящие не только на консьерже, но и на приличном домофоне, — отпирая дверь парадного входа, рассказывал Меркурьев. — Они искренне надеются, что ни один домушник не вскроет эти их древние замки, ибо замки в этом доме с секретом, а секрет давно утерян за давностью времен. И открыть замки можно только аутентичным ключом, изготовить который не возьмется ни один мастер. Может, жители дома и правы. Ибо грабителям, собиравшимся обчистить Викентия Павловича, так и не удалось преодолеть препятствие в виде входных дверей. — Он сделал большие глаза и таинственно сообщил: — Грабители пробрались к Грабу, взломав черный ход, ибо подобрать ключи им так и не удалось.
И в самом деле, ключ от профессорской квартиры тоже являл собой раритет, в чем я смогла убедиться, когда мы поднялись по широкой мраморной лестнице на пятый этаж.
— Лифт сломан, но я подал заявку, к завтрашнему дню обещали починить, — бодро маршируя вверх по широким мраморным ступеням, сообщил Сергей. — Очень рассчитываю, что и вещи академика, да и его самого тебе удастся спустить на лифте.
— Я тоже на это рассчитываю, — подхватила я, поднимаясь за Меркурьевым и не отрывая взгляда от великолепного чугунного литья перил.
— Если не починят, обязательно позвони.
— Зачем?
— Я примчусь и снесу вас с Грабом на первый этаж на руках.
— Обязательно позвоню, — улыбнулась я, и на душе вдруг сделалось так хорошо!
Сергей оказался на редкость уютным и таким надежным, что я вдруг впервые за долгое время ощутила себя спокойно. Это был тот самый душевный комфорт, которого я достигала только с помощью таблеток. И я с надеждой подумала, что я, возможно, смогла бы заснуть рядом с ним, как засыпала раньше, со сновидениями, и проснуться отдохнувшей и посвежевшей…
— Вот мы и пришли, — отпирая дверь, проговорил Сергей, возвращая меня к действительности.
Крикнул в глубину квартиры:
— Викентий Палыч, это я!
И пропустил меня в прихожую, захлопнув за собой входную дверь.
Квартира оказалась просторной и темной. Пахло кофе, старыми книгами и достатком. Книги высились на стеллажах вдоль всего коридора от пола до потолка, плавно перетекая в огромную комнату с распахнутой двустворчатой дверью, из которой выглядывал крохотный, похожий на Санта-Клауса старичок. Поблескивающие очки-велосипеды в железной оправе, алые щечки-яблочки, белоснежные усы, окладистая, кругом подстриженная борода и, чтобы сходство было абсолютным, синий бархатный домашний халат, плотно перетянутый белым поясом. Не хватало только колпака.
— Сережа? Ты не один? — забеспокоился старик, близоруко щурясь сквозь круглые стекла очков-велосипедов. — Не пойму, кто с тобой? Твоя Веденеева?
— Ну что вы, Викентий Палыч, как вы могли такое подумать! Это Соня Кораблина, из «Миллениума», работает под началом Олежки Полонского, — опуская пакеты с провиантом на кожаную банкетку, откликнулся Сергей. — Соня была так любезна, что согласилась помочь в качестве секретаря, ну и вообще, по хозяйству. Она поедет с вами в Бежецк.
— Вот как? — расстроился академик. — Ну что же, этого и следовало ожидать. Не может молодой перспективный мужчина всю оставшуюся жизнь торчать рядом с больным стариком.
— Да нет, ну что вы, Викентий Палыч! — баритон Меркурьева звучал на редкость убедительно. — Я покину вас ненадолго, только на время вашей поездки. А потом снова буду с вами.
— Как скажешь, Сережа, как скажешь, — порывисто вздохнул «Санта-Клаус». — Мне, конечно, очень хочется покапризничать, однако понимаю, что это ни к чему не приведет. Выбирать не приходится. Если ты решил отправить меня в Бежецк с посторонней девицей, значит, так тому и быть. В любом случае одному мне не доехать.
— Простите великодушно, Викентий Палыч, я вынужден идти, — с сожалением проронил Сергей. — Вот, Сонечка, продукты, отнеси на кухню. А вы, Викентий Палыч, напрасно беспокоитесь, Соня справится не хуже меня. Отдаю ключи от вашей квартиры, чтобы не возникло затруднений.
Сергей вложил мне в руку связку массивных ключей, подмигнул, чмокнул в щеку и вышел на лестничную площадку, затворив за собою дверь. Он сделал это так естественно, что я впала в ступор. Пока я стояла в совершеннейшей прострации, переживая странный поступок нового знакомого, старик подошел и, недовольно сопя, оглядел меня с головы до ног. Пригладил бороду, поправил очки и миролюбиво осведомился:
— Как этот сукин сын вас назвал, простите, я не расслышал?
— Соня Кораблина, Викентий Палыч.
— А по отчеству вас как величать?
— Софья Михайловна.
— Ну, Софья Михайловна, раз уж вам меня сбагрили, отнесите продукты на кухню и приходите в кабинет, побеседуем.
Я подхватила сумки и двинулась следом за академиком. Он шел по коридору и сопел, как старый еж.
— Вы пьете кофе? — не оборачиваясь, спросил старик.
— С огромным удовольствием.
— Тогда сварите. На кухне стоит кофемашина, там выставлен нужный режим. Мне без сахара, двойной. Себе — какой захотите, только учтите, молока у меня нет, так что капучино не получится.
— Я не люблю капучино.
— Не лгите. Все девочки любят капучино, особенно такие простушки, как вы.
Он величаво удалился в кабинет, я отправилась искать кухню, пропустив «простушку» мимо ушей. Старый человек, стоит ли на него обижаться?
Кухня оказалась в самом конце квартиры и имела черный ход, наглухо заколоченный грубыми досками. Должно быть, из предосторожности заколотили после попытки ограбления, ибо у старика и в самом деле было чем поживиться. Развешанные на стенах картины, много малых голландцев, насколько могу судить, подлинники. Расставленная повсюду антикварная бронза — я узнала несколько скульптур работы Лансере. Мебель старинная, резная, каким-то чудом пережившая революцию и блокаду и в очень хорошем состоянии. Что, конечно же, казалось удивительным, ибо в блокаду жители осажденного города мебелью топили печи-буржуйки в надежде согреться и, уж конечно, не следили за сохранностью стульев и шкафов. И паркет был в квартире аутентичный. Отличный наборный паркет с орнаментом в стиле модерн, такого теперь не делают.
Да и бытовая техника оказалась самая что ни на есть современная. Дорогая. Класса люкс. Нажав кнопку включения на сияющей хромом кофемашине, я достала из резного дубового серванта, украшенного сценами псовой охоты на оленя, тонкую фарфоровую чашку с нежным рисунком в китайском стиле и поставила на поддон. Пока аппарат гудел, продувая сопла и перемалывая зерна, я уложила ресторанную еду в стерильный холодильник, туда же отправив пакет кефира. Приготовила вторую чашку и стала ждать, пока сварится первая.
Дождавшись, поставила дымящиеся чашки на блюдца, блюдца на поднос и двинулась в кабинет. По пути заметила еще три двери, предположила, что одна из них ведет в спальню, вторая, скорее всего, в гостиную, а вот третья, должно быть, комната прислуги, в которой мне предложат переночевать. И я, конечно же, откажусь. Не потому, что обиделась на «простушку», просто не люблю спать в чужих постелях.
Академик Граб ждал меня в кресле, листая толстый немецкий журнал. Я пристроила поднос на низкий столик по правую руку от хозяина и, подхватив свою чашку, села на диван. Пригубила обжигающий напиток и с любопытством взглянула на старика. И только теперь заметила, что он не смотрит в журнал, а наблюдает за мной поверх очков. Чтобы скрыть охватившую меня неловкость, я огляделась по сторонам, скользнула глазами по развешанным на стенах картинам и, заметив портрет темнокожего красавца благородной наружности, улыбнулась:
— Сколько у вас интересного! Викентий Павлович, вы бывали в Африке?
— По первому образованию я африканист, по второму — лингвист, — надменно сообщил Викентий Павлович. — По приглашению Британского института я работал в Аксуме в семьдесят третьем году в составе восточноафриканской экспедиции, ибо в совершенстве владею арабским и коптским языками. Не покривлю душой, если скажу, что специалист такого уровня, как я, даже для британцев — большая редкость. Мы частично откопали тогда могилы царей Аксума. Это было еще в то время, когда Хайле Селласие, — академик указал на портрет красавца, — последний «лев колена иудейского» и признанный двести двадцать пятый потомок царя Соломона, еще сидел на троне.
Старик ждал, что я как-то отреагирую на произнесенное имя, но я продолжала благостно потягивать кофе, и Викентий Павлович с легким раздражением заметил:
— Его еще называли рас Тэфэри Мэконнын. Что-нибудь слышали о нем?
— Очень смутно, — честно призналась я.
Академик сердито брякнул чашку на столик, расплескав остатки кофе, и с негодованием произнес:
— Ну и молодежь пошла! Ну, хотя бы про растафарианство вам что-нибудь известно? Вы знаете, кто такие растаманы?
— Ну как же, — оживилась я. — Чернокожие парни, которые курят марихуану, распевают регги, наплевательски относятся к жизни и заплетают волосы в неопрятные дреды.
— А дреды убирают в большие вязаные шапки, окрашенные в цвета эфиопского флага, — обиженно добавил старик.
— Да, точно! — подхватила я.
— Как вы думаете, отчего бы это?
— Понятия не имею.
— Оттого, что одним из воплощений бога Яхве — сокращенно Джа — стал для растаманов последний эфиопский негус рас Тэфэри Мэконнын. Тот самый, портрет которого вы видите перед собой. — Он посмотрел на меня долгим сверлящим взглядом и не без брезгливости спросил: — Софья Михайловна, где вы учились?
— На киноведческом отделении ВГИКа.
— Отчего вдруг на киноведческом? — удивился он. — Чему там могут научить?
Я молчала и смотрела на академика. Не стану же я объяснять, что в моей семье кино — не просто один из способов проведения досуга, а атмосфера, в которой мы живем. Возвращаясь из командировок, отец привозил множество европейских и американских фильмов, которые никогда не шли в отечественном прокате. Каждый вечер папа ставил какой-нибудь новый, необычный фильм, и мы смотрели его на языке оригинала. После просмотра папа обычно самодовольно говорил, что языки необходимо изучать хотя бы для того, чтобы иметь возможность самому выносить суждение о задумке режиссера, а не полагаться на добросовестность переводчика. Я и на киноведение пошла только благодаря отцу. Но академику Грабу об этом знать совершенно не обязательно. Мое молчание вызвало неожиданно бурную реакцию.
— Глубина вашего незнания поражает! — сорвав с переносицы очки и с остервенением протирая стекла полой синего халата, закричал неугомонный Викентий Павлович.
Слышать это было неприятно, и я задиристо ответила:
— Между прочим, в институте я была отличницей. Надо понимать, что во ВГИКе из нас готовили совсем не африканистов. Полагаю, вы тоже не сможете объяснить, отчего министр пропаганды Йозеф Геббельс назвал Жана Ренуара «кинематографическим врагом номер один» и запретил его «Великую иллюзию». И вряд ли дадите оценку такому замечательному фильму, как «Диллинджер мертв». Кстати, не напомните, кто и в каком году его снял?
— Не помню такого фильма, — раздраженно буркнул Граб.
— Я вам напомню. В этой захватывающей драме главный герой в исполнении неподражаемого Мишеля Пикколи примерно час чистит пистолет, еще через десять минут ложится с ним в постель, но не к жене, которую играет ослепительная Анита Палленберг, а к горничной в исполнении Анни Жирардо. И на последней минуте фильма пистолет действительно выстреливает. Может быть, Викентий Павлович, обсудим, что хотел сказать в нетипичной для притчи манере автор фильма Марко Феррери? Не спорю, по тематике, на первый взгляд, картина схожа с культовой «Теоремой» Пазолини, снятой все в том же шестьдесят восьмом году, но, несомненно, гораздо глубже, вы не находите?
— Довольно, Софья Михайловна! — сердито оборвал академик. — Покуражились, и будет. Я не киновед и подобного мусора не признаю. Вот «Летят журавли» — это действительно шедевр на все времена. А все ваши Антониони и Пазолини для меня темный лес. А что касается истории Эфиопии — стыдно не знать такие вещи. Слушайте и просвещайтесь, отличница с отделения киноведения, — возвращая очки на нос, с патетическими нотками провозгласил он. — И благодарите судьбу, которая свела вас с академиком Грабом! Лучше вам никто про Эфиопию не расскажет. Люди приезжали слушать мои лекции не только из других городов, но и из других стран! Люди платили за это большие деньги, а вам, Софья Михайловна, все подают на блюдечке. Мне предлагали выпустить курс лекций на аудиодисках, но я отказался. Ни один диск не может заменить живого общения с преподавателем! Вам понятно, Софья Михайловна? Я, академик Граб, лично беседую с вами, недоучкой с отделения киноведения, и вы должны это ценить!
Он вдруг замолчал и кинул на меня подозрительный взгляд.
— Должно быть, Сергей вам станет платить? — предположил он. И тут же снова с негодованием затряс бородой: — Не смейте брать денег! Слышите? Не смейте! Это вы должны платить Сергею за общение со мной!
— Так что там с расом Тэфэри Мэконныном? — перебила я, понимая, что мы все дальше и дальше уходим от первоначальной темы беседы.
— Не только неграмотна, но и дурно воспитана, — сердито зыркнул на меня старик.
Я застенчиво улыбнулась, зная, что чаще всего это работает. И тихо произнесла:
— Мне правда интересно.
Сработало и на этот раз.
— Ну, раз интересно, слушайте, малограмотная вы моя, — все еще воинственно проговорил Викентий Павлович, обмахиваясь журналом. И уже через секунду другим, поставленным голосом профессионального лектора принялся вещать:
— Чтобы было понятно, о чем пойдет речь, следует заглянуть в глубь веков. Сабейское царство располагалось в южной Аравии, на территории современного Йемена. Это была цветущая цивилизация с развитым сельским хозяйством и сложной социальной жизнью. Правителями Сабеи являлись «муккарибы» — цари-жрецы, власть которых передавалась по наследству. Самой знаменитой правительницей Сабеи стала царица Савская, в детстве прозывавшаяся Македой. О ней упоминается в Ветхом и Новом Завете, в Коране она носит имя Билькис.
Родилась Македа примерно в тысяча двадцатом году до нашей эры в легендарной стране Офир, простиравшейся через все восточное побережье Африки, Аравийский полуостров и Мадагаскар. Македа получила образование у лучших ученых, философов и жрецов своей огромной страны. В возрасте пятнадцати лет она отправляется царствовать в южную Аравию, в Сабейское царство, и с того момента становится царицей Савской. Правила царица сорок лет, и про нее рассказывали, что правит она сердцем женщины, но головой и руками мужчины.
Македа очень гордилась своими разнообразными познаниями и всю жизнь пыталась получить тайные эзотерические знания, известные мудрецам древности. Она имела почетный титул Верховной жрицы Планетарной Соборности и регулярно устраивала у себя во дворце «Соборы Мудрости», на которые собирались посвященные мужи всех континентов. Владела она и единственным в мире камнем астериксом, упавшим прямо с неба. Услышав про Македу, могущественный царь Соломон пожелал с ней познакомиться и пригласил к себе.
Стоит заметить, путешествие выдалось не из легких. В свите царицы были черные карлики, в гвардии — светлокожие рослые гиганты. Караван царицы состоял из семисот девяноста семи верблюдов, не считая мулов и ослов, нагруженных провизией и подарками. И, судя по тому, что один верблюд может поднять груз до ста пятидесяти килограммов, подарков — золота, драгоценных камней, пряностей и благовоний — было немало. Сама царица путешествовала на редком белом верблюде. Голову ее украшал венец со страусовым пером, пристегнутым крупным фрагментом камня астерикса. Малый фрагмент астерикса был вставлен в сверкавшее на ее пальце кольцо.
Старик перестал обмахиваться журналом и недовольно взглянул на меня.
— Послушайте, Софья Михайловна! Разве вы не чувствуете, что в комнате нечем дышать? Откройте же, наконец, окно!
Я встала с дивана, подошла к высокому, с арочным верхним пролетом, окну, отдернула плотную занавеску и открыла среднюю створку. В кабинет тут же хлынул прохладный воздух с реки — август в этом году выдался нежаркий. Викентий Павлович втянул речной бриз полной грудью и, отложив за ненадобностью журнал, с воодушевлением продолжал:
— Кольцо с астериксом царица Савская и подарила Соломону, когда поняла, что зачала от него ребенка. Эфиопская «Кебра Нагаст» — «Книга О Славе Царей» — подробно повествует о том, как Македа вернулась домой, родила сына Менелика, что означает «сын мудреца». Когда юноша вырос, мать отправила его к царю Соломону. Соломон сына признал, но притязания на трон отверг, и обиженный Менелик похитил у царя кольцо Македы, а также Ковчег Завета, хранившийся в храме Соломона, после чего вернулся домой. Менелик стал первым эфиопским негусом и не снимал кольцо отца вплоть до самой своей смерти, а перед кончиной передал реликвию наследнику. Ковчег Завета же Македа и Менелик спрятали в безопасное место, в подполе одного из эфиопских храмов. Из большего фрагмента камня астерикса умелый резчик изготовил гемму. На отполированной поверхности он изобразил сам храм, а также сделал подпись на языке геэз[16] о месте нахождения Ковчега. Итак, это предыстория. Сама же история такова… Кстати, — встрепенулся академик, — Софья Михайловна, вы не голодны?
— Нет, спасибо, — вежливо откликнулась я. И тут же уточнила: — А вы, Викентий Павлович? Может, подогреть обед?
— И даже не думайте! — замахал руками старик. — Ну его, этот обед. Я лучше бы выпил еще кофе. И знаете что? — Он принял хитрый вид и заговорщицки подмигнул поверх очков: — Плесните туда коньячку.
Пока я была на кухне, академик Граб выложил на письменный стол альбом с яркими иллюстрациями и, стоило мне только вернуться, тут же вручил мне со словами:
— Вы листайте, а я продолжу. Так вот. Все, о чем я вам только что рассказал, приключилось три тысячи лет назад в Эфиопии — единственной христианской стране Черного континента. Атрибуты императорской власти — кольцо Соломона и гемма царицы Савской — все три тысячи лет неизменно переходили от предшествующего правителя к его наследнику. Кольцо император носил на руке, по хранящейся среди царских сокровищ гемме отыскивал Ковчег Завета и, когда просила душа, беседовал с Богом.
Старик отставил пустую чашку и зябко повел плечами, кутаясь в халат.
— Софья Михайловна, вы не чувствуете, что очень холодно и сыро? Закройте же, наконец, окно!
Поднявшись с дивана, я беспрекословно исполнила приказание, с шумом захлопнув фрамугу.
— Теперь другое дело, — одобрил академик. И, словно и не прерывал повествования, продолжал: — Последний император Эфиопии Хайле Селласие Первый известен не только благодаря внутренним реформам. Он стал Богом. А случилось это так. Одним из первых о Хайле Селласие как о воплощении Иеговы заговорил уроженец Ямайки Маркус Гарви. Гарви являлся основателем и лидером довольно влиятельной Всемирной ассоциации негритянского развития, которая боролась за равноправие чернокожих. На деле же Гарви проповедовал расовую чистоту негров. Эдакий расизм наоборот. И потому, являясь католиком, Гарви способствовал распространению среди своих адептов идеи о том, что Иисуса Христа следует изображать чернокожим. После того как в Эфиопии состоялась торжественная коронация Хайле Селассие — к слову сказать, имя его переводится с языка геэз как «Мощь Триединства», сторонники идеи негритянского превосходства уверовали в предсказания Гарви и приняли императора как Мессию. В тысяча девятьсот тридцатом году Хайле Селассие короновали в Эфиопии, а на Ямайке в тот же самый момент началось развитие растафарианского движения. Я не сторонник конспирологии, но меня не покидает чувство, что с божественной сущностью раса Тэфэри перестарались англичане, ставленником которых последний император и был.
Старик хитро прищурился и усмехнулся:
— Думаю, это британцы подбили Гарви пустить сей нелепый слушок, дабы упрочить позиции своего протеже. Хайле Селласие правил долго, почти шестьдесят лет, если быть точным — пятьдесят восемь. Однако народ им не был доволен — должно быть, негусу недоставало божественной мудрости — сказывалось отсутствие общения с Ковчегом Завета, ибо гемма царицы Савской пропала еще до того, как Хайле Селласие взошел на трон.
— И что же, гемму так и не нашли?
— Позвольте мне закончить, — оборвал меня старик. — Конец последнего эфиопского императора был печален. Путем переворота его место занял Менгисту Хайле Мариам, прозванный Красный Негус. Красный в двух значениях сразу — «кровавый» и «коммунистический». Говорят, наша страна помогала Менгисту прибрать власть к рукам, ибо рас Тэфэри не хотел идти социалистическим путем, предпочитая дружить с Америкой. Как бы то ни было, во время военного переворота императора заключили под стражу, и вскоре Хайле Селласие обнаружили придушенным подушкой, при этом никогда не снимаемое кольцо Соломона на нем отсутствовало. Зато звездный камень вскоре увидели на пальце Красного Негуса, взявшего в стране такую власть, что Эфиопия захлебнулась в крови.
Академик рассказывал, а я листала шикарно изданный в Лондоне альбом, рассматривая изображенные на иллюстрациях африканские дома, пейзажи, животных.
— Откройте двадцать восьмую страницу, там есть те, о ком я говорил, — посоветовал старик. — И рас Тэфэри, и Менгисту Хайле Мариам.
Но я не спешила открывать указанную страницу. Меня заинтересовал снимок человека в леопардовой шкуре и пояснительная статья, которую я, слушая академика вполуха, тут же принялась читать. Если перевести с английского, написано было следующее:
«Люди-леопарды и по сей день убивают тех, кто случайно забредет в лесную чащобу. И всякий раз на месте преступления находят следы леопардов. Местные боятся приближаться к лесу. Полиция Фритауна созвала пресс-конференцию, чтобы пресечь будоражащие столицу слухи, передаваемые друг другу белыми колонистами. Полиция взялась доказать, что убийства совершают вовсе не духи, а члены секты людей-леопардов. Для того чтобы должным образом наследить, «оборотни» используют специальную обувь. Чтобы тела жертв выглядели истерзанными, словно их терзал настоящий зверь, люди-леопарды используют металлические когти и щипцы в форме челюстей хищника. На пресс-конференции полицейские демонстрировали наряды из пятнистой шкуры — маски и что-то вроде туники, а также особые горшки, с помощью которых люди-леопарды имитируют рев животных.
С середины девятнадцатого века, когда в Центральную Африку начала массированно проникать европейская цивилизация, туземцы стали жить как бы в двух мирах — современном и древнем, населенном духами, которые неустанно следят за каждым человеком и готовы наказать его. В этом главная суть великой африканской религии, исповедуемой миллионами, вне зависимости от того, числятся ли они католиками, мусульманами или язычниками-мианимистами. Итальянским журналистам Альберто Онгаро и Джан-Франко Морольдо в начале 1980 года удалось взять интервью у людей-леопардов, которые рассказали о деятельности общества.
«Есть две Африки, древняя и только что родившаяся. Город живет по своим законам, а сельская, лесная Африка — по своим. Два образа жизни, два мира. И старый мир не намерен уступать новому. Мы, леопарды, стражи порядка, заведенного издревле. А свое общество называем частью системы, гарантирующей гармонию и справедливость. Общество аниото — карающий орган древней власти, наказывающий за проступки и преступления».
На снимке под статьей красовался африканец, одетый в леопардовую шкуру. Руки его были в перчатках с длинными острыми ножами в виде когтей, вследствие чего он действительно напоминал получеловека-полулеопарда, на черной груди болтались загадочные амулеты.
— Вы слышали про культ аниото? — протягивая альбом Викентию Павловичу, осведомилась я. — Я пробежала глазами статью, хотелось бы узнать подробности.
Академик и не думал скрывать своего изумления.
— Вы что же, владеете английским? — недоверчиво прищурился он сквозь круглые стеклышки очков.
— И довольно неплохо, — с достоинством откликнулась я. — Как и итальянским, французским и в меньшей степени немецким. Так что вы знаете об аниото?
— А, это так, дикарские суеверия, — буркнул старик, сердито забирая у меня альбом. — Разве можно поверить в подобный абсурд? Люди-леопарды, сохраняющие равновесие в обществе! Я не для того больше часа распинался перед вами, драгоценная моя, чтобы вы, вместо того чтобы слушать, без зазрения совести зачитывались цветистыми легендами в иллюстрированных книжонках!
Он сердито бросил альбом на стол, после чего взял с полки и протянул мне увесистую книгу в синем переплете.
— Хотел рассказать, но теперь не буду. Вот, сами прочитаете к завтрашнему дню.
На обложке вилась тисненная золотом колючая проволока, слагаясь в название: «Палач мордовских лагерей». И выше значилось имя автора — Викентий Граб.
— Это вы написали? — поинтересовалась я, забирая книгу.
Старик зарделся от удовольствия, торжественно кивнул, сверкнув очками, и самодовольно произнес:
— Книга только что вышла, но не осталась незамеченной. В принципе она не нуждается в рекламе. Но я подумал, что стоит съездить в Бежецк на ежегодные Гумилевские чтения и устроить презентацию перед специалистами. Раньше я в Бежецке был частый гость, — он мечтательно прикрыл глаза, — но последние лет десять ленюсь туда ездить. Однако по случаю выхода книги можно и наступить на горло собственной лени. Ехать до Бежецка изрядно, в поезде я и подготовлю речь. Я полагаюсь на вашу помощь в этой работе, потому и восполняю пробелы в вашем образовании.
Он пожевал губами и недовольно выдохнул:
— Софья Михайловна, а принесите-ка мне бутылку коньяку, если вас не затруднит. И бокал. И знаете, что я вам скажу? Пить коньяк с кофе — только портить два напитка. Больше не подсовывайте мне эту гадость.
Петроград, 1921 год
Зиночка Бекетова открыла глаза и долго лежала так, гадая, какое сейчас время суток, ибо плотно задернутые гардины не пропускали свет в комнату и было совершенно темно. Утро или вечер? В голове звучал колокольный набат, тело не слушалось и казалось чужим. Зиночка разлепила запекшиеся губы и еле слышно позвала:
— Анисья!
Прислуга не откликнулась, и только теперь Зиночка вспомнила, что еще вчера даровала Анисье свободу. Ну да, конечно. Так оно и было. Прямо с утра к ней пришел Влад Першин с компанией друзей-актеров, они много пили, пели и танцевали, а потом гости потребовали, чтобы Зиночка изжила в себе буржуйские замашки и отпустила Анисью на волю. Анисью не спрашивали, хочет ли она обрести свободу, просто решили — и все. Анисья плакала и упиралась, на коленях просила, чтобы «барыня не гнала ее со двора», но приятели Влада были непреклонны. Особенно старалась неприятная вульгарная Евлампия Эпле, самым бессовестным образом положившая на Влада глаз. Под пьяный хохот «освободители» собрали в узелок нехитрые Анисьины пожитки и выставили прислугу за дверь, громогласно скандируя: «Свобода превыше всего! Конец сытому рабству!»
А потом закончился кокаин. Влад взял у Зиночки деньги, сходил за порошком, а что было после, вспомнить не удалось. Сделав над собой усилие, Зиночка пошевелилась, стараясь дотянуться до перекинутого через спинку кровати пеньюара. Кокаин! Только он способен вернуть ее к жизни. Без порошка она не человек — развалина. Каждый раз, когда тело болело так, что хоть вой, давала себе зарок перетерпеть, не притрагиваться к адскому зелью, но недомогание бывало так сильно, что руки сами тянулись к заветной коробочке, хотя и знала, что улучшение наступит лишь на очень недолгий срок, а затем станет еще хуже.
Чувствуя боль в каждой клеточке ставшего чужим тела, Зиночка с трудом свесила с кровати непослушные ноги, в кромешной темноте нашарила ступнями атласные остроносые туфли, поднялась и, вытянув перед собой руку, чтобы не натыкаться на мебель, медленно двинулась к выбивающейся из-под двери полоске света. Дверь вела в большую гостиную, откуда теперь доносился протяжный ноющий звук.
Толкнув дверь, Зиночка шагнула в комнату и, ослепленная, зажмурилась. Дневной свет невыносимо резал воспаленные глаза, озноб пробегал по онемевшему телу. Когда глаза привыкли к свету, Зиночке открылся страшный беспорядок. Не только на покрытом скатертью столе, но и на подоконнике, и на открытом рояле стояли бокалы с остатками вина, тарелки с засохшими закусками, для чего-то вытащенные из ваз увядшие цветы устилали ковер, перемежаясь с раскиданной одеждой.
На узком диване вповалку спали все участники вчерашнего кутежа. Казалось невероятным, но помимо ненавистной Евлампии Эпле там уместилось пятеро мужчин. Некоторые из гуляк заснули обнаженными — отчасти или полностью. Глядя на переплетенные тела, Зиночка отчего-то вспомнила Босха и передернулась от отвращения. Заевший патефон выводил одну и ту же надрывную музыкальную фразу, но это мало занимало несчастную. Глаза жадно искали заветную коробочку из белого перламутра, в которой хранился кокаин. Ее кокаин, нужный ей как воздух. Даже больше, чем воздух. Необходимый, чтобы не сдохнуть. Уже не радоваться и веселиться, как бывало прежде, а чтобы просто жить.
Коробочка обнаружилась под диваном. Открытая. Она лежала перевернутая, в легком облачке остатков порошка. Издав пронзительный крик, Зиночка бросилась к дивану, подбежала, перевернула коробочку и, обнаружив, что внутри ничего не осталось, схватила чей-то валявшийся рядом штиблет и принялась хлестать им спящих.
— Свиньи! Какие же вы свиньи! — визжала она. — Убирайтесь прочь!
Не обращая внимания на недовольство бесцеремонно разбуженных гостей, она распахнула окно и под завывания заевшего патефона принялась швырять на улицу валяющуюся на полу одежду. Подбежавшего Влада она оттолкнула с небывалой силой.
— Ты что, ополоумела? — кричал актер. — Совсем сдурела?
Приступ безумия прекратился столь же внезапно, как и начался, и, глядя в помятое лицо любовника, Зиночка холодно спросила:
— Где кокаин?
— Откуда мне знать? — откликнулся Першин, подходя к ломберному столику и прерывая заезженную патефонную песню.
— Ах, ты не знаешь? — вкрадчиво проговорила хозяйка, с ненавистью глядя на потасканного красавца. — А разве не ты его употребил вместе с этой шлюхой? — Она кивнула на торопливо поправляющую одежду Евлампию и с новой силой завизжала: — Вон! Все вон отсюда!
— Истеричка припадочная, — закручивая узлом тяжелые волосы, фыркнула актриса, царственной походкой направляясь к оттоманке, где лежала сумочка, но Зиночка ее опередила. В два прыжка подскочила к сумочке Эпле и, размахнувшись, метнула в окно.
— Сумасшедшая! Припадочная дура! — забыв о прическе, выкрикнула Евлампия, опрометью выбегая из квартиры в надежде успеть подобрать ридикюль прежде, чем им соблазнится случайный прохожий.
— Скоты! Свиньи! Пили, жрали за мой счет, а теперь я еще и припадочная! — выла Зиночка, от охватившей ее слабости опускаясь на ковер и раскачиваясь из стороны в сторону.
Кто-то из-под нее выдернул атласный жилет — она даже не заметила кто. Так и сидела, содрогаясь от рыданий, перебирая увядшие цветы и глядя на виднеющуюся из гостиной распахнутую входную дверь с темнеющей в дверном проеме лестничной площадкой. И вдруг бессмысленный взгляд ее остановился на трюмо. В затуманенной голове вспыхнуло спасительное воспоминание — ее тайник! На трюмо среди дамских безделушек она прятала от мужа порошок. Зиночка поднялась с пола и устремилась в прихожую. Захлопнула входную дверь и склонилась над флакончиками духов и притирок. Вот она, запасная коробочка! Железная, из-под помады.
Две неаккуратные дорожки, жадно втянутые с зеркальца трепещущими ноздрями, вернули ее к жизни. Ха, муж! Смешно! Расписалась она с Вилькиным по новым, советским законам, а где он, ее муж? Вилькин теперь комиссар, правая рука Троцкого. Носится по всему миру, выполняя партийные задания. То в Туркестан махнет, то на Тибет. А Зиночка сидит в огромной квартире на Невском, экспроприированной у сбежавшего в Стамбул буржуя, и не знает, чем себя занять. Отец остался в Кейптауне, мать перебралась в Тамбовскую губернию к сестре, а ей что прикажете делать?
В дверь осторожно поскреблись, и Зиночка пошла открывать. На пороге переминался с ноги на ногу Влад, виновато поглядывая глазами побитой собаки.
— Кукочка, ну, Кукочка, — засюсюкал он, — пусти меня к себе, а? До спектакля хорошо б поспать, а мамаша дверь не открывает.
Совсем выгонять любовника было жалко, но и слушать его бесконечные театральные монологи не хотелось. Бекетова-Вилькина великодушно махнула рукой, приняв соломоново решение:
— Заходи, мерзавец. Только не рассчитывай, что опохмелишься и примешься разыгрывать античную драму, а я буду слушать твой пьяный бред. Я ухожу.
— Вина оставь и уходи, — бесцеремонно откликнулся любовник.
— Нет вина, друзья твои все выпили, — парировала Зиночка.
— Ну, Кукочка…
— Нет, я сказала! Ты спать пришел? Вот и спи!
Разочарованный Влад побрел в спальню, а Зиночка отправилась приводить себя в порядок. Наполнив ванну, полежала в теплой воде, затем растерла тело пушистым мягким полотенцем. Вернулась в гардеробную, распахнула дверцу шкафа и придирчиво выбрала платье, а к нему чулки. Следуя нынешней моде, барышни носили носочки, но Зиночка не признавала нового веяния, предпочитая с туфлями на тонких каблучках носить старые добрые чулки французского производства — в них нога смотрится стройнее.
Пудря перед зеркалом нос, Бекетова-Вилькина пришла к выводу, что выглядит просто сногсшибательно. Накинула в прихожей летнее пальто, надела кокетливую парижскую шляпку и покинула квартиру. Выйдя на бульвар, прогулочным шагом двинулась к Летнему саду, но загляделась на красивого военного и чуть ли не лбом ткнулась в круглую театральную тумбу. Перед тумбой, рассматривая афишу Мариинского театра, стояла высокая худощавая девушка с забранными под шляпку огненно-рыжими волосами. Что-то в этих волосах сразу же показалось знакомым. Фигура, осанка, поворот головы и кукольное, обрамленное кудрями личико с миндалевидными зелеными глазами. Где-то Зиночка уже видела это лицо. И не просто видела, а отлично его знала. Мучаясь от того, что никак не может вспомнить, Бекетова-Вилькина тронула барышню за плечо и извиняющимся голосом проговорила:
— Прошу прощения, сударыня, мы, кажется, встречались?
Девушка обернулась, и зеленые глаза ее заискрились смехом.
— Бог мой, Зинуля! Ты тоже здесь, в Петрограде? — воскликнула она знакомым голосом.
И, зардевшись, протянула тонкую руку. Пожимая холодные пальцы, Зиночка вспомнила. Ну конечно! Это же Тата Яворская, старинная подруга по даче! При виде подруги Бекетову-Вилькину захлестнула волна нежности. Они были совсем детьми, лет по семь, не больше. На Финском заливе, в местечке Рялляля в Териоках их дачи стояли напротив, и девочки часто бегали друг к другу в гости. Под яблонями в саду раскладывали кукол и принимались играть. Зиночке очень нравилась Татьянина сестра, такая же зеленоглазая и рыжеволосая, но только еще красивее, потому что старше.
Звали ее Инга, и Зиночка помнила, как Инга привезла на дачу смешного и толстого мужа — доктора Евгения Львовича Дынника. Он был совсем не красивый, но очень милый, похожий на медвежонка. Доктор Дынник угощал девочек леденцами из круглой баночки и с самым серьезным видом называл «барышнями». С доктором приезжал сердитый господин Рогозин, бранившийся страшными словами. При звуках его голоса подруги зажимали уши ладошками и с визгом убегали. А потом Зиночку перестали вывозить в Териоки, и в разговоре взрослых она случайно услышала, что дачу продали. С тех пор они с Татой не виделись. И вдруг — такая встреча!
— Как ты? Как Инга? Евгений Львович? — теребила подругу Зиночка. — Ну же, Тата! Рассказывай!
— Евгений Львович служит врачом в Обуховской больнице, меня санитаркой устроил, а Инга в клубе медицинских работников ведет кружок фортепиано, — смущенно ответила Яворская. И только сейчас Зиночка заметила на подруге старенькую шляпку и потертое летнее пальто. Поймав на себе жалостливый Зиночкин взгляд, Тата с чувством собственного достоинства добавила: — Живем мы хорошо, жаловаться не на что.
За парапетом искрилась в солнечных лучах Нева, мимо прогрохотал трамвай.
— А мне вот есть на что жаловаться, — с вызовом откликнулась Бекетова-Вилькина. — Жизнь у меня — сплошной кошмар. Беспросветная и ужасная.
Татьяна блеснула зеленью глаз, возбужденно заговорив:
— Зинуля, миленькая, поехали к нам! Посидим, поговорим, чаю попьем. Инга будет рада. И Евгений Львович.
И Яворская, взяв подругу за руку, потянула ее к трамвайной остановке. Зиночка охотно последовала за Таней к высокому столбу с табличкой-указателем. Дома с пьяным Владом было невыносимо, а тут старинные друзья.
Трамваи ходили крайне редко, и попасть на трамвайную площадку было известным подвигом. Забравшись в тесный душный трамвай, Зиночка выдернула сумочку из потока жарких человеческих тел, сдавивших ее со всех сторон, и тронула Таню за плечо:
— Таточка, почему ты живешь у сестры?
— А где мне жить? — Яворская кинула на подругу затравленный взгляд. — Квартира наша сгорела, мама и папа погибли во время пожара.
— И давно это случилось? — сочувственно спросила Зина.
— В тот год, когда вы дачу продали. Так что в один момент у меня и родителей не стало, и лучшей подруги. И даже Инга меня предала — хотела сначала отправить в приют, да Евгений Львович за меня вступился, не допустил.
— И как ты с Ингой после того? Ладишь?
— Мне нет до нее дела, — сердито выдохнула Тата. — У нее своя жизнь, у меня — своя.
Трамвай замедлил ход, остановился и распахнул двери. Зиночка ощутила болезненный толчок в спину, и сиплый голос над ухом прохрипел:
— За Обуховской выходишь?
— Извольте обращаться на «вы», — огрызнулась Бекетова-Вилькина, толкая в ответ обидчика локтем и торопливо выбираясь из вагона.
Стоя на выбитой брусчатке, Татьяна одернула юбку и, поправляя съехавшую на затылок шляпку, раздраженно проговорила:
— Ненавижу нынешний Петроград! После революции изо всех щелей повылезало невежество и хамство! Город совсем не убирают. Прошлой зимой навалило столько снега, что я сама наблюдала, как люди забирались на сугроб и прикуривали от фонаря. Взгляни! В Неве столько мусора — судно не пройдет!
Девушки двинулись по улице вдоль нависших над тротуаром серых домов.
— А я не замечаю внешних перемен, ибо живу жизнью внутренней. Как скучала в дореволюционном Петрограде, так и сейчас скучаю, — вздохнула Зиночка. — Для меня ничего особенно не изменилось. Раньше папенька все время пребывал в разъездах по делам службы, матушка все больше лежала у себя, жалуясь на мигрень, а я все одна да одна. Скука смертная. На приключения тянуло — забавно вспомнить! В пятнадцать лет я даже убежала из дома с одним известным оперным тенором. Он, конечно, через неделю бросил меня под Воронежем. Маман приехала за мной, оплатила гостиничный номер, за который мы с тенором задолжали, и отправила в Африку к отцу.
— В Африку! Как интересно! — мечтательно протянула Таня.
— Это только звучит красиво — Африка! — фыркнула Зиночка. — Там тоже оказалась тоска ужасная, я просто с ума сходила. От скуки даже замуж вышла. Теперь вот муж в разъездах, а я снова одна.
— Ты замужем? И кто твой муж?
— О-о, большой революционный начальник. Он сейчас на Дону, оттуда планирует поездку в Альпы. Очень разносторонний человек.
— Меня Рогозин тоже замуж звал, только мне что-то не хочется. Старый он, да и не люблю я его.
— И, должно быть, по-прежнему ужасно бранится, — прыснула Зиночка.
Оживленно беседуя, девушки миновали проспект, свернули в переулок и вышли к вросшему в землю каменному бараку.
— Вот мы и пришли, — поднимаясь на провалившееся крыльцо и доставая из сумочки ключи, проговорила Таня.
— Вы живете в этом доме? — с неприкрытым удивлением выдохнула Зиночка.
— Евгению Львовичу здесь квартиру дали, — слегка замявшись, сообщила подруга. — Не очень хорошую, зато рядом с больницей.
Ключ щелкнул в замочной скважине, Татьяна потянула на себя дверь, и, спустившись на несколько ступенек вниз, девушки вошли в полуподвал. После яркого дневного солнца Зиночка точно ослепла, тревожно втягивая ноздрями застарелую сырость. В темном коридоре пахло мышами, под ногами ходили ходуном ветхие половицы. Чтобы не потерять равновесия, Зиночка протянула руку и, придерживаясь, коснулась стены. И тут же передернулась от отвращения — пальцы ее скользнули по влажной плесени. Откуда-то из глубины квартиры доносились звуки рояля.
Татьяна уверенно двинулась на музыкальные переливы, увлекая подругу за собой к приоткрытым дверям комнаты. Вдруг сделавшись стеснительной, Зиночка дернула Яворскую за руку, задержав в дверях, и смущенно прошептала:
— Тата, постой! А удобно, что я к вам вот так, без приглашения?
— Да что ты, Зинуля! Тебе все очень обрадуются!
И Татьяна вошла в крохотную темную комнату с низким потолком, освещенную колеблющимся пламенем свечных огарков — похоже, в доме не было электричества. Зиночка шагнула за ней и поразилась, до чего же хороша стала Инга. Склонившись над клавиатурой старенького рояля, Инга играла Шопена. Высоко забранные медные волосы пышными локонами спадали на обтянутые кофточкой точеные плечи, и кофточка эта, простенькая, застиранная, цвета вылинявшей морской волны, очень шла к бледному зеленоглазому лицу. Застыв у рояля, волшебным звукам внимали два немолодых господина, в одном из которых — полненьком и низком — Зиночка узнала толстого увальня из своего детства — доктора Дынника.
— Евгений Львович! — шепотом позвала Тата. — Посмотрите, кого я привезла!
Толстяк обернулся на голос и, увидев Зиночку, приветливо замахал короткой ручкой. Пухлые губы его под комичными усиками растянулись в улыбке узнавания, и он пронзительно зашептал, стараясь при этом не мешать жене музицировать:
— Не могу поверить своим глазам! Неужели это та самая маленькая Зинуля из богом забытого дачного местечка Рялляля?
— Здравствуйте, Евгений Львович, — заулыбалась Зиночка.
Ей сделалось вдруг так хорошо, точно после долгого отсутствия она снова вернулась домой.
— А как выросла! Какою красавицей стала! — продолжал восхищаться доктор Дынник.
— Зато вы совсем не изменились!
Не прерывая игры, Инга повернула голову к дверям и сдержанно кивнула Зиночке. Прозрачные пальцы ее по-прежнему так и порхали, едва касаясь черно-белых клавиш, но расслабленное до сего момента лицо сделалось точно каменным. Закончив музыкальную фразу, женщина всем телом развернулась к слушателям и сухо проговорила:
— Вот уж кого не думала увидеть. Здравствуйте, Зинаида Евсеевна.
— Инга Яновна! — задохнулась от восторга Зиночка. — Я так рада нашей встрече! Вы все такая же красавица!
— Прошу вас, перестаньте, — поморщилась Инга и, обращаясь к сестре, сердито заговорила: — Таня, по какому праву ты приводишь в дом посторонних?
— Инга, опомнись! Что ты такое говоришь! Это же Зина Бекетова, — растерянно заморгала Татьяна.
— И тем не менее, дорогая моя, раз уж ты живешь под нашей крышей, я имею право требовать послушания. Кажется, я просила тебя не водить в дом чужих людей.
— Но это же Зина… — всхлипнула девушка и осеклась, затравленно посмотрев на сестру.
— Инга, душа моя, не нужно сердиться, — начал было Евгений Львович, но под сердитым взглядом жены тут же умолк.
Бекетову-Вилькину захлестнула волна обиды и горячей ненависти. Зиночка откинула белокурую голову и сквозь вуаль на шляпке смерила пианистку уничтожающим взглядом.
— Татьяна, почему ты позволяешь этой деспотичной особе, твоей сестре, вытирать о тебя ноги? — надменно осведомилась она. — Тебе что, нравится такая жизнь?
Всхлипнув, Таня сорвалась с места, выскочила в коридор. Зиночка гневно сверкнула глазами и, круто повернувшись на каблучках, вышла из гостиной. Прошла по темному коридору и у входной двери на кого-то наткнулась.
— Зинуля, — донесся из темноты голос Татьяны. — Можно я у тебя поживу?
— Я сама хотела тебе предложить, — отозвалась Бекетова-Вилькина. И, повысив голос, выкрикнула в глубину квартиры: — Чтобы эта гадина не думала, что ты без нее пропадешь!
Девушки взбежали по лестнице и распахнули дверь, торопясь поскорее оказаться на улице. При свете дня Зинаида увидела, что подруга держит в руках небольшой чемодан коричневой кожи, туго перехваченный ремнями.
— Я давно хотела от них уйти, только некуда было, — всхлипнула Таня.
— Ну-ка, перестань рыдать! — прикрикнула на подругу Зиночка.
На трамвае они не поехали — раздосадованная Зина не захотела ждать и наняла мотор. До солидного дома на Невском доехали за считаные минуты, пересекли двор, поднялись на второй этаж и оказались у высоких, до самого потолка, двустворчатых дверей. Зиночка покрутила флажок звонка, но дверь не открыли.
— Вот зараза! — выругалась Зиночка, продолжая крутить ручку звонка.
— Кто зараза? — удивилась Таня. И уточнила: — Прислуга?
Бекетова-Вилькина оставила звонок в покое и принялась шарить в сумочке в поисках ключей.
— Прислуги у меня нет, — проговорила она. И назидательно добавила: — Прислугу теперь держать не модно. Теперь все равны.
— Кого же ты ругаешь?
— Ясно кого, любовника, — усмехнулась Зинаида, отпирая дверь. — Актеришку из погорелого театра. Ничтожество и мразь, но ничего приличнее пока не подвернулось.
Войдя в полумрак квартиры, она остановилась в центре прихожей и выкрикнула в глубину анфилады комнат:
— Влад! Ты дома?
В просторной квартире стояла гулкая тишина. Зиночка кинула на подзеркальник перчатки и сумочку и, не снимая туфелек, срывая на ходу пальто, ринулась напролом через комнаты, призывая любовника. Татьяна деликатно прошла на кухню и стала ждать. На неметеном кухонном полу среди картофельных очистков и прочего мусора отдельной кучкой валялись фантики от конфет, рядом с ними гостья и оставила свои старенькие туфли, прямо в чулках отправившись следом за Зиночкой, стараясь обходить засохшую грязь. Она застала подругу в спальне, прямо в одежде сидящей верхом на безжизненно раскинувшемся на кровати мужчине. Зиночка трясла его, выкрикивая в бледное неподвижное лицо:
— Влад! Проснись! Это уже не смешно! Где мой кокаин?
Заметив Татьяну, она простонала:
— Нет, как тебе это нравится? Этот мерзавец второй раз за сегодня оставил меня без кокаина!
На ковре рядом с кроватью в белой кокаиновой пыли валялась пустая железная коробочка от помады. Игла стоящего на подоконнике патефона, издавая змеиное шипение, царапала давно проигранную пластинку.
— Тата! Да выключи ты этот чертов патефон! — истерично завизжала Зиночка. — С ума ведь можно сойти!
Татьяна приблизилась к заваленному старыми журналами окну, сняла иглу с пластинки и выключила прибор. Пока она возилась с патефоном, Зиночка спрыгнула с кровати, метнулась в коридор, вбежала в ванную, через секунду оттуда раздался звук бьющей о фаянс струи, а еще через пару минут она вернулась с полным кувшином. Не сдерживая злости, Зиночка подбежала к кровати и выплеснула воду на спящего.
Отпрыгнула в сторону и, прижав к груди кувшин, смотрела, как, отфыркиваясь и сквернословя, медленно поднимается с постели массивная фигура в белой, прилипшей к телу рубашке и промокших насквозь брюках. Поднимается и достает из-за пояса револьвер. Татьяна тоже, как зачарованная, смотрела на медленно вскидывающуюся руку с оружием, на нацеленный в ее сторону револьверный ствол и краем глаза видела, как Зиночка выбегает из комнаты, плотно закрывая за собой дверь и оставляя ее один на один с вооруженным человеком, так нелюбезно разбуженным и жаждущим возмездия.
Как сквозь туман до Яворской донеслись глухие звонки в прихожей, затем чуть слышный хлопок входной двери, почти совпавший по времени с оглушительным грохотом выстрела. Перепуганная девушка изо всех сил зажмурилась и скорее почувствовала, чем увидела, как рядом с ней взметнулась плотная бархатная занавеска, приподнятая вошедшей в стену пулей.
— У него пистолет! — где-то далеко звенел голос Зиночки. — У него пистолет! Он убил Тату!
В следующий момент дверь в спальню распахнулась, в комнату шагнул высокий подтянутый военный, опрокинувший Влада на пол и отобравший у него оружие.
— Дайте ему в морду! — восторженно кричала вбежавшая следом Зиночка. — А потом вышвырните этого мерзавца в окно!
Но гость советам хозяйки внял не в полной мере, ограничившись только ударом Влада по физиономии и выпроваживанием за дверь. Почувствовав грубую силу, значительно его превосходящую, актер особо не сопротивлялся, покорно дав себя выставить из квартиры. Захлопнув за буяном дверь, победитель пригладил широкими сильными ладонями аккуратно подстриженные волосы, подправил тщательно подстриженные усики, одернул комиссарскую гимнастерку и, влажно глядя на Бекетову-Вилькину прозрачными серыми глазами, проговорил:
— Зинаида Евсеевна, позвольте представиться. Штольц Генрих Карлович, сослуживец вашего мужа. Я привез привет от Семена Аркадьевича.
— Вы появились очень вовремя, — обозначив ямочки на щеках, обольстительно улыбнулась хозяйка и, размахнувшись, отвесила Генриху Карловичу звонкую пощечину.
Санкт-Петербург, наши дни
Я вышла от академика, ежась от ночной прохлады. В освещенном полукруге арки виднелась трамвайная остановка, и я двинулась через темный двор. И испытала пару неприятных секунд, когда непроглядную тьму двора прорезал свет желтой фары и с оглушительным ревом, словно из ниоткуда, вынырнул мотоцикл. Подъехал, остановился, спешившийся мотоциклист сдернул шлем и оказался Сергеем, улыбающимся широкой мальчишеской улыбкой.
— Долго ты, Сонечка, знакомилась с Викентием Павловичем. Что, загрузил тебя дед? — сочувственно осведомился Меркурьев.
— Есть немного, — смутилась я.
— Книгу свою всучил?
— Ага. К завтрашнему дню я должна овладеть материалом.
— Сурово. А знаешь что? — он склонился над мотоциклом и начал отстегивать запасной шлем. — Давай я тебе в двух словах расскажу, в чем там дело, чтобы тебе всю ночь над мемуарами не чахнуть.
— Так это мемуары Викентия Павловича?
Протянув мне шлем, Сергей со значением произнес:
— Фактически. Это книга, основанная на реальных событиях. Ну что, поехали в какое-нибудь тихое местечко?
И, собрав короткий нос складками, сделал забавное умоляющее лицо.
— Поехали, только ненадолго, — согласилась я, перекидывая ногу через мотоциклетное седло и нахлобучивая шлем на голову.
Сергей надавил на гашетку, мотоцикл взревел и рванулся с места. Промчавшись по ночному Питеру, мы выскочили на окраину города и свернули к залитому огнями мотелю, рядом с которым светилась вывеска «Бар «Святые Моторы».
— Отличный фильм, хотя и артхаус, — вырвалось у меня, когда мы припарковались.
— Ты о чем? — удивился мой спутник.
— Я о названии бара. «Корпорация «Святые моторы» — так называется фильм Леоса Каракаса. Хороший режиссер, нетривиальный. Видел его картины?
— Нет, как-то не пришлось.
— Посмотри киноальманах «Токио». Снятый Каракасом эпизод называется «Дерьмо!». Кстати, в «Корпорации «Святые моторы» есть отсылочка к этому эпизоду. Забавно получилось. Правда, непросто смотреть. Эдакий фильм о снах, сны о фильмах. Неподготовленному зрителю лучше не пытаться.
— А ты необычная девушка, — внимательно взглянул на меня Сергей, помогая слезть с заднего сиденья мотоцикла. — С тобой интересно на досуге поболтать.
На парковочной площадке выстроились в ряд несколько десятков самых разномастных мотоциклов, да и в баре преобладали мужчины в косухах и кожаных штанах, и рядом с каждым лежал характерный шлем. Орал телевизор, стучали бильярдные шары, то тут, то там раздавались взрывы хохота. Тихое местечко, ничего не скажешь…
— Теперь понятно, отчего здесь устраивают кинопоказы и крутят артхаус, — заходя в заведение, обронил Меркурьев.
— И что же, люди на мотоциклах съезжаются сюда, чтобы увидеть «кино не для всех»?
Должно быть, недоверие прозвучало слишком явно, ибо Сергей приобнял меня за плечи и с укором проговорил:
— Соня, ты мыслишь стереотипами. Если байкер — то смотрит исключительно стриптиз и слушает «Мотли крю». Смешная ты. А если я скажу, что по пятницам здесь проходят концерты классической музыки? Ты очень удивишься?
— Ну-у, не знаю, — протянула я. — А сегодня здесь нет никакого концерта? Я бы с удовольствием послушала что-нибудь классическое, из Вивальди. Скажем, «Времена года», «Лето». То, что в исполнении Ванессы Мэй отчего-то называется «Шторм».
— Увы, сегодня здесь обычная тусовка. Серые будни. Без эстетствующих заскоков.
Мы уселись на деревянную скамью за грубо сколоченный стол, имитирующий стилистику салуна где-нибудь на Диком Западе, и Сергей протянул мне меню.
— Признайся, Соня, старик морил тебя голодом?
— Я сама отказалась от еды, — пробормотала я, отправляя в рот очередную пилюлю. Я больше не чувствовала уверенности, которая посетила меня этим утром. Теперь рядом с Сергеем меня снедала тоска.
— А теперь не откажешься?
— Пожалуй.
— Вот и отлично. Что будешь — стейк или ребра?
— Лучше стейк.
— Ты пиво пьешь?
— Я не люблю спиртное.
— А я бы выпил пивка.
— И после пива сядешь за руль.
Я не пыталась читать мораль, просто констатировала факт.
— Да перестань, — отмахнулся Меркурьев. — Мне кружка пива — что слону дробина.
К нам подошла официантка в такой короткой юбке, что дух захватило даже у меня, и равнодушно приняла заказ. Как только она отошла, Сергей накрыл мою руку своей ладонью и заговорил:
— Книга у академика получилась хорошая. Интересная книга. Но это не потому, что Граб второй Достоевский, просто материал у старика оказался богатый. Началось все с того, что в пятьдесят первом году что-то он там такое в своем училище нахимичил, и его как врага народа сослали в мордовские лагеря. И там, в Дубравном лагере, Викентий Павлович познакомился с примечательным вольнонаемным из хозобслуги. Звали его Немец, был он стар, болен и чудаковат. Ходили слухи, что Немец раньше был зэком и сидел аж с начала двадцатых годов, прижившись при зоне и не желая идти на волю. Немец выполнял черновую работу, при каждом удобном случае рассказывая всем желающим про несметные сокровища, хранившиеся в шкуре леопарда, убитого поэтом Гумилевым, и контрабандой вывезенные из Африки. Вроде бы эти сокровища каким-то образом попали к Немцу, и Немец их спрятал в Питере, в одной из гранитных беседок на Чернышевом мосту.
Наслушавшись рассказов блаженного, один из хронических сидельцев зоны — Гога Шпент — после очередного своего освобождения тщательно обследовал весь Чернышев мост, но ничего даже отдаленно напоминающего тайник не нашел и, когда опять угодил в Дубравный лагерь, так отметелил Немца, что тот стал заикаться. Но Гога Шпент со своими уголовными замашками оказался младенцем по сравнению с надзирателем внутренней службы лейтенантом Бурсяниным по прозвищу Палач. Этот Палач был неприметным парнишкой не старше двадцати пяти и держал в страхе всю колонию, изобретая такие изощренные пытки, что и Малюте Скуратову не снились. Когда лейтенант уходил в очередной отпуск, заключенные с облегчением вздыхали, ибо получали месяц передышки. В июле пятьдесят третьего Палач Бурсянин решил провести отпуск с пользой и наведаться в Ленинград, а за компанию уговорил поехать Немца — как коренной питерец, старик должен был показать любознательному надсмотрщику городские достопримечательности.
Покачивая бедрами, к нашему столу приблизилась официантка, индифферентно составила с подноса заказанное и молча удалилась. Я взглянула на принесенный стейк и отодвинула тарелку — аппетита не было, есть не хотелось. Сергей же придвинул к себе кружку, сделал большой глоток и, промокнув салфеткой пену с губ, увлеченно продолжил:
— Вернулись они в начале августа, и в тот же день Немец слег. Никому не хотелось на ночь глядя везти старика в больницу, и поэтому больного до утра поместили в лазарет, где лежал с воспалением легких Викентий Граб. Всю ночь Немец метался в горячке и бормотал, что Палач достал из тайника сокровища абиссинского негуса и что теперь всему конец — не создать ему самолета. Утром пришел с обходом капитан медицинской службы Завьялов, осмотрел Немца, послушал его бред и пришел к выводу, что старика жестоко пытали. К обеду Немец умер. Капитан написал рапорт на имя начальника Дубровлага полковника Черемисина, в котором изложил подробности происшествия, и просил провести расследование.
Лейтенант Бурсянин, не дожидаясь результатов следствия, поспешно перевелся в другое место, а потом и вовсе исчез в неизвестном направлении. Вместе с ним сгинула и тайна сокровищ абиссинского негуса. В пятьдесят четвертом году заключенный Граб вышел на волю, был амнистирован, под влиянием общения с Немцем заинтересовался историей Абиссинии, Гумилевым, Серебряным веком, да и, собственно, пропавшими сокровищами. Викентий Павлович внимательно изучил вопрос и выяснил, что в тринадцатом году двадцатого столетия из императорского дворца среди прочих сокровищ была похищена гемма царицы Савской — священная реликвия эфиопского народа, на которой указано место, где хранится Ковчег Завета. Викентий Павлович стал копать глубже и пришел к выводу, что на жителях Эфиопии это отразилось самым негативным образом — за время отсутствия геммы страна пришла в небывалый упадок.
Минули десятилетия, Викентий Граб сделался выдающимся историком-африканистом, удостоился звания академика, приобрел в научных кругах несокрушимый авторитет как специалист по Серебряному веку, но до сих пор не смирился с утратой геммы царицы Савской, продолжая розыски сокровища. Тайник он нашел, но в нем ничего не оказалось. Пропавшие из дворца абиссинские украшения время от времени всплывают на черном рынке, поэтому академик утверждает в своей книге, и не без основания, что только Палач Бурсянин мог забрать сокровища. По мнению Викентия Павловича, надсмотрщик сперва пытал Немца, а потом привез на мост и, угрожая новыми пытками, заставил открыть тайник и отдать содержимое. Также известно, что после смерти Немца лейтенант Бурсянин, опасаясь наказания за содеянное, уволился из ВОХР, уехал за границу и живет под чужим именем. Граб даже выяснил, под каким. Не сам, конечно, а с моей помощью.
Сергей многозначительно взглянул на меня и продолжал:
— Я имею некоторые связи в определенных кругах, и только потому нам удалось установить, что Палач пустил корни в Канаде, женился там, завел прибыльный бизнес, взял фамилию жены и под именем Мэтью Люка сделался владельцем фармацевтической корпорации. Два года назад Мэтью Люк скончался от болезни сердца, а его наследникам отошло приличное состояние и уважаемая фирма с солидной репутацией. Империя, созданная кровавым тираном на похищенные средства.
— Почему вы решили, что Палач Бурсянин — именно этот человек? Прошло столько лет, вряд ли можно узнать лейтенанта по фотографиям. Сохранившиеся снимки тех лет обычно нечеткие и расплывчатые, да и люди с возрастом меняются.
— Поверь мне, Соня, я знаю, о чем говорю. Люди, которые проводили расследование, отлично делают свое дело. Они выяснили много интересного. Прежде чем стать надсмотрщиком, Бурсянин учился на фармацевта, и бизнес, который Мэтью открыл в Канаде, — фармацевтическая корпорация. Затем — деньги на бизнес. Откуда эмигрант из России взял столько денег, чтобы хватило раскрутить такой сложный и дорогостоящий проект, как производство лекарств? И, наконец, в своей биографии Мэтью Люк ни разу не упомянул тот факт, что до пятьдесят третьего года служил в Дубравном лагерном управлении с центром в поселке Явас Зубово-Полонского района Республики Мордовия, печально известном как Учреждение ЖХ‐385, или особый лагерь для политзаключенных. Не хочу сказать, что это прямое доказательство его вины. Возможно, всего лишь совпадение. Но не много ли совпадений?
Он залпом допил пиво и сделал официантке знак повторить. Я крутила в руках тонкую ножку высокого фужера, наполненного минеральной водой, и задумчиво смотрела в окно.
— В общем, каждому, кто способен думать и сопоставлять факты, совершенно очевидно, что Палач Бурсянин и Мэтью Люк — один и тот же человек. О чем и пишет в своей книге Викентий Павлович. Ну, что скажешь о мемуарах академика?
— История и в самом деле интересная.
В какой-то момент я поняла, что шум в зале усилился, и огляделась по сторонам. Любители быстрой езды на мотоциклах перестали стучать бильярдными шарами, сгрудились у телевизора и включили звук на полную громкость. Пробирающаяся между ними официантка с трудом достигла нашего столика и, ставя пиво на стол, с упреком произнесла:
— Как дети малые, ей-богу! Каждый день что-нибудь случается, неужели до сих пор не привыкли к терактам?
— Что на этот раз взорвали? — насторожился Сергей.
— Витебский вокзал, — откликнулась официантка. — Много погибших и раненых. В основном пассажиры двенадцатичасового рижского поезда, ну, и провожающие.
Меркурьев изменился в лице и схватился за мобильник.
— Твою мать, — бормотал он сквозь зубы. — Олег должен был ехать на этом поезде!
Скрежеща зубами, Сергей дико глянул на меня, прижал аппарат к уху, дождался ответа и глухо проговорил в трубку:
— Добрый вечер, Меркурьев из пресс-службы управделами президента беспокоит. Есть какая-нибудь информация о пострадавших во время теракта? Опубликована на сайте? Я смотрел, ничего там не выложено. Ждать? Молодцы. Отлично работаете! Вот то-то же. Запишите — Олег Иванович Полонский. И сразу же звоните мне, как только станет что-нибудь известно.
В ожидании звонка Сергей сидел, сцепив на столешнице побелевшие пальцы, и хмуро смотрел в стену. Ему позвонили минут через пятнадцать. Молча выслушав, он отложил аппарат в сторону и мрачно взглянул на меня.
— Плохо, Соня, — с трудом разлепил он запекшиеся губы. Помолчал секунду и выдохнул: — Олежек погиб. В кармане одного из обгоревших тел нашли обрывок пропуска в издательский дом «Миллениум».
И вдруг он кинул на меня странный взгляд и потрясенно протянул:
— А ведь и ты должна была ехать с Полонским!
— Я? Почему я?
Сергей не ответил. Должно быть, я проговорила это так тихо, что Меркурьев меня не услышал. Вокруг все плыло, шум зала накатывал волнами, приближаясь и удаляясь, словно морской прибой.
— Ты понимаешь, Соня, что сегодня второй раз родилась? За твое второе рождение необходимо выпить, — откуда-то издалека прозвучал голос Сергея. — Да и Олежку надо помянуть.
И, не прибегая на этот раз к помощи официантки, поднялся из-за стола и отправился к барной стойке.
Он принес бутылку «Хванчкары». Разлил рубиновый напиток по бокалам и один протянул мне.
— Не чокаясь. За Олежку, — скорбно провозгласил он, опускаясь на скамью.
Выпил, обхватил руками голову, запустив пальцы в густые волосы, и с болью проговорил:
— Представить не могу, что Олега больше нет. Мы же с ним с самой юности вместе… Вместе на подготовительные курсы ходили, вместе в университете учились. Лучше Полонского у меня не было друга. И никогда не будет. Пусть земля ему будет пухом.
Сергей налил и выпил еще, после чего встряхнулся, как промокшая собака, сконцентрировал взгляд на моем лице и тихо произнес:
— Ты знаешь, Соня, что он тебя любил?
И, видя недоверие в моих глазах, с напором повторил:
— Да, любил. И собирался на тебе жениться.
Я потрясенно молчала, отказываясь что-либо понимать. Полонский меня любил? Никогда бы не подумала, что шеф способен на какие-либо чувства, кроме страстного обожания себя, любимого. А уж представить целлулоидного Олега Ивановича в качестве своего мужа не могу и подавно.
— Олега нет, но жизнь продолжается, — скорбно вздохнул Меркурьев. И снова наполнил бокалы. — И ты осталась жить, Сонечка! Дай Бог тебе здоровья. И долгих лет жизни.
Я никогда не пью, но тут, должно быть от растерянности, выпила.
— Без Олега тебе в редакции будет трудно, — задумчиво протянул Сергей. — Полагаю, лучше всего тебе оттуда уйти. Не волнуйся, я тебя не брошу на произвол судьбы. Очень надеюсь, что вы с Викентием Павловичем поладите и ты останешься работать у него. А если нет — пристрою тебя еще куда-нибудь. В память об Олежке.
Когда пришло время вставать из-за стола, я поняла, что ноги перестали меня слушаться. Предприняв несколько безрезультатных попыток покинуть зал самостоятельно, я убедилась, что это нереально, после чего Сергей помог мне дойти до номера. Блаженно прикрыв глаза, я размышляла дорогой, что, может быть, это судьба и рядом с Сергеем я и в самом деле обрету долгожданный покой.
Я обвела глазами прохладный уютный номер, где по обе стороны от широкой кровати горели голубые ночники, делая комнату похожей на подводное царство. Однако ожидания не оправдались. Лежа на свежих простынях и чувствуя на теле поцелуи Сергея, я ощущала себя русалкой, подвергшейся насилию со стороны ретивого пирата. Мне очень не нравилось все то, что он делает, и я порывалась об этом сказать.
Но снова и снова Сергей закрывал мне поцелуем рот, в который раз неутомимо принимаясь за любовную игру. И тогда я вдруг осознала, что Жанна права и Меркурьев эксплуатирует мое тело. Вот прямо сейчас эксплуатирует, когда я не желаю этой близости и всячески даю ему это понять, а Сергей принимает мое слабое сопротивление за кокетство. Когда Меркурьев, наконец, заснул, я, преодолевая дурноту, пролежала до рассвета, собираясь с силами. Затем все-таки встала, тихо оделась и, стараясь ступать неслышно, вышла из номера.
Петроград, 1921 год
Генрих Штольц лукавил — командир семьдесят девятой бригады Рабоче-Крестьянской Красной Армии Семен Вилькин привета жене не передавал. Прежде чем занять высокую командирскую должность, Вилькин проделал долгий и трудный путь. Осенью восемнадцатого года Азраэль без ведома руководства левых эсеров пробрался в Москву, а оттуда в Белгород, на границу с Украиной, и вместе с анархистами-махновцами занялся подготовкой покушения на адмирала Колчака. И непременно бы его убил, если бы левые эсеры не арестовали лидера белогвардейского движения в Иркутске.
Близ Кременчуга Вилькин попал в плен к петлюровцам, которые хотели его убить, но не добили и бросили в поле умирать. Раненого Азраэля подобрали красные, но выяснив, кто он, тоже приговорили к расстрелу и расстреляли бы, только Вилькиным заинтересовался лично Лев Троцкий. Особая следственная комиссия по согласованию с президиумом ВЦИКа и с одобрения председателя ВЧК Феликса Дзержинского амнистировала Семена Аркадьевича Вилькина, заменив смертную казнь «на искупление вины в боях по защите революции». Новый боец спешно закончил военные курсы РККА и был направлен на передовую. Где и познакомился с Генрихом Карловичем Штольцем, назначенным к нему заместителем.
О Зинаиде Евсеевне они разговаривали всего один-единственный раз, и было это в публичном доме мадам Соловей. Комбриг Вилькин предпочитал посещать это заведение вместе со своим заместителем Штольцем, ибо только в отлично воспитанном и прилично образованном инженере немецкого происхождения видел себе равного, остальных подчиненных считая за быдло.
Эти двое были очень разные и, должно быть, именно поэтому довольно коротко сошлись. Большеголовый, плотный, черноволосый Вилькин, вечно одетый как попало, говорил громким голосом и в выражениях не стеснялся. В то время как светлоглазый худощавый блондин Штольц являл собой настолько отутюженный благовоспитанный типаж, что больше походил на образцового распорядителя кафешантана с кабинетами, чем на заместителя красного командира. В тот запомнившийся Штольцу вечер Вилькин, развалившись на салонных подушках и покуривая, жаловался заместителю на непростую свою жизнь.
— Угораздило же меня жениться! Пока с моей Зинаидой Евсеевной не поговоришь, друг ты мой Штольц, не поверишь, что такие дуры бывают! Правда, прехорошенькая. На то и соблазнился. Ну, и от скуки еще. Торчал в проклятущей Африке, отвык среди черных обезьян от нормальных баб, вот и показалась первая встречная блондиночка — королевой.
Штольц с пониманием улыбнулся и, желая угодить, уточнил:
— А что это вас, Семен Аркадьевич, в Африку потянуло?
— Да стишата одного поэтишки иллюзию внушили, будто бы в Африке этой сады Эдемские и совершеннейший рай, — дымя папиросой, с хрустом потянулся Вилькин. — Гумилев его фамилия, может, доводилось слышать?
— Не слышал никогда, — огорчился подчиненный.
— А я вот имел сомнительную честь с ним лично познакомиться, — командир семьдесят девятой бригады Рабоче-Крестьянской Красной Армии затушил окурок в пепельнице, изображавшей нагую нимфу, и потянулся к бутылке бордо. — Как раз изнывал от скуки в Аддис-Абебе и размышлял, а не жениться ли мне на девице Бекетовой. У посла мы с этим самым Николаем Степановичем и познакомились. Пренеприятнейший, доложу вам, тип. Гордец и выскочка. Наврал, подлец, что закончил Сорбонну. Позже я навел о нем справочки. Ничего этот Гумилев не заканчивал. Год проучился в Петербургском университете, год в Сорбонне, но так и не довел нигде дела до конца. Он и гимназию-то с трудом окончил. Наглый лжец и самозванец. Тумана напускает, интересничает! Жена посла все удивлялась, отчего это после свадебного путешествия в Париж Гумилев сразу же покинул молодую жену и отправился в Абиссинию. А разгадка, друг Штольц, проста! Пока Гумилев посещал музеи, супруга его спуталась с художником-итальяшкой, и этот самый Модильяни рисовал с нее непристойные картинки. Ну, поэт наш узнал, расстроился и уехал в Африку. А в посольстве наплел, что долгими отлучками поддерживает в супруге пламя страсти.
— Зная вас, Семен Аркадьевич, могу предположить, что вы прямо высказали все, что о нем думаете, — польстил Штольц.
— Нет, не стал, — махнул рукой Вилькин. — Не захотелось дам расстраивать. Я же виды на эту чертову куклу Зиночку имел. За что горько поплатился. Оказалась Зинаида Евсеевна шлюхой, дурой, да к тому же и кокаинисткой. Если бы не Гумилев, ни за что бы на ней не женился. Очень меня Николай Степанович разозлил, заигрывая с Зинкой. Стихи ей посвятил. Ну, да я тоже в долгу не остался. Такую шутку с поэтишкой сыграл! Заставил курьером на себя поработать. Причем, заметьте — не заплатил ему за транспортировку сверхценного груза ни копеечки! Более того, поэт наш даже не в курсе, что у него в прибывшем в Россию багаже до сих пор находится мой тайник!
— Вы уверены, что ваш груз до сих пор у него?
— Абсолютно. Я затребовал перечень переданных Гумилевым в Академию наук африканских экспонатов, и моего тайника среди них не оказалось. До поры до времени пусть груз у Гумилева побудет, так надежнее. Да и груз тот — смешно сказать. Это тогда мне казалось, что цены он необыкновенной. А теперь я понимаю, что все это мишура. Мне товарищ Троцкий многое объяснил. Ты, говорит, Семен Аркадьевич, не там для народа своего счастье ищешь. Мировая революция — вот что сделает всех нас счастливыми.
На том разговор о Зинаиде Евсеевне и закончился, плавно перейдя на достоинства и недостатки девочек мадам Соловей. И вроде бы начал этот разговор забываться, но пару месяцев назад привели задержанного. Вражеский лазутчик пробирался от передовой к хате комбрига, намереваясь зарубить Вилькина спрятанной под рубахой шашкой. Злоумышленника задержали и доставили на допрос. Мальчишка лет шестнадцати с ходу плюнул Вилькину в лицо и, опасаясь, что его убьют прежде, чем он успеет закончить, зачастил:
— Я сразу догадался, что из царского дворца в Аддис-Абебе сокровища украли вы, а на батю моего свалили!
— Ты что же, фельдшера Лутошина сынок? — в голосе комбрига на долю секунды послышалась растерянность. А уже в следующий момент Вилькин потемнел лицом и кинул заместителю через плечо:
— А ну-ка, Генрих Карлович, сходи, бойцов проведай!
Штольц покорно поднялся с лавки и вышел из хаты, пристроившись с папиросой у открытого окна.
— Ты, парень, ври, ври, да не завирайся! — донесся до него раскатистый голос Вилькина. — Меня на корабле досматривали и никаких сокровищ не нашли.
— Это потому, что вы сокровища в шкуру спрятали.
— Что ты несешь, дурак? — загрохотал комбриг, и Штольц, стараясь не дышать, шагнул к открытому окну поближе.
— Я видел, как накануне ограбления вы дождались, когда отец и мать уйдут к больному, вошли в наш дом и взяли со стола коробочку со снотворными порошками. После этого я стал за вами следить! — частил мальчишка. — Я своими глазами наблюдал, как в ночь ограбления вы что-то подсыпали императорской охране в тэдж![17] Я неотступно следовал за вами и видел, как вы отвезли к испанцу тушу зверя. Чучельник хорошо сделал, красиво. И зубы у зверя прямо как настоящие, и глаза. А потом я видел, как вы вернулись в свой номер в гостинице, достали из туго набитой головы кокосовую стружку и вложили на освободившееся место украденные сокровища! Я тогда маленький был и не мог никому ничего доказать. Из-за вас моего отца приговорили к казни, — не переставая тараторил мальчишка, — и мать своими собственными руками разрубила его на глазах у жителей города. Потом она сошла с ума, меня усыновили Сольские, а я поклялся, что найду вас и убью. Если бы меня сегодня не поймали, вы были бы уже труп! Гореть вам в аду за все ваши дела!
В хате раздались револьверные хлопки.
— Чего несет, дурачина! — раз за разом спуская курок, сквозь зубы цедил Вилькин.
По тону Генрих понял, что комбригу не по себе, и возвращаться к нему не стал. Всю ночь Вилькин пил самогон в полном одиночестве, а утром английским снарядом накрыло их хату. Штольц ночевал на сеновале, потому и пострадал не сильно — его только слегка контузило. В центральном госпитале инженер не задержался, через месяц выписался. А Вилькин, хоть и выжил, в госпиталь попал надолго.
Семена Аркадьевича старательно и кропотливо собирали по частям, причем заместитель искренне надеялся, что так и не соберут. После ранения полагался отпуск, и Генрих Штольц отправился было к отцу, перебравшемуся в деревню. Но нафаршированная эфиопскими сокровищами шкура, вывезенная еще до войны поэтом Гумилевым из Африки, не давала покоя. К тому же мучил вопрос, ответ на который, кроме Гумилева и самого Вилькина, похоже, знала только Зинаида Евсеевна. А именно — какому зверю шкура принадлежала.
Услышав о сокровищах, Штольц сразу же решил, что приложит все усилия, чтобы ими завладеть. Средства были ему крайне необходимы для реализации мечты. Давней заветной мечты — проектировать моторные самолеты, о чем и слышать не хотел его отец, потомственный строитель мостов, сердито говоривший, крестясь на лютеранский манер, что строить самолеты людей надоумил дьявол, а возводить мосты сподобил Бог. Сюда, в Россию, прадеда Штольца — знатного нюрнбергского мостостроителя — привез сам царь Петр Алексеевич. С тех далеких времен мужчины в их семье ничем, кроме строительства мостов, не занимались.
Но сокровища эфиопского негуса могли все изменить. Имея деньги, и, судя по всему, немалые, Генрих вернулся бы в Германию — страну укоренившегося порядка, не то что распущенная во всех отношениях Россия. Вернулся и воплотил бы свою мечту. Штольц нанял бы специалистов, организовал производство по примеру английского «Хэндли-Пейдж». Или французского «Вуазен». Либо немецких «Эйлер», «Калих», «Шадер». И начал бы выпускать такие самолеты, что все бы ахнули. В общем, как-то так само собою получилось, что Штольц не поехал к отцу в деревню, а отправился прямиком на квартиру Вилькиных.
Дорогой инженер навел справки о поэте и выяснил, что Гумилев — человек оригинальный. Слывет ловеласом и берется практически любого научить писать стихи. Для этого Николай Степанович организовал некий цех наподобие масонской ложи, где дает мастер-классы поэтического искусства. Решение пришло само собой — свести знакомство с женой комбрига, разузнать подробности насчет драгоценной шкуры и уговорить легкомысленную Зинаиду Евсеевну записаться на поэтические курсы, тем более что когда-то, если верить Вилькину, поэт посвятил прекрасной ветренице стихи. Штольц не сомневался в том, что подружится с Зинаидой, ибо умел найти подход к не слишком требовательным дамам.
В справочной Штольцу дали адрес, и инженер явился к мадам Вилькиной. И надо же случиться такой удаче, попал как раз на скандал со стрельбой. Достаточно было одного взгляда на происходящее, чтобы понять, что стрелял любовник неверной супруги комбрига, и Штольц выставил мерзавца вон, полагая, что тем самым заслужил несомненное расположение обворожительной хозяйки. Но та, перестав демонически хохотать вдогонку поверженному врагу и узнав, кто ее гость, неожиданно пришла в ярость и ни с того ни с сего ударила Генриха по лицу, злобно выкрикивая:
— Вы подлый доносчик! Это муж прислал вас шпионить? Так идите, расскажите Вилькину, что застали у меня любовника и Влад едва не пристрелил мою подругу!
Потрясенный гость стоял перед разгневанной женщиной и не знал, как реагировать на ее странную выходку. Первой опомнилась та самая спасенная подруга. В испуганных глазах ее блеснули слезы, и девушка просительно зашептала:
— Зиночка, успокойся, он ничего плохого не сделал. Приятель твоего мужа не глупый человек и понимает, что Влад не твой любовник, а мой. И что стрелял в меня из ревности.
Бекетова-Вилькина замолчала, словно споткнулась. И вдруг зарыдала, выкрикивая теперь уже в адрес подруги:
— Тебе хорошо говорить, Таточка! Твой любовник, мой! Какая разница? А у меня больше нет кокаина! Нисколечко нет!
А подготовленный Штольц немедленно протянул бьющейся в истерике Зинаиде заранее припасенный порошок. И вот уже радостная улыбка осветила ее лицо, а в глазах засиял неподдельный восторг. Жена комбрига торопливо схватила коробочку, раскрыла, запустила внутрь пальцы, извлекла щепотку, бережно пристроила зелье на кулак между указательным и большим пальцами, судорожно вдохнула и блаженно прикрыла глаза. И в тот же миг случилась чудесная метаморфоза — от злобной истерички не осталось и следа. Через минуту она уже суетилась в гостиной, накрывая стол и изображая гостеприимную хозяйку. На не слишком-то чистой скатерти появилось блюдо с сочными ломтями ветчины, белый хлеб, сливочное масло, мадера и шоколадные конфеты — по тем временам роскошь необыкновенная.
— Прошу меня простить, почти все съедено и выпито, придется довольствоваться тем, что чудом еще сохранилось, — рассаживая гостей на легкие венские кресла с гнутыми ножками и играя глазами, кокетничала разрумянившаяся Зиночка.
Принятая доза явно пошла ей на пользу, отметил про себя Штольц. Дамочка сделалась весела, радушна и общительна. А вот Татьяна… На Татьяну он боялся смотреть. Стоило его взгляду случайно скользнуть по ее тонкой фигуре, как дыхание перехватывало и сердце замирало, готовое остановиться совсем. Она была невероятно похожа на Ванду Борецкую, с которой во время гастролей Варшавского театра в Петербурге у Генриха был роман.
Инженер увидел ее в «Сирано де Бержераке», где Борецкая играла Роксану. Увидел и больше уже не пропустил ни одной постановки с участием Ванды, хотя и работал в то время вместе с инженером Кривошеиным над реконструкцией Чернышева моста. Мост имел каменные опоры и арочные береговые пролетные строения, а центральный деревянный пролет во времена постройки был разводным. Разводные механизмы находились в четырех гранитных башнях, симметрично расположенных на мосту.
Позже центральный пролет перекрыли чугунными сборными клиньями, и разводные механизмы утратили свою практическую значимость. Городской управой было решено разобрать разводной пролет и снести надмостные башни, расширив проезжую часть. Однако на защиту одного из красивейших архитектурных сооружений Петербурга встали Академия художеств и Общество архитекторов, потребовав сохранить все конструктивные особенности моста в первозданном виде. Штольцу пришлось тогда тяжело — он метался между Городской управой и защитниками архитектурного памятника, изыскивая время еще и для посещения театра, чтобы после спектакля преподнести Ванде букет ее любимых орхидей.
Актриса не оставила без ответа пылкие ухаживания инженера и даже намекнула на свое желание выйти за Штольца замуж, вызвав недоумение напористостью. В планы Генриха женитьба на Ванде никоим образом не входила, ибо тогда с мечтой о самолетостроении пришлось бы распрощаться. Ибо жениться он сбирался только на девице с хорошим приданым, чтобы разбогатеть. В том, что любая купчиха сочтет за честь породниться с дворянином немецких кровей, Генрих не сомневался. Не получив внятного ответа, Ванда Борецкая уехала с неким корнетом, оставив после себя горький привкус разочарования и утраченных иллюзий. И вот она снова перед ним, его Ванда, только моложе, красивее и не требует на ней жениться.
Вечер подруги провели за мадерой и чтением стихов Гумилева, томик с которыми как бы случайно оказался в вещмешке прибывшего с фронта гостя. Стихи были пряные, душистые, загадочные, они будили фантазию и звали в путь. Устроившись в кресле и подобрав под себя ноги, Татьяна несколько раз робко заводила разговор о Гумилеве, желая выяснить, приятный ли он мужчина. И всякий раз Зинаида отзывалась о поэте самым противоречивым образом, то называя смельчаком, то трусом, то красавцем, то уродом.
— Гумилев правильно сделал, что развелся с Ахматовой. Терпеть ее не могу, — рубила сплеча Зиночка, принимая из рук Генриха очередной бокал с вином. — На редкость неприятная особа. Да и поэзия вещь никчемная. Пустая трата времени.
— Хороших поэтов и в самом деле немного, но Гумилев — один из них. Он создал цех поэтов и учит всех желающих писать стихи, — как бы между прочим ввернул Штольц. — Я видел афишу.
— Я тоже видела на углу Бассейной и Суворовской афишу об очередном наборе в Институт живого слова, — оживилась Татьяна. — Пишут, что там готовят актеров, поэтов и ораторов. И, верно, в афише указано, что Гумилев набирает учеников.
Зиночка даже застонала от счастья, вдруг почувствовав, что в ее жизни появился смысл. Институт живого слова, где готовят поэтов! Где преподает Гумилев! Она и не знала, что такой институт существует. Все! Решено! Она будет поэтом!
— И очень хорошо! — тряхнула головой хозяйка, настроение которой снова поменялось. — Я чувствую в себе несомненный поэтический дар. Даже подумать страшно, как я могла все это время жить без стихов, без Гумилева…
В голосе ее звучала экзальтация, в заломленных руках угадывалась плохая актерская игра.
— Бедный, бедный! — продолжала она, закатывая глаза. — Он, должно быть, до сих пор не может меня забыть. Вот удивится, когда меня увидит! Завтра же мы с Татой пойдем и запишемся в этот самый институт! Где, Тата, говоришь, он находится?
— Я не смогу ходить на занятия, — покраснела Татьяна. — Днем я на службе, в больнице.
— Да брось! Кому нужна твоя служба в больнице? — презрительно скривилась хозяйка, отчего красивое лицо ее сделалось неприятным. И романтично прикрыла глаза: — Нужно жить поэзией! Это возвышенно и прекрасно.
— А как же продуктовые карточки? — не сдавалась Таня.
С продовольствием в те годы у семей, подобных Таниной, дела обстояли хуже некуда. В хлеб добавляли опилки, пекли лепешки из кофейной гущи и картофельных очистков, рыбу ели с головой и костями, а испортившиеся продукты не выкидывали.
— Какая ты глупая! — снисходительно взглянула на подругу Зиночка. — Зачем тебе карточки, если ты будешь жить у меня? Еды достаточно, как жена комбрига, я получаю командирский паек. Я права, Генрих Карлович? — кокетливо улыбнулась она Штольцу.
— Несравненная, вы не можете быть неправой, — польстил гость. И осторожно поинтересовался, сочтя момент подходящим: — Зинаида Евсеевна, а что за история с африканской шкурой, которую привез Гумилев? Семен мне рассказывал, да я так и не понял, что это был за зверь.
— Обычная история, — капризно дернула плечом Бекетова-Вилькина. — Спасая меня, Гумилев пристрелил черного леопарда. Этому зверю поклоняются туземцы Абиссинии, даже создали целый культ. Будто бы кто убьет леопарда, заберет себе девять его жизней. Теперь Николай Степанович практически бессмертен. Если, конечно, люди-леопарды до него не доберутся и не порвут зубами горло.
Африканские сказки Штольца не интересовали, но самое главное он узнал, и теперь его занимало, как выйти на Гумилева и добыть шкуру леопарда.
Санкт-Петербург, наши дни
Рассвет окрасил предместье Питера всеми оттенками розового. Здание бара залил алый цвет, стоящие у мотеля такси отливали нежной фуксией. Я расположилась в салоне одной из машин и попросила отвезти меня на набережную Фонтанки. Не скрою, меня заинтриговал рассказ Сергея, и мне не терпелось взглянуть на Чернышев, ныне Ломоносовский, мост, в одной из беседок которого когда-то были спрятаны сокровища. Сам мост, соединяющий Спасский и Безымянный острова, я отлично знала, но то, что в нем находится тайник, заставляло взглянуть на мост по-новому.
Мы доехали до улицы Ломоносова, машина остановилась, и я вышла около дома купца Елисеева. Редкие прохожие, по виду туристы, неспешно прогуливались по утреннему городу. На противоположной стороне улицы виднелась громада моста, освещенная гранеными фонарями, поддерживаемыми кронштейнами с золочеными фигурками морских коньков. И возвышались гранитные беседки, к которым я и устремилась.
Двигаясь по мосту вдоль чугунных перил, я дошла до ближайшей беседки и принялась осматривать гранитные столбы. Их было четыре, и все они являли собой цельные колонны с декоративными накладками из того же бордового гранита. Недоумевая, где здесь можно расположить тайник, я осмотрела первую колонну и двинулась к колонне номер два. Затем перешла к следующей, и так обошла все четыре колонны, испытывая страшные неудобства. Все-таки туфли на каблуках — обувь не для следопытов. Вот кроссовки, безусловно, для прогулок максимально комфортны, в этом Жанна права.
Вспомнив, что видела поблизости сине-белую вывеску «Спортмастера» и припоминая, что этот магазин работает круглосуточно, я устремилась туда в надежде разжиться удобной одеждой. Время от времени в голове всплывало смутное воспоминание о главном редакторе, и я не могла сформулировать, какие чувства во мне вызывает приключившееся с Олегом Ивановичем несчастье. Пожалуй, мне его определенно будет не хватать. Как шеф он меня очень даже устраивал. Надо же, собирался на мне жениться! Кто бы мог подумать.
Не помню, как добралась до дома, как поднялась на свой этаж и вошла в квартиру. Помню только, что разделась, приняла душ и забралась в кровать. Стоило мне коснуться головой подушки, как я сразу же погрузилась в липкое забытье. То ли сон, то ли явь. Скорее, все-таки сон, но очень тяжелый. Проснулась оттого, что Катюня сидела рядом, гладила меня по лицу и, отчаянно картавя, с восторгом говорила:
— Соня, ты похожа на класивую-пликласивую летучую мышь! Сонь! А Сонь! К нам плиходил Алексей, а твой папа его с лестницы спустил!
При упоминании Алексея в памяти смутно всплыл стойкий запах одеколона «Шанель Платинум», а также размытый образ парня с ухоженной окладистой бородой и лихо закрученными в барбер-шопе усами.
— А потом плишла Жанна со своим нехлом, Алексей испугался и ушел.
И Катюня хитро на меня посмотрела, ожидая ответной реакции на ее слова. Но я молчала.
— Сонь, ты слышала? — возмутилась малышка. — У Жанны палень — нехл!
— Ну и что, что негр? — улыбнулась я, потрепав малышку по пшеничным кудрям.
— Как что? Как что? — надулась она. — Ты что, Соня, не понимаешь? Жанна лодит малыша и отдаст мне нянчить! Мы пойдем гулять, и все на нас будут оболачиваться и говолить — смотлите, маленький нехл!
В приоткрытую дверь спальни заглянула Жанна и победоносно провозгласила:
— ИМХО![18] Катерина права! Наше общество так устроено, что женщина не может выбирать, с кем ей встречаться! В этом мерзость навязываемых нам стереотипов. Почему я не могу полюбить чернокожего парня? Только потому, что стану мишенью упреков и насмешек?
— И давно ты встречаешься с чернокожим парнем? — ради приличия поинтересовалась я, хотя мне, честно говоря, без разницы.
Лицо Жанны перекосилось от ярости.
— И ты туда же! — выдохнула она. — Допустим, недавно. И что с того?
— Жанна с ним на улице познакомилась, — захлебывалась восторгом Катюня. — Нехл милостыньку плосил. Говолит, из института его выгнали, а домой ехать — денежек нету.
— Давай, давай, рассказывай! — презрительно усмехнулась Жанна. — Трепло несчастное!
— А чего слазу тлепло? — надулась малышка. — Сама нехла домой пливела, а тепель обзывается.
— Ты привела своего друга к нам в дом? — недоверчиво переспросила я. Это уже касалось меня самым непосредственным образом. С помощью Жанны наша квартира как-то слишком стремительно обрастала новыми жильцами. Сначала она сама, потом Катюня, теперь вот этот парнишка…
— Why not?[19] — холодно осведомилась кузина. И тут же ринулась в атаку: — Ты так спрашиваешь, потому что он черный? То есть если бы я пришла сюда с белым парнем, тебя бы это нисколько не смутило. Я правильно понимаю?
В ее голосе явственно прозвучали металлические нотки, которые я так не люблю. И я тут же дала слабину и пошла на попятную.
— Да нет, ну что ты, мне совершенно все равно, как выглядит твой друг, лишь бы человек был хороший, — смущенно забормотала я, свесившись с кровати и ища глазами тапки.
— Он холоший! Холоший! — скакала по кровати Катюня. — Плавда-плавда! Пойдем-пойдем, сама посмотлишь!
— Он что, все еще здесь? В квартире? — понизила я голос от охватившего меня неприятного предчувствия.
— А где же ему быть? — с вызовом откликнулась Орлянская Дева. — Не на улице же мне его оставлять.
Я накинула халат поверх ночнушки и двинулась за Катюней, радостно топающей впереди меня в направлении комнаты отца. Из приоткрытой двери отцовских апартаментов доносились глухие удары — подобные звуки обычно сопровождают папину утреннюю разминку. Я заглянула в комнату и увидела блестящего от пота чернокожего парня, руками и ногами отчаянно молотящего грушу. Отец стоял рядом и одобрительно смотрел на спорую работу странного гостя. Если не считать желтых плавок и амулетов на шее, парень был совершенно наг, татуирован и сложен как бог.
— Прошу меня извинить, — попятилась я назад, — у меня не получится вместе с вами позавтракать, ибо я должна срочно ехать на работу. Вы тут сами, не стесняйтесь. Жанна и папа обо всем позаботятся.
— О’кей, — выдохнул парень, обрушивая новую порцию ударов на боксерский снаряд, а папа покосился на гостя и показал мне большой палец.
Я прикрыла дверь отцовской комнаты и устремилась в ванную — умываться. Катюня топталась под дверью и ныла, требуя, чтобы я сегодня осталась дома. Мне снова пришлось ее утешать.
— Нет, моя девочка, не получится. Сегодня у меня много важных дел, — ведя ее за пухленькую ручку на кухню, оправдывалась я. — Я даже не знаю, смогу ли я сегодня вечером вернуться домой. Я уезжаю в командировку.
Не доходя до кухни, Катюня уселась на пол и отказалась вставать до тех пор, пока с ней не поиграют. Я знаю эти ее уловки и на них не попадаюсь. Поэтому я сделала равнодушное лицо, перешагнула через Катюню и толкнула, открывая, дверь. Подобрав под себя ноги, Жанна сидела на кухонном диване и размещала в интернете очередной пост, дожидаясь, когда сварятся поставленные мною на плиту яйца.
— Я что-то пропустила? Ты едешь в командировку? — не отрываясь от своего занятия, без особого интереса осведомилась она.
И я подробно поведала кузине о событиях последнего дня. В ходе моего рассказа Жанна перестала стучать по клавишам, подняла от ноутбука угрюмое лицо, сняла очки, устремив на меня горящий взгляд, и я прямо-таки физически ощутила исходящую от нее ярость.
— To tell the try[20], — когда я замолчала, желчно начала она. — Я еще не видела этого старого хрена, твоего академика, а уже ненавижу его всей душой. Он так и сказал «малограмотная»? Он обозвал тебя простушкой? Вот тварь! На ладан дышит, старый сексист, а туда же — щелкает по носу!
В данном ключе я ситуацию не рассматривала и потому не смогла скрыть удивления:
— Ты серьезно? Ты полагаешь, Викентий Павлович сексист?
— Ты что, сама не видишь?
— Честно говоря, мне показалось, что старик так говорил со мной не потому, что я женщина, а потому, что многого не знаю.
— Да брось! Твой Граб недооценивает тебя по гендерному признаку! Будь ты парнем, он язычок-то прикусил бы, ибо от мужика недолго и по роже схлопотать! А так известная песня: все бабы дуры, что с нас взять! В общем, можно нести все, что в голову взбредет, мы же постоять за себя не сможем! Посмотри, там яйца всмятку не сварились?
Я не стала говорить, что это мои яйца всмятку, что я их ставила вариться для себя. Зачем раздражать и без того раздраженную родственницу? Просто оделась и поехала к академику Грабу. По дороге позавтракала в круглосуточном «KFS», подумав, что со стариком, возможно, придется весь день довольствоваться одним только кофе. В ресторан заходить не стала, памятуя о вчерашнем отказе Викентия Павловича отобедать — значит, еда у академика есть. И сразу же направилась к нему.
Долго возилась с дверью подъезда, пытаясь отпереть заедающий замок старинным ключом, затем ждала лифт — его хоть и починили, но двигалась кабина между этажами на удивление медленно. Снова возилась с замком, теперь уже в двери квартиры Граба, и, когда наконец-то открыла, увидела в прихожей возбужденного академика. Он ждал меня при полном параде — в просторных вельветовых брюках песочного оттенка и в мягкой замшевой курточке в тон. Из расстегнутого ворота джинсовой рубашки выглядывал шейный платок с огурцами — расчесанная на две стороны борода позволяла рассмотреть все нюансы шелкового аксессуара. Стриженные в кружок волосы академик Граб тоже зачесал на аккуратный пробор, и, в общем, создавалось впечатление, что Дед Мороз сменил амплуа и заделался европейским пенсионером, тратящим скопленные за жизнь деньжата на путешествия по миру.
— Викентий Павлович! Какой вы нарядный, — вырвалось у меня вместо приветствия.
— И вы здравствуйте, Софья Михайловна, — высокомерно откликнулся старик, указывая на мою промашку в этикете. — Сейчас покушаем и поедем, — потер он маленькие ладошки. — Признаться, я страшно голоден. — Он оглядел меня и разочарованно протянул: — А где же еда?
Я ощутила себя идиоткой. И сбивчиво заговорила:
— Сейчас только семь часов утра — обедать вроде бы рановато.
— Мне, конечно, лестно, Софья Михайловна, что вы полагаете, будто бы я святой, — насупился он, — и что могу пробавляться манной небесной, но все же хотелось бы отведать что-нибудь материальное. Вроде шницеля и пюре.
— Может, вчерашнее подогреем? — попыталась я спасти ситуацию, но академик меня даже слушать не стал, раздраженно оборвав:
— Вчерашнее я съел вчера. Сразу же после вашего ухода. Вы же не соизволили меня покормить.
— Одну минуту, сейчас я сбегаю в ресторан, — засуетилась я, пятясь на лестничную площадку в незапертую дверь.
— Поторопитесь, мы можем опоздать на поезд! — крикнул он вдогонку.
Ел он с аппетитом, словно и в самом деле давно не кушал.
— Кефирчик принесли? — собирая с тарелки последним кусочком шницеля остатки пюре, поинтересовался Викентий Павлович.
— У вас же есть кефир, стоит в холодильнике, — глухо проговорила я.
— В холодильнике уже ничего не стоит. Холодильник пуст и чист. Я сам его помыл — вас же не допросишься. Если не принесли, так и скажите. Тогда сварите кофе. И коньячку плесните.
— Вы же вчера сказали, что коньяк в кофе — только два напитка портить…
— Спорить вы горазды! Делайте, что вам говорят! И поехали уже, чего вы расселись?
Кофе с коньяком он допивал в прихожей, сидя на пуфике и глядя на то, как я завязываю замшевые штиблеты на его ногах. Я чувствовала себя Золушкой, в недобрый час попавшейся злой сестрице под горячую руку. То ли штиблеты усохли, то ли нога старика отекла, но обувь отчего-то ему жала, о чем он не упускал случая сообщить мне.
Мы шли через двор к шлагбауму, около которого нас ждало такси. Я несла чемодан академика, кейс и сумку с ноутбуком, а старик хромал за мной и говорил:
— Софья Михайловна, нельзя же так! Кто вас просил так туго затягивать шнурки? Я совсем не могу идти! Да постойте же! Я сотру себе в кровь все ноги! Вы не знаете, что такое боль, а я в лагерях натерпелся. Мне ни в коем случае нельзя испытывать болевые ощущения, у меня может сердце не выдержать.
— Что вы предлагаете, Викентий Павлович? — старалась не раздражаться я.
— Ну, не знаю. Это уж вы, голубушка, думайте сами.
Мы одолели большую часть двора, когда я приняла решение.
— Стойте здесь. Я попрошу таксиста заехать с другой стороны дома и забрать вас прямо отсюда.
— И что, от этого у меня ботинки жать перестанут? — страдальчески скривился старик.
Он больше не походил на Деда Мороза. И даже не был похож на европейского туриста. Теперь академик Граб был вылитый злобный гном. Зазвонил смартфон, и я опустила багаж на землю.
— Что вы делаете, Софья Михайловна?! — старик сердито дернул меня за руку. — Разве можно ноутбук ставить на грязный асфальт?
Я молчала, придерживая кейс с ноутбуком ногами и сосредоточенно роясь в дамской сумочке. Нашла аппарат, ответила на вызов и услышала в трубке голос Сергея:
— Привет, Сонечка! Как же так можно, уезжать не попрощавшись? Да еще после такой сумасшедшей ночи? Я уже скучаю по тебе, солнце! Ну, как старик? Терзает тебя?
— Вовсе нет, — откликнулась я. — Мы едем на вокзал. Прости, не могу разговаривать. Скоро поезд, я не хочу опоздать.
— Да-да, конечно. Позвони мне, как только приедете. Целую тебя крепко-крепко, сама знаешь куда.
Я нажала значок отбоя и посмотрела на академика.
— Этот сукин сын звонил? — кислым голосом поинтересовался он.
— Чем Меркурьев нехорош? Отчего вы все время именуете его сукиным сыном?
На лице Граба отразилась целая гамма чувств — от легкой брезгливости до глубокого отвращения.
— Сукин сын и есть, — выдохнул он. — Хитрая каналья. Продувная бестия. Чего ему надо?
— За вас волнуется. Беспокоится, как бы мы в Бежецк не опоздали.
— За себя он боится. Если опоздаем — Сима с него шкуру спустит. Сергей у нее вот где. — Старик сжал пальцы и злобно потряс сухоньким кулачком. — А Серафима Викентьевна у меня вот где, — вскинул Граб вверх второй кулачок. И сварливо продолжил: — Я Симу очень люблю, все-таки единственный ребенок. Девочка. Дочь. Родилась, когда мне было под шестьдесят пять. Однако Сима не дура и знает, что я в любой момент могу отписать имущество в пользу фонда борьбы с раком. Или культурному фонду Петербурга. Или обществу помощи жертвам сталинских репрессий. Да мало ли, какой еще организации могут пригодиться мои деньги! Я и так слишком долго шел у нее на поводу. Ну как же! У Серафимы были такие женихи, что могла бы стать первой леди! А в ее взбалмошную головку пришла фантазия выйти замуж за сына слесаря Сережу Меркурьева. И она вышла. Захотела развестись — развелась. Решила уехать из страны — уехала. Меня, старика, бросила одного и уехала. Оставила на этого своего Сережу, в нее до сих пор влюбленного. Меркурьев что, ему Серафима приказала — он исполняет. А мною он тяготится. Вот и сбагрил с рук кому ни попадя. А теперь задергался, подлец.
Викентий Павлович неожиданно завертел головой, что-то высматривая, и жалостливо затянул:
— И где же ваше такси? Почему за мной не едет?
Я подхватила сумки и чемодан и двинулась к шлагбауму, решив после Бежецка не встречаться больше с Сергеем. Ни ему, ни мне это не нужно. У него есть Сима. Хотя, может, старик бессовестно врет? С него станется, тот еще фрукт. Фрукт плелся позади, причитая и жалуясь. Дворник перестал махать метлой и смотрел на меня с осуждением, поражаясь жестокосердию. Нет, в любом случае Сергей мне не нужен. У меня есть папа, Жанна, Катюнька. Нам хорошо, и никого нам больше не надо.
Добравшись до такси, старик уселся на переднее сиденье, предоставив в мое полное распоряжение заднее, и всю дорогу молчал, сердито глядя в окно. На вокзал приехали за десять минут до отбытия поезда, и теперь уже академик через весь перрон без стонов и жалоб мужественно семенил к нашему второму вагону, понимая, что капризы могут ему дорого обойтись. И только устроившись на сиденье двухместного СВ, он более-менее успокоился. Поезд тронулся, и Граб хмуро осведомился:
— Софья Михайловна, вы прочли мою книгу?
— Конечно, Викентий Павлович, — благожелательно откликнулась я. — Превосходная книга. Очень интересная.
— Значит, не читали, — резюмировал старик. — В конце концов, это ваше дело. Помогите мне разуться.
Я склонилась под стол и стянула с него ботинки, после чего Граб блаженно вытянул ноги и пошевелил пальцами в белых носках.
— Вот оно, счастье! — улыбнулся подопечный. И, указывая на чемодан, попросил: — Халат достаньте, сделайте одолжение. Я бы переоделся и прилег вздремнуть.
Сняв чемодан с багажной полки, я щелкнула замками и откинула крышку. Первое, что я увидела, — лаковые туфли, уложенные поверх чего-то черного, комком засунутого в чемоданное нутро.
— Вынимайте, не стесняйтесь, — махнул рукой старик, — халат под фраком, в самом низу.
Если бы мне не сказали, что это фрак, я бы подумала, что это старая тряпка, приготовленная на выброс. Фрак был мятый и весь в жирных пятнах. Держа его перед собой, на всякий случай я уточнила:
— Вы планируете это надеть?
— Отчего же нет? — удивился Викентий Павлович. — Вы мне его отутюжите, и я надену фрак перед приходом поезда в Бежецк. К фраку и брюки имеются. Я прихватил.
Это была катастрофа. Где я ему найду отпариватель в поезде? Да и не очень-то это поможет. Жирные пятна уж точно не исчезнут.
— Это фрак с традициями, фрак, приносящий удачу, — доверчиво поведал старик. — Я в нем Ленинскую премию получал. И звезду Героя Труда.
Я выкладывала содержимое чемодана рядом со сложенным стопкой постельным бельем, судорожно соображая, что делать. Выход мне подсказал сам Граб, раздраженно заметив:
— Что вы топчете ботинки? Они же форму потеряют! И потом, это замша, она быстро пачкается. А на смену у меня только выходные туфли.
— Вы туфли мерили?
— Нет, зачем?
Не мерил. Очень хорошо. Я взяла туфлю и присела перед Викентием Павловичем.
— Что вы собираетесь делать? — насторожился он, глядя, как я запихиваю в лаковый башмак его ногу.
Нога не влезала, и я торжествующе взглянула на академика.
— Будем и дальше пытаться или оставим эту затею?
— Оставьте, — всхлипнул старик. — Не мучайте меня. Ничего не поделаешь, надену замшевые.
Это была не сама победа, а только первый шаг. И я принялась развивать успех.
— Наденете с фраком? Рыжие туфли? — удивленно вскинула я бровь.
— Ну да, — он все еще не понимал, к чему я клоню. — Других у меня нет.
— Так, может, и фрак не нужен?
Старик пожевал губами и с недоумением взглянул на меня.
— Может, и не нужен, — растерянно пробормотал он. И, махнув рукой, раздраженно выдохнул: — Ладно, уговорили, Софья Михайловна. Оставим все как есть. Халат достали? Ну, так помогите мне раздеться. И застелите кровать, не буду же я спать на голом матрасе!
Уложив подопечного в постель, я вышла в тамбур и встала у окна. Сунула таблетку в рот и в ожидании благотворного действия прикрыла глаза. Дождусь, когда старик заснет, и только потом вернусь в купе. Сил моих нет с этим академиком. Знала бы, что это за тип, ни за что бы не согласилась ехать в Бежецк.
Петроград, 1921 год
На другой день ближе к обеду подруги отправились в Институт живого слова. Сверяясь с номерами домов, барышни дошли до великокняжеского особняка на Дворцовой набережной и шагнули в распахнутые двери. Посреди просторной залы с малахитовыми колоннами и ляпис-лазуревыми вазами возвышался обшарпанный кухонный стол, покрытый казенным зеленым сукном. За столом восседала полная дама в мужском пиджаке, буклях и с дымящейся папиросой в руке. Она взглянула на девушек сквозь лорнетку без стекол и с королевской надменностью осведомилась:
— Кто? Куда? К кому?
— Зинаида Бекетова-Вилькина и Татьяна Яворская. В цех поэтов, к Гумилеву, — дерзко выпалила Зиночка, копируя голосом заносчивость вопрошавшей.
Дама отложила папиросу на щербатый край полной окурков тарелки, раскрыла толстую амбарную книгу и, макая стальное перо на деревянной ручке в старенькую чернильницу, старательно записала ответы. Закончив писать, взяла папиросу из импровизированной пепельницы, сунула в рот и, не разжимая зубов, проговорила:
— Поднимайтесь на второй этаж, за четвертой дверью направо — круглый зал. — Выпустила дым из ноздрей и насмешливо предупредила: — Только имейте в виду — Николай Степанович не любит, когда приходят в самом конце занятий.
Зиночка окинула даму презрительным взглядом и парировала:
— Николай Степанович не любит, когда приходят другие. Нам он обрадуется.
Тронула Татьяну за локоть, призывая следовать за собой, и направилась к широкой парадной лестнице, ведущей наверх. Татьяна робко ступала за ней, уже жалея, что пошла на поводу у эксцентричной подруги. Поддалась минутному порыву, разрушила свой уютный мирок, теперь летит неизвестно куда и зачем, как бабочка в огонь. Но самоуверенный вид Зинаиды придал ей сил, и Таня Яворская ускорила шаг.
На втором этаже оказалось бесчисленное множество дверей, и, судя по гулу голосов, за каждой из них шли занятия. Из наклеенной на здании афиши подруги уже знали, что институт был основан в ноябре восемнадцатого года актером и театроведом Всеволодским-Гернргроссом. Здесь работали уважаемые ученые, каждый в своей области непререкаемый авторитет — Луначарский, Бонди, Кони, Мейерхольд, Энгельгард. Ну и, конечно же, здесь преподавал Гумилев. Толкнув, как было указано, четвертую дверь, Зиночка решительно шагнула в круглый зал, в центре которого, закинув ногу на ногу и держа спину удивительно прямо, восседал на стуле Гумилев. Вид поэт имел неприступный и на расположившихся перед собой студийцев взирал свысока. Особенно строго смотрел он на вытянувшегося перед ним по стойке смирно тощего юношу, декламировавшего нараспев:
Потомки! Я бы взять хотел, Что мне принадлежит по праву — Народных гениев удел, Неувядаемую славу! И пусть на хартьи вековой Имен народных корифеев, Где Пушкин, Лермонтов, Толстой, Начертан будет Тимофеев!— Какая великолепная чушь! — хихикнула Зиночка, толкая Татьяну в бок.
Та не удержалась и тоже хихикнула. Гумилев расплел ноги, резко поднялся со своего руководящего места и деревянной походкой направился к дверям, неприязненно глядя на давящихся смехом девушек. Костюм висел на нем мешком, растянутые брюки пузырились на коленях, однако лицо было гордое и сердитое.
— Барышни, если уж вы опоздали, извольте не мешать другим! Займите свободные места.
Стараясь не шуметь, подруги прошмыгнули в конец аудитории и опустились на стоящие у стены стулья. Народу на занятиях было немного. В основном слушатели отделения состояли из восторженно взирающих на мэтра барышень, по виду из приличных семей. Было и несколько молодых людей, один из которых и стоял сейчас перед грозными очами Гумилева. С минуту учитель недовольно рассматривал тщедушную фигуру ученика в застиранной гимнастерке, окидывая взглядом с головы до ног, после чего миролюбиво произнес:
— А вы знаете, Тимофеев, совсем недурно. Только не в меру амбициозно. Осилите ли такое соседство?
Юноша самоуверенно кивнул:
— Можете не сомневаться, Николай Степанович. Соседи станут мой гордиться.
— Ну что же, буду страшно рад, если у меня в учениках окажется второй Лермонтов!
Вдохновив Тимофеева на дальнейшие поэтические подвиги, мэтр окинул цепким взглядом остальных студийцев и торжественно объявил:
— На сегодня занятия закончены. К следующему разу жду от вас стихотворение о бульдоге. В стихах попрошу использовать сложное чередование четырехстопных и двустопных хореев. Надеюсь увидеть всех вас в добром здравии в пятницу, в обычное время. — И другим, заговорщицким, голосом позвал: — У кого есть желание размяться, милости прошу в холл!
Он первым покинул класс, оставив широко распахнутую дверь в коридор. И тут же девицы подскочили со своих мест и устремились вслед за учителем. Молодые люди двинулись за ними. Зиночка заметила, что почти все побежали в холл за Гумилевым, и только несколько слушателей направились в другую сторону.
— Мы как, со всеми? — повернулась она к подруге, прислушиваясь к доносящимся из коридора смеху, топоту и громким вскрикам.
— Даже не знаю, — смутилась Татьяна, выглядывая из-за ее плеча. — Как-то неудобно. Мы никого не знаем.
— Вот и познакомимся!
Зиночка твердым шагом направилась в коридор и застала странную картину. В конце коридора носились как угорелые те самые студийцы, которые только что чинно восседали на стульях и благоговейно внимали учителю. Гумилев верховодил забавой. Он бегал вместе со всеми. Поэт и его ученики играли в салочки.
— Ну и ну! — изумленно протянула Татьяна. — А я почему-то считала, что поэты совершенно другие.
Раскрасневшийся Гумилев вдруг остановился и, махнув рукой, с одышкой прокричал:
— Ну же, барышни! Что же вы застыли соляными столбами? Бегите скорее к нам!
Зиночка тут же присоединилась к игре, Таня, все еще сомневаясь, медленно двинулась за ней. Подруга уже резвилась вместе со всеми, а Татьяна некоторое время застенчиво стояла у стены. Но вскоре дух всеобщего веселья захватил и ее, и девушка кинулась в общую кучу. Веселье закончилось так же внезапно, как и началось. Гумилев вдруг остановился и буднично сказал, глядя на покрытых испариной студийцев:
— Ну, все. Довольно. Побегали, и будет.
И скованной походкой направился в сторону лестницы. Зиночка подхватила Татьяну и устремилась за поэтом.
— Николай Степанович! — прокричала Бекетова-Вилькина в напряженную коричневую спину.
Поэт остановился и обернулся, выжидательно глядя на девушек. Приближаясь к Гумилеву, Зиночка на ходу торопливо говорила:
— Николай Степанович, вы меня не помните? Зинаида Бекетова, мы встречались в Аддис-Абебе. Я подарила вам свои картины. — Зиночка подошла к поэту вплотную и интимно добавила: — А еще вы спасли мне жизнь. Так что теперь я ваша должница.
Длинное лицо Гумилева оживилось, бледные губы тронула мягкая улыбка. И снова Зиночка поймала себя на мысли, что от его странного, двоящегося взгляда становится как-то не по себе.
— Ну конечно! Зинаида Евсеевна! Конечно, я вас помню! Вы еще так забавно на меня сердились… Вы по-прежнему рисуете?
Зиночка игриво махнула рукой.
— Что вы, давно забросила. Как вышла замуж за Вилькина, так вдохновение и кончилось. Думаю начать писать стихи. Как вы полагаете, у меня получится?
— Даже не сомневаюсь! — горячо воскликнул Гумилев, кивками отвечая на прощальные поклоны проходящих мимо студийцев. — Конечно, если у вас нет таланта, настоящим поэтом вы не станете, зато научитесь быть отменным читателем стихов. Что, согласитесь, не менее важно. Вы, сударыня, тоже хотите научиться писать стихи? — вдруг обратился он к Татьяне.
До этого момента девушка стояла у окна, не решаясь подойти ближе и делая вид, что смотрит на Невский проспект. Гумилев ее поразил. При ближайшем рассмотрении у него оказалось лицо степного божка и поразительные руки с длинными тонкими пальцами, похожими на бамбуковые палочки. От неожиданности Таня вздрогнула и громче положенного выкрикнула, вызвав снисходительную улыбку Гумилева:
— Очень хочу!
— Ну, так что же вы там прячетесь? — поддразнил Николай Степанович. — Подходите к нам!
Татьяна на негнущихся ногах прошествовала к беседующим и застыла в паре шагов.
— Простите, не имею чести знать вашего имени-отчества, — галантно проговорил Гумилев, сгибаясь пополам и целуя Татьяне руку.
— Татьяна Яновна Яворская, — торопливо сообщила девушка, цепенея под его необычным взглядом, как кролик перед удавом.
— Очень рад, обворожительная Татьяна Яновна, что вас влечет стихосложение, — чопорно проговорил Гумилев. — У вас невероятно поэтичное имя, у вас обязательно должно получиться слагать стихи. Как я уже говорил, в сочинительстве стихов нет ничего сложного. Научиться подбирать слова и рифмы так же возможно, как научиться любому другому ремеслу. Поэтому я и назвал свой кружок «цех поэтов». Цех! Где все ученики — подмастерья. А я — мастер. Мэтр. Синдик. Имейте ввиду — я строгий учитель. Если хотите примкнуть к моим ученикам, извольте слушаться меня безоговорочно. Я готов хвалить, но я могу и наказывать. И наказания подчас бывают самые суровые.
Он замолчал, прислушиваясь к доносящимся снизу голосам разбредающихся по домам студийцев и давая возможность обдумать его слова, и только потом сурово спросил:
— Ну что, барышни, вы готовы стать моими ученицами?
Татьяна подняла на Гумилева робкий взгляд и, ни в силах вымолвить ни слова, кивнула. Зиночка же кокетливо передернула плечами и игриво заметила:
— Я хоть сейчас готова подвергнуться любому наказанию, пусть даже самому суровому.
— Милые дамы, знакомство необходимо отметить, — не спуская глаз с Татьяны, провозгласил Гумилев. — Я страшно голоден, могу съесть быка и потому приглашаю вас в одно уютное местечко, где подают превосходные бифштексы!
Они вышли на улицу и двинулись по разобранной мостовой, перешагивая через щербатые проемы и ощущая под ногами последствия убийственно холодной зимы и непосильной дороговизны дров. Минувшей зимой замерзающие горожане, не церемонясь, растащили на дрова для печек-буржуек не только сработанные из дерева мостовые, но также и деревянные дома, сараи и другие подверженные горению постройки. Печальной участи избежали только каменные особняки, на стенах которых серели расклеенные советские газеты.
Зиночке бросилась в глаза слепо пропечатанная страница петроградской «Красной газеты», где некий репортер с ничем не примечательной фамилией Петров заходился праведным гневом по поводу объявленного «костюмированного бала и кабарэ» с входными билетами стоимостью в десять тысяч рублей.
«Для кого это? Для чего? Рабочие ходят оборванные и голые. Трудовая Россия раздета и разута, а тут господа… Стыд и позор!»
Бекетова-Вилькина тут же решила, что непременно посетит костюмированный бал, ибо неправдоподобно дорогие билеты ее невероятно заинтриговали.
Уютное местечко оказалось «нелегальной столовой», расположенной в маленькой темной квартире на Фурштатской улице, мало напоминающей ресторан. В двух комнатах — спальне и гостиной — высились столы, покрытые пестрой клеенкой. По-видимому, вид широкой кровати со взбитыми подушками не портил аппетита посетителей, ибо в помещении для сна обедающих оказалось даже больше, чем в комнате, предназначенной для приема пищи. Усадив дам друг напротив друга, Гумилев разместился во главе стола и принялся внимательно изучать нацарапанное на клочке оберточной бумаги меню. Потом, подозвав быстроглазую хозяйку, сделал заказ:
— Не сочтите за труд, принесите борщ. Пирог с капустой. Свиную отбивную в сухарях и блинчики с вареньем. С клубничным вареньем.
И, закончив перечислять разносолы, повернул голову в сторону спутниц.
— А вы? Берите, что хотите.
У Татьяны перехватило дыхание и в то же время желудок сжал голодный спазм. Последний год она питалась отварными картофельными очистками, плохо пропеченным серым хлебом и выдаваемой по карточкам селедкой, запивая нехитрые яства морковным чаем. Даже у Зиночки она почти ничего не ела — привычка к скромности, граничащей с аскетизмом, стала второй ее натурой. И потому смутившаяся девушка чуть слышно выдохнула:
— Спасибо, я не голодна.
Отчего-то Татьяна думала, что ее станут упрашивать, и очень опасалась, что придется долго отказываться, выставляя себя ломакой, но Гумилев никак не отреагировал на ее слова и посмотрел на Танину подругу. Зиночка отложила «меню» и затараторила на ухо услужливо склонившейся хозяйке:
— Будьте так любезны, принесите телячье рагу с грибами, куриный шницель и бланманже со взбитыми сливками.
Гумилев перевел двоящийся взгляд на Таню и распорядился:
— А этой барышне подадите стакан чаю, раз ее ничто не соблазняет.
За трапезой поэт говорил о стихах и с видимым удовольствием рассматривал Яворскую. А после распрощался с Татьяной, усадил Зиночку в мотор и повез в номера на Гороховую.
Бежецк, Санкт-Петербург, наши дни
Только в Бежецке я поняла, какая это величина — академик Граб. Нас не просто встречали, нас встречали с цветами. Крутившийся на перроне суетливый мужчина средних лет предоставил мне нести багаж, сам же сунул Викентию Павловичу букет гвоздик, подхватил старика под локоток и бережно повел к потрепанному «уазику», пылящемуся у здания вокзала. Усадил на переднее сиденье, дождался, пока я устроюсь на заднем, и сам сел за руль. Заглянув академику в глаза, подобострастно зачастил:
— Викентий Павлович, командуйте. Куда вас везти — в культурный центр или в гостиницу? Если устали — не невольте себя, лучше отдохните. Чтения и завтра проведем.
— Нет, отчего же, Александр Владимирович? Я вовсе не устал.
И мы поехали к культурному центру. По обилию стоящих на площади машин можно было предположить, что Гумилевские чтения — событие чуть ли не планетарного масштаба. Странное дело, но чтения отчего-то были приурочены не ко дню рождения поэта, а к дате его гибели. Возможно, оттого, что в начале апреля собираться и праздновать не так приятно, как в конце августа. Внешне культурный центр больше всего напоминал типовой ДК уездного городка, каковым, по сути, и являлся. На крыльце между колоннами суетились встречающие.
С десяток мужчин и женщин устремились к нашему прижавшемуся к обочине «уазику», помогли академику покинуть авто и практически понесли его внутрь здания. Оставив вещи в машине, я отправилась за своим подопечным. В украшенном шариками холле был накрыт непритязательный фуршет с бутербродами, печеньками и соком, между столами бродили участники «чтений», не решаясь приступать к еде без соответствующего распоряжения. Должно быть, ждали Граба, ибо стоило нам только появиться, как публика устремилась к столам. Академик в окружении свиты занял почетное место за отдельно стоящим в отдалении столиком, усевшись в специально приготовленное для него кресло. Он здесь был царь и бог. Ну, или очень близко к этому.
Расположившись, Граб махнул мне рукой, подзывая. Я приблизилась и опустилась на свободный стул. Стул оказался за спинкой кресла, ибо за столом вокруг моего подопечного мест не нашлось. Встречавший нас суетливый Александр Владимирович Никандров, представившийся мне директором культурного центра, занял место по правую от академика руку и вводил старика в курс дела.
— Ваша книга наделала много шума, — понижая голос, говорил он. — История всколыхнула не только Россию. Резонанс достиг Канады.
— Н-да? — оживился академик. — Приятно слышать.
— Представьте себе, приехал внук Мэтью Люка. Зовут его Земан Люк, он, кажется, юрист. Собирается выступить на чтениях с опровержением ваших утверждений и доказательствами, что его дед не надзиратель внутренней службы лейтенант Бурсянин, которого вы называете Палачом.
— Какие могут быть доказательства? — заволновался старик. — Мэтью Люк два года как умер.
— Да, но сохранились его дневники. Внук Люка планирует прочитать выдержки из дневников, полностью опровергающие вашу теорию о личности Мордовского Палача.
— Что такое дневники? — хмуро буркнул Викентий Павлович. — Я сам напишу десять дневников. Двадцать дневников. Сотню напишу! И выдам их за дневники Мэтью Люка. Так что зря внук приехал.
Академик приподнялся в кресле и пристально всмотрелся сквозь очки в стоящего в отдалении господина в добротном сером костюме и со шкиперской бородкой.
— Кто это? — коктейльной трубочкой указал он на бородача. — Багдасарян из архива? А он здесь какими судьбами?
Директор понизил голос и со значением проговорил:
— Андрей Андреевич привез сенсационную находку. Даже странно, столько лет эта папка пылилась в архиве и только сейчас обнаружилась.
— Что за папка?
— Приложение к протоколу обыска занимаемого Гумилевым номера в Доме искусств. Интереснейший документ.
— Очень бы хотелось взглянуть, — старик отодвинул от себя пустой стакан от сока, небрежно кинув в него трубочку. — Александр Владимирович, не сочтите за труд, попросите архивариуса подойти.
— Сейчас устроим.
Никандров подскочил со своего места и устремился к задумчиво жующему бутерброд архивариусу. Перемолвился с ним парой слов и в следующий момент уже вел к нашему столу. На ходу Багдасарян расстегивал портфель, торопливо вынимая потертую папку. Эту папку он и протянул академику Грабу сразу же после того, как почтительно его поприветствовал. Старик принял папку, благоговейно положив на колени. Сдернул с носа очки, протер специальной, извлеченной из очечника бархоткой, снова водрузил на нос и только после этого раскрыл папку. Вытащил ветхие листы, сшитые между собой грубой серой ниткой и переложенные пергаментом, и близоруко прищурился, пытаясь разобрать убористо написанные от руки строчки. Долго вглядывался и, наконец, произнес:
— Прямо даже не верится! В приложении к протоколу обыска «банного номера» Гумилева в Доме искусств указано, что присутствовавший при обыске Генрих Карлович Штольц изъял и унес с собой тонкую зеленую тетрадь с последними, еще не опубликованными стихами поэта. Как такое могло произойти?
Старик вскинул голову и удивленно воззрился на архивариуса.
— Если доказательств вины Гумилева и так хватало, то тетрадь стихов вполне могли отдали Штольцу, — пожал плечами тот.
— Штольц — это ведь Немец? — проявил осведомленность директор Никандров.
— Совершенно верно, — благосклонно кивнул Викентий Павлович. И обстоятельно пояснил: — Немец — так звали Штольца, когда он был заключенным. Это прозвище сохранилось за ним и после того, как после окончания срока Штольц стал работать в лагерной обслуге.
— К слову сказать, — многозначительно пощипал бородку архивариус, — никакой тетради со стихами Гумилева у Генриха Карловича Штольца при задержании не нашли. Выходит, что и последние стихи Гумилева Штольц припрятал в тайник на мосту. А Палачу про них ничего не сказал, и лейтенант Бурсянин забрал из тайника одни лишь только сокровища. Получается, что тетрадь до сих пор лежит в тайнике.
— Здесь попахивает сенсацией, — взволнованно подхватил директор культурного центра. — Неизвестные стихи Гумилева наделают много шума, и не только в нашей стране!
Академик Граб поерзал в кресле и протянул:
— Что-то мне нездоровится. Возраст, знаете ли. Да и устал я с дороги. Пожалуй, все-таки стоит прилечь. Не перенести ли нам «чтения» на завтра?
— Да-да, конечно, — засуетился Никандров. — Позвольте, я отвезу вас в гостиницу.
Судя по всему, гостиница была построена еще в первые годы советской власти, и все, что в ней находилось, сохранилось с далеких тех времен. Номер старика оказался довольно комфортабельным — у него работал сливной бачок и даже бежала тонкой струйкой теплая вода. У меня же не было и этого. Я уже разделась и в нерешительности топталась перед душем, но тут раздался стук. Накинув халат, я распахнула дверь. На пороге стоял академик, опираясь на выдвинутую ручку чемодана на колесиках. Отстранив меня плечом, он бесцеремонно вошел в номер, волоча чемодан за собой, и, прикрыв дверь, распорядился:
— Софья Михайловна, вызывайте такси.
— Зачем такси? — удивилась я. — Вы голодны? Мы едем в ресторан?
— Не в ресторан, — отмахнулся старик, опускаясь на жесткий казенный стул. — Мы возвращаемся в Петербург. Я места себе не нахожу, когда представлю, что в тайнике лежат неизвестные стихи Гумилева! Нужно немедленно ехать на Чернышев мост! Ну, что же вы сидите? Скорее заказывайте машину!
— Может, лучше поездом? — робко заикнулась я, но, встретив взгляд Викентия Павловича, тут же беспрекословно достала мобильник.
Такси подъехало минут через пять, я как раз успела одеться. Старик уселся рядом с водителем и всю дорогу до Питера нервно потирал руки, рассуждая на тему обладания геммой.
— Это как раз понятно, отчего родные не знают, что у Мэтью Люка хранились эфиопские сокровища, — словно в горячечном бреду, бормотал он. — Если бы владельцем геммы царицы Савской был я, я бы никогда и никому ее не показал. Должно быть, это такое удивительное ощущение — владеть многовековым артефактом, который держала в руках сама Македа! А видеть этот артефакт доводилось лишь избранным счастливцам царских кровей! Прямым потомкам Соломона! Я бы спрятал гемму в такое место, чтобы никто никогда ее не нашел. Наследники — воронье, только и думают, как бы запустить свои алчные когти в чужое добро. Я бы никому ничего не отдал. Разве что под пытками. Не каждый выдержит, если его станут пытать. Я бы не выдержал. Ну, да у меня и геммы нет, так что и говорить не о чем. А вот неизвестные стихи Гумилева могут достаться мне. Я проведу исследование стихов и напишу об этом книгу.
Академик нахохлился и замолчал, и я подумала, что он заснул, но перед самым въездом в город Викентий Павлович вдруг задумчиво произнес:
— Откуда там тетрадь? Много лет назад, освободившись из лагеря, я уже открывал тайник на мосту. Немец перед смертью рассказал, как это сделать. Я ничего там не нашел. Может быть, плохо искал…
На мост въехали затемно. Викентий Павлович пребывал в невероятном возбуждении, то и дело вытирая носовым платком вспотевший лоб и взмокшие ладони. Отпустили машину, и старик, не обращая внимания на замершую в центре моста обнявшуюся влюбленную парочку и быстро пробегающих по своим делам людей, уверенной походкой устремился к одной из беседок. Присев на корточки перед первой от проезжей части колонной, провел дрожащими ладонями по нижней гранитной панели, проделав едва заметные манипуляции пальцами, отчего панель повернулась вокруг своей оси, открывая полую нишу.
Академик сунул туда руку и принялся шарить внутри. Ничего не обнаружив, приблизил вплотную к нише лицо и некоторое время молча сопел, вглядываясь в темноту. Затем обернулся ко мне и прикрикнул:
— Софья Михайловна! Что вы стоите? Посветите же мне смартфоном!
Я поставила багаж на скрывающуюся в глубине беседки скамейку и принялась доставать смартфон. А подняв глаза, увидела, что по мосту в нашу сторону идут директор бежецкого культурного центра Никандров и архивариус Багдасарян.
— Ну же, Софья Михайловна! Что вы там возитесь? — не замечая приближающихся, повысил голос Граб. И, проследив за моим взглядом, резко обернулся. — Налетели, воронье, — чуть слышно пробурчал он, наблюдая за прибывшими. И другим, ласковым голосом, громко осведомился: — Что, Андрей Андреевич, не усидели на месте? И вам захотелось одному из первых увидеть тетрадь с неизвестными стихами Гумилева?
— Нет никакой тетради, — сухо обронил Багдасарян. — Документ, который я вам показал, поддельный.
— Не может быть! — растерялся Граб. — Как же это? Зачем?
Теперь заговорил Никандров. Голос его звучал не так любезно, как раньше, в нем появились зловещие нотки.
— Понимаете, Викентий Павлович, только надзиратель Бурсянин знал, как открывается тайник, ибо видел, как это делал Немец. Те, кто только слышали об этом тайнике, сколько ни искали, так и не смогли найти открывающий колонну механизм.
— Мы всем архивом сюда приезжали, у нас ничего не вышло, — мрачно кивнул Багдасарян.
— Значит, вы и есть Палач Бурсянин, — резко припечатал директор центра. — Вы, а вовсе не Мэтью Люк, как утверждается в вашей книге.
— Вы говорите ерунду, — неуверенно откликнулся Граб, и было видно, что возражает он скорее по инерции, лишь бы не молчать. — Подумаешь — знаю, как открывать! Это вообще ничего не доказывает.
— Никто не знает, а вы знаете! — повысил голос сотрудник архива. — В дневниках Мэтью Люка говорится, что он, еще будучи Матвеем Завьяловым, и в самом деле в начале пятидесятых годов служил в Мордовии, только не надзирателем, а капитаном медицинской службы. После увольнения из органов Завьялов женился на канадской подданной Мадлен Люк, взял фамилию жены и уехал жить в Канаду. Завьялову повезло, он создал солидную фирму, которая процветает и по сей день. Не без вашей помощи, Викентий Павлович, его честное имя опорочено, и семья Люка не станет с этим мириться. Внуки доктора докажут, что вы — не Граб, а Бурсянин.
— Немыслимый бред! — фыркнул старик. — Вы, Андрей Андреевич, мстите мне за зарубленную диссертацию, это понятно. Однако вы поставили не на ту лошадь. Наследники Люка окажутся в проигрыше. Доказательств-то никаких! Есть только мое слово — слово российского ученого с мировым именем — против нелепых дневников какого-то эмигранта! Смешно представить, что его записям кто-то поверит!
Краем глаза я увидела, что влюбленная парочка перестала обниматься и юноша устремился в нашу сторону. Не обращая внимания на спорящих, он подошел к беседке, взобрался на скамейку и принялся откручивать какой-то не замеченный мною ранее прибор, чернеющий на верхней части колонны.
— Что такое? — возмутился старик, поверх очков наблюдая за демонтажем. — Это что? Видеокамера?
— Да, Викентий Павлович, сотрудники архива только что засняли, как вы открываете тайник. Так что помимо дневников Матвея Завьялова — Мэтью Люка — теперь имеются еще и видеоматериалы, подтверждающие вашу необычайную осведомленность. И, кроме того, в медицинской карте лейтенанта Бурсянина — вы не можете не знать, что надзиратели проходили ежегодный осмотр, — имеется упоминание полукруглого шрама под лопаткой. Этот шрам остался после нападения на Палача одного из заключенных, удар нанесен заточкой и имеет форму буквы «с» — так пишет в своих дневниках Мэтью Люк. Если дойдет до суда — а теперь непременно дойдет, вам, уважаемый Викентий Павлович, придется предъявить для освидетельствования спину.
Старик замахнулся на оппонента сухоньким кулачком и закричал:
— Убирайтесь прочь, канадский прихвостень! Сколько вам заплатили за то, чтобы обливать грязью российских ученых? Тридцать сребреников?
Снявший камеру юноша спрыгнул со скамейки, приблизился к своей спутнице, и парочка удалилась по мосту в сторону бульвара Ломоносова. За ними следом двинулись прибывшие из Бежецка ученые. Не обращая внимания на открытый тайник, академик тяжело опустился на скамью и, держась за сердце, простонал:
— Какая чудовищная провокация! Иуды! Предатели! Сколько добра им сделал! И так отплатили!
Над Фонтанкой забрезжил рассвет. Потянулись в сторону станции метро ранние пешеходы. Старик посидел немного, поднялся и, припадая разом на обе ноги, заковылял к проезжей части. Я несла за ним чемодан и больше всего боялась, что Викентия Павловича прямо здесь, на мосту, свалит с ног сердечный приступ.
— Вас отвезти домой или заедем куда-нибудь поужинать? — мягко спросила я, чувствуя острые приступы голода.
— Какой там ужин! — сердито буркнул старик. — Домой, Софья Михайловна! И поскорее!
Яндекс-такси подъехало в считаные минуты, доставив нас к дому Граба. Поднявшись на нужный этаж, я помогла Викентию Павловичу снять ботинки и взялась было помогать снимать пиджак и рубашку, но он вдруг вскинулся и заголосил:
— Я понимаю! Вижу вас насквозь! Признайтесь, вам любопытно, есть ли у меня под лопаткой шрам? Представьте себе — да! Есть! Я в детстве на пень напоролся, когда на санках катался, с тех пор и ношу этот шрам! Довольны? Устраивает такой ответ?
— Викентий Павлович! — растерялась я. И от растерянности соврала: — Я ни секунды не сомневалась в том, что вы не Палач!
Старик перестал сопеть и милостиво позволил снять с себя уличную одежду, переодевшись в домашнее. Завязывая пояс халата, он окончательно успокоился и уже без истерики проговорил:
— Ладно, Софья Михайловна, идите домой, отдыхайте. Завтра приходите часам к двенадцати, будем думать, как оборону против канадцев держать. Привлечем Сергея и не оставим ни одного шанса втоптать в грязь честное имя российского академика.
Петроград, 1921 год
С того дня для Татьяны Яворской началась новая жизнь. Как-то само собою получилось, что в доме Зинаиды девушка заняла место «освобожденной» Агафьи. Стараясь не шуметь и не будить подругу, по утрам она наводила порядок в роскошной квартире комбрига Вилькина, затем отправлялась за керосином и, отстояв огромную очередь и наполнив бидон, шла получать командирский паек. Возвращалась как раз к тому моменту, когда Зиночка открывала глаза. Таня варила кофе, и девушки завтракали. Потом Зиночка садилась к окну сочинять стихи к новому занятию, а Таня бежала в Дом искусств, на правах внештатного секретаря помогать Гумилеву.
— В последнее время у меня такое чувство, что если вас, Яворская, не будет рядом, все пройдет кувырком, — однажды признался поэт.
И поэтому Татьяна по мере сил сопровождала Николая Степановича везде — отправлялась с ним в издательство «Всемирная литература», где Гумилев заведовал секцией французской поэзии, шла в Пролеткульт, где он читал лекции, ехала в Российский институт истории искусств, профессором которого Николай Степанович являлся. Ну и, конечно же, не пропускала ни одного занятия в Институте живого слова.
Зиночка же прочно заняла позицию любовницы поэта. Вспоминая вечер их знакомства, Татьяна не могла постичь, отчего Гумилев предпочел подругу, хотя явно был очарован ею. И только позже, когда хорошо узнала характер мэтра, поняла, отчего он так поступил. В «цехе поэтов» осведомленная Дора Ларс под большим секретом сообщила, что в шестнадцатом году имел место скоротечный и бурный роман мэтра с красавицей Ларисой Рейснер, истовой комиссаршей и трубадуром революции. И что расстались они не по идейным соображениям, как думали многие. Дора слышала, как Гумилев говорил о Ларисе с оттенком пренебрежения, что она, дескать, сразу же согласилась идти с ним в «меблирашки», потому и стала для него неинтересна. А как тут было не пойти? Таня наблюдала, как Гумилев ухаживает — дерзко, с наскока, засыпая соблазняемую посвященными ей стихами, и устоять перед натиском поэта могли далеко не многие.
Жил Гумилев в Доме искусств. Этот огромный домина выходил на три улицы сразу — на Мойку, на Большую Морскую и на Невский проспект. Трехэтажная квартира Елисеевых, которую предоставили Дому искусств, была велика и вместительна. В ней имелось множество просторных гостиных, дубовых столовых и комфортабельных спален. Была белоснежная зала, вся в зеркалах и лепных украшениях, имелись буфетная и кафельная барская кухня, где проводились многолюдные писательские сборища. Были комнатушки для прислуги и всякие другие помещения, в которых и расселились писатели.
Гумилев обосновался в двухкомнатной бане, роскошно отделанной мрамором и украшенной прекрасно выполненными статуями. Из одной комнаты поэт сделал кабинет, вторую приспособил под столовую и спальню. Таня заглядывала к нему каждое утро, и каждое утро Гумилев с ней подолгу разговаривал.
— Я здесь чувствую себя древним римлянином, — шутил он. — Завернувшись в простыню, хожу босиком по мраморному полу и философствую.
По утрам они часто сидели за столом рядом с печкой-буржуйкой, пили чай на изрезанной клеенке из мятого алюминиевого чайника и разговаривали обо всем на свете. Вернее, говорил Гумилев: делился мыслями, которые вряд ли открыл бы кому-то еще. А Таня слушала и сопереживала, как умела только она. Гумилев ей так и сказал:
— Вы, Яворская, отборный, редкий человеческий экземпляр. Я очень рад, что в вас не ошибся и сразу распознал не просто поразительно красивую женщину, но и замечательного собеседника. Увези я тогда в номера на Гороховой не Бекетову-Вилькину, а вас, наша с вами дружба была бы невозможна. Да вы бы и не поехали. Признайтесь честно, Яворская, не поехали бы?
Татьяна заливалась краской, делая отрицательное движение рукой, и Гумилев удовлетворенно кивал. У него была необыкновенная голова. Такие узкие и длинные черепа Татьяна встречала только у Веласкеса на портретах Карлов и Филиппов испанских.
— Вы не только одарены поэтически, — рассуждал Гумилев, — но и умеете слушать. В наше время это невероятно редкое качество. А ваша подруга Бекетова-Вилькина совсем иная. Она предпочитает говорить, и исключительно о себе. Зато она невероятно хороша во всем, что касается чувственных отношений. Еще в Абиссинии я это понял. Ах, Абиссиния, Абиссиния… Я ведь в первый раз уехал в Абиссинию, чтобы улеглась шумиха после глупейшей дуэли с Волошиным[21]. Второй раз — через полгода после свадьбы с Аней. И тоже из-за судебного разбирательства по поводу этой нелепой истории. Я не присутствовал на процессе, но позже узнал, что меня обвинили в вызове на дуэль и присудили семь суток домашнего ареста. В то время как Волошину — всего лишь сутки. Но, даже не зная приговора, я честно отбыл арест в каюте парохода, следующего в Порт-Саид. Тогда я сочинил четвертую песнь «Открытия Америки».
Татьяна слушала, затаив дыхание. А поэт вдруг лукаво улыбнулся и проговорил:
— Вы не поверите, Яворская, но в третью экспедицию я ехал, чтобы заработать. Смешно, не правда ли? На свои деньги я накупил самых разных экспонатов для этнографического музея, изрядно поиздержался, а Академия наук мне заплатила сущие копейки. Часть экспонатов я им не отдал, оставил себе. В том числе и этого красавца.
И Гумилев погладил гладкий черный мех. Во время их бесед мэтр любил сидеть в кресле и перебирать мягкую шерсть на иссиня-черной шкуре леопарда, распластанной на сиденье кресла. Плотно набитая голова зверя свисала с обратной стороны спинки, скаля зубы, тараща желтые стеклянные глаза и приводя девушку в трепет. Как-то Татьяна спросила, откуда он взялся, черный леопард? Ведь это такая редкость…
— Я убил его метким выстрелом в глаз, — не без гордости ответил Николай Степанович.
— Я помню, Зиночка рассказывала, — кивнула Таня. — Она сказала, что у леопарда было девять жизней, и, убив зверя, вы забрали его жизни себе.
— Возможно, так оно и есть. Ведь, если подумать, я проживаю самые разные жизни — путешественника, воина, отца, любовника, мужа, учителя, ну и, конечно же, поэта! Я верю, что черный леопард принес мне удачу. Видите, как все прекрасно складывается! Я создал акмеизм[22]. Занимаюсь переводами любимого Теофиля Готье. Выпустил новую книгу стихов и обучаю талантливую молодежь. Правильно краснеете. Я имею в виду вас, Татьяна Яновна. Ну, и самое главное — меня вместо Блока избрали председателем петроградского Союза поэтов. А это что-нибудь да значит.
Таня успела заметить, что для Гумилева соперничество с Александром Блоком являлось темой болезненной и важной. Слава Блока невероятно сильно задевала честолюбие Гумилева, но в то же время Николай Степанович преклонялся перед поэтическим гением Блока. Хотя и считал, что с приходом новой власти Блок как поэт закончился.
— Он ведь старше меня на пять лет, — сидя напротив Тани за чаем, рассуждал Гумилев в своем банном кабинете. — Значит, у меня в запасе есть целых пять лет. Одному богу известно, как я к тому времени стану писать и во что превратится Блок! Блок — последователь Соловьева. Символист. Помните, как у Соловьева? «Милый друг, иль ты не видишь, что все видимое нами только отблеск, только тени от незримого очами…» Я же — младший брат Гете. Как создатель акмеизма, противостою символизму и провозглашаю материальность, предметность тематики и образов, точность слова.
После Блока Николай Степанович обыкновенно переходил к рассуждениям об Ахматовой.
— Самый яркий пример акмеизма — стихи Анны Андреевны, посвященные Блоку. «Я пришла к поэту в гости. Ровно полдень. Воскресенье». Точнее не скажешь. Ахматова — гениальный поэт. Хотя мы с Аней абсолютно не подходим друг другу. Абсолютно. А так восхитительно все началось, и я был так счастлив! Я, как Толстой, думал, что такое счастье не может кончиться со смертью, что оно должно длиться вечно…
Глядя на Таню, Гумилев с недоумением разводил руками:
— А счастье не продлилось и года. Представьте себе, Яворская, сразу же выяснилось, что у нас диаметрально противоположные вкусы и характеры. Мне казалось, что раз мы женаты, ничто на свете не может разъединить нас. Я мечтал о веселой, общей домашней жизни, я хотел, чтобы Аня была не только моей женой, но и моим другом и веселым товарищем. А для нее наш брак был лишь этапом, эпизодом в наших отношениях, в сущности, ничего не меняющим в них. Ей по-прежнему хотелось вести со мной «любовную игру» — мучить и терзать меня, устраивать сцены ревности с бурными объяснениями и бурными примирениями. Делать все, что я ненавижу. А я не соглашался играть в эту позорную, ненавистную мне игру. В общем, мы оба были разочарованы.
Гумилев высоко поднимал брови и, прищурившись, неподдельно удивлялся:
— А казалось бы, кому, как не ей, быть счастливой? У нее было все, о чем другие только мечтают. Но Аня проводила целые дни, лежа на диване, томясь и вздыхая. Она всегда умудрялась тосковать и чувствовать себя несчастной. И все-таки я продолжал любить ее не меньше, чем прежде. И если бы она не потребовала, не развелся бы с ней. Никогда! Мне и в голову не приходило. Я много и часто ей изменял, но мне было невдомек, что это может как-то отразиться на нашей семейной жизни. Я, как Уайльд, побеждаю все, кроме соблазна. Она же требовала от меня полной и безоговорочной преданности.
— Только не говорите, что вы женились на вашей второй жене от обиды на Ахматову, — вырвалось у Татьяны.
Вторая жена Гумилева, Анечка Энгельгард, пользовалась у студийцев особой нелюбовью. Гумилев официально называл ее Анной Николаевной, несмотря на то что дочь профессора Энгельгарда внешностью и образом мыслей невероятно походила на подростка и все недоумевали, как эта стриженая девочка-ломака в белой матроске, в сандалиях и коротких чулках может быть женой и матерью. Не то чтобы Гумилев скрывал жену от знакомых, просто, если куда-то шел, старался не брать с собой, чтобы не чувствовать за нее неловкость. Некоторое время Аня обижалась, потом устроилась в детский театр играть пажей и, похоже, была счастлива этой своей ролью.
— Именно! — радостно закивал Гумилев. — Вы точно подметили — от обиды и унижения. Когда Ахматова сообщила мне о своем намерении развестись, в первый момент я растерялся, но быстро взял себя в руки и выпалил, что и сам хочу развода, ибо собираюсь жениться на Ане Энгельгард. Я сказал первое, что пришло мне в голову. А когда я пришел к Энгельгардам и без долгих вступлений предложил Ане стать моей женой, она упала на колени и всхлипнула: «Я не достойна такого счастья!»
Татьяна подумала, что счастье Ане Энгельгард выпало довольно сомнительное. Все от той же Доры Ларс Яворская узнала, что после рождения дочери Гумилев отправил жену с ребенком к матери в Бежецк, и там молодая женщина изнывала от тоски, присматривая не только за собственной дочерью, но и за Левушкой — сыном Гумилева и Ахматовой. А потом потребовала, чтобы ее вернули в Петроград.
— И чего ей в Бежецке не хватало? — вздыхал Гумилев. И не без гордости добавил: — Дети просто замечательные. Левушка такой развитый! А Лена очень похожа на меня. Такая же разноглазая.
Татьяна в душе пожалела дочь Гумилева, но вслух ничего не сказала, сжав ладонями алюминиевую чашку с морковным чаем и не отрывая рассеянного взгляда от расписанного амурами и богинями потолка «банного кабинета», однако продолжая внимательно слушать обстоятельные рассуждения мэтра.
— Я полагаю, что сделал правильно, отдав Лену в детский дом, — закуривая, проговорил Гумилев.
Таня не поверила своим ушам, и у нее, едва не угодившей некогда в детский дом, с непроизвольным укором вырвалось:
— Вы отдали собственную дочь в приют?
Гумилев задул спичку и с недоумением взглянул на нее.
— Отчего вас это удивляет? — холодно осведомился он. — Детским домом заведует жена Миши Лозинского[23], одна из самых порядочных женщин, которых я знаю. Эдакая, знаете, — сделал он красноречивый жест рукой, — возвышенно настроенная интеллигентка-энтузиастка, всей душой преданная своему делу. Так почему бы не доверить ей воспитание Лены?
— Но вы же отец! — выдохнула Яворская. — Как вы можете?
— Лозинская так же, как и вы, стала причитать, что это невозможно, что дети в детдоме — брошенные беспризорники, сироты. А я ей возразил, что это ничего не значит, Лена такой же ребенок, как остальные, и что это все глубокие буржуазные предрассудки. Смешно не пользоваться немногими удобствами, предоставленными нам новой властью. Если рассуждать как вы, тогда и хлеб, и сахар от большевиков по карточкам брать нельзя.
— Это не вы говорите, — чужими губами прошептала Татьяна. — Это говорит жестокий и злой ницшеанец. Ведь я знаю, вы, Николай Степанович, добры.
— Добр? — Гумилев с недоумением пожал плечами. — Возможно, если бы я распустил себя, то был бы добр. Но я себе этого не позволяю. Я долго изживал в себе женские качества, ведь доброта — это, согласитесь, удел слабых. И да, я в юности зачитывался Ницше. И Шопенгауэром. Видите ли, Яворская, меня очень баловали в детстве, ибо я в отличие от здорового и красивого старшего брата рос болезненный и слабый. Но ко всему я с детских лет был невероятно самолюбив. И когда брат перегонял меня в беге или проворнее лазил по деревьям, ужасно злился. Я хотел всегда все делать лучше других, всегда быть первым. Во всем. Это при моей слабости было нелегко, но все-таки я ухитрялся забираться на самую верхушку дерева, на что ни брат, ни дворовые мальчишки не отваживались. Я был очень смелый. Смелость заменяла мне силу и ловкость. А еще я заставил себя стать красивым. Я часами стоял перед зеркалом и внушал себе, что хорошею прямо на глазах. Результат перед вами — я и в самом деле сделался красив.
Татьяна не раз замечала, что, надевая в гардеробе Дома искусств перед зеркалом шляпу, Гумилев самодовольно улыбается, явно любуясь своим отражением, и девушку не покидало ощущение, что они с Николаем Степановичем видят совершенно разные вещи. Назвать Николая Степановича красавцем едва ли решится даже большой льстец.
— Вы же не станете отрицать, что я довольно привлекателен, — продолжал рассуждать Гумилев. — Раньше я носил цилиндр, подводил глаза и помадил губы, но это явный перебор. Среди нас, поэтов, моду мазаться ввел Мишенька Кузьмин, и многие ей долго следовали, но я отказался. Для чего это все? Пустое. Да и Анна Андреевна не одобряла. Особенно не любила цилиндр. И даже взяла с меня слово, что после свадьбы не стану его носить. Заметьте, Яворская, слово свое я сдержал, и цилиндра не ношу, хотя брак наш с Анной Андреевной распался.
Слушая, Татьяна пропускала через себя каждое слово. Она словно жила жизнью Гумилева, удивляясь, как могла существовать без всей этой увлекательной творческой кутерьмы. Скучная рутина убогого дома Инги казалась теперь далекой и ненужной, Тане было непонятно, как она могла быть благодарна Евгению Львовичу, пристроившему ее в унылую больницу мыть полы и выносить судна.
Содержа дом Зиночки в порядке, Татьяна не чувствовала себя перед подругой в долгу. Она ела свой хлеб не просто так, она его отрабатывала. И хлеб этот, надо признать, был куда сытнее и разнообразнее ее непритязательного пайка санитарки. Стихи Таня писала по ночам. Ей даже не приходилось ничего для этого делать. Она просто ложилась в постель, закрывала глаза, и на нее накатывались волны образов и рифм, среди которых девушка придирчиво выбирала самые лучшие, чтобы утром удивить Гумилева. Сколько рондо, октав, газелл и сонетов она сочинила в те замечательные ночи!
Кроме того, Тане нравилось выполнять поручения мэтра и слышать в свой адрес при посторонних невероятно приятное «знакомьтесь, это моя ученица». Была и еще одна «ученица Гумилева», Ирина Одоевцева, но с появлением Татьяны Гумилев заметно отдалился от прежней любимицы. А может, и не в Тане было дело, а в том, что Одоевцева вопреки запретам Гумилева вышла замуж за поэта Георгия Иванова.
И если Татьяна сопровождала Николая Степановича днем, то вечер с Гумилевым проводила Зиночка. После занятий в живом слове мэтр спускался в окружении студийцев в гардероб, надевал свою неизменную шляпу и выходил на улицу дожидаться Зинаиду. С Таней он сухо раскланивался, словно они были едва знакомы, и кидал ей небрежно:
— Жду вас, Яворская, завтра в обычное время. Отвезете рукопись в журнал.
Таня на трамвае ехала домой, а Гумилев вез Зиночку ужинать. Домой к ним Гумилев принципиально не заходил — не считал возможным компрометировать замужнюю даму. Зато в дом Вилькиных довольно часто заглядывал Генрих Штольц. Товарищ Зиночкиного мужа обосновался в соседнем подъезде, вселившись в квартиру бывшего фабриканта Кускова, расстрелянного в семнадцатом. Комиссовавшись по ранению, Генрих Карлович поступил в Петрогубмилицию и даже занял там видную должность начальника отдела по борьбе с трудовым дезертирством. Теперь он ездил на служебном «Виллисе», носил перетянутый портупеями кожаный плащ и надвинутую на глаза форменную фуражку, внушая прохожим сакральный трепет.
В соседний подъезд новоявленный милиционер наведывался почти каждый вечер и подолгу сидел в гостиной, расспрашивая Татьяну о Гумилеве. Об обстановке в Доме искусств, о привычках поэта и о вещах, которые тот привез из Африки. Таня простодушно рассказывала, не забыв упомянуть и о уже изрядно потершейся черной шкуре леопарда, закрывающей неприглядную дыру в обивке любимого гумилевского кресла. Сначала Таня думала, что Генрих ревнует к поэту Зинаиду, но затем поняла, что милиционера интересует сам Гумилев.
— Вы просто обязаны познакомить меня с этим удивительным человеком, — часто говорил Штольц, и если Зиночка бывала дома, она сердито отмахивалась, раздраженно бросая:
— Вот еще, глупости! Скажете тоже!
Но Генрих был так настойчив, что однажды Бекетова-Вилькина не выдержала. Подбоченившись и сдувая то и дело падающую на глаза непокорную прядку светлых волос, она ехидно произнесла:
— Ну хорошо, Генрих Карлович! Я приглашу Гумилева сюда. Допустим, он даже придет. И как вы себе представляете ваше с ним знакомство? В качестве кого я вас представлю? Как сослуживца мужа? Или как начальника отдела по борьбе с трудовым дезертирством?
— А вы скажите, что я жених Татьяны, — закуривая дамские Зиночкины папиросы, находчиво подсказал гость.
— Нет, Тата, как тебе это нравится? — расхохоталась хозяйка. — Генрих Карлович — твой жених! Ну ладно. Так уж и быть. Приглашу.
Татьяна внутренне передернулась от отвращения — Штольц был ей противен даже больше, чем неоднократно сватавшийся приятель доктора Дынника, и девушке очень не хотелось, чтобы этот скользкий тип лез в приятели к Гумилеву. Весь следующий день Татьяна, не решаясь заговорить на волновавшую тему, поглядывала на Гумилева с немым вопросом в глазах, чрезвычайно заинтриговав мэтра странным поведением. Весь день Николай Степанович требовал ответа, отчего Татьяна напустила на себя таинственность. Таня не смела завести речь о Штольце, не зная, пригласила ли Зиночка поэта в гости или пока еще нет. Но уже вечером, в Институте живого слова, Гумилев позабыл про Яворскую, с головой погрузившись в учебный процесс.
К делу поэт подходил необычайно ответственно. Изготовил для занятий около десятка таблиц, которые слушатели обязаны были вызубрить. Это были таблицы рифм, сюжетов, эпитетов и поэтических образов, и Гумилев важно именовал их эйдолологическими. От всего этого и в самом деле веяло средневековыми догматами, но именно это ученикам и нравилось, ибо каждый из посещавших курсы жаждал верить, что на свете существуют устойчивые твердые законы поэтики, не подверженные никаким изменениям, и что тому, кто усвоит эти законы, будет обеспечено высокое звание поэта.
После занятий, когда студийцы высыпали в коридор, Татьяна с трепетом ждала, как поведет себя Гумилев при прощании. А вдруг он возьмет и скажет, что отправляется вместе с ними на Невский проспект? Но внезапно распахнулась дверь соседней аудитории — там легендарный юрист Кони вел свои необыкновенные занятия, и из дверей выбежал всклокоченный юноша. Оглядевшись по сторонам, юноша произнес, ни к кому конкретно не обращаясь:
— Кто-нибудь желает принять участие в судебном процессе в качестве присяжных заседателей?
— И сколько требуется народу? — заинтересовался Гумилев.
— Нам не хватает четырех человек, — выпалил юноша.
Не спрашивая согласия спутниц, поэт сделал приглашающий жест в открытую дверь, пропуская Татьяну и Зиночку перед собой, и, обернувшись, окликнул удаляющуюся Дору Ларс:
— Дора Исааковна! Сделайте одолжение! Уделите десять минут своего драгоценного времени Анатолию Федоровичу! Клянусь, не пожалеете.
Не смея перечить, Дора Ларс нехотя свернула в указанном направлении и стала четвертым недостающим присяжным заседателем на импровизированном судебном процессе знаменитого обвинителя Кони.
Санкт-Петербург, наши дни
Как же хорошо дома! Сидим втроем на диване, хрумкаем испеченные папой печенья и смотрим Ларса фон Триера. Папа пересматривает «Антихриста» по сотому разу — он почему-то очень ценит этот фильм. Катюня не слишком-то любит леденящую душу драму датского режиссера, время от времени прикрывая глаза ладошкой. Честно говоря, я была против того, чтобы малышке показывать все эти ужасы, и пыталась папу образумить, но он категорично заявил, что фильм полон символов и умный человек поймет их в любом возрасте.
— И потом, здесь музыка хорошая, — отец был непреклонен в своей решимости.
— Неужели ты думаешь, что пятилетняя малышка сможет постичь горе матери, потерявшей ребенка и не знающей, как еще наказать себя и мужа за сжигающее изнутри чувство вины?
— Когда я водил тебя на дни французского кино в кинотеатр «Художественный», ты была в том же возрасте, — нравоучительно заметил отец. — Ты прекрасно поняла и «Мужчину и женщину» Клода Лелюша, и «Дневную красавицу» Бунюэля. И потом, повторюсь, здесь музыка хорошая.
— Лейтмотивом фильма является ария Альмирены из оперы Генделя «Ринальдо».
— Я тоже знаю итальянский и в состоянии разобрать, что женщина поет «оставь меня плакать о моей жестокой судьбе и мечтать о свободе», — проворчал папа.
— Вот именно. Так что твоя «хорошая музыка» — тоже символ, не более того.
— Выучил на свою голову! — вспылил отец. — Как тебя, такую умную, в детстве не украли!
Я обняла отца за сильную шею и, вдыхая такой родной запах, промурлыкала:
— Нет, конечно, если ты считаешь, что «Антихрист» обязателен к просмотру пятилетним детям, я спорить не стану.
— Прошу не обобщать! — отстранился отец. — Не всем детям обязателен, а только Катерине! Она гораздо развитее других детей.
И вот теперь, когда фильм подходил к концу и зазвучали заключительные аккорды арии Альмирены, я с интересом ждала, что на этот раз скажет Катюня. По экрану поплыли титры. Малышка положила на диван недоеденное печенье и захныкала:
— Честное слово, я ничего не сделала! Ну, пожалуйста! Не наказывайте меня!
— Это что еще за новости? — удивился отец. — Ты подумала, что мы смотрели фильм в наказание?
— Я больше так не буду! — девочка терла кулачками мокрые глаза. — Только Жанне не говолите, что это я!
Катюня больше не хныкала, она заливалась горючими слезами.
— Что, малышка? — я взяла ее на руки и прижала к груди кудрявую детскую головку. — Что ты не делала?
— Это не я! Я не специально!
— Что не специально?
— Подложила Жанне в кловатку паука!
— Черт знает что такое! — поднялся с дивана отец, устремляясь из гостиной в коридор, а оттуда — в свою комнату. — Не поймешь этих детей, — крикнул он на ходу. — Я ей серьезный фильм показываю, а она — подложила паука!
— Жанна весь день со своим нехлом сидит! — жаловалась Катюня. — А у меня гиталку маленькую заблала и не отдает.
Маленькая гитарка, о которой горюет Катюня, — любимый Жаннин музыкальный инструмент под названием укулеле, откуда-то с Гавайских островов. Кузина исполняет на укулеле различные песни, записывает на видео и выкладывает в блог, вызывая восторг феминисток и повышая просмотры. И, следовательно, укулеле — вещь ценная, и маленьким девочкам брать ее категорически нельзя.
— Гиталку маленькую не дает! Я паука ей подложила!
— Не волнуйся, маленькая! Жанна не станет на тебя сердиться. Ты ложись в постельку, я приду пожелать тебе сладких снов.
— Плавда плидешь?
— Конечно, моя девочка.
— И гиталку плинесешь? — подняла на меня Катюня умоляющие глаза, сделавшись похожей на ангела с дореволюционных рождественских открыток.
— Не обещаю, но попробую.
Из комнаты кузины доносилась музыка, и играли отнюдь не на укулеле — Жаннин друг слушал англоязычный рэп. Деликатно постучав в дверь, я заглянула в комнату. И до того, как Жанна грудью оттеснила меня прочь, успела заметить лежащего на диване ее чернокожего приятеля.
— Чего ломишься? — возмутилась кузина. — Имею я право на личную жизнь?
— Прости, если помешала, — смутилась я. — Катюша по тебе скучает.
— А я здесь при чем? Я не нанималась возиться с детьми. Дай ей по заднице и отправь спать.
Про укулеле я сочла за благо не спрашивать и мягко сказала:
— Она и так уже легла. Ждет от тебя поцелуя на ночь.
— Не дождется. Я вообще придерживаюсь принципов чайлдфри. И детей ненавижу люто. Бешено. Дети выводят меня из равновесия и заставляют ощущать чувство вины непонятно за что. Кстати, вы досмотрели эту свою женоненавистническую муру?
— Не любишь ты Триера.
— Больной ублюдок, которого следовало бы расстрелять! Даже не знаю, что надо выкурить или вколоть, чтобы такое дерьмо насочинять! Я так и сказала дяде Мише, а твой отец обиделся и принес мне в кровать паука. Мужик, одно слово. Хоть и твой отец, а мозгов вообще нет. Представь себе, я, такая, готовлюсь заняться любовью, вся такая из себя романтичная откидываю одеяло — а там паук!
— И как ты с этим справилась?
— Тапком прихлопнула. А потом на расплющенном паучьем трупе занялась любовью. Ну ладно, раз уж ты меня выдернула из крепких мужских объятий, рассказывай, как у тебя дела?
Она оттеснила меня на кухню и уселась за стол. Я устроилась напротив.
— Не очень, если честно. Олег Иванович погиб.
— Молодой цветущий мужик — и вдруг погиб? — Жанна кинула себе в рот печенье и, начав жевать, многозначительно посмотрела на меня. — С чего бы это?
— Про теракт на вокзале слышала?
— Я телик не смотрю, — отмахнулась кузина. — И новости в инете читаю избирательно. Про теракты точно не читаю.
— Ну, в общем, был взрыв на Витебском вокзале.
Жанна зачерпнула с тарелки горсть печений и понимающе кивнула головой, объедая с каждой печенюшки верхушечку, а оставшееся ссыпая на стол.
— На Витебском вокзале долбанул взрыв, Полонский и погиб. Понятно. Но это не твои проблемы, а его. Так чего такая кислая?
— Да все как-то криво. Академик Граб, похоже, не тот, за кого себя выдает. Кажется, он на самом деле Палач Бурсянин, забравший из тайника бывшего заключенного Немца эфиопские богатства. А чтобы отвести от себя подозрение, старик написал книгу и объявил Палачом лагерного доктора Завьялова, много лет назад уехавшего в Канаду. Доктор уже умер, но внуки его намерены разобраться в этом деле. Академик рвет и мечет, грозится всеми карами небесными, но не думаю, что у него выйдет оправдаться. Слишком многое указывает на него.
— Тебе-то что за дело? That`s unbelievable![24] Подумать только! Ты за него переживаешь! Ты! За него! Совсем свихнулась! Завтра придешь к этому своему Грабу и скажешь, что возвращаешься в редакцию. А то, что Полонский погиб, так это даже к лучшему. Вместо него пришлют какого-нибудь нормального мужика, а лучше — деву, все и образуется. В зеркало давно смотрелась? Выглядишь просто кошмарно. Ты у себя одна, дорогая моя, не забывай об этом! Ну-ка, Софья, перестань нервничать и немедленно ложись спать!
— Пожалуй, ты права. По чашке чаю и в кроватку.
Я тоже взяла с тарелки и положила в рот печеньку, поверх печеньки кинула пилюлю, запила горячим чаем и, поцеловав Жанну в щеку, отправилась спать.
Утром проснулась в превосходном настроении. На кровати сидела Катюнька и рисовала на простыне синим фломастером диковинного зверя. Уши у зверя были ослиные, морда — как у ежика, беличий хвост и слоновьи ноги. И волчьи зубы на милой ежиной мордочке.
— Это я монстла налисовала, чтобы он тебя никуда не пустил, — деловито сообщила малышка. — И на цепь тебя посадила, чтобы ты никуда не ушла.
И в самом деле, мою щиколотку украшал нарисованный фломастером кривой браслет, от которого к шее диковинного зверя через простыню тянулась синяя нарисованная цепочка.
— Хочешь, я пораньше освобожусь, и сходим в парк, на аттракционы? — предложила я, перебираясь через нарисованного монстра и устремляясь в ванную.
— А плавда можно? — обрадовалась малышка, шествуя за мной и придерживаясь за подол моей ночнушки.
— Конечно!
Я подхватила легкое тельце и закружила по коридору. Около комнаты Жанны замерла, прислушиваясь. Музыка оттуда не доносилась, но это не означало, что там никого нет. Стараясь не шуметь, я занесла Катюню в гостиную, усадила перед телевизором и включила фильм. А сама отправилась на кухню, где колдовал над завтраком отец.
— Не понимаю, почему мы до сих пор не открыли кофейню? — поводя носом, выдохнула я.
Сегодня папа превзошел самого себя — испек умопомрачительный чизкейк, пахнущий так, что можно было слюной захлебнуться.
— Катюша уже позавтракала омлетом. Может, и ты для начала съешь омлет?
— Нет уж, я сразу перейду к десерту, — усмехнулась я, усаживаясь за стол и придвигая к себе блюдо с чудесным пирогом.
— И я пелейду к деселту! — вбежала на кухню малышка, размахивая укулеле.
Взобравшись на сиденье дивана, она кинула маленькую гитарку рядом с собой и принялась тянуть тарелку на себя, ухитряясь при этом отламывать ложкой большие куски и отправлять отломанное в рот. Я не осталась в долгу, азартно ковыряя чизкейк с противоположного конца.
— Спокойно, девочки! — пресек нашу возню отец. — Оставьте Жанне!
— Она не хочет, — прочавкала Катюня. — Она утлом плишла, легла спать и будет спать тепель весь день — она так и сказала.
— Ладно, доедайте, к вечеру я новый испеку, — разрешил папа.
— Все-все, я уже наелась, спасибо большое, — поднялась я из-за стола. — Нужно срочно на работу бежать.
Я вышла на улицу и подставила солнцу лицо. В самом деле, Жанна права — лучше вернуться в редакцию. Ради приличия съездить к академику, извиниться и тут же уйти. На метро доехала до Спасской, подошла к дому старика и еще у подъезда увидела черную машину следственного комитета и серый автобус криминалистической экспертизы.
Зазвонил смартфон, но я прямо в кармане сбросила вызов, зашла в подъезд и у лифта столкнулась с высоким и худым сотрудником прокуратуры. Синяя форма сидела на нем мешковато, и смешно торчали уши на бритой голове, но это не мешало прокурорскому держаться излишне самоуверенно. Шагнув ко мне так, словно меня и ждал, лопоухий юноша проговорил:
— Гражданка Кораблина? Софья Михайловна?
Я растерянно попятилась:
— Да, это я.
— Следуйте за мной, — распорядился прокурорский. И шагнул в кабину лифта.
В гробовом молчании мы поднялись на этаж академика Граба и прошли в его квартиру. Было людно, и, судя по преобладанию синего тона в одежде, в основном здесь собрались сотрудники прокуратуры. Хотя суетились и люди в штатском, снимая отпечатки, фиксируя всевозможные следы и щелкая затворами фотокамер. Меня провели на кухню, передав в руки бесцветной пожилой женщины в синем форменном костюме. Дама сидела за столом и, насколько я успела заметить, координировала работу следственной бригады, громко отдавая распоряжения. Рассматривая меня, она поправила низкий пучок на затылке и холодно представилась:
— Следователь прокуратуры Галкина Людмила Николаевна. Прошу вас, Кораблина, присаживайтесь.
Дождалась, когда я усядусь напротив нее, и продолжила:
— Софья Михайловна, нам необходимо взять у вас отпечатки пальцев.
Следователь кивнула застывшему в ожидании седому мужчине, тут же устремившемуся ко мне с чемоданчиком и проворно принявшемуся мазать мне подушечки пальцев чернилами. Откатав отпечатки, он покинул кухню и устремился в кабинет академика, откуда сразу же послышались обрывки разговора:
— Живем, ребята! Теперь есть с чем сравнить…
— Вот фото, держи…
— Я уверен, что совпадут… Ну, так я и думал…
Галкина встала со стула и плотно прикрыла дверь.
— Прошу вас, Софья Михайловна, ответьте на несколько вопросов, — проговорила она, возвращаясь на прежнее место. — Какое отношение вы имеете к академику Грабу?
— Выполняю у Викентия Павловича работу секретаря.
— Значит, вчера вы были в этом доме?
— Была. Привезла Викентия Павловича из Бежецка.
— Во сколько вы ушли?
— Около двух часов ночи.
— И больше сюда не приходили?
— Конечно же, нет.
Сотрудница прокуратуры развернула ко мне экран стоящего посреди стола компьютера и включила воспроизведение. На запустившейся видеозаписи таймер показывал без пяти четыре утра. К подъездной двери академика подошли девушка и парень, в которых я без труда узнала Жанну и ее чернокожего дружка. На Жанне была одежда, которую я прикупила в «Спортмастере» — должно быть, кузина прибрала спортивный костюмчик и фирменные кроссовки к рукам, посчитав, что это не мой стиль и ходить я в этом не буду.
— Это запись с камеры наблюдения из супермаркета «Азбука вкуса». С этой точки отлично просматривается парадное дома академика. Софья Михайловна, что вы делали у Граба в четыре часа ночи?
— Это не я, это моя кузина, — с улыбкой пояснила я. — Вы же видите, вместе с Жанной ее парень. Я даже не знаю, как его зовут.
Между тем Жанна на экране монитора достала из кармана спортивных брюк старинный ключ характерного вида — тот самый, который мне передал Меркурьев, — и отперла подъездную дверь. Следователь переводила глаза с экрана на меня и обратно, и было заметно, что она не верит ни единому моему слову.
— Откуда у Жанны эти ключи? — в голосе следователя Галкиной звучало откровенное недоверие.
— Понятия не имею, — честно ответила я. — Возможно, кузина взяла их из моей сумки, ибо мы живем в одной квартире, и я не имею привычки запирать свои вещи. А вообще-то мы с Жанной непохожи. Она на пятнадцать кило тяжелее и на семь сантиметров ниже. Забейте в гугле «Жанна Жесть» или «Орлянская Дева» и сами увидите, как выглядит моя кузина.
Мне надоело оправдываться, не понимая, в чем дело, и я повысила голос:
— Может, вы объясните, что, собственно, случилось? На каком основании вы меня допрашиваете? И где академик Граб?
— Пойдемте.
Следователь поднялась из-за стола и распахнула дверь в коридор.
— Софья Михайловна, прошу вас.
Я проследовала за Галкиной до кабинета и остановилась в дверях. В комнате царил страшный беспорядок, словно там что-то очень тщательно искали. Картины были сорваны со стен и валялись на полу, мебель перевернута, книги выкинуты из шкафов. И повсюду кровавые отпечатки огромных кошачьих следов. А в кресле, откинув голову и зияя рваной раной в горле, раскинулся бездыханный Викентий Павлович.
— Софья Михайловна, подойдите сюда, — проговорила следователь, приближаясь к залитому кровью телу.
Я подошла и увидела, что на груди убитого, прямо на слипшейся окровавленной бороде, лежит выполненная поляроидом фотокарточка. На снимке изображен насмерть перепуганный академик. Пока еще живой. И в руке Викентий Павлович держит гемму из словно бы подсвеченного изнутри зеленого камня. Гемма представляла собой половину гладко отполированного яйца размером с ладонь взрослого мужчины, на выпуклой части которого была изображена белоснежная церковь, а под ней — некие странные буквы, слагающиеся в какой-то загадочный текст. Нетрудно было догадаться, что это и есть гемма царицы Савской, о которой с таким увлечением рассказывал академик.
— Что здесь произошло? — сдавленно спросила я, начиная догадываться.
— Убийство с отягчающими, — пояснил фотограф, продолжая щелкать камерой. — Скорее всего, ритуальное.
— Ты что, специалист, чтобы давать оценки? — накинулась на фотографа следователь Галкина. — Делай свою работу и не суйся в мою.
— Эксперт сказал, что печени нет. Вырвали печень с корнем, вот я и подумал, — оправдывался сотрудник следственной бригады. — И следы повсюду. Странные следы, Людмила Николаевна. Вы не находите?
Следы походили на те, которые описывались в богато иллюстрированной английской книге академика, в которой я читала статью про людей-леопардов. Но я сочла за благо промолчать, ибо моя излишняя осведомленность непременно вызвала бы ненужные вопросы.
— Занимайся своим делом, — недовольно глядя на фотографа, повысила следователь голос. И, обращаясь ко мне, заметила: — Похоже, что вы, Софья Михайловна, привели убийцу в дом и даже сделали поляроидом снимок. Вы пособница, госпожа Кораблина. Я берусь предположить, что Викентия Павловича Граба убили за изображенную на фотокарточке гемму, потому что саму гемму в квартире так и не нашли.
Все это выглядело дико. И совершенно неправдоподобно. Но гемма, скорее всего, и в самом деле все это время хранилась у академика. Его стали пытать, и старик отдал украденное сокровище. Ибо не выносил боли.
— Это ерунда какая-то, — чуть слышно выдохнула я. — Ночью я сюда не приходила. Я дома спала.
— Но кровавый отпечаток на снимке принадлежит вам, — с нажимом произнесла Галкина. — Придется проехать в прокуратуру.
Я не возражала и даже ни капли не была напугана — понятно же, что это какое-то недоразумение, которое сейчас разрешится, и меня отпустят домой. Возможно, Жанна и в самом деле помогла своему чернокожему другу, но моя сестра не убийца — это я знала наверняка. Мы подъехали к прокуратуре, и я страшно обрадовалась, увидев живого и здорового Олега Ивановича. Я даже не думала, что главный редактор мне настолько небезразличен.
Полонский стоял в компании Жанны. Вернее, в первый момент я подумала, что это Жанна, но потом поняла, что обозналась — эту женщину я не знала. Как и Жанна, она носила очки, отвергала косметические ухищрения по улучшению внешности и одевалась так, чтобы максимально подчеркнуть свою природную сущность — пузатенькую, слегка кривоногую, с некрасивой, никогда не знавшей бюстгальтера грудью.
Олег Иванович томился у дверей прокуратуры, похожая на Жанну дамочка курила ему в лицо. Когда меня провели мимо них, Олег Иванович улыбнулся и трогательно проговорил:
— Держитесь, Соня! Я не дам вас в обиду!
Петроград, август 1921 года
Некогда Анатолий Федорович Кони являлся почетным академиком, сенатором, действительным тайным советником, членом Государственного совета, кавалером разнообразных орденов и много кем еще. Революция лишила знаменитого прокурора титулов и званий, превратив в обычного гражданина. Кони принял новый режим и, несмотря на преклонный возраст и невозможность передвигаться без костылей, согласился с предложением Луначарского вести в Институте живого слова практические занятия по искусству ораторской речи. При этом методы его были весьма оригинальны — вместе с учениками Анатолий Федорович инсценировал реальные судебные процессы, проходившие много лет назад, после чего проводил тщательный разбор ошибок, допущенных как своими нынешними учениками, так и судейскими чиновниками прошлого.
Войдя в аудиторию, в первый момент Татьяна испытала неловкость, ощутив себя в настоящем суде. На главном месте красовался «председатель судебной палаты» — упитанный юнец в студенческой тужурке. В роли «прокурора» выступала девица с румяным круглым лицом. В стороне на отлете восседал «адвокат» — черноглазый кавказец со смоляными локонами до плеч, казавшийся значительно старше остальных. А у него за спиной томился «подсудимый» — хрупкий юноша с тоскливым взором и наивным выражением лица.
Закрыв за вошедшими дверь, расторопный гонец вытянулся во фронт перед сидящим за кафедрой прозрачным старичком и отрапортовал:
— Вот, Анатолий Федорович! Привел недостающую четверку «присяжных заседателей»!
— Ну что же, коллега, займите свое место и приступим к «процессу».
Место юноши оказалось там же, на «скамье присяжных». Пока все рассаживались, Кони слабо махнул рукой, и высокая худая девица-«секретарь» развязала тесемки картонной папки и с выражением провозгласила дребезжащим от напряжения голосом:
— Слушается дело уроженца поселка Рялляля крестьянина Реймо Сааринена, обвиняемого в убийстве малолетних брата и сестры Юшкевичей.
Внутри у Тани все похолодело, сердце гулко стукнуло и рухнуло вниз. Только что прозвучала фамилия ее друзей по даче. Надо же, а она и не знала, что Юшкевичей убили. И кто? Безобиднейший Реймо! Татьяна прекрасно помнила близнецов. Одно время даже дружила с ними. Особенно с Галей. Слава казался ей слишком капризным и избалованным, хотя он охотно принимал участие в девчачьих забавах. Но играть с ним было невозможно. Каждый раз мальчишка придумывал новые правила игры и требовал, чтобы все было непременно так, как он захочет.
Первым слово взял «прокурор», и папку с «делом» секретарь положила перед ним.
— Тринадцатого июля тысяча девятьсот шестого года в местечке Рялляля были обнаружены тела десятилетних близнецов Галины и Станислава Юшкевичей, — стал зачитывать «прокурор». — Трупы нашел сторож дачного поселка Савелий Лямпе, отправившийся в лес за щепками для печи. Дети лежали под березой, в позе спящих, и только при ближайшем рассмотрении сторож догадался, что они задушены. Мальчик был одет в платьице девочки, девочка — в матросский костюмчик мальчика. Следствие установило, что Слава Юшкевич задушен руками, а Галя Юшкевич — витым шнуром, оставленным у нее на шее. Сей шнур по показаниям свидетелей служил поясом Реймо Сааринену. Пастуха Сааринена, проводившего лето на пастбище в шалаше, обвинили в двойном убийстве. Вину обвиняемый не признал, хотя у преступника были найдены вещи убитых — перочинный нож, принадлежавший Славе, и игрушка Гали — глиняная свистулька в виде соловья. Кроме того, дачники часто видели убитых детей в обществе Сааринена, а в день убийства пастух катал Славу Юшкевича по лугу на лошади. Реймо Сааринен характеризуется как человек крайне ограниченный и недалекий. Обвинение считает Сааринена виновным и требует строго наказать за содеянное, применив к виновному бессрочные каторжные работы.
— Слово предоставляется защите, — сообщил «председатель».
Секретарствующая девица забрала «дело» у «прокурора» и отнесла «защитнику».
«Адвокат» тут же поднялся с места и с сильным кавказским акцентом торжественно начал:
— Как следует из материалов дела, медицинское обследование моего подзащитного не проводилось, хотя свидетели в один голос говорят о душевной болезни Реймо Сааринена, называя его то деревенским дурачком, то припадочным. В показаниях крестьянки Степаниды Лукьяновой говорится о падучей болезни — то есть о частых эпилептических припадках и сильной дрожи рук моего подзащитного. Лукьянова показывает, что обвиняемый не мог поднести чашки ко рту, чтобы не расплескать.
— Не понимаю, уважаемый, к чему вы клоните, — язвительно заметил «прокурор». И, обращаясь к «присяжным», иронично пояснил: — Должно быть, товарищ «защитник» пытается донести до нас мысль, что руки Сааринена дрожали так сильно, что преступник не имел возможности накинуть удавку на шею потерпевшей.
Зиночка громко захохотала, Гумилев усмехнулся, не сдержали улыбки и остальные присяжные. Все, кроме Татьяны. Она сидела, погруженная в свои мысли, и смотрела перед собой остановившимся взглядом.
— Отнюдь, — надменно глянул «адвокат» на «прокурора». И обернулся к «председателю суда»: — Если многоуважаемый «обвинитель» даст защите возможность продолжать, я докажу, что «обвиняемый» причастен к убийству не более, чем мы с вами.
— Пожалуйста, продолжайте, — равнодушно произнес «председательствующий».
«Адвокат» перелистнул пару страниц «дела» и с напором заговорил:
— Так вот. Из протокола осмотра трупов явствует, что убитые дети выглядели совсем по-разному. Девочка лежала с растрепанными волосами, собранными на затылке в «хвост», в порванном костюмчике, точно она убегала, а ее догоняли и ловили, без церемоний хватая за что придется. В то время как мальчик был аккуратно одет в платье сестры и даже длинные, до плеч, волосы его были заплетены в опрятные косы необычным плетением «колосок». Я пробовал — самому себе заплести такие косы почти невозможно, особенно на не слишком длинные волосы.
В зале засмеялись, но «адвокат» не обратил на смех внимания.
— Значит, убитому мальчику косы кто-то заплел, — гнул свою линию «защитник». — С трудом могу себе представить, что десятилетнего мальчика таким образом причесали родители перед тем, как отправить гулять в лес. Теперь я хочу спросить у господ «присяжных заседателей»: мог ли сельский дурачок, страдающий тремором рук, так ловко заплести погибшему ребенку мудреную косичку? Ответьте на сей вопрос и только после этого выносите окончательный вердикт.
— Не знаю, коллега! — протянул Кони. — Вы выбрали довольно удачную линию защиты, подметив обстоятельства, напрочь ускользнувшие от защищавшего Реймо Сааринена общественного адвоката. Адвокат Реймо пытался доказать невиновность своего подзащитного, ссылаясь на то, что пастух часто терял вещи, потерял и поясок, и кто угодно мог его найти и использовать столь страшным образом. Для присяжных эти доводы показались недостаточными для вынесения оправдательного приговора. Ваши аргументы, несомненно, выглядят весомее. Хотя косы брату могла заплести и сестра. Впрочем, она даже себе не заплела косы. Может быть, не умела? Ну что же, продолжайте! — Кони благосклонно кивнул «председателю суда».
— Если товарищ «прокурор» не имеет больше возражений, прошу «присяжных» перейти в совещательную комнату.
Роль «совещательной комнаты» выполнял отгороженный стульями угол, и одиннадцать присяжных послушно поднялись и двинулись в указанном направлении. И только Татьяна продолжала сидеть. Лицо ее сделалось бледным как бумага, зрачки расширились, закрыв собой зеленую радужку.
— Тань, пойдем, — тронула подругу за плечо Зиночка. — Надоело тут. Побыстрее бы покончить с этим «судом».
Татьяна поднялась и на негнущихся ногах пошла за остальными. Дрожащей рукой вывела на протянутом бумажном клочке напротив каждого пункта «обвинения» «невиновен» и молча ждала, когда ретивый юноша, зазвавший их в «присяжные», соберет у всех листочки и передаст «председателю суда».
Ознакомившись с «записками», «председатель» торжественно провозгласил, что «присяжные заседатели» пришли к единогласному решению «подсудимого» признать «невиновным» по всем пунктам и освободить прямо в «зале суда».
— Что означает грамотно построенная линия защиты! — торжествовал Кони. — Не зря знаменитый Андриевский называл своих коллег-адвокатов «говорящими писателями», а защиту в суде — «литературой на ходу»! И это не метафора, это факт! После выступления толкового «адвоката» все, как один, присяжные вынесли оправдательный приговор! А в девятьсот четвертом году бедняга Реймо Сааринен был признан виновным и до конца жизни сослан в Сибирь на каторгу.
Заслуженный прокурор растроганно посмотрел на Гумилева и проговорил:
— Николай Степанович, благодарю за отзывчивость. Вас и ваших учениц. Если располагаете временем, оставайтесь, поработаем еще. Ежели торопитесь — не смею вас больше задерживать.
Гумилев поднялся, манерно поклонился старику и стремительно вышел из класса, нимало не заботясь, следуют за ним ученицы или нет. Зиночка и Дора последовали, а Татьяна осталась сидеть. Она крайне невнимательно слушала разбор оставшихся выступлений и, когда все стали расходиться, устремилась к Кони. Взгляд ее блуждал, губы тряслись, и старик, подняв на девушку близорукие глаза, даже отшатнулся. Татьяна быстро и умоляюще заговорила:
— Анатолий Федорович! Миленький! Очень вас прошу, не откажите!
— Да что с вами, голубушка? — забеспокоился Кони. — Ну-ну, успокойтесь. На вас лица нет.
Старик плеснул из графина воды и, подавая собеседнице полный стакан, подбодрил:
— Вот, выпейте и расскажите, что вас тревожит.
Татьяна молчала, держала в руке полный стакан и только смотрела страдающими глазами.
— Ну же! — снова подбодрил преподаватель судебной риторики. — Обещаю, сделаю для вас все, что в моих силах.
Собравшись с духом, Татьяна начала:
— Анатолий Федорович, мне просто необходимы материалы дела Сааринена. Анатолий Федорович, миленький, дайте мне папку с делом на один вечер, завтра я вам верну.
— Пожалуйста, голубушка! — Кони протянул ей папку. — Забирайте. Никакой особой ценности это дело не представляет. Это мне, старику, интересно разбирать с юридической точки зрения профессиональные ошибки бывших коллег. — И, хитро глянув на Татьяну, уточнил: — Вы что же, поэму с криминальным уклоном собираетесь писать?
Татьяна уже взяла себя в руки и, поставив стакан на кафедру, в тон бывшему прокурору откликнулась:
— Одоевцева же написала «Балладу о толченом стекле», так почему бы и мне не попробовать?
— Ну что же, дерзайте! — одобрил Кони. — И все же позволю себе усомниться. Что-то мне не верится, что дело Реймо Сааринена вам нужно для стихосложения. Удовлетворите любопытство старика, скажите, если не секрет, для чего оно вам?
Яворская помолчала, глядя в сторону, и, прижимая папку к груди, тихо произнесла:
— Хочу проверить одну свою догадку. Мне кажется, я знаю, кто настоящий убийца близнецов.
Санкт-Петербург, наши дни
В кабинете следователя Галкиной оживленно беседовали трое. В основном говорил главный редактор издательского дома «Миллениум». Следователь напряженно слушала, поглядывая на сидящую напротив нее спутницу Олега Ивановича.
— Прямо голова идет кругом от всех этих событий! — откидываясь на спинку стула, посетовал Полонский. — Все так навалилось, прямо одно к одному. Вчера сотрудник редакции во время теракта погиб. Вместо меня погиб, и это особенно неприятно. Это я должен был ехать в Прибалтику, но отправил вместо себя Илюшу — банально не успевал. И днем взрыв на вокзале. А ночью академика убили…
— Полагаю, эти вещи никак между собой не связаны, — поигрывая ручкой, откликнулась Людмила Николаевна.
Полонский подался вперед.
— Как знать, как знать, — высоким голосом пропел он, растягивая гласные. — Вы должны понять, что Софью Кораблину использовали. Девушку приставили к академику Грабу не просто так. Тот, кто это сделал, все очень хорошо продумал и рассчитал. Этот человек ненавидел Викентия Павловича и мечтал о его скорейшей кончине. Я страшно жалею, что стал невольным участником этой трагедии.
— Каким же, позвольте полюбопытствовать, образом? — заинтересовалась следователь.
Полонский замялся и через секунду выдавил из себя:
— Я дал согласие на то, чтобы Соню Кораблину временно прикомандировали к Викентию Павловичу.
— Насколько я понимаю, вы ее непосредственный начальник. А как Кораблина попала к вам в редакцию?
— Софью Михайловну порекомендовал один наш топ-менеджер, ныне возглавляющий Ростовский филиал издательского дома. Не скрою, Соня Кораблина мне очень нравится. Можно даже сказать, что я всерьез увлекся этой девушкой, поэтому судьба ее для меня небезразлична. Кораблина не журналист, но пишет хорошо и тему знает. И все-таки человек, можно сказать, с улицы. Поэтому, когда я взял Соню к себе работать, я попросил одного своего друга, имеющего такую возможность, навести о новой сотруднице справки. Мне было предоставлено полное досье на девушку, в котором оказалась вся ее подноготная. Вся информация, кроме сведений о том, что Соня серьезно больна. Осведомитель отнюдь не случайно скрыл тот факт, что Кораблина наблюдалась у психиатра. Я копнул глубже и вышел на Ладу Валерьевну Белоцерковскую. Одно время доктор Белоцерковская помогала Соне справиться с ее проблемами. А потом Соня отказалась от ее помощи, и Лада Валерьевна не могла на этом настаивать, ибо диссоциативное расстройство личности не считается опасным заболеванием и не подлежит обязательному врачебному наблюдению.
— Какое, вы говорите, расстройство? — приготовилась записывать Галкина, открыв блокнот и пристально глядя на собеседника.
— Я могу что-то напутать, — смутился главный редактор. — Доктор Белоцерковская расскажет о Сонином недуге значительно лучше меня.
Теперь заговорила спутница Олега Ивановича:
— Чуть более года назад Соня пережила трагедию, в автомобильной катастрофе погибли отец и мать Кораблиной. У меня есть записи реабилитационных сеансов, если позволите, я покажу.
Следователь кивнула, и доктор Белоцерковская вынула из сумки и разложила на рабочем столе небольшой ноутбук, включив на воспроизведение. Засветился экран, на дисплее появилось изображение маленького уютного кабинета с сидящей на диване Соней Кораблиной. Она сидела, точно маленькая девочка, подобрав под себя ноги, и с любопытством поглядывала на не попадавшую в кадр собеседницу.
— Соня, расскажи, что ты помнишь о гибели родителей? — раздался за кадром голос Белоцерковской.
Кораблина по-детски хихикнула и с вызовом откликнулась:
— А Соньки нет.
— Ты не Соня Кораблина? — удивилась ее собеседница.
— Нет.
— Где же Соня?
— Сонька спит.
— А как тебя зовут?
— Света.
Доктор помолчала и ласково произнесла:
— Здравствуй, Света. Сколько тебе лет?
— Восемь, — охотно откликнулась пациентка. И плачущим голосом заговорила: — Остальные обзывают меня ябедой, а я не ябеда, я честная. Я всегда говорю правду. Хотите, я расскажу, как Сонька папу и маму убила? Папа у Соньки всегда пропадал в командировках, и с самого детства мама запирала ее в шкаф, чтобы Сонька не мешала ей встречаться с мужчинами. Сонька возненавидела маму и много лет хотела рассказать все папе, но она ужасная трусиха и боялась, что мама рассердится и стукнет ее, чтобы Сонька не болтала языком. А перед самой аварией Сонька поругалась с мамой и все-все рассказала папе. Рассказала, как мама била ее по губам, как запирала в шкаф, как приводила других мужчин. Папа взбесился, посадил маму в машину и поехал убивать. И по дороге они врезались в столб. Это Сонька во всем виновата!
Белоцерковская выключила запись и посмотрела на следователя.
— При синдроме множественных личностей, — психиатр закусила губу, подбирая слова, — первоочередная задача специалиста состоит в том, чтобы объединить между собой наиболее опасные для пациента личности. Света казалась мне самой опасной, злобными выходками травмируя и без того шаткую психику Кораблиной, поэтому я работала над решением проблемы Светы. Остальные личности казались мне менее опасными. И я оставила их на потом. Но тот самый топ-менеджер, который привел Соню в «Миллениум», Алексей Лукьянов, уговорил девушку отказаться от моих услуг. В тот момент он называл себя ее женихом и не хотел, чтобы его невесту наблюдал психиатр.
— Почему не хотел? — удивилась Галкина. — Что в этом такого?
— Ну как же! — криво улыбнулась Белоцерковская. — Лукьянов блестящ, перспективен, занимает руководящие посты, и тут вдруг — невеста с расстройством личности. Проще сделать вид, что никакого расстройства у Сони не существует. Не спорю, может быть, Соня и справилась бы сама, но Алексей уехал, оставив Кораблину один на один с ее проблемами. Во что это вылилось, мы знаем. От Светы мне Соню удалось избавить, от Жанны и остальных — нет.
— А что, кроме Жанны, были и другие личности? — недоверчиво уточнила Галкина.
— Они и сейчас есть, — доктор устало вздохнула. — Вызовите Кораблину, сами увидите. Скорее всего, придет не Соня, а Катюня. Ей пять лет, и она появляется всегда, когда Соня сильно напугана.
Следователь нажала кнопку вызова и по селектору распорядилась:
— Приведите Кораблину!
В кабинет ввели задержанную, жалко и затравленно оглядывающуюся по сторонам. Увидев психиатра, она радостно вскрикнула и с видом потерянного ребенка, вновь обретшего мать, бросилась к ней на шею. Вскарабкалась Ладе Валерьевне на коленки и затихла. Следователь Галкина было рванулась со своего места, сделав попытку остановить Кораблину, но доктор сделала знак не вмешиваться и ласково проговорила:
— Здравствуй, Катюня.
— Тетя Лада! — с детскими интонациями залопотала Кораблина, гладя врача ладошкой по щеке.
— Как ты без меня поживаешь?
— Плохо поживаю! Жанна не хочет давать гиталку маленькую! Знаешь, как я люблю на ней иглать? Ты скажи, чтобы давала!
— Конечно, маленькая, скажу! Как ты провела это утро?
Вид у Кораблиной сделался лукавый, она понизила голос и ответила:
— Я лисовала.
— И что же ты нарисовала?
— Монстла на Сониной кловатке. Чтобы монстл ее никуда не пускал. А еще налисовала цепочку, и бласлет для ноги, и плистегнула Соню к монстлу.
Следователь Галкина с грохотом отодвинула стул, выбралась из-за стола, широким шагом приблизилась к Кораблиной и потянула вверх узкую джинсовую брючину, открыв испачканную фломастером щиколотку. Задержанная теснее прижалась к Ладе Валерьевне, испуганно отдернув ногу и пронзительно вскрикнув детским голоском. Следователь удивленно посмотрела на доктора и вернулась за стол.
— Катюня, ты можешь позвать Жанну? — попросила Белоцерковская, глазами сделав знак больше не вмешиваться.
— Зачем? — насупилась задержанная, засовывая в рот указательный палец.
— Я хочу ее попросить, чтобы она давала тебе маленькую гитарку.
— Жанна заклылась у себя и не выходит.
— А ты постучи.
Кораблина напряженно замерла, на лице ее отразилась борьба захлестывающих ее эмоций. Наконец плаксивое выражение сменилось суровым, она резко встала с колен доктора Белоцерковской, достала из кармана круглые очки, водрузила на переносицу и окинула присутствующих тяжелым взглядом. Правое глазное яблоко нервозно дергалось, губы кривились в презрительной усмешке.
— Не получит Катька укулеле, — хрипло сказала она голосом, совершенно непохожим на голос Кораблиной. — Можете ей так и передать.
Следователь Галкина выпрямилась на стуле и во все глаза смотрела на удивительные метаморфозы, происходящие с задержанной.
— Жанна, с кем вы были этой ночью у профессора Граба? — осведомилась Белоцерковская. — Вы знаете, что с ним произошло?
— Да ясно все, что вы хотите мне сказать! — хрипло оборвала ее Кораблина. — В нашем обществе improperli[25] жить с цветным парнем, да еще с эфиопом из секты людей-леопардов. По лицам вижу, что вы все меня осуждаете. Но мне плевать. Я сделала то, что считала нужным, и не жалею об этом старом козле. Старик был конченый сексист, доканывал Софью тупыми подкольчиками. И вообще был редкая мразь. Всю жизнь врал, как конь, прикидываясь порядочным.
Она кивнула на Полонского и злобно выдохнула:
— А ты чего глазами меня раздеваешь? Прикидываешь, под каким предлогом ко мне в штаны залезть?
— И в мыслях не было, — опешил главный редактор.
— Хорош врать. Ты, faking bastard[26], Соньку можешь разводить на секс тупыми байками о нахлынувших чувствах, со мной эти штучки не проканают!
Она обвела злобным взглядом всю компанию и не сказала — выплюнула:
— Так что идите вы все со своими вопросами знаете куда?
Лицо Кораблиной снова застыло, и через секунду приняло прежнее жалобное выражение. Она по-детски всхлипнула, села на пол рядом со стулом психиатра, положила голову к Белоцерковской на колени и сосредоточенно перебирала бахрому на газовом шарфе доктора.
— Лада Валерьевна, я бы хотела поговорить с вами без задержанной, — сдавленно произнесла следователь, нажатием кнопки вызывая конвой.
— Катюня, маленькая, — ласково произнесла доктор Белоцерковская, гладя пациентку по волосам и забирая из пальцев бахрому шарфа. — Тебя сейчас уведут в другую комнату, но скоро я за тобой приду.
Кораблина неохотно подняла голову с колен врача, встала с пола и, боязливо озираясь на Полонского, вышла следом за конвоиром. Как только за ними захлопнулась дверь, главный редактор победоносно произнес:
— Вы сами все видели! Соня Кораблина не может отвечать за поступки живущих в ней личностей.
— Она же притворяется! — усмехнулась следователь. — Я не верю Кораблиной!
— Но Соня действительно спала в ночь убийства и не знает, что делала Жанна, — убежденно заявила Белоцерковская. — Я видела в интернете блог Жанны Жесть, да и саму Орлянскую Деву вы только что имели возможность лицезреть. Как профессионал, я утверждаю, что Соня и Жанна — две абсолютно разные личности. У Жанны нистагм[27] правого глаза. Нистагм не поддается симуляции, даже если очень захотеть. Если не верите мне, пригласите компетентного окулиста и специалистов по диссоциативным расстройствам личности, пусть они вынесут свои компетентные суждения.
Полонский поднялся со стула и подошел к столу следователя, напористо говоря:
— Тот, кто все это подстроил, знал о Сониных множественных личностях, и к личности Жанны подослал эфиопа-убийцу, чтобы она помогла разделаться со стариком.
— Олег Иванович, вы все время говорите загадками, — поморщилась Галкина. — «Тот, кто знал» да «тот, кто подстроил»! Вы можете назвать имя того, кто, по вашему мнению, использовал в своих преступных целях Софью Кораблину?
— Я говорю о Сергее Меркурьеве, — глухо откликнулся Полонский, вставая прямо напротив Галкиной и опираясь на ее стол обеими ладонями. — У меня есть видеозапись, где Меркурьев забирает сверток у чернокожего парня, убившего Граба. В этом свертке большие ценности, на которые дочь Граба очень рассчитывала, а старик все не умирал и не умирал.
Галкина в недоумении наморщила лоб.
— Это вы о каком Меркурьеве? Том самом, из пресс-службы управделами президента?
— О том самом Меркурьеве из пресс-службы управделами президента.
— Ну, вы хватили! — фыркнула следователь. — Я даже не стану пытаться пристегнуть Меркурьева к этому делу. Все равно ничего не получится. У Меркурьева связи на самом верху. Да и зачем вам Меркурьев, если комиссия все равно признает Кораблину невменяемой и отправит в лечебницу? Доктор Белоцерковская ее подлечит, через годик выпишут вашу красавицу, снова пристроите ее к себе в журнал, и все будут счастливы.
— Нет, подождите! Как это — подлечит? — задохнулся от возмущения Полонский. — Я требую, чтобы заказчик убийства понес наказание.
Но следователь Галкина была непреклонна.
— Вряд ли это получится при сложившейся ситуации, — жестко парировала она, захлопывая блокнот.
— Тогда я соберу пресс-конференцию и расскажу все, что знаю об этой истории! — главный редактор буквально скрежетал зубами от злости.
— Это ваше право, — невозмутимо кивнула Галкина. Открыла еженедельник и сделала запись, пояснив: — Лада Валерьевна, а вас я включаю в список специалистов по психиатрической экспертизе Кораблиной.
Она протянула насупившемуся Олегу две полоски бумаги с круглыми печатями и произнесла:
— Спасибо за помощь, господа. Вот, возьмите пропуска. Всего хорошего. Больше я вас не задерживаю.
Главный редактор придержал дверь кабинета, пропуская доктора Белоцерковскую вперед. И, сбегая следом за ней по ступеням широкой лестницы прокуратуры, сердито грозился:
— Пусть не думают! Я этого так не оставлю! Это дело получит широкий общественный резонанс! Я соберу представителей крупнейших медиахолдингов. Журналисты обожают сенсации подобного рода. Руководитель одного из отделов пресс-службы управделами президента использовал больную девушку, чтобы ее руками убрать неугодного старика! Какой цинизм! Оторопь берет.
Спустившись вниз и стоя рядом с машиной, Полонский возбужденно проговорил вместо прощания:
— Лада Валерьевна, жду вас завтра к шести часам на Васильевском острове в кафе «Вторая древнейшая». Это в Кадетском переулке, там найдете. Вы мне очень нужны.
— А без меня никак нельзя? — неохотно откликнулась женщина.
— Нет, без вас никак. Я соберу пресс-конференцию, и мы с вами закатим такой скандал, что чертям станет жарко, — усмехнулся главный редактор, и на лице его отобразилась столь бешеная злость, что психиатр взглянула на собеседника с профессиональным интересом.
Петроград, август 1921 года
В этот раз в номерах на Гороховой они задержались недолго. Около девяти часов вечера уже стояли в прихожей и собирались покинуть любовное гнездышко.
— Что с Яворской, не понимаю, — дернул плечом Гумилев, помогая Зиночке надеть изящное летнее пальто. — Неужели история семнадцатилетней давности про убиенных детей произвела на нее столь глубокое впечатление?
— Ничего удивительного, — невозмутимо откликнулась Зиночка, просовывая руки в шелковые рукава. — Мы с Татой в детстве жили в Териоках и дружили с Юшкевичами. Особенно с Галей. Наши дачи были по соседству.
— Вот даже как? — удивился Гумилев. — И, несмотря на это обстоятельство, вы, Зинаида Евсеевна, остались равнодушны к разворачивавшемуся перед нами судилищу над безвинно приговоренным пастухом?
— А что же, Николай Степанович, прикажете рыдать и рвать на себе волосы? — усмехнулась Бекетова-Вилькина.
— И все-таки вы удивительная женщина, — с изумлением разглядывая подругу, протянул Гумилев. — Очень современная. И совершенно не склонная к рефлексиям. За что вас и ценю.
Довольная комплиментом, Зиночка улыбнулась. Гумилев распахнул перед дамой дверь и, подозвав извозчика, повез ужинать. Домой Зинаида вернулась к полуночи. Вошла в парадное, поднялась по овальным пролетам лестницы и увидела сидящего на подоконнике Штольца.
— Зинаида Евсеевна! — обрадовался сосед. — Вот и вы! Я уже начал беспокоиться! Звоню, стучу — никто не открывает.
— Странно, Тата должна быть дома, — протянула Бекетова-Вилькина, поворачиваясь спиной к собеседнику и запуская руку в сумочку в поисках ключей.
— Вот и я говорю, что странно, — поднялся с подоконника Штольц. — Вероятно, Татьяна Яновна еще не вернулась от сестры. Может, и совсем надумала остаться.
Зина резко обернулась и устремила испытывающий взгляд красивых голубых глаз на Штольца. С момента их первой встречи Генрих очень переменился. Выбрил лицо, отчего стал заметен запавший подбородок, обрил наголо голову и сделался похож на разгуливающую на задних лапах гигантскую белую крысу.
— Отчего вы решили, будто Тата у сестры? — сухо осведомилась она.
— Я заглянул к вам в начале восьмого, а Татьяна Яновна стоит в дверях одетая, — обстоятельно начал Штольц. — Проводите, говорит, Генрих Карлович, меня к сестре, а то я неважно себя чувствую. Я, конечно, предложил ей доехать на машине — вы же знаете, Зинаида Евсеевна, у меня служебный автомобиль, мне это не трудно, но Татьяна Яновна наотрез отказалась. Хочется, говорит, прогуляться. Я довел вашу подругу до дома ее родственников. А когда вернулся, смотрю — у меня в руках остался ее зонт. Тот самый, что вы ей подарили. Дай, думаю, занесу. Поднялся к вам. Звоню, стучу, а у вас никого нет.
Зина отперла дверь квартиры и вошла в прихожую, недовольно бурча:
— Почему у сестры? Что еще за новости!
Не снимая туфелек, процокала каблучками по паркету в комнату подруги. Как и во всей квартире, здесь было чисто прибрано, кровать застелена кружевным покрывалом, а на этажерке лежала записка, написанная аккуратным Таниным почерком: «Милая Зинуля! Если ты читаешь это письмо, значит, со мной случилось несчастье. Сейчас семь часов вечера, и я рассчитываю вернуться к девяти. Я иду к Инге, чтобы объясниться. На занятиях у Кони я вдруг вспомнила, что такие косички «колоском» отлично умеет плести муж моей сестры доктор Дынник. Я выпросила до завтра у добрейшего Кони материалы дела и хочу показать их Евгению Львовичу. Показать и потребовать объяснений. Надеюсь на благополучное завершение нашей беседы и думаю, что это всего лишь недоразумение и Евгений Львович развеет мои сомнения. Если же нет — я пойду в милицию и расскажу, кто настоящий убийца Юшкевичей. Если я не вернусь, ты знаешь, где меня искать. С благодарностью за все, что ты для меня сделала, Таня Яворская».
Зиночка сунула в сумку письмо и порывисто обернулась к Штольцу, сдавливая пальцами виски.
— Нет! Это просто немыслимо! Доктор Дынник — и вдруг убийца! Никаких нервов не хватит! Генрих Карлович! Надеюсь, у вас есть кокаин?
Начальник отдела по борьбе с трудовым дезертирством полез в карман, и Зиночка истерично расхохоталась.
— Это чистое безумие! У кого я прошу? У представителя власти! И представитель власти охотно делится со мною кокаином! Мир сошел с ума! Ладно, давайте.
Отбросив сумку, Бекетова-Вилькина взяла протянутую коробочку, привычно втянула ноздрями высыпанную на запястье щепоть и, возвращая порошок, раздраженно осведомилась:
— Так что, Генрих Карлович? Вы отвезете меня на служебной машине к Яворским? Или мне идти одной, по темным улицам, где разгуливают гопники[28]?
Задетый Штольц пошел красными пятнами.
— Как вы могли подумать, Зинаида Евсеевна, что я покину вас в трудный момент? Хорошего же вы обо мне мнения.
— Ну, так не стойте столбом, шевелитесь! — прикрикнула хозяйка, устремляясь к входным дверям.
Хрустя кожей плаща, Генрих торопливо припустил за ней. Они вышли на улицу и остановились, замерев перед величием петроградской ночи. Сейчас, когда темнота скрыла разруху, осталась только луна и река, в которой отражались звезды.
— Потрясающе яркая луна! — невольно вырвалось у Штольца.
— Не зарьтесь на чужое, это моя луна, — сварливо откликнулась Зиночка.
— Так уж и ваша, — не поверил Генрих.
— Мне ее Гумилев подарил, — похвасталась Зина.
— Да что вы говорите, — съехидничал Штольц. — Прямо вот так вот взял и подарил? — И не без сарказма добавил: — Легко дарить то, что тебе не принадлежит.
— Николай Степанович поэт! — обиделась Бекетова-Вилькина. — Вам, приземленным, не понять.
На заднем сиденье машины ехать было тесно и душно, и Зиночка, страдая от острого локтя Штольца, упершегося ей в бок, чтобы не молчать, спросила:
— О чем вы с Татой говорили по дороге к Яворским?
Штольц насторожился. Почему она спрашивает? Может быть, что-нибудь знает? Разговор с Татьяной был неприятным и закончился полным фиаско. И речь они вели как раз таки о Гумилеве. Хотя нет, сначала девушка поделилась с милиционером опасениями относительно мужа сестры, и только потом речь зашла о Гумилеве. Штольц припомнил, что пару дней назад застал поэта продающим на Мальцевском рынке синий, в крапинку, галстук, что свидетельствовало о крайне стесненных обстоятельствах Гумилева.
Тата вынуждена была признать, что да, обычно поэт не шикует. Правда, бывает иногда не в меру расточителен, но это случается в основном тогда, когда Гумилев хочет пустить пыль в глаза очередной возлюбленной. Так, может, оживился Штольц, Татьяна уговорит Гумилева продать ему шкуру черного леопарда? Штольц бы дал хорошую цену. В ответ на просьбу Татьяна вдруг заявила, что интерес Штольца к вещам поэта кажется ей нездоровым, и следует попросить Гумилева проверить, не спрятано ли в шкуре что-нибудь ценное.
Этим своим замечанием Яворская подписала себе приговор. Стараясь ничем себя не выдать, Штольц обратил все в шутку, но кобуру револьвера расстегнул и напросился присутствовать при Таниной встрече с родственником. Все складывалось удачно, доктор Дынник оказался дома один. Толстяк открыл дверь, обрадовался гостям и, впустив их в дом, стал хлопотать о чае. И тут Таня достала из свертка белую папку и начала задавать неприятные вопросы. Родственник покрылся липким потом и малодушно принялся выкладывать все подчистую.
Он торопливо говорил, что это был первый год его брака, он так любил свою жену, что не хотел расстраивать Ингу и даже не думал их убивать, этих сестру и брата Юшкевичей. Ведь это была игра. Всего лишь игра. Мальчик сам ее придумал. Славик сам увел его, доктора Дынника, в лес, уселся к нему на колени и стал его гладить и целовать. Дынник сопротивлялся, но мальчик сердился и обещал рассказать все взрослым. Это было самое страшное — если узнают. Никто не должен был знать про их игру. Так они играли целый месяц.
В тот день они со Славиком уговорились встретиться в Банном лесу. Славик придумал нарядиться в платье сестры, но Галя заметила переодетого Славу из окна и, думая, что это какой-то маскарад, надела небрежно брошенную в комнате одежду брата и отправилась следом, намереваясь посмотреть, что тот задумал. Она шла за Славиком до самого леса, а потом спряталась в кустах. И когда «игра» была в самом разгаре — Евгений Львович заплел мальчику косы и позволил себя гладить и целовать, Галя выбежала из своего укрытия и принялась кричать, что расскажет родителям.
От неожиданности и испуга пальцы доктора Дынника сжали шею мальчика слишком сильно, и Славик безжизненно обмяк в его объятиях. Увидев, что брат мертв, Галя попыталась сбежать, но не успела. В два скачка Дынник настиг беглянку, выхватил пояс Сааринена — он нашел шнурок на дороге и носил в кармане, собираясь отдать пастуху, да все время забывая, — и накинул на тонкую девичью шею. И, плохо понимая, что делает, с силой стянул концы, удавив не в меру любопытную девчонку. Но Дынник не бросил их, как попало, а положил детей так, словно они спят, и только потом покинул место трагедии.
Слушать откровения этого слизняка Штольцу стало противно, он достал пистолет и безо всякого сожаления выстрелил детоубийце в жирный бок, туда, где патологоанатомы обычно находят печень. Дынник охнул и осел на пол. От неожиданности Татьяна тихонько вскрикнула, но так и не успела громко закричать. Штольц приблизился к ней вплотную, прижал дуло к виску. Девушка сопротивлялась, но Штольц все-таки сумел выстрелить. Сделал все аккуратно — даже одежду почти не запачкал. Лишь несколько кровавых брызг попали на воротник надетой под плащ гимнастерки. Не очень заметно, но все-таки… Может, удастся отстирать, может — нет. На всякий случай происхождение пятен следует обосновать.
— О чем разговаривали? — оторвавшись от тягостных мыслей, встрепенулся Штольц. И не без наигранного смущения протянул: — Какая вы, право, Зинаида Евсеевна! Ну, так и быть, вам я откроюсь. Я сделал предложение Татьяне Яновне.
— И что она? — насупилась Бекетова-Вилькина.
— Согласилась.
Отличный ход. Пусть теперь думают, что Таня была его невестой. В этом случае, если он, узнав о случившемся и не выдержав тяжести утраты, упадет на бездыханное тело девушки и всплакнет, ни у кого не будет сомнений в том, что кровь на гимнастерке появилась именно в этот момент.
— Она вам правда нравится? — ревниво протянула Зиночка.
— Зинаида Евсеевна, вы задаете каверзные вопросы! — вполне натурально смутился он, поражаясь примитивности мышления этого прелестного создания. — Вне всякого сомнения, вы мне нравитесь гораздо больше. Не будь вы замужем, я бы, само собой, просил вашей руки. Но вы так счастливы в браке, что я не смею и надеяться. Не помирать же мне холостяком…
Зиночка надулась и всю дорогу молчала. Но только вышла из машины, тут же забыла, что секунду назад была обижена. Перед бараком Яворских сиял черным лаком милицейский экипаж, в котором скучал усатый сотрудник, лениво обмахиваясь папкой с делом Сааринена. Зиночка подбежала к представителю власти и с тревогой в голосе выкрикнула:
— Что? Скажите, что там?
Хрустнув суставами, шофер потянулся, сладко зевнул и небрежно выдохнул:
— А, так. Бытовуха. Бабенка мужика застрелила и сама того. Половину черепа себе из револьверта снесла.
Сделав вид, что потрясен услышанным, Штольц опрометью бросился в подъезд.
— Э, стой! — заголосил служивый. — Туда нельзя!
— Ему можно! Генрих Карлович работает в Петрогубмилиции, — фыркнула Зиночка, устремляясь следом.
— А ты куда? Тоже у нас работаешь? — грозно окликнул милиционер, хватая Зиночку за рукав и не давая войти в парадное.
Бекетова-Вилькина немного постояла в темноте среди зевак, разглядывая мелькающие тени в освещенных свечами окнах полуподвала и размышляя, стоит ли ждать Штольца или лучше прямо сейчас вернуться домой, когда из подъезда показался сосредоточенный юноша и устремился к милицейской машине.
— Ну, вроде все. Емельянов показания гражданки Дынник дописывает, — не глядя на вытянувших шеи любопытных, деловито проговорил он.
— Чего хоть она рассказала-то? — под одобрительный ропот толпы обрадовался усач.
— Признала в убитых сестру и мужа. Заводи колымагу, Глушко, сейчас поедем!
— И то дело. Не до утра же тут куковать.
Из распахнутой двери подъезда показались накрытые простыней носилки, и зеваки переместились к ним.
— Да баба там!
— Мужик!
— Говорю — баба! Чего, по фигуре не видишь?
— Мужик-то жирный был, тот самый, доктор Дынник.
— Так это он?
— А ты думал!
— Во, во! Гляди, жена его!
Вглядевшись в темноту, Зиночка увидела, как из подъезда показалась Инга, ведомая под руку Штольцем. Водитель милицейского авто, собираясь трогаться, включил фары, осветив толпу и две бредущие через двор фигуры. Сестра Татьяны выглядела старухой и шла, точно слепая, медленно переставляя обутые в стоптанные туфли ноги. Зиночка испытала мстительное чувство, глядя, во что превратилась эта гордячка. Штольц вел Ингу прямо на Зиночку, и той ничего не оставалось, как сделать любезное лицо и шагнуть им на встречу.
— Боже мой, Инга Яновна! Такое несчастье! — заговорила она, распахивая объятья.
Инга остановилась, взглянула на подругу сестры глазами загнанной лани и, прижав к губам кружевной платок, тихо заплакала.
— Зина, Зиночка, — всхлипывала она. — Простите меня, милая! Я была груба с вами, но когда вы все узнаете, вы сами поймете, что я вынуждена была так поступать. Горе-то какое! Танечка погибла! И все из-за меня!
Зина обняла Ингу за худенькие вздрагивающие плечи и повела к машине.
— Едемте ко мне, Инга Яновна. И слышать ничего не хочу, — в ответ на слабые попытки воспротивиться горячо говорила Бекетова-Вилькина. — Ко мне, ко мне и только ко мне.
Штольц высмотрел среди зевак своего шофера и, выдернув из толпы, распорядился везти их домой, на Невский проспект.
Санкт-Петербург. Наши дни
С половины пятого в Кадетском переулке было необычайно людно. Места за столиками «Второй древнейшей» стали занимать еще в обед, и ближе к шести в заведении яблоку негде было упасть. Олег Иванович проделал большую работу, пригласив на пресс-конференцию через социальные сети всех известных журналистов города. Неизвестных во «Вторую древнейшую» привело журналистское чутье и сарафанное радио. Сам главный редактор «Миллениума» еще загодя занял место за любезно предоставленной барной стойкой — подобные мероприятия хозяин заведения всячески приветствовал, ибо по окончании их журналисты подолгу сидели и помногу заказывали, поднимая выручку.
Полонский расположился на возвышении, из-за стойки взирая, как народ все прибывает и прибывает. Лада Валерьевна подъехала к бару без пятнадцати шесть и, чтобы попасть внутрь, вынуждена была позвонить Полонскому.
— Олег Иванович! Здесь ужасная давка, я не могу пройти!
— Подождите минуту, сейчас выйду, — откликнулся Полонский.
Он и в самом деле вышел на улицу и, то и дело отвечая на рукопожатия коллег-журналистов, провел Белоцерковскую за барную стойку и усадил рядом с собой.
— Лада Валерьевна, имейте в виду, я собираюсь к вам апеллировать, — предупредил он, сосредоточенно хмурясь и вглядываясь в зал. — Вы уж меня не подведите, расскажите все как есть.
— Постараюсь быть объективной, но ничего обещать не могу, — без энтузиазма откликнулась Белоцерковская.
В зале становилось шумно — возбужденные журналисты все громче и громче переговаривались между собой, обсуждая предстоящее действо. О пресс-конференции было известно только то, что Полонский собирается стереть в порошок своего хорошего друга, бывшего родственника академика Граба, непотопляемого сотрудника пресс-службы управделами президента Сергея Меркурьева. И завертелось все вроде бы из-за какой-то девицы, работавшей под началом Полонского. И вроде бы обвиняют эту девицу в пособничестве в убийстве не кого-нибудь, а самого академика. Кто-то позвонил Меркурьеву, советуя как можно скорее приехать, и слух о том, что вот-вот нагрянет тот, кого планируют смешать с грязью, стремительно разнесся среди журналистской братии. Накал страстей нарастал. Представители массмедиа ликовали в предвкушении сенсации. Без двух минут шесть Полонский поднялся во весь рост, вскинул руку, призывая к тишине, и, так и не дождавшись, прокричал:
— Ну что же, друзья, мы собрались здесь, чтобы прояснить кое-какие вопросы в деле зверски убитого академика Граба. Сенсационная новость о его страшной гибели этим утром облетела все новостные каналы и издания. Журналистам известно об убийстве немного, и я бы хотел добавить к уже имеющимся сведениям еще несколько интересных фактов. Ни для кого не секрет, что хорошо всем известный Сергей Меркурьев когда-то был женат на дочери убитого академика. Но очень немногие знают, что Серафима Викентьевна Граб и после развода поддерживает самые тесные отношения с господином Меркурьевым, доверив ему присматривать за престарелым отцом, ибо сама она переехала жить на Запад. В июне две тысячи семнадцатого года Серафимой Викентьевной Граб в испанском местечке Сан-Хосе была куплена вилла стоимостью в миллион семьсот тысяч евро. Часть денег — двести тысяч — была внесена сразу, а оставшиеся полтора миллиона евро перечислены на счет продавца нынешним утром. Причем перечисление осуществил господин Меркурьев.
Полонский сделал выразительную паузу и продолжил:
— Это вступление. Теперь основная часть. Дело в том, что, несмотря на свои девяносто два года, академик Граб вовсе не собирался умирать. Его пользовали самые лучшие лекари этой страны и зарубежья, и, по оценке семейного врача, Викентий Павлович мог прожить еще лет пять, а то и десять. Но дочь академика не собиралась ждать так долго, ибо хотела жить здесь и сейчас. Проблема казалась неразрешимой, пока за дело не взялся господин Меркурьев. Он придумал многоходовую комбинацию, первым шагом в которой было доскональное изучение личности бывшего свекра. К примеру, откуда у академика Граба взялись сокровища абиссинских негусов, которые тот тайно сбывал на черном рынке? И почему квартиру Граба неоднократно пытались ограбить эфиопские парни, героически молчавшие на допросах в полиции?
На телах эфиопских грабителей имелись определенные знаки, которые позволили предположить, что эти люди относятся к секте людей-леопардов. Хороший знаток истории, в том числе и истории Эфиопии, Сергей Меркурьев как-то присутствовал на допросе задержанных и предположил, что люди-леопарды пытаются найти в квартире Граба припрятанную гемму царицы Савской, и парни не стали это отрицать. Изучая прошлое старика, Меркурьев понял, что Граб — никакой не Граб, а назвавшийся именем одного из умерших заключенных надзиратель из Дубравного лагеря в Мордовии лейтенант Бурсянин, завладевший абиссинскими сокровищами и священной геммой царицы Савской, без которой Эфиопия пришла в упадок. И Меркурьев придумал продать бывшего тестя абиссинским борцам за возвращение геммы на родину.
Эфиопы уже сомневались, а действительно ли старик — обладатель геммы? Ведь они очень тщательно искали в его доме, но не нашли. Так, может быть, гемма не у него? В предисловии к недавно вышедшей книге «Палач мордовских лагерей» академик Граб написал, что идея создания романа родилась у него в июне две тысячи семнадцатого года. Родилась она не случайно. Чтобы доказать эфиопам, что академик Граб — это бывший Палач, Меркурьев надоумил Викентия Павловича написать автобиографический роман, в котором академик объявил Бурсяниным другого человека — лагерного врача Завьялова, эмигрировавшего в Канаду. Старик ухватился за эту идею, ибо боялся ищущих гемму эфиопов и хотел пустить их по ложному следу. Сергей же Меркурьев прекрасно понимал, что родственники оклеветанного так этого не оставят и приедут в Петербург разбираться. Но их приезд тоже входил в планы Меркурьева, задумавшего морально сломить академика и вынудить отдать гемму эфиопам.
В баре стояла полная тишина. Журналисты боялись пропустить даже слово из речи Полонского.
— Но сам Меркурьев не хотел подставляться и афишировать свои отношения с эфиопскими мстителями. Он не мог лично открыть им дверь и впустить их в дом бывшего тестя. Для этого он использовал пешку, разменную фигуру в этой игре, которую не жалко потом скинуть с шахматной доски. Сотрудница издательского дома «Миллениум» Софья Кораблина стала слепым орудием в руках этого страшного человека. Я считал Сергея своим другом и по дружбе попросил узнать о Соне как можно больше, потому что эта девушка мне небезразлична. Пользуясь своими связями, Сергей исполнил мою просьбу, умолчав о том, что Соня больна. Умолчал он не случайно — он задумал с ее помощью убить академика.
— И что же такое с Кораблиной? — заинтересованно выкрикнули из зала.
— У Софьи диагностировали диссоциативное расстройство личности, которое выражается в том, что в сознании Сони живут сразу несколько человек.
В зале зашумели, и Полонский, обернувшись, указал на доктора Белоцерковскую.
— Это врач Кораблиной, психиатр Лада Валерьевна Белоцерковская. Одно время она помогала больной девушке справляться с недугом. Меркурьев знал о Сониной болезни, не мог не знать — он ведь наводил о ней справки. Меркурьев знал и решил воспользоваться Сониным несчастьем. К одной Сониной личности, к небезызвестной феминистской блогерше Жанне Жесть, Меркурьев и подослал эфиопского парня.
— Не может быть! Я видел Жанну Жесть на ютубе! И Кораблину видел! — закричали из зала. — Орлянская Дева не имеет ничего общего с Софьей!
— Вот! — оживился Полонский. — Со стороны это выглядит именно так. Однако установленный факт, что Соня и Жанна — один человек. Итак, Жанна привела в дом Граба эфиопского юношу. По своим каналам я выяснил, что эфиопа зовут Мамо Фисеха и он и в самом деле принадлежит к секте людей-леопардов. Мамо Фисеха в довольно жестокой манере потребовал у академика вернуть принадлежащие его народу драгоценности, которые бывший палач хранил у себя в квартире. Раздавленный свалившимися на него разоблачениями, Викентий Павлович практически добровольно отдал ему все, что осталось от абиссинских сокровищ. А после Мамо Фисеха совершил правосудие, наказав академика за многолетнюю ложь.
Кто-то в зале громко ахнул, и Полонский продолжил, повышая голос:
— Вам будет небезынтересно узнать, что я разместил на своей страничке в «Телеграме» видео, где за пару дней до убийства Сергей Меркурьев общается с чернокожим парнишкой, в котором можно узнать Мамо Фисеху. Меркурьев передает эфиопу некий конверт. Полагаю, в конверте наводка, где и когда можно встретить Жанну и познакомиться с ней. А на видео с камер наблюдения, которым располагает следственный комитет, можно рассмотреть, что паренек, входящий в парадное академика Граба вместе с Жанной Жесть перед самым убийством, — все тот же гражданин Эфиопии Мамо Фисеха, который общался с Меркурьевым. Также я заснял встречу эфиопа и Меркурьева уже после убийства академика, во время этой встречи Мамо Фисеха передает Меркурьеву некий увесистый сверток. Скорее всего, Меркурьев договорился с людьми-леопардами, что гемма царицы Савской достанется эфиопам, а оставшиеся от клада украшения — ему. Сокровища он тут же слил на черном рынке, а вырученные деньги пошли на погашение задолженности за виллу в Сан-Хосе. Я, конечно, рад, что в Эфиопию в конце концов вернется их святыня, но за смерть старика Меркурьеву ответить все-таки придется!
— Все это чушь! — прокричали пронзительным баритоном от самых дверей. Кричавший — а это был Меркурьев — покраснел и запыхался, как после быстрого бега. — Мало ли с кем я общаюсь? — переведя дух, продолжал он. — И что ты носишься с этой своей Кораблиной? Обидно стало, что ты, Олежек, собрался на ней жениться, а я ее трахнул?
В зале похабно загоготали, а Полонский, перегнувшись через барную стойку, закричал, перекрикивая смех:
— Да ни на ком я не собирался жениться! Плевать я хотел на Кораблину! Вся эта история с больной дурочкой еще раз доказывает, какая ты, Сережа, дрянь! Меня тошнит от тебя! Это я специально сказал про женитьбу, чтобы посмотреть, как ты отреагируешь! Как я и ожидал, ты потащил Кораблину в постель. Мои женщины всегда не давали тебе покоя!
— Завидуешь, сволочь? Моему успеху завидуешь? Обидно, что бабы любят меня, а не тебя, такого красивого? — разошелся Меркурьев. — Не можешь мне простить, что тему диссертации у тебя увел, а заодно и Симу?
— Теперь вы с Серафимой Викентьевной лет десять не увидитесь, потому что будете сидеть в разных колониях — ты в мужской, она в женской! И уж конечно, ни на какое наследство академика Граба пусть Серафима губы не раскатывает. Организаторам убийства, как недостойным наследникам, наследства не положены!
— А ты докажи, что она знала!
— Ну вот, ты уже и признался!
— Сволочь ты, Полонский! Ни в чем я не признался! Все это чушь и бред! А мальчонку-то взяли!
— Какого мальчонку?
— Твоего мальчонку. Парнишку из спортивного отдела издательского дома «Миллениум». Задержали в «Макдоналдсе» с полными карманами таблеток. И мальчонка поведал спецслужбам много интересного. Например, о том, что ты, Олежек, поставляешь ему эти самые таблетки. Рома Чащин его зовут. Знаешь Рому Чащина?
— Это мой сотрудник, — в замешательстве выдохнул Полонский.
— Вот и я говорю, что Рома твой сотрудник. В отделе спорта под твоим началом трудится. Особенно Рома Чащин напирал на то, что главный редактор издательского дома «Миллениум» господин Полонский просил как можно больше барбитуратов презентовать Софье Михайловне Кораблиной. Уж не специально ли ты мне одурманенную Кораблину подсунул?
— Понятия не имею, что придумывает этот наркоман, — помертвел лицом Полонский.
— Ну, нет, голубь ты мой, — раскатисто захохотал от дверей Меркурьев. — У Ромы Чащина и записи ваших бесед имеются, так что не выкрутишься, сядешь за торговлю наркотиками. Тогда и посмотрим, чья возьмет.
— А вот я, например, задумываюсь, с чего бы это вдруг террористы решили взорвать именно Витебский вокзал? — в голосе Полонского звучала злая удаль. — Между прочим, ты знал, что я с него поеду в Ригу.
— Вот это правильно! Давай, Олежек, еще и террористический акт на меня повесь!
— А что ты думаешь? И террористический акт повешу!
Журналисты довольно переглядывались, выставив руки с диктофонами вверх и ни на секунду не прерывая запись. Даже тогда, когда перебравший текилы корреспондент одной из центральных столичных газет шумно высморкался в занавеску и громко выкрикнул:
— А вот про теракт — это хорошо! Слушайте, а давайте и в самом деле напишем, что бомбу заложил чиновник из пресс-службы аппарата президента! Читатели на ушах стоять будут! Жалко, детей среди погибших нет. Сколько там трупов? Семнадцать? Давайте напишем, что детских пяток. В случае чего потом можно дать опровержение, но тиражи поднимем, это факт!
— Не вижу существенной разницы между лечебницей для душевнобольных и вашим омерзительным сборищем, — брезгливо проговорила доктор Белоцерковская, максимально втягивая живот и пробираясь мимо Полонского так, чтобы не коснуться его, точно главный редактор был прокаженным.
Женщина поспешно выбралась из-за барной стойки, работая в толпе локтями, и, точно воздух был отравленный, стараясь не дышать, стала прокладывать себе дорогу к выходу.
Петроград, август 1921 года
В машине Инга задумчиво протянула:
— Никак не могу понять, откуда у Татьяны пистолет? Зина, вы не знаете?
Бекетова-Вилькина подхватила:
— Сама удивляюсь. Тата ничего от меня не скрывала, и если бы она купила оружие, я бы непременно об этом знала. Может, пистолет не ее?
«Конечно, не ее», — зло подумал Штольц. Помимо табельного револьвера системы «наган» он всегда носил с собой изящную дамскую игрушку «вальтер» — вдруг пригодится? И вот, не зря, выходит, носил. И в самом деле, пригодилась. Оставшуюся дорогу сестра Таты Яворской молчала и крепилась, но стоило только остановиться, выбраться из авто, подняться на этаж и войти в квартиру, как Инга дала волю слезам. Штольц не покидал дам, всячески выказывая услужливость и желание помочь.
Поддерживая Ингу под локоток, довел ее до комнаты сестры, усадил на оттоманку рядом с кроватью, а сам скромно пристроился на стуле, наблюдая, как женщина, судорожно всхлипывая, перебирает разложенные на подзеркальнике трюмо безделушки погибшей. Сразу же после приезда нервозно передергивающаяся Зиночка скрылась в спальне и некоторое время не показывалась. Но когда появилась и застыла в дверях комнаты, выглядела на редкость умиротворенной, из чего Генрих сделал вывод, что кокаин у нее имеется и свой и что она просила порошок исключительно из экономии.
Увидев Зиночку, успокоившаяся было Инга не выдержала и снова разрыдалась.
— Это из-за меня, из-за меня! — плакала она. — Я вышла замуж за чудовище! Это я привела его в дом! Толстый, смешной, некрасивый, но добрый и такой милый Женя Дынник! Я даже подумать не могла, что он растлит этого мальчика, Славочку, а потом еще и убьет! Его и Галочку! Мы с папой видели, как Женя в ночь убийства жег за домом свою одежду. Конечно, он опасался, что на ней обнаружат следы. Папа спросил, и Женя признался. Первым же поездом папа вернулся домой, в Петербург. Он не знал, как поступить — рассказать все следствию и тем самым опозорить нашу семью или промолчать, но позволить осудить невиновного человека.
Инга схватилась за голову, ссутулилась и так сидела, не в силах вымолвить ни слова. Затем вдруг выпрямилась и снова заговорила сквозь слезы:
— Я очень хорошо помню Реймо Сааринена. Добрейший человек. Он так любил детишек! Мы все к нему тянулись, и он с нами так весело играл. И вот он должен был пойти на каторгу вместо моего мужа. Но я была беременна, и мысль о том, что я ношу ребенка убийцы, разрывала мне сердце. А потом нас посетила новая беда — из-за чрезмерного волнения с папой случился удар. Папа упал у камина, и одна нога его попала в огонь. Мама пыталась спасти отца, но не смогла — он был слишком тяжел и совершенно обездвижен. Начался пожар. Но несмотря на то что мебель уже пылала, мама все тянула и тянула папу к выходу, потому что не могла его бросить. Их обоих вызволили из огня пожарные. Папа был уже мертв, мама еще жива. Мама страшно обгорела, но жила еще две недели, от нее я и узнала о случившемся. А потом она умерла в страшных мучениях.
Инга всхлипнула, вытирая обильно текущие слезы.
— После ее смерти мы уехали в Швейцарию, потом в Австрию и, наконец, в Германию. И в пригороде Дрездена случилось почти то же самое — нашли задушенным местного мальчика в девичьем платье. Моему сыну на тот момент было пять лет, и погибший мальчуган был его другом. Я вызвала мужа на разговор и поставила категорическое условие — прекратить. Иначе я, несмотря на грозящий нам позор, расскажу все полиции. Женя испугался и затих. Но я все равно боялась надолго оставаться на одном месте — вдруг он что-то натворил и это вот-вот выплывет? Я понимала, что и в Австрии, и в Швейцарии он оставил после себя страшные следы, просто до поры до времени никто не обнаружил детских трупов. В целях безопасности я отправила сына учиться в Лондон, а Татьяну хотела отдать в пансионат, ибо любое напоминание о местечке Рялляля могло послужить толчком к новым преступлениям. Но Евгений вдруг воспротивился — нет, и все. Девочка должна расти в семье, а не в приюте. И я дала слабину. А потом появились вы, Зиночка, напоминание о страшном прошлом, и я окончательно обезумела от страха. Я выставила вас вон, и мне за это очень неловко. Но вы забрали с собою Танечку, за что вам огромное спасибо. И все равно шила в мешке не утаишь! Таня все-таки узнала! Как к ней попало уголовное дело, ума не приложу!
Инга замолчала и некоторое время сидела, разглаживая рукой складки покрывала.
— Я бы хотела забрать Танины вещи, — тихо проговорила она.
— Да-да, пожалуйста, — встрепенулась хозяйка. — В столе ее бумаги, одежда в шкафу.
Инга, не двигаясь, продолжала сидеть, невидящими глазами уставившись в стену, и Штольц из деликатности вышел из комнаты, прихватив с собой ничего не понимающую Зиночку.
— Пойдемте-пойдемте, Зинаида Евсеевна, не будем мешать.
Они отправились на кухню пить чай с белой булкой и докторской колбасой.
— Надо Ингу позвать, — подливая кипяток в заварочный чайник тонкого фарфора, в котором томился, завариваясь, настоящий китайский чай, великодушно проговорила Зиночка.
— Удобно ли? — засомневался Генрих, тщательно пережевывая бутерброд. — Мы непременно ее позовем, но только после того, как Инга Яновна управится с вещами сестры. И помянуть покойницу было бы не грех.
Бекетова-Вилькина усмехнулась, наблюдая, как гость не сводит заинтересованных глаз с серванта.
— Не засматривайтесь, не для вас приготовлено! — осадила она не в меру ретивого Штольца. — По случаю удалось достать пару бутылок французского вина. Думаю распить с Гумилевым.
— С Гумилевым в другой раз выпьете, — неприязненно скривился Штольц.
Инга вышла из комнаты Тани минут через двадцать. В одной руке она несла чемодан сестры, в другой держала перетянутые резинкой мелко исписанные листы бумаги, сложенные так, как обычно складывают письма. Остановившись в дверях кухни, женщина проговорила:
— Я забрала тетради с Танюшиными стихами, черновики, наброски, ее записные книжки. Еще там были письма от ее знакомого, Гумилева. Я читать не стала, ибо письма предназначаются не мне, и, Зина, очень вас прошу, верните их автору. Ведь вы знакомы?
— Да-да, конечно, знакомы, — засуетилась Бекетова-Вилькина, вскакивая со стула и забирая у Инги перевязанную тесемкой пачку. — Не волнуйтесь, Инга, я обязательно передам эти письма Николаю Степановичу. Может, помянете с нами Таточку?
— Благодарю за приглашение, но, честное слово, Зина, не могу. Кусок в горло не лезет. Спасибо. Я пойду.
— Куда же вы пойдете? Ночь ведь!
— Пойду в Обуховскую больницу, куда Татьяну отвезли. Подожду до открытия, как только разрешат, заберу Танечку. Буду хлопотать, чтобы позволили похоронить на кладбище рядом с родителями, хотя она и самоубийца. Спасибо, Зина, вам за все. И вам, Генрих Карлович, спасибо.
Инга неожиданно низко поклонилась в пояс, почти коснувшись рукой ковра, и торопливо вышла из квартиры, с легким щелчком прикрыв за собой дверь.
Нервным движением тонких пальцев Зиночка достала папиросу, и Штольц услужливо поднес ей огонь. Прикуривая, женщина задумчиво проговорила:
— Надо же, у Таты письма Гумилева. Как странно! Они же виделись каждый день. О чем Николай Степанович мог ей писать?
— Поминать-то будем? — нетерпеливо напомнил Генрих.
— Ах, вам бы только выпить! — раздраженно откликнулась Зиночка.
Не выпуская писем из рук, она порывисто вскочила и устремилась к шкафу, забитому тушенкой, банками с вареньем, пакетами с крупами и мешочками с сахаром. В углу стояли две бутылки красного вина, и хозяйка свободной рукой ухватила одну и поставила на стол. Достала бокалы, штопор и, глядя, как Штольц откупоривает и разливает вино, с надрывом проговорила, выпуская из ноздрей дым папиросы и потрясая исписанными бумагами:
— Штольц! Вы что, не понимаете? У Тани Яворской — письма Гумилева! Спит он со мной, а пишет ей. О чем, хотела бы я знать?
— Возьмите и прочтите. Кто вам может запретить? — угадывая настроение собеседницы, подсказал Генрих.
— Вы думаете? — оживилась Зина, нетерпеливо срывая тесемку и с любопытством перебирая исписанные листы.
— Ну, не чокаясь, за помин души новопреставленной рабы Божьей Татьяны, — поднявшись во весь рост, на православный манер торжественно провозгласил Штольц и, смакуя отличное вино, осушил свой бокал. Сел, соорудил бутерброд и с аппетитом принялся жевать.
Зиночка затушила в чайной чашке папиросу, с торопливой небрежностью выпила вино и раскрыла верхний лист писчей бумаги, испещренный мелкими гумилевскими буковками. Впилась в письмо глазами и, прочитав, в бешенстве отшвырнула листок, точно гадюку. Раскрыла второе письмо, прочитала, швырнула в сторону и так перечитала всю пачку. Покончив с чтением, прямо из бутылки допила вино и мрачно проговорила:
— Какие неожиданные вещи узнаешь о человеке, с которым каждый день предаешься любовным утехам! Штольц, вы не поверите. Оказывается, всю жизнь Гумилева мучила мечта о встрече с Беатриче — идеалом чистоты и женственности. Наш Николай Степанович ищет свою Беатриче непрестанно, и любит он саму любовь, то есть всех женщин вообще, и ни одной в частности. Он, видите ли, глубоко признателен всем нам, тем, которые не Беатриче, за женскую ласку, даже если ласка не особенно искренна. Каково, а? Это он, конечно, обо мне! Это я неискренна! А угадайте, кто же у нас Беатриче?
— Татьяна Яновна? — предположил Генрих, отправляя в рот тонкий ломтик колбасы.
— Она самая, — мстительно прищурилась Зинаида. — Вот так-то. Я, значит, с французским вином и билетами в Мариинку для него недостаточно искренна, а она, голытьба, — Беатриче. Это ее, нашу Танечку Яворскую, Гумилев искал всю свою жизнь. Но самое обидное даже не это. Еще давно, в Абиссинии, он посвятил мне стихи. Читали, наверное, его «Приглашение в путешествие»? Ну, это: «Уедем, бросим край докучный»? Так вот, он написал там про меня: «А вы, вы будете с цветами, и я вам подарю газель с такими нежными глазами, что кажется, поет свирель; иль птицу райскую, что краше и огненных зарниц, и роз, порхать над светло-русой вашей чудесной шапочкой волос», — сердито процитировала Зиночка. И с раздражением продолжала: — А теперь он пишет, что посвятил эти стихи Яворской! Только волосы, мерзавец, изменил! Ей, значит, написал так: «Порхать над царственною вашей тиарой золотых волос»! Я никогда ему не прощу! У меня такое чувство, будто меня обокрали. Я не хочу, чтобы он жил. Для меня Гумилев был героем. Как жалко, что его не убили там, на фронте! Он бы не подарил мои стихи Яворской! С каким бы удовольствием я положила цветы на его могилу, да, видно, не доведется. Он всех нас переживет.
— Отчего же? — удивился Штольц.
— Его хранит дух.
— Что за нелепица, Зинаида Евсеевна? Какой дух?
Зиночка выглядела взбешенной.
— Ну как же, я же вам рассказывала! — сердито выпалила она. — Почти десять лет назад мы сидели на террасе русского представительства в Аддис-Абебе, и из зарослей на нас выскочил черный леопард. Николай Степанович убил леопарда. И теперь дух леопарда его бережет. Он мне сам сказал.
— Это когда же он вам такое рассказал?
— На вечере поэзии у балтфлотцев, когда я за него испугалась. И было отчего. Гумилев, читая свои африканские стихи, с вызовом проскандировал: «Я бельгийский ему подарил пистолет и портрет моего государя». По залу прокатился ропот, несколько матросов вскочило, а Гумилев продолжал читать спокойно и громко, а закончив читать, обвел зал своими косыми глазами, ожидая аплодисментов. Гумилев ждал и смотрел на матросов, матросы смотрели на него. И вдруг зал взорвался аплодисментами. Вы же понимаете, Штольц, что любого другого бы расстреляли за подобные стихи, а Гумилеву хоть бы что. Это потому что дома у него лежит шкура черного леопарда. Я ему говорю: «Николай Степанович, как же я за вас испугалась!» А он мне: «Не бойтесь за меня, Зинаида Евсеевна. Я в огне не горю и в воде не тону. Меня леопард охраняет».
— Да нет. Вы, Зинаида Евсеевна, должно быть, не поняли, — добродушно рассмеялся Штольц. — Леопард охраняет Гумилева лишь до тех пор, пока рядом с ним находится эта шкура. Как только Николай Степанович останется без шкуры, ему тут же придет конец.
— Вы это серьезно? — повела бровями захмелевшая Зиночка.
— Вполне.
— Даже не знаю, как избавиться от проклятой шкуры.
— Нет ничего проще. Вы же остаетесь ночевать у Гумилева? Дождитесь, пока он заснет, и заберите. Я могу вас встретить около Дома искусств и помочь.
— Я к Гумилеву не хожу — противно, — надула губки Зиночка. — Один раз была — спасибо, больше не желаю. Этот их Дом искусств — приют для голодающих, ночлежка для бездомных. Страшно смотреть. Так называемые «творческие люди» производят тяжелое впечатление — долго толкаются в очереди в столовой, а потом набиваются за столы и жадно поедают какую-то баланду. Сами грязные, опустившиеся, с потухшими глазами. И среди этих людей живет Николай Степанович. Нет, я к нему не пойду. И не просите.
Штольц закурил и мрачно выдохнул вместе с дымом:
— Если так, тогда конечно. — Помолчал и, точно что-то вспомнив, быстро проговорил: — Есть еще способ. Прямо сейчас НКВД проводит следствие по делу Петроградской боевой организации Таганцева — он ученый, раньше был белый офицер, а нынче помогает тем, кто хочет бежать от большевиков за границу.
— И дорого берет? — оживилась Зиночка.
— Почему вы интересуетесь? — растерялся начальник отдела по борьбе с трудовым дезертирством. И тут же мысленно отругал себя за резкость и терпеливо принялся рассказывать: — Такса постоянно растет, особенно цена подскочила после нынешнего марта, когда был подавлен антисоветский мятеж кронштадтских моряков. Многие из восставших ушли в соседнюю Финляндию. Той же кратчайшей дорогой, предчувствуя усиление террора, бегут и некоторые из «бывших».
— И что же, этого Таганцева поймают?
— Его уже взяли. Сейчас Таганцев в ЧК и рассказывает о своих связях. Будет очень кстати, если в органы поступит информация, что Гумилев состоял в таганцевской организации. Скажем, отвечал за изготовление листовок. Выглядеть будет вполне убедительно, ибо Гумилев — в прошлом офицер царской армии, дважды за отвагу удостоен ордена Святого Георгия, и, следовательно, рыло у него в пуху. Достаточно сделать так, чтобы к Гумилеву пришли с обыском и обнаружили пару компрометирующих бумаг, обличающих принадлежность поэта к организации Таганцева. Тогда Николаю Степановичу точно не выкрутиться. Я беру на себя устранение леопардовой шкуры, а все остальное компетентные органы сделают сами.
Бекетова-Вилькина в недоумении наморщила лоб.
— Что это — компрометирующие бумаги?
— Ну-у, — протянул Штольц, — какая-нибудь, знаете, неприметная записочка с указанием количества экземпляров и текста антисоветской листовки. Предположим, заваляется она где-нибудь в книжице. Вам же Гумилев дает читать книжки, не так ли?
— Конечно. «Илиаду». И Ницше. Только я пока еще не читала.
— Вот и отлично. Верните ему одну из книг вместе с такой вот ничего не значащей записочкой, спрятанной в переплете. А уж я постараюсь сделать так, чтобы к Гумилеву наведались с обыском. Как вы сказали? Читал стихи об императоре? Интересно. Это прямо-таки замечательно, что Николай Степанович убежденный монархист. Полагаю, что арест его — дело решенное.
Обыск у Гумилева принес свои плоды — в «Илиаде» обнаружилась бумага, подтверждающая причастность поэта к Таганцевскому заговору. После обыска, проведенного сотрудниками НКВД, в банный номер Дома искусств снова нагрянули представители власти — на этот раз начальник отдела по борьбе с трудовым дезертирством. Подъехав к дому на машине и велев шоферу возвращаться в отдел, Штольц поднялся к Гумилеву, среди разбросанных в беспорядке вещей обнаружил старые, со следами ржавчины ножницы и вспорол голову покрывающего кресло зверя. С бешено колотящимся сердцем запустил руку в получившееся отверстие и среди кокосового волокна нашарил холщовую ткань. Потянул за нее и извлек из шкуры леопарда увесистый сверток, который тут же сунул за пазуху.
Разглядывать сокровища прямо здесь, в Доме искусств, было опасно — в любой момент к Гумилеву могли заглянуть товарищи-поэты. Или студийцы, не дождавшиеся учителя на занятиях. И Генрих заторопился на улицу. Идти домой не решился, подумав, что лучше пока переждать, припрятав драгоценности в тайник.
Пешком направился в сторону Фонтанки, дошел до Чернышева моста, по мосту устремился к беседкам, выбрав ту, что смотрела на площадь, и остановился перед гранитной колонной. Повернувшись спиной к реке, опустился на корточки и принялся колдовать над выпирающей нижней гранитной панелью. Радуясь, что не впустую потратил время на изучение особенностей постройки во время реконструкции, хитрым движением отжал задвижку и повернул панель вокруг своей оси — в колонне моста Генрих смастерил и установил поворотный механизм, тем самым организовав в образовавшейся нише вполне приличный тайник. В открывшуюся нишу сунул увесистый сверток, на ощупь различая сквозь холстину сокрытые в нем приятные руке округлости ювелирных украшений, после чего вернул гранитную панель на место.
Домой добрался на трамвае. Поднявшись на свой этаж, вошел в квартиру и направился было на кухню, когда позвонили. Не чувствуя подвоха, Штольц вернулся к двери и открыл замок. И уже в следующий момент в коридор шагнул суровый товарищ из ЧК, держа перед собой мандат, удостоверяющий полномочия.
— Гражданин Штольц? — скучным голосом осведомился внезапный посетитель.
— Это я, — растерялся Генрих, не зная, что и думать. ЧК не занималось бытовыми убийствами, и смерть Яворской была, скорее всего, ни при чем.
— Проедемте с нами.
Ничего не понимающего Штольца отвезли в тюрьму на Шпалерную, двадцать пять. Едва задержанный успел присесть в коридоре на жесткий казенный стул, его тут же вызвали к следователю. Следователь был усталый, бледный и такой же бритый, как и сам Штольц. Под блеклыми глазами его залегли черные тени, на осунувшемся лице выделялся тонкий горбатый нос. Глядя мимо задержанного, он фальцетом заговорил:
— Вы сами понимаете, гражданин Штольц, что время сейчас такое. Товарищ Ленин как сказал? Товарищ Ленин сказал, что Чрезвычайная комиссия потому и чрезвычайная, что создана для борьбы в чрезвычайное время, время гражданской войны. И на ограничение прав Чрезвычайной комиссии товарищ Ленин не пойдет. А еще товарищ Ленин распорядился расстреливать любого, не спрашивая и не допуская волокиты. Это я к чему вам говорю? Это я к тому говорю, что этой ночью гражданка Бекетова-Вилькина была задержана при попытке перехода Финской границы. На допросе Зинаида Евсеевна показала, что это вы, гражданин Штольц, ее проинструктировали.
— Но позвольте, — начал было Штольц, но следователь не дал ему договорить, нарочно повысив голос.
— Вчера вечером, — визгливо продолжал чекист, — Зинаиде Евсеевне принесли уведомление о гибели мужа, Семена Аркадьевича Вилькина, и предписание немедленно освободить занимаемую квартиру. Замечу — власти позаботились о вдове комбрига, не оставили женщину на улице. Бекетовой-Вилькиной выделили койку в Городском общежитии пролетариата, хотя гражданка Бекетова-Вилькина и не имеет места работы. Однако Зинаида Евсеевна проявила себя как чуждый буржуазный элемент — ночью ее взяли при переходе границы. Шофер ваш задержан еще днем и чистосердечно признался, что вы водили с Зинаидой Евсеевной тесную дружбу.
Сердце Генриха тоскливо сжалось, и в голове мелькнула мысль — а ведь он так и не успел посмотреть на абиссинские сокровища!
— Поверьте, товарищ, исключительно по службе за Бекетовой-Вилькиной наблюдал! — торопливо заговорил Штольц. — Работа у меня такая — выявлять дезертиров трудового фронта. Бекетова-Вилькина нигде не работала, да и не собиралась работать. Но она была женой командира Красной Армии, и я не мог ей прямо выдвинуть обвинения в уклонении от общественно полезного труда. Вот я за ней и присматривал. А про инструктаж она клевещет! Не говорил я ей ничего про переход финской границы. Вы сами подумайте — я этнический немец, всей душой преданный революционной России. Я родился в этой стране, здесь же надеюсь умереть. Здесь похоронены отец мой и дед. Я мог сбежать из России тысячу раз, и все-таки я остался. Я воевал с белогвардейскими недобитками, проливал кровь за новую власть и даже удостоился высокого доверия служить в Петрогубмилиции, на должности начальника отдела по борьбе с трудовым дезертирством. Стал бы я портить себе жизнь и инструктировать чужую мне женщину, которую я даже не люблю, по поводу бегства из России?
— Ладно, не суетитесь, — голос следователя сделался мягче, усталые глаза взглянули без злости. — Проверим. Только смотрите, гражданин Штольц! Если что — наказ товарища Ленина мы выполним без промедления — шлепнем вас вместе с гражданкой Бекетовой-Вилькиной без суда и следствия по закону военного времени.
Генриху Штольцу повезло. Его не расстреляли, как грозились, а присудили двадцать пять лет мордовских лагерей.
Санкт-Петербург, наши дни
Я словно только что проснулась, с недоумением оглядывая уютный кабинет и чужую, незнакомую женщину, очень похожую на Жанну. Я видела ее раньше, перед зданием прокуратуры. Это она курила Олегу Ивановичу в лицо.
— Ну здравствуй, Соня, — проговорила женщина. — Я твой доктор, Лада Валерьевна Белоцерковская.
— Зачем мне доктор? — удивилась я. — Разве я больна?
Лада Валерьевна улыбнулась, сделавшись необыкновенно приятной, и тихо ответила:
— Теперь уже нет. Я помогу тебе научиться жить без тех, кого ты любишь и ненавидишь. Расскажи мне, кто обитал в твоей теплой уютной квартирке, защищенной от всех невзгод? Мама?
— Нет, мама живет в Италии, у нее новый муж. Она счастлива в браке. Я слежу за ней по интернету.
Доктор Белоцерковская развернула ко мне ноутбук и показала на страничку мамы.
— Посмотри внимательно, эта страница не обновлялась больше года. Твоя мама умерла. Ее больше нет.
Меня точно ошпарило. Чушь какая-то! Что она говорит? Эта женщина сошла с ума.
— Да нет, вы что-то путаете, — сказала я как можно тверже. — Мама жива. Папа очень любит ее, но готов пожертвовать своей любовью ради маминого счастья. Он разрешил ей уехать в Италию, и поэтому у него депрессия. Он почти не выходит из дома.
— Твой отец тоже умер. Они разбились на машине в июле прошлого года.
Слова ее звучали, точно издалека, и эхом разносились из головы по всему моему телу.
— Я вам не верю! — обмирая от накатившего ужаса, прошептала я. — Зачем вы лжете?
Но доктор стала показывать на экране ноутбука снимки.
— Вот, Соня, посмотри. Это Волковское кладбище, а это могила твоих родителей. Вот это ты сама, а рядом с тобой Алексей. Ты помнишь Алексея?
Алексея я не помнила, но было что-то очень знакомое в его холеной бороде и напомаженных и уложенных колечками щегольских усах.
— Он называл себя твоим женихом, а потом получил повышение по службе, уехал в другой город. Я помогала тебе сразу же после того, как все это случилось, но Алексей попросил оставить тебя в покое. Я полагала, что молодой человек станет о тебе заботиться, но Алексей устроил тебя на работу в свою редакцию и устранился. Тебе категорически нельзя было оставаться одной! И ты придумала себе семью. Справедливости ради стоит сказать, что Алексей не промолчал, упомянул в разговоре со своим шефом Олегом Полонским о твоем недуге, и Полонский решил воспользоваться этим обстоятельством для устранения заклятого друга Меркурьева. Однако твой шеф недооценил своего бывшего однокашника. Полонский допустил ошибку, сказав Меркурьеву, что думает на тебе жениться. Меркурьев собирал о тебе сведения и потому знал про Алексея. Желая подгадить старинному другу, сотрудник пресс-службы тут же набрал ростовский номер твоего так называемого жениха, и Алексей, который все-таки, похоже, не совсем законченный эгоист, первым же рейсом вылетел в Питер. И сразу же отправился к тебе, Соня.
Я разлепила спекшиеся губы и с трудом выдавила из себя:
— Я не помню, чтобы кто-то ко мне приезжал.
Заметив мое состояние, доктор Белоцерковская протянула закрытую бутылку минералки и, глядя, как я скручиваю крышку и жадно пью, снисходительно пояснила:
— Это потому, что ты встретила Алексея не Соней Кораблиной, а перевоплотившись в личность Отца, который и спустил парня с лестницы.
— Ничего такого я не помню.
— Ты и не можешь помнить. Когда одна из личностей активна, другие, как правило, спят. Люди со множественными личностями имеют внутри себя так называемого «внутреннего помощника» — кого-нибудь, кто знает всех других и старается всем помочь. В твоем случае это Отец. Он не подпустил к тебе того, кто уже причинил тебе вред. То есть Алексея. И Алексей обратился ко мне, попросив о помощи. Я связалась с твоим начальником — Олегом Полонским — и от него узнала, что тебя обвиняют в пособничестве в убийстве.
— В голове не укладывается, — потрясенно прошептала я. — Есть такой фильм режиссера Джозефа Сарджента, называется «Сибилла». Я, когда смотрела, не верила, что такое бывает.
— Что и говорить, ты попала в неприятную историю, но и в ней есть существенный плюс. Собирая о тебе материал, Сергей Меркурьев разыскал запись, на которой видно, как произошла авария. Ты себя винишь в смерти родителей, поэтому и бежишь от действительности, прячась за вымышленными личностями. Итак, я хочу, чтобы ты посмотрела запись с видеорегистратора ехавшей рядом машины, на которой видно, как случилась авария.
Доктор Белоцерковская включила видео, и по экрану планшета побежал вьющийся серпантин хорошо знакомого загородного шоссе. Мелькали столбы, остановки, заборы и дорожные указатели с названиями населенных пунктов. И вот из магазина на повороте вдруг выскочила собака и кинулась бежать через дорогу. Я увидела, как красный бампер едущей рядом машины вильнул и вылетел на встречную полосу. Красная машина пересекла дорогу, врезалась в столб и отлетела в овраг.
Доктор остановила запись и посмотрела на меня поверх очков.
— Соня, ты видела, что это несчастный случай? — с напором проговорила она.
— Да, конечно. Я видела, — чуть слышно выдохнула я.
— С этой мыслью ты и будешь жить, — дала установку врач, испепеляя меня гипнотизирующим взглядом. — Ибо чувство вины убивает. И уже гораздо более мягким голосом продолжила: — Алексей выглядел очень испуганным, когда пришел ко мне и рассказал, что только что был у тебя. Знаешь, почему он испугался? Его напугал даже не Отец, кинувшийся на него с кулаками, а орущий в комнате «Антихрист». Ты включаешь фон Триера на полную громкость. День за днем. Вечер за вечером. Всегда, когда бываешь дома. Алексей столкнулся в лифте с соседкой, и старушка, которая живет за стеной, пожаловалась ему, что выносить такое больше нет сил. И попросила что-нибудь сделать, иначе она обратится в полицию. Знаешь, почему с тобою это происходит?
— Почему?
— Ты не можешь жить с неподъемной виной, которую сама на себя взвалила. Вина вот-вот тебя раздавит.
— Как впавшую в безумие героиню Шарлотты Генсбур в «Антихристе»?
— Да. И тут не помогут ни малышка Катюня, которая боится этот фильм смотреть. Ни Отец, пересматривающий его снова и снова и все время различающий новые оттенки и улавливающий иные смыслы. Ни Жанна, этот фильм ненавидящая всей душой. Это ты видишь себя в героине Шарлотты, горе которой так велико, что она не знает, как еще себя наказать. Так перестань себя винить! Слышишь? Ты ни в чем не виновата! Авария случилась из-за объективных причин — на дорогу выскочила собака, и твой отец захотел ее объехать. Но не справился с управлением и слетел в кювет. А то, что ты себе придумала — будто бы после того, что отец узнал от тебя о своей любимой женщине, твоей матери, он задумал покончить с собой и убить ее — все это чушь. Плод твоей фантазии. Мужчины не так тонко чувствуют, как мы, женщины, и не стоит приписывать им душевные качества, которых у них нет. Ты со мной согласна?
И я покорно кивнула, давая понять, что вняла ее увещеваниям. Я очень благодарна Ладе Валерьевне, старающейся мне изо всех сил помочь. Защитить меня. Похоже, именно она каким-то образом трансформировалась в моем сознании в «кузину Жанну». Но Лада Валерьевна не знает, что всю свою жизнь я ездила на дачу, ездила до прошлого года, пока не случилось ЭТО, и помню, что магазин, из которого выбежала собака, снесли пять лет назад, и на записи ТОЙ аварии магазин никак не может быть запечатлен. Лада Валерьевна, добрая душа, искренне пыталась подобрать что-то похожее на ДТП, в котором погибли мои родители, но не учла всех нюансов. Я тронута, хотя и понимаю, что это всего лишь попытка вернуть мне душевный покой. Но, стоит признать, попытка неудачная.
— Алексей хотел тебя увидеть.
— Не думаю, что это хорошая идея.
— Вот и правильно! — подхватила Лада Валерьевна. — Один раз Алексей тебя уже предал, не стоит ждать, когда предаст еще. У тебя все впереди. Ты еще встретишь своего парня. А Алексей — человек из прошлого. Он тебе не нужен.
— Вы так говорите, как будто точно знаете, что мне нужно, — невесело усмехнулась я.
— Конечно, знаю, — оптимистично кивнула врач. — Тебе необходима смена обстановки, а лучше — переезд в другой город. Например — в Москву. Ты как, против Москвы ничего не имеешь? А то, я знаю, многие питерцы при упоминании столицы презрительно кривятся.
— Да нет, Москва так Москва. Только что я там буду делать? Я там никого не знаю. Родных у меня нет, да и друзей не густо.
— И все-таки есть несомненная польза, когда на тебя собирают досье. Вот ты не подозреваешь, Соня, а Меркурьев выяснил, что в столице проживает брат твоей матушки Борис Карлинский. Мы пообщались по скайпу, и у меня сложилось о Борисе Георгиевиче вполне благоприятное впечатление. Карлинский говорит, что ждет тебя в любое время, и, похоже, искренне рад, что у него есть племянница.
— Я и понятия не имела ни о каком московском дяде, — растерялась я. — Надо же, мама о нем никогда не упоминала. Как странно! Почему же они не общались?
— Это ты сама у него спросишь. Скажу тебе по секрету — я тоже планирую в самое ближайшее время переезд в Москву.
Она понизила голос и, глядя на меня поверх очков, со значением добавила:
— У меня там жених без присмотра.
А потом задорно тряхнула волосами и спросила:
— Ну что, Соня, махнем в столицу?
Я улыбнулась и кивнула. Доктор Белоцерковская права. Я уеду из этого города, где все дышит моим травмирующим детством. И научусь жить, оставив в прошлом тех, кого люблю и кого ненавижу. Ибо прошлое — это настоящее, когда ты несешь его в себе. Так говорила героиня фильма «Сибилла», и, когда я закрываю глаза, эта фраза огненными буквами горит в темных безднах моего подсознания.
Но я справлюсь с прошлым. И стану жить настоящим. И будущим.
Эпилог
В ночь убийства академика Граба в аэропорту Пулково был задержан Мамо Фисеха. Экспертиза обнаружила на одежде гражданина Эфиопии следы крови убитого академика, но задержанный от дачи показаний отказался, а на предъявленные обвинения отвечал презрительным молчанием. Тщетно переводчик пытался выяснить, кому эфиоп передал похищенные ценности, в том числе и гемму, ибо артефакта при нем не оказалось.
Молчание убийцы сыграло на руку предполагаемым заказчикам, и, как и говорила следователь Галкина, руководитель одного из отделов пресс-службы аппарата управделами президента господин Меркурьев вышел сухим из воды. Несмотря на небольшой скандал, Сергей Анатольевич по-прежнему занимает солидную должность и ведет публичный образ жизни, часто посещая пафосные места, преимущественно в компаниях сотрудниц агентств эскорт-услуг. За спиной Меркурьева перешептываются, что после предательства Серафимы Граб пиарщик испытывает стойкое отвращение к так называемым «порядочным женщинам», предпочитая в любви товарно-денежные отношения.
Серафима Викентьевна Граб прибыла на организованные Меркурьевым похороны с новым мужем, успешным мадридским адвокатом. Прямо на похоронах в припадке ревности Меркурьев пытался его ударить, но адвокат пригрозил многомиллионным судебным иском за оскорбление чести и достоинства, и Меркурьев смирился. Серафима не стала дожидаться окончания похорон, прямо на кладбище прошлась по собравшимся и каждому из скорбящих предложила приобрести ее виллу в Сан-Хосе, ибо они с мужем планируют жить в Мадриде, и лишняя недвижимость их только обременит. На следующий день, выяснив у нотариуса, как обстоят дела с отцовским наследством и узнав, что она является единственной наследницей движимого и недвижимого имущества академика, женщина вернулась в Испанию дожидаться, когда истекут положенные законом шесть месяцев.
Как и грозился, сенсационными видеороликами Полонский потряс интернет. Однако шумиха, поднятая главным редактором издательского дома «Миллениум», недолго занимала умы любителей сенсаций. Буквально через неделю их внимание целиком и полностью переключилось на скандальное бракосочетание цирковой карлицы и чемпиона мира по сумо. И, хотя в интернете долгое время нет-нет да и всплывали в контексте убийства академика упоминания имени Сергея Меркурьева, они не наносили репутации пиарщика большого вреда. Несмотря на настойчивое требование Полонского приобщить сделанные им видеозаписи к материалам уголовного дела, следствие отказало ввиду их сомнительного происхождения.
Для самого Олега Ивановича последствия этой истории оказались довольно печальными. На главного редактора завели уголовное дело по факту организации сбыта запрещенных препаратов, и издательский холдинг тут же расторг с ним контракт. Полонский опустился, махнул на себя рукой, редко выходит из дома, но если его и встречают знакомые, то вряд ли узнают в небритом маргинале недавнего холеного красавца. Маршрут Олега Ивановича не отличается разнообразием. Как правило, бывший главред «Миллениума» направляется в ближайший «Дикси», где покупает на кредитку дешевую водку и рыбные консервы.
Доктор Белоцерковская перебралась в Москву, вышла замуж и открыла частную практику. Также Лада Валерьевна сотрудничает и с государственными лечебницами, не выпуская из поля зрения Соню Кораблину. Девушка послушалась совета доктора Белоцерковской и переехала в Москву. Она уверена, что сможет оставить позади прошлое и научится жить настоящим.
Сноски
1
Антонио Лабриола — итальянский философ, основатель итальянского марксизма.
(обратно)2
Бельтов — псевдоним Г. В. Плеханова.
(обратно)3
Ашкеры — охранники.
(обратно)4
Je hais le mouvement qui deplace les lignes (фр.) — я ненавижу всякое перемещенье линий. Из стихов Бодлера «Красота», сборник «Цветы зла».
(обратно)5
Антанта — военно-политический блок, союз России, Великобритании и Франции, сложившийся в 1904–1907 годах.
(обратно)6
Рас (эфиопск.) — титул члена царской фамилии.
(обратно)7
Негус (эфиопск.) — император.
(обратно)8
Хедер — начальная школа иудеев.
(обратно)9
Пиво типа медовухи.
(обратно)10
By the way (англ.) — между прочим.
(обратно)11
Взгляд на человека как исключительно на сексуальный объект.
(обратно)12
Look at me (англ.) — смотри на меня.
(обратно)13
Answer (англ.) — ответь.
(обратно)14
Дэджазмач (эфиопск.) — управляющий.
(обратно)15
Фемка — принятое в интернете сокращение от «феминистка».
(обратно)16
Геэз — древнеэфиопский язык, распространенный в Аксумском царстве.
(обратно)17
Тэдж — традиционное эфиопское пиво.
(обратно)18
ИМХО — распространенная в интернете аббревиатура, сложившаяся из первых букв английского выражения «In My Humble Opinion», что можно перевести как «по моему скромному мнению».
(обратно)19
Why not (англ.) — почему бы и нет?
(обратно)20
To tell the try (англ.) — сказать по правде.
(обратно)21
Подробнее о дуэли между Волошиным и Гумилевым читайте в романе Марии Спасской «Кукла крымского мага».
(обратно)22
Акмеизм (греч.) — высшая степень, цветение. Поэтическое течение, созданное Гумилевым и провозглашавшее точность образа и слова.
(обратно)23
Михаил Леонидович Лозинский — поэтакмеист, русский переводчик, один из создателей школы советского перевода.
(обратно)24
That`s unbelievable (англ.) — в это невозможно поверить.
(обратно)25
Improperly (англ.) — неправильно, ошибочно.
(обратно)26
Faking bastard (англ.) — чертов ублюдок.
(обратно)27
Нистагм — «бегающие» глаза.
(обратно)28
ГОП — городское общежитие пролетариата.
(обратно)





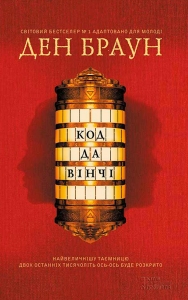

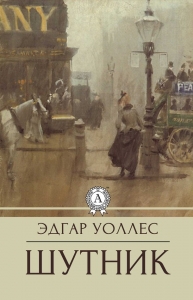


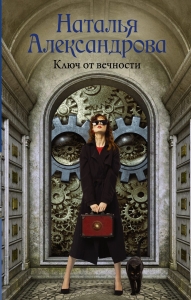


Комментарии к книге «Девять жизней Николая Гумилева», Мария Спасская
Всего 0 комментариев