Лия Аветисян Про любовь, ментов и врагов
Светлой памяти моих прадедушек и прабабушек посвящается
От автора
Про Армению и армян давно не писали романов. Не писали с любовью, без которой и не роман это вовсе, а бухгалтерия. Или кляуза. Наверное, секрет молчания наших писателей кроется в тексте странной, на мой взгляд, Конституции страны, где напрочь отсутствуют такие слова, как Нация, История, Будущее и, конечно, слово Любовь. А без нее какой ты армянин? И какая же это Конституция? Или это попросту долговая расписка ростовщику: так мол, и так, жить буду впредь по твоим понятиям, которые выше моих законов, платить проценты недрами и молодежью, а в качестве залога – вот она, вся Армения? И какое будущее может быть у народа, у которого даже прошлого нет в паспорте страны? Без любви к своему очагу и своему народу, к той части страны «Ергирь», которая почему-то называется Республикой Армения, а не Армянской республикой – до тех пор в Будущем, когда она снова станет Арменией. А по факту – без киностудии «Арменфильм», на которой снимались «Цвет граната» и «Мужчины», а сейчас растет бурьян и даже убран с фасада наш Давид на своем волшебном иноходце Куркике.
У не зависимой от себя самой Армении вообще особый счет к мужчинам, которых истребляют ментально, физически и по-всякому. Были у нас памятники мужчинам и только один – Матери Армении. А потом стали поступать, как в заявленных еще в «Али Бабе» «окнах Овертона»: крестики уже и на всех соседних домах, чтобы сбить с толку разбойников. Но в Армении и по всей Армении именно, думаю, разбойники понатыкали женских статуй «про-всё-хорошее» и даже уложили жирную дуру с сигаретой посреди роскошного Каскада. Таким вот хитрым способом припрятали и растворили мужские образы на улицах. И точно так же их растворяют в парламенте страны, где заседают пусть не жирные, и без сигарет, но с константой основной востребованной характеристики IQ, что присутствует на Каскаде. В общем я мужчинам сочувствую и готова за них побороться, потому что без них какие мы женщины? Вот и главные мои героини (нет, совсем не я) воспринимают мир как идеальную конструкцию, где во главе всего – мужчина (отец; муж; товарищ; брат; сын; внук). Конечно, любовь вспыхивает и вне семейных рамок. Но если кто-то мне скажет, что женщины не обладают энтузиазмом и отточенным за тысячелетия мастерством придумывать и мастерить эти рамки, то я тут же узнаю в нем инопланетянина. Словом, в своем романе я пытаюсь восстановить в правах мужчин, которые, понятно, работают классными ментами, врачами, спортивными тренерами, сельскими пастухами, университетскими профессорами, сапожниками, а уйдя на покой, играют в нарды в Пушкинском парке или гораздо дальше, держа в обозрении не только Армению, но и весь мир.
В армянском языке целых сорок слов про любовь, синонимов этого главного человеческого переживания, которое направлено на детей вообще, родню и соседей в частности. На науку и родину, юмор и гордость, братство и заботу, чтение и письмо, семью и мечты. Всего таких словообразований от любви в армянском языке полтысячи, представляете? И все они мне дороги, потому что обязывают соответствовать словарному запасу – а значит, и сущности народа, от которого я родилась благодаря волшебным встречам – иначе не назовешь – моих прадедушек и прабабушек, дедушек и бабушек именно в годы очередных ужасающих попыток истребить армянство. Благодаря встрече моих папы и мамы именно в годы Великой Отечественной войны, когда папа уже был на фронте и увез туда мою маму из благополучного Тифлиса в 1942 году.
Наверное, армян убивали, чтобы уничтожить тот камертон Любви, которым они вековечно являлись в мире и остаются по сей день. Чтобы человечество заменило это многомерное понятие простым сексом и заткнулось наконец. Геноцид армян длиной в две тысячи лет – наша вековечная боль, но и вековечный источник оптимизма, закрепленный в народном фольклоре: «С нас мир начинался, нами и будет завершен». А ведь это накладывает обязательство быть ответственными за весь мир! При нашей-то нынешней малочисленности и территориальной крошечности.
И как ни крути, Армения опять – как тысячи лет назад – является преградой для всадников тьмы, что стремятся проникнуть в сердце Евразии. Апрельская вспышка тлеющей войны показала: да, мы на своем посту, и победа ценой гибели ста молоденьких стоиков и увечий выживших героев Карабахского фронта – еще одно доказательство нашей вековечной миссии. А без миссии нет народа – один пустой пиар и костюмированное представление. Без осознания миссии нет и человека – одно дурацкое потребительство и даже снижающееся воспроизводство. Потому что зачем плодиться-то? Во имя чего? Чтобы мамы не кормили грудью, а гнобили пап по ночам – ведь с бутылочкой и папа – кормящая мама? Чтобы детеныши глотали канцерогенные молочные смеси, потом – пирожки с ГМО, консервы из антибиотиков, туфту по телевизору и затем – таблетки от всего этого в перерывах разговоров по гаджетам? И разговоров-то – Боже мой! – о чем? О том же корме для желудка и мозгов и новой сбруе для себя, любимого, и на всё на свете положившего?
Как человек, родившийся от армянского народа, я везунчик. Мне повезло первой из всей родни появиться на свет в Ереване именно у моих любящих родителей и строгой старшей сестры, повезло получить замечательное и бесплатное советское образование, очень похожее и на то, что сеяли мой прадедушка Агаси Варжапет в армянских селах Ахалкалака и Лори, и в селе Гандза – прапрадедушка Терь Сукиас родом из Эрзрума. И другой прадедушка, дьякон и звонарь Мкртыч, тоже из Эрзрума, но сиротой спасшийся в Карсе. И все их предшественники еще во времена Маштоца, а может, и раньше. Кто знает? Только дух моего народа, продолжающего открывать новые школы на родине в Карабахе и в далеком Лос-Анджелесе, в Запорожье, Волгограде и в Сибири, где, казалось бы, и не ступала нога армянина.
Мне повезло работать под началом умных и порядочных людей, которые были не только руководителями, но и воспитателями. Начальник Лаборатории научной организации труда и научно-технической информации Дон Егорович Ваградян и министр финансов, а затем – торговли, Степан Рубенович Сафарян, министр территориального управления и градостроения Леонид Самсонович Акопян – мои учителя ничуть не меньше, чем первая учительница Кнарик Ивановна Багдасарян и замечательная классная руководительница Наталья Герасимовна Луценко. Если бы в правительстве Армении сегодня появились такие интеллектуалы и наставники (замечу, абсолютно честные), то и не знаю, что бы случилось. Наверное, из-за кордона была бы дана команда немедленно снять их. А лучше – убить. Типичнее – опорочить и убить, чтобы бездушная пошлячка где-то там, наверху, а на карте – заметно левее, вгляделась в свой гаджет, осклабилась и сказала: «Вау!». Потому что их приход означал бы уход. Уход от жалкой роли банановой туристической провинции Запада, которую вот уже 25 лет нам усиленно навязывают.
Конечно, судьба продолжает сталкивать меня с интереснейшими людьми разных профессий. Это доктор физико-математических наук и бывший профессор Стенфордского университета Завен Киракосян, спасение отца которого, осиротевшего во время резни в Харберде, я описала в романе. Это бывший начальник районной милиции, затем – зампредседателя Национальной службы безопасности, а теперь – общественный деятель Гурген Егиазарян, блестящий сыщик и рассказчик, у которого я выпытала несколько фактических, но удивительных историй. Это бывший высокопоставленный банковский служащий в Юго-Восточной Азии Зарэ Мсрлян, интернет-портала Keghart.com Жирайр Тутунджян, пересказавший мне реальную, но поразительно трогательную историю Ипекчяна. И скромная красивая Анжелла, что работала уборщицей в соседней парикмахерской и рассказала мне историю своей бабушки Ер моньи, которую я приписала бабушке Шварца в пору ее трагедии в Мараше. Это наш замечательный философ и мудрец Рубен Баренц, ставший свидетелем истории с героическим мальчиком в оккупированном фашистами Кисловодске. Наверное, у каждого романиста секрет кроется не столько в творческом воображении, сколько в интересном окружении и способности пытать его до последней реальной истории, выдумщиком которой является сам Господь Бог.
А бывало и наоборот: сапожник, описанный мной в романе 12 лет назад, в прошлом году чудом материализовался, перебравшись работать в будку на нашей улице. Волосы, правда, другого цвета.
Чудеса случаются, и чаще, чем нам кажется, и чудом является, конечно, то, что мои внуки Эдвард и Лусине знают свои семь колен даже в некоторых случаях в лицо. Такого счастья судьба давно не подкидывала армянам. Но самым большим чудом является то, что я сперва создала образ бабушки Шварца, а потом стала уподобляться ей во взаимоотношениях с внуками. Да, представьте себе, литература – великая сила, которая способна улучшать нас вне зависимости от возраста, даже если мы не только читатели, но и писатели. Но при условии чувства ответственности перед своим народом и всеми другими. Даже если человечество и не прочитает ни строчки из написанного мной, а имя мое ничегошеньки ему не скажет. Но я-то его люблю, и это очередной случай, когда безответная любовь возвышает, а не наоборот.
И наконец, это роман о замечательной школьной дружбе, хотя лучшие мои школьные товарищи и разъехались по чертовым бабушкам. И, конечно, о любви – ну а как без нее армянам, если ее адресаты все – от дворняжки в парке до давным-давно убитого фараона, от врача-патологоанатома до веселых братьев-близнецов, которые мечтают стать, как отец, классными ментами, чтобы был порядок у нас в стране и вновь воцарилась Любовь.
При всей моей везучести этот мой первый и, думаю, последний роман не назовешь баловнем судьбы. То питерский солидный издатель попенял мне, что история-то хороша, но слишком много в ней армян, а евреев не больше, чем турок, русских, испанцев, поляков, курдов и китайцев. Непорядок. То другой издатель из того же великого города выдвинул книгу на Всероссийский литературный конкурс «Национальный бестселлер», и она попала на читку в руки члена жюри – борцыни за права женщин и пидераполых. Можете себе представить, что она понаписала в рецензии. Руки могли бы опуститься навсегда, и я не издала бы эту книгу никогда, если бы добрые люди, окружающие меня, в своем большинстве не запилили бы на предмет издания, а в меньшинстве – не помогли делами и деньгами. Идеальная пропорция, неправда ли: на одну гендерообязанную – и такая прорва хороших людей?
Однако если бы двенадцать лет назад, когда я писала роман, мне удалось подглядеть нынешнюю ленту новостей, я бы, наверное, получила инфаркт задолго до борьбы с гендерами. Потому что кровь, насилие и вселенский дурдом казались уже тогда непревзойденным рекордом. Но, перечитывая текст, я не стала его менять и актуализировать, а приглашаю читателей вновь окунуться в те, как оказывается, безмятежные времена, когда наш сосед – Ближний Восток – жил в относительном мире, Каддафи еще дружил с Саркози, а семья Асада – с Эрдоганами, о чем в романе, конечно, нет ни строчки. Но ведь атмосфера – та! Всего-то двенадцать лет назад мобильники были внове и социальные сети еще не отвратили женщин от кухонь, а мужчин – от нардов. Удивительно! Что осталось неизменным – так это усилия турецкой разведки по созданию и поддержке агентурной сети и безмятежность обывателя, который не видит этого в упор. Они орудуют у нас под носом, ребята, и главная их опора – жадные и безнравственные идиоты наподобие тех, что выведены в романе. Но есть ведь и герои! Вокруг гибели одного из них и разворачивается вся детективная история.
Мне очень трудно пришлось с именами, это да. Потому что героев и персонажей много, есть среди них и уроды, и каждый раз рискуешь угодить в реального и хорошего человека. Так что, если где совпало – это действительно случайность, уж извините.
Да, есть в содержании и названии романа враги. Но, как ни крути, в огромном армянском языке всего восемь слов про ненависть, которые на деле означают гадливость, а не желание убить и уничтожить. Такой вот интересный и красноречивый язык, который тем не менее был мной отложен в сторону, а использован русский. Почему, спросите? Да потому что у нас на родине любить легче и проще, люди и без меня справятся. А вот на чужбине, где армян, говорящих по-русски, побольше, чем нас здесь, – это трудная работа, и не всегда результативная. Мой роман – попытка помочь им войти в мир Любви, стать благодаря этому лучше и счастливее. С нее начинается название романа, ею и заканчивается текст. Но пусть она никогда и нигде не заканчивается.
Лия Аветисян
Часть 1 Сплошные случайности
Двенадцать медалей на подушках
11 декабря 2004, за полдень
– Ну и дурак ты, экс-мачо. Бизнесмен экстрадированный. Ноль упакованный, – мысленно изощрялась Верка, не снимая с лица вежливую улыбку. Улыбка была изображена на овальном лике с иконы, натурщица которой перешагнула сорокалетний рубеж. Высокая шея привычно несла тяжелый узел мелкокурчавой роскоши, а довольно приличный бюст невинно растворялся в длинноватой для ее поколения фигуре под 180 сантиметров. Верка считала заинтересованное внимание к своей особе объективной оценкой гуманитарных достоинств и не реагировала на него. Зато на хамство отвечала мгновенным едким огнем. Но не на похоронах же.
Так что пока ей следовало взять себя в руки и не активировать внутренние ресурсы в ответ на чудовищный намек «да уж не так, как у милицейских наводчиков, Верка». Поклеп прозвучал из уст мерзопакостного Лёвы, которого она всего-то удостоила нейтральным «привет-как-дела». Нет, похороны не самое удачное место для припечатывания словом, как степлером для подрамников. И какая она ему Верка? Так ее звали теперь только одноклассники и вообще друзья детства, и этот голубчик к ним ни с какой стороны не мог быть причислен. Ну да, бывший муж лучшей школьной подруги Любы. Ну да, некогда ведомая Веркой тихоня Люба вдруг, под занавес супружества, даже не советуясь с ней по телефону, ого-го как подставила своего благоверного. Точнее – заслуженно бросила Леву в лапы московских налоговиков. Понятно, что обанкротившийся с их легкой руки Лева всē еще пылал негодованием в адрес окружения бывшей супруги. И главным подозреваемым в коварном замысле подставы была, само собой, инициативная Верка. Но ведь набравшаяся в Москве бойцовских качеств Люба всего лишь известила ее о свершившемся сотрудничестве с органами!
– Дурак, – резюмировала она свой мысленный монолог, прощально сделала губки бантиком мерзавчику Лёве и ввинтилась со своей траурной корзиночкой в длинную очередь с роскошными букетами.
Хоронили Левиного приятеля и Веркиного дальнего родственника Арама – еще одного аннулированного секс-символа Еревана, Москвы, Лос-Анджелеса и других ареалов наибольшего благоприятствования армянскому менталитету. Хоронили не кого-нибудь, а невольного покорителя женских сердец многих народов. С присущим ему выражением легкой задумчивости и в полном соответствии со спортивным прозвищем Арамис величественно лежал в гробу, и сходство трупа с одушевленным оригиналом вызывало искренние реки слез у всех любимых женщин знаменитости.
Верка была не любимая, а сильно уважаемая женщина. Да и вообще – какая она ему женщина? Она – его гуру в художественном творчестве.
– А как будет «гуру» в женском роде? – задумалась Верка. – Гура, что ли? Ну и дура. У индийцев женщины на такое не могут претендовать. А у армян тем более. Так просто, учитель рисования и исповедник. Но в женском роде.
Верка огляделась. Успевшие и не подсуетившиеся отметиться в статусе формальных жен Арама фактические вдовы сидели в разных концах зала Союза художников Армении. Да уж, ассортимент по росту, масти и прикиду был весьма обширен. Правда, не было мулаток и китаянок – может, просто потому, что не дожил. Зато была объединяющая всех дам особенность: фигурки у них были – как после фотошопа.
Народу было – зашибись. Большинство периодически каменело в позе Мыслителя Двадцать Первого Века: расставив ноги, вперив глаз в пространство и прижав продвинутый мобильник к левому уху. Правой рукой они пожимали лапы и лопаточки всё подходивших. Здесь были и одряхлевшие прежние вершители судеб, и нынешняя властноглазая номенклатура, и здоровяки с золотыми веригами пониже складок на загривках, и художественно-артистический бомонд, и суровые ополченцы тлеющей войны, в итогах которой еще не проставлена точка. Юные солдатики стояли в почетном карауле, а на двенадцати алых подушечках поблескивали чемпионские медали знаменитого олимпийца. Таков был Арамис: даже застигнутый смертью врасплох, он уходил торжественно и красиво.
Менты не любят, когда их так называют
12 декабря, 2004, полдень
Арамиса убили как-то неубедительно. Просто аккуратно чпокнули чем-то не особенно тяжелым по мозжечку под темной аркой, и он тихо остыл от кровоизлияния в мозг в двух шагах от собственного дома. Там же осталась валяться и трехкилограммовая гантеля с отштампованными на ней «90 коп.». «Ролекс» при этом не взяли и даже не тронули бумажник. Так что бедняге Шварцу всю зиму предстояло шершеляфамить с расследованием убийства.
«Дело №УР/728, Арам Лусинян» – накарябал он на папке. Потом подумал и добавил в скобках: «(Арамис)». После недолгих раздумий приписал: «Дон Жуан», сделал еще одну правку, папку бросил в урну, а на новой вывел: «Арам Лусинян (Арамис Дон Жуян)». Вот теперь было не совсем правильно с точки зрения орфографии, зато абсолютно точно – для характеристики сильно потерпевшего!
Арамиса он знал еще задирой-малышом и откровенно недолюбливал. Помимо редкого спортивного таланта и способности быть мухоловкой для женщин было у Арамиса еще одно несомненное дарование: он умел затевать драки сполоборота. И больше всего он старался раззадорить самого Шварца. Каждый раз, когда Арамис сиял ему издали своей знаменитой улыбкой и, распахнув руки, провозглашал: «О, Майн Мент!», Шварц хотел переломить его, как спичку, несмотря на все олимпийские звания и награды задиры.
Бывалый сыщик и начальник уголовного отделения Центрального райотдела ереванской полиции, Шварц заработал кличку за силищу и невозмутимость Терминатора. Но сходство на этом заканчивалось. Жесткая щетка пегих усов топорщилась, скрывая часть выползавшего из-под галстука шрама. Нос горбатый для недоброжелателей и орлиный – для друзей. А взгляд! Взгляд его серо-зеленых глаз был невинен и кроток, как у флейтиста в симфоническом оркестре, и это многих обманывало. Многих, но не Арамиса, который вертелся рядом с их школьной компанией с самого детства, а повзрослев, стал будто специально лезть на рожон.
Шварц не любил шутки по поводу своей профессии и, как все менты, ненавидел, когда его называли ментом. Он предпочитал угрюмо сторониться этого взрослого дитяти, так как фанфарон Арамис учился с ним в одной школе и даже был родственником сразу двух его близких друзей. А это – святое. И вот нате вам: кого-то он все-таки достал. И именно Шварцу предстоит канителиться с его беспорядочным и необъятным окружением.
Курить надоело, от однообразия газет воротило, а сервер завис с самого утра. Да и чего было ему не зависать, если от беспорядочных Шварцовых тыков мог бы зависнуть не только этот дохлый пентик, но и суперкомпьютер в Пентагоне. Умная печаталка с экраном все еще была для него своевольным и капризным существом, способным терять файлы, забывать архивировать информацию, вместо помощи подсовывать англоязычную белиберду, с которой не справишься без словаря, и вообще больше мешала, чем способствовала работе. Она так и не заслужила доверия Шварца, но постоянно искушала самостоятельно освоить эти картинки, одна из которых изображала старенький советский радиоприемник, но почему-то означала «память», а другая напоминала веселый хоровод, но имела в виду «диаграммы». Словом, вместо помощника и информатора, компьютер был основным и постоянным правонарушителем.
Начальник райотдела, шестидесятилетний полковник Владимир Карапетян, которого за глаза все называли Дядей Вовой, относился к компьютерной технике с таким мистическим напрягом, что на его фоне Шварц смотрелся продвинутым технократом. Освоение полицией Армении высоких технологий было еще впереди. «Всему свое время, и это придет», – оправдал Шварц шефа и заодно себя.
– Эх, Дядя Вова, Дядя Вова, – переключился мысленно Шварц на шефа, который в последнее время сильно хворал, мотался по дорогим клиникам и именитым врачам. От них он получал обнадеживающие заверения, что пока еще он не их контингент. Хотя, возможно, здорово влип, но во что – неизвестно. При этом они столбили золотоносный участок, как заправские старатели, по-дружески советуя обязательно обратиться к ним в случае проявления таких-то признаков нездоровья или просто через месяц. И понятно, что не боявшийся лезть под пули бандитов, но столкнувшийся с болезнью Дядя Вова фантазировал себе именно эти недомогания и вновь возвращался к модным докторам.
Вот и всего за день до убийства Лусиняна Шварц с сотрудниками закатились проведать Дядю Вову сразу после работы, прихватив в палату водку, баночки с колой и полдюжины порций любовно спеленутого лавашом шашлыка. Пикник в больнице фактически являлся и прощальным банкетом уезжавшего в тот же день заместителя Дяди Вовы по угрозыску на трехмесячные курсы повышения квалификации. Как на беду, в сверкающей палате ошивалась симпатичная врачиха, которую Дядя Вова пассивно, для проформы, клеил несмотря на нелюбовь к шашням. А интеллигентная докторша тактично подыгрывала больному, дабы не провоцировать у него упаднические настроения.
Мало того, что лирическая мизансцена была прервана в самом зачатке, да еще амбре от шашлыка было таким ядреным и всепроникающим, что утонченная мадам возмутилась поползновению на ее диетические предписания. И только поблескивавшие звездочки погонов на плечах ментов помешали их экстрадиции из больницы. Но, будучи переговорщиком будь здоров, Шварц обязался ни под каким предлогом не предлагать Дяде Вове жареную свинину и аккуратно вытеснил докторшу из палаты. Та напоследок сощурила на него глазищи, вложила руки в карманы своего неправдоподобно белого халата и продефилировала вон из палаты под рентгеновским облучением ментовских взглядов.
В результате рассевшиеся на диване ребята с пещерным энтузиазмом вгрызались в мясо на ребрышках, дружно пили сперва за здоровье шефа, потом – за отъезд его заместителя, потом – за исполнение Шварцем обязанностей обоих выбывших и т. д. Что было потом? Потом не съевший ни кусочка и не выпивавший ни грамма водки, но прихлебывавший колу Дядя Вова пережил-таки тяжелый приступ разрушительной болезни, имеющей созидательное название «панкреатит».
Слаженная работа милицейской команды – она и в больнице слаженная. Пока один бегал за врачом, другие упаковали и вынесли к чертовой бабушке объедки интерактивно сподличавшей свинины, баночки оставшейся вне подозрений колы и открыли окно навстречу декабрьскому свежему воздуху. Так что прибежавшая со всеми своими врачебными прибамбасами докторша просто молча испепелила Шварца взглядом. Следом присеменила жена шефа, поохала, поахала, понаглаживала пухлыми рученьками его лапищи, центробежная сила разогнала иньекцию из задницы Дяди Вовы по всему его могучему телу, боль унялась, сонные веки сомкнулись – и порядок был восстановлен. А расстроеные Шварц с командой вернулись на работу и занялись запущенной писаниной, костеря подследственных, свидетелей, потерпевших, низкую зарплату, болезнь шефа и глазастую докторшу. Шварц вернулся домой поздно, а под утро был поднят звонком об убийстве Лусиняна.
Надо было чем-то развлечь себя до того, как основательно засядешь за эту чертовщину со многими миссис иксами. И с игреками мистеров, один из которых, возможно, проявил излишнее гвардейское рвение в отношениях с мушкетером. Голодный и злой, Шварц, как всегда в подобных случаях, уставился в открытое окно с незажженной сигаретой под острым левым резцом.
В детстве его регулярно лупили по левой ладошке, пока не отбили охоту выводить каракули именно ею. В общем-то ласковая, но зомбированная советской педагогикой мама не могла тогда предполагать, что переученный ею левша будет всю жизнь назло домашнему Песталоцци играть в нарды левой рукой и курить, держа сигареты в левом углу рта. И временами ходить налево. Хотя армянину вряд ли нужно для этого быть обязательно левшой. А тем более переученным.
Видец из окна был не самый живописный. На переполненном мусорном баке революционно-красного цвета крупными белыми буквами было проставлено «Центр». С него, как с первомайской трибуны, величественно и придирчиво оглядывал окрестности здоровенный рыжий кот. Он не торопился спрыгивать, чтобы поворошить прислоненные к баку пакеты с мусором, так как знал, зараза, назубок режим работы буфета Центрального ОВД: к концу дня должно было перепасть что-то действительно вкусненькое. Но конкурентов на всякий случай не подпускал. Те жались под стенками двора и проверочно мяучили с просительными интонациями, за что получали в мохнатый бок спешившим мимо милицейским ботинком. Так что скептики с вытянутыми хвостами передислоцировались в соседний парк: уж там народ был посердобольней, чем в ментовке.
До странного теплая выдалась зима в Ереване. В самом дебюте началась оттепель, кошки заорали с мартовским энтузиазмом, и по городу поползли слухи о грядущем землетрясении. Случившаяся в 1988-м тектоническая катастрофа действительно совпала с таким же непривычно теплым декабрем.
– Вот точно такая же погода и была. Я, помню, в одном костюме ходил, – делился воспоминаниями старичок на скамейке в парке.
– Молодой был, кровь, небось, кипела, вот и ходил налегке, – подначивали сидящие рядом друзья в одинаковых зубных протезах.
– Эх, сколько городов у нас порушили землетрясения, – сокрушался другой и загибал пальцы: – Вагаршапат, Двин, Ани…
Да и вчера на похоронах если не вздыхали об Араме Лусиняне, то всерьез обсуждали сейсмологические тонкости.
Но теплая зима несла и безусловную выгоду: можно было продолжать ездить на лысых покрышках и экономить на обогреве квартиры. Проблему теплоснабжения жители Армении решали индивидуально со дня долгожданной независимости, и центральное отопление давно перешло в разряд ностальгических воспоминаний о тотальном советском порядке.
Стоп. Вот оно! Отопление в квартире – вот где крылась еще одна причина утреннего недовольства Шварца. Надо же ему было поддаться на провокацию и сходить в гости к свояку в его свежеотремонтированную квартиру! Стеклопакеты с антикомарными сетками, индивидуальный котел газового отопления и прочая хренотень евроремонта с тех пор стали постоянной темой вздохов и намеков его прежде не особенно притязательной жены Марго. Амбиции проявились в один день, и повернуть их вспять было уже так же невозможно, как уговорить девятый вал вернуться восвояси. Особо резко одергивать Маргаритку тоже не стоило, так как это могло развеять в ее глазах имидж всемогущего мужа, офицера-криминалиста, которому стоит только захотеть, и они всей семьей пройдут к респектабельному достатку аки посуху. Ну да ладно, есть у него планчик, как и супругу ублажить, и не особенно пасть в собственных глазах. Надо будет на свежую голову обмозговать.
Словом, Армен Шаваршян (а именно так звали Шварца) действительно был оптимистом и предпочитал, несмотря на опыт, позитивно смотреть на жизнь. Но только не на подозреваемых.
Допрашивать ляфамов было делом муторным. Даже самые приличные курили, грубили во время допросов, смотрели с укором и презрением, нещадно врали и кокетничали, как старшеклассницы. При этом на них нельзя было прикрикнуть или отвесить им отрезвляющий подзатыльник. Потому что тут же начинались театральные слезы и истерики, а вслед за ними, как черти из табакерки, вылезали срочно выявленные семьей дальние, но высокородные зятья, кумовья и прочие покровители. Вместе с тем серьезным наваром от работы с женским контингентом была возможность развести их на чувство справедливости, воздаяния по добрым делам и грехам и прочую тонкую материю, в результате чего дамы всего предъявленного диапазона, включая убежденных атеисток, становились на путь искреннего сотрудничества с органами. Но это было ноу-хау Шварца, которым он прославился не только у себя в райотделе.
О преимуществах игр с породистыми
2003 г., лето
Софи та еще была сучка: беленькая, пышненькая, она готова была ластиться к каждому встречному-поперечному и частенько получала ответную ласку. Опушенные густыми ресничками миндалевидные глаза под белоснежным выпуклым лбом так и призывали: ну подойди, ну посмотри, какая я нежная и ласковая. И многие действительно подходили. Конечно, если бы не прошлогодняя авария, успех был бы гораздо больше. Но огромная черная машина перечеркнула навсегда ее надежду найти себе кого-то постоянного. Все-таки, как бы люди возвышенно ни трепались, они не любят инвалидов. А тем более – хромых собак.
Мать Софи хоть и была бесхозной дворняжкой, имела довольно элегантный окрас: белая-белая грудка и белые же носочки красиво контрастировали с ее иссиня-черной шерстью. Звали ее Чало, и по утрам она частенько играла в парке с настоящим барчуком, холеным далматинцем Дэном, которого хозяин приводил туда для совместных пробежек. Добродушная Чало была любимицей старичков на скамеечках и лучшей подружкой Дэна.
Дэн был, конечно, красавцем. Круглые темно-коричневые пятнышки подчеркивали белоснежность его статной фигуры и породистость физиономии, и Чало гордилась своей дружбой с ним. Почти каждое утро они с хозяином приносили Чало хрусткие мясные шарики, и Дэн грозно оглядывался на окрестных дворняг, мечтавших присоседиться к ее аппетитному завтраку. И даже порыкивал на самых отчаянных, возвышаясь над Чало, пока та аккуратно подбирала с земли угощение. Но однажды он не дал ей позавтракать, а принялся прыгать вокруг нее, ластиться и нежно лизать под ее косматым хвостиком, вызывая головокружение и истому. Словом, пока обегавший парк хозяин хватился, было поздно: Дэн и Чало срослись в идеальную скульптуру в центре парка, и разделить их уже не смогла бы никакая человеческая сила.
Софи и два ее брата родились в конце апреля в темном подвале по соседству с парком, и Чало бережно скрывала их от чужих глаз, вскармливала густым молоком, выкусывала из шерстки настырных блох и тщательно вылизывала, чтобы от малышей пахло настоящими взрослыми собаками, а не беспомощной добычей возможных агрессоров.
Когда острые зубки детей достаточно окрепли, Чало стала приносить им еду прямо в пластиковых пакетах, скапливавшихся у мусорных баков соседнего двора. Чало ужасно исхудала, вскармливая малышей и стараясь поменьше отлучаться в поисках пищи. Но все равно, разорвав зубами пакет, сперва опорожняла его перед детьми, терпеливо ждала, пока они разберутся со съедобными податливыми кусками, отталкивала их от опасных осколков и всего вредоносного. Лишь потом она принималась глодать острые обеденные кости и жевать черствые куски лежалого хлеба.
Мальчики были черненькими, как Чало, мохнатыми и похожими на мягкие игрушки, за что люди и любят щенков дворняг. Они родились маленькими, безысходно попискивали в ожидании возвращения матери и радостно ползли на родной запах ее теплого живота. А вот девочка удалась в отца: крупная, белоснежная, с еще только намеченными в подшерстке черными пятнышками, крутым лобиком и большими бархатными глазками. «Моя принцесса», – думала Чало о дочке и не особенно сердилась на ее шалости.
Софи первой из помлта стала осваивать закоулки подвала. Там, где в дальнем углу с трубы капала конденсированная вода, водились страшные звери. Они были черными и в темноте подвала почти невидимыми, но грозно шелестели при движении по каменным плиткам пола. Заметив приближение Софи, они застывали на месте и изучали ее, поводя длинными усами. Точно такие же вылезали иногда из приносимых мамой мусорных пакетов. Та отбрасывала их носом подальше и устрашающе лаяла, чтоб убирались подальше и не пугали ее малышей.
Зверь поменьше жил в другом углу и портил его тонкими ниточками, которые прилипали к носу Софи и вызывали чихи до одури. Снять ниточки с носа лапками было сложно, и приходилось долго тереться им об углы сложенных штабелем жестких матов, на которых они с братьями и родились. А еще в углу подвала были свалены игрушки Софи, которые интересно было трепать, упершись в них передними лапами, и таскать через подвал вылезающие из них клочья. Еще были игрушки, которые можно было звонко катать по полу, радуясь возможному испугу притаившихся в углах Усатых Зверей и Зверя-Ниточника. В подвале было много интересного: мягкого и твердого, приятного и опасного, врытого в пол и катящегося, если тронуть лапой. Там прошли первые сорок дней ее жизни, а на сорок первый Чало вывела детей на первую экскурсию в парк.
Лучше быть совсем живым, чем сильно уважаемым
12 декабря 2004 г., вечер
– Ну-ка, ну-ка, что у нас там нарисовалось, – наставил на нос крошечные очочки посвежевший после отлежки Дядя Вова, чтобы просмотреть листы донесений под обязательный аккомпанемент доклада Шварца.
– Этот Арам – уважаемый в городе парень…
– Да знаю, знаю, – Дядя Вова с отвращением покосился на телефонные аппараты, – от лучших друзей до высокого начальства никого не осталось, кто бы мне мозги не полоскал по этому поводу за последние сутки. В больницу даже звонили: не лечение, а сплошной облом…
– Даа, проект с докторшей небось ухнулся, – подумал Шварц и бодро начал:
– В шесть утра в четверг дворничиха нашла его уже закоченевшим под стеной арочного проема. Адрес – проспект Маршала Баграмяна, 23. Два здания-близнеца с красивыми пожарными башенками знаете? Те «сталинки», что своими северным и южным корпусами сливаются в общий восточный корпус?
– Это где покойный Вахтанг Ашотович жил?
– Ну да.
– Так бы и сказал. А то восточный корпус, южный корпус – прямо не Ереван, а Нью-Йорк.
– А что, еще немного нам штатное расписание подсократят, и сможем тягаться с Нью-Йорком в плане преступности, – намекнул Шварц на нехватку кадров.
– И не говори. – пригорюнился Дядя Вова. – Совсем они там с ума сошли. Давай дальше.
– Ну вот. Эти здания смотрят на проспект Баграмяна, один примыкающий корпус – на улицу Прошяна, – и Шварц стал чертить на бумаге план улицы:
– Вот коробка двора, вот фасад. На первых этажах почта, кондитерская, дорогая парикмахерская, частная аптека, магазин детской одежды. И сразу за углом – короткая улочка. Даже имени не имеет. А упирается в Музыкальный театр. Что раньше кинотеатром повторных фильмов был. Сбоку – Пушкинский парк. И можно сказать, что это самая безлюдная дорога Еревана, потому что, хоть и центр, а ходить по ней фактически некуда. Только по субботам-воскресеньям на спектакли театра. И уличного освещения на ней вообще не предусмотрено, как в Зимбабве. Вот на нее-то и выходит тот самый арочный проем в стене. Арка не освещается, для машин глухая: на входе врыт швеллер. В парке ночью тоже темно – глаз коли. Идеальное место для убийства, получается.
Такое длинное выступление было явным рекордом для молчуна Шварца, и при других обстоятельствах Дядя Вова не преминул бы поздравить его с проклюнувшимся ораторским талантом. Но момент был не тот: расследование убийства Лусиняна контролировалось на всех уровнях, и надо было спешить.
– Слушай, это ж сдохнуть можно! – выпустил раздражение Дядя Вова, бахнув кулаком по столу. – Это же жилое здание МВД! Его строили, правда, еще в пятидесятых, но ведь до сих пор там живут бывшие и нынешние сотрудники органов, их семьи. А у них под носом – идеальное место для преступлений в центре города! Не мальчики, небось, знают ведь, в каких точках на власть нажимать, чтобы адекватно реагировала на просьбы о благоустройстве…
– Эти точки сейчас эрогенными называются, товарищ полковник.
– Ха-а-ха-ха-а, – залился Дядя Вова своим невообразимо скрипучим смехом, – только у нашей городской власти их сейчас все меньше становится. Стареет, что ли? Мой отец знаешь, что говорит? Из всех мужских привычек, говорит, у меня только бритье и осталось! Прибедняется, конечно. – Дядя Вова поспешил реабилитировать мужские способности отца.
– Ладно, давай, рассказывай дальше.
– Ну вот, нашла труп Лусиняна дворничиха, а в потемках не разобралась, что к чему. Думала, пьяный бомж. Над ним еще собака сидела и выла. Дворничиха испугалась подходить и пошла будить соседей с первого этажа. От них и позвонила в отделение. Мой информатор, что живет в соседнем корпусе, очевидцев среди других соседей не нашел. Лусиняна знал по улице – уважаемый, говорит, был человек…
– Да знаю, знаю, – скривился, как от плохой водки, Дядя Вова, – кто-то все-таки не так уж сильно его уважал в этом городе, раз бухнул по голове гантелей, а дорогие часы погнушался взять! Уважаемый человек… Лучше бы ему было быть не таким сильно уважаемым, но совсем живым. Ладно, давай, продолжай…
– Уже получен результат анализов из лаборатории, и они мне, товарищ полковник, сильно понравились: пятна крови-то там от двух разных групп – первой и третьей! У Лусиняна кровь третьей группы, так что пятно первой группы – след второго фигуранта или самого убийцы. А что еще более радует – резус-фактор: он у найденного пятна первой группы отрицательный. Но следов борьбы ни на теле потерпевшего, ни на его одежде не обнаружено.
– С больницами связался?
– Скажу – нет, поверите?
– Что там? – Дядя Вова прикинулся не заметившим иронии подчиненного тупоголовым начальником.
– Связался, но результатов пока нет: никто со стреляными, резаными или рваными ранами не обращался. Точнее, обращались, но по бытовухе или с железобетонными обоснованиями травматизма. Толстая тетка, например, порезалась собственным унитазом: не выдержал нагрузки.
– Мать честная! Это сколько ж она весила?
– Дядя Вова весело вперился в Шварца поверх очочков.
– Сколько весила – не знаю, но что дежурные хирурги ей весь зад вдоль и поперек, заодно с окрестностями, два часа зашивали и при этом гоготали, как умалишенные, знаю. Чуть лишние отверстия, говорят, не зашили.
– Да-а-а, обрадовали бы мужа. Ну что им, хирургам, стоило? Они на своем веку столько медсестер перепортили, что могли бы в свое оправдание хоть одну девственницу сотворить. Это не твой друг Тоникян ее зашивал? – продолжал веселиться Дядя Вова.
– Да нет, Тигран уже частной клиникой заведует, – улыбнулся Шварц.
– Ага, а то бы он наверняка к жопе уши пришил или чего похлеще. Он у тебя тот еще фокусник. Хотя тамада классный. Виртуоз, а не тамада! Как он на твоем дне рождения красиво провел застолье, а?
– Ну, так врачи – разве их работу сравнишь с нашей? Это мы день и ночь гоняемся, как охотничьи псы, за всякой тварью. А у них на приеме совсем другой контингент и совсем другое настроение от работы: пациентки приходят чистенькие, нарядные, в рот смотрят, каждое слово ловят…
– Да и врачихи с медсестрами – тоже ничего, – хохотнул Дядя Вова, припомнив недавний опыт. – У него теперь под началом целый батальон небось?
– Нет, Тигран никогда не злоупотреблял служебным положением, – вступился за друга Шварц. – Любят его женщины, и все тут. Всегда так было.
И здесь Шварц мог бы в подтверждение рассказать шефу сотню историй о фантастических успехах доктора Тоникяна в женских рядах. Но воздержался, припомнив лишь одну. Ту, как попав по распределению в отдаленный район, Тоникян в первое же ночное дежурство новенькой симпатичной медсестры уволок ее в койку:
– … вот старуха-санитарка и застукала их утром. Он старушке объяснил, что, дескать, из министерства пришла секретная инструкция. А в ней написано, что каждая новая медсестра первое свое ночное дежурство обязательно должна провести в постели с доктором – для лучшего профессионального контакта. И министерская печать, говорит, проставлена. Санитарка застыла в шоке, плюнула на только что отмытый пол, спохватившись, повспоминала Иисуса, Марию, ближайших апостолов и, ворча под нос о падении нравов, пошла за шваброй. Но инструкцию крепко запомнила. Так когда через несколько месяцев пришел черед ночного дежурства другой новенькой медсестры, то санитарка, ворча в адрес аморальной инструкции, стала стелить сестричке на докторском диване. Та – в крик, мужа вызвала из дому, а муж – инструктор райкома. Тигран по-быстрому и оформил отпуск по семейным обстоятельствам. А семейным обстоятельством у него был отец – замминистра здравоохранения. Он же оперативно и перевел Тиграна в новую больницу, в Ереван.
– Ха-а-ха-ха-а, – заскрипел Дядя Вова, – Я же говорю – фокусник он у тебя, а не врач. – и гладко перешел к теме:
– Ну ты за травмами проследи.
– Обязательно.
– Давай дальше.
– Накануне вечером Лусинян зашел, как обычно, к друзьям, на Демирчяна тридцать шесть. У них там во дворе парковка, так что двор хорошо освещен и просматривается из жилого дома напротив. А там, знаете, как раз живет мой заслуженный информатор. Говорит, соседка с четвертого этажа этого же здания углядела кого-то, похожего на Лусиняна, выходившего из подъезда сразу после полуночных новостей, в ноль тридцать. Он там часто бывал, а он парень красивый, так что она запомнила. У нее окно кухни во двор выходит, она как раз тесто в плиту поставила и на часы посмотрела.
– Старая? Молодая? А что ее ночью приспичило печь? – вскинулся полковник.
– На следующий день было рождение у мужа. Хороший мастеровой, репатриант из Ливана. Ему исполнилось восемьдесят девять, ей тоже что-то около восьмидесяти. Шестьдесят лет вместе. Так что вполне молодая, – сострил Шварц.
– Дай Бог здоровья, – восхитился Дядя Вова. – А что ты думаешь, жил как человек, не гонялся за каждой юбкой, сохранил семью – вот и дожил до патриаршего возраста. А то заладил: Уважаемый в городе парень, уважаемый… Где теперь твой уважаемый в городе молодой Донжуан? В городском пантеоне! А мог бы кушать свежие пироги, сохрани он хоть одну из этих своих разномастных жен…
Крепость семейных уз была фундаментальным идеалом Дяди Вовы, проповедовавшего его среди молодых сотрудников с рвением, набиравшим обороты по мере старения патриарха районного порядка.
– Эх, тянем мы, запаздываем! Дело – если его не раскрыть сразу, по горячим следам, – превратится во вчерашнюю жевательную резинку и потеряет свой мятный вкус…
Шварц знал это не хуже Дяди Вовы. За райотделом числилось ого-го сколько нераскрытых дел, и, если след не прощупывался в течение первых дней, можно было считать величайшим везением выявление преступника в дальнейшем. Присущая Шварцу цепкость и скрупулезное отношение к мелочам помогали ему сразу взять след, что бывало не раз. Но эта же дотошность могла бы довести его бедную жену до состояния настоящего невроза, если бы не объединяющее их хорошее чувство юмора. Дома нераскрытых преступлений не бывало – были падкие на Маргариткины кулинарные художества жизнерадостные увальни-близнецы, чье воспитание на примере отца Марго подняла до уровня вероучения.
О необходимости закусывания как условии продолжительного застолья
1990 г., зима
Когда у Шварца родился не один сын, а сразу два, криминал мог распоясаться на сутки. Но воздержался, хотя Шварц с ребятами из райотдела праздновали этот дуплет именно так долго. С утра узнав Аветис, то есть благую весть, они оставили в отделе одних дежурных и машинисток и закатились в Гарни. Стыдно признаться, но античный храм в 30 км от Еревана интересовал их в последнюю очередь, и даже вовсе не интересовал. Зато спрятавшийся в заснеженных горах ресторанчик славился отменным хашем, и вдали от бдительного ока начальства там можно было оттянуться по полной программе. Время было голодное, дефицитное, еще формально советское, но Армения уже была в блокаде двух соседних стран. А третьей была самораспадающаяся микроимперия, так что блокированной оказалась и третья из четырех фактических границ. Словом, нормально поесть в Ереване тогда было абсолютно исключено.
Сканеров для наблюдения за внутриутробной жизнью младенцев тогда здесь видом не видывали, пол вычисляли по внешности и повадкам будущих мам на основе народных, но научно-заумных формул. Так что рождение твикса мальчишек было действительно потрясающим сюрпризом, и не отметить его с должным размахом было бы реальным жлобством. И Шварц спланировал роскошную вылазку в Гарни, которая поначалу весьма удалась.
Прилежно начав борьбу с запасами водки заведения под закусон из огнедышащих стручков маринованного перца и одуряющее запахом чеснока варево из коровьих ног, ребята легко одолели первую вереницу тостов. Конечно, они с потрясающей художественностью произносились во славу народившихся наследников, молодчаги-отца, героической мамы, близких и далеких предков и далее – в глубь веков и вширь народонаселения. Словом, компания успела принять на грудь более десятка стопок водки на брата, а официантка – сменить после хаша тарелки, когда в зал вошла чешская делегация. И как раз в эту минуту тамада доверил энный тост под двузначным порядковым номером лучшему другу Шварца, Тиграну Тоникяну – круглоглазому, как младенец, толстячку, не в первый раз с удовольствием присоединившемуся к компании ментов и покинувшему по такому случаю стены родной клиники. Тоникян терпеть не мог хаш как источник холестерина, но обожал ритуал связанного с ним застолья.
– Армен джан, брат джан, – прочувствованно начал непривычно бледный Тигран.
И мерцающее голубыми и розовыми сполохами сознание Шварца что-то невнятно ему подсказало.
– Армен джан, – продолжил Тоникян, – сегодня будет…
Но ознакомить участников застолья с прогнозом на текущий день Тоникяну не удалось. Вместо афористичного и наполненного житейской мудростью тоста заслуженного участника дружеских попоек изо рта Тоникяна ударила тугая струя блевотины, залившей нарядный стол в радиусе метра. Нештатную ситуацию оперативно разрешил опытный тамада, запихнув в карман линялого фартучка официантки все еще актуальные красные десятирублевки. Официантка сбегала за уборщицей и сторожем, и они продефилировали втроем, волоча позвякивающую скатерть со всем ее многообразным содержимым.
Чехи все еще рассаживались за длинным столом в глубине зала, и гражданская часть группы пропустила предыдущий акт сцены. Просто они с удивлением заметили, как десяток осанистых мужчин вдруг дружно подобрал подол длинной скатерти и завел его со всех сторон на географический центр стола. Однако наиболее бдительный и профессионально ориентированный член зарубежной экспедиции успел углядеть базисный этап события и ошарашенно рявкнул Hrome![1], припечатав удивление кулаком об стол и разразившись здоровым хохотом.
Удивление чехов длилось недолго:
– Это армянский народный обычай! – помахал им оттертой рукой очухавшийся благодаря боевому сигналу Тоникян. – Когда у нас рождаются близнецы, мы обязательно дважды меняем убранство стола. Фольклор и экзотика! Вергуш джан, пять бутылок шампанского на стол наших итальянских гостей![2] Привет нашим младшеньким, Ромику и Ремику![3]
Чехи ничего не поняли, но, увидев шампанское, заулыбались и зааплодировали, а углядчивый член команды продолжил кулачную канонаду по столу, всуе поминая Вечный город. Под этот аккомпанемент Шварц расплатился с официанткой за провальное застолье и в том числе – за щедрость глобалиста Тоникяна. Ребята вышли на свежий морозный воздух, спихнули доктора в сугроб, вываляли в нем от всей души и после курса ускоренной реанимации радостно запихнули в машину.
Заканчивать на низкой ноте не хотелось, и они поехали дальше по туристическому маршруту, в Гегард. Там у подножия выдолбленного в монолите скалы древнего храма празднично пестрели всеми цветами текстильной промышленности Лоскутки Желаний, привязанные к голым веткам деревьев. Покачиваясь на ветру, они должны были напоминать Господу Богу о справедливом распределении благ, которое с различными обоснованиями вымаливали здесь прихожане храма. Их оставляли здесь с незапамятных времен – еще с тех пор, когда Господь-то наверняка был, но хранящееся здесь копье еще не проткнуло его Сына.
Тоникян и пара молодых ментов повытаскивали из карманов носовые платки и принялись привязывать к ветвям, пытаясь сосредоточиться на одном-единственном, притом невинном желании. Но то ли Тоникян спьяну не то пожелал, то ли свежие пятна на его платке свидетельствовали о наличии осуждаемых всеми религиями пороков, но он оскользнулся, кубарем скатился по крутому скату метров на двести и чудом не угодил в бурливую речку.
Пока Тоникяна догоняли и выковыривали из снега, отряхивали и прощупывали на предмет возможных травм, все изрядно продрогли. Вот и решили заехать в соседний ресторан согреться и попить кофе. Ресторанчик был по-своему уютный, с искуственными пальмами в кадках и пластиковыми лианами по стенам вкруг барной стойки. Поверхность выработанного из качественной иранской нефти ковролинового пола была от руки расписана томными павлинами, а в зале, за вьетнамской бамбуковой портьерой, уютно потрескивал камин с настоящими местными дровами. Так что кофе в тропическом уголке посреди заснеженного Гегарда на отметке в полтора километра над уровнем моря незаметно перетек в заказ шашлыка, который, как известно, не сразу жарится. Точно также незаметно на столе объявилась водка, которую грамотный тамада, как известно, никогда не позволит смешивать с шампанским и менее благородными напитками. Так что «дорогие тосты», как называют свои выступления велеречивые руководители застолий, продолжились под закуску все тех же острых перчиков.
Только на третьем после антракта на природе тосте участники застолья заметили отсутствие Тоникяна. Когда обеспокоенный Шварц ринулся на его поиски, он наткнулся на пасторальную картинку безмятежно воркующего с барменшей Тоникяна за ополовиненной бутылкой шампанского. Там же, на барной стойке, стояла еще одна, уже пустая. Но водворенный на место среди друзей бледный Тоникян был весел, несмотря на полученные под Деревом Желаний ушибы.
– Армен джан, брат джан, – начал он, и только в эту минуту прояснившееся от нескольких чашек кофе сознание Шварца послало необходимый сигнал: таким бледным Тоникян бывал только тогда, когда его уж очень сильно мутило! Тут мало было иметь опыт оперативника и разряды самбиста – нужно было быть самим Шварцем, что сделать молниеносный захват, вовремя вытащить Тоникяна из-за стола интердизайнерской забегаловки и воткнуть в солидный сугроб у тропинки.
Когда снежные омовения Тоникяна повторились с неотвратимостью заново прокрученной хроникальной съемки, из которой были вырезаны лишь чешские итальянцы и купание в ручье, неутомимый автор двойни собрал свой дружеский коллектив и направил караван обратно в столицу. Там полудохлого Тоникяна сдали с рук на руки обрадованным медсестрам его больницы, а менты закатились в роддом с охапкой экспроприированных у торговцев роз и от души покричали под окнами счастливой роженицы. И только потом с присущей им целеустремленностью и последовательностью финально засели в ближайшем ресторане, где стол был украшен только сизыми сосисками и все теми же отечественными стручками огнедышащего зеленого перца.
Зачем гражданам знание УПК и детской классики?
2004 г., 13 декабря
Шварц уселся за свой задрипанный рабочий стол, выложил стопку бумаги и, сверяясь с «делом», стал выписывать в колонку добытые сведения:
1. Жены:
Ануш Мкртычевна Айказян, 1-я жена. Год рождения – 1962. Была замужем с 1980 по 1982 г. В тот же год переехала в Москву. До 1990 г. работала переводчицей с английского языка в системе Минводхоза СССР. Второй муж – Полуботко Константин Иванович. Дочь – Полуботко Карина Константиновна. В мае 1990 г. гр-ка Айказян вернулась в Ереван, вступила в партию «Дашнакцутюн», в числе активистов была арестована в декабре 1994 г., в июле 1995 г. умерла в санчасти СИЗО от рецидива тропической лихорадки, перенесенной в ходе давней загранкомандировки в Нигерию.
Шушаник Вагановна Барсегян, 2-я жена. Замужем с 1982 г. по 1983 г., младший научный сотрудник в лаборатории экспериментальной биологии в системе Министерства сельского хозяйства Армении. Брак аннулирован. Детей нет. Больше замуж не выходила?
Регина Вайнер, Испания. Женаты с 84 г.?
Дебора Рено. Брак зарегистрирован в мэрии Ориндж Каунти, Лос-Анджелес, США, в 1992 г. В 1993 г. аннулирован решением окружного суда.
2. Приятельницы:
Светлана Гаспарян, 1970 г. р. Бывшая чемпионка Армении по гимнастике. Бывшая учительница физкультуры. Место работы? Место жительства – ул. Демирчяна, 36. Лусинян был у нее вечером накануне убийства;
Назели Терзян, сотрудница канцелярии МИДа. Дважды звонил ей из дома накануне убийства;
Гретта Айсорова, риэлтор в агентстве недвижимости. Часто созванивались и виделись в последнее время;
Анаид Мардукян, владелица кафе «Каскад». В последнее время Лусинян был дважды замечен в кафе за беседой с ней.
Проставив еще несколько фамилий и дойдя до Камиллы Султановой, Шварц чертыхнулся и закурил:
– Ну, Арамис, ну, мушкетер чертов, мало ты меня при жизни доставал, так нате вам, гробь время на всех твоих блядей…
Список был необъятный, а на каждом листе меморандума, завершающего очередные тридцать страниц «дела», возникали все новые имена.
В дверь тихо постучали.
– Войдите, – рыкнул Шварц, захлопнул папку и спрятал ее в ящик стола. В дверях, в шубке из целой стаи неизвестных Шварцу зверьков, возникла фигурантка № 5, Светлана Гаспарян.
– Так значит, вы – Светлана Гаспарян, бывшая учительница физкультуры в средней школе номер четыреста одиннадцать, – проговорил скороговоркой Шварц и уставился на удалую подружку Арамиса, изучая конфигурацию объекта.
Над не по-женски боевым носом нависала выпуклая челка, берущая начало под кожаной кепкой. Крошечные по армянским стандартам, но яркие глазки-изюминки на белоснежном лице задорно щурились на Шварца. Ниже все скрывали шуба и сапоги.
– И что он в ней нашел? – подумал было Шварц, но взгляд профессионала безошибочно определил, какую нефертитьевую шею, точеную фигурку гимнастки и стройные ножки следует иметь в виду. – А вот нос что не состригла – молодец!
Свидетельница уселась на выживший в кабинете с доисторических времен венский стул, скрипнула им, закидывая ногу на ногу, расстегнула шубку, демонстрируя идеальную шею и аккуратный бюст над тонкой талией, достала сигарету. Шварц медленно, со знанием дела, устремил на нее давно отрепетированный тяжелый взгляд, менторски отчеканил: «У-нас-не-курят», – и потянулся за анкетой для допроса. Светлана пожала меховыми плечами и спрятала сигарету в аккуратный кожаный футлярчик.
Шварц приступил:
– Фамилия, имя, отчество?
– Вы же са-а-ами сказали. Гаспарян. Светлана Гра-а-антовна, – запела гимнастка типично бакинским говором.
– У нас такой порядок. Год рождения?
– Тысяча девятьсот шестьдесят восьмой.
– Место рождения?
– Город Баку-у-у.
– Социальное положение?
– А-а-аховое, – сострила Света.
– В смысле?
– Родители работали инженерами на заводе кондиционеров в Баку-у-у. В девяностом сумели бежать в Ереван. С тех пор не работают и живут на пособие в гостинице, бомжовке для беженцев.
– А вы? – сурово продолжил Шварц, не дав сочувствию проявиться.
– Я тогда училась здесь в Институте Физкультуры. Окончила в девяноста пе-е-рвом.
Шварц заполнил графу, внутренне забавляясь распевкой Светы, и продолжил:
– Судимость? Привлекались?
– О Бо-о-оже мой, – устало вздохнула Света.
– Ну да. В девяноста четвертом находилась под сле-е-едствием как помощник директора кооператива «Шининвест». Но в связи с непричастностью к финансовым операциям была выпущена из абовянского СИЗО всего через три недели после задержа-а-ания.
– Ага, – обрадовался Шварц, – это та самая финансовая пирамида, что кинула наших доверчивых граждан на пять миллионов баксов?
– Четыре миллиона семьсот двенадцать тысяч триста восемна-а-адцать, – поправила непричастная к финансовым операциям Света.
– Сейчас работаете?
– Работаю. Помощник заместителя директора государственного агентства недви-и-и-жимости, – гордо выдала спортсменка, которая и вправду была, очевидно, хорошим помощником. Раз уж взяли на работу в госструктуру при наличии слегка замаранного прошлого. Или за это и взяли? Надо разобраться.
– Замужем?
– Да-а-а…
– Полное имя мужа?
– Левон Ншанович Алтынов, тысяча девятьсот пятьдесят девятого года рожде-е-ения.
– Когда оформлен брак?
– Пока не оформлен, но мы женаты почти го-о-од.
– То есть вы не женаты, а сожительствуете, – поправил Шварц.
– То есть мы не сожительствуем, а состоим в гражда-а-анском браке, – укоризненно поправила его гимнасточка.
– Это вы про Ленина с Крупской начитались и на нынешних «звезд» насмотрелись, Светлана Грантовна, – распахнул специальную улыбку Шварц: когда надо, он умел улыбаться профессионально-омерзительно. – Вот если бы вы расписались в загсе и не пошли в церковь, брак был бы гражданским. А так – это сожительство, которое при условии совместного ведения хозяйства квалифицируется как фактический, но отнюдь не юридический брак. Понятно объясняю?
– Угу-у-у, – расстроенно протянула Света, и Шварцу даже стало ее жаль.
– Вот и хорошо. Ранее в браке состояли?
– Расписалась, состояла, развела-а-ась.
– Вы с бывшим мужем проживали на той же улице? – справился Шварц.
– О Го-о-осподи, – поежилась от чрезмерной информированности Шварца Света. – Ну да. Мы как раз жили в доме напротив, Демирчяна, 38.
– А сейчас где проживаете? – спросил Шварц, успевший разузнать о скандалах Светы с первым мужем благодаря всё тому же информатору.
– Демирчяна, 36, квартира четыреста двена-а-адцать.
– Это ваша квартира или Алтынова?
– Это наша квартира, – поправила Света, – Лёва летом купи-и-ил.
– Лёва летом купи-и-ил.
– На чье имя?
– Не зна-а-аю… – задумалась Света. – Наверное, на свое.
– Да, Лёва верен себе и наверняка кинет и эту фигуристую дурочку, – подумал Шварц, а вслух спросил:
– Какого рода отношения связывали вас с Лусиняном?
– Мы с ним учились в одном институте. И вообще он старый това-а-арищ… В смысле – мой и му-у-ужа, – пропела Света, – они в детстве жили на одной улице…
– И всё? – уставился на нее Шварц.
– Да-а-а, – протянула она без настроения.
– Где был ваш муж в ночь с восьмого на девятое декабря? – неожиданно спросил Шварц.
– Был в рабочей поездке в Стамбул. Уехал четвертого, за несколько дней до этого… – Света всхлипнула, достала из сумки футляр с разовыми платочками, хрюкнула в один из них и продолжила: – а вернулся одинадцатого, в день похорон.
– Потому что узнал об убийстве Лусиняна?
– Нет, – Светлана повторно всхлипнула и убрала футлярчик, – он надолго там не остается. Так, недели две-три. Бывает, на неделю. Это еженедельный рейс.
– А что он в Турции потерял?
– У него би-и-изнес…
– Какой?
– Ну, у него же тураге-е-ентство, «Тур дистрибьютерс».
– Зарубежный туризм, внутренний?
– Анталья. Остальное – по мелочам, – пожала пушистыми плечами Светлана.
– А что делал Лусинян у вас в ночь с шестого на седьмое декабря?
– Мы разгова-а-аривали…
– Как долго?
– Не помню, час или два-а-а…
– У нас есть сведения, что он у вас оставался всю ночь!
– Непра-а-авда…
– Хм, а вот здесь у меня записано, что его видели выходящим от вас под утро седьмого числа.
– Ну и что-о-о?
– А то, что мужчина и женщина ночь напролет, а особенно в отсутствие ее мужа, вряд ли совместно решают кроссворды!
– Ха, – расправила плечи бывшая учительница, – вас послушать, так Мойдодыр был любовником мамаши того грязнули.
– Какой Мойдодыр? Причем тут Мойдодыр? – опешил Шварц.
– опешил Шварц.
– Ну, он же вдруг выбежал утром из маминой из спальни на кривых ножках! С чего бы это вдруг? И что он там вообще делал?
От былой вялости Светланы не осталось и следа. Перед ним была спортсменка, готовая жонглировать булавами, отлавливать мяч спрятанной за спину рукой, не запутаться в лентах и при этом улыбаться судьям и болельщикам.
– А у Федоры обязательно был роман с самоваром: чего он ей так многозначительно подмигивал? – справилась она у Шварца, блестя глазками-изюминками.
Шварц сломал, вытаскивая из пачки, одну сигарету, вторую рывками запихнул под левый верхний резец, щелкнул зажигалкой и понял, что не сможет теперь отказать этой обманчивой флегматичке в аналогичном удовольствии. Внутренне собравшись, он протянул ей свою пачку и вежливо спросил:
– Вы все мультики смотрите или только любимые?
– Вообще-то классику, в том числе детскую, я изучаю в книжном виде. Но любимая моя книжка на сегодняшний день – УПК. И если мне не изменяет память, задерживать меня далее вы не имеете ни оснований, ни права! – боднула головой в знак отказа от предложенного канцерогена Свидетельница-Подозреваемая и напружинила торс в знак готовности встать и улетучиться к такой-то матери.
– Нет, – думал Шварц, просматривая потом письменные показания Светланы, – этому сперматозавру олауреаченному мне надо было при жизни намять бока, скормить ему все пять медалей, не дав ничем запить, чтобы знал, скотина, что нельзя так однообразно подбирать себе в любовницы одних образованных фигуристых стерв. О господи, ну и тип был этот несчастный Арамис, ну и окруженьице… Вот зачем бывшей гимнастке и учительнице физкультуры, а теперь – всего лишь помощнице директора, знание УПК?
И здесь надо признаться, что, как и все сотрудники правопорядка Армении, Шварц терпеть не мог юридически сильно подкованных граждан, попадающих в «дело» в качестве свидетелей или подозреваемых. Собственно, грамотных больных у нас не любят и врачи.
– Эх, Арамис, – угрюмо думал Шварц, – на кого ж ты их всех покинул? Чует моя душа, долго еще бродить твоему мушкетерскому привидению со шпагой…
Где бреют снегурочек
Декабрь,1994 г.
Трудно объяснить непосвященному, как навскидку отличить проститутку от святой, пока они молчат, а глаза прикрыты. Вот уж когда заговорят, то не надо быть слепой, но ясновидящей Бабой Вангой, чтобы определить: с той стороны слышен мягкий голос женщины, любящей мир во всех его, даже самых варварских, проявлениях, а с этой – тотальная ненависть той самой, кто по профпринадлежности является жрицей не чего-то там, а любви.
Конечно, и та и другая может быть блондинкой или брюнеткой, с пышным бюстом или полным его отсутствием. И у той и у другой может быть дурной или отменный вкус в выборе одежды и бытовых вещиц. Но взгляд! Если вы заглянете в глаза отработавшей с десяток лет профессиональной шлюхи, то наверняка испугаетесь: это взгляд мертвеца. Пустой экран органа, работающего не только сканером визуальной информации, но и несомненным передатчиком сигналов души обладателя. А души уже нет. Ну как же ей уцелеть, если душевный комфорт проститутки обеспечивается оборотами тяжелой махины цинизма, топливом для которой служит сама душа?
Нет души – и все тут! Есть только палочки, колбочки и другие сенсоры и рецепторы. Такой инвалидностью некогда отличались только киллеры и бывалые проститутки – несомненные братья и сестры на ветви генеалогического древа человечества. На протяжении последних веков отряд бездушных пополнялся новыми разновидностями, распознать которые всегда можно даже издали. В наши дни, к примеру, непроницаемые солнечные очки и такие же стекла машин стали неотъемлемой частью их внешней оболочки.
Вы вспомнили невинную Джулию Робертс в роли Красотки, словившей в свою первую рабочую ночь не триппер, а мультимиллионера? Что ж, на то Голливуд и есть великий сказочник. Жаль только, что в назидание девчонкам всего мира Золушка у него захомутала принца на белом мерсе не праведным трудом на кухне мачехи, а минетом в роскошной койке отеля.
Что вымаливают бездушные над вереницами самых толстых и дорогих свечей, зажженных ими в церквях, когда спасать уже практически нечего: души-то умерли, и свидетельством тому – пугающая пустота в отретушированных глазницах? Хорошее здоровье для производственных успехов? Новых клиентов? Беги от них, читатель! Так как если ты встал на их дороге, то единственно возможный расчет в деле твоего устранения – рентабельность. Плюс – минус, актив – пассив, и вот уже подводится баланс: разница в сколько-то там тысяч долларов! И разница эта – в пользу твоего уничтожения.
Взгляд Анаид был подобен взгляду забальзамированной лет пять тысяч назад мумии: там царил кошмар абсолютной пустоты. Начинала она, как большинство ее коллег: сперва, недоучившись до девятого класса сельской школы, удрала из дому с любимым парнем. И мать театрально прокляла ее и не менее драматично поклялась перед соседями и родственниками назад не принимать. Потом любимый парень стал попивать и поколачивать ее в большом городе, где их никто не знал и не мог бы за нее заступиться. Потом врач-гинеколог в консультации предложила найти будущему ребенку богатых родителей и хорошо заплатить. И у Ано, как ее называли в родной деревне, были самые роскошные передачи и самые красивые букеты на тумбочке в палате роддома. Уж они с любимым здорово приоделись и целый месяц таскались по кафешкам на заработанную тысячу долларов.
Потом деньги кончились, и он снова попеременно любил ее и поколачивал. А поколачивал за то, что продала его кровиночку, его мальчоночку, и продала задешево: на них в Армении другая рыночная цена. Потом его поймали на воровстве и посадили. Потом знакомые девчонки из кафешки объяснили, что ничего в ночном промысле зазорного нет: это просто временный способ заколачивания хороших денег и с нее не убудет. И наконец Мама Роза – так здесь называется профессия сутенерш – привела ее в окраинный район Еревана в свою конюшню на десять девиц. И это была удача, так как платить за квартиру было уже нечем, а квартирная хозяйка, насмотревшаяся на безрезультатно осевшее пузо Ано, уже грозилась сдать ее органам.
Это было странное общежитие, где входная дверь хлопала круглосуточно. Две комнаты квартиры были уставлены кроватями девчонок, а из кухни пахло яичницей и колбасой. Там же, над плитой, были густо натянуты веревки, на которых бесконечно сушились всенепременно красные нейлоновые трусики и не менее сексапильные бюстгальтеры. А в третьей комнате стояли кровать, журнальный столик с толстой бухгалтерской книгой и кресло, в котором день-деньской утопала жирная Мама Роза и вела по телефону запись клиентов, как заправский диспетчер в автопарке. Днем заполнялся сетевой график работы по вызову, ночью оказавшиеся в простое девицы отправлялись на работу на ведущее в город шоссе.
У Мамы Розы были сумасшедшие связи, и это завораживало заплутавшую в городе стайку деревенских дурочек. Для подкрепления связей она не только платила живыми деньгами, но и регулярно одаривала своих покровителей еще более живыми девчонками. Щедро одаренные ребята «крыши» частенько передаривали свои подарки нужным людям – для укрепления собственных сумасшедших связей. Так у девиц заводился свой номенклатурный блат, и некоторые из них переоценивали свои возможности, за что получали от Мамы Розы по первое число. И число это проставлялось фиолетовыми фингалами под глазами выскочек и здоровыми синяками на их неутомимых задницах. Случалось, что клиенты и сами избивали девиц до полусмерти. Бывало, что и вовсе убивали: это было начало девяностых, время смутное, темное по ночам и богатое на нерасследованные трупы.
Но под занавес девяноста четвертого, 28 декабря, когда в день совершеннолетия Анаид девчонки пищали от восторга, примеривая прикупленные Мамой Розой белоснежные бисерные трусики и лифчики Снегурочки, их взяли всем скопом. И не потому, что проституция разонравилась опекавшим ее чинам, а потому, что нужно было собрать компромат ни много ни мало, а на целую политическую партию. Ее как раз накануне запретили, с полсотни активистов посадили, и теперь, уже задним числом, их следовало как следует вывалять в грязи. А лучшего метода, чем компра от проститутки, для этого еще не изобретено. И лучшего места для откровений шлюх, чем женский следственный изолятор, тоже трудно придумать.
Еще не пуганных тюрьмой девиц и бывалую Маму Розу рассадили по разным камерам для предупреждения синхронизации показаний, а пару-тройку выбранных наудачу салаг превентивно отлупили кабелем с резиновой оплеткой в карцере изолятора. Карцер располагался на первом этаже тюрьмы, камеры – на втором, и обеспеченный хорошей акустикой голых стен вой истязаемых шлюх проникал сквозь полы всех камер, леденя кровь несостоявшихся снегурочек. Но еще до этого, чтобы сделать их безраздельно сговорчивыми, девчонок остригли наголо под машинку. И Ано смекнула: это надолго!
Люди не понимают хороших щенячьих манер
Лето, 2003 г.
– Не потом, а сейчас, и не вообще собачку, а вот эту, беленькую, – топал ногой, как малыш, здоровый девятилетний пацан и всем своим видом угрожал разреветься.
– Ну подожди, пойдем домой, расскажем маме, заснем, проснемся и придем за твоей собачкой, – увещевал его грузный и седой отец.
– Ни к какой маме не пойдем и нигде не заснем, если не возьму соба-а-ачку, – и мальчик действительно привел угрозу в действие. Плач был исполнен заливисто, с толком, так что привлек внимание старичков на скамейках парка.
– Да-а-а, если отцом становишься в возрасте деда, то и относишься к ребенку, как добрый дедушка, – оглушительно зашептал один из старичков своему глуховатому приятелю.
– Ба вонц[4], – еще громче откликнулся тот, – а если дед под каблуком бабки, то не дай Бог, что из поскребыша получится. Безотцовщина – она и при живом отце безотцовщина…
Софи решила принять участие в дискуссии и нежно лизнула руку грузного человека.
Возможно, ее взяли бы и без этого явного подхалимажа. Но, может быть, подхалимаж как вневалютная разновидность подкупа – наиболее эффективный способ достижения цели на протяжении всей истории человечества. К тому же он никогда не преследовался законом. А историю человечества каждый щенок знает не хуже собачьей истории. Тем более что первая не намного длиннее второй. Как бы то ни было, в тот же день Софи попала в настоящий дом, где было много света, который отражался даже от пола. И она с непривычки щурилась и удивлялась своему отражению в полу. Но самым приятным было то, что в доме не было грозных Усатых Зверей и противных Ниточников.
– Эт-т-того мне только не хватало, – рассердилась женщина с толстыми ногами, но поставила в угол комнаты блюдце с таким аппетитным запахом, что Софи бросилась к нему, смешно задирая задние лапки под упругим белым хвостиком, и Поскребыш весело рассмеялся.
Это было вкусно. Это было так невероятно вкусно, что половина была съедена моментально, и полегчавшее блюдце заплясало от энергичных движений розового язычка Софи. Тогда она решила обеспечить посуде устойчивость и забралась в нее передними лапками. Но блюдце опрокинулось, а вкусное содержимое растеклось по блестящему полу. Вот тогда-то ее и отшлепали в первый раз.
Второй раз ее отшлепали, когда умница Софи, уже обученная своей мамой хорошим манерам, отошла от блюдца в дальний угол и напустила там лужицу: не делать же пи-пи рядом с едой. Но Толстые Ноги хороших щенячьих манер не понимали, и мало того что отшлепали, да еще стали тыкать аккуратный носик Софи в противную лужицу. Вскоре шлепать пристрастился и сам Поскребыш. Он шлепал ее спросонья даже тогда, когда она тихо поскуливала поутру рядом с его кроватью, так как терпеть лужицу в животике не было никаких щенячьих сил.
А потом Софи перевели в недостроенную мансарду и заперли там. Мансарда была еще более светлая, чем сам дом. Косые окна пропускали горячее солнце, и спрятаться от него можно было только за штабелями, пахнущими свежеспиленными деревьями парка, и за огромными твердыми мешками с чихательным запахом. А во всех углах жили Ниточники. Дважды в день Толстые Ноги приносили вкусные объедки, свежую воду, но бесконечно ворчали, заметив кучки какашек, и норовили шлепнуть. Но Софи уже научилась увертываться от ударов и прятаться в узком проходе за штабелями, куда Толстые Ноги протиснуться не могли.
Зато по вечерам Старик и Поскребыш отпирали дверь мансарды, надевали на Софи нарядный кожаный ошейник с блестящей табличкой на нем и поводок, и они втроем шли гулять в парк. Софи принюхивалась к каждому кустику и дереву в расчете обнаружить следы мамы и братиков, но ими совсем не пахло. Но чем только там не пахло! Трава и деревья были настоящей ароматической газетой с многообразием новостей и прочей информации, и Софи читала свою «вечерку» с прилежностью старичков на скамеечке. А выводы делала гораздо более прозорливые, чем они. Идентифицировать авторов с оставленными ими метками было уже не так трудно, как вначале, и Софи вскоре поняла, что необходимо осторожничать, если почувствуешь свежий след косолапых вороньих слетков, контролируемых сверху черноклювыми мамами. Ох, налетела одна как-то, спикировала сверху и чуть было не лишила глаза! Старик едва отогнал проклятую ведьму. И наоборот, всеми силами следовало искать Добряка, который при каждой встрече нежно трепал ее за ухом, почесывал грудку и угощал вкусными недоеденными косточками.
О преимуществах американского диалекта над лорийским
Декабрь 1994 г.
Камера, куда ее, лопоухую, привели, была на шесть человек. Пять мест на двухэтажных нарах были застелены, и Ано, молча глотая слезы, расстелила свой матрас на единственно свободном в верхнем ярусе и приготовилась лечь. Девчонки в камере зашикали на нее, а из смотрового окошка двери раздался мат и рык дежурного надзирателя:
– Вста-а-ать! Сейчас сидеть! Лежать только после отбоя, с двадцати трёх до семи ноль-ноль!
Встать – сидеть – лежать. Где-то она уже слышала эти команды. Ну да, так дрессировал своего ротвейлера ходивший вокруг нее кругами мальчишка с верхнего этажа Мамы Розы. Но она-то не ротвейлер! Ано примостилась на лавке у стола, и девчонки с обритыми головами стали знакомиться. Здесь, конечно, сработали профессионалы сортировки: у всех подследственных были абсолютно разные статьи уголовного кодекса, и коллеги не пересекались. Одна обвинялась в групповом разбойном нападении на должника подружки, другая – в соучастии в мошенничестве очередной финансовой пирамиды, третья – в убийстве мужа-наркомана, четвертая – в воровстве кошелька в автобусе. А вот пятая была «политическая», и она сидела себе внахалочку за столом, с длинными волосами, читала книжку на непонятном языке и не скрываясь смеялась!
– Твою мать, – молча возмутилась Ано, – чего ж она, дура старая, регочет в этом проклятом месте? – а вслух спросила:
– А что это вы читаете?
– Это О'Генри, американский писатель, – улыбнулась ей дура старая, – и я обычно читаю его рассказы, когда болею и не могу больше ничего делать.
– А это – американский язык? – кивнула на книгу Ано. В сельской школе из-за хронической нехватки кадров проходили только армянский.
– Это ты точно заметила, – продолжала улыбаться женщина, как будто и вправду преспокойненько болела себе насморком на любимом домашнем диване, – это уже слегка американенный английский язык, так как писал О'Генри еще в начале века. А в наше время уже можно наверное говорить о самостояльном американском языке. Вот как твой лорийский армянский отличается от государственного. Хотя лорийский мне нравится не меньше. И гумрийский, на котором так красиво говорит Нелли, – она указала на разбойницу, – и гаварский, на котором говорит Мануш, – и убийца гордо похлопала себя по груди, – и очень яркий гадрутский, на котором так вкусно говорит наша Света, – и мошенница весело раскланялась.
– Видите, какое у нас языковое соцветие? – рассмеялась Ануш, и девчонки вокруг стола тоже заулыбались.
«Да подавись ты своим вкусным американским, сучка проклятая», – так и хотелось сказать Ано, но она спросила:
– А по-армянски вы читать-писать не умеете?
– Еще как умею. Но раз так получилось, что в кои-то веки я никуда не спешу, то можно попрактиковаться в английском, а то за всеми делами стала забывать слова.
– А вы давно здесь? – спросила Ано, и сидящая по ту сторону стола воровка окрысилась на нее:
– Ты чего прицепилась к тыкин[5] Ануш? Чего это ты все расспрашиваешь да расспрашиваешь? Наседка, небось?
Слово было незнакомое, но явно обидное, и Ано среагировала:
– Да уж не воровка, как ты!
– Ах ты шлюха придорожная, – задохнулась воровка и попыталась дать ей в глаз прямо через стол. Но Ано шустро уклонилась, и воровка, потеряв равновесие, бацнулась мордой о столешницу.
Из-за двери опять послышался мат, в окошке появился ястребиный глаз надзирателя и раздался рык:
– Стоять! Опять подрались, бляди-преступницы? Ну кого я буду драть в карцере за нарушение режима? – и в замке заскрежетал ключ.
Девушки поспешно встали, вытянулись во фрунт, повинно склонили головы, как нашкодившие детсадовские, а Ануш сказала:
– Извините нас, господин лейтенант. Это я случайно книгу уронила, девочки бросились поднимать, вот и получился шум…
– А мне твои извинения нужны, как кроту лампочка, тыкин Ануш. Еще раз хлопнется твоя книжка – будешь читать только тени на потолке. Поняли меня все? – спросил надзиратель, обвел всех взглядом мясника на экскурсии в хлев, и девчонки поежились.
– Это она виновата, выведывает тут, понимаешь, – зашептала воровка, когда надзиратель вышел.
– Успокойся, Алвард, – тихо ответила ей Ануш, – девочке и вправду интересно. Когда я появилась здесь неделю назад, вы и сами интересовались моими книгами, и я только рада вашему интересу…
– Да она ж подсаженная, у нее на лбу это написано, – не унималась та.
– У всех у вас написано на лбу одно и то же. А написано там, что вы просто невезучие двадцатилетние девочки, которых в свое время бросили родители или любимые, а уж вы сами бросили учебу.
– Вот уж не-е-ет, – запротестовала Света, – у меня высшее образование: я-то кончала физкультинститут! Но мы там неме-е-ецкий проходили…
– Ладно, – рассмеялась Ануш, – считай физкультинститут высшим образованием и всё, что я говорю, – к тебе не относящимся. Вот посмотрите, девочки, – оглядела она сидящих за столом, – как здорово здесь у О'Генри сказано, сейчас переведу. Ага, вот: «Город – жизнерадостный малыш, а ты – красная краска, которую он слизывает со своей игрушки». Вот вас и слизывает город, а вы не сопротивляетесь. И жить вам неинтересно, потому что нет в вашей жизни интереса к знаниям, а есть только стремление к стяжательству…
Слово было уж очень мудреное, но девчонки согласно закивали головами.
– Надо что-то с вами делать, а то от безделья вы будете бесконечно драться и спускаться в карцер, драться и спускаться, пока не заработаете хроническую болезнь… День-то долгий, а занять его нечем… А хотите, я научу вас английскому языку? – спросила вдруг она и внимательно всмотрелась в лица сокамерниц.
Что тут началось! Девчонки шепотом визжали от восторга, и Ано подумала:
– Вот это да! Не было бы счастья, как говорится, да тюремное несчастье помогло. Вот это везуха! Да с английским плевала я на эту толстую жабу Маму Розу! Да я с английским совсем с другим контингентом буду хороводиться, совсем других клиентов кадрить! И выберу себе другую точку в городе, где они суетятся: в самом центре, рядом с красивыми кафешками и солидными гостиницами! И платить мне будут больше, и вонять от них будет меньше…
– Точно решили? – спрашивала между тем Ануш, – лениться не будете? Я ведь строгая. Ну раз так, то составим такое расписание: первый урок сразу после завтрака, потом вы готовитесь ко второму уроку, который будет до прогулки, чтобы вы могли его на свежем воздухе закрепить, а третий урок – перед сном. С таким плотным графиком выйдете вы у меня отсюда профессорами. Идет?
И девчонки хором, но шепотом ответили: идет! А самая настоящая разбойница подскочила и чмокнула Ануш в щеку:
– Ну что бы мы без тебя делали, тыкин Ануш?
– Ничего у нас не полу-у-учится, – вздохнула деловитая Света, – ни бумаги, ни ручек нам никто не да-а-аст…
– Дадут, – уверенно сказала Ануш. – Только вы мне обещайте, что будете применять их только для уроков – без ксив в соседние камеры и прочих провокаций. А то действительно отберут и больше не вернут. Раз столько новеньких поступило, то начальник тюрьмы обязательно пройдет сегодня по камерам. Вот я его и попрошу.
Начальник тюрьмы действительно объявился. Подполковник Гагик Погосян был толстомордым коротышкой с отвисшим брюшком и его микрокопиями под глазами. Он был садистом и не столько бабником, сколько распущенным хозяином гарема незаконопослушных женщин. Но сам был чрезвычайно послушен министерскому начальству. А потому, раз уж разнарядка была спущена, всячески пытался спровоцировать на дерзость эту чистюлю из запрещенной партии. Что-то в ней такое было, что заставляло его тушеваться в ее присутствии! Он репетировал у себя, как войдет в камеру, смерит ее презрительным взглядом и уничтожит своим знаменитым сквернословием. Врывался в камеру, чтобы не растерять пыла, матерился. И долго потом его донимали воспоминания о том, как он старательно и виртуозно матерился, а она, с каменной маской на лице, вперивала округлившиеся глаза в стену, тогда как остальные угодливо хихикали.
– Английский, говоришь? – скривил он губы под толстым угреватым носом, – шпионскую сеть своей партии прямо здесь, у меня в СИЗО, раскидываешь?
– Знания языков еще никому не мешали, господин подполковник. Мы ведь гордимся, что президент Армении господин Тер-Петросян знает девять языков. Попробуем дать шанс и этим девочкам. Ленин говорил, каждая кухарка может научиться управлять государством, – ровным голосом парировала Ануш.
– Так то – кухарки, а не бляди, уважаемая тыкин, – ехидно осклабился Погосян и разочарованно проводил ее холодный взгляд, упершийся в стену.
Как опасно неправильно нарекать детей
14 декабря 2004 г., утро
Счастливый день безделья не удался. По части безделья у Верки всегда была напряженка. Поперек всего само собой текущего она умела возводить плотины дел и обязательств. Да и напрягать окружающих призывами смотреть на собственную текучку с точки зрения необходимости конструктивных перемен.
Так было и сейчас. Жили себе целых 30 человек, в меру сил пребывали в состоянии социальной безмятежности. И только в испорченной излишней сознательностью башке Верки всплыло, что в начале января у классной руководительницы день рождения, который каждый год после восьмидесяти следует считать юбилеем. И надо иметь совесть наконец собраться и поздравить ее. Тем более что летом, когда у Верки не было ни минуты времени и ни копейки денег, ни одна собака не сообразила консолидироваться, чтобы отметить страшно-сказать-какое-летие школьного выпуска.
Начнем с того, что никакая она была не Вера, а самая настоящая армянская Арев. Оба имени были перевертышами, но у русских означали веру вообще, а у армян – конкретный символ прежнего верования, Солнце. Таких имен-перевертышей Вера знала целую кучу и в хорошем настроении терроризировала своих подружек, худенькую Ани и здоровую Инну тем, что те фактически являются перевертышами друг дружки. Когда-то у папы всего-то и хватило характера, чтобы прописать ее в метрическом свидетельстве в честь бабушки Арев. Но маме образ литературной героини Чернышевского был гораздо милее, чем память свекрови, так что новорожденная Арев Погосовна была озвучена как Вера Павловна, и этот внутрисемейный псевдоним оказался живучим. Так была решена судьба ребенка: вместо нежной и ласковой Аревик, папиного-маминого солнышка, в доме выросла сорви-голова и заводила всех дворовых авантюр, рыжая кудрявая Верка.
Несмотря на последовательные профессиональные ухищрения маминой родни, испокон веку специализировавшейся на педагогике, сильно закомплексовать Верку им так и не удалось. Чуть ли не ежедневные посиделки теток во главе с часто наезжавшей из другого города бабушкой – мрачной школьной директрисой в роговых очках, сурово осуждали любое своеволие кудрявой строптивицы. Но итоговый счет препирательств всегда шел с ее значительным перевесом, а регулярная война с объединенным ханжеством только укрепляла характер.
– Боже мой, Верочка, – собирала ладони, как для аплодисментов, тетя, преподававшая географию, – как ты могла сказать взрослому человеку «катись»? Ты что, не знаешь, что со взрослыми надо разговаривать иначе?
– Вот я и сказала «ка-ти-тесь», второе лицо, множественное число, – попыталась оправдаться Верка. – А чего он грубил бабушке?
– Но ведь он бабушкин младший брат, – теперь ее урезонивала тетя, преподававшая физику.
– И что, – уставилась на нее Верка, – значит, теперь мне можно грубить старшим сестрам?
– Перестань препираться со взрослыми и катись отсюда – второе лицо, единственное число, – сказала мама. – И в единственном числе будешь весь воскресный день: во двор – ни ногой! – Мама преподавала русский язык.
Когда Верка перешла в четвертый класс, они с малышней двора сами устроили летний лагерь с нарядными разноцветными флажками вокруг дворовой беседки и уже репетировали концерт художественной самодеятельности. Кто-то из ребят подсказал, что после концерта у дельных взрослых обычно бывает банкет с выпивкой и закусками. Мысль была здоровая, но трудно реализуемая, так как клянчить у взрослых деньги на детский банкет представлялось делом занудливым. Но Верка придумала план. И достойно реализовала с дворовым коллективом.
Когда стройные ряды лимонадных бутылок и одиннадцатикопеечных магазинных эклеров уже ожидали концерта на составленных дворовых скамейках, с пятого этажа раздалось:
– Арев, быстро домой!
Мама называла ее настоящим именем только в состоянии крайнего неудовольствия, и спорить было нельзя. Дома уже заседал весь педсовет во главе с бабушкой.
– Верочка, – вкрадчиво начала тетка, преподавашая географию, – на какие деньги вы купили лимонад и эклеры?
– На заработанные, – честно ответила Верка.
– А мне кажется, на выклянченные у чужих людей, – жестко влезла тетка-физичка. – Как вы смели попрошайничать?
От обиды Верка чуть не задохнулась, но звонко выговорила:
– Это почему это, когда собирать для школы по домам макулатуру и металлолом – это тимурство? А собирать по домам пустые бутылки для концерта художественной самодеятельности дворового лагеря – попрошайство?
Логика была такая железная, что мама даже не исправила ей ошибки в русском языке.
– Да-а-а, ты далеко пойдешь, – только и сказала тетя, знавшая географию. А мама добавила:
– И пойдешь прямиком в свою комнату – и никакого двора до конца лета.
Конечно, концерт без нее был бы провален, но тут домой пришел папа, обработанный по дороге Шварцем и другими ребятами. Бабушкин педсовет сидел у папы в печенках, должно быть, не меньше, чем у Верки. Они с мамой долго препирались свистящим шепотом в коридоре. И мама упрекнула его:
– Это все ваши, Петросяновские гены, – намекая на папиных братьев-цеховиков. А папа ответил:
– А ведь хор-р-рошие гены, если ваше педагогическое сюси-муси не смогло их перешибить! – И совсем громко:
– Аревик, на выход! Но в 21:00 чтоб была дома! Верка разогналась, повисла на отце, чмокнула его в мягкую щеку и выскочила пулей из дому. И концерт состоялся и даже удался. А впредь, завидев противнющую подругу тетки, отдавшую всего-то две бутылки, да и те с треснувшим горлышком, она деловито переходила улицу. И разбиравшаяся в физике, но ни черта не смыслившая в детях тетка знала, что официально ей ничего не предъявишь.
– Боже мой, когда же это было! Вроде бы вчера, но в другой жизни, – думала теперь вполне взрослая Верка, исследуя ящики своего рабочего стола в поисках старого блокнота. И тут раздался телефонный звонок.
Наши методы контроля за китайской рождаемостью
14 декабря 2004 г., утро
– Привет, Верон, – раздался в трубке голос Шварца, – ну как там наш будущий генералиссимус?
– Слушай, не узнать: полгода не видела своего мальчика, а уже взрослый мужчина. Я вчера как раз от Артошки письмо и фотографии получила. А может, заглянете с Марго ко мне вечером? – весело затараторила Верка.
– Сегодня вечером – вряд ли, но завтра-послезавтра встретимся обязательно. Вы же с Тиграном входите в число свидетелей по делу вашего охламона-родственника, – мягко подготовил Шварц.
– Ну не дурак? Царствие ему небесное, конечно, но у меня на него зла не хватает: явно опять во что-то вляпался. Ты представляешь, какой на том свете ансамбль ангелих будет ему на арфах играть? – как всегда, Верка болтала, зажав телефонную трубку между ухом и плечом и водя карандашом по бумаге.
– Даже сводный оркестр, – усмехнулся Шварц, в точности представляя, как Верка уже иллюстрирует свою идею на бумаге. – Я что хотел спросить, Верон: этот Лёва, его друг, ведь женат на твоей подруге Любе?
– Был! – объявила Верка, тщательно вырисовывая пальчики потусторонней арфистки.
– Развелись, что ли? – осведомился Шварц, тоже прижал телефонную трубку к плечу и взялся за пачку сигарет.
– Еще как! – выдохнула Верка, переходя к перышкам на крыльях.
– Это как – еще как? – поинтересовался Шварц, щелкнув зажигалкой: в разговорах с Веркой темп задавала она.
– Ну, они вообще недружно жили. У него отцовских чувств – ноль. А Любка – типичная наседка, требует внимания к детям. А мужчины, ты знаешь, – отцовским инстинктом не обладают, он у них производный от человеческих качеств. Хороший человек – хороший отец, а если плохой – то и отец никакой… – Верка экспромтом выдала афоризм и отставила карандаш: вторая ангелиха безосновательно начинала походить на Любу.
– Ничего себе – умозаключения! Это ты философом на своем горьком опыте стала, Верон? Ничего, все еще образуется, – посочувствовал Шварц Веркиному семейному провалу, выпустив вытянутыми губами идеальное кольцо дыма.
– Здрасте. Никакой он у меня не горький, а даже счастливый. Растворился мой муж в Шенгенском пространстве – и слава Богу. Уже ровненько пятнадцать лет, как уехал на минуточку в Польшу, а исчез в Нидерландах, да? Зато лет через двадцать прославится пара шведов или голландцев, и мы обрадуемся: ага, а папа-то у них – армянин! – продемонстрировала беззаботность Верка.
– А что, и плохие поступки чреваты вполне пристойными результатами, философ ты наш доморощенный! – рассмеялся Шварц.
– Ничего плохого в доморощенности нет. Наука свидетельствует, что доморощенные дети на всю жизнь по всем статьям опережают детсадовских, – выдала Верка очередную порцию своих фирменных умозаключений, и Шварц насторожился:
– Это намек?
– Господи, какой тут может быть намек, если родители по утрам тебя в садик аккуратно отводили, а бабушка еще аккуратнее вызволяла еще до дневного сна? И вообще ты во всем – исключение. А философом всегда становятся на личном опыте, помноженном на опыт окружающего человечества. При наличии высокого интеллектуального коэффициента, конечно.
Да, Верка сегодня была явно в ударе. Но треп, хоть и приятный, угрожал затянуться.
– Ну уж с коэффициентом у тебя всегда все было в порядке! – подытожил Шварц и гладко обратился к интересующей его теме:
– А что Лёва?
– Лёвка, хоть и мерзавец, но наказан был женой беспощадно, – ответствовала Верка, начав переделывать арфу ангелихи в допотопную доску для стирки.
– Отдубасила, что ли? – спросил Шварц, памятуя могучее телосложение Любы.
– Лучше. Они когда собирались развестись, он решил показать ей шиш: мол, и квартира на Вернадского, и дача, и турагентство и торговые палатки – его личная собственность, а она пусть катится куда хочет. Ты представляешь? Он ведь и прописку-то московскую получил благодаря Владимиру Ивановичу – помнишь Любкиного папу, полковник был такой важный, в каракулевой папахе?
На бумаге появился новый персонаж в папахе с кокардой.
– Помню. И что? – Шварц потушил сигарету и взялся за шариковую ручку.
– Что – что! Люба же у нас – законница, здоровых славянских кровей. Вот она села и прилежно расписала все его виды собственности, с адресами и явками, и с этим списком – к налоговикам. Дальше рассказывать?
– Нет, – рассмеялся Шварц, делая записи, – откупился или пришлось посидеть?
– Откупился, мерзавец, но вернулся в Ереван без рубля в кармане. И на меня смотрел на похоронах Арамиса, готовый убить. Думает, Любка без меня не сообразила бы его так прицельно наказать. – Верка уже набрасывала гадственную физиономию Лёвы и попутно вела репортаж: – Хотя упакован был с иголочки и дорого: видимо, успел в Ереване снова развернуться.
– Давно приехал? – поинтересовался Шварц, осуществляя чудеса многостаночника, так как правая рука строчила по бумаге, левая крутила колесико зажигалки, левый резец зажимал сигарету, а правое плечо крепко прижимало телефонную трубку к уху.
– Что-то около года, – ответила Верка, потеряв интерес к предыдущему рисунку и вытаскивая из пачки свежий лист бумаги.
– И где он теперь живет?
– Понятия не имею, но могу у Любы спросить: она из Москвы все еще контролирует ситуацию, – индифферентно ответила Верка, уже набрасывая физиономию насупленного Шварца с орлиным носом и глубокой складкой между бровей. Рассеченный подбородок и обувная щетка усов завершали портрет.
– У Любы? Да нет, не надо, – ответил Шварц, готовясь округло завершить разговор.
– Хорошо, что ты позвонил: что-то я свой старый блокнот никак не найду. Ты как опытный детектив мне не подскажешь, куда он мог запропаститься? А еще лучше – надиктуй для всеобщего сбора телефоны ребят, и тех, что ушли после восьмого, – сообразила Верка.
Разговор был чреват потерей времени, но отзывчивую Верку нельзя было обижать.
– Большой привет! Это скорее по линии Интерпола, чем по моей, Верон, – отшутился Шварц.
– Здрасте, теперь преступники тебе видятся и среди одноклассников, – обиделась-таки Верка.
– Да нет, я не о том, – стал оправдываться Шварц. Дело явно пахло дополнительной сигаретой, но он воздержался. – Просто четверо ребят в Лосе, Арсен в Бостоне, Завен в Кембридже, Ваник и Гагик в Москве, Акоб в Питере. Кто там еще? А, ну да, Самвел в Торонто, Ашот в каком-то французском захолустье, которое он в письмах родне именует Парижем, будучи в двухстах километрах от него. И Хорик в Норильске просвещает аборигенов шашлыками по-карсски. Вот тебе и двенадцать апостолов десятого «А»!
– А ведь все двенадцать – иуды! – возмутилась Верка. – Форменные иуды, обменявшие статус нормальных граждан своей собственной страны на сто двадцать восьмой эмигрантский сорт, и даже в Норильске! – что ему, паразиту, западло было шашлыки в Ереване жарить? Мало ты его, Шварц, дубасил!
– Скорее передубасил, – усмехнулся в трубку Шварц и щелкнул-таки зажигалкой, – последние мозги отшиб балде! Инженер-химик исследует синтез свинины с шашлычным маринадом в условиях Крайнего Севера! Может, он диссертацию готовит? Ладно, Верон, не порть здоровье, девчонки-то – на месте!
– Здрасте: «на месте»! Расползлись, как змеи, за своими гадами по всему свету. Слушай, а может, это мы эмигранты? – выдала Верка риторический вопрос, набрасывая картину последней вечери на фоне небоскребов. Посередке восседал Шварц с сигаретой в левом углу рта и кулаком, направленным на Хорика с шампуром. – А что? Однокашники и родственники уехали, знакомые нам с детства дома посносили, каланчи юнистайл понастроили, деревья в парках под гостиницы и кафешки повырубили – может, это мы живем за границей?
– Верон, ты в Китае в последнее время была?
– ровным голосом осведомился Шварц, с отвращением гася сигарету.
– Да вообще не была, – насторожилась Верка.
– Вот и напрасно. Иначе бы знала, что телефоны в Китае прослушиваются, – усмехнулся Шварц, опорожнил пепельницу в газетный лист, скомкал его и прицельно выстрелил в урну у двери.
– Ага, – быстро среагировала понятливая Вер-ка, – у них так контроль над рождаемостью осуществляют.
Обморок из-за Гитлера в рядах НКВД
1973 г., весна
Еще со двора и с самого первого класса Шварц был ее вечной надежой и опорой. От богатства идей и реализующей их мощной энергии у Верки дым валил из ушей, и энергия не всегда направлялась в мирное русло. В результате ей довольно часто доставалось, но если бы не набычившийся и контратакующий Шварц, доставалось бы практически в режиме нон-стоп. И никаких таких карамельных детских любовей, перерастающих в американское искрометное взрослое чувство, между ними не было и быть не могло. Просто однажды Шварц мысленно решил, а потом и во всеуслышание заявил, что Верон – его сестричка. Имя обрело армянский облик, звучание и прозорливое значение – «стремящаяся ввысь». Статус названной сестры классного силача сулил относительно безоблачное существование, и Верка пришла в восторг. Понятно, что она пожаловала Шварца эксклюзивным правом так ее называть и вообще отвечала такой же завидной для окружения сестринской преданностью, набрасываясь, как кошка, на недоброжелателей и разрисовывая за него стенгазету.
И здесь следует разьяснить, что самопровозглашенные титулы названых сестры и брата являются в армянском обществе серьезной демаркационной линией. Это даже не линия, а хорошо укрепленная граница, исключающая перебежки декларантов на амурные пространства их жизненных сценариев. А нарушения, если и случаются, гадливо относятся окружением к разряду морально-нравственных кровосмешений: нечего было зря болтать, если с выдержкой не все в порядке; не мужик он, а баба! А что касается настоящей бабы, так ей достается и того больше. Словом, сказал – так и топай по торной дорожке системно и систематически ответственного за сестру названого брата до самого последнего вздоха!
Третьей и придающей, согласно законам геометрии, устойчивость описываемой фигуре стороной был настоящий Веркин брат. Точнее, настоящий троюродный, что не привносит никаких логических изменений в расклад, за исключением разных пап, мам и дедушек, которые были все-таки родными братьями. Натурального троюродного брата Верки и друга Шварца не-разлей-вода звали Тигран Тоникян. Он-то и придумал Шварцу в дальнейшем мгновенно приставшую кличку и напридумал еще много чего. К сожалению, с другой, материнской стороны, он приходился двоюродным братом Арамису, но что тут поделаешь! В Армении это является вполне нормальным совпадением, так как роственников и друзей, а также родственников родственников, друзей друзей, родственников друзей и друзей родственников здесь – подавляющее большинство населения.
Шестидесятые-семидесятые, на которые пришлось время учебы Верки и Шварца в школе, были периодом незыблемости основ советской педагогики. Непререкаемость авторитета учителей и классных руководителей подпиралась тогда родительской тройкой. Эта созданная по модели расстрельных революционных судов команда родителей была призвана укреплять в каждом школьном классе авторитет классрука и осуществлять педагогический мониторинг внутри семей учащихся. И в полном соответствии с законами демократического централизма сливалась в единый родительский комитет школы, руководимый лично директором или завучем.
Родители Шварца школу особым вниманием не жаловали, так как считали учебу его личной проблемой, с которой он вполне успешно справлялся. Сами они работали в серьезных учреждениях с утра и допоздна, домой приезжали вместе, прихватив с собой домашние задания в пухлых папках квартальных отчетов и проектно-сметной документации. На родительские собрания тоже ходили вдвоем и дружно делали круглые глаза на робкие предложения класрука поучаствовать в жизни школы или хотя бы классной «тройки».
Деятельность первичной ячейки педагогического надзора была у всех на виду, и Шварц усмехался под нос, наблюдая за амбициозными виражами мамаш слабеньких одноклассников. Мамаши пытались собственной активностью компенсировать малюсенькие способности к учению собственных чад. А в шестом классе к ним хлынула волна новеньких разгильдяев, выбывших по успеваемости из соседних школ с математическим и языковым уклонами. И в родительскую «тройку» был избран дедушка еще одной новенькой, высоченный отставной майор милиции.
Всем своим причесоном и усиками «12:00» майор был абсолютной копией Гитлера. Шварц не раз задавался вопросом, как же это, воюя с Германией, Сталин позволял своим наркомам, командармам и далее вниз, носить такие усы и зачесывать чубчик набок. Наверное, так ему легче было видеть в каждом из них врага народа и принимать соответствующие меры. Уже тогда интересовавшийся милицейско-чекистскими делами, Шварц не мог взять в толк и еще одно: как же это дедушка его одноклассницы, прошедший войну и всю жизнь прослуживший в органах, вышел в отставку всего-то в звании майора.
Но однажды в начале октября в школьном дворе его перехватил запыхавшийся и раскрасневшийся чернявый и кучерявый толстячок из новеньких, с первого дня набивавшийся в друзья. Этот Тигран Тоникян приходился Верке родственником и после неудавшейся любви к математике был переведен в их школу и именно в их класс из расчета его расстроенных родителей на Веркино серьезное попечительство.
Тигран был весельчаком, пройдохой и тупицей, каких свет не видывал. При всей стандартности своей внешности он умел очаровывать одноклассниц и даже учителей. А симпатии мальчишек пытался завоевать хулиганистыми замашками и рассказами о соответствующих друзьях из привокзального района. Это якобы с ними он периодически исчезал на пару-тройку дней для осуществления каких-то тайных воровских операций, что в дальнейшем оказалось полным блефом. Просто вместо школы он уходил в парк и читал там замусоленные им до состояния ветоши детективы.
Так было и на этот раз. Давясь и жестикулируя, запыхавшийся Тигран нес непонятный сумбур, из чего пока еще школьник, но будущий сыщик Шварц сделал для себя выводы и выстроил вот какую логическую цепь событий.
Заметив очередное продолжительное отсутствие Тоникяна, классная руководительница определила опасную тенденцию в поведении новичка и решила направить представителя «тройки» для выяснения домашней обстановки. Так к Тоникянам был делегирован суровый майор «12:00». Когда он позвонил в дверь квартиры, оттуда раздался лай собачки кукольных, судя по голосу, размеров. Бывалый майор собак терпеть не мог, так как насмотрелся на их служебные замашки за свою карьерную жизнь, но тявкалок не боялся. Вслед за лаем послышался сюсюкающий голос хозяйки, должно быть, увещевавшей свою «куку-сюсю». После чего дверь открыла пышная улыбающаяся дама в китайском халате. Она приветливо посмотрела на майора, потом улыбка медленно сползла с ее лица, потом румяное лицо посерело, и дама бацнулась, как выпущенная из рук кукла, прямо на ковровую дорожку коридора.
Собачка закружила по периметру хозяйского тела и не по-крошечному завыла. Ошарашенный майор шагнул в коридор, приподнял голову припадочной, целомудренно прикрыл ее пухлые ножки китайским халатом, и собачка больно вцепилась в его лодыжку. Пытаясь лягнуть собачку свободной ногой и удержать в руках голову ее хозяйки, представитель «тройки» воззвал к возможным обитателям квартиры. На шум из глубин квартиры засеменила и запричитала старенькая бабушка. Высыпали соседки из квартиры напротив, заголосили, заохали, побрызгали даму в халате водой, смазали височки, дали ей попить, и она открыла глаза. Когда собачку оттащили от порванного и слегка окровавленного на лодыжке носка майора, взгляд обладательницы китайского халата пришел в фиксированное положение, она указала слабой рукой на высоченного майора и только сказала:
– Смотри, мама, кто пришел!
– Чтоб сдох твой хозяин, – последовала мгновенная реакция бабули, но обращена она была не к собачке, а к майору.
Обалдевший представитель «тройки» ничего не понял, но ему быстро объяснили.
– Смотрите, люди, – не по возрасту резво жестикулировала бабуля, обращаясь к соседям, – это тот, кто с двумя такими же уродами пришел к нам в дом в тридцать шестом и увел моего мужа. С тех пор мы его не видели, сколько ни писали в НКВД. Куда ты его дел? Ах, похороню я тебя!
И здесь надо отметить, что озвученная угроза – единственное ругательство армянских бабушек (если не считать предыдущего выпада в адрес хозяина). Но в силу естественной разницы с возрастом адресата угроза эта имеет оттенок устрашающего проклятия. Однако отставник и сам был в приличном возрасте. Он был настолько в возрасте, что уже и не помнил, кого это он в очередной раз уводил на возможный расстрел; откуда; по чьему навету; и в каком чине он сам был тогда – то ли капитана, то ли майора. Вот из-за таких крикливых баб его и разжаловали после проклятого съезда, и ему пришлось еще двадцать лет ишачить в должности районного участкового, чтобы дослужиться до майоровой пенсии.
Словом, пенсионер мгновенно ретировался, забыв о своей педагогической миссии. Ему еще здорово повезло, что в те святые времена практически все мужчины страны днем пребывали на рабочих местах, так что вслед ему неслась только бабья нелицеприятная разноголосица под аккомпанемент тявканья кукольной собачки. Мающиеся вынужденным бездельем сегодняшние мужчины Еревана, да еще привокзального района, такой аттракцион не пропустили бы без активного участия и связанных с ним удовольствий высказаться и размяться. Так что можно считать, что майор вовремя родился и еще более вовремя в дальнейшем откинул коньки.
Но бедной его внучке не было с тех пор проходу в классе. И самым обидным было то, что никто из мальчишек и девчонок, предводительствуемых Шварцем и Веркой, так и не объяснил ей причину изгаженного имиджа. Да она бы и не поверила.
А маленький Шварц еще не знал, что и ему придется пройти через вселенское унижение разжалования в звании майора по причинам, прямо противоположным понижению майора «12:00».
Шесть листов, которыми вымощен путь из Английской палаты
Январь 1995 г.
Теперь она была Ида.
– What[6], what, what; where[7], where, where, when[8], when, when, – весело кричали сокамерницы в унисон, и тыкин Ануш задавала ритм прихлопыванием по столешнице. Девочки и сами похлопывали себя двумя пальцами по вытянутым в трубочку губам, и их звук w уже вполне походил на оригинал.
– Very well, – одобрительно улыбалась Ануш, – and what is your name, young lady?[9]
И, зардевшись, как на первом светском рауте, отвергшая первую половину своего имени Анаид отвечала:
– My name is Ida[10].
– Good, – продолжала одобрять Ануш, – and where are you from, Ida?[11]
– I was born in a small village situated in wonderful Lory Mountains[12], – медленно, но верно выговаривала Анаид, заглядывая в бумажку, и думала:
– Да чтоб она сгорела со всеми ее жителями, эта wonderful village[13]…
Трижды в день дежурный надзиратель раздавал шесть огрызков карандашей и шесть листков бумаги, которую следовало экономить. Трижды в день забирал карандаши сразу после урока. Трижды в день девчонки ждали очередного урока как лучшего в их жизни события. А между занятиями и подготовкой к ним слушали подробные пересказы в лицах заграничных кинофильмов «про любовь» в исполнении артистичной Светы: таких видеокассет у нее дома был целый шкаф!
Не только ругань женщин-заключенных исчезла с территории камеры, но заглох и мат из бесстыжих уст надзирателей. Возможно, это была заслуга именно английского языка, подкрепляемая всеми его литературными авторитетами. А возможно – магия постижения знаний. Но налицо была явная несовместимость фени и how nice of you[14], щедро раздаваемом Ануш старавшимся услужить ей сокамерницам и приносившим карандаши надзирателям. Да надзиратели и сами ждали этих уроков, толпились за зарешеченным оконцем запертой двери, повторяли слова и весело откликались на адресованные девочкам шутки Ануш. Это уже была не Камера номер шесть – это была Английская палата, как ее метко назвал брюхоглазый начальник СИЗО Гагик Погосян.
Теперь уже день проскакивал даже прытче, чем на воле. А заведенному, как в заправском пионерском лагере, распорядку мешали допросы, откуда девчонки возвращались вздрюченные и опустошенные. Потому что следователи легко возвращали их на бренную землю, напоминая, какие увесистые сроки им в принципе можно припаять, если не сдадут всех, кто их, следователей, интересует. И выйдут они на свободу хорошо лопочущими по-английски бабушками. Ануш возвращалась с долгих допросов внешне спокойная, открывала свою любимую книжку, долго смотрела невидящим взглядом, курила, а когда начинала наконец перелистывать и улыбаться тексту, девчонки облегченно вздыхали: отпустило!
Поначалу Ано-Ида была спокойна за себя, так как статьи за проституцию, как говорила Мама Роза, в УК не было. Это означало одно: подержат немного, попугают, порасспрашивают про кого надо и выпустят на волю. Но на волю без волос нельзя, пусть лучше отрастут. Так что лучше перекантоваться тут пару месяцев, постараться угодить толстомордому Погосяну, да и у этой дуры Ануш английскому поучиться. Чего ей не хватало, дуре старой – целых тридцать три года! – сидела бы себе в Москве, ездила в командировки за границу со своим гребаным английским. Дома – солидный муж-профессор, тапочки приносит, как собака. Опять же двенадцатилетняя дочка-отличница есть. Сиди себе и пей чай с готовыми пирожными из дорогого магазина! Так нет, ее, видите ли, взбудоражила независимость Армении. От чего независимость? И кого? Новых говнюков у власти от старых? Ей про них девчонки тако-о-ое рассказывали – черт те что!
Как Арам стал Арамисом, и даже больше
Осень 1973 г.
Когда Шварц с Тиграном учились в шестом классе, в школе началась настоящая эпидемия увлечения фехтованием. Шварц давно и прилежно занимался самбо, Тоникян к спорту относился пренебрежительно и предпочитал день-деньской читать посторонние, как выражались педагоги, то есть не вошедшие в школьную программу книги. Но многие мальчишки, а следом за ними и симпатизирующие им девчонки ринулись записываться в новую секцию фехтования. Секцией руководил родившийся в эвакуацию уже в Ереване сын москвичей-химиков Дмитрий Славиков – бывший чемпион Советского Союза, но отныне просто Товарищ Дима.
Славиков преждевременно выбыл из спортивного строя из-за множественных переломов конечностей, полученных во время безобразной драки в московском ресторане. Драка последовала как раз за очередным тостом в процессе обмывания его чемпионской золотой медали. Она же завершила его блестящую спортивную карьеру. Так что отлежавшись в Склифе и переев ударного средства для сращивания костей, варева под названием хаш, добросовестно приносимого из армянского ресторана участливыми друзьями, на медицинскую свободу он вышел с чистой совестью врачей и их рекомендациями найти себе профессиональное занятие, не связанное с большими нагрузками. Так Дима вернулся в Ереван чемпионом Союза и инвалидом, решившим продолжить свою жизнь в спорте в качестве тренера. И открыл секцию фехтования в общеобразовательной школе прямо напротив своего дома.
Мальчишки смотрели Диме в рот, их уши краснели от его резких окриков. Изо дня в день пытаясь повторить демонстрируемые им выпады, они старались заслужить скупую похвалу чемпиона, рассказывали о нем легенды – словом, боготворили. Все они были хорошими ребятами спортивного сложения, добросовестными и дисциплинированными. Но не было в них божьей спортивной искры, какими-то незначительными подробностями в реакции и движениях позволяющей понять: вот он – будущий чемпион! Тогда Дима кинул клич среди малышей, и Тоникян привел своего юркого двоюродного братца – четвероклашку Арама. И Дима понял: вот из такого отменного материала он и сотворит несостоявшегося себя, будущего олимпийского чемпиона. Уже на второй тренировке красавчик Арам был наречен Арамисом и начал свой крутой подъем в карьере непобедимого шпажиста и неисправимого сердцееда.
В восьмом классе он стал встречаться с тихой красивой девочкой из соседней школы. Девочку звали Анушик, и своей кротостью она так не походила на его ретивых фанаток, что заслужила его удивление, перетекшее в нечто щемяще-дразнящее, что большинством определяется как любовь. Конечно, встречаться – это сильно сказано. Просто Анушик терпеливо ждала дома, пока он поздно вечером, обессиленный тренировками, притащится к ее подъезду, свистнет особой трелью из-под балкона, и она опрометью спустится вниз по ступенькам в ожидании по-хозяйски крепкого объятия, веселых пересказов Диминых каламбуров и головокружительного прощального поцелуя. Арамис тренировался даже в праздники и особенно интенсивно – в выходные. Анушик прилежно делала уроки, зубрила неправильные английские глаголы и совсем неправильно мечтала о временах, когда Арамис достаточно натренируется, чтобы отводить ей больше времени.
Когда они окончили школу, Арамис уже был чемпионом Союза среди юниоров, и поступление в физкультурный институт для него было связано только со сложностью выкроить время, чтобы явиться на экзамены. Анушик поступила на иняз, и после зимней сессии товарищ Дима благословил их брак, позволяющий экономить время на свиданиях.
Это была настоящая армянская свадьба с украшенными цветами машинами, хвастливыми гудками на протяжении всего следования нарядного кортежа, толмой, шашлыками, бесконечно сменяемыми закусками, роняющими слезу достаточно молодыми мамами, гордящимися красивой четой усатыми папами, водкой, коньяком, вином, весельчаком тамадой, стройным красавчиком чемпионом-женихом и пронзительно-счастливой невестой. Представитель городского Комитета физкультуры зачитал им официальное поздравление и подарил ключи от будущей квартиры в возводящемся квартале. Но пока им предстояло пожить на крошечной застекленной веранде густонаселенной квартиры, где обитали родители Арамиса, два старших неженатых брата и старенькая бабушка.
Гостей было человек сто. Были даже приглашенные из Москвы и соседних республик. Понятно, что кавором, или посаженым отцом, был товарищ Дима, который был ничуть не меньше героем стола, чем жених с невестой. Расчувствовавшийся Дима даже спел для них, аккомпанируя себе невпопад. «Я-а-аблони в цвету-у-у, како-о-ое чу-у-удо», – выводил он своим неожиданно бархатным баритоном, и перламутровый немецкий аккордеон смотрелся на его могучей груди, как одинокая закусочная тарелочка на просторах пустого обеденного стола. Хорошая была свадьба. И брак был счастливым. А продлился он почти два года.
Как Анкехцпаратон вышла замуж во второй раз
14 декабря 2004 г., утро
Как и большинство знакомых Шварцу патологоанатомов, судмедэксперт Генрих Альбертович был весельчаком и любителем анекдотов. Постоянная близость к чужой смерти настраивала на бережное отношение к радостям собственного быстротечного бытия. Причины для веселья этот лохматый, где не лысина, крепыш находил повсюду. И не в последнюю очередь – в исследуемых трупах.
– Ну что тебе рассказать новенького, помимо того, что уже записано в заключении? – весело уставился он на Шварца, сплетя бледные пальцы на аккуратном животике под толстым свитером: температура в кабинете была ненамного выше той, что рядом, в морге. – Девочки, нам два хор-р-роших кофе поставьте! – жизнерадостно крикнул Альбертыч в глубь коридора морга и продолжил: – убит твой Лусинян проверенным древнеегипетским способом. Тяжелым предметом перебито основание черепа, что привело к кровоизлиянию в мозг, остановке дыхания и смерти в течение двух-трех часов. А может, чуть меньше или больше: время-то – холодное.
– Это у них жрецы так баловались? – улыбнулся Шварц, заведомо готовый к очередным шуточкам Альбертыча.
– Если ты помнишь из истории древнего мира, самый незначительный из египетских фараонов, Тутанхамон, попал в историю только потому, что его гробница, в отличие от всех прочих, не была разворована и досталась ученым целехонькой. И сохранилась отлично забальзамированная мумия. Когда командовавший раскопками Картер рассмотрел ее внимательно, он обнаружил… А вот и кофе! Ну молодцы девочки, и домашним печеньем побаловали! Хор-р-рошие у меня здесь девочки…
– Так как убили Тутанхамона? – спросил Шварц и прикинул, сколько информации на этот раз обрушит на него эрудит Альбертыч.
– Ага! – обрадовался патологоанатом живому собеседнику. Диалоги с трупами сегодня ему явно наскучили. – Как убили, чуть позже скажу, но ты послушай, какие сделали из убийства выводы! Американцы – они ведь любят сенсации больше, чем свои кингбургеры. Прикинули они, что военачальником колесничного войска при этом бедном мальчике Тутанхамоне был человек по имени Ай. Что-то вроде командующего танковыми войсками, да?
Шварц согласно кивнул.
– А женщины военных любят, да?
– Не знаю, – улыбнулся Шварц, – я-то полицейский.
– Ладно-ладно, не прибедняйся. Мы – хоть и в морге, но информированы получше праздношатающихся живых, – весело подмигнул Альбертыч.
– Ну и при чем тут вся эта мутота про командарма? – осведомился Шварц и выдернул сигарету из пачки.
– А при том, что после Тутанхамона осталась юная красавица-вдова, Анкехцпаратон, маму которой каждый школьник до сих пор в лицо знает. Как не знаешь? Еще как знаешь! Нефертити это была, вот кто. А дочь ее остановила свой выбор на Айе. Типа как Амнерис имела виды на Родомеса. Сильная любовь была, судя по всему. Детей ему родила, а от Тутанхамона только выкидыши получались. Так вот Ай сперва правил при ней де-факто, а потом был возвеличен в фараоны. И вот здесь-то у американских историков возник извечный вопрос ваших расследований и всех детективных романов: кому же было выгодно умертвить Тутанхамона? И решили, что Айу, или Гайу, или Эйю, как иногда его упоминают. Просто взяли и испортили человеку классическую биографию через три с половиной тысячи лет после смерти! Каково, а? А ведь с их романтической истории оперы можно писать почище «Аиды»! А может, с нее и написана, кто знает?
Тут Шварц, конечно, недоуменно усмехнулся.
– А ты не усмехайся, Шварц. Ты поезжай в Норкский массив, там кому памятник стоит? – И Альбертыч снова сам себе ответил: – Такому же военачальнику, но Красной армии, – Гаю! А как его по паспорту звали? Айк, или Гайк, Бжишкян! А почему? Да потому, что нет в русском языке буквы h, как нет и в попытках озвучить египетскую иероглифику!
– Тебя послушать, так и айны в Японии армяне, – улыбнулся Шварц. – Или коньяк «Айк».
– А кто? Кто они, если не армяне? У японцев глазки узенькие, кожица гладкая, безволосая, а у тех глазищи – во! Бородищи – во! – растопырил руки Альбертыч. – Вот если бы хоть одного айна сюда в прозекторскую на стол доставили, я бы и без анализа ДНК по антропометрическим признакам и надпочечникам быстро дал определенный ответ. Череп арменоида ни с чем не спутаешь. Но лучше бы, конечно, доставили коньяк. Ящик! – Паталогоанатом радостно улыбнулся здоровой гипотезе и потер бледные пальцы.
– Генрих Альбертыч, так что обнаружил Картер в случае с убийством фараона? – попытался-таки получить ответ Шварц. Но тот слезать с конька не собирался:
– Я много думал на эту тему, Шварц, и точно понял: тот египетский Ай точно был армянином, и не спорь. Гиксосы, те же армяне, что правили Египтом полтора века, не могли просто так раствориться. Даже если меняется верховная власть, номенклатура-то сохраняется. Она вечна! А от гиксосов до Тутанхамона и ста лет не прошло. И вообще древние армянские царства граничили с Египтом, там жили родственники, сваты, кумовья – всё, как у нас сейчас. И что американцы прицепились со своими подозрениями к Айу? Был парень храбрым генералом, женился после Тутанхамона на дочке Нефертити – внучке армянского митанийского царя, и сам стал фараоном. А сына знаешь как назвал?
– Нет, конечно, – рассмеялся Шварц и показательно посмотрел на часы.
– Гор его звали, вот как! – победно воскликнул Альбертыч, и Шварц присвистнул.
– Да у них в Египте даже бог был по имени Гор, что по-нашему означает «грозный». Ты понимаешь, как всё складывается один к одному? – праздновал историческую победу Альбертыч, – кстати, и российского царя Ивана сперва армянское войско, воевавшее на его стороне, прозвало Гором, а уж потом прозвище перевели и сделали Грозным. Он еще, чтобы ты знал, в честь армянского воинства знаешь какие храмы воздвиг?..
– Генрих Альбертович, – прервал его отчаявшийся Шварц, – ты здорово рассказываешь анекдоты, а я не умею. Но один как раз вспомнил. Встречаются два стареньких западных армянина в Америке, и один спрашивает другого: «Ну что новенького у вас? Сына наконец женил?», а тот отвечает: «Ну да». «Ну, глазам свет, – поздравляет его приятель, – а на ком он женился?». «Да на другом парне». Тут любопытный старичок, не теряя надежды, продолжает допытываться: «Ну хоть тот, другой-то, хотя бы армянин?» Так и ты. Да Бог с ними, с древними египтянами: армяне они были или китайцы – нам-то теперь что? А вот как они убили молодого фараона – интересно.
Патологоанатом разочарованно посмотрел на Шварца и, вмиг потеряв к нему интерес, холодно ответил:
– Очень просто. Когда египтолог Картер наткнулся на него в двадцатых годах, то визуально обнаружил перелом в основании черепа. Рентгена тогда еще не было. Потом уже, задним числом, спустя много лет, американцы сделали какие-то снимки и пришли к выводу, что ударили его спящего, но недостаточно смертельно. И у него образовалась здоровая гематома в продолговатом мозге, которая привела к двух-трехмесячной коме и летальному исходу. А ведь военный Ай не промахнулся бы!
Шварц заволновался:
– То есть такой удар можно нанести только по лежачему? И есть признаки того, что Лусиняна убили лежачим, а потом уже перенесли под арку на Баграмяна? Но нет, траектории крови из носа и ушей и пятна на одежде и асфальте свидетельствуют об обратном…
– Убить можно и стоячего со спины.
– То есть убийца мог незаметно прокрасться и нанести точный удар?
– Не просто точный, но и сильный. Не так уж хрупок наш Атлас, – тут патологоанатом похлопал себя по верхнему позвонку шеи, – чтобы череп слетал с него при первом щелчке. Ага. Но при одном условии. Убийца должен был быть намного выше своей жертвы. А если учесть, что в Лусиняне было сто семьдесят шесть сантиметров, то получается – под два метра.
– Ищем дылду? – спросил Шварц и нетерпеливо забарабанил пальцами по столу.
– Ну да, – улыбнулся одними глазами Генрих Альбертович, надкусывая печенье.
– Алкоголя в крови у него случайно не было?
– спохватился Шварц.
– Трезв был бедняга, как стеклышко, – посочувствовал покойнику опытный патологоанатом.
Сосиски как охотничий трофей
Лето 2003 г.
– А вот и неправда, а вот и нет! Это ты сам привел эту собачку с ее вонючими какашками! А я всегда хотел настоящий двухколесный велосипед! С блестящими спицами! Не пластмассовый, как у деревенщин, а с блестящими спицами! А вот и нет! – кричал Поскребыш и топал ногами, и эти крики ознаменовали последнюю совместную прогулку Софи с ее хозяевами.
Вначале она решила, что запертая перед носом дверь – недоразумение, вызванное забывчивостью Старика. И долго напоминала о себе повизгиванием и поскрёбыванием двери. Но потом появились Толстые Ноги и грозно прогнали ее прочь. А когда Софи все же вернулась, Толстые Ноги облили ее водой. Софи много раз настырно, но опасливо возвращалась к двери в расчете на то, что Старик хватится ее и накажет Толстые Ноги за бесчувственный поступок. Но Старик не появлялся, а когда все же возник из-за двери, то надел на нее ошейник без поводка, сгреб, поднес к лицу, потерся носом о нос, и Софи весело и благодарно скульнула в предчувствии раскаяния забывчивых хозяев и счастливого поворота в своей судьбе.
И поворот действительно случился. Они долго ехали со Стариком по городу, много раз останавливались и сворачивали, и голова у Софи слегка кружилась от бесчисленных зигзагов, обилия впечатлений и запаха бензина. Потом они ехали по длинной и ровной дороге, и сидящая на переднем сиденье Софи часто щурилась от теплого ветра из окна. Старик наконец остановился, погладил выпуклый лобик Софи, потерся своим странно промокшим соленым носом о ее прохладный носик и выпустил на обочину.
Софи сделала пару шагов и присела: все-таки это была ее первая поездка в автомобиле, и ее здорово мутило. Но тут прямо на ее нос села нахальная бабочка, и Софи смахнула ее лапкой, склонив голову, и увидела стайку точно таких же, беленьких, рассевшихся поодаль прямо на траве. Рядом по дну каменного желоба бежал совсем прозрачный ручеёк, а на его отвесной стене сидела ящерица, терпеливо притворявшаяся прожилкой в камне. Вода в ручейке была холодная, как в городе, но гораздо вкусней. И ее сейчас дегустировала никогда не встречавшаяся в парке задорная птичка с пёстрым хохолком. Птичка демонстрировала безмятежность, но зоркие бусинки глаз держали Софи в кадре, а головка под хохолком прикидывала, ждать от этой четырехлапой глупостей или не ждать. Итоги расчётов были не в пользу Софи, и птичка предусмотрительно вспорхнула.
Здесь, конечно, было намного интересней, чем в парке, и главное, не было постоянно натянутого поводка, который мешал самостоятельному выбору маршрута. Пахло маленьким и вкусненьким зверьком, и Софи впервые в своей молодой жизни взяла след и пошла на добычу. Зверек тот еще был игрун: он то терпеливо ждал ее, застыв столбиком, то в последний момент, когда она уже была готова схватить его, исчезал под землей, и Софи ошалело склоняла набок голову и рассерженно чихала.
Охота была интересной, но безрезультатной, а когда уставшая Софи вернулась на прежнее место, Старика с машиной на месте не оказалось. Вместо них на обочине лежал прозрачный пакет с перевязанными бечевкой длинными и округлыми, как пальцы Старика, кусочками мяса, а вокруг него суетились вредные мурашки. Когда Поскребыш капризничал, он назло Толстым Ногам иногда бросал со стола такие кусочки для Софи, и она, обжигаясь, заглатывала их, чтобы Толстые Ноги случайно не отняли. Софи надорвала зубками пакет, как когда-то это делала ее мама, и в нос ей ударил вкусный запах мясных пальчиков. Эти были даже вкуснее, так как были холодными и вообще невареными. Но куда же делся Старик?
Как допрашивают друзей детства
14 декабря 2004 г., вечер
Допрос свидетелей протекал нестандартно и вообще в расслабляющей обстановке. Да и как он может протекать, если оба свидетеля – твои лучшие друзья с самого что ни на есть беззубого детства? Словом, допрос происходил у Верки в мастерской за закрытыми на висячий замок дверями и больше походил на дружескую пирушку.
– Слушай, Верочка, тебе нужно было не художником, а пластическим хирургом стать, – разглагольствовал Тоникян, любовно накалывая на вилку и демонстрируя Шварцу крошечные лодочки армянских пельменей мантык. – Ушивала бы милиметрами, а гребла лопатой. А так – мажешь метрами, а получаешь чайными ложечками…
Это была больная тема, так как финансы у Верки горько пели романсы.
– Я для медицины была недостаточно тупой, Тиграша, – огрызнулась Верка, – если помнишь, в медицинский у нас пошли трое, и все вы были непролазными двоечниками.
– Да нет, Верон, тут ты путаешь причину со следствием. Просто все трое твёрдо знали, что при любой успеваемости поступят они в это кастовое заведение. Вот особенно и не убивали себя учебой, – добродушно заступился за друга Шварц.
– Между прочим, и мы с тобой не убивались, но двоек и троек никогда не имели, – всё еще кипела Верка.
– Это ты своему сыну, Верочка, рассказывай, какой ты была образцово-показательной ученицей, – хмыкнул Тигран, – я-то помню твои двойки по истории! У бедной исторички аж шариковая ручка ломалась, когда она их тебе выводила!
– В последний раз, когда я сидела на уроке истории, это было за Герминия, – развеселилась Верка, – и я всего-то у нее спросила, почему этого древнего германца именуют Герминием, если на бюсте латинскими буквами выгравировано Armenius. И попыталась обьяснить, что на «ий» могут кончаться Дзержинский, Котовский и Рокоссовский, но никак не древний германец, а тем более – Армен. Историчка, как всегда, возмутилась, что я опять фантазирую и превращаю урок в балаган. А балаган устроил, между прочим, ты: стал величать Шварца древним германцем и получил от него. И я обещала историчке принести в доказательство дедушкину книгу. Тогда она поставила условную двойку – на случай, если я книгу не принесу. А я на следующий урок и книгу принесла, и повторную двойку получила за длинный язык – тогда-то она и сломала ручку пополам…
– И нас обоих потащила к директору! – вспомнил Шварц.
– Здрасте, обоих! Она потащила весь класс, но я была обвиняемой, ты – адвокатом, а класс – свидетелями.
– А ты, между прочим, правильно начинал карьеру, Шварц. Мог бы сейчас разьезжать в порше на денежки подзащитных мерзавцев, а не мотаться по следам их преступлений на своем доисторическом драндулете! – философствовал Тигран, переходя к куску барашка и вытаскивая зубочистки из опоясывающих его ломтиков помидоров и баклажанов, – хорошие деньги бы делал, брат.
– Слушай, ну как тебя испортил твой патрон, а? Все деньги, деньги, деньги. Ну сколько можно? – возмутилась Верка. – Как там он, все еще берет с больных за то, чтоб не оперировать их?
– Отстала ты от жизни, Верочка, как вертушка от мобильника, – благодушно ответил Тигран, – в последние годы шеф брал за то, чтобы подтягивать морщины бабулек и завязывать бантиком на затылке. И я вместе с ним, между прочим. А надоумил нас заняться этим прибыльным делом присутствующий здесь герой, между прочим. Это когда осколочный снаряд под Шаумяном вспорол ему грудную клетку до самого носа.
Рука Шварца невольно дернулась к горлу и нащупала кривую линию.
– Да фиг бы с ними, шрамами на горле и щеке, что только красят мужчину, продолжал токовать Тоникян. – Но верхняя губа? Знаменитый Шварценнос мог перекоситься! Ты представляешь? Как бы я Марго в глаза смотрел после этого? Да и на него самого? Ужас…
Верка вспомнила носилки на летном поле, Шварца, перебинтованного так, что и не узнать если бы не взгляд его серо-зеленых глаз, опухшее от слез лицо Маргаритки и сурового и властного военврача Тоникяна – вот уж кого было не узнать!
– …Вот отец и упросил знакомых виртуозов этого дела приехать, помочь, – продолжал трепаться Тоникян. – А я пока ассистировал им, и сам вошел во вкус. Ты вот шефа моего не жалуешь, а у него помимо коммерческой жилки море человеческих качеств, между прочим. Куда только ни посылал меня на повышение этой квалификации! А в прошлом месяце он перебрался на заслуженный отдых к детям в Америку. Так что клиникой теперь заведую я. И ни я, ни он, ни они не жалуемся, между прочим.
– Да ты что, Тиграша? – обрадовалась Верка, – Ты теперь главврач? Ну поздравляю, ну молодец! И вот так, втихомолочку, без спецмероприятий?
– Штол, конесно, са мной, – прошепелявил Тоникян с набитым ртом, – но я хочу отметить назначение специфически. Я вот думаю, может, и тёще своей сделать такую пластическую операцию: и она обрадуется, и мне не так противно будет смотреть.
Шварц и Верка дружно загоготали.
– И чем эта бедная женщина на этот раз не угодила? – спросил Шварц.
– По большому счету, она мне не угодила тем, что лет через двадцать-тридцать моя жена может превратиться в такое же недоразумение с рентгеновским взглядом и убийственными представлениями о моде. А по ещё большему счету – тем, что она старая. А старух любят только альфонсы и некроманы…
– Дурак ты все ещё, Тиграша, как я погляжу. Старых женщин не бывает: бывают женщины до самого последнего вздоха, как бабушка Шварца. Или бесполые тяни-толкаи, у которых ножки вперед топают, а слезливая башка на задницу повернута, – обрезала его Верка.
– Вот из-за таких пагубных теорий, Верочка, армянское общество может разрушиться, между прочим, – застыл Тоникян с вилкой в руках. – Женщина имеет право быть женщиной только в вегетативном возрасте. Дальше – это уже никак не женщина, а бабушка, или, на худой конец, – подчинённая мужской верховной власти рядовая гражданка страны. С избирательным цензом, но безо всякого феминизма и другого гендерного выпендрежа. А эти западные блюдолизы в парламенте обезьянничают, принимают европейские законы, размывают устои. Будто если мы сегодня создадим эксклюзивные права и возможности для баб и педиков, то завтра проснёмся в Швейцарии. Нет, законы нужно принимать, как в древнем Вавилоне!
– Это какие-такие? – весело спросил расслабившийся от Тиграниного трепа Шварц, не переставая деловито разбираться с закусками. И ответ последовал:
– Хоронить жён вместе с мужьями! Ты представляешь, как снизилось бы количество тёщ на единицу невинных зятьевых душ?
– И кто бы тогда вытирал сопли твоим девчонкам? – поинтересовалась Верка.
– А их и не надо вытирать. Я заметил, чем сопливее детство, тем выше коэффициент грядущих успехов. В них, в пролитых в детстве соплях, и кроется потенциал движения к успеху! Будь я художником, как ты, я бы нарисовал собирательный портрет наших олигархов в детстве: сопли до подбородка и майка, схваченная на интересном месте булавкой! Весь гардероб – майка-булавка, макияж – сопли, а пейзаж за спиной – изгаженная коровами проселочная дорога! Дарю идею! А если научишь, и сам нарисую – ты ведь у нас спец.
– Нет, Тоникян, не станешь ты человеком, – на этот раз Шварц вступился за Верку, – ну разве может такая красавица быть спецем? Не спец она, а специя, а из тебя художник, как из неё финансист.
– Пусть трепется, – засмеялась Верка, – всё-таки он действительно художник-реставратор, раз живой антиквариат восстанавливает. К сожалению, тут один уже дорисовался, – вздохнула вдруг она. – Давайте покажу.
И повела их в угол своей подвальной мастерской, где аккуратно были составлены лицом к стене готовые к выставке картины Арамиса.
– Я ведь хотела устроить выставку его работ, договорилась насчет зала – того самого, откуда его хоронили. Вы представляете, на какие гримасы способна судьба, а? Может, устроить посмертную? – и на глаза железобетонной Верки навернулись-таки слезы. – Жалко ведь дурака, талантливый был парень…
Притихли и Шварц с Тиграном, и Шварц сказал:
– А что, хорошая мысль. Это все его работы или есть ещё?
– Да в том-то и дело, что он их раздаривал направо-налево. Но мы вместе с ним составили список, у кого – какая. Могу за неделю собрать.
– Верон, а можешь собрать за два-три дня? Поездите по адресам с Тиграном на его сверкающем рено, всё-таки Арамис – твой родственник, Тигран, а? Пусть твои бабульки в натуральном виде походят еще пару недель, что случится? – повернулся Шварц к Тоникяну, и тот понял, что уже не отвертеться:
– А и правда – чего им на Новый год с распухшими послеоперационными мордами сидеть и бояться жевать? Пусть отъедаются, а в новом году будут у них и новые личики, и новые цены – курс доллара все-таки меняется. Когда начинаем, Верончик?
– Да хоть сегодня, вот список.
Просмотрев листок со стремительным почерком Верки, Шварц подытожил:
– Вот эти две я сам привезу, а с остальными созванивайтесь сами.
Потом Шварц снова прошелся мимо картин. Он ни бельмеса не смыслил в искусстве, но подкоркой чувствовал агрессию. И спросил:
– Слушай, с чего это у него пошли такие страшные фантазии? Это его опять повело или были какие-то угрозы? И эта беспредельная тоска в глазах… И пар, как в бане… Это определенный объект или, как у Тиграна, собирательный портрет? Чёртов Арамис, с ним не удавалось соскучиться ни при жизни, ни после… Версий – с десяток, а дней не осталось совсем…
– Ну я тебе говорю: надо было стать адвокатом. Сидел бы сейчас, детективы почитывал, пока сыщики найдут убийцу. А потом бы взял его готовенького и стал защищать, чтоб не пожизненно без права помилования, а на пятнадцать лет. И он бы тебе руки целовал и платил хорошие гонорары. Нет, надо было тебе стать не вечно спешащим подозрительным сыщиком, а вальяжным холёным адвокатом! Ты бы их, незаконопослушных богатеев, защищал, я – подтягивал их женам веки и ляжки, стараясь не перепутать, а Верон оперативно делала бы с них портреты, пока снова не обвисли и не разжирели. Вот была бы командная игра, как в молодости! И можно было бы компанию зарегистрировать: «ШВАРТИГВЕР» – звучит?
– Как, ты говоришь, назывался цикл картин?
– спросил вдруг Шварц, и оторопелая Верка ответила:
– «ГРААЛЬ»…
О роли телевидения в ментовских расследованиях
14 декабря 2004 г., вечер
Дядя Вова в кои-то веки коротал вечер дома за партией шахмат. Уж лучше бы остался на работе. Не особенно блиставший в армянском спорте сосед успел дважды обыграть его, как мальчишку, и полковник понемногу закипал. Тут еще за спиной бубнил им же включенный, в ожидании вечерних новостей телевизор, и это отвлекало. Но и помогло: как только зазвучали позывные новостного блока, Дядя Вова театрально опрокинул своего короля, давая понять партнеру, что дело тут не в провальной диспозиции, а в желании ознакомиться с актуальным общественно-политическим процессом. И обернулся к экрану. Однако свобода слова на вверенном ему участке поднялась до такого неописуемого максимума, что сюжет окончательно изгадил вечерний настрой. Показывали то из утренних происшествий, что вроде бы и не подлежало обнародованию.
В самом центре Еревана, за высокой оградой из кровельного алюминия, сновали рабочие. Здесь в темпе ударной стройки возводился четырехэтажный бетонный куб Центра историко-культурных исследований. Несмотря на высокое гуманитарное назначение, строительство Центра сопровождалось бесконечными склоками, слухами и жалобами окрестных жителей. Вот и сейчас в вечерних новостях был прокручен репортаж с места событий, который вела молодая журналистка. Камера выхватывала интересные мизансценки из гроздьев принарядившихся пикетчиц на фоне спин и затылков ребят из Центрального РОВД.
Полковник с отвращением вглядывался в картинку, и сложно было понять, отвращения к чему именно тут было больше: к пикетчицам, строителям, их хозяевам или к самому себе.
– Если это действительно культурологический центр, то как он мог быть так некультурно спроектирован и построен в трёх метрах от фасадов наших красивых домов на месте фруктового сада, который посадили ещё наши деды на принадлежавшей нашим семьям территории? – выкрикивала непривычная к микрофону дама в видавшей лучшие дни каракулевой шубе. – Какой же это культурный центр, если он заслонил не только вид из наших окон, но и доступ солнца и воздуха? А мы вот слышали, что никакой это не культурный центр, а…
Дальше звук пропал и камера метнулась к другой пикетчице, а по пути задержалась на самодельном транспаранте «Весь этот беспредел творится под покровительством властей центра!!!»
– Тьфу ты, мать-перемать (что, как нам уже известно, по-армянски звучит как «мать твоего хозяина», то есть адресуется вверх по иерархической лестнице адресата и тем более считается ужасным оскорблением), – бухнул кулаком по столу сдержанный обычно Дядя Вова. И здесь опять было трудно понять, кому же в большей степени адресуется его неслужебный оборот. Возможно, сопернику по шахматам. Во всяком случае тот живо поднялся с дивана, скорчил сочувствующую физиономию, молча пожал руку и ретировался.
– Это все проклятый спутник! – убежденно крикнула очередная пикетчица в микрофон, – И этому местных властей иностранцы научили! Специально, чтоб изуродовать наш город! Заказали подробный снимок Еревана из космоса, потом сели, отметили на нем самые хорошие незастроенные места, вырубили сады и в нарушение всех законов стали теснить местных жителей. И судьи им подыгрывают, потому что и те, и другие…
И здесь опять произошел срыв звука, а на экране появилась и закричала в микрофон другая активистка:
– Мы знаем, что против команды, которая затеяла это строительство, невозможно ставить законные преграды. Если уж суды не могут встать на защиту интересов своих граждан, то нам остаётся уповать на Бога: Бог им судья. И он уже начал карать: вон, мы слышали, у жены начальника строительства диагностировали мастопатию, а у архитектора – простатит…
– Значит, – серьезно спросила журналистка, – впредь вы отказываетесь от борьбы, ожидая Божьего суда?
– Ничего подобного! – с вызовом выкрикнула пикетчица, и субтитры высветили ее имя-фамилию. – Я лично решила в день открытия Центра в знак протеста подняться на крышу своего дома и броситься оттуда…
– Тьфу ты, мать твою-перемать, – уронил очочки Дядя Вова, – ну что ты скажешь? – Но вопрос повис в воздухе, так как сосед уже безопасно смотрел то же самое в своей квартире, а жена Дяди Вовы семенила между кухней и столовой, накрывая стол к ужину.
– Армен? Это я, Карапетян, – заскрипел он в мобильник, хотя мог бы и не представляться: такого пропитого голоса, как у образцового трезвенника Дяди Вовы, не было больше ни у кого. – Как дела? Угу. Слушай, Шварц, – продолжил он, – тут показывали по телевизору в вечерних новостях этих боевых женщин у Центра культурологических исследований. Смотрел? Ну да, ты занят делом, а я бездельник. Да нет, я не о том. Слушай, мне имя одной показалось знакомым – уж очень длинное: Шагандухт Мелик-Шахназарян или вроде того. Она у нас по делу Лусиняна не проходила? Просто поклонница таланта и меценатка? Ты с ней говорил? Только по телефону? Так допроси чёртову куклу по форме: она вон в знак протеста бросаться с крыши надумала – этого еще нам не хватало! Как вообще – вырисовывается? Со свидетелем сейчас беседуешь? Небось свидетельница? Ха-а-а-ха-ха-а. Нет, спасибо, этих отчаянных старушек я и сам боюсь. Ну да, ну да. Ладно, до связи.
Беседа с любимчиком – надежным, как броня, Шварцем, выправила настроение, и Дядя Вова устремился в направлении вкусных ароматов соседней комнаты.
Пирожки для полковника
15 декабря 2004 г., полдень
Бабульки были – чистый клад. Лучших информаторов Шварц за всю свою карьеру не сыскал бы. Без телекамеры они не кричали, разговаривали тихо, с достоинством. Все трое были смешливы и кокетливы, как девочки-подростки, но гостеприимны и словоохотливы – как заправские бабушки. А главное – будучи жительницами Еревана в Бог его знает каком колене, знали всех, всё про всех и даже больше. Две родились и состарились в обширном двухэтажном красавце-доме, построенном государством для их высокородных дедушек ещё на заре Советской власти, а Шаганэ пришла в этот дом юной снохой высокопоставленного советского чиновника, и это был практически отчий дом и для нее. В разное время они выдали замуж дочерей, женили и проводили разъехавшихся сыновей, похоронили родителей, свекров и свекровей, стали вдовами. Последней лет десять назад овдовела Шаганэ, чей муж был заслуженным летчиком уже не существующей страны. Бабульки казались лёгкой добычей для затеявших строительство вандалов, но их моментальная устранимость с пути оказалась обманчивой.
– Вот я и говорю, – излагала Шаганэ, пристроив на коленях в светлых брючках свою не в пример хозяйке молчаливую болонку, – Культурологический центр – это чистая фикция. Раз уж они своей бетонной коробкой загородили наш фасад в трех метрах от моего балкона, я их внутреннюю планировку лучше них самих знаю. Что это за культурный центр, если сплошные водопроводные и канализационные трубы по всему первому этажу? Это же типичная баня!
– Не баня, а сауна, – поджала губы Бабулька Номер Два. – А наверху – номера с санузлами. У этого прощелыги Алтуняна такой опыт уже есть.
– Какой-такой Алтунян? – попытался поучаствовать в разговоре Шварц.
– Мы пока с ними судились во всех инстанциях, все подробности узнали, – стала рассказывать Шаганэ. – Заказчик строительства – ООО «Тур Дистрибьютерс». Его владельцы – Левон Алтынов и Григорий Алтунян, родные братья. Старший, Лёва, занимается международным туризмом, а младший, Гриша, работает в прокуратуре. При этом он владеет сетью магазинов стройматериалов и опекает делишки братца. И есть у этой парочки еще целая сеть притонов по окраинам Еревана, закамуфлированных под бани, «ГРААЛЬ», слыхали?
– Ничего себе, информированы бабульки – будь здоров, – подумал Шварц и спросил: – Это всё вы на суде узнали, тыкин Шагандухт?
Уважительное «тыкин» настраивало на позитивное общение и вместе с тем очерчивало официальные рамки беседы.
Бабульки переглянулись и рассмеялись, а Шаганэ объяснила:
– Конечно, вас это, молодой человек, удивляет, но мы ведь уже два года боремся с их вторжением, и за это время получили практическое юридическое образование не хуже высшего государственного. И потом, – она погладила проснувшуюся от смеха болонку, – у нас сочувствующих много. Знаете ведь, как бывает. Стоял в центре Еревана красивый двухэтажный дом из розового туфа, в классическом стиле, с колоннами, пилястрами, с круглыми балконами, ухоженным фруктовым садом и сиренью за чугунной оградой. И он был родным не только для нас, но и для каждого жителя окрестностей и даже просто прохожих. Да вы берите гату, берите, сейчас еще принесу: я много испекла, – отвлеклась она, заметив, что Шварц поглядывает на последний кусочек.
– Спасибо, – обрадовался Шварц, – гата у вас вкусная, как у моей покойной бабушки была…
– Царствие ей небесное, хорошего внука вырастила, – откликнулась Шаганэ и рассмеялась:
– Нет, это не подхалимаж, я просто всегда радуюсь хорошей молодежи.
– Да какая я молодежь? – теперь уже рассмеялся Шварц.
– Для того чтобы чувствовать себя молодым, надо чаще общаться со стариками. Этого вам бабушка не говорила? – подняла пушистые брови Шаганэ.
– Вряд ли, – задумался Шварц, – когда ее не стало, я еще первокурсником был.
– Слава Богу, что она не дожила до этих безобразных времен, – встряла Вторая.
Шварц удивленно посмотрел на нее:
– Нет, я с вами не согласен. Совсем не согласен. Бабуля была бы рада, узнай она, что я родил сыновей, назвал их именами её погибших детей. Что я добровольцем пошел на войну, отстоял нашу землю. Ни разу не струсил, но вернулся живым. И она, конечно, была бы счастлива, что Армения вновь, через сотни лет, стала независимой.
– Да кому она нужна – эта независимость? – удивилась Вторая. Раньше бы написали в Москву – и в два счета решился бы вопрос. А сейчас пишем, пишем, ходим по инстанциям.
– Вы меня извините, – холодно ответил ей Шварц, – но при Советской власти вы принадлежали к привилегированному классу и просто не знаете тогдашних реальных проблем. Дедушки у вас были красными профессорами и наркомами, и вы жили в тепличных условиях. А сколько работяг тогда писало, жаловалось – и не доискивалось справедливости! Стремление к справедливости – это главная характеристика и общества, и каждого из нас. Так что в данном конкретном случае вы правильно делаете, что боретесь, и мы чем сможем обязательно поможем.
– Ну какой же вы молодец! – встрепенулась Шаганэ, мысленно примеривавшая на себя мнение собственных внуков о своей персоне, – я согласна с вами на все сто! Потому и осталась на родине. Ведь почему люди предпочитают жить на родине даже в самые тяжелые дни? Не только из солидарности, а еще и благодаря корню, который нас удерживает не просто на родине, но и на конкретном участке ее. Ведь мой дом, моя улица, мой район – это моя микрородина. И она снабдила меня навигатором, автопилотом.
Шаганэ переложила Шварцу в тарелку кусочек гаты, перевела дух и продолжила:
– Дома мы не задумываемся, где повернуть налево, где – направо: ноги нас сами ведут, и это часть душевного комфорта, который может создавать только родина. А автопилот ориентируется на маячки в виде зданий, деревьев, оград, питьевых фонтанчиков, которые стояли здесь десятки лет и должны были бы продолжать стоять. И каждое нарушение архитектурной среды – это сильный стресс не только для жителей конкретно угробленного здания, но и для всех горожан: пропадает тот самый маячок, ориентир. И должны пройти годы, чтобы сформировался новый…
– Подожди, Шаганэ, дай и нам сказать, – вступила ревниво наблюдавшая за наладившимся контактом Третья, дочка умершего давным-давно академика-лингвиста. – Это как родной язык, понимаете? Вы однажды просыпаетесь, выходите на улицу, а вокруг все говорят на чужих языках. Представляете? Может быть, ничего плохого они и не говорят, но вам становится страшно, потому что неожиданно и помимо своей воли вы попали в чужую языковую среду и перестаете понимать, что творится вокруг вас. Понимаете? В Библии описано Вавилонское столпотворение как следствие того, что Бог проклял жителей Вавилона, и они перестали понимать друг друга, заговорили на разных языках. Он их проклял плохими правителями, молодой человек! Потому что только плохие правители могли затеять шум и гам архитектурной разноголосицы и тем самым устроить в обществе разлад…
– Вот почему люди из соседних домов, да и вообще жители центра и те, кто работает по соседству, нам сочувствуют, подходят, звонят, делятся информацией, – подытожила Шаганэ.
– Да-а-а, – рассмеялся Шварц, – мне бы такой актив иметь! А можем мы с вами отдельно поговорить о покойном Лусиняне, тыкин Шагандухт?
– Конечно, можем. Бедный мальчик, царствие ему небесное, – опечалилась Шаганэ. – Девочки (обратившись к восьмидесятилетним соседкам), мы посидим в кабинете, а вы молодому полковнику кофе поставьте!
– Я майор, тыкин Шагандухт, – развел руками Шварц.
– Я в звездочках разбираюсь, молодой человек, я же вдова командира. Это сегодня вы майор, а завтра наверняка полковником станете: это у вас на лбу написано. Я людей сразу вижу со всем их прошлым и будущим, все-таки огромную жизнь прожила. Ведь и бабушка ваша обладала этим даром?
– Да уж точно, – улыбнулся Шварц.
Как плохо не блюсти законы Шариата!
16 декабря 2004 г., утро
Дядя Вова был не в настроении. С утра была лавина известий об омерзительных происшествиях по их линии и именно в их районе, в центре столицы. В гостинице «Плаза» по пьянке во сне задохнулся иностранец, в здании по соседству с кинотеатром «Наири» двое неизвестных совершили разбойное нападение на квартиру и убили старенького профессора, а всего в десяти кварталах оттуда здорово избили путану. Еще с утра успел позвонить и изгадить настроение этот торопыга Гриша из республиканской прокуратуры со своими идиотскими версиями по поводу еще не раскрытого убийства Арама Лусиняна и угрозами посодействовать передаче дела в главное управление. На всё это уже не хватало людей, времени и здоровья и оставалось надеяться только на везение и талант своих ребят.
Когда поступило сообщение об убийстве профессора, Дядя Вова еще только минут пятнадцать, как приступил к организации осмотра гостиничного номера иностранца. Но первым приехать на место убийства – это незыблемый закон для начальников райотделов полиции, сохранившийся еще с советских времен. Так что пришлось Дяде Вове оставить Шварцу сто лет не нужные тому распоряжения и мчаться, невинно сквернословя, в профессорскую квартиру. А Шварц с молоденьким опером Варданом остались, продолжая вникать в обстоятельства смерти иностранца.
Приглашенные понятыми уборщицы этажа боязливо жались к стенке и громкими вздохами выражали сочувствие прибывшему представителю консульства Ирана. Благообразный представитель был одет в черное пальто, лицо скрывала обычная для республиканского Ирана щетина, которая в Армении воспринималась, как мужской траур. Так что дипломат гармонично вписывался в скорбную мизансцену бдения над усопшим.
Дородная дежурная по этажу взволнованно пересказывала, а Вардан протоколировал, что в обычное время, в 08:00, она вошла в номер, который выходил в гостиничный холл, прямо напротив её стола, чтобы разбудить иранца. И нашла его мертвым в постели – должно быть, задохнулся во сне. Тот был коммерсантом, подолгу жившим в этой гостинице и приезжавшим в свой номер, как домой. По его просьбе дежурная каждое утро будила его, так как бедняга имел обыкновение здорово пить вдали от своих шариатских запретов, вследствие чего терял связь времен.
– Вай, мама джан, какое несчастье, – сокрушалась украшенная, как ёлка в ювелирном магазине, дежурная и комкала в наманикюренных пальцах клетчатый платочек. Шварц угрюмо покусывал сигарету под левым резцом и предвидел сложности писанины в связи со смертью иранскоподданного. Отпустив понятых и выдворив из номера и дежурную, он предупредил её, чтобы не уходила. Потом вежливо распрощался с сотрудником консульства, походил вокруг кровати в жарко натопленном номере, ещё раз поворошил тумбочку, чемодан и коридорный шкаф и выслушал зафиксированные коллегой факты. Затем повторно осмотрел начинающий покрываться пятнами труп.
– Лупу! – громко скомандовал он, и Вардан обалдело уставился на него. – Пинцет! Вардан участливо спросил:
– А ланцет, товарищ майор?
– Нет, ланцет пока не нужен, – объявил после долгой паузы Шварц и рывком открыл дверь. Впритык за дверью стояла дежурная.
– Я подумала, может, вы кофе хотите? – спросила она, громыхнув серьгами, и Шварц искренне согласился.
Сидя за сервированным дежурной кофейным столиком в номере нарушителя шариатских законов, Шварц выслушал очередную обойму анекдотов Вардана. Тот обладал уникальной и весьма востребованной в райотделе способностью рассказывать анекдоты по каждому случаю. А после недавней схватки с грузинскими гастролерами-грабителями пункта обмена валюты и проникающего ранения в селезенку, годился пока только на это и на протоколы.
– Приходит сынок апаранца домой, а у него в ухе серьга. «Ты что, сукин сын, – удивляется апаранец, – разве не знаешь, что серьги в ухе носят только пираты и педики? Вот я сейчас открою входную дверь и башку-то тебе непременно отверну, если за ней не окажется корабля с черным флагом!»
Шварц улыбнулся, а дежурная в коридоре прыснула.
Апаран был высокогорным районом Армении, заселенным выходцами из западноармянского Муша. Неприступный для турок до самого 1914 года, когда был объявлен османский закон об изъятии личного оружия у армян и их поголовной демобилизации на строительство Багдадской железной дороги (где они и были массово перебиты), Муш оставался мерилом национальной стойкости. Выжившие после пешей депортации из Муша женщины, старичье и малыши осели на востоке армянской земли, где горный ландшафт походил на Муш в том числе высотой в две тысячи метров над уровнем моря.
Все апаранцы, включая местных, несказанно гордились своим происхождением из воинственного и свободолюбивого Муша. При этом за долгую историю бесконечных войн с захватчиками успели охарактеризовать себя как особо упертая часть армянского народа. В анекдотах эта специфика трактовалась как органическое тупоумие и веселила обитателей остальных регионов, подспудно укрепляя их в собственных интеллектуальных преимуществах. Полиция страны любила эти анекдоты от всей души, так как генеральный прокурор был выходцем из этих мест и руководствовался в кадровой политике именно земляческими пристрастиями.
Вардан вышел из номера, и Шварц кивнул дежурной:
– Войди!
Дежурная принялась убирать со стола, но Шварц захлопнул дверь, подошел к ней, притянул к себе прядь ее волос, поразглядывал. Прижатая к Шварцу дежурная тяжело задышала, выдержала его тяжелый взгляд и вздернула понимающе ниточку брови. Шварц скомандовал:
– Раздевайся!
– Ну если не для такого парня раздеваться, так для кого ещё? – лениво улыбнулась блюстительница нравов этажа и принялась расстегивать блузку. Шварц выпустил локон дежурной и отступил на полшага. Из-под разъятой блузки обнажился мощный бюст в силиконовом бюстгальтере, и на Шварца пахнуло духами «Трезор», закапанными в ложбинку между грудями. Запах женщины – его Шварц знал не хуже слепого Аль-Пачино, и эти знания были почти должностной обязанностью. Шварц вновь подошел к дежурной вплотную, сдернул с плеч блузку и сквозь зубы спросил:
– Зачем ты его убила?
– Я? Что это вы говорите? Как вам не стыдно?
– выпучила глаза дежурная, пытаясь подхватить блузку и натащить на себя, – как же вам не стыдно?
– Ну-ка покажи пальчики! – шепотом скомандовал Шварц, и дежурная, как загипнотизированная, протянула ему ладони.
– Вот видишь этот обломанный ноготок, – Шварц тронул безымянный палец ее правой руки, – так его кусочек я вытащил пинцетом из складки шеи иранца. А вот твой волос: он прилип к его ладони. Так зачем ты его убила?
– Он у меня денег требовал, – прошептала дежурная.
Ждали ребят из райотдела и прокуратуры для завершения формальностей, а также отправки трупа и чуть более живой, чем иранец, дежурной по соответствующим их профилям адресам. И лишившийся дара рассказывать анекдоты Вардан рисовал картинку:
– Ладно, товарищ майор, из допроса теперь уже и я понял, что эта корова была сутенершей и поставляла девчонок в номера. А иногда и сама халтурила. Что иранец врубился, записал все переговоры на спрятанный в номере диктофон и шантажировал ее. Что она навалилась на него, пьяного и сонного, в постели и после короткой борьбы придушила подушкой. А потом вылила ему в глотку дополнительную порцию водки. Но как вы-то с самого начала догадались?
– Уж очень напряженно она прислушивалась к нашим разговорам, – улыбнулся Шварц, шаря по карманам. – Надо же, сигареты кончились! Эх, лучше бы этот бедняга курил, чем пил: нарушать законы веры – так нарушать! Был бы живее – и мне бы сигаретка перепала: бар-то закрыт!
– Был бы живее – нас бы здесь не было, товарищ майор, – пожал плечами Вардан. – Сейчас попрошу у заступившей дежурной. – И молниеносно исчез и вернулся с початой пачкой «Парламента».
– Пах![15] – среагировал привыкший к дешевым местным сигаретам Шварц, счастливо загнал сигарету в левый угол рта и, не закуривая, продолжил объяснение:
– Посмотри на оба электрокамина: видишь, установлены на максимальный режим, но отключены от сети? То есть она натопила, а перед нашим приходом вырубила. Любая женщина ее возраста успевает навидаться приготовлений к похоронам и прекрасно знает, что в теплом помещении мертвецы идут трупными пятнами. Вот она и хотела спровоцировать их, устроив форменную баню. Но ведь следы от удушения отличаются от трупных пятен, как петухи от куриц.
Шварц сидел в низеньком кресле номера, растопырив колени длинных ног и опираясь на них сведенными руками. Орлиный нос как флюгер точно указывал на постель, где под полотняной простыней угадывался труп коммерсанта.
– А еще и постель! – продолжил Шварц, – ты видел когда-нибудь такую аккуратную кроватку проснувшегося утром человека? А тем более – не проснувшегося? Мы же елозим во сне, переворачиваемся, пускаем слюни, мнем простыню и подушку. А тем более – этот бедолага-шантажист, ведь он вроде бы задыхался во сне и ему не хватало воздуха! А какая подушка у бедного иранца? С аккуратно торчащими углами, ровненькая, как в постельных сценках этих дурацких сериалов. И то же – с гладенькой-прегладенькой простыней. Да-а-а, будет сейчас головной боли и писанины…
– А ноготь? – не отставал Вардан, – где ноготь дежурной?
– А я откуда знаю? – улыбнулся Шварц, – но что он обломан, я заметил, когда она подавала кофе.
– Да-а-а, – крякнул Вардан, и к нему вернулось чувство юмора. Вы анекдот про логическую цепь знаете?
– Нет, – довольно улыбнулся Шварц, – давай, рассказывай.
– Ага, – обрадовался Вардан и принялся излагать, имитируя грузинский акцент:
За дружеским столом Гиви знакомится с университетским преподавателем логики.
– Вряд ли эту вашу дрэвнюю науку можно конкрэтно применьят в сегодняшнем бизнэсэ, – скептически заявляет Гиви.
– А хочешь, я с помощью логических построений скажу, кто ты? – спрашивает преподаватель.
– Давай!
– У тебя аквариум есть?
– Есть.
– Ну, если у тебя есть аквариум, значит, и квартира есть?
– Есть.
– Раз у тебя есть квартира, значит, и жена есть?
– Клянусь мами, есть!
– Если у тебя есть и квартира, и жена – может, и дача есть?
– Ва, есть!
– Раз у тебя есть дача – должно быть, и машина есть.
– Есть.
– Ну, если у тебя есть и машина, и дача – скорее всего, у тебя есть и любовница?
– Как брату скажу: есть.
– А раз у тебя есть и жена, и любовница, значит, как мужчина ты – что надо. Видишь, как методом логических построений я это выяснил, – заключил преподаватель.
– Вай ме, – поразился проницательности специалиста Гиви и обернулся к соседу слева:
– Слушай, Шалико, у тебя аквариум есть?
– Нет, – удивился сосед.
– Значит, ты импотент! – Вардан задержал дыхание в ожидании реакции Шварца. Но Шварц уже был уже далеко – он думал совсем о другом.
Запах армяка у деревенских армян
2003 г., лето
Солнце уже садилось, и пускаться на поиски забывчивого Старика по быстро меркнущей дороге было страшно. И уставшая за день Софи уселась в раздумье. Но тут все задрожало, загрохотало, послышался свист и лай, и с горы прямо на Софи пошли рогатые чудовища. Они испускали страшный рев и готовы были походя втоптать ее в траву. Софи вжалась в дерн и стала ждать неминуемого конца. Но неожиданно вперед выбежал Очень Большой Пес, и оторопелая Софи легла на землю вверх животиком:
– Вот она – я, маленькая, безвредная, совсем еще ребенок, и мне очень страшно здесь одной вдали от Старика и мансарды, – дала она понять, и внимательно обнюхавший ее Пёс убедился в достоверности информации. Это было первое в жизни Софи и вполне счастливое испытание на собачьем детекторе лжи, имевшее далеко идущие последствия.
Очень Большой Пес остался стоять над ней как вкопанный, и коровы передумали вредничать и переть прямо на щенка, а наоборот, опасливо обходили стороной. Подгонявшие стадо ещё две собаки подошли и точно так же обнюхали Софи, и она с готовностью согласилась на дополнительное испытание. Приблизился исполин, склонился над ней, заржал, и сверху спустилась его меньшая половина. Таких Софи еще не видела. Половина пахла человеком и была немного похожа на старичков в парке и на ее Старика. Верхняя половина погладила мягкую белоснежную шерстку с черными пятнышками и подивилась:
– Вот это да! Это еще что за невиданный сорт? Да ты королевская собачка! И ошейник тоже королевский! Что это там написано? «Софи»? Ну да, настоящая принцесса! Тебя потеряли или выбросили? Не поймешь этих городских! Ну-ка, давай сюда, а то затопчут. – И бережно разместил Софи на груди между свитером и подпоясанным армяком, снова влез на свою ржущую половину.
Армяк пах ревучими и ржущими исполинами, большими собаками, дымом жарящегося мяса, мацуном, молоком, луком и хлебом, и все эти запахи были ей уже знакомы. А еще он пах счастьем большого домашнего очага, и с этим запахом она сталкивалась впервые.
О вреде утреннего мытья полов
16 декабря 2004 г., полдень
Когда Шварц подъехал к квартире профессора Барояна, бригада криминалистов уже заканчивала работу. Из спальни доносились истерические стенания женщины и строгие окрики врача неотложки. Ребята полушепотом объяснили Шварцу, что внучка профессора, единственная свидетельница нападения, от пережитых страхов периодически теряет сознание, а мать кликушествует над ней с таким энтузиазмом, что вконец достала уже и оперов, и врачей.
В другой спальне, прикрытый расцветшей красными маками простынёй, лежал убитый профессор. После десятка ножевых ранений и разбитого скалкой черепа видец у него был еще тот, и Шварц аккуратно спустил на тело поднятую простыню. Вранье это всё, что к виду жмуриков привыкаешь. Еще как ухают в живот сладкие детские страхи, срываясь с поплавка профессионального опыта!
Комната была опрятная, ёлочка паркета отсвечивала лучи полуденного солнца, и впечатление санитарного порядка нарушалось только брызгами крови и кляксами высококачественных профессорских мозгов на влажных плинтусах пола.
Безошибочно найдя кухню по луковой шелухе, здесь и там оброненной по дороге из коридорного чулана до пункта назначения, Шварц закурил и уселся на стул довольно старого кухонного гарнитура.
– Польша периода еще до «Солидарности», – определил он для себя возраст мебели и огляделся. На залитом зимним солнцем подоконнике выстроилась батарея горшочков с чумазыми кактусами, которые хотелось отмыть и побрить. Грязная посуда замысловатой горой высилась в мойке. Рядом с источающей запах гнильцы кастрюлей на разделочном столе валялись не знавшие отбеливателя скомканные тряпки для стола. Навидавшийся по роду деятельности тысячи квартир, захваченных врасплох криминальными обстоятельствами, Шварц такой бардак видел впервые.
– Бардак, – вслух констатировал он, прицельно выстрелил окурком в пузырь, торчащий на поверхности кастрюли, и отправился в женскую спальню.
На кровати, заставленной гигантскими мохнатыми зайцами, мишками и жизнерадостным желтым осьминогом, в позе недодушеной Дездемоны лежала, разметав длинные локоны, стройная девочка лет пятнадцати и тихо стонала. Над ней похрюкивала сорванным в ходе стенаний голосом худосочная мать. Обесцвеченные волосы были схвачены пластмассовым зажимом со стекляшками, а строгий деловой костюм украшали увесистые пуговицы, сверкавшие блеском всех бутылок приемного пункта. В комнате пахло валерьяной, нашатырным спиртом и духами «Сикким».
– Ну что, Сирушик, садись и давай, рассказывай, как дело-то было, – Шварц придал голосу выработанную специально для допрашиваемых низкочастотную хрипотцу, и девочка открыла глаза. Глазки оказались недетские.
– Неполная семья, безрадостное детство, – поставил очередной мысленный диагноз Шварц, уселся на пуфик спиной к двери и боком к пыльному трюмо и вслух добавил: – А вы, мадам, нас на пару минут оставьте, я сам вас позову. – И совсем громко обратился к публике соседней комнаты: – Шагинян, подойди.
Полистав бумаги из папки опера, пошептавшись с ним и тоже выставив за дверь, Шварц улыбнулся девочке:
– Страшно было?
– Ужа-а-асно… – протянула девочка, округлив глаза.
Дальше она принялась рассказывать в лицах, жестикулируя и делая страшные рожи. Дело было так: утром в 09:15, через час после ухода матери на работу, в квартиру ворвались двое неизвестных с пистолетами, в рот засунули кляп, крепко-накрепко связали ей руки и ноги, а саму впихнули в чугунную ванну санузла. После чего прошли в комнату деда, убили его, взломали скрытый за шкафом сейф, украли из тайника толстую пачку денег и покинули квартиру. После ухода налетчиков девочка вылезла из ванны, распутала руки и ноги и позвонила маме на работу.
– Ты их раньше не встречала? – спросил Шварц, и девочка категорически замотала головой:
– Никогда.
– А как они выглядели? – спросил Шварц.
– Ну, парни как парни. В черных кожаных куртках, среднего роста, черноглазые, темноволосые… Обычная внешность, – задумчиво ответила Сируш.
Это действительно была обычная внешность. По та кому описанию можно было схватить добрую половину мужского населения республики.
– У вас когда уроки в школе начинаются?
– В девять, но первый урок был русский, я его и так лучше всех знаю, вот и собиралась пойти на второй.
– А кто тебе помог выбраться из ванны?
– Да я сама, – девочка вскинула на него длинные ресницы, продолжая теребить зайкины уши.
– Слушай, ну ты молодец, я вон насколько выше тебя, а не сумел бы, – восхитился Шварц.
– Я гибкая, в Волгограде я в секцию легкой атлетики ходила, – заулыбалась Сирушик, гордая физкультурным достижением.
– В Волгограде? – удивился Шварц.
– Ну да, когда мне был всего годик, в Армении на три года отключили весь свет, газ, отопление, ну вы знаете. И папа забрал нас с мамой в Волгоград – там у него бизнес был. Потом его кинули, и он этот бизнес закрыл и вошел в долю со своим тамошним другом, кожевенной переработкой занялся.
– Ну молодец твой папа, целеустремленный, – похвалил Шварц неутомимого отца-бизнес мена.
– Молодец… Да какой он молодец? Этот тоже его кинет, вот увидите. Не молодец он, а форменный лох – тоже мне, молодец, профессорский сынок… Ну вот. Там я и в школу пошла. А в прошлом году мы с мамой приехали обратно, сюда. Вы бы видели, как девчонки плакали, когда мы уезжали! А мальчишки сложились и купили этого мишку. Вот видите мешочек на нем? Там еще конфеты были, «Мишка на Севере».
– Зачем же вы приехали и папу оставили? – продолжал удивляться Шварц.
– А пусть бы не жадничал на нас и меньше на блядей тратил, – зло отреагировала малолетка, словарный запас которой явно входил в противоречие с возрастом и статусом внучки профессора.
– Ну да, – послушно согласился Шварц, – а ты скажи мне, пожалуйста: скалку, которой ударили твоего дедушку, бандиты с собой принесли или это ваша скалка?
– Не знаю, – задумалась девочка, – наверное, с собой принесли.
– Шагинян, – повысил голос Шварц для обитателей соседней комнаты, – ты все отпечатки пальцев снял со скалки?
– Все, – просунул голову в дверь Валерий Шагинян.
– А лучами СМТ просветил?
– Какими?
– Ну теми специальными лучами для снятия всех стертых прежних отпечатков просветил?
– А как же, – обиделся Валера, – в первую очередь. Я без них вообще отпечатки не снимаю.
– Ладно, можешь идти, – снова повернулся Шварц к девочке, а та сказала:
– Точно не помню, но скорее всего, это наша скалка.
– Эх, ты, хозяйка. Ваша соседка, и та лучше тебя знает ваш кухонный инвентарь. Но она говорит, вы скалку глубоко прячете, не на виду – как же они ее нашли?
– Так ведь скоро Новый год! Я собиралась сегодня тесто замесить, заготовить, положить в морозилку, а тридцатого достать и испечь. Вот и достала.
– Ну да, – рассмеялся Шварц, – я за этой работой и про Новый год забыл, и про всё на свете. – А пол в комнате дедушки это ты с утра помыла?
– А кто еще? – хихикнула девочка, – не мама же.
Да, взаимоотношения покойного профессора со снохой, видимо, оставляли желать лучшего.
– А почему не подмела сперва в коридоре и на кухне? Ведь грязь из квартиры снова разнеслась бы по комнате. Жалко все-таки: ты мыла, старалась, да еще перед уроками, – продолжал допытываться Шварц.
И совсем напрасно продолжал. От длительного напряжения девочка снова потеряла сознание, и ей не помогали не только выплеснутые в лицо остатки воды из стакана, но даже ватка с нашатырем, дважды подносившаяся расстроенным Шварцем прямо к ее носу. Тогда он снова позвал Шагиняна, и тот расторопно открыл дверь за его спиной.
– Тащите эту агарку в отделение! – сквозь зубы скомандовал Шварц возникшему за спиной оперу. И не успел скомандовать, как здорово получил по башке от навалившейся на него со спины и кликушествующей с новым задором снохи погибшего. Обознатушки!
Держа вырывающуюся девчонку за волосы одной рукой и отмахиваясь от мамаши другой, Шварц был малоэффективен в своей обороне. Тогда он вытащил своего любимого товарища Макарова и наставил на мать. С тем же успехом он мог бы попытаться запугать профессорскую пальму в гостиной: мамаша продолжала манкировать угрозой и целеустремленно пыталась выцарапать Шварцу глаза. Вот тогда-то нашему герою-криминалисту пришлось отказаться от табельного оружия и применить известное с дворового детства. Он локтем свободной руки вырубил мамашу и завершил оперативные мероприятия на месте события.
И здесь, при всех симпатиях к нашему герою, надо признать, что последнее возбраняется законом, но в отдельных случаях является для Шварца и его коллег единственным методом нейтрализации иррационального поведения родственников подозреваемых.
Но «завершил» – это громко сказано. Не дотрагиваясь до внучки во избежание возможных посинений и строго контролируя траекторию ее передвижений зажатыми в руках локонами, Шварц добрался до спальни деда. И обнаружил там только одного сотрудника, дожидавшегося труповозки, – дубина Шагинян слишком буквально воспринял его команду «ладно, можешь идти». Что делать? А все то же: спуститься по лестницам, усадить внучку за руль своей видавшей и не такое машины. И все еще держа за волосы, проталкивать рывками собственной правой ляжки на соседнее сиденье, не забыв усесться самому, включить зажигание и тронуть с места.
В отделении милиции после получаса бряканий в обморок и валяния девочкой дурака, Шварц участливо спросил у нее:
– Зачем же ты убила дедушку?
И девочка искренне ответила:
– Это не я, это Сашик.
Строго лимитированный период задержания малолетки и возможности профессорских связей неистовой мамаши требовали спринтерского темпа. В распоряжении Шварца оставалось только полтора часа для поиска второго подозреваемого, обнаружения вещдоков и связанной с этим бумажной волокиты. И понятно, что по закону подлости, который универсален для всех социальных групп, включая работников правопорядка, райотдел выглядел, как после взрыва нейтронной бомбы. Ни одного сотрудника за пустующими письменными столами! Дядя Вова был на совещании в городском управлении, а оперативники разъехались по заданиям. Мобильники не охваченных разнарядками ребят были вне досягаемости. Такой уж выдался суматошный день и такая нехилая связь регулярно портила нервы обладателям мобильников Армении с ее телефонным оператором-монополистом в тот исторический период!
Обман как главное оружие ментов
16 декабря 2004 г.
«Что делать?» – это вопрос не только рефлексирующих интеллектуалов прошлых веков. Такая задачка регулярно встает перед всеми народами мира вне зависимости от образовательного ценза. И особенно часто – перед ментами Армении с их скромным кадровым и финансовым ресурсом и необъятными амбициями в области искоренения настоящей преступности. Но Шварц уже знал, что ему надо делать, и позвонил в соседний корпус, где в почетном кресле прокурора Центрального района восседал его однокурсник и сосед по улице Гор Голкарян.
– Привет, Гор! Ты чем занят? – спросил Шварц.
– Да вот, домой на перерыв собираюсь, Армен джан. Жену побаловать присутствием обещал. Поедешь со мной? – радушно предложил Голкарян.
– Давай, – соврал Шварц. – Только сперва на моей машине в одно место заедем, ладно?
– Ладно. Так я спускаюсь?
– Ага, – обрадовался Шварц и взялся за локоны Сирушик.
Вот в таком странном составе – Шварц за рулем своего жигулёнка, и на заднем сиденье прокурор с крепко схваченными прядями малолет ки в руках – они и направились к дому гаденыша Сашика.
Когда подъехали к искомой хрущевке в окраинном Норкском массиве, Голкарян остался в машине сторожить склонную к обморокам девицу. А Шварц ринулся по ступенькам вверх. Позвонив дважды в дверь гаденыша, он услышал осторожное «кто там?» и наобум ответил: «Отец Армена», рассчитывая, что хоть один его тезка среди друзей мальчишки найдется. Так оно и было. Сашик через цепочку приоткрыл дверь, Шварц бухнул в нее ногой, цепочка соскочила вместе с монтажными шурупами, а дверь припечатала гаденыша, как кузнечный пресс, к стене коридора. Ворвавшись в комнату, Шварц увидел разложенные на журнальном столике и готовые к пересчету доллары и рашэн мани запасливого деда.
Конечно, если бы прокурор не кликнул по мобильнику своего родственника-полицейского из ближайшего участка, не оставил на его попечение локоны чувствительной девицы, а сам не взбежал в нехороших предчувствиях в квартиру Сашика, был бы Шварцу форменный каюк теперь уже от мамаши подозреваемого. Но все окончилось благополучно. Точнее – почти закончилось, так как нужно было еще найти и приобщить к делу вещдок в виде ножа, выброшенного семнадцатилетним преступником.
Схватив в охапку гаденыша и присовокупив к компании на заднем сиденье еще и дополнительного постового, Шварц с прокурором уселись на передних сиденьях жигулёнка и погнали машину к «Поплавку».
Нельзя сказать, что все ереванские преступления происходят в этом кафе. Но если уж происходят, то обязательно имеют к «Поплавку» хоть какое-то отношение. Или невинная ссора, переросшая в дальнейшем в убийство, затевалась именно здесь. Или детали преступной сделки оговаривались в «Поплавке» за порцией размороженного суши. Или кого-то убили, скажем, в Питере, и уж тогда он – обязательный завсегдатай или даже совладелец этого популярного заведения с хорошей джазовой музыкой и безобразной кухней.
Именно в мусорную урну возле «Поплавка», всего в двух сотнях метров от профессорской квартиры, спустил свой окровавленный нож гадёныш Сашик, в чем и признался, зажатый на заднем сиденье машины между постовым, Сирушик и полицейским родственником прокурора. Вопрос перед Шварцем и Голкаряном стоял технически простой, но морально трудновыполнимый: оба были жителями соседних домов, и быть застигнутыми проходящими мимо соседями или знакомыми в момент перелопачивания мусора, оплоту общественного порядка не улыбалось. Тогда Шварц изо всех сил пнул чугунную урну ногой, урна опрокинулась, и из нее среди прочего хлама звякнул об асфальт криминальный нож.
– Что б сдох твой хозяин, похороню я тебя!
– послышались знакомые уже нам ругательства, и на Шварца с метлой наперевес засеменила старенькая дворничиха. Но выработанная в детстве сноровка не подвела: он быстренько оприходовал нож в полиэтиленовый пакет, сел за руль жигулька и скрипнув тормозами, дал дёру, не забыв послать бабульке прощальный воздушный поцелуй:
– Извини, бабуль джан!
О сложностях селекции и поразительных результатах
2003 г., лето
Давид был хорошим пастухом. Он был пастухом Бог его знает в каком поколении – может быть, тысячном. Потому что и отец его, и дед, и дед деда, и дед деда его деда были пастухами. Просто пастушествовали они в совсем другой части армянской земли, гораздо западнее, в горном крае Сасуне, населенном чокнутыми на безграничной смелости своенравными ребятами, воспетыми ещё в древнем армянском эпосе «Давид из Сасуна».
Сасунцев не нужно было учить пастушествовать или воевать, охраняя родную землю, – этим они занимались сызмальства и других примеров практически не видели. А кто вековечно является помощником пастуха, его собеседником, защитником и любимым дитятей? Конечно, пастушья собака, которую армяне не просто приручили в незапамятные времена, но и, искусно скрещивая с волками и шакалами, вывели свой особый вид – армянского гампра, который получил в дальнейшем распространение по всей Азии и Европе в различных ипостасях овчарки.
Об этом свидетельствуют наскальные рисунки, обнаруженные на окаймляющих озеро Севан Гегамских горах и всех фрагментах Зангезурского хребта, сохранившиеся многочисленные предания и литературные источники. Из них нам известно, что для скрещивания древние армяне огораживали ущелье с обеих сторон, превращая его в просторную недоступную котловину, и запускали туда пойманного волка. Туда же подбрасывали отловленных куропаток, зайцев и прочую мелкую живность, чтобы волк мог охотиться на них практически в естественных условиях и не растерял охотничьих навыков и других природных качеств. Потом к волку-самцу подбрасывали крупную суку овчарки, а полученный помет отбирали и отдавали на молочное скармливание волчице. И наоборот: щенят, полученных скрещиванием волчицы и кобеля овчарки, откармливала овчарка.
Но раз в три-четыре поколения следовало добавить и шакальей крови, так как всем хороши умные и выносливые волки, но чего-чего, а способностей служить хозяину и подчиняться ему у них – ноль. Сызмальства подружившийся с человеком волчонок, становясь совершеннолетним, если и включает его в волчью иерархию, то на правах подчиненного. В лучшем случае – приятеля. И только презираемые нами шакалы придали собакам всех пород те симпатичные детские качества зависимости, за которые человечество любило их и будет любить.
Полученный приплод вырастал в высоких широкогрудых красавцев-силачей с пушистой белой шерстью, мохнатым хвостом, коротким носом, толстыми губами и крупными глазами. Уши им обрезали почти под корешок как наиболее уязвимое место в драках с хищниками. Зато при охоте на медведей и волков охотник надевал на своего четвероногого ассистента доспехи из стальных шипов, украшавших грудь и плечи гампра. Именно ими этот неустрашимый косматый воин вспарывал грудь разъяренным медведям и голодным волкам. Но больше всего его подвигала на героизм угроза, нависшая над хозяином. Словом, более преданную, сильную и умную собаку, чем гампр, было не сыскать.
Отлавливая волка для сложных матримониально-селекционных дел, его нельзя было ранить или сильно обидеть, чтобы щенята получились с незамутненными генами: здоровыми и наделенными всеми талантами предков. А потому риск, связанный с подобными операциями, был чрезвычайно велик. Вот почему заводчиками собак были сами охотники, которые и жили-то в основном на доходы от продаж чистопородных щенков.
Отец Давида, старый Вреж, пересказывал фамильное предание, как его отец, тоже Давид, был спасен их дворовой собакой Кучо. И здесь важно знать, что дворовая собака у армян была дворнягой не в современном смысле, а чистопородной умницей, охранявшей дом и подворье и принимавшей участие в воспитании детей. Родители спокойно могли оставить детей на целый день на попечение такой собаки, зная, что она не впустит чужаков, не выпустит малышей с территории двора и разнимет любую драку сорванцов. Покупка такой собаки была дорогим удовольствием, равным, скажем, покупке дюжины овец или пары сотен килограммов чистой овечьей шерсти.
Дело было в 1907 году, жители сасунской деревни узнали о приближении вооруженного отряда турок. Это был традиционный бандитский налёт с целью грабежа, убийства мужчин и пленения девушек и молодых женщин. С помощью таких налетов дынноголовые захватчики поддерживали себя материально и генетически. И армяне не менее традиционно подготовились и засели на подступах к дороге, ведущей в их горное село. В числе других мужчин ушёл оборонять село и молоденький Давид, дед нашего Давида.
Надо сказать, что незадолго до этого за неимением средств для покупки Давид сам скрестил оставшуюся от отца здоровенную овчарку Кучо с хорошим полуволком, и она ощенилась пятью малышами. Как и все малыши, полуволчата Кучо были самыми прекрасными на свете, и она прилежно вскармливала их и нежно опекала. Бой длился уже третий день, когда Кучо неожиданно взвыла, вскочила на ноги, на минуту застыла и умчалась куда-то, оставив своих малышей. Под вечер она не вернулась, и бабушка Давида стала отпаивать заскуливших щенят теплым овечьим молоком и подложила им в корзину самодельную грелку. Прошел еще день, и одержавшие победу крестьяне-бойцы стали возвращаться в деревню. Но ни среди раненых, ни среди мертвых Давида не оказалось. Среди плача и стенаний матери и сестер Давида только бабушка сохраняла спокойствие, так как знала: Кучо отсутствует неспроста!
Прошло ещё несколько дней, и утром на пороге дома появилась исхудалая, потрепанная и усталая Кучо. Не обращая внимания на своих лакающих из миски малышей, она подошла к бабушке, положила лапы ей на плечи, лизнула в лицо и трижды пролаяла. Это был известный собачий пароль военной победы хозяев, и каждая участвовавшая в бою с волками или турками собака была обязана сообщить о ней старшему по дому именно таким способом. А старшими по дому тогда были старшие по возрасту, а не по званию или доходам. Бабушка знала о победе и без Кучо, но не знала, что же случилось с ее внуком.
– Где же ты была, Кучо? Что же ты оставила своих щенят? Где же твой хозяин Давид? – спросила ее бабушка, поцеловав собаку в лоб, ласково потрепав за остриженными ушами и поставив перед ней глубокую миску с едой, приготовленной ею для домочадцев. И это был обязательный и опять же протокольный ответ хозяина на собачье известие о победе. Кучо быстро съела угощение и устремилась к выходу, лая и оглядываясь на старушку. Все стало понятно. Бабушка Давида кликнула сыновей, мужчин-соседей, и они отправились вслед за Кучо, которая долго вела их мимо безлюдных скал, окаймляющих ущелье, и наконец привела в пещеру. В пещере, бледный и израненный, но вполне живой, лежал их Давид!
Уже дома, когда его отпоили живительными отварами, а на раны наложили целебные снадобья, Давид рассказал удивительную историю, которую потом из поколения в поколение пересказывали его родные. Вот она.
Поняв, что побежденные разбойники собираются ретироваться, Давид решил отрезать им путь к отступлению и пустился наперерез. Прыгая по валунам скал, он оступился, неловко упал с большой высоты и сломал себе ногу. Свежий перелом поначалу всегда терпим, и Давид залег за валуном, дождался турок и стал прицельно стрелять. Метко целясь, он убрал командира и еще двоих разбойников, а оставшиеся стали беспорядочно отстреливаться и попали-таки в правое плечо. Кровь обильно полилась, ружьё выскользнуло из рук, а дальше Давид ничего не помнил. Но его стали посещать видения, точнее, странные ощущения, и первым было теплое дыхание вылизывающего его раны зверя. Потом Давид чувствовал, как его долго волокли по земле, ухватив за ворот армяка. А следующим ощущением была льющаяся в глотку теплая влага.
Когда Давид впервые пришел в себя, он нащупал греющую его своим телом Кучо, и на его стон она радостно гавкнула. Здесь надо пояснить читателю, что армянский гампр, или кавказская овчарка, или волкодав, ни при каких обстоятельствах не имеет права на инициативный уход от хозяина: он должен сам ей это приказать. Причем законы собачьей субординации распространяются даже на подросших детей хозяина. Вот почему дворовая собака вынуждена искусно конспирироваться, если, скажем, подросток вышел из дому в отсутствие старших. С одной стороны, нужно быть готовой, чтобы вовремя вытащить его из возможной передряги. Но ведь с другой стороны, если будет застигнута врасплох, она обязана послушаться его приказа и вернуться восвояси. А что уж говорить о директивах самого хозяина!
Так что выхаживавшая Давида Кучо дож далась-таки приказа хозяина отправиться домой, а дальше вы всё знаете. Не знаете только того, что в этой драматичной ситуации вскормлен был Давид живительным молоком своей верной собаки.
Конечно, такая верность базировалась ещё и на уверенности собаки, что её собственные детеныши обязательно будут вскормлены и согреты сердобольной хранительницей очага, старенькой бабушкой. Но это уже история об экологической и гуманитарной гармонии тогдашнего мира.
– Дети, – взгляните, какую принцессу я вам принес! – позвал своих внуков внук Давида Давид, и выпустил из-под армяка пригревшуюся Софи.
О пропаганде курения в старых анекдотах
16 декабря 2004 г., вечер
Дядя Вова сиял, как на собственной свадьбе лет сто назад: у них получалось два раскрытых убийства за день из обоих совершенных! А это было серьезное достижение. И понятно, что автором обоих гениальных раскрытий мог стать только автор родившихся в течение получаса двух мальчишек, его ученик Шварц.
– Ну-ка, ну-ка, расскажи ребятам, Шварц, что тебя насторожило в связи с дедушкиной внучкой.
В молодости Шварц обожал эти «разборы полетов»: он впитывал откровения старших коллег глазами, ушами, кожей и всем включенным на полные обороты сознанием. После каждого разбора долго сверял полученную информацию с учебниками по криминалистике и всевозможной справочной литературой, анализировал, делал пометки. Потом любая новая информация перестала будоражить воображение, так как автоматически рассылалась по ячейкам хорошо каталогизированной профессиональной памяти. Разборы перестали впечатлять, изрядно надоели, и он стал уклоняться от них как мог. Но однажды, после провала в задержании участника разбойного нападения из-за элементарной неосведомленности молоденького опера в делах, которые не проходят в институте, но хорошо знают в райотделе, он понял, что быть молчаливой энциклопедией криминалистики – настоящее свинство. Надо, обязательно надо делиться своими знаниями с молодняком. Ведь зелёненькие оперы так же нуждаются в этих обрыдлых разборах, как когда-то он сам. «Смеялись над Советами, злословили и сквернословили, – думал Шварц, – а ведь наставничество было их уникальным ноу-хау!» Словом, Шварц помог Дяде Вове сохранить традицию.
– Да несуразиц было много в этой дурацкой квартире, – начал Шварц. – У дедушки – красота, пол свежевымытый, под плинтусами еще даже не успел высохнуть. А в коридоре и кухне – бардак. Я, говорит, сама пол у дедушки помыла. А у нее ногти на руках – метровые, аккуратно подпиленные, окрашены розовым лаком, да еще поверх – картинки. Вряд ли мытье полов – её главное хобби. И потом – ванна. Она у них здоровая такая, еще из чешских импортных, глубокая. Да будь ты трижды Анна Курникова, связанная из неё не выберешься. А ещё эта скалка. Да на этой кухне не то что тесто замесить – скорлупу с яйца снять негде. Сперва нужно двухчасовую уборку устроить. И потом, что за привычка падать в обморок после неудобных вопросов? А главное, водой поливаешь, нашатырь в нос суёшь, – не хочет, ну просто не хочет очухаться, хотя реснички подрагивают…
– Товарищ майор, – осторожно спросил напряжённо слушавший его Шагинян, подрагивая коленом, – а какие это лучи СМТ для просвечивания вы имели в виду?
– А я знаю? – улыбнулся Шварц. – Первое, что пришло в голову, и бахнул: СМТ, смерть младотуркам. Просто я понял, что насчет скалки она врет, вот и решил проверить. А ты молодец, что подыграл…
– А плинтус? При чем тут влажный плинтус? – спросил извертевшийся от нетерпения Вардан.
– Как при чем? С утра эта Сирушик, с её наманикюренными пальчиками, могла пуститься в такие хозяйственные подвиги только с одной целью: задержать выход деда из дома, так как сообщник запаздывал. А бедный дед, чтобы не обидеть любимицу, не слезал с кровати, ждал, пока пол подсохнет. Да и деньги-то он, бедняга, копил ей на репетиторов для поступления в институт и на приданое. Как она ни подъезжала к нему, не признавался, где прячет. Вот её дружок и пытал старика.
Вардан что-то зашептал сидящему рядом практиканту, они затряслись, как припадочные, от еле сдерживаемого смеха, и Дядя Вова благодушно сказал:
– Ладно уж, расскажи свой очередной анекдот всем, Вардан, а то лопнете тут на пару.
– Ну вот, товарищ полковник, – обрадовался тот, – идёт суд в Апаране над отцеубийцей. Судья говорит обвиняемому: «Расскажи-ка, как дело было?» Тот и рассказывает: «Сидим мы это с отцом, в нарды играем, он всё выигрывает. Раз выиграл, два, три. Ему все шесть-шесть выпадает или пять-пять, а мне – только несчастные единички и двоечки. Разозлился я – сил нет. Взял нарды и стукнул ими старика по голове, а он возьми да умри». – «Что же ты, бессовестный, не мог себя взять в руки? – удивляется судья. – Ну взял бы сигарету, закурил бы, успокоился…» – «Как можно? – удивляется апаранец. – Да чтобы я в присутствии отца закурил? Да чтобы я так неуважительно к отцу отнесся?»
– Да-а-а, с апаранца станет, – ухмыльнулся Дядя Вова, а Шагинян спросил Шварца:
– А что за такое нетерпение у Сирушик, товарищ майор? Они что, пожениться собирались?
– Это она своему Сашику такую лапшу на уши вешала. А сама собиралась удрать назад в Волгоград. Здесь, говорит, настоящее болото: девчонки по домам к маминым юбкам жмутся, пива даже выпить не с кем.
– Да-а-а, – протянул Вардан, – была бы у меня такая дочка, я бы ее по стенке размазал, стерву проклятую…
– Да ты сперва женись, – засмеялся Дядя Вова.
– А? Когда идем просить руки?
– Пусть сперва определится у кого, – подытожил Шварц, намекая на разнообразные голоса названивавших Вардану девиц. И тут же решил воспользоваться минутным благодушием начальства.
– Товарищ полковник, пусть писанину заканчивают практиканты под руководством Вардана, а я хочу разобраться с делом Лусиняна. Недельный отгул дадите?
– Ладно, давай. И безо всяких отгулов. И Шагиняна могу подключить, если нужно. Но мобильник не отключай и сам на связь выходи каждый вечер.
– Идёт, – согласился Шварц и поднялся с места. – А я? – возмутился Вардан. – Можно, товарищ полковник, и я, если писанину быстро закончу?
– Может, к вам ещё и секретаршу приставить, чтобы кофе варила? – посуровел Дядя Вова. – Сколько раз вам объяснять, что это не писанина, а железобетон, из которого не должен выпростаться преступник?
– Виноват, товарищ полковник, – обиженно вытянулся Вардан, и Дядя Вова подобрел:
– Ладно, документируй все как следует, а там посмотрим, – и просительно, как маленький, заглянул в глаза Шварцу:
– До Нового года найдешь?
И тот уклончиво ответил:
– Буду стараться, товарищ полковник!
Часть 2 Приключения мушкетера
Братская оккупация чужой страны как помощь своим олимпийцам
1980 г., весна
Вскоре после первой женитьбы Арамиса Шварц столкнулся с ним у входа в Институт иностранных языков, куда пришел на встречу с информатором. «Терминатор» ещё не вышел на экраны, и Шварц пока был просто Арменом. Но он уже перевёлся на заочный юридический и работал в райотделе милиции. Прошлым летом отец умер от инфаркта прямо на работе, и сидеть на шее у матери Шварц не собирался.
– Так ты что, ментом заделался? – бестактно, как всегда, спросил его Арамис, и Шварц уже шагнул к нему, чтобы сделать свой коронный захват, но тут появилась Анушик, нежная и ослепительная суреняновская мадонна с папкой вместо младенца. Счастливо улыбаясь, она спорхнула к ним с верхних ступенек института, стеснительно чмокнула мужа в щеку и поздравила Шварца с назначением:
– Теперь мы можем быть спокойны, если порядок охраняют такие, как ты, замечательные ребята.
Да, фольклорный телеграф работал в Ереване безотказно! Острый не только на шпагу, Арамис поддержал жену:
– Да-а-а, теперь ты наша защита. Успехов тебе, майн мент!
Так и пошло. С тех пор он только так его и называл. Но только он один. Уж остальным бы Шварц намял бока.
Через две недели Арамис уехал на сборы в Москву: он уже был членом олимпийской сборной СССР. Хозяйка предстоящих олимпийских игр, страна в ударном темпе готовилась выжать максимум медалей из представившейся советским спортсменам возможности выступить на родной земле – да еще на фоне резко сократившихся участников из других стран. Остальные бойкотировали игры за нашу братскую помощь Афгану в деле умерщвления президента страны и не менее братскую оккупацию ее советскими войсками. Бедолаги афганцы еще не видели оккупации американской, и эта казалась им возмутительной. Конечно, партия и комсомол зазывали, как могли, иностранных спортсменов для удержания игр в рамках легитимности. И западных спортсменов, дерзнувших ослушаться своих олимпийских заговорщиков, принимали как готовых чемпионов. А вот тренеры втихомолку ликовали, и в их числе – добившийся заслуженного карьерного роста тренер сборной фехтовальщиков Армении, талантливый воспитатель спортивного молодняка Товарищ Дима.
Как ни странно, Товарищ Дима благосклонно отнесся к робкой просьбе Арамиса взять Ану-шик с собой, но строго-настрого предупредил:
– Жить будете порознь, а свиданки – не чаще раза в неделю!
И обрадованный Арамис счастливо закивал головой.
Была весна, цвели дрова, и юные супруги всю дорогу до Москвы проспали, обнявшись на сиденьях самолета в горячечных снах о еженедельном уединении. Подаренная физкультурным начальством квартира тогда всё еще строилась, а спальней им по-прежнему служила застекленная веранда многолюдной квартиры.
Арамису предстояло жить и тренироваться со сборной фехтовальщиков в городе-герое Подольске, чьи швейные машинки все еще обшивали всю страну, а фонарные столбы были уже украшены олимпийскими кольцами в ожидании ритуальной эстафеты с огнем. С размещением Анушик дело обстояло посложнее, но кто-то кому-то звякнул, кто-то кому-то крепко пожал свободную руку, и молодую женщину разместили в московском аспирантском общежитии в маленькой комнате на втором этаже. Заселению Анушик сопутствовало исследование наличного контингента, которому Арамис и двое ребят из сборной подвергли аспирантов с дотошностью ученых-микробиологов. Как всегда в подобных случаях, тут же были найдены общие друзья, приятели и даже родственники, и предупрежденные отборными мушкетерами очкарики поклялись не только не приставать к хорошенькой студентке, но и всячески радеть за ее безопасность. В знак доброй воли Арами-су был вручен экспроприированный у белградского аспиранта томик «Крестного отца» на английском языке, и досуг юной супруги впредь был обеспечен обязательством прочитать в оригинале и пересказывать на еженедельных свиданиях на армянском языке евангелие мужской половины человечества.
Анушикина аспирантская комната скорее походила на индивидуальный самодеятельный музей советского жестяного неореализма. Все стены были увешаны потрясающей коллекцией трафаретных табличек, увековечивающих разные периоды развития страны. Среди них было фундаментальное изображение унитаза советской модели с бачком под потолком и призывом экономить питьевую воду. Вот из-за такого бачка бравый морской пехотинец Майкл Корлеоне вынул в ресторане пистолет, чтобы грохнуть Турка и Копа вскоре после Второй мировой, спасшей Америку от великой и всенародной депрессии! Была еще сдвоенная стрелочка-указатель, одним острием извещавшая о направлении к комнате милиции, а другим – к буфету. Инь-янь советского отдыха. Но самая интересная и древняя табличка призывала в случае любых подозрительных явлений незамедлительно обращаться к представителю ОГПУ железнодорожной станции. Вот с кого катали в дальнейшем свою модель борьбы с терроризмом бедные на фантазию американцы! Словом, проживавший здесь до нее аспирант действительно проявлял способности к научному поиску и обобщению.
Пока Арамис тренировался у себя в Подольске, Анушик бродила по музеям и магазинам, выполняла коммерческие наказы подружек и скрупулезно проставляла цены в списках покупок. Потом покупала булочки, кефир и возвращалась в общежитие – читать про итальянские разборки, будто списанные с армян. Зато еженедельно она покупала продукты и принималась готовить мужу обед, фантазируя, что это и есть их дом, и отныне она – полновластная хозяйка квартирки с табличками.
Однажды Арамис приехал вне графика и сообщил, что тренировка отменяется, а на вечер Товарищ Дима пригласил их в ресторан. Это было не что-нибудь, а «Националь» – первоклассное по тем временам интуристовское заведение, что означало дефицитный репертуар западных шлягеров на эстраде, ослепительный для нашего общепита интерьер и ужасную кухню, продукция которой была старательно разложена по белым тарелкам с фирменным вензелем. Навстречу юной паре из-за стола поднялся непохожий на себя развесёлый Товарищ Дима и представил им свою спутницу – старую знакомую из сборной по художественной гимнастике. Лара была родом откуда-то из-под Ростова, но уже лет пятнадцать жила в США и успела похоронить американского мужа.
Диму таким они ещё не видели: он дурачился, острил, произносил цветистые тосты за дам и за старую любовь, которая не ржавеет. Американка Лара рассказывала, как накануне ей здесь же подали обугленный с одной стороны и абсолютно сырой с другой стороны стейк, который находчивый официант выдал за фирменное новшество и тут же окрестил «Бифштекс московский». Особенно смешно она пересказала случай, как безуспешно пыталась заказать на завтрак кусочек масла, но вызванный метрдотель сурово сообщил, что масло у них подается только с икрой. Лара стильно курила тонкие коричневые сигареты, рассказывала байки в лицах, и в сочетании с небольшим американским акцентом, её русский был образен и ярок, а сама она казалась гостьей из благополучного будущего. Ребята чокались шампанским, но пили лимонад, веселились, Dom Perignon и тосты не иссякали, и вечер запомнился Анушик как один из самых счастливых в её жизни.
Это был вообще счастливый год: советская сборная и блеснувший в ней Арамис стали-таки чемпионами Олипийских игр. Он беспрерывно ездил на международные соревнования, откуда возвращался с медалями победителя, а еще – книжками и сумочками для каменевшей на весь период его отсутствия Анушик. А под Новый год Товарищ Дима завершил спланированную ещё летом операцию и устроил дружескую пирушку в своей холостяцкой квартирке. Арамис удивленно озирался на пустые стены и выстроенные в колонну огромные коробки из-под советских макарон с наклеенными тетрадными листами. На них прыгающими Димиными буквами были составлены перечни содержимого. Из всей мебели в комнате стояли одолженные у соседей столы и стулья, жены соседей суетились на кухне, а румяные с мороза друзья носили от дворового мангала вопиющие ароматом шашлыка тяжелые кастрюли и пустые шампуры. Дима сосредоточенно бубнил что-то одному из тренеров фехтовальщиков, тот весело кивал и разводил руками. Заметив Арамиса, подозвал и представил ему нового личного тренера, поскольку сам на следующий день уезжал навсегда в Америку, к законной жене Ларе.
Вот на этой пирушке Арамис и надрался впервые в жизни под осуждающие взгляды и междометия обоих тренеров.
Новый тренер, возможно, был и ненамного хуже Димы, но отношения с ним не задались с самого начала. Да иначе и не могло быть, потому что боготворимый Арамисом с детства Товарищ Дима не подлежал никакой замене. Да и вообще большинство народов мира предпочитает единобожие.
Как важно правильно подбирать библиотеку для КПЗ
1984 г., весна
На очередном вираже судьбы Арамис неожиданно стал кришнаитом. Собственно, поворот он придумал и осуществил самолично в условиях строгой конспирации. Поехал на соревнования в Белград, а там, только и разместившись с командой в гостинице, вышел на минутку подышать перед обедом и прямым ходом направился в Посольство США, где и попросил политического убежища. Письма Димы не жгли карман чемпиона, так как дальновидно были уничтожены после многократного прочтения еще в Ереване. Но расписанные в них прелести жизни спортсменов в Америке и перспектива блеснуть на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, встречно бойкотируемой СССР и соцлагерем, выжгли напрочь те участки сознания и души, что связывают человека с местом рождения и вообще отвечают за оседлость.
Американцы были не лыком шиты, и, опасаясь подвоха, вручили ему билет на поезд Белград – Вена, порекомендовав обратиться с той же просьбой к их сотрудникам в посольстве США в Австрии. Но еще меньше лыка было у советской разведки, засевшей в рядах американского Посольства: Арамиса взяли совсем тепленьким в поезде, отстукивавшем шпалы в направлении его мечты. Потом его долго перевозили авиарейсами по сложному маршруту, конечной станцией которого оказалась подвальная КПЗ Комитета госбезопасности Армении.
Если не считать отсутствия дневного света, кагэбэшные застенки были гораздо комфортнее вульгарно милицейских. Здесь даже была библиотека, откуда обалдевшему от неудачи Арамису досталась идеологическая книжка, искусно опровергающая буддизм и его ипостаси как откровенное лжеучение.
Арамис залег с книгой на койку, как медведь в спячку. Из неё он выбирался только на время каверзных допросов, имевших слабую надежду доказать его причастность к международной империалистической шпионской сети. Но благодаря шквалу звонков руководству КГБ и еще выше по поводу прославленного олимпийца и чемпиона, его всё-таки щадили. Тем более что в период обратного транзита он сильно исхудал и вообще лишился нормативного минимума гемоглобина.
Тут было не до гемоглобина! Болтавшиеся на брелке штанов чемпиона пижонские щипчики для ногтей были применены им совершенно неуместно и по-дилетантски в сортире самолета, после чего вены на руках заштопали еще более неумело прямо в медпункте аэропорта. Искромсанные вены заживали медленно, рваные раны зудели до оскомины, и Арамис день-деньской валялся на тюремной койке, глядя в потолок или читая ехидную критику кришнаизма.
Тем временем самые бесстрашные из друзей и родных осуществляли подвиги гражданского героизма, пытаясь вызволить его из лап Конторы. Даже деверю двоюродной сестры Арамиса, наикрупнейшему хозяйственно – воровскому Еревана по кличке Дыки Норо, потребовалось целых три месяца, чтобы вызволить чемпиона из тюрьмы почти безо всякого суда. Хотя к судилищам можно отнести последовавшее партсобрание в Комитете физкультуры и заседание домового комитета, где натурально возмущенные старые большевики-пенсионеры всыпали ему по первое число. В ходе заседания Арамис индифферентно слушал адресованные ему проповеди и безмятежно улыбался, как на сеансе в кино, чем довел до конечной точки кипения председателя домового комитета, бывшего кремлевского курсанта. И было тому невдомек, что трех месяцев отсидки вполне хватило, чтобы вышел парень на желанную свободу законченным чудиком и убежденным кришнаитом.
О несовместимости пизанской архитектуры с местными условиями
1983 г., лето
Надо сказать, что ко времени выхода из застенков КГБ Арамис был уже женат второй раз, чем побил рекорды не только в спорте. Ему всего-то было 22 года, и товарищи его еще только-только начинали задумываться о женитьбе как о неминуемой, но достаточно далекой перспективе.
Вторая жена была младшей дочкой недавно умершего академика-историка. Но не настолько младшей, чтобы не быть старше Арамиса лет на десять-двенадцать. С ней-то его и застукала в постели руководимая доброжелательными подружками Анушик. Развод с кроткой Анушик, ставшей родной для его семьи, был шоком для всех, и на Арамиса повеяло холодом всеобщего осуждения. Так что возвращаться на отцовскую веранду в предчувствии ядовитых подначиваний братьев, вздохов родителей и укоризны бабули было невмоготу. А больше деваться ему было абсолютно некуда. Хотя бы потому, что в прошлом году на строительстве здания, в котором располагалась гипотетическая дверь с замком для подаренных физкультурным начальством ключей, произошел практически пизанский случай.
Наведавшийся на строительство представитель Госгорнадзора заметил тогда на уровне четвертого этажа определенное отклонение от строгой вертикали. Что и доказал возмущенному прорабу, спустив с верхотуры простейший отвес с гирей на конце, которая каверзно застыла почти в полуметре от стены первого этажа. При этом ехидный надзорный инженер поинтересовался, не бывал ли прораб в последнее время в Пизе. Намек был совершенно неадекватно воспринят не блещущим в географии прорабом, и у них случился небольшой рукопашный бой. Но подоспевший начальник строительства сунул что-то в лапу надзорному эрудиту и обещал по-быстрому справиться с недоразумением.
И на следующий же день, во всесоюзный День бодрого коммунистического субботника, накинул железные тросы на арматуру верхнего этажа и стал командовать перетягиванием канатов в противную от нежелательного отклонения сторону. И дом рухнул прямо на двоих рабочих и самого начальника строительства, спасая его тем самым от обвинений в идеологической диверсии в священный для советских тружеников день бесплатной работы на дядю, который давно лежал себе под кондиционером на главной площади страны.
Так Арамису и не пригодились ключи от рокового Пизанского дома, который долго лежал в руинах, а затем был перепланирован в аккуратный сквер, так как высокое строительное начальство метафизически углядело установочную невезуху в адресе дома: № 13. И так дочка академика уговорила чемпиона переехать к ней, в ее отцовскую квартиру. Он как мушкетёр и вообще человек чести женился. И перебрался к ней нехотя, но с чувством хозяина.
Это был подчёркнуто консервативный дом благополучной номенклатурной семьи со стегаными шерстяными тряпочками сорок пятого размера прямо в коридоре у входной двери. На них, как на лыжах, следовало ухитряться скользить по натертому мастикой паркету до намеченной цели, парковаться, а завершив дела на облюбованном пятачке, продолжать паркетный кросс до следующей цели.
Коридор и кабинет академика были уставлены бесконечными стеллажами книг, а гостиная поражала родственников из провинции ореховыми горками с коллекционными безделушками и разлапистым фикусом у окна. Каждые выходные, а тем более в праздники, за огромным и вкусным овальным столом на парусиновых чехлах стульев восседали балованные домочадцы, скромные родственники и льстивые коллеги и аспиранты. Жена академика, Джульетта Айковна, всю жизнь была занята тем, что день-деньской готовила всевозможную вкуснятину, пичкала ею мужа и детей, а между делом еще со времен войны подкрепляла причастность мужа к исторической науке коллекционированием старинной посуды и фарфоровых статуэток.
Отсюда ушли в заведомо успешную трудовую деятельность трое подросших отпрысков. И только взбалмошная младшая дочка-разводка вернулась отравлять мамаше одинокую старость. Это и была Шушаник Барсегян. На своей Шушенции Арамис женился незадолго до неудавшейся экскурсии в Америку и ознаменовал тогда воцарение в академических палатах диким скандалом по поводу драматического квохтанья тещи над очередной разбитой чашкой. Ритуал упоительного поглощения родниковой воды из-под ереванского водопроводного крана завершался у Арамиса чувственным «Оффф!» и не менее громогласным припечатыванием эмалированной кружки к столу в отцовском доме. В исторических границах покойного академика эмаль еще не вступала в стадию своего промышленного применения, и хрупкий фарфор неизменно откликался на Арамисово «Оффф!» предсмертным треском.
Итогом развернувшейся дискуссии о семейном быте Барсегянов и смысле бытия явился аккуратный шов на месте склейки отныне не подлежавшего использованию сосуда. Следствием – эмиграция тещи в квартиру своей незамужней сестры, старой девы с характером почище, чем у новоявленного зятя, но с уважением к старинным безделушкам.
Большой спорт, на который с самого детства был нацелен отныне невыездной мушкетер, захлопнул для него свои ворота, как неприступная крепость. Неприступная даже для его доблестной шпаги, так как охранялась конторой почище любого гвардейского батальона. Конечно, Арамис пока продолжал, как и все успешные советские спортсмены, получать свою зарплату рабочего высокого разряда на одном из промышленных комбинатов. Однако спорт, как его точно сформулировал олимпийский лозунг, был для Арамиса действительно всем миром, всем содержанием жизни. Но физкультурное начальство отныне предлагало только тренерскую работу в школе, как некогда покалеченному в драке Диме.
После возвращения из трёхмесячного кагэбэшного профилактория в подзабытый академический интерьер Арамис впал в продолжительный ступор аутиста. Многодневные сеансы внутреннего созерцания и безрезультатного поиска нового смысла жизни перемежались припадками ярости в адрес коллекционного фарфора и отстаивавшей его право на жизнь жены. После очередного гейма побития выживших изделий Кузнецова и перенявшей у маман привычку квохтать над их осколками Шушаник последняя заперлась в отцовском кабинете, досыта наревелась и, поглаживая свежие синяки, обзвонила арамисовых ближайших родственников. Так он оказался под дружеским и профессиональным присмотром главного врача ереванской психушки.
Трудности перевода с иностранного на собачий
2003 г., осень
Все-таки Софи была горожанкой. Все эти ржущие, орущие, ревущие, квохтающие и вопящие звери вокруг нее были гораздо крупней, страшней и опасней Усачей и Ниточников, повстречавшихся на ее коротком жизненном пути. И ещё они были по-деревенски абсолютно бесцеремонны. Единственным способом борьбы с их дурными манерами был звонкий лай, прорезавшийся у Софи здесь, в деревне. Но на него начинали нервно отвечать деревенские собаки. А они озвучивали такие угрозы, что Софи приходилось по-быстрому затыкаться и совсем по-деревенски тихонечко ворчать для небольшого самоутверждения.
Ещё более бесцеремонными были хозяйские дети, которые таскали её по деревне, демонстрируя окружению свою собственную собачку из мультика. Они пытались заставить ее стоять на задних лапах, как это делали ее рисованные двойники, вынуждали вертеть головой для лучшего обозрения красивого ошейника и вообще не давали покоя, пока не получали нагоняй от старших.
Софи жалась по вечерам к ногам Давида, тот нежно трепал ее за ухом своими грубыми пальцами и увещевал малышей:
– Вы ее своими деревенскими ласками вконец достали – слышите, как бьется сердечко? У этого сорта и сердечко маленькое, и ножки тоненькие, и даже хвостик худенький, как у поросенка. Сдохнет ведь от ваших ласк. Жалко скотину, пусть сама освоится! В горы я такую королевскую породу взять не могу – не ее это место, а здесь вы щенка загубите, дуралеи. Эх, дети, дети, – вздыхал Давид и ласкал млеющую от его покровительства Софи.
Но следующий день начинался и заканчивался теми же цирковыми представлениями, а то и хуже. Так прошло два месяца. А на третий во двор въехала целая вереница машин, из них высыпали пахнущие городом люди и начался форменный тарарам.
Люди болтали без передыху, рассматривали подворье Давида и облепивших машины, хрумкающих огурцами с хлебом малышей. Городские повторяли одни и те же слова. А в числе наиболее часто встречавшихся Софи уловила farmer[16], family[17], food[18] и foundation[19]. Эти факающие люди шумели, пожимали Давиду руку, улыбались и становились в позы перед парнями с большими коробками на правом глазу. Коробки мигали зелеными и красными огоньками, городские часто хлопали Давида по плечу и еще чаще называли слово help[20]. Когда они заметили Софи, то начались слова на «p»:
– Puppy[21], – умилялись они и строчили словами с тем же начальным звуком, где улавливались pretty[22], poor[23], peasants[24] и price[25].
Напоследок Давид, совсем как Старик, сгреб Софи, потерся мясистым носом о ее прохладный носик и сказал:
– Езжай в город, красавица, не твое здесь место. А отдаю я тебя этим людям только потому, что они богатые и, судя по всему, любят животных. Будешь жить в свое удовольствие, не то что у нас.
И отдал женщине с жилистыми ногами, обувь которой знакомо пахла городским парком.
Победа советской психиатрии
1983 г., осень
Так вот о давнем приключении Арамиса в психушке. Это были райские времена, когда Армения по любому поводу и с любой трибуны хвалилась своей внутрисоветской уникальностью в области алкоголизма, который здесь напрочь отсутствовал. А потому вместо сети нормативных вытрезвителей республиканский Минздрав рачительно вложил бюджетные деньги в строительство одной, но приличной больницы для душевнобольных.
Конечно, контингент больницы сильно разнообразили временные гастролёры из числа крепко загулявших на дешёвом армянском портвейне ребят из северных республик. Но попадали туда и натуральные дурики. А больше всего было в больнице парней, косивших под наполеонов или цезарей во избежание уголовного преследования. И потому крепкие решетки на окнах были предусмотрены не столько для пресечения возможных попыток суицида реальных психбольных, сколько в целях профилактики побегов потенциально осужденных.
– О чем вопрос, Тигран джан, – ослепил Тоникяна улыбкой среди пышных усов и холеной бороды главврач Оник Седракович. – Палаты у нас двухместные, аккуратные. Одеяла из чистой шерсти, питание приличное, персонал квалифицированный. Не хуже, чем в Америке. В Америку хотел, да? – жизнерадостно колыхнул животиком главврач и, не дожидаясь ответа, заключил: – Здесь он у нас и от психической травмы отойдет, и получит свою Америку.
Америка оказалась белой комнатой с двумя приваренными к полу кроватями без единого художественного излишества и такой же парой лавок. На одной из них сидел хилый дурик и молча раскачивался вправо-влево, как китайский болванчик.
– Здравствуй, Рубик, – весело приветствовал его Оник Седракович, сопровождаемый рослой санитаркой с вещами Арамиса и усатой медсестрой со шприцем наизготовку для задницы новичка, – как дела?
Дурик индифферентно продолжал симметричное раскачивание, а главврач доверительно прошептал Арамису:
– Я тебе хорошего соседа подобрал: беспокоить не будет, уже третий месяц молчит. Сын приличных родителей, воспитанный парень, на ионике в ансамбле играет. Подружку свою случайно убил в состоянии аффекта. Видимо, сильно подействовало это на него, вот и молчит с тех пор. Или наоборот: сперва тронулся, а потом незаметно для себя убил. Но ничего, медицина сейчас чудеса творит – мы и его, и тебя вылечим, не беспокойся. Вот какая интеллигентная палата подобралась, да? – хохотнул животиком и бородой Оник Седракович, и тетки в белоснежных халатах дисциплинированно осклабились. – Ладно, ты устраивайся, я еще загляну в вечерний обход, а если что – дай знать: считай, сын товарища Тоникяна, Тигран – наш общий брат, так что проблем с лечением у тебя не будет.
Проблем с лечением и вправду не было. Каждое утро после ритуальных обходов Арамис начинал «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе» и тренированно доводил число повторов до необходимого норматива в тысяча семьсот двадцать восемь раз. Его даже не смущало раскачивание соседа, перпендикулярное его собственному. Разнонаправленным поклонам обоих пациентов мешали, конечно, завтраки, обходы, таблетки, обеды и уколы, но заданный восточным учением жесткий план неизменно выполнялся благодаря железной воле бывшего спортсмена. Так прошло 66 дней. А на 67-й поднялся крик:
– Уберите отсюда этого психа, эс гижа[26], псих ненормальный, – орал как оглашенный молчаливый сосед Арамиса, перемежая русский с армянским, – с ним с ума сойти можно, убери-и-ите!
– Заговорил! – поразилась убиравшаяся в коридоре нянечка.
– Да он говорит! – столпились у окошечка палатной двери обрадованные медсестры.
– Ага, заговорил, – жизнерадостно подытожил Оник Седракович, и на следующий день молчун вернулся в следственный изолятор, а Арамис – домой, как соавтор очередной победы советской психиатрии.
Экстрахерия
1987 г., лето
Когда в человека вселяется бес отлета, границы, препоны, логика и медицина уже бессильны. Стоит ему мысленно выдрать свой заскорузлый корень из родной земли, как любитель путешествий в один конец начинает примеривать на себя гражданство любой закордонной дыры от Мьянмы до Миннесоты. Он с умным видом водит пальцем по долинам и по взгорьям географических атласов и дерзко и мечтательно бросает вызов сам себе: а что? А ничто. Ничто уже не спасет его от хотя бы временной участи недобитого эмигранта. Потому что только в изгнании армянин начинает становиться настоящим патриотом. И это почти непреложная истина, подкрепляемая ксенофобией основного населения избранной им на карте чужой страны.
Но Арамис не был бы Арамисом, если бы назло КГБ не смылился в Испанию в период предсмертных конвульсий обескровленного двенадцатидолларовой нефтью Эсэсэрика. Поехал он в Мадрид по путевке какого-то сомнительного интуристовского кооператива Москвы, специализировавшегося на отправке граждан в один конец, но всучивавшего им двусторонние билеты. Представитель кооператива, московский армянин Лёва, жил когда-то в Ереване и даже на одной с Арамисом улице. Лёва собрал дорогие авиабилеты у кандидатов в эмигранты прямо в Мадридском аэропорту, передоверил обиженников на Советы развязной переводчице невообразимой пышности и резвости и сделал всем ручкой. Переводчица показательно обегала аэровокзал, сверкая из-под шорт детскими складочками на толстых коленках и размахивая мочалками грудей под трикотажной майкой. Вернулась, дополнительно собрала с приунывших авантюристов деньги на автобус и на себя, рассадила их по местам и тоже сделала всем пухлой ручкой. И кандидаты в испанцев в лице русских, армян, украинцев и молдаван подались автобусом в Барселону, чьи футбольные фанаты столь объединяюще орали на трибунах Jugadors! Seguidors! Tots units fem forзav.[27]
Конечно, Барселона была великолепна. Но отщепившимся от родины ребятам было не до достопримечательностей. И Арамис набрал заветный телефончик, сел в такси, расплатился пятидесятидолларовой купюрой, которую был намерен зарабатывать впредь каждый тренерский час, и позвонил в дверь с латунной табличкой. Дверь открыла крашеная шмакодявка в узкой юбочке и проводила в кабинет крупного специалиста по советской эмиграции, дона Хосе Бисенте Рамиро Майя. Развешанные на стенах дипломы и лицензии и почти нормальный русский язык адвоката свидетельствовали о неминуемой удаче Арамисовой авантюры.
Сеньор Майя был величествен, как тореадор, толстые стекла его очков свидетельствовали о том, что он перечитал все на свете своды законов и особенно – касаемо эмиграции, которая по-испански многозначительно называется экстрахерией. Он плотоядно поглядывал на голенькие ножки шмакодявки, давал ей бесконечные поручения, и она челночила по кабинету, наклонялась и вытягивалась, доставая нужные книги и радуя взор лупоглазого торреро.
Из всей биографии Арамиса, включавшей высшее физкультурное образование и олимпийские достижения, сеньору Хосе Бисенте Рамиро Майя больше всего понравился факт его очередной неженатости. Он поручил что-то шмакодявке, которая в очередной заход принесла вкусный кофе с молоком со странным названием «корта-до». Кортадо по-армянски звучало как диагноз: «слепая бабушка». Сеньор адвокат безмятежно, а намылившийся в экстрахеры Арамис – настороженно попивали мелкими глоточками кофе от несчастной бабушки и курили пахнущий свободой «Данхилл». И через двадцать минут, посвященных пленительному злословию в адрес Советов, в кабинете объявилась Регина.
Истории неизвестно, какие грехи и обязательства числились за Региной Вайнер на родине, но она смылась из Израиля точно так же, как Арамис из советской Армении. А это, как сказал им сеньор Майя, был перст Божий. Потом он бодро надиктовал шмакодявке два текста, которые она отстукала на пишущей машинке с такой резвостью, что стало понятно, что голенькие ножки – не единственное преимущество крошечной сеньориты. Адвокат прочитал безукоризненно отстуканные бумажки и предложил их на подпись Арамису и Регине.
Тексты по-испански гласили, а по-русски были озвучены адвокатом, о давней и безграничной любви встретившихся когда-то в Европе Арамиса и Регины и непреодолимом желании влюбленных соединить свои судьбы. Но главной препоной в естественном желании молодых обзавестись семьей и продолжить род с гремучей компиляцией ДНК было нежелание твердолобых родителей Арамиса иметь еврейку-сноху и не менее твердолобая идеосинкразия родителей Регины и израильских властей к зятю-армянину. А потому они просили правительство демократической Испании предоставить им политическое убежище как лицам, подвергавшимся преследованиям по национальному признаку на тоталитарных родинах.
Что было дальше? Был рай в рамках симпатичного концентрационного лагеря международной миссии, где влюбленной на бумаге парочке предоставили настоящую отдельную комнату с телевизором и крошечным сортиром. Душевая была одна на этаж, и мыться там предстояло вперемежку с шумными марокканцами, драчливыми колумбийцами и ошалевшими от предчувствия свободы кубинцами. При этом их трижды в день кормили на халяву, предлагали разнообразить круглосуточный досуг в тренажерном зале, библиотеке и на футбольном поле. С часу до пяти следовало сидеть по своим комнатам и не галдеть, так как это было время священной для каждого испанца сиесты, или по-нашему – дневного безделья, которое тщательно контролировала местная сигуридада, то есть стража.
– Концлагерь так концлагерь, – сказала Регина, – нам не привыкать. Тем более что здесь нет крематория, зато есть стол для пинг-понга.
Можно сказать, это был образцово-показательный концентрационный лагерь с безграничными возможностями для его ограниченного кон тингента. А единственным табу был выход за пределы лагеря в течение трех месяцев, которые и должны были решить участь политических беженцев. Да и зачем было его покидать, если в первые дни Арамис с Региной так глубоко вошли в роль влюбленных, что даже не выходили из своей комнатушки, так как с утра до ночи трахались до потери пульса и состояния полной прострации.
Конечно, это был рай, где в качестве обязательного действующего лица был еще и змей-искуситель, нашептывавший на этот раз не Еве, а Адаму. И шептал он с нарастающей интенсивностью не о плоде познания, уже распробованном Арамисом. Нет, он нашептывал разные разности об ограде лагеря. А границ свободолюбивый мушкетер не терпел.
Словом, к концу второго месяца, когда виртуозно состряпанное прошение господина Майя уже вышло в финал борьбы за получение приза политического убежища у доверчивых испанских властей, Арамис на минуточку вышел за пределы зоны оседлости. И больше не вернулся, так как принялся болтаться по Барселоне и заговаривать почем зря с полицейскими. А натолкнувшись на их возмутительную вежливость, махнул рукой и подался в солидный ресторан, где, сидя за барной стойкой в позе генерал-аншефа накануне решающей битвы, поперемежал сангрию многими стопками джина, лишь разок надкусил хлебец с помидорами, дошел-таки до искомой кондиции и со знанием дела учинил грандиозную заваруху.
Так его во второй раз в жизни бесплатно депортировали на родину, но на этот раз щипчики и прочие инструменты оголтелой молодости он и не думал применять. Арамис счастливо восседал в самолётном кресле с чувством нобелевского лауреата, завершившего серьезный научный эксперимент, где неудачных результатов, как известно, не бывает. И строил новые планы на казавшееся необьятным будущее.
Чем можно заняться, если пьянки надоели 2004 г., осень
Однажды Арамис деловито зашел в мастерскую Верки, где периодически появлялся, как хворающая дистонией шаровая молния. Он попросил у нее кисти и краски, загрунтованный холст на подрамнике, отказался от мольберта, сел за стол и стал чудачить. Верка была занята срочной работой, дергалась от телефонных звонков, и только Арамиса с его новой блажью не хватало на ее занятую голову. Когда он завершил эксперимент по порче дорогих материалов, то стеснительным тоном, который не был характерен для него в последние тридцать лет, спросил:
– Ну как, Арев? Ужасно, да?
Верка посмотрела. Потом отошла и посмотрела, склонив голову набок. Потом, чтобы избежать сюсюканья, двинула его кулаком между лопаток и сказала:
– Арамис, ты самородок. Валяй дальше.
Если попытаться перевести слова скупой на похвалу художницы на фразеологию окружающих его дам, то получилось бы, наверное, следующее:
– Арамис, ты гений! Ты Рембрандт и Дали в одной слегка поистаскавшейся, но все равно сияющей упаковке! Как говорят и о других точках приложения твоих талантов, тебе нет равных!
И Арамис пошел валять. Унаследованная им от Димы Славикова способность устраивать спонтанные скандалы на безмятежном фоне дружеской беседы успела всех достать: многие друзья давно держались на безопасной дистанции от него. Но наиболее терпеливые и выдержанные сохранились. А потому остатки друзей и неизбывные приятельницы всех возрастов, включая ветхих бабулек, с радостью принялись дарить ему краски, кисти, мольберты, палитры, растворитель, картон, холст – что угодно, лишь бы дитя тешилось искусством, а не скандальными попойками с безобразными финалами. Но вход в мастерскую всем был строго запрещен – мало было Верке самого Арамиса!
Иногда Верка подходила, отбирала у него кисть и делала небольшую правку, иногда просто бросала из-за плеча новоявленного художника необходимый совет. Иногда листала вместе с ним альбомы с репродукциями великих, объясняя замысел автора и технику исполнения. Иногда они перекидывались словечками, иногда подолгу болтали, сидя каждый в своем углу над очередными работами. А вообще она притерпелась к нему, как привыкают к прижившейся на входном половичке кошке.
– Ты Анушик после развода встречал? – спросила как-то Верка. Арамис молча помотал головой из стороны в сторону.
– Вспоминаешь Анушик? – рискнула Верка, зная, что тема первой жены у него запретная.
– А кто её не помнит? – удивился Арамис. – Ее невозможно не помнить. Такая нежная, лучезарная, ведомая – и вдруг активист партии, политзаключенная. Мне рассказывали, тюремные надзиратели – они ведь моралью от преступников мало отличаются – и те ее стеснялись.
– Был на похоронах?
– Да нет, я тогда в Америке был, и мне никто не дал знать. Да я бы и не смог приехать. Мы ведь с ней практически одновременно угодили в тюрьму, правда, я – там, в начале девяноста четвертого, она – здесь, в конце того же года, да и по разным статьям. Как-нибудь расскажу.
– Ну ты даешь… – удивилась Верка. – Хотя знаешь, Арамис, ведь Махатма Ганди сказал как-то, что только человек, посидевший в тюрьме, имеет шанс начать путь к совершенству, стать настоящим человеком. И вообще всё, что ты пережил, весь твой казавшийся беспорядочным опыт обязательно проявится в твоем искусстве, обогатит его. Серьезные испытания и переживания – наилучший двигатель и сырье для произведений искусства. Ведь почему большинство художников прослыло как неутомимые бабники? Это они гоняются за новыми женщинами в поисках новых переживаний и новых озарений. А у тебя такого опыта – на целую гильдию художников, а?
Арамис долго что-то прорисовывал на своем холсте, а потом сказал:
– Ты знаешь, Арев, я ведь себе простить не могу, что уехал в Америку, когда нормальные мужчины ринулись оборонять Карабах. Сколько хлюпиков и очкариков пошло, которые и оружия-то в руках никогда не держали! А я, шпажист и олимпийский чемпион, со всеми своими кубками и медалями, повел себя, как последний отщепенец. Я изгадил саму идею спорта. Для чего он еще, если не для защиты своего народа?
Верка смотрела на Арамиса и не знала, как его утешить. Да и зачем его утешать, если человек стал наконец взрослеть в свои сорок с хвостиком? Но подбодрить следовало.
– Главное то, что ты осознал это. А от осознания до исправления – два шага.
– Ты помнишь пловца Шаварша Карапетяна? – не унимался Арамис. – Он тоже был чемпионом мира и как раз проезжал мимо, когда в Ереванском озере затонул троллейбус. Он ведь двадцать человек спас, бесконечно ныряя и поднимая их со дна. Весь изрезался, но продолжал заныривать в троллейбусные окна, вытаскивать людей. Схватил заражение крови, конечно. Еще – пневмонию. И плакал, плакал над вынесенным, но погибшим ребенком! Полгода потом валялся по больничным койкам. Вот это – спортсмен, это – чемпион! А я, – нет мне прощения! У тебя нет сигареты?
– Здрасте, – возмутилась Верка, – мало было на мою голову Шварца с его промышленными объёмами дыма! Ладно, сейчас поищу, где-то в столе должны быть. Кофе хочешь?
– Хочу. Хороший ты товарищ, Арев, – расчувствовался Арамис, – и Шварцу с Тиграном повезло, что дружат с тобой всю жизнь.
– Это мне с ними повезло, – засмеялась Верка, – да меня бы уже сто раз издубасили за мой неуступчивый нрав, если бы они не защищали! А так на Шварца посмотрят – и сразу охота драться пропадает.
– Да, Шварц – это удивительное явление, – покачал головой Арамис.
– Шварц – нормальное явление, – поправила его Верка, шаманя над крошечной электрической плиткой, – он нормальный прирожденный лидер, вожак. А вожаки в природе всегда самые крупные и сильные. Им не нужно выпендриваться, доказывать, что они – самые-самые. Любой посмотрит – и поймет. По большому счету здоровяки, если они не дауны, волей-неволей становятся героями хоть чего-то, да хотя бы народных сказок! Наверное, потому что ощущение собственной силы и пропорционального ей духа для силачей так же естественно, как хороший слух – для музыкально одаренных детей. Ты так не считаешь?
– Ай апри аревд, Арев[28], – поблагодарил Арамис, приняв из ее рук чашечку и сигареты, и Верка рассмеялась.
– Нет, правда, – продолжила она и самой понравившуюся мысль, – ты не замечал, что не только милицейские чины, но и директора промышленных предприятий, начальники строительства – всегда крупные мужики?
– Да как-то не задумывался, – заулыбался наконец и Арамис, – а что, среди начальников не бывает коротышек и хлюпиков?
– Только в госструктурах и в банковской системе, – безапелляционно выдала Верка, – но там как раз нужны не чисто мужские качества, а помесь мужских с женскими! Всякие хитрости, подковерные игры, закулисные интриги… Вот когда в вожаки чисто мужских сфер пролезают слабаки со всеми их комплексами это беда! Начинаются великие походы Александра Македонского, революции Наполеона и Ленина… Это уже я тебе как историк говорю.
– Ну, тогда ты мне как историк объясни, как же это случилось, что высокий и осанистый парень, которого мы выбрали первым президентом, так подвёл наш народ? – насупился Арамис, неумело выдувая клочья дыма.
– Здрасте. Так он же с детства одноглазый. А Дизраэли – хромой. А юный Буш в развитии сильно отставал от одноклассников. Дразнили небось. Такие в человеконенавистничестве и государственных интригах еще похлеще, чем хлюпики. Фу, как Шварц эту гадость курит, – возмутилась она напоследок и потушила сигарету. – Это меня Марго подучила: я, говорит, у него таскаю из пачки сигареты, а он думает, что норму перекурил, и останавливается. Здорово, да? Жена и лучшие друзья воруют у полицейского чина его собственные сигареты, а ему и невдомёк.
– Ну, может человек отменять боевую готовность хотя бы среди близких? – реабилитировал Шварца Арамис. – А ты знаешь, мне в детстве и потом, когда уже взрослым стал, ужасно интересно было подраться с ним, померяться силой. Как ты думаешь, почему?
– Наверное, как истинный мушкетер, ты тогда уже почувствовал в нем гвардейца, – засмеялась Верка.
– А как ты думаешь, – не унимался Арамис, делая аккуратные глоточки, – как мне заслужить хотя бы собственное прощение в связи с Карабахом?
– Здрасте, – удивилась Верка, – как еще сейчас-то, в мирное время? Да хотя бы постарайся помочь сиротам погибших добровольцев, вообще сиротам – у самого-то детей до сих пор нету, лентяй ты наш олимпийский.
– Ты мои детские фотографии видела? – спросил вдруг Арамис.
«Ну, Нарцисс», – подумала Верка и отрицательно замотала головой.
– Ну-ка посмотри – ничего, да?
На фотографии из бумажника двухлетний малышок в трусиках и панамке поверх светлых кудряшек сидел на корточках в песочнице и весело улыбался, повернув голову в кадр, как заправская кинозвезда.
– Ой ти Бози мой, – засюсюкала Верка, – ну как был красавчиком, так и остался. Ты практически не изменился, Арамис!
– Это Карина, дочка Ануш, – тихо сказал Арамис.
Чего можно ждать от дня на букву S
2004 г., осень
Жилистые Ноги без устали ходили только в парке. По вечерам в красивом и безлюдном доме они торчали на столе среди бумаг, которые ни в коем случае нельзя было трепать и даже нюхать. Об этом Софи дали знать способом, известным еще со времен Толстых Ног. В той же комнате стоял ящик, который здесь показывал не мультяшки, а скучных людей. Люди опять говорили слова на букву p, но это уже были совсем другие слова: peace[29], poverty[30], property[31], petroleum[32], partnership[33]и plot[34]. Странная была азбука у этого языка!
Вскоре после переезда в город наступил день v: пришел veterinarian[35], провел verifcation[36] Софи, сделал ей страшную, но не болезненную vaccination[37], а в маленькой книжечке пропечатал validation[38]. И все это, как сказала хозяйка, было very well done[39].
Софи давно перестала есть косточки и корки, а ежедневно хрустела шариками с мясным привкусом. Жилистые Ноги приносили их в огромных звонких пакетах и до самых краев наполняли аккуратную обеденную миску.
С определенной ритмичностью наступал день s, когда приходили Серые Ноги, и от них пахло кобелем. День назывался «Sunday»[40], и в этот день гость и хозяйка плескались в дворовом swimming-pool[41], а Софи носилась по бордюру и весело лаяла. Потом они пили Scotch[42], ели sandwiches[43], и Софи перепадали вкусные хрящики от salmon[44]. Но вслед за этим они обязательно делали sex, и это очень беспокоило Софи. Потому что при этом Жилистые Ноги поднимали такой шум и испускали такие вопли, что Софи грудью и передними лапами бросалась на запертую дверь комнаты, где мучили хозяйку, и громко выла, не в силах ей помочь.
Так прошло чуть больше года. Вслед за одним из беспокойных дней на букву s, когда бессердечные Серые Ноги особенно сильно пытали хозяйку, а Софи выла от безысходности под дверью спальни, как заправский волк, она запачкала белую кожу обивки дивана. На этой мягкой и нежной обивке любили валяться Жилистые Ноги, и обеспокоенная Софи внимательно принюхалась к своему хвостику: там пахло чем-то новым. Софи вылизала под хвостиком и пятно на обивке и снова уселась на диван. И снова его запачкала. Вечером Жилистые Ноги вернулись домой, вывели Софи во двор и посадили на поводок. Софи долго и обиженно скулила, а потом смирилась и заснула. Всё-таки, с этой хозяйкой ей повезло, и одну теплую осеннюю ночь можно было перетерпеть и во дворе.
Утром пришел «veterinarian»[45], но это был совсем не день «v», а нечто гораздо худшее и вообще запутанное, потому что Софи забрали в белое помещение с белым светом под потолком, надели намордник, а дальше она ничего не помнила. Но когда она стала уже приходить в себя, то среди первых слов в разговоре Жилистых Ног с Ветеринаром, уловила «sterilization»[46], который, как похвастался Ветеринар, тоже был «very well done»[47].
Жизнь после этого потекла какая-то скучная, хотя по-прежнему благополучная. В назначенное время Софи съедала свои мясные конфеты, потом лениво ложилась на ковер и дремала до самого прихода Жилистых Ног. Потом они гуляли по парку, но ароматы вечерних новостей уже не радовали Софи. Вскоре Жилистые Ноги уехали в дальнюю командировку, и Софи перевели в просторную дворовую клетку, которую специально для нее целый день мастерили люди с шумным голубым огнем на трубке. В глубине клетки была конура, и маленькая Софи зажила в ней, как большой тигр в зоопарке.
Как-то, когда садовник принялся в очередной раз чистить клетку Софи, она лениво вышла посидеть у калитки особняка и внезапно почувствовала знакомый запах. Софи замерла, а потом опрометью бросилась на этот волнующий аромат. На одном дыхании она пробежала несколько кварталов, спустилась по пригорку мимо огромной бронзовой копии лысого Давида на его ржущем исполине, выбежала на мостовую, побежала по ней наискосок, чтобы срезать путь, и лишь в последний момент заметила, что на нее надвигается огромная черная машина.
Шоколадные конфеты как метод диагностики
2004 г., осень
Свой страшный, жалобный и протяжный вой она услышала словно со стороны. Ужасная сила накатила на нее, ударила и отбросила на край мостовой, и Софи завыла в уверенности, что не перенесет этой боли. И вообще сдохнет прямо сейчас, посреди этого красивого проспекта, на самом дебюте своей маленькой собачьей жизни, которая занялась буквально в двух шагах отсюда, в тихом и тенистом парке через дорогу.
Софи сама доползла до кромки тротуара и закрыла глаза: вот так оно и бывает, оказывается. Так собаки и подыхают.
– Что такое? Что случилось? – кричали люди посреди визга тормозов и уличной неразберихи.
И им спокойно отвечали:
– Да ничего, собаку сбило машиной. Выскочила с той стороны, из-за памятника маршалу Баграмяну.
Конечно, ничего не случилось. Просто была беленькая красавица-Софи, мамина принцесса, которая за свой короткий щенячий век успела пожить в темном подвале и в светлом доме, в низенькой мансарде и в горной деревне, понежиться в роскошной вилле и коротать дни и ночи в тигриной клетке. Вроде бы все она успела за свою коротенькую жизнь, но жить все равно ужасно хотелось, потому что, как в мультяшках про рисованных собачек, было интересно: а что будет потом?
– Ах ты, дурашка-далмашка, что же ты наперерез машинам, а? Как же это они тебя? Ну-ка, посмотрим, живая ты или нет? – и под носом у Софи оказалась самая настоящая шоколадная конфета, из тех, что давал ей иногда Поскребыш, несмотря на протесты Толстых Ног. Ну уж не настолько она умирала, чтобы отказаться от такой вкуснотищи! Софи взяла конфету, смачно распробовала, проглотила, открыла глаза и увидела Добряка. Ага, так он никуда не исчез, а все еще ходит в окрестностях парка!
– Ну вот, видишь, совсем живая! – рассмеялся Добряк и скомандовал столпившимся вокруг мальчишкам:
– Давайте, братцы, осторожно перенесем ее в подвал от греха подальше. Я как раз дверь открыл там проветрить. Может, и вправду отойдет. Неспроста ведь люди говорят: одна рана собаку не угробит. Отойдет.
И она отошла. Постепенно, день за днем, ее тельце вновь наполнялось силой, перебитая задняя лапа усыхала, но болела все меньше, и Софи уже вполне прилично могла передвигаться на оставшихся трех. Уродство было заметно только при тихом ходе, когда нужно было переступать всеми четырьмя лапами. А вот если Софи бежала, то запросто могла обмануть несведущего наблюдателя, держа покалеченную лапу на весу. Что она зачастую и проделывала, прицениваясь к очередному потенциальному хозяину. Но энтузиастов на ее приватизацию больше не было. Что-то люди совсем изменились. Точнее, они изменились в отношении Софи, так как стали относиться к ней с определенной гадливостью. Как если бы ее увечье было противной и заразной болезнью.
Единственным почти постоянным хозяином был непутевый Добряк. Он то появлялся, то надолго исчезал. То от него приятно пахло пиджаками людей, говоривших одинаковыми буквами, то чем-то противным, напоминающим их «скотч» и «вэксинэйшн». Но он и вправду был добряком. Вначале, в самые тяжелые дни, он приносил ей густое варево, вкусно пахнувшее коровьими косточками, и уговаривал:
– Ешь, красавица, ешь хаш – и все до свадьбы заживет, – и добродушно улыбался: – Вот какая ты у нас мужественная собачка, пьешь, закусываешь, только тосты не говоришь. Ничего, не горюй, все до свадьбы заживет.
Так оно и случилось.
Часть 3 Карьера выпускницы
Прок от уроков
1995 г., лето
Свобода пахла помидорами. Их можно было купить с лотка прямо на улице, подставить под пульсирующую струю уличного фонтанчика и здесь же начать въедаться в теплую сладкую мякоть, высасывая сок и стараясь не капнуть на блузку. Можно было спокойно пошататься по городу, никуда не спеша и не боясь грозного окрика. Это была СВО-БО-ДА! Целых четыре месяца в СИЗО, осуждение по статье «мошенничество» за неожиданно всплывший случай клиента-лоха, которого она кинула когда-то на триста баксов, и три месяца в колонии. А теперь – СВО-БО-ДА!
Анаид прошлась мимо зеркальной витрины магазина. А что? Очень даже неплохо она выглядит с отросшими волосами. Ну-ка, как проводила Ануш по лбу, откидывая назад волосы? Очень даже похоже! А как она прикрывала глаза, кладя большой и указательный пальцы на свои высокие брови? Ух ты, похоже! Как она улыбалась, вздернув носик и распахнув пухлые губы? А что! У меня даже красивей, потому что глазищи как блюдца, она сама говорила.
Рядом в зеркале стали корчить рожи и смеяться нахальные пацанята, и незнакомые бабушки прогнали их:
– Что пристали к девочке? Пусть смотрится, пока красивая: не нам же на себя глядеть.
Ано отошла от витрины.
– Ничего себе! Ведь бабки первыми раньше гоняли меня и кривили свои съежившиеся губы, первыми по наитию определяли мою профпринадлежность! Так это что получается? Я всего-то за полгода сменила для дураков оперение? Ай да Ануш с ее уроками! – подумала Ано.
С Ануш ей, конечно, повезло. Да и тем курицам из Английской палаты – тоже. Но если они, слюнтяйки, принялись мечтать об окончании школы, поступлении в институт и карьере учительницы, чтобы вот так, как Ануш, учить английскому, то Ано твердо знала, зачем ей эти знания. И главное сейчас было найти проход в зону, где зыркают, как стрижи в ненастье, заграничные клиенты-командировочные. Со всеми их денежками, припасенными для шлюх подарочками и фирменными презервативами. И вот она – я, Miss Ida, прямо с учебной скамьи Английской палаты и собезьяненными у «политической» манерами: How do you do?[48] – Indz shat pedkes du![49]
Но где бы пока перекантоваться? Эта жаба Роза общежитие прикрыла, квартиру продала со всем барахлом, чтобы откупиться от судей, и девчонки разбрелись кто куда. Хорошо бы найти прыткую Светку с ее физкультурным дипломом. Уж она-то на свободе не растеряется! Вот он, номерок-то, на бумажке с уроком английского! Ано подошла к уличному таксофону, набрала номер.
– Какая Света? – удивилась женщина на том конце провода. – Никакой Светы у нас отродясь не было, а мы здесь двадцать лет живем. Да, ты правильно набрала номер, доченька, но номер тебе дали неверный.
– Ну, Светка, ну, блядь фигуристая, – возмутилась мысленно Ано, – я так и чувствовала, что неправильный номер даст. На прощание клевала девчонок в щеку и делала вид, что не слышит мою просьбу оставить телефончик. Ну, блядь… Куда ж податься? Не к матери же в деревню! Надо сходить в кафешку, где пропадала, когда заработала в роддоме свои первые приличные деньги, – авось попадется кто-нибудь из старых знакомых.
Великая сила О’Генри
1995 г., лето
В кафе было пусто. Здесь бродил незнакомый официант и две толстозадые, с виду деревенские тетки сидели за столиком и что-то высчитывали в столбик на листке из тетради. Учительницы? Вряд ли. Ано уселась за соседний столик, заказала себе кофе и навострила уши. Тетки считали явно не учеников, а деньги. Притом – большие. На руках у Ано было всего-то пять одинаковых тысячедрамовых банкнот[50]с портретом классика армянской поэзии, но стоило рискнуть.
– Это не ваши деньги упали? – спросила она, грациозно подняв ассигнацию с пола.
Тетки всполошились, обеспокоенно проверили замки на сумочках и заулыбались:
– Нет, доченька, не наши.
– Наверное, кто-то из прежних посетителей потерял, – сокрушенно сказала Ано, – бедные люди! Я официанту отдам, вдруг они хватятся и вернутся.
– Ага, отдаст он им, как же, – поджала губы тетка, что постарше. – Ты лучше себе оставь и поешь чего-нибудь: вон ты какая худенькая, а только кофе пьешь.
– Ничего, – рассмеялась Ано и поправила волосы, совсем как Ануш, – у нас сейчас уже каникулы в институте. Вот устроюсь на лето работать, начну зарабатывать и смогу нормально питаться.
– А что, родители не кормят? – спросила тетка.
– Нет у меня родителей, погибли. Я ведь из Спитака. Всех унесло землетрясение.
– Господи Боже мой, спаси и сохрани, спаси и сохрани, – расстроились тетки, – и родственников не осталось?
– Какие сейчас родственники? – горько улыбнулась Ано и положила пальцы на брови опробованным у витрины методом.
– Ц-ц-ц, – закачали головами тетки, и та, что постарше, сказала:
– А и вправду, не люди сейчас, а чистые звери…
– Да зверей жалко с людьми сравнивать, – откликнулась та, что помоложе, – те хоть детенышей своего рода-племени признают, кормят их. Что стало с людьми, а? Что стало? Чтоб сдох твой хозяин, Горбачев, что ж ты ту красавицу страну разрушил? Жили себе люди, не тужили, старший о младшем заботился, младший старшего уважал…
– А ты где учишься, доченька? – спросила та, что постарше.
– В институте иностранных языков, буду переводчиком английского, – скромно улыбнулась Ано. – Хочу на лето устроиться переводчиком в хорошую турфирму, чтобы дотянуть до окончания. Был, знаете, великий американский писатель, О’Генри. Он говорил: «Приехавший из деревни в город человек – красная краска на игрушке, а город – юный безобразник, который съедает эту краску, и ему хоть бы что». Вот так и я: если не буду трудиться, город меня вмиг съест.
– Ты посмотри, какая начитанная-образованная девочка, – переглянулись женщины. – А ты где живешь?
– Я у бабушки одной угол снимаю забесплатно: ухаживаю за ней, покупки делаю, стирку-глажку, книжки ей читаю. Ей сын деньги присылает из-за границы, вот мы на них дрова покупаем, и я всю зиму пилю их, и мы греемся. Иначе мы давно замерзли бы с холода…
Тут Ано, проследив взгляд тетки, вперившийся в ее руки, не знавшие не то что пилы, но и кухонного ножа, поняла, что ее занесло, и горько усмехнулась:
– Еле мозоли вывела после зимы: мне однокурсница заграничное лекарство принесла. Так что всё у меня пока хорошо, – Ано грустно улыбнулась, – но на книги много денег уходит, сами понимаете. Я уж о новой одежде и забыла.
Тетки зашептались между собой.
– А ты правда по-английски свободно говоришь? Про всё-про всё? Как этот писатель Овгенри?
– Ну конечно, – скромно улыбнулась Ано, – это же моя специальность.
– А сможешь нам переводить в Турции, если мы тебя с собой возьмем? Мы ведь впервые едем туда, за товаром. А языков никаких не знаем. Будешь нам вместо переводчика, а смотреть за тобой будем, как за дочкой. И кормить будем хорошо, и одежды-белья, какое нужно, купим: там ведь все втрое дешевле, чем здесь. И денег немного дадим, – сделала деловое предложение та, что постарше.
– Ну да, – раскрыла карты ее бесхитростная товарка: – и перед Богом доброе дело совершим, сироту пригрев, и будем знать, что нас не обманывает местный переводчик-турок, как нас знакомые коммерсанты предупреждали. И товара беспошлинного больше провезем. У нас автобус послезавтра уходит, у тебя паспорт в порядке, при себе?
«Уже да», – подумала Ано, достала его из сумочки и сказала:
– Да вот же он!
– Красивое у тебя имя, Анаид джан. А меня зовут Рипсимэ, – сказала, заглянув в паспорт, та, что постарше, – А это моя младшая сестра, Гаянэ. Это нас родители в честь великомучениц назвали – папа с мамой до сих пор как раз на полпути между храмами Рипсимэ и Гаянэ живут, в Эчмиадзине. Да и мы со своими семьями недалеко.
Ано молча сидела, прикрыв глаза ладошкой, большой палец которой проверенно упирался в правую бровь, а указательный – в левую. Потом она резко опустила руку, и растроганные торговки увидели крупную слезу, катящуюся по девичьей щеке.
– А вы и вправду святые, – сказала Ано. – Какие же вы добрые женщины! Мои покойные родители видят все это с небес, и вам это обязательно зачтется.
Бог видит вершину – снег кладет
1990 г., лето
Деда своего Ано любила, но стереглась. Сидит вроде отрешенно в тени старого абрикосового дерева напротив ульев, не замечает, как она давит каблуком сандалей присевшую на землю пчелу. А потом взглянет не по-старчески пронзительно огромными глазищами и скажет:
– Разве ты ей жизнь дала, что теперь отнимаешь? О-о-оф, гитем воч, ай ворди, кезниц инч кли[51].
Ано и сама не знала. Но мечтала. Когда летом наезжали дачники – ереванские и тбилисские фифочки со своими отпрысками-воображалами, Ано мысленно примеривала на себя их наряды. И примеривала их жизни, которыми те хвастали. А они смотрели свысока, смеялись над ее выговором, и мамы говорили друг дружке:
– Ну и красивые они здесь! Ты посмотри, Ида, какая у них кожа, какие глаза, какие брови.
– Это все от воздуха, Эля. Подышали бы мы им с детства, еще и не такими стали бы, да? А так у нас не кожа, а облицовка из тяжелых металлов. Да кому нужна здесь эта их красота? Коровам?
Ано обидчиво опускала глазищи долу и думала:
– А и вправду кому? Да с таким заезженным именем и вправду только коровам и можно представляться… И имена – Боже, какие же у них красивые имена – как в кино! Ну почему ее олухи-родители не догадались назвать ее так – Элей? Или Идой? Ведь это всего лишь вторая половинка ее имени? Деревенские простофили – вот кто ее родители. И эгоисты, раз не озаботились хотя бы придумать своему ребенку красивое имя.
Когда Ано по примеру дачников нарвала в поле цветов и принесла домой букет, дед удивился:
– Ты зачем траву в дом несешь, а не в хлев?
– Это не трава, а цветы, – ответила Ано свысока и продефилировала в гостиную – поставить в кувшин.
– Это были цветы, пока они росли себе у себя на лугу, – зарокотал не поленившийся прийти вслед за ней дед, – теперь это просто трава. Вода в вазе почувствует смерть и через два дня завоняет. А еще через пять, сколько воду ни меняй, ты и сама заметишь эту смерть. Это уже не цветы. Срок у них – семь дней, запомни.
Из-за неплотно пригнанной портьеры в комнату залетела пчела. Зажужжала вертоллтом по всем углам, опустилась на плохо вытертую клеенку стола, принялась за работу.
– Вот, видишь? Пчела-то брезгует цветочной мертвечиной! – обрадовался подсказке дед. – А ведь в поле не пропустила бы! Иди, иди, моя красавица, – обратившись уже к пчеле, сказал: – Нечего тебе тут делать, лети к себе!
И, ловко поддев газетой, выпустил в окно.
Пасека деда была – курам насмех. Шесть ульев, которые раз в три-четыре года пустели из-за дустовых налетов сельскохозяйственной авиации. Но дед целеустремленно заводил новые пчелиные семьи, утеплял домики изнутри шерстяным тряпьем, подкармливал пчелиный народ сахаром. Когда наступали первые тёплые денёчки, перетаскивал, кряхтя, свою пчелиную деревеньку в сад и возился с ее населением, как с родными детками. А в жаркое лето и вовсе увозил в горы, как в пионерлагерь.
Помогал деду инвалид Амбо, что лишился ноги в армии на учениях, под гусеницей бронемашины. Детей было у Амбо семеро, все шустрые, работящие, незлобивые, и дед любовался на их семейную слаженность. И подначивал отца Ано:
– Вон, Амбо с одной-то ногой семерых сыновей настрочил, а ты при целых двух – только одну дочку.
– Ногами бы детей делали – у коров бы по четыре теленка рождалось, – вяло отругивался отец, – у самого-то зачем всего трое?
– Э, Бог видит горную вершину – снег кладет. Узрел, видимо, Господь родительский талант Амбо, вот и наградил. А я, значит, не заслужил: предгорье я, а не вершина. А ты и вовсе низменность… О-о-оф, гитем воч[52]… Жалко такое семя терять: и бойцы были хорошие у нас в роду, и певцы, и купцы. Если бы не племянники мои, кончился бы род Мардукянов. Храни их Бог, охт вордов сехан нстен[53].
Отец умер тихо, когда Ано ходила в шестой класс и на неё уже заглядывались деревенские парни. Пошел на работу в сельсовет, а оттуда через пару часов заявилась делегация с пасмурными лицами и, начав издалека, сообщила о его смерти от инсульта. Уж мать устроила представление с обмороками, костенеющими руками! А когда после всех хлопот, связанных с похоронами, поминками, седьмым днем поминовения и сороковинами, остались одни, без свидетелей, принялась его поносить, недотепу, что, будучи совхозным бухгалтером, ни копейки заначки не оставил. Дед попытался урезонить, Ано встала на сторону матери, и дед сплюнул:
– У мула спросили: «Кто твой отец?» Он ответил: «Моя мать – лошадь».
Дед умер незаметно всего-то через несколько месяцев. Сидел под своим абрикосовым деревом, читал газету, да так в очках и замер на скамейке. Тетки учительствовали в райцентре. Приехали, поголосили на похоронах и по отцу, и по недавно утерянному брату, утирали слезы из-под очков. Ано равнодушно смотрела на них, таких похожих на нее, но грудастых, толстых и уродливо одетых в траур, и думала:
– Неужели и я стану такой? Ну уж нет, спаси-бочки.
Не садитесь в тенек!
1995 г., лето
Это было не оформление таможенных деклараций, а праздник! На буфетной стойке были выстроены бутылки с фантой и колой, и платить за них нужно было такие смешные деньги, что у торговок и мелочи-то такой не было в валюте. Пока они тряслись в автобусе по жарким дорогам Армении и Грузии, все успели наесться хлеба с соленым сыром и терпкой зеленью, так что пить хотелось нестерпимо. И вот нате вам – шипучий рай не отходя от кассы таможни, где следует оплатить визу на въезд в Турцию. Рипсимэ прикупила в дорогу еще и три большие пластиковые бутыли с ядовито-оранжевым пойлом.
– Эфенди[54], – послышался звонкий голос Риммы, руководительницы группы, – женщины спрашивают, а где у вас тут туалет?
– Йок[55], – осклабился служащий таможни, – вот как выедете, через десять минут ходу как раз будет туалет для армянских ханум[56].
– Вот это да, – подумала Ано, успевшая в темпе выдуть поллитровую бутылку, – да они совсем дебилы! Буфет-то построить позаботились, а того, что нужно после него, – нету! Ну, дебилы…
Ехали уже час или больше. Римма сидела на переднем сиденье автобуса и, обернувшись назад и опершись лицом о подголовок, трепалась с Рипсимэ:
– А вас двое только, что ли? Братьев нет?
– Как нет? – возмутилась Рипсимэ, словно отсутствие брата было бы генетическим изъяном. – Еще какой брат у нас есть: умру за него! Он у нас военный, командир взвода.
– Что это за брат такой, что сестрам приходится в автобусе по ухабам через три границы за товаром мотаться? Сам, небось, лопатой гребет у себя в части, зарплата – миллионы, – подначивала Римма.
– Да какие там миллионы – избави Бог, – махнула рукой Рипсимэ, – еле на дом и образование детей хватает. Он ведь с родителями нашими живет, за ними хорошо смотрит. Еще и мы с сестрой помогаем. Нам-то с сестрой Бог детей не дал, так он за всех нас отстрелялся: четверо их у него, все девочки, одна другой лучше, отличницы. А он еще и сына хочет…
– А говорят, в армии офицеры как сыр в масле катаются, – не унималась Римма.
– Вот кто совесть потерял, тот и катается. – отрезала Гаянэ, – А для нашего Нвера честь важнее хлеба.
Автобус ехал дальше, вглубь страны, а туалета было не видать.
– Вай, мама джан, это ж так опозориться можно, – шептались торговки.
– Эй, Римма, – взорвалась одна из сидящих сзади, обращаясь к руководительнице группы, – да втолкуй этому шоферюге, что, если не найдет для нас нужник, сам же потом и будет отмывать свой автобус.
Римма пошепталась с водителем, и через десять минут он свернул к возвышавшейся среди пустоши каменной стене с узким козырьком на двухметровой высоте.
– Ладно уж, – засмеялась Римма, – раз так невтерпеж, зайдите за стеночку, а я пока разговорю турка, чтобы не подглядывал.
Торговки заспешили из автобуса, как малыши на экскурсии.
– Дебилы – они и есть дебилы, – думала Ано, присев на корточках в тенечке стены. – Это ведь не развалины какие, а аккуратная оштукатуренная стеночка с козырьком. Но без потуг на три остальные стены и крышу.
– Бесхитростный они народ, – смеялась Рипсимэ с ее коммерческой жилкой, – могли бы вместо длиннющей стены один маленький платный туалет сварганить – и качали бы денежки с армянского говна. Им не впервой…
Почем трусы-мерседесы?
1995 г., лето
Открывшийся торговкам Стамбул оказался огромным, богатым и дешевым многопрофильным рынком, единственным изъяном которого были три границы по дороге из Еревана. Золотые ряды слепили глаза, генерировали фантазии, и сердечко Ано билось быстро-быстро. А магазины одежды! Черт их, турок, подери – это ж какая прорва одежды была напялена на вереницы манекенов! Масляные глазки прохожих мужчин и продавцов больше задерживались на толстых задницах Рипсимэ и Гаянэ, чем на тоненькой фигурке их персональной переводчицы, и женщины стеснительно прыскали в прикрывающие рты ладошки.
Тонкий вкус оказался у владельца магазина женского белья. Он сразу оценил достоинства переводчицы. Восхищенно приподнимал брови, когда она прикладывала товар поверх одежды, громко причмокивал губами, щелкал языком, сиял острыми глазками и длинными желтыми зубами: «Sana yakişti, ay guzelзe kiz!»[57]
– Ты мне брось пялиться на девочку, бессовестный, – смеялись торговки, – ты лучше нам хорошую цену назови на товар. Чтобы мы по паре сотен и таких, в цветочек, и гладеньких всех цветов, и с кружавчиками по краю, и этих, на знак мерседеса похожих, и длинных полурейтузов у тебя взяли, и маечек без рукавов.
Ано хотелось всего, что было выложено на полках. Она бодро переводила цифры, тыкая пальцем в дешевый товар, заглядывалась на дорогой, опускала неизвестные ей в английском подробности дизайна. Да торговец и сам не был профессором английского, зато был хорошим психологом.
– Seventy cent this, eighty cent that, one dollar this[58]… – принялся он тыкать в товар в свою очередь, и Ано застрочила цифрами, как заправская переводчица.
– Да ты побойся своего турецкого бога, – возмутились торговки, еще в Ереване прошедшие все круги маркетинга, – что это за цены ты нам называешь? Парижские? За сраные турецкие трусы? Да тут у тебя ничего дороже двадцати центов и в помине нет!
– O’key, – осклабился турок, как бы случайно задевая хваткой рукой грудь и живот переводчицы, – sixty ёve cent this, seventy ёve cent this, ninety ёve cent this[59].
– Ну не жлоб? Пошли, девочки отсюда, – возмутилась решительная Рипсимэ.
– Madam – very good madam![60] – одобрительно выставил вверх большой палец торговец и примирительно удержал ее за руку, – don’t worry, be happy, а? Forty ё ve cent this, ё fty ёve this, seventy ёve this…
– Иди к черту, – засмеялась Рипсимэ, – ты, Ано, переведи оглоеду, что если хочет действительно уступить, то мы завтра вернемся, а нет – так и не будем на него тратить время!
– Sabahtan yarin varish[61], – попробовала себя в турецком способная Ано, – but we need good priсes[62].
– O’key, – осклабился турок, – Ermen kiz – very good targuman[63], – вы ей только список дайте, а я очень хорошую уступку сделаю и товар упакую.
– Ты мне смотри, – погрозила ему пальцем Рипсимэ, – чтоб никаких бесчинств в адрес девочки. А то своими руками тебе гляделки выцарапаю. Переведи, Ано.
– Да ты с ума сошла, Рипсик! Чтоб молодую девочку – и одну отправить к этому турецкому блядуну? Да пусть подавится своими трусами! – возмутилась Гаянэ и решительно обернулась к торговцу: – Называй сейчас последнюю цену. Не султан, небось, чтоб мы к тебе каждый день сюда перлись и гонцов посылали.
– O’key, madam, о’key, – просительно сложил ладони турок, – don't worry!
И назвал наконец низкие цены.
Мертвые цветы
1994 г., лето
Впервые Ано увидела деда во сне, когда лежала в роддоме, накануне выписки.
– Ну, что ты обменяла на мертвые цветы, Ано?
– спросил дед, не поднимая головы и вгоняя дым из фуксы в пчелиный домик без крыши.
Наверное, сон был про лето. Дед стоял, расставив ноги в армейских сапогах, в которые были заправлены брюки-галифе, лицо скрывала сетка, на голове городская шляпа, а руки в шерстяных перчатках осторожно приподнимали рамки с пчелиным воском и укладывали обратно. Рамки светились на солнце янтарем свежего млда, обалдевшие от дыма пчелы растерянно ползали по своему изъятому богатству, а дед продолжал:
– Ну что, Ано, сбылась твоя мечта? В городе живешь как-никак… В кино, в театр ходишь? Гжин таран арсаник[64], а? Так что ты променяла на мёртвые цветы? А, Ано? – и больно ткнул рамкой в плечо.
Ано проснулась злая. Над ней стояла больничная медсестра со спеленутым, как толма, младенцем на руках и тыкала в плечо:
– Ано, а, Ано? Ты кормить-то ребенка не собираешься напоследок?
Ано села в постели, и все в палате насторожились: уж как ни заняты были роженицы воркотней над своими причмокивающими красномордиками, а такое пропустить было нельзя! Ано спустила с плеча подаренную покупателями дорогую ночнушку, равнодушно взяла ребенка в руки, приложила к груди. Тот жадно раскрыл пухлый ротик, пораззевал его во все стороны, нашел сосок, цепко схватил и заурчал, как щенок их дворовой собаки. Ано уставилась в окно: ее научили, что нельзя наблюдать за ним, сосущим твое молоко. Иначе трудно будет расстаться. Глаза суровой медсестры наполнились слезами, она молча отвернулась к аудитории обомлевших мам и развела руками. Те в ответ дружно захлюпали носами.
– Идите к черту, – думала Ано с каменным лицом, – еще не хватало реветь тут с вами, курицы-наседки…
За окном роддома разворачивался яркий день ереванского лета. Внизу покрикивали, вызывая к окну жен, счастливые папаши, им вторила радостная родня, и роженицы ковыляли с младенцами в руках к окну, выставляя для демонстрации свое счастливое обретение. Ано сидела, кормила напоследок сына, смотрела на тумбочку, где красовался дорогой букет от его будущих родителей, и прикидывала:
– А сколько они могут стоить, эти роскошные цветы? Да уж в тыщу раз дороже полевых. Разве ж они мертвые? Вон, какие красивые: из самой Голландии, говорят. И дорогие, конечно. Такой и я буду. С моей-то красотой, деньгами и обретенным опытом. А что? Подыщу садовника и буду его прекрасным дорогим цветком.
О вреде подстольных манифестаций
1995 г., лето
Спина болела, как после прополки огорода. И ноги гудели – будь здоров.
– Всё, девочки. Пошли посидим в тенечке, – скомандовала груженная, как ломовик, Рипсимэ, и трио шоп-туристок направилось со своими разноцветными баулами к столику уличного кафе. Баулы легли под стол, как флаг родной страны: красный, синий, абрикосовый, и женщины бдительно обхватили их лодыжками, чтобы, не дай Бог, не украли. Потом потыкали в меню с картинками блюд, заказали то, что и сами дома готовят, но здесь – с мудреными названиями, и, конечно, «колу»!
– Слушай, а какая в Стамбуле кола дорогая, а? – удивлялась Гаянэ, – не то что в таможне.
– Так здесь в ее цену входит бесплатный туалет в кафе – не то, что тамошний срам, – смеялась Рипсимэ, – как вспомню, чего мы натерпелись, пока автобус остановился, – мороз по коже.
За соседний столик уселись два американских старичка в пестрых «бермудах» на цыплячьих ножках и пара их бабулек. Одна была в розовых шортах, другая – в белых.
– Ну, у этих иностранцев совести нет ни грамма, – возмутилась Гаянэ и смерила старушек осуждающим взглядом, – ты на их возраст посмотри – и на их трусы!
– Это шорты, – улыбнулась свысока просвещенная Ано, – их сейчас весь мир носит!
– Но не в этом же возрасте! – не унималась Гаянэ.
– Да в любом! – смеялась Ано, – ведь это очень удобно!
– А что, купим отцу с матерью такие, раз удобно? – развеселилась и Рипсимэ.
– Купи, купи, ты, я вижу, среди турок европейской мадам решила стать. Вот и получишь этими трусами от родителей по башке, – гнула моральную линию Гаянэ.
– Нет, ты представь, мать утром выходит курам корм задать, а на ней шорты. Соседи умрут! – представила Рипсимэ, и женщины покатились со смеху.
Такие вот веселые и расслабившиеся от еды они и направились в свою дешевую гостиницу, где побросали баулы посреди комнаты и распластались на кроватях, чтобы через час начать новый поход по лавкам.
– Я немного подремлю, а через полчаса ты меня подними, Гаян джан, – попросила Рипсимэ, – расходы запишем, чтобы потом не забыть.
– Да и товар надо заново пересчитать, – откликнулась Гаянэ, – не понравился мне этот последний торговец.
– Ах, Сако джан, как ты эту брюзгу терпишь? – воззвала Рипсимэ к виртуальному образу мужа сестры. – Ну что ты, Гаян, ко всем цепляешься? – переключилась она уже на саму сестру, – ну чем тебе не глянулся торговец блузками? Он-то не в шортах был! Маленький такой, лапки как у паучка, услужливый. Даже лапать не пытался – не то что тот торговец трусами. Ох, тот, сволочь, на тебя, Ан джан, глаз положил! Еще бы раз задел тебя – я бы ему мерседесы на голову-то натянула! А этот – простой тихоня, – завершила она, сладко зевнув.
– Не знаю, Рипсик, не знаю. Скользкий он какой-то… – ответила сонная Гаянэ.
– Он и мне не понравился, глазки всё бегали, – подала голос и Ано, но сестры уже спали.
В дверь громко постучали. Ано прошлепала с кровати босиком и открыла дверь. За дверью толпились незнакомые люди и трое полицейских.
– Onlar![65] – завопил кто-то из-за спины полицейского, и вперед протиснулся плюгавый торговец блузками. Полицейские по-хозяйски вошли в комнату, за ними засеменили остальные, а ошарашенные женщины уставились на всех, как на приснившийся кошмар.
Полицейские заговорили с торговцем, тот стал тыкать пальцем в сваленные посреди комнаты баулы и что-то лопотать. Молодой полицейский удобно уселся за маленький стол гостиничного номера, достал бумаги и принялся что-то записывать.
– Протокол! – смекнула Ано.
Потом тот, что постарше званием, шагнул к баулам, открыл молнию на красном, вытряхнул содержимое, и на пол в числе скрипучих упаковок разноцветного тряпья выпал пухлый черный кошель.
– Benim зantam![66] – завопил плюгавый, и полицейский, презрительно глядя в глаза охающим и крестящимся сестрам, вынул из кошелька пачку турецких денег.
– Yuz цtuz yedi bin,[67] – разорялся торговец, – benim param[68]! – и полицейский принялся медленно пересчитывать их со знанием дела, а осмелевшие понятые в такт качать осуждающими головами.
– Эс шарен саркел, чистый поклеп, – заговорила обретшая голос Рипсимэ, – чистый поклеп… Господи Боже мой, Господи Боже мой… Ты им не верь, Ано, не верь, доченька.
– И нас с тобой ни за что опозорят, и невинную девушку, – откликнулась Гаянэ. – До брата дойдет – он нам покажет Турцию…
– Да уж показывают – куда больше? – ответила Рипсимэ.
Тонкости монтажа и другие спецэффекты торговли
1995 г., лето
– А девочку зачем трогаете? Она – всего-навсего переводчица, – возвысила голос Гаянэ, – ее оставьте. И полицейский неожиданно согласился:
– Tamam.[69]
– Позвони Сако и Хачику, доченька, – только и успела шепнуть Рипсимэ, когда ее с сестрой выводили из номера полицейские, – пусть деньги одолжат, приезжают. Скажи, пусть сами решают, рассказывать брату про этот бесстыжий поклеп или нет. Родителям – ни слова, они не переживут позора…
Ано осталась в растерянности. Что делать? И как выбраться из этой заварухи, если полицейские ее оставили, но документы-то забрали? А у нее денег – долларов пятнадцать, не больше. Как она здесь проживет, если дело затянется? Отдаться встречному-поперечному? Опасно: могут кинуть, да еще и обобрать. Да и избить могут: кто их знает? А могут и вовсе убить к чертям: ее-то никто здесь не знает и не хватится. Черт, а? Попала в переплет с этими курицами. Они бабы честные, не украли они этих денег, это точно. Тогда что? Подстава? Зачем? Кому они-то нужны, толстозадые? И, главное, как быть ей самой? Может, сдать обратно покупки? Да хотя бы тому блядуну, что все лез к ней, когда трусы продавал?
– От него-то и позвоню их мужьям забесплатно, – решилась Ано, натянула на себя новую кофточку из сваленных посреди комнаты упаковок, потом порыскала по баулам, заново переоделась во все новое, ярко накрасила губы и двинула к выходу.
Ходить в одиночку по чужому городу было боязно, но интереснее, чем со стеснительными деревенскими тетками. Освещенные витрины сулили красоту и успех, но в сумочке было всего-то пятнадцать долларов, да и надо было спешить: магазин желтозубого мог закрыться.
– Merhaba, merhaba, gusal kiz[70], – засиял всеми своими зубами торговец бельем, – nasil yardiзi olabilirim?[71]
Сцена явления торговцу была тщательно отрепетирована, однако неожиданно для себя Ано искренне расплакалась и, заикаясь от беспомощности и слез, затянула:
– I need he-е-еlp, I need he-е-еlp[72]… – и торговец уставился на нее с удивлением.
Перемешивая свой скудный английский со схваченным турецким и активной жестикуляцией, она принялась пересказывать ужасы последних часов и излагать свою финансовую проблему. Полный сострадания торговец сокрушенно причмокивал и цокал, ответно жестикулировал и всячески делал вид, что не понял намека на возврат товара. Наконец сказал:
– I shall call to a friend. He will help you[73].
Он закрыл магазин, усадил ее в свою машину и они долго петляли по улицам. Наконец остановились где-то на окраине, вошли в тихий ресторанчик, а когда в нос ударили острые запахи, Ано сообразила: а ведь она здорово проголодалась!
Хозяин принял желтозубого по-приятельски, сам проводил их в дальний кабинетик заведения и принял заказ. Через пять минут проворный мальчик-официант принес закуски и анисовую водку.
– Sarapsis bir Masa Gьlmesini Bilmeyen bir kadina Benzer[74], – оскалился желтозубый и налил полную стопку водки для Ано. – Ты пей, пей, закусывай, моя красивая, не расстраивайся. Сейчас мой друг придет – он большо-о-ой человек, – и торговец закатил глаза к потолку, давая понять, о каком высоком уровне идет речь. Он тебе обязательно постарается помочь. Мы, чтоб ты знала, добрые люди, что бы о нас ни говорили. Видишь, как мы с тобой культурно устроились? – и обвел рукой кабинетик дешевого ресторана, где кроме обеденного стола стоял китайский фен и на тумбочке – засиженная мухами видеодвойка. – А будешь послушной – и сама будешь при хороших деньгах, одеваться-обуваться будешь, как настоящая ханум, свой бизнес откроешь.
– В чем это послушной? – насторожилась Ано и подумала: – я тебе задешево не дамся!
– А кто сказал – за просто так? – словно прочитав ее мысли, осклабился торговец, – Para her kapiyi aзar[75]. Я вот с соседом поспорил вчера на целую тысячу долларов, выиграю – вместе и прогуляем с тобой.
– О чем спор-то?
– А о чем могут спорить мужчины? – снова оскалился торговец, – о женщинах и о войне! Вот он говорит: никакой у армян нет армии, болтовня это все. А я думаю, раз вы Карабах свой взяли и не отдаете, значит, есть порох в пороховницах. А ты как думаешь?
– Тысячу лет мне не интересно, есть армия или нет, – Ано сразу потеряла интерес к разговору, – это пусть у наших и ваших вояк голова болит. Мне-то что с того?
– И правильно говоришь, моя бархатная, красивой женщине зачем армия? Она и без армии любые крепости возьмет! Вот за твою красоту и выпьем!
Здоровая бутылка была уже наполовину пуста, и следовало сбавить темп. Но Ано так устала за последние дни разыгрывать из себя прилежную гимназистку, что захотелось наконец расслабиться. Она тренированно опрокинула стопку в рот и выдохнула.
– Хорошо пошло? – продолжал улыбаться настырный торговец. – Ага. Так вот что я говорю. Чтобы спор выиграть, мне всего-то нужно, чтобы ты пятого числа следующего месяца с утра, в девять ноль-ноль, встала на седьмом километре трассы Ереван – Севан и посчитала, сколько военных машин проедет.
– А сколько тебе машин нужно насчитать, чтобы спор выиграть? Сколько нужно, столько ему и скажи: буду я целый день торчать на трассе, как шлюха! Мне только ваших шпионских игр не хватало, чтоб еще и тамошних ментов напустить на свою голову! Нашел дурочку! – возмутилась Ано.
– Ну, какая же ты дурочка? Ты – самая настоящая умница, Ано ханум. Помаячишь[76] пару часов на трассе – и целая тыща на двоих! Но если не выполнишь мою невинную просьбу и получит ваша полиция это порно, вот тогда они и займутся твоей головкой, – сощурился торговец.
– Какое-такое порно? – пьяно возмутилась Ано. – Ты мне брось кассетой перед носом мотать! Убирайся, урод, а лучше я сама уйду. Спасибо тебе за угощение.
Она попыталась встать.
– Ну не сердись, не сердись, – миролюбиво сказал турок и крепко схватил ее за руку, как давеча удержал Рипсимэ в магазине, – может, я опознался. Вот видео посмотрим и пойдем. – И запихнул кассету в видеомагнитофон.
Вообще-то Ано и не такую порнуху видала в порядке повышения квалификации в конюшне Мамы Розы. Два мужика, одна девица на двоих – эка невидаль! – и всевозможные комбинации при трех возможных участниках. Но в кадре то и дело мелькало ее, Ано, лицо и ее аккуратный зад с характерной колонией родинок в форме змейки! Эту змейку многие клиенты принимали за татуировку, и это их здорово заводило. Что за чертовня? Где? И с кем? И откуда взялся черный мужик? С черным она была пару раз, но чтобы с черным втроем – не было, хоть застрелись! И потом, прическа! У нее же роскошная грива была тогда, когда она пахала на Маму Розу. А здесь – короткие, как сейчас. Стоп. Это здесь снимали. Ано машинально поддела вилкой маринованный красный перец и стала жевать, чтобы протрезветь.
– Красивая ты девушка, Ано ханум, – гнул между тем торговец, – тебе и вправду в кино сниматься, Оскара получать. А с порнографии все звезды начинали, тут уж ничего не поделаешь. Правда, вашим властям такое не понравится, если показать. Да и нашим тоже…
Ано между тем лихорадочно соображала. Где они могли ее заснять такую – глядящую снизу вверх, со странным выражением лица? И ее задницу с родинками? В душе дешевенькой гостиницы, где они остановились?
– Ну-ка, прокрути еще раз, – скомандовала она, и торговец послушно нажал на кнопку. Все задвигались, заурчали в обратном направлении. Негр и тот, другой, встали, а она сама исчезла. Потом картинка пошла с нуля. Вот ее лицо. Ее, а не чье-то. Она, именно она хлопает глазищами, корчит рожу, оглядывается, смеется, запрокинув голову. Вот ее голый зад. Вот голый негр со спины и тот, другой, склонились над ней и она задрала ноги. Стоп. Это не ее ноги. Тут размер черт-те какой – тридцать девятый или больше. А у нее они маленькие, тридцать шестые. Или это потому, что так снимали? Да нет, вон – второй палец на ноге длиннее большого, а у нее – наоборот…
– Ну-ка, давай снова назад, – решительно скомандовала она, и все поехало назад: встали мужики, засиял ее зад с родинками, залилась смехом она сама. Так. В душе она была всегда одна и, ясно, не смеялась. Где ее могли так рассмешить? И кто? Шутницей была Рипсимэ, но – в душевой? Стоп. Стеночка. Это когда они по дороге в Стамбул останавливались справить нужду и пристроились под одинокой стеночкой. И еще смеялись над этими недотепами, сварганившими только стенку и козырек вместо нормального сортира! Черт меня подери, так они там припрятали видеокамеры, отсняли крупным планом голые задницы и отдельно лица, а потом смонтировали запись с настоящей порнухой, разворачивавшейся уже в другом антураже, на фоне совсем другой стены…
– Монтаж! – сдавленным шепотом затараторила Ано, – наглый монтаж! Я в полиции докажу, докажу… – и залпом выпила анисовую из придвинутой торговцем стопки. Спазм сняло.
– Докажи, докажи, милая, – миролюбиво ответил торговец, – долго придется доказывать… Но, может быть, и сумеешь доказать… Правда, парни эти, что из фильма, уже накатали, бессовестные, заявления в нашу полицию, что ты после всего этого буйства еще и ограбила их, вытащила пятьсот долларов из бумажника. Жалко мне тебя: молодая, красивая такая, глазастая, способная… А у нас в Турции знаешь какие тюрьмы? Не дай Бог никому.
Ано затравленно смотрела на торговца и лихорадочно соображала, но дельных мыслей в голове не было. Ни одной.
– А ты бы уважила мою просьбу, вышла бы на Севанскую трассу, посчитала бы машинки, милая. Какие тут шпионские игры? Это просто сведения, которые лежат на поверхности, и один умный человек может передать их другому умному человеку. Ты думаешь, шпионаж – это когда влезают в секретные архивы госбезопасности? Нет. Любой человек может заметить эти машины, они же не прячутся. Но не любому выпадает счастье получить заказ на их простой подсчет. Всего один рабочий день – и целая тысяча нам с тобой! Ну что, идет?
– Ну уж нет, – шепотом отозвалась Ано.
– Нет так нет, – примирительно сказал торговец и посмотрел на часы, – мне пора возвращаться. Хочешь чаю? Выпьем чай и разойдемся.
– А товар? – спросила Ано, – примешь обратно товар?
– А зачем мне твой товар? Я его уже продал. Да мне его и без тебя вернут наши власти, раз вы оказались воровками, – усмехнулся торговец.
Чай пили молча. И трезвая как стеклышко Ано отстраненно думала о своих проблемах. Потом она жирно намазала на губы помаду и приготовилась уходить: она и без этого желтозубого не пропадет! Внезапно дверь отворилась, торговец изменился в лице, вскочил и залопотал:
– Merhаbа, merhаbа, efendi[77].
Этот и вправду был эфенди. Холеный такой мужик лет сорока, плотный, в дорогом полосатом костюме, с аккуратными усиками «без двадцати четыре» на удлиненном лице. Вытянутый череп с плоским затылком был аккуратно подстрижен. Наманикюренный мизинец сиял здоровым бриллиантом перстня, рука сжимала продвинутый кейс. А властный взгляд антрацитовых глазок как сфокусировался на Ано, так уж из кадра и не выпускал.
– Сейчас кадрить будет, как честную, – решила Ано и оглянулась на вставшего торговца. Выражение его лица сказало ей гораздо больше, чем способна выразить человеческая мимика: такое подобострастие могло означать только очень высокий пост или очень большие деньги пришедшего. А может – и то и другое вместе.
– Это Осман бей, самый благородный человек нашей страны, – пресмыкался уже вслух торговец, но простым движением брови Осман выдворил его из комнаты. В дверях торчали двое страшных горилл его охраны, которые, повинуясь взгляду хозяина, прикрыли дверь, но явно остались за нею.
Подошел ресторатор, молниеносно убрал все со стола, постелил свежую скатерть и принял заказ так, как принимают орден страны. Ано откинула волосы со лба, готовясь к желанной словесной дуэли шлюхи со сластолюбцем.
– Анунд инча, как тебя зовут? – спросил он по-армянски, и Ано разочарованно уставилась на него: надо было переться за границу, в такую даль, чтобы кадрить «ахпара»[78]!
– Ида, – ответствовала Ано, еще раз убрала волосы с лица и добавила: – У меня беда.
– Это еще не беда, – усмехнулся Осман, расположив свой кейс на столе и щелкнув замочком, – беда у твоей подруги Рипсимэ, которую ты убила.
– Как – убила? – схватилась за горло Ано, как если бы ее саму стали душить-убивать.
– Вот так и убила. Пришла к Рипсимэ на свидание в тюрьму в двадцать ноль-ноль, угостила отравленной конфетой, и она умерла у себя в камере от удушья пятнадцать минут спустя после свидания, в двадцать сорок пять, – спокойно объяснил Осман.
– Да я и понятия не имею, где она сидит, – ужаснулась Ано, – а с семи до восьми я в магазине белья была, у вашего приятеля.
– Какого приятеля? – удивился Осман бей.
– Никакого приятеля в магазине белья у меня нет. А вот здесь, – тут он сунул ей под нос заполненный на машинке официальный бланк, – запротоколирован твой приход в тюрьму в двадцать ноль-ноль и уход в двадцать тридцать.
– Да я ж уже здесь была, с ним, – настаивала Ано, которую смерть Рипсимэ перестала пугать на фоне еще более грандиозного, чем подстава с деньгами, поклепа.
– Когда она пришла? – спросил Осман бей вошедшего ресторатора, и тот, поклонившись, ответствовал:
– Demin![79]
Ано молча посмотрела на посуровевшего хозяина заведения, потом перевела взгляд на осанистого Осман бея, и ирреальность происходящего подсказала ей, что, как в детстве, пора проснуться. Она плотно зажмурилась, сосчитала до десяти, открыла глаза, но все оставалось прежним: кабинетик ресторана с его шелестящим феном, еще не выключенная видеодвойка с ее монтажным поклепом, стол с пузатым стаканчиком чая и блюдцем мелкоколотого сахара для Османа и сам Осман бей, насмешливо наблюдающий за ее детскими играми в жмурки.
Не было только ресторатора.
Слезы сами покатились из глаз и, какими бы искренними они ни были, краешком сознания Ано надеялась, что Осман примется ее утешать, а там, того и гляди, проблема окажется решенной. Это помогало сотни раз, и должно было помочь и на этот. Но он молча прихлебывал чай, гулко надкусывая сахарные кубики и насмешливо наблюдая ее рёв.
– Ба чес амачум?[80] – изревевшись, упрекнула Ано бея, – а еще армянин…
Но тот отрицательно мотнул головой:
– Я не армянин, а настоящий турок и офицер турецкой разведки. И за моей спиной – вся мощь моей страны: полиция, армия и государственные структуры. Я наряду с вашим языком еще три других знаю. Язык врагов надо знать. А пришел я сюда не время тратить, но сделать тебе деловое предложение. Тебя заметили как нужный нам кадр, Ано, и это большая честь для тебя. И теперь тебе самой выбирать свой дальнейший жизненный путь. А выбирать придется один из двух возможных. Первый – в тюрьму, где ты проведешь остаток своей никудышной жизни, так как из алчности ты убила подругу, чтобы завладеть ее товаром. Второй путь – к реальному достатку: модной одежде, дорогой косметике, поездкам в Анталью, возможности утолять свои женские прихоти. У тебя будет все: свой бизнес, квартиры, машины. Но сейчас ты однажды и навсегда должна сказать: «Я ваша. И я буду дисциплинированно выполнять все ваши поручения, так как я сознаю, что дороги назад нет и не может быть». Поняла меня?
Ано сидела за столом, накручивая на палец край скатерти и не поднимая глаз. «Да куда уж тут не понять. Если клепает само государство, то здесь уж не отвертеться. В смысле – не отвертеться здесь. Главное – смотаться назад, в Ереван. А там уж можно будет прямым ходом направиться в полицию и рассказать и про видеомонтаж, и про торговца бельем с его интересом к Севанской трассе, и про этого хлыща из турецкой разведки с его предложеньицами. Еще и спасибо скажут…» – думала лихорадочно Ано. «А что, если не врет? И вся шикарная жизнь, что он рисует, может сбыться? Квартира, машина, деньги – чего еще надо? Но где гарантии? Раз уж они здесь так согласованно врут по любому поводу, то насчет его обещаний – ищи-свищи! Но нет уж, спасибочки. И не потому что любовь к родине и прочая херня, а потому что наверняка врет. Да и опасно: эвон, невинную Рипсимэ проглотили в два приема и не подавились, а уж ее саму раздавят, как каблук – мурашку, и ноги о половик не вытрут», – решила она, и Осман бей понимающе улыбнулся:
– Не веришь?
– Нет, – честно призналась Ано.
– И правильно делаешь. Но чтобы ты поверила, что это не блеф, вот тебе три тысячи долларов аванса, – и он выложил из кейса конверт, – посчитай и распишись.
– В чем это расписаться? – окрысилась Ано, стараясь не смотреть на выглядывающие из пухлого конверта вожделенные сотенные.
– А вот здесь все на вашем языке и записано: «Я, Анаид Мардукян, получила три тысячи американских долларов в качестве авансовой выплаты за помощь турецкой разведке в деле подрыва обороноспособности Армении».
Конечно, это была филькина грамота. Детский лепет, который и читался-то как представления подростка о шпионских перипетиях. Но такой детский треп входил в технологию лобовой вербовки, которую и осуществлял сейчас Осман бей.
А деньги были уж очень большие для нее. Да она за своего ребеночка, которого девять месяцев в пузе носила, блевала без передыху, всего-то тысячу получила. А здесь – целых три! Да пропади все пропадом перед такими деньгами!
– Где тут подписываться? – спросила Ано, и Осман бей ткнул своим наманикюренным ногтем в нужное место.
– Вот и молодец, – сказал он, аккуратно укладывая расписку в свой кейс из гадючьей кожи, – вот и молодец. Теперь тебя отвезут в твою гостиницу, где будешь ждать инструктажа. Ни о чем не беспокойся. А деньги можешь потратить на себя уже завтра. Так сколько классов ты кончала? – спросил ее напоследок Осман бей, и озабоченная пересчетом денег Ано механически ответила:
– Восемь!
– А английский где учила?
– Где надо, там и учила, – дерзко ответила разбогатевшая Ано и вертикально втиснула конверт под пояс юбки, за резинку трусов, где он нежно прильнул к пупку.
Полезно ли посещать тир
1995 г., лето
Назад Ано везли на заднем сиденье маленького двухдверного внедорожника. Рядом с водителем торчала длинная башка османового гориллы.
– Небось боятся, что удеру к чертям с тремя тысячами, – злорадствовала Ано, поглаживая пупок под компрессом из долларов.
Когда подъехали к ее гостинице, она и не догадалась, что это та самая, так как въехали с заднего двора, где выстроилась вереница переполненных мусорных баков, а воняло, как в сортире преисподней. Номер был на втором этаже, и Ано медленно поднималась по ступенькам, мысленно перемалывая всю вереницу событий минувшего дня. Когда она направилась к своему номеру, соседняя дверь неожиданно отворилась, и кто-то, неслышный за спиной, рывком втолкнул ее в комнату.
– Грабят, – подумала Ано, – мои три тысячи хотят отнять, – и набрала воздух в легкие, чтобы заверещать, но сильная рука зажала ей рот.
– Heyde[81], – скомандовал возникший перед глазами Осман, и невидимка за спиной испарился.
– Ну что, не передумала, ханум? – насмешливо спросил Осман бей, и восстановившая дыхание Ано решительно ответила:
– Нет. С чего это мне было передумать, если деньги при мне?
– Вот и молодец. А раз так, давай тогда подпишем основной контракт, расторгнуть который будет уже нельзя, – и положил на стол свой гадючий кейс.
– Я что – всю ночь вам бумажки буду подписывать? – возмутилась вслух Ано, а мысленно прикинула, будет ли он отдельно платить за контракт.
– Ты в тир ходить любишь? – спросил Осман бей, щелкнул замочком, и крышка кейса поднялась, загородив от Ано содержимое.
– Может, и вправду пару тысяч добавит, – подумала Ано, а вслух весело затараторила:
– Раза два-три была. У нас в райцентре тир был допотопный: ружья заправляли острыми такими гвоздями с кисточками на конце. Так я сперва кисточками весь потолок над мишенью утыкала. Потом мне ребята показали, как правильно целиться, и я с ходу в десятку попала несколько раз.
– Вот и хорошо, – усмехнулся Осман, – теперь же и проверим, – и достал из кейса маленький револьвер.
Ано ошарашенно смотрела на стрелялку и не могла собрать мысли воедино. Он что, убить ее надумал? Тогда зачем вёз сюда? Легче было прибить где-нибудь на пустыре и выкинуть к чертям собачьим. Это еще что за новый кошмар?
– Да не бойся ты, не бойся, – еще раз усмехнулся Осман и передал ей револьвер. – Вот смотри: здесь курок, здесь боёк, здесь предохранитель. Взводишь вот так. Понятно?
– Понятно-то понятно, – ответила Ано, крутя оружие так и эдак и целясь то в шкаф, то в окно, – но с ним меня загребут на первой же таможне.
– Да нет, – усмехнулся Осман, – тебе в Армении оружие – во всяком случае сейчас – не понадобится. Тебе здесь надо будет попрактиковаться.
– Прямо в этой комнате? – удивилась Ано.
– Да нет, в соседней. Там Рипсимэ вышла из тюрьмы, и ты должна ее убить.
– Как Рипсимэ? – ужаснулась Ано, и Осман шикнул на нее и приложил палец к губам, – ты же сказал, что ее убили? – закончила она шепотом.
– Тогда еще – нет, – спокойно ответил Осман.
– И зачем? Зачем ее, дуру наивную, убивать?
– упавшим голосом спросила Ано, жалостливо заглядывая в антрацитовые глазки Османа.
– Вот это и есть контракт, расторгнуть который ты уже не сможешь, так как видеокамера всё запишет, – пояснил Осман бей. – А что дуло на меня не попробовала навести – молодец! Правда, ты и сама сейчас под прицелом, но раз и мысли такой не допустила, несмотря на возможность, я тебе и вправду тысячу добавлю. Давай, не бойся, как зайдешь – стреляй без лишних разговоров…
Об эффективности дыхательной гимнастики
1995 г., лето
Рипсимэ встретила ее весело.
– Вот поклеп так поклеп, да? Я чуть с ума не сошла! А Гаянэ – ты же знаешь, какая она брюзга – запилила меня по дороге: «Я же говорила тебе, что незачем переться в эту окаянную страну, политую кровью нашего народа»… А причем тут кровь, пролитая целых восемьдесят лет назад? Сейчас уже девяносто пятый, конец века, а то было в начале. Наши, небось, сами и виноваты: нечего было с русскими хороводиться, когда у турок война с ними. Но здешние полицейские, я тебе скажу, молодцы. Быстро во всем разобрались, извинились перед нами, еще и пощечин надавали этому плюгавому поклепщику. Даже кровь пошла из носа бедняги…
– А Гаянэ тоже вернулась? – спросила Ано, надеясь на чудо.
– Сейчас и ее привезут. У них такой порядок, говорят: привозить по отдельности, – безмятежно болтала Рипсимэ, – ты к нашим-то позвонила в Эчмиадзин?
– Номер не набирался, – вяло ответила Ано, напрочь забывшая об этом задании.
– Вот и слава Богу, – обрадовалась Рипсимэ, – и слава Богу! А не то попало бы нам от мужей по первое число. Очень им не нравилась эта поездка. Но куда денешься: завод-то их, вертолетный, закрыли, работы нет, жить-то надо… А ты что такая расстроенная? Переживала за нас, да, доченька? Ты не расстраивайся, и мы с Гаянэ очень за тебя переживали. Думаем, хотели девочке добра, а вон как оно вышло… А блузка с юбкой тебе идут, очень идут. Ты принарядилась, чтобы настроение исправить, да? И правильно сделала, что сама взяла, носи на здоровье. Я и сама всегда, если тошно, искупаюсь, лучшее платье надену и к сестре иду, или к брату. Ух, он нам с Гаянэ устроил бы Турцию, если бы узнал. Храни Бог нашу плохую телефонную связь…
Рипсимэ болтала без умолку, а решимость Ано все таяла и таяла. Да как она поднимет руку с револьвером на эту невинную дуру?
В дверь постучали.
– Это Гаянэ! – весело вскочила Рипсимэ, но в дверь просунулась голова мальчика из обслуги:
– Ozur dilerim rahatsiz iзin[82], вас там внизу кто-то дожидается, – испуганно затараторил он, пялясь на Ано, и исчез, как появился.
– Что это он говорил, я не поняла? – насторожилась Рипсимэ.
– Я у консьержа переговор заказала, деньги оставила, забыла взять, – вяло ответила Ано и на ватных ногах вышла из номера.
Стоявший в дверях соседнего номера Осман бей поманил ее пальцем, и она засеменила к нему на задних лапках, как пудель в цирке.
– Вот видишь моих ребят? – указал он ей в окно, откуда были видны по паре полицейских и горилл, – если ты за следующую минуту не убьешь ее из револьвера, то задержание повторится, но на этот раз увезут и тебя. И увезут с концами.
– Да ведь сейчас подъедет Гаянэ, – зашептала было Ано, но ощутила теплый конверт на животе.
– К сожалению, не подъедет, – ухмыльнулся Осман, глядя ей в глаза, – ее высадили за квартал отсюда, и она неожиданно попала под машину.
– Как – попала? Насмерть, что ли? – вскрикнула Ано, на Осман опять зажал ей рот.
– Да что вы тут творите? – шепотом возмутилась Ано, как только Осман убрал ладонь, – а как вы ответите перед родственниками, перед нашей полицией?
Осман искренне расхохотался.
– Как? – смеялся он, – вас до сих пор в Армении не предупредили, что все, кто приезжает оттуда, – неучтённый контингент? Наша граница с вами на замке, едете вы, минуя грузинскую погранслужбу и таможню. Консульских взаимоотношений у нас с вами нет. Так что вы для нас – и Рипсимэ, и Гаянэ, и ты, между прочим, и все остальные – абсолютно неучтенный товар, с которым можно делать что угодно! Ладно, иди, валяй, времени у меня совсем в обрез, – деловито подытожил Осман бей. Потом подобрел и добавил:
– Давай помогу, пока еще не умеешь. Закрой глаза. Глубоко вздохни пять раз. Нет, глубже. Вот так.
Ано послушно завздыхала.
– Дыхание восстановилось?
– Да, – выдохнула Ано.
– А теперь представь, что пока спала, Рипсимэ украла твои три тысячи и удрала в Ереван. Представила?
– Да, – улыбнулась Ано с закрытыми глазами.
– А ты не смейся, ты представь, что это она сделала, – процедил сквозь зубы Осман и ловко вытащил у нее из-за пояса вожделенный конверт. Ано вцепилась в руку Османа, как кошка, но он легко отшвырнул ее в угол комнаты.
– Мои! – заорала Ано, – это мои деньги!
– Конечно, твои, – так же холодно ответил Осман, – а теперь иди и стреляй за свои деньги. За эти и за все будущие. На, пусть они тебя согреют, – и впихнул ей за пояс помятый конверт.
Сколько стоит рвение
1995 г., лето
Это был, конечно, не тир с рисованными целями, а живая, жизнерадостная Рипсимэ, полная ожидания возвращения сестры и ее, Ано.
Первая пуля попала ей в левое плечо, и она охнула, схватилась за него и удивленно уставилась на девушку. Вторая попала в грудь, и Рипсимэ осела на пол. Третья просвистела в сантиметре от головы, четвертая расквасила левое ухо, а Ано все палила и палила, стремясь погасить этот удивленный детский взгляд, обращенный ей в душу.
– Да сдохни ты наконец, – не выдержала Ано и истерично зарыдала, выпустив последнюю пулю.
– Господи, спаси и… – прошептала удивленно Рипсимэ и послушно умерла, следуя приказу своей персональной переводчицы.
Потом подошли гориллы Османа, вытянули револьвер из окаменевшей руки Ано, увели ее в соседний номер и усадили на кровать. Она пила анисовую водку, клацая зубами о толстый край штампованного стакана, потом снова выла, колотя кулаками собственные колени, и снова пила анисовку. Потом ее долго рвало всем, что она успела съесть и выпить за вечер, и она в изнеможении улеглась на кровать, мечтая только об одном: чтобы все случившееся было неправдой. Как неправдой? А деньги? Ано резко села на кровати и ощупала живот: конверт был на месте!
– Браво, – сказал стоявший в изголовье Осман, – такого великолепного человеческого материала у меня давно не было! Можно переходить к профессиональному обучению.
– А где моя премия? – последовал вопрос, и Осман открыл свой волшебный сундучок марки «кейс», с удовольствием отсчитал двадцать стодолларовых банкнот и раскрыл их веером, как игральные карты:
– Это тебе за рвение, Ида ханум. Впредь мы так тебя будем называть.
Спешите каждый день!
1995 г., лето
Абрикосовое дерево деда было во сне даже красивей, чем в жизни. Здоровенный ствол симметрично разветвлялся скрытыми яркой листвой ветвями, которые образовывали идеальную полуокружность кроны. Ветви, что справа, искрили солнечными лучами. Те, что слева, утопали в тени. От дворового открытого очага шел дед – красивый, с длинными белоснежными волосами до плеч, хотя стриг их всегда ежиком. На нем была белая выходная сорочка, а брюки, как обычно, заправлены в сапоги. Дед подошел к дереву, взял крепкий ореховый посох, что стоял некогда у входа в хлев, и изо всех сил размахнулся. Сперва он ударил по краю затененных ветвей, и Ано удержалась. Потом набрал воздух в легкие и изо всех сил бабахнул по тем, что повыше. Но Ано и тут сумела крепко уцепиться. Дед колотил, колотил, но напрасно.
Он обессиленно сел в изножье ствола и схватился за голову.
– Оффф, гитем воч, инч анем[83]… Ано, ай Ано, что же ты наделала? Что ты с нашим деревом наделала? Вай мез[84], вай мез… Ты же, сидя на ветке, корень точишь. Вай мез… Что с корнем делает, тварь проклятая, а? Что с корнем творит, а? – обратился он к кому-то сбоку, невидимому. – У нас, у Мардукянов, теперь одни калеки и сироты будут рождаться! Вай мез…
И, прислушавшись к совету того, кто был невидим и неслышим, легко встал, подошел к очагу и поджег аккуратно сложенные полешки. Языки пламени взмыли круто вверх, дошли до солнца. Потом осели, и из очага заструился тонкий фиолетовый дым. Он уходил все выше в самое небо, и распространял вокруг нежный запах жасмина. Абрикосовое дерево стало медленно разворачиваться, как гимнасты делают сальто. И вот уже оно стояло, упершись все такой же полукруглой кроной в землю и не придавив ни листочка. А древние заскорузлые корни устремились вверх, как антенны неведомой связи.
Дед взялся за посох поудобней и нанес сокрушительный удар по ветке, на которой притаилась Ано. Ветка устояла, но Ано не выдержала, спрыгнула и опрометью бросилась за дом.
– Пошло дерево к Богу жаловаться на топор, а Бог сказал: «Рукоятка-то у топора – деревянная», – махнул рукой дед и крикнул вдогонку так, что первые слова отозвались эхом:
– Ты – моя кровь, дитя моего сына…
– Ты моя кровь… ты – моя кровь… – повторило эхо.
– Значит, это мои грехи сотворили тебя такую, – убеждённо продолжил дед и эхо подхватило:
– Такую, такую…
Дед встал, обернувшись лицом к дереву и разведя руки:
– Дерево предков, вся моя живая и неживая родня, вот стою я перед вами с повинной головой. Простите меня, дурака. Уж я от дерева больше не отойду ни на шаг, буду оберегать и охранять его, как вы оберегали и охраняли… Племянники и племянницы мои молодые и пожилые, дочки мои одинокие, вся моя живая родня! Спешите делать добро, чтобы не иссяк наш корень. Питайте нас живой энергией своих добрых дел, будьте счастливы и делайте счастливыми всех вокруг, чтобы не иссякли у нас здесь силы, чтобы хватило их помогать вам в трудную минуту. Спешите, родные мои, спешите каждый день.
Как важно знать язык жестов
1995 г., лето
Рано утром ее поднял горилла Османа. В номере пахло очистителем воздуха и марихуаной. Она послушно выпила протянутый стакан с алкозельцером и прошлепала в душ. Зубы почистила, стоя под душем и не выпуская из поля зрения висящую на крючке одежду с припрятанными деньгами. Ага, там у нее целая прорва американских денег, а зовут ее отныне Ида. Как ту кривляку-дачницу. Фиг у нее есть пять тысяч в трусах, у задавалы проклятой! Ну, я теперь им покажу – всем покажу! Сняв одежду с крючка, с отвращением заметила на ней пятна рвоты и прошлепала обратно, мокрая и голая, к перекочевавшим в этот номер баулам.
– Allah, Аllah[85], – только и выговорил горилла, глядя, как она нагишом склонилась над баулами, поворошила в них, выбрала блузку, юбку, лифчик и трусы и тут же, при нем, натянула на себя. Вернулась в ванную. Конверт с деньгами передислоцировался из вчерашних трусов в новые, но, прибавив в объеме, стал рельефно проступать сквозь одежду. Тогда она выпустила полы блузки, но и это не помогло. Ну что ж, не дразнить же гориллу по новой. Равномерно разделив свои заслуженные пять тысяч баксов на три пачки, она завернула их во вчерашние трусы и заткнула за новые. Теперь был полный порядок!
В 8:00 они были уже на аэродроме с маленькими самолетами, где Осман Бей со своим гадючим кейсом молча улыбнулся ее округлившейся талии и поднялся следом за ней по трапу самолета.
Их было только двое на борту, если не считать горилл, и она удобно устроилась в двух креслах и поспала полчаса или час. Проснувшись, удивилась виду за иллюминатором: иссиня-зеленые горы были в точности как у нее на родине, в Лори. Ну и черт с ней, с этой родиной! Что она ей дала, сделала хорошего? И вообще черт с ней, со всей той страной, населенной грозными ментами и наивными идиотками, что корчат из себя ушлых предпринимательниц типа Рипсимэ или партийных активисток – типа Ануш. И ведь дохнут они, дохнут где попало: в тюрьме, в чужой стране и черт его знает где.
– Отдохнула? – спросил Осман. – Теперь давай сюда, на первый урок.
Ида подсела к столику, за которым Осман Бей пил свой любимый чай из пузатого стаканчика, а под рукой лежали блюдце с колотым сахаром, стопка бумаги и золоченая шариковая ручка.
– Где ты живешь, Ида-ханум? – спросил он и взялся за ручку.
Ни фига себе! Считай – нигде. Конюшня Мамы Розы разбомблена, а тюрьму местом жительства благо не назовешь. Надо опять выкручиваться.
– В Эребунинском массиве, – туманно ответила она, имея в виду адрес Мамы Розы.
– Назови свой точный адрес.
– Девятая улица, дом двенадцать дробь семь, квартира один.
Осман застрочил по бумаге.
– Сколько этажей в здании?
– Девять.
– Сколько квартир на этажах?
– На первом этаже только две, на остальных по четыре.
– Кто еще живет на первом этаже? Имя, фамилия, занятие?
– Хромая старушка, Нвард, семечки продает.
– Фамилия?
Ида не помнила. Но вдруг в памяти возникла крошечная табличка на двери, и она обрадовалась, как на настоящем уроке:
– Арзуманян!
– Одна живет?
– Да.
– Теперь второй этаж.
– Прямо надо мной – преподаватели университета, муж и жена, две девочки-малышки и мальчишка-старшеклассник.
– Что преподают?
– К ним студенты ходили какую-то механику сдавать…
– Фамилия?
– Бабаян, – наврала Ида, чтобы отвязаться.
– Можешь назвать отличительное качество этой семьи?
– Это как?
– Ну, есть у них какая-то черта, какой нет у других соседей?
– Они собаку держат, ротвейлера. Это отличительная черта?
– Конечно, отличительная. Молодец. Так, теперь следующая квартира…
«Эх, – думала уставшая от допроса Ида, – надо было наврать, что домик-то одноэтажный», и Осман бей сказал себе под нос:
– У нас на это здание есть ориентировка, надо будет сверить с базой данных…
Ида ничего не поняла, но слово «сверить» ей не понравилось, она встрепенулась, убрала ладонь из-под щеки и забарабанила пальцами по передним зубам.
– Ничего, Ида ханум, не замыкайся: это пока не работа, а тест на внимательность, – усмехнулся Осман.
– А я что? Я ничего, – стала оправдываться Ида и скрестила руки на груди.
– Все твое поведение легко читается по жестам, – усмехнулся Осман. – Вот сейчас ты скрестила руки и приняла оборонительную позицию, готовая к устной атаке.
Ида попыталась возразить, но он властным жестом остановил ее.
– До этого ты приблизила пальцы ко рту – а это защитная реакция человека в состоянии дискомфорта, – продолжал Осман, – подсознательное желание вернуться в младенчество, когда бутылочка с соской была источником блаженства. И вообще – даже если врёт патологический лжец, то подсознательный импульс заставляет его или потереть кончик носа, или провести пальцем под нижней губой, чтобы как бы снивелировать исторгнутую в этой части лица ложь. То есть наше подсознание почему-то настроено на правду и вынуждает руку дернуться к области рта во время лжи. Поэтому ты должна научиться держать свои руки и ноги под постоянным контролем. А еще – читать эти сигналы, посылаемые недотёпами.
Ида слушала Османа, как древние греки – всевидящих оракулов, ворошащих кишки забитых животных. Черт подери, да ведь она могла бы избежать стольких провалов, если бы уже владела этими навыками врать, не вызывая сомнений!
– И всему этому меня научат? – недоверчиво улыбнулась она.
– Ну да, – бросил ей свысока Осман, – ведь это язык жестов, которым грамотный агент обязан владеть, чтобы контролировать ситуацию. В спецшколе, куда мы летим, ты получишь много необходимых знаний, и в том числе – язык жестов, турецкий и французский языки, английский свой улучшишь, освоишь боевые искусства, способность ориентироваться на местности, знание компьютера и многое другое.
– Компьютера? – удивилась Ида. – Да я не смогу. Мне знакомый компьютерщик говорил, для этого нужно со специальной головой родиться.
– Ещё как сможешь! На дворе девяносто пятый год, и наши американские эксперты даже великовозрастных агентов обучают этому. Так что тебя, молодую, амбициозную, в два счета обучат.
– А как вы меня выбрали? – решилась-таки спросить Ида.
Осман остановил на ней свой холодный взгляд, потом усмехнулся и ответил:
– Да по твоим прекрасным глазам, как у вас принято говорить.
– Нет, правда – за красоту? – обрадовалась она. Осман продолжал холодно смотреть, и Ида поежилась.
– Ладно уж, скажу, – словно обрадовался он ее испугу, – а ты слушай внимательно. Человеческий зрачок имеет способность сужаться и расширяться. В два-три, а то и больше раз. Это, кстати, красит человека. Хочет человек кому-то понравиться – неведомые силы заставляют его зрачки расшириться, чтобы сделать его красивей. То же происходит, когда человек чего-то сильно хочет. Когда показывают порнографические фильмы, у мужчин зрачки расширяются в три раза, а у женщин – и того больше. Что касается тебя, то при виде денег твои зрачки расширяются даже больше, чем у других от порнографии. Они у тебя увеличиваются даже при простом упоминании денег. Вот когда ты переводила эчмиадзинским торговкам в магазине белья, тебя с твоими прелестными зрачками и отметили.
Ида попыталась возразить, но Осман одним взглядом остановил ее попытку и продолжил:
– Но ты не тушуйся: любовь к деньгам – ценное качество. Взятие Константинополя и все дальнейшее развитие европейской цивилизации построено именно на любви к ним. Деньги и власть для добывания новых денег. Любовь к деньгам толкала европейцев открывать континенты. Деньги, а не миссионерство гнали их вперед, в глубь континентов. Любовь к деньгам – важное и нужное качество, секрет всех революций и многих военных побед. Не надо только его демонстрировать. Так что учись контролировать себя. А пока – заведи привычку носить солнечные очки. Не при мне, конечно.
– Да-а-а, – только и протянула потрясенная собственными безразмерными зрачками Ида.
– Вчера ты была заштатной, но красивой девятнадцатилетней шлюхой, Ида ханум, – продолжил Осман. Ида даже не попыталась опровергнуть его, всезнайку. – Но у тебя отличные данные. Ты золотое семечко в руках искусного садовника. И этот садовник – я. И я намерен взрастить из него не столовую зелень, не фруктовое деревце, и уж тем более не целебную травку. Я намерен сотворить из тебя волшебный цветок и поставить его в дорогую вазу монумента великого Ататюрка, во имя упрочения и процветания моей страны. Я сделаю из тебя грамотного, а значит – ценного агента, способного принести пользу моей стране. Деньги просто так, ты знаешь, не платят. Мы вкладываем и будем вкладывать в тебя средства, чтобы получить реальную государственную выгоду. Поняла меня?
– Какой цветок? – шепотом спросила Ида, – живой или мертвый?
– А это уже зависит от твоих успехов, – ответил Осман, пристально глядя в ее распахнутые глаза. – Будешь стараться?
– Ага, – ответила Ида и безвольно опустила руки вдоль тела.
Часть 4 Имя – существительное
О том, как водят дружбу боги разных верований
1915 г.
Как и большинство армян диаспоры, Паргев Паравян был обломком большой и богатой семьи из Западной Армении, которая уже давно именуется Турецкой республикой.
Паргев – это было не случайно. По имени армянского мальчика легко было определить обстоятельства его рождения и состав родительской семьи. Если его нарекали Андраником, то есть Первым, Старшим, это означало, что он – первенец второго или третьего сына в составе большой семьи, где у малыша уже есть двоюродный брат, носящий имя деда. Потому что имя деда по отцовской линии повторяется в армянских семьях с неукоснительной ритмичностью. Если же сына нарекали Паргев, то есть Награда, то можно было гарантированно утверждать: его явно заждались или потому, что до него были сплошные девчонки, или потому, что результативность родительского брака оставляла желать лучшего. А вот Мхитар переводится как Утешитель скорби, и имя дает понять, что мальчик родился после тяжелой потери в семье. Случалось, что мальчика нарекали турецким именем. В этом случае и без справки из поликлиники становилось понятно: до него все младенцы мужского пола умирали, а потому следовало обмануть турецкого дьявола-шейтана ложной маркировкой, чтобы он хоть этого оставил в живых.
Очень часто имя являлось базовым и для дальнейшей судьбы, так как если мальчиков называли Вреж (Месть), Пайкар (Борьба), Размик (Боец), Мартык (Воин), Ахтанак (Победа) или Азат (Свободный), то изначально становилось ясным, к какого рода отношениям с захватчиками готовили родители своих малышей. Конечно, на территории советской Армении имена эти несколько девальвировались, и можно было встретить хитрована-проводника рейса Ереван-Москва, носящего гордое имя Мартык, или жулика по имени Размик, торгующего из-под прилавка государственного универмага дефицитным импортом. Но это были дальнейшие издержки на пути формирования иного менталитета. А пока шел роковой 1915 год.
Надо сказать, что Паргев чудом остался Паргевом. Когда всю его семью, в том числе родителей, трех сестёр и три десятка двоюродных братьев и сестер с отцами, матерями, бабушкой и дедушкой турки вырезали своими кривыми ятаганами и побросали в Ефрат, он был в горах со старшей сестрой и соседскими девочками. Дети с утра пораньше ушли в горы собирать молодые побеги пижмы, тысячелистника и бессмертника, из которых бабушка, известная знахарка, варила целебные снадобья. Как звали бабушку, истории не известно, но знахарок и ясновидящих (а это у армян исключительно женский бизнес) за глаза именуют Парав, то есть ведунья.
Был майский день, Паргеву было всего-то два годика, и это была первая в его стартующей жизни осмысленная весна, полная всевозможных радостей и впечатлений. Среди цветущих вишен и персиков деловито сновали аборигены Армянского нагорья, золотистые пчелы, шумно бездельничали стрекозы, а стремительно пикирующие ласточки охотились за теми и другими.
Одуряюще пахли деревья пшата и круглые кусты с нежным цветом шиповника. Среди зелёных листьев абрикосовых деревьев пунцово отсвечивали свежие побеги, и казалось, что именно эти красные листики забирают у солнышка всю необходимую энергию для роста дерева и его волшебных плодов. Деревья весело пестрели и фартучками девочек, которые ловко поднимались по веткам, изгибались меж ними, дотягивались до цели и собирали в подол маленькие плоды. Девочки пели, болтали и опорожняли фартучки в расстеленный на нетоптанной траве платок. Абрикосы были совсем незрелые, крепкие и мохнатые, но их-то и любила детвора! Дети щурились от кислинки звонко откусываемых зеленых плодов, смеялись и потирали руки, пошедшие пупырышками от шершавого хруста. Когда играли в прятки, сестры прятали Паргева рядом с собой за толстыми стволами деревьев. Но он выдавал с головой, звонко повторяя понравившуюся задиристую считалку: «Ал баланикс – дуз капаникд, эй гиди манчин, паланчин»[86].
Командовала экскурсией в горы Манэ, самая старшая из сестер Паргева, так как в прошлом она не раз становилась участницей мастер-классов по сбору целебных трав, преподанных бабушкой. Двенадцатилетняя девочка уже и сама был экспертом, и бабушка прочила её в продолжатели фамильного ремесла, обычно переходившего из поколения в поколение от бабушки к одной из дочерей сына. А может, и не только потому, так как Манэ по-армянски означает «Знающая».
Когда дети вернулись с гор, с их городком все было кончено раз и навсегда, а запруда из сотен тел окрасила Евфрат и замедлила его бег. Приехавшие из дальнего селения курды разобрали детей вместе с остатками имущества, и Паргев стал Азизом. Наверное, на самом-самом верху, где боги разных верований водят дружбу и обмениваются совершенно секретной для смертных информацией, было решено не просто сохранить мальчику жизнь, но и поместить в равноценные условия. Потому что попал Паргев в семью курдского шейха, у которого были четыре взрослые девочки и ни одного мальчика. А это означало, что фамильное право на руководство родом находится под угрозой, может прерваться и перейти в боковую ветвь. Вот почему если в армянской семье он был Паргевом, Наградой, то в курдской стал Азизом, Драгоценным, что по большому счету одно и то же.
И быть бы Паргеву курдским шейхом, если бы три года спустя, когда он уже давно лопотал по-курдски и называл шейха «апи»[87], не появились конные разведчики недавно провозглашенной буржуазной Армянской республики, перед которыми была поставлена задача выявить и собрать выживших армянских сирот. Хитрые всадники разговорили на курдском языке общительных соседей шейха, и те незаметно для себя проболтались об усыновлении шейхом Азиза, а еще о другом курде, женившем сына на Азизовой сестре. Когда с малышом в седле разведчики осадили лошадей у каменного дома, то увидели совсем юную беременную красавицу-курдиянку. Пока всадники разглядывали солидный дом с армянскими буквами над входом, курдиянка заголосила:
– Паргев джан, братик, – плакала она, протягивая руки к ребенку, – иди к своей Манэ. Но на грозный окрик по-курдски из глубин дома исчезла за порогом. Из дома вышел молодой курд с младенцем на руках.
– Mane min jine, ve ev zarok yӗzarokn[88], – процедил он и занес над ребенком блеснувший на солнце кинжал, – Yekser berdan[89], – закричал мужчина в отчаянии и приблизил острие к горлу годовалого сына, – esta![90]
Такое уже случалось. Всадники слышали от братьев по оружию леденящие душу истории об убийстве армянок и рожденных ими за прошедшие три года детей похитителями-курдами, оказавшимися в безвыходной ситуации. Перевес сейчас был, конечно, на стороне армянского отряда, и они смогли бы спасти из плена и увезти Манэ. Но этот младенец был бы неминуемо убит отчаявшимся отцом. И всадники повернули поводья лошадей.
Так у курдов появилась своя знахарка. А ее брат, записанный со слов соседей по всем известной бабушке-целительнице, стал Паргевом Паравяном и оказался в приюте для армянских сирот на уже независимом от османов греческом острове Корфу. Весь остров был временно превращен в огромный сиротский дом, где различные международные миссии разместили целых тридцать тысяч спасенных армянских малышей. Всего было выкуплено у турок сто тридцать две тысячи сироток – по доллару за пару, и выкупало правительство США для сохранения ценного для человечества армянского генофонда, но никак не для армянского государства.
Корфу – это было совсем недалеко от исторической и географической Армении. Не пали еще, как в карточном фокусе, все империи одна за другой, за исключением авторов фокуса, владевших Британской империей. Не начался фокус переименований и переиначиваний всего и вся. Так что Тавр все еще назывался Армянским Тавром в географических картах, да и Армянское нагорье не было ещё переименовано в Анатолию или Переднюю Азию. И вообще назначенный Лигой наций арбитром по армянскому вопросу американский президент Вудро Вильсон уже подготовил, подписал и поставил печать США на плане создания Малой Армении площадью в 160 000 квадратных километров. План включал 189 страниц текста и 152 страницы картографических приложений, где была отмечена каждая дорога, каждая высотка и впадина границы между Турцией и Арменией, включавшей населенные армянами Ванский, Эрзрумский, Битлисский и Трапезундский вилайеты бывшей Османской империи. А от Российской империи – Карскую и Ереванскую губернии, включавшие в том числе Карс, Ардаган, равнинный и нагорный Карабах, Нахичевань, Сурмалинский уезд и, понятно, – гору Арарат. Это была Армения от моря до моря, как её именовала Лига наций. И договор на основе плана подписали турецкое правительство и правительство Армении. А являвшееся в то время единственным легитимным органом России Временное Правительство подтвердило независимость двух своих имперских провинций – Финляндии и Армении – на Парижской конференции 1920 года. 22 ноября 1920 года – дата вступления в законную силу Плана Вильсона. 29 ноября того же года – красный день календаря до самого 1991 года. Это день советизации Армении.
Были ли Лёва Бронштейн (Троцкий) и Мойша Кемаль (Аттатюрк) любовниками или очень близкими друзьями до гроба – отдельный вопрос, имеющий непосредственное отношение и к Армянскому вопросу. Но ответ Кемаля на прямой вопрос Нури Чонкера (Nuri Conker) для прессы по поводу своего происхождения таков: «Некоторые обо мне говорят, что я еврей, потому что родился в Салониках. Но не надо забывать, что и Наполеон был итальянцем из Корсики, хотя умер как француз и как таковой вошел в историю». (For me as well as some people want to say that I’m a Jew – because I was born in Salonica. But it must not be forgotten that Napoleon was an Italian from Corsica, yet he died a Frenchman and has passed into history as such.). И он был прав: придумавший на костях греков и армян новообразование «Турция» выпускник иудейско-суфийской школы Шабтая Цви дёнме[91] Мустафа умер как турок. Хотя если честно, турки его люто ненавидят.
И опять про дружбу
15 декабря 2004 г., полдень
Это был Таиланд, страна огромных деловых успехов. Страна его первой и последней любви зрелого мужчины к юной красавице-китаянке. Отсюда уже в сорок лет он увез её к себе, во Францию, в Лион, где родились и выросли оба его сына. Спустя годы, привез прах жены, чтобы похоронить у неё на родине, да так и остался. Вот уже двадцать лет он жил в этой резиденции на берегу Сиамского залива, лишь изредка наезжая в Европу.
Кабинет был с международный вокзал, основательный и, как здесь принято, роскошный, с золочёными ручками дверей, золотыми обрезами старинных книг в резных стеллажах и солидной коллекцией картин и бюстов с временным разлетом в добрых двести лет. Хозяин давно вырос, точнее, усох от установленного в кабинете бронзового изваяния сорокалетней давности, где он был отлит с гривой кучерявых волос, выпуклыми губами и пронзительным взглядом прирожденного аналитика.
Оба сидели на краешках огромных кресел друг против друга: девяностодвухлетний хозяин кабинета Паргев Паравян и семидесятилетний журналист Леонард Сэмюэль. Оба худенькие, тщедушные, с крупными носами и одинаковыми карими глазами, которые, однако, смотрели на жизнь совершенно по-разному. Старенький был вспыльчивым, как порох, и убежденным оптимистом. А тот, что дожил до седин, но по возрасту годился ему в сыновья, – терпимым к человеческим слабостям, но глубоким пессимистом. Хотя оба имели основания быть пессимистами, так как потеряли родителей и всех близких родственников в раннем детстве. И наоборот – оба имели право быть оптимистами, так как несмотря на всё, выжили и даже добились успеха. Но, встретившись, они дурачились как мальчишки.
Надо признать, что в настоящий момент у Паравяна действительно было больше оснований для оптимизма, так как ему невероятно везло в нарды.
– Мое еврейское счастье, – брюзжал Леонард, вглядываясь в тормозящие игру единички на зарах[92]. – Ну и везунчик ты, Паргев, – сокрушенно качал он головой, – сколько лет с тобой играем, и ни разу не было, чтобы тебе не везло…
– А ты не везунчик – с твоим-то номером на руке? – хмыкнул Паргев, кивнув на татуировку на запястье, полученную Леонардом в концлагере. – Ничего, после меня местным чемпионом по нардам несомненно станешь ты.
– Да кто тебя переживёт? – безнадежно махнул рукой Леонард.
Вошла прислуга – изящная девушка кукольных размеров с томным взглядом.
– Нам кофе приготовь, Кими, – попросил Паравян. – А ты какой будешь, Ленни?
– Давай-ка и я сегодня выпью кофе-по-турецки, может, всё дело в нем? – предположил гость, записывая итог тайма в толстый, как энциклопедия, блокнот. Увесистый том являлся архивом их чемпионатов на протяжении последних лет.
– Слушай, – возмутился Паравян, застыв с за-рами в горсти, – ты вроде образованный человек, известный журналист, Ленни. И при этом не знаешь, что когда турки утвердились в Западной Армении в пятнадцатом веке, мы уже давно возили кофе из Эфиопии и Йемена, готовили и пили его, имели кофейни. И не просто пили, а популяризировали во всем мире! Сам Людовик Четырнадцатый специальным указом даровал армянам эксклюзивные права на поставку кофе во Францию и пил кофе, приготовленный его поваром-армянином. И самое первое кафе было открыто в Париже армянином. И там это был кофе по-армянски. Почему ты так называешь черный кофе, Ленни?
– Это просто бренд, Паргев, – отмахнулся Леонард.
– Это вы, журналисты, из всего бренды придумываете, – Паравян отложил зары и всплеснул по-старчески веснушчатыми руками. – И получается, что армянский кофе – это турецкий бренд! Белые кошки-ныряльщицы с голубыми глазами, которых армяне тысячелетиями выводили для царедворцев в нашей древней столице Ван, – тоже турецкий бренд! И наши церкви и монастыри, на которых турецким флагом занавешивают кресты, – уже тоже турецкий бренд! Даже великая Троя греков – и та сегодня турецкий бренд! Это же молодой народ пятисотлетней давности, Ленни! Когда они впервые объявились в Передней Азии, твой народ уже пятнадцать веков, как имел всемирную банковскую систему, давал нам деньги в рост, и мы торговали продуктами своих ремесел по всему свету! Как вы, журналисты, можете одаривать турок чужой античной и христианской историей? Неужели вы передергиваете ее просто из благодарности? Что спаслись в Османской империи от испанской инквизиции? Или несёте чепуху по корпоративной неграмотности? Может, по ангажементу? Чтобы не сказать грубее – из личной корысти?
– О царь Саул, на свой же меч упав, – затянул любимое паравянское Леонард, чтобы сгладить ситуацию,
– Как ты, казалось, обагрял Гелвую, Где больше нет росы, дождя и трав! О дерзкая Арахна, как живую Тебя я видел, полупауком, И ткань раздранной видел роковую![93]– Данте журналистов в своих адовых кругах не упоминал, не помнишь? – прервал его все еще раздраженный Паргев.
– Нет, Паргев, ни журналисты, ни строители у Данте не упоминаются. Зато они часто упоминаются в анекдотах как обладатели самых древних профессий наряду с другой, не менее востребованной, – улыбнулся Леонард.
– Ты мне брось путать строительство с проституцией, – не на шутку раскипятился старый строитель, – то, что отстроили великие зодчие древности, до сих пор стоит и радует глаз, остается мерилом совершенства. Строительство – это созидание, а журналистика и проституция – разрушение. Нет, погоди, погоди, – продолжил он, видя протестующе поднятую руку Леонарда, – вы действительно только и делаете, что всё разрушаете: нравственные и семейные устои, тысячелетиями устоявшиеся представления о добре и зле…
– Паргев, побойся Бога, – смеялся Ленни, деланно моргая умными глазами, – ведь великие апостолы христианства, ходившие по пятам за Христом и записывавшие его гуманитарные откровения, – самые настоящие журналисты! И притом они были не турками, не армянами, а евреями!
– Вот тебе – евреями! – вытаращил средний палец Паргев, – и Ованес, и Матевос и Маркос[94] были армянами! Про Гукаса[95] точно не скажу, но те трое – точно армяне!
– Ты еще скажи, что дева Мария была армянкой, – веселился Ленни.
– Мариам была из города Назарета, где, кроме армян, тогда никто и не жил! – кипятился Паравян. – И Овсеп, по-вашему Иосиф, был армянином, членом влиятельной армянской диаспоры в Египте. А с чего было этой молодой паре спасать младенца Исуса в Египте, если евреи бежали оттуда в таком темпе, что аж моря расступались? Египет был дружественным для армян, а никак не для евреев! А это уже ваш еврейский бренд, да? Мы вам придумали христианство, но остались иудеями? Мы Христа родили, мы и убили?
Недавно принятая на работу служанка в испуге застыла на пороге, приняв традиционную перепалку друзей за скандал.
– Не бойся, не бойся, Кими, мы это так – упражняемся, чтобы форму не потерять, – улыбнулся Паравян, – давай сюда угощение.
Куколка засеменила к столу, с поклоном поставила поднос и удалилась.
– Как же тебе не стыдно, Паргев? – взорвался сдерживавший возмущение Леонард, как только она вышла. – Как ты мог такое сказать: «мы родили – мы и убили»? У наших народов схожие судьбы, но вас преследовали и истребляли только турки. А кто не устраивал еврейских погромов? Ты можешь назвать хоть одну европейскую страну? Кто нас не притеснял? Испания? Россия? Арабский мир? И всегда – по этому надуманному поводу. Хотя Христос арабам не сват и не брат…
– Ладно, не буду, не буду, извини, Ленни, – миролюбиво похлопал его по руке Паравян, – пей кофе. Все-таки для вашего народа историческая справедливость была восстановлена.
– А что толку в этой исторической, как ты говоришь, справедливости, если за ней стоит столько измененных жизненных сценариев, это бесконечное напряжение в Израиле?
– Ленни, ты Менахема Зигеля здесь застал? – вспомнил вдруг Паравян.
– Только и застал: я переехал сюда, когда он был уже в твоем возрасте, наверное.
– Ну да, у нас с ним разница в возрасте была, почти как у тебя со мной, царствие ему небесное. Когда я получил первый крупный строительный подряд в Бангкоке и обосновался здесь, он уже был богатым человеком, владел доками и осуществлял грузовой бизнес порта. Мы встретились с ним случайно, и он сразу пригласил меня домой на обед. А здесь, знаешь, такое не принято.
– Даже при очень серьезной деловой подоплеке не принято, – усмехнулся Леонард.
– Ну да. Это не Кавказ и не Ближний Восток. А Мойша пригласил. Он был выходцем из Сирии, и я сперва решил, что дело в ближневосточной традиции. Но слово за слово, и он рассказал мне удивительную историю. Я тебе рассказывал, как они с отцом прогорели из-за геноцида?
– Нашего?
– Нет, нашего.
– Нет, это интересно, Паргев, ну-ка расскажи, – и Леонард поудобнее устроился в кресле.
«Ты знаешь, – сказал мне Мойша во время того обеда, – ведь наша семья – тоже жертва геноцида армян в Османской империи. У моего отца был маленький финансовый бизнес в Алеппо: он менял валюту и давал деньги в рост. В основном купцам-армянам, которые из Константинополя через Средиземное море, Сирию и Иран направлялись в Индию и вообще извечно держали Всемирный Путь пряностей и благовоний. Отец аккуратно ссужал им деньги, они аккуратно расплачивались, и все это он аккуратно регистрировал в своих приходно-расходных книгах. Но однажды, а было это весной тысяча девятьсот пятнадцатого года, все заимодавцы исчезли. Ну никто из должников не объявился, и отец терялся в догадках. Потом до нас стали доходить слухи о массовой резне армян по всей Турции, о том, что всех мужчин разоружили, отправили в армейские стройбаты и там убили. Или просто расстреляли в сборных пунктах или по дороге к ним. Молодых женщин разобрали, а стариков, старух и детей направили под конвоем турецких солдат через безжизненную пустыню Тэрь Зор на юг, в нашу сторону, в Сирию. Потом появились первые горстки живых скелетов старух и детей, и местные арабы выносили им из дому воду и одежду. То, что они рассказывали, означало только одно: наших клиентов просто не могло быть в живых. И мы прогорели со своим бизнесом, как последние шлемазлы. А спустя пятнадцать лет, в тысяча девятьсот тридцатом, когда мы с отцом держали скобяную лавку, к нам постучался незнакомый молодой человек. «Я – Арамаис Ипекчян, – представился он, – сын Карапета Ипекчяна, который взял у вас кредит в пятнадцатом году и не вернул».
– Слушай, Паргев, это же интересная история! Можно я о ней напишу?
– Конечно, напиши. Обязательно напиши, потому что после меня о ней уже никто не будет знать, – обрадовался Паравян и заложил ногу за ногу. – Записывать будешь?
– С удовольствием, – ответил журналист, достал из кармана пиджака миниатюрный блокнот и застрочил бисерными буквами.
– Так вот что рассказал Мойше молодой Ипекчян, а Мойша – мне:
«Когда турки собрали армянских мужчин под предлогом отправки на фронт и стали расстреливать, отец был тяжело ранен, упал и был завален грудой тел. Семьям было дано два дня на сборы для высылки за пределы Турции через пустыню, и сделано это было специально: чтобы они собрали все самое ценное и турки легко отобрали это у них с самого начала…»
– Как делалось в фашистских лагерях, – дополнил его Леонард.
– Так я же тебе всё время твержу, Ленни, что Гитлер велосипеда не изобретал, а аккуратно повторял турок! – развел руками Паравян. – Он повторил их даже с печами Освенцима: преодолевших пустыню армян встречали турецкие солдаты, которые загоняли их тысячами в гигантские древнеримские сухие колодцы и заживо сжигали! В Сирии местными краеведами обнаружены пещеры с тридцатью тысячами скелетов армянских детей, задушенных ядовитым газом, – вот тебе и прообраз газовых камер! Сценарий истребления целого народа был задуман и опробован на армянах еще на заре века! И даже медицинские опыты на армянских детях – тоже ноу-хау врачей-извергов Турции, а не фашистских медиков!
– То есть Гитлеру можно вменить и плагиат, – усмехнулся Леонард.
– Главное, что можно вменить и турецкому султану Абдуль-Гамиду, и сменившему его Кемалю Ататюрку, и молча наблюдавшим за этим Германии и Австрии, и англичанам, обменявшим свое молчание на обладание Кипром и нефтеносным Каспийским берегом, и повторившему турок Гитлеру – нарушение промысла Божия. Ведь Творец создавал народы неспроста. Каждый народ имеет свою миссию на этом свете. Народы – как камни в здании человеческой цивилизации: разные, но необходимые для стойкости, красоты и удобства конструкции. Убери один – и здание ослабнет. Убери народ древний, обогативший мировую культуру, а значит – краеугольный в фундаменте, и вся красота отстроенного здания окажется временной: перекосится и рухнет от бурь и землетрясений. Два удара – я имею в виду мировые войны, Ленни, – человечество худо-бедно пережило. А третий? Ведь не выдержит. И не потому, что появились новые виды вооружения, а потому, что твои турки при молчаливом согласии Запада и в дальнейшем Гитлер, задним числом попытались изменить проектно-сметную документацию, автор которой – сам Господь Бог. Ослабили фундамент, сильно ослабили…
– Ты прав, Паргев, – поднял глаза от блокнота Сэмюэль, – и здесь я опять углядываю положительную миссию турок. Она состояла в предупреждении человечества, в демонстрации ему Зла геноцида, которое должно было быть своевременно осуждено и наказано во избежание новых трагедий. И здесь мне есть в чем упрекнуть армян: если бы вы в свое время сумели добиться всемирного осуждения этого зла, то, возможно, мы бы избежали той же участи. Но что твоему народу не удалось, моему – удалось. Десять – ноль! – провозгласил он, и если бы счёт «твой народ – мой народ» заносился друзьями в гроссбух, то он бы выглядел внушительней, чем счет игр в нарды.
– Так ты про Зигеля хочешь слушать или нет?
– возмутился проигрышу Паравян.
– Я весь внимание, – улыбнулся Леонард и в доказательство поёрзал в кресле, чтобы удобнее устроиться.
– Вот что рассказал мне Менахем со слов молодого Ипекчяна:
«Армяне пошли искать своих мертвецов, чтобы честь по чести их похоронить, и семья Ипекчяна нашла его живым, но тяжело раненным в грудь, вынесла из-под тел и спряталась вместе с ним в горной деревне, куда турки еще не дошли. Дети у него были – мал-мала-меньше, а старшим был десятилетний Арамаис. И отец дал ему как старшему последние наставления, и в том числе – вернуть долг старому Зигелю из спрятанной в доме заначки. Потом турки нагрянули в деревню, закололи и без того умиравшего отца. Была резня и высылка населения и этой деревни, и мальчику не удалось вернуться в свой дом и найти спрятанные деньги и золото».
– Это ж сколько денег и золота нашли турки в армянских домах после массового изгнания! – поднял глаза от блокнота Леонард Сэмюэль.
– А как же. Армянские жилые дома и предприятия, имевшееся в них имущество и спрятанные по углам дворов сокровища стали стартовым капиталом для большинства преуспевающих ныне семей Турции. У них даже военный аэродром Инчерлык создан на угодьях двух армянских поместий, ты себе можешь представить? А дворцы? Ты знаешь, сколько там осталось шедевров архитектуры, которые они показывают зарубежным экскурсантам как собственное наследие? Но, в отличие от случая с евреями в фашистской Германии, вандалов-экспроприаторов не наказали ни союзники, ни Бог.
Тема опять грозила уйти в боковую ветвь препирательств, и журналист мудро подтолкнул:
– А что случилось потом с тем мальчиком?
– Вся семья погибла, сам Арамаис чудом выжил и попал в приют для армян-сирот в Ливане. Оттуда в пятнадцатилетнем возрасте уехал в Европу, выучился на инженера-нефтяника и поступил на работу в компанию «Шелл». И в свой первый же отпуск приехал в Алеппо, чтобы разыскать Зигелей. Но к тому времени отчаявшийся дождаться своих заимодавцев и давно закрывший финансовый бизнес отец Менахема пять лет, как уничтожил приходно-расходные книги!
– Ну-ка, ну-ка, как же поступил старый еврей? – заинтересовался Леонард.
– Так, как поступают люди чести. Но сам Менахем был ещё молодым, а дури в голове у молодых много, сам знаешь, да?
Паргев, в силу разницы в возрасте, считал семидесятилетнего Ленни молодым, и тот кивнул ему в знак согласия.
– И он сказал отцу, – продолжил Паравян:
«Раз уж ты уничтожил книги, а этот парень готов платить, давай нарисуем ему кругленькую сумму!» А отец ответил: «Типеш ты еще, Мойша, и ничего не смыслишь в порядочности юноши, который приехал из сверкающего Парижа в наш занюханный Алеппо только для того, чтобы исполнить последнюю волю давно умершего отца». И отказался получать деньги от сына заимодавца, которого он уже и не помнил. Но Арамаис Ипекчян настаивал, так как иначе воля Карапета осталась бы неисполненной, а его приезд – абсолютно безрезультатным. И старый Зигель согласился взять у него нормальную сумму, а Мойше наказал: «Во-первых, запомни этот пример сыновней верности и порядочности. А во-вторых, держись в бизнесе армян: они не подведут».
– Ну конечно, – улыбнулся Ленни, – и что, так он и поступал?
– Откуда бы он здесь их нашел? Единственным знакомым армянином был я. Бизнес у нас не пересекался, но в человеческом плане у нас с ним была хорошая и долгая дружба. До последнего дня его жизни. Царствие ему небесное!
– Слушай, Паргев, а ведь это классная история! Если бы мне пересказал её кто-то другой, я бы решил, что это выдумка Голливуда или индийского кино!
– Нет большего выдумщика, чем Господь Бог, дорогой мой. И все волшебное разнообразие и сходство людей и зверей, цветков и планет, облаков и камней обязательно означает еще и многообразие и сходство человеческих судеб.
– Да уж ты мне-то не говори. Я за свою журналистскую карьеру таких историй насмотрелся и наслышался, что Голливуд действительно может отдыхать. Попытаться продать им сюжет, что ли?
– А что? Давай! Я тебе рассказывал о своей дружбе с Шагалом? – воодушевился Паравян.
– Много раз, – отмахнулся Леонард и спрятал блокнот в карман. – и о том, что твой американский армянин Вериян спас его, Фейхтвангера, Томаса и Генриха Маннов, Франца Верфеля и еще около двух тысяч евреев, хотя они и не были знакомы, и вывез из оккупированной Франции в США, тоже рассказывал. Но мы же всенародно выразили ему благодарность, объявив праведником. А у вас есть такая хорошая традиция награждать иноверцев титулом праведника за заслуги перед своим народом? Нет. Еще раз – десять ноль! Ладно, ладно, не кипятись так, а то никакое снотворное не поможет. Как продвигаются твои поиски?
– Я доволен, Ленни, очень доволен. В государственном архиве Сирии обнаружен очень важный документ о принудительном отуречивании армянских детей-сирот в детских приютах этой страны. Оказывается, спасшихся от резни мальчиков насильственно подвергали обрезанию…
– Ну это не так страшно, как тебе кажется.
– Не сагитируешь, Ленни, – скорчил забавную гримасу Паравян. – Так вот, спасшихся от резни сирот насильственно подвергали обрезанию, обращали в ислам и меняли их имена и фамилии на турецкие, сохраняя только первые буквы. Только по одному сиротскому дому миссии «Ниар Ист Рилиф» сохранилось более тысячи записей! Я готов заплатить за копию этого документа большие деньги, чтобы приобщить его к обвинительному иску по геноциду, если такая возможность представится. По твоему совету и по примеру твоего народа я хочу создать частный центр, куда будут стекаться аналогичные документы для исследования и систематизации. Турки, конечно, держат архивы на замке, а за запертыми дверями уничтожают документы, чистят архивы, прихорашивают. Но в других-то странах сохранились сотни тысяч таких документов! И в том числе – за подписью сына таможенного служащего из Салоник, еврейского мальчика-отличника, ставшего в дальнейшем Отцом всех турок – Кемаля Ататюрка.
– Ну, в этом еще надо разобраться, Паргев, – уклончиво ответил приятель.
– В чем разобраться? – развел ладони Паравян. – Имелись ли в его аттестате четверки?
– Между нами говоря, турки – это ваш эксперимент Франкенштейна: вы их, пришлых кочевников, сформировали как этнос, дали ему название, вооружили грамотой и технологиями, вот они вас же и убили…
– Нет, это ваш Франкенштейн, Ленни! Франкенштейн – это ваша фамилия, это вы дали им безнравственных лидеров, научили политическим козням и заговорам!
– Ладно, считай, что они наш с вами совместный проект, результатом которого явился бренд под названием «турки», – миролюбиво заключил Леонард Сэмюэль.
О плюсах и минусах кооперативного движения
2004 г., осень
– Жили-были слоники, Слоники-дальтоники.Слоники-дальтоники путали цвета, – мурлыкала Верка, разводя хозяйственным ацетоном вонючую акриловую краску для ремонта автомобилей. Блестящие пятна акрила придавали художественной композиции на полотне удивительную свежесть, а довольная собственным новаторством Верка вспоминала дни, когда придумала эту песенку для обучения своего малыша названиям цветов.
Это было счастливое для Верки лето 86-го, когда её муж Жора с друзьями открыли кооператив по производству дефицитных запчастей для автомобилей, арендовав один из цехов родного завода. Ребята ночи напролет вручную чертили, делали расчеты на единственном калькуляторе, попутно рассказывали анекдоты и байки и курили до одури на открытой веранде их с Жорой уютного одноэтажного домика, уцелевшего посреди окруженного новостройками двора.
Ответвлявляясь от скрученного в тугую спираль ствола и опираясь на направляющие деревянные брусья, ветви виноградной лозы плотно прикрывали веранду естественным шатром нежно-шершавых листьев. Гроздья винограда густо свисали над столом и матово светились, как модели таинственных звездных скоплений. Просто подняв руку, можно было сорвать кисть с золотыми шариками, надорвать зубами терпкую кожицу и, придавив языком, ощутить нёбом волшебный вкус сердцевины.
Они жили в самом-самом центре Еревана, в двух шагах от Оперного театра и через дорогу от построенного на месте церкви Святых Погоса и Петроса роскошного кинотеатра «Москва». Но это был их с Жоркой оазис старины, где в кустах сирени по-детски сопел сверчок, а бесстрашная мошкара билась насмерть с неумолимой настольной лампой. We are the world, we are the children[96], – доносились из соседней многоэтажки голоса объединенных в хор разноцветных американских звезд, и мир действительно казался уже объединившимся во имя добра, а Верка с мужем и их друзья – его неотъемлемой частью.
Трехлетний Артошка спал в своей кроватке, приоткрыв яркие губы, расслабив кулачки и широко расставив ножки, как великан в детстве. Временами его веселил являвшийся во сне ангел-хранитель, и малыш широко улыбался, а глазные яблоки двигались под плотно прикрытыми веками с густыми ресничками. Ветка персикового дерева свешивалась в окно спальни, и сам малыш, с его покрытыми золотым пушком румяными щечками, походил на свежий персик, который неудержимо хотелось поцеловать.
Верка жарила на кухне баклажаны, тушила молодую баранину, выпекала на открытом огне мясистый сладкий перец и счастливо угощала всей этой красотой заработавшихся ребят. Еще она носила им в глиняном кувшине отжатое из винограда молодое недобродившее вино – мачар, имевшее обманчивый вкус рядового виноградного сока. Выпитые литры прохладного мачара утоляли жажду, будили воображение, коварно нарушали координацию движений и обязательно провоцировали взрывы новых идей и пересказов старых анекдотов молодых кооператоров.
С одной стороны, это был страшный год, потому что это был год Чернобыля. Но злополучная АЭС была в четырех тысячах километров от Армении, и трагедия вызывала здесь сочувствие и сопереживание, но непосредственно не коснулась никого, кроме командированных туда трех сотен спасателей. А с другой стороны, это был счастливый, и притом последний действительно счастливый год. Потому что вслед за ним неотвратимо и последовательно наступали ошеломляющая своей бесчеловечностью резня армян в Сумгаите, затем – странное Спитакское землетрясение, унесшее десятки тысяч людей и разрушившее весь промышленный запад тогда еще советской Армении. Потом был ужас армянских погромов и массовых убийств в Баку, и, наконец, – операция «Кольцо» по депортации армян из Карабаха, приведшая к войне на этой земле. И, конечно, Верка не могла предугадать, что приносимые Жорой домой вполне честно заработанные в кооперативе и перевязанные бечевкой с банковскими пломбами здоровенные кирпичи денег смогут изменить его до неузнаваемости.
Год был счастливым еще и тем, что давно окончившая истфак Верка благополучно выбралась из этапа пеленок и скарлатин и сдала идиотские аспирантские минимумы по материалистическому взгляду на мир Божий. На кафедре ей даже предложили было занудливые темы для диссертации. Само собой, их неминуемой составляющей была классовая борьба тружеников Армении против своих же угнетателей-армян, как бы они в конкретный исторический период ни назывались. И Верка было поддалась.
Но однажды профессиональный бес её попутал. И очень основательно. И Верка, болтая за чашечкой кофе в университетском буфете, поделилась со знакомыми ребятами своей догадкой. Присутствовавшему редактору университетской многотиражки идея ужасно понравилась, так как пробивавший себе дорогу в большую журналистику ушлый комсомолец к тому времени смекнул, что без сенсаций газеты остаются дорогим сырьем для макулатуры. Он попросил Верку изложить идею на бумаге, и она бесшабашно согласилась. Гвоздем ближайшего номера стала такая вот статья с присовокупленным сияющим ликом Верки в ореоле её фирменных кудряшек:
СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ
МОЛОДОГО ИСТОРИКА
Аспирант кафедры стории Древнего мира и раннего Средневековья Ереванского университета Арев Петросян в ходе исследовательской работы пришла к потрясающему выводу, который может оказаться настоящей научной сенсацией для востоковедов мира. Суть открытия мы передаем со слов самой аспирантки А. Петросян:
«Аккадский царь Саргон говорил о себе так: «Моя мать была бедна, отца я не ведал, брат моей матери обитал в горах. Зачала меня мать, родила меня втайне, положила в тростниковую корзину, вход замазала смолой и пустила по реке».
Известно, что Аккад был построен в устье Тигра и Евфрата. Чтобы засмоленная корзинка приплыла туда быстро, сохранив орущий от голода ценный груз, нужно было запустить её в быструю, то есть льющуюся с более высокой отметки воду – тем более что дядя будущего царя жил в горах. И понятно, что никакая, даже безмужняя авантюристка, не пустит рассчитанного на выживание первенца по волнам, если это неопробованный и опасный путь. И не доверит пусть нежеланного, но своего ребеночка, другому народу – тем более что проповедовавших интернационализм международных организаций тогда и в помине не было.
А опробованными были эти путешествия для жителей армянского Вана, которые еще задолго до Саргона шили из кожи лёгкие, как современные надувные бассейны, лодки, укладывали в них товар и преспокойно спускались по течению реки Тигр прямо на юг Месопотамии. Здесь они сбывали товар, в том числе и разобранную на детали лодку, покупали местный, навьючивали его на тягловый скот и возвращались восвояси.
Даже если бы среди ваших знакомых было немного армян, всё равно среди них нашелся бы хоть один Тигран. А корни его имени уже много тысячелетий утопают именно в медленных водах величавой реки Тигр. Вот по этому испытанному пути и приплыл будущий аккадский царь в город Киш, где был усыновлен и наречен именем Саргон. Если рассматривать имя как двукорневое, то первый – «Сар», знаем, – вершина горы (той самой, где жил дядя?), а вот второй корень, судя по различным источникам, был, скорее всего, не «гон», а «гой» или «гог». А означает он «возникший» или «лоно». В обоих случаях имя Саргон понимается по-армянски одинаково: Возникший на горе, или Из лона горы. То есть и усыновлен он был, как спланировала прагматичная мать, армянами, которые к тому же догадались об исходном пункте отправки корзины. Здесь же, в Кише, Саргон служил садовником и виночерпием одного из местных царей, а вскоре и сам стал одним из самых влиятельных правителей Древнего мира».
Гневных звонков из академии и еще более компетентных во всех вопросах органов было так много, что этот номер многотиражки расхватали до последнего экземпляра и отксерили каждый по многу раз. Словом, сенсация удалась.
– Была бы моя газета платной – стала бы бестселлером, – хвастал редактор многотиражки, предчувствуя карьерный рост. Предчувствия оправдались с точностью до наоборот, и его перевели на работу в другое комсомольское издание с понижением в статусе до рядового корреспондента. А страдающая узколобым национализмом и подвергнувшая сомнению основы ортодоксального советского востоковедения аспирантка была вызвана на заседание ректората, где её ждали с повинной, а получили наглую беспартийную отповедь.
Идеологически подкованные академики и профессора надували щеки и назубок цитировали корифеев советской исторической науки про времена, когда нас просто не могло быть, потому что не было и других советских народов. И осуждали молодого ученого за то, что вступление на научную стезю та ознаменовала махровым ревизионизмом.
Но догадливая девица посоветовала ректорату снять с глаз шоры, что в переводе с армянского, как известно, – «тряпочки». Возмутительное лошадиное сравнение вывело из себя даже отмалчивавшегося дотоле ректора-физика.
В финале разбирательства бессовестная аспирантка отказалась заниматься наукой в болоте процветающих за счет биографии своего народа амфибий и буквально хлопнула дверью ректората. А это означало, что перед ней навсегда закрылась и дверь в советскую государственную историческую науку.
– И слава Богу, – решила в сердцах Верка, и заполучивший её домой с потрохами Жора радостно согласился с ней.
– И слава Богу, – подумала она почти двадцать лет спустя, – и весело завершила назидательный пассаж:
Ах, смешные слоники, Слоники-дальтоники, Вот и заблудились вы, Путая цвета!Три песенки знал медведь, и все – о малине
2004 г., осень
Когда уровень исполнения картин Арамиса стал внушать уважение, Верка расставила их по стеночкам мастерской, походила, попереставляла, что-то отложила, снова критически осмотрела и объявила:
– Пятьдесят таких работ – это уже серьезная заявка. Будем делать выставку!
Арамис обомлел. Его так увлек сам процесс творчества, что о результате он не задумывался. Он просто делал наброски где попало и на чем попало и ежеутренне робко стучался в дверь Веркиной мастерской, чтобы претворять замыслы в пышущие жизнью метафоричные картины.
Картинки на выставку делились на несколько циклов, и наиболее интересным был последний – GRAAL. Там в клубах золотистых облаков таинственно проступали странные безглазые лица, автономно плавали в дымке глаза с просительно-пронзительным взглядом, а бледные тела были распластаны в многообразных эротичных позах. Камасутра могла отдыхать.
– Да-а-а, три песенки знал медведь, и все – о малине, – подумала Верка, а вслух спросила:
– Ты считаешь цикл законченным?
– Нет, – энергично замотал головой Арамис, – мне ещё осталось написать три картины.
– мне ещё осталось написать три картины.
– Ровно три? – засмеялась Верка.
– Да, – задумчиво ответил Арамис, – это будет триптих.
– Серьезно? – удивилась Верка. – А о чем, если это не страшный секрет?
– Об эволюции духа, – объяснил Арамис, вперившись в стену, и стало ясно, что он этот триптих уже видит.
– Вселенского? – съязвила Верка, старательно демонстрируя наивность.
– Да нет, пока – просто человеческого, но на примере моего.
– Слушай, Арамис, – уставилась на него Вер-ка, впервые почувствовав уважение как к товарищу по гильдии, – а ведь ты здорово вырос как художник! И продолжаешь расти…
– Скорее, я только начинаю расти, – улыбнулся Арамис, всё еще вглядываясь в стену. – Я многое понял с тех пор, как стал учиться у тебя.
Ты мой гуру…
– Да ладно тебе, – смутилась Верка и поторопилась сменить тему, – так мне звонить рамочнику? Деньги есть?
– Будут, – сказал Арамис, – я свою квартиру продаю.
– Здрасте, – возмутилась Верка, – ты мой-то опыт не повторяй! То есть, конечно, здорово, что мы с тобой оба стали признанными самодеятельными художниками при совершенно ином образовании. И здесь мой передовой опыт подлежит распространению. Но жить в полуподвальной мастерской, я тебе скажу, не самое большое удовольствие.
– Сволочь твой Жора, – вынес приговор Арамис. – Продать дом, перевезти жену с маленьким ребенком в подвальную мастерскую и смотаться навсегда со всеми деньгами – это не просто не по-мужски, это самая настоящая махровая подлость. Пусть только появится в Армении – я ему покажу, предателю. Уж о Шварце с Тиграном можно и не поминать.
– А мне кажется, – улыбнулась Верка, – все дело в имени. У всех Жор есть слишком сильное авантюрное начало, и оно швыряет их из стороны в сторону, как чемоданы на аэропортовском конвейере. Хотя справедливости ради надо сказать, что под конец они выравнивают ход и приплывают к законным владельцам. Сказать по секрету, я на это немного надеюсь. Всё-таки мы жили очень счастливо и практически никогда не ссорились. Только когда он на минуточку стал богатым кооператором. Да и то – больше по политическим вопросам.
– Что, из-за политики ссорились? – поразился Арамис, который при всём богатстве опыта женитьб через такое испытание еще не проходил.
– Еще как. У него же национальных убеждений – ноль. Абсолютный и извращенный космополитизм.
– Да через это мы все прошли, – махнул рукой Арамис, набрасывая увиденное на стене, – мы ведь кто? Дети Советов. А какую историю и географию мы проходили? Ту, что придумали испорченые головы в ЦК. Прошли и перешли, забудь.
– А он не прошел, так и застрял, – продолжила Верка свой давний спор с мужем. – А может, уже преодолел и хочет вернуться победным маршем, но не получается. Если бы он дотумкал, что возвращение домой – пусть без бумеров и денег на новую квартиру – это уже победа над собственными комплексами, было бы здорово. Всё, лучше не будет. – И Верка принялась мыть кисточки. – И ещё, скажу тебе, есть у всех Жор несомненное преимущество: тяга к всевозможным знаниям.
– Слушай, а ты здорово классифицируешь по именам, – откликнулся Арамис, размазывая пальцем штрих на бумаге, – и что – все Георгии авантюристы? Даже Георгий Победоносец?
– А как бы иначе он стал победоносцем? – засмеялась Верка. – Но именных авантюристов и других много, это не только Жоры.
– Кто, например?
– Да хотя бы Артуры. Но при этом они – тупицы беспросветные. Хотя встречаются исключения с точностью до наоборот…
– А Арамы?
– А вот Арамы, дорогой ты мой, всегда, ну всегда – основательные и надежные люди!
– А я не исключение с точностью до наоборот?
– засмеялся Арамис.
О пользе американских мультиков
2004 г., лето
Понедельник начался, как обычно. Ида прошлепала в ванную комнату, собрала свои роскошные волосы в пучок, натянула на голову пластиковую шапочку и, стоя под душем, почистила зубы. Оделась, привела прическу и лицо в порядок, проверила содержимое сумки, надела на переносицу солнечные очки и спустилась на первый этаж, где сама отперла кафе. Приготовила себе здоровую чашку кофе-американо и стала дожидаться сотрудниц. Вместе с ними вынесла и расставила на тротуаре столики, стулья и зонты, прячущие еду и гостей от жаркого июльского солнца. Подошли первые посетители – ежегодно наезжающие в Ереван пенсионеры из-за рубежа. Ида расцеловалась с каждым, расспросила о новостях, перемежая западноармянский с английским или французским. Рассказала свежий ереванский анекдот, рассмешила и пошла распоряжаться на кухне.
Это был Каскад – самый тихий, комфортабельный и, понятно, наиболее дорогой район в центре Еревана. Справа уходил в гору эскалатор, связывающий центр с верхними районами города. Параллельно с ним устремлялись вверх ступени с аккуратными клумбами. Там, на вершине, высилась гигантская стела с древним и похожим на колос символом плодородия. Она увековечивала полувековую дату пребывания Армении в составе советской империи. У подножия горы журчали и поблёскивали фонтанчики в стиле национальных родников. Изысканно оформленная вереница широченных клумб тянулась и в противоположную от горы сторону – к памятнику Архитектора, который скептически сверял свой каменный генплан с реальностью происходящего. Пышущие растительным здоровьем клумбы пестрели цветами армянских ковров. А под сенью горы нагло щурился на прохожих жирный трехметровый кот-кастрат всемирно известного скульптора Ботеро.
Почуявшие хозяйку реальные коты засеменили из подъезда, закружили по мостовой, стали прицениваться к туристам за столиками. Ида вынесла вчерашние объедки, выложила их в миску под стеной, пнула пару наиболее нахальных кошек, погладила по дымчатой шерстке косолапого котёнка, помахала старичкам и села за руль своей тойоты. На улице Абовяна она припарковалась у Русского театра, перешла улицу и вошла в кинотеатр «Москва».
– Ну, какие у нас сегодня мультики? – жизнерадостно спросила она у молоденьких кассирш, и одна весело откликнулась:
– Совсем новый, американский! Я как раз подумала: придете вы смотреть свои любимые мультяшки или нет?
– Да вот она – я, – улыбнулась Ида, – пришла и еще обязательно приду. Неделю надо начинать с хорошего настроения, а лучший способ для этого – детские мультики с утра. Да что ж это такое, – разочарованно протянула она, вглядевшись в монитор компьютера кассирши, – опять я одна?
– Это пока ещё вы одни, – извиняясь, ответила кассирша, – может, еще подойдут. Все-таки папы и мамы на работе, понедельник…
– Вот потому-то его и надо начинать с веселых мультиков, – задорно парировала Ида, получила билет и направилась по ступенькам вверх, к кинозалу.
Старенькая билетёрша встретила ее как родную, рассказала новости о своем давлении, охнула от подаренного нового заграничного лекарства и отправилась хвастать перед коллегами.
Ида пружинисто вошла в пустой зал, прошла к седьмому ряду, грациозно развернулась ко входу, отвернулась, нашарила под третьим с краю сиденьем прикленный скотчем крошечный конвертик, сунула его в сумку. Потом продефилировала вдоль того же ряда к третьему с противоположного конца сиденью, внимательно осмотрела зал и балкон, подклеила под сиденьем схожий конвертик и уселась смотреть «Ледниковый период».
Саблезубый тигр здорово походил на Османа, так что Ида искренне веселилась какое-то время. Полученное в конверте письмо приятно прощупывалось сквозь кожу сумки, но какие поручения и сколько денег оно сулило на этот раз – пока не было известно. А сумма всегда означала степень удовлетворенности Османа. Ида выбралась из зала, подошла к киоску с попкорном и вскрыла конверт, дожидаясь болтающей на другом конце холла продавщицы. Достала и развернула письмецо и стала читать мелко набранный текст на английском:
«Дорогая Ида!
Большое спасибо за твое письмо. Еву оно обрадовало, и она шлет свой большой привет. Тетя Цецилия спрашивает, не могла бы ты почаще навещать нашу тетю Кейт, а еще лучше найти ей квалифицированную сиделку. Ты знаешь, какая она болезненная, и врачи говорят, следует ожидать новых приступов. Подбери грамотную молодую женщину, пусть ухаживает за ней, читает ей её любимые романы. Если будет нехватка в лекарствах и деньгах, мы поможем. Наш проказник Грегори тоже шлет тебе привет и просит новых комиксов. Мы здесь скучаем по тебе, надеемся встретиться зимой, вместе отдохнуть где-нибудь в Андах.
С наилучшими пожеланиями, твой дядя Отто
Касале-Монферрато, 04.01.02»
– Да что они там – совсем стыд потеряли? – мысленно возмутилась Ида, – Что я им – Дом правительства?
Она сунула письмо в сумку и вернулась в зал досматривать фильм, а точнее – поразмышлять над письмом под аккомпанемент мультяшки. Фильмы следовало досматривать во имя безопасной коммуникации.
Заданий и вправду была целая куча, и первым была необходимость найти эдакую проныру («квалифицированную сиделку») и подсадить её в Государственное агентство недвижимости (по уговору – к «тете Кейт»), которое намерено было объявить некие важные для Центра («тети Цецилии») тендеры («следует ожидать новых приступов»). Следовало снять копии предварительной документации («любимых романов») и отослать их дорогому «дяде Отто», которым был, конечно, Осман. Уж конечно, он поможет, «если будет нехватка в лекарствах и деньгах» – оно, видимо, того стоит. Но вот «проказник Грегори» с его требованиями все новых и новых комиксов её совсем достал, так как это означало добычу все новых и новых карт месторождений золота и стратегического сырья и отчетов геолого-разведывательных экспедиций.
– Кого бы подобрать? – думала Ида в темноте кинозала, постукивая пальцами по передним зубам. И сама удивлялась тому, что устраивать кого-то на работу ей теперь давалось гораздо легче, чем подобрать соответствующий контингент. Нехватка кадров. Абсолютная нехватка. Так кого же продвигать?
Как-то в городе ей на глаза попалась Джемма, одна из ушлых торговок тургруппы памятной поездки с Рипсимэ и Гаянэ. Она прогорела на подскоке курса доллара, задолжала банку, накануне потеряла заложенную квартиру и ходила теперь потерянная, как выброшенный на улицу домашний пёс. Ида пригрела ее, пообщалась пару дней и поняла: за внешней энергичностью скрываются абсолютно куриные мозги, и толку с Джеммы будет маловато. Но на всякий случай оприходовала, заселив в одну из своих пустующих квартир, и Джемма была готова была лезть за неё в огонь и воду.
Из Центра тогда как раз пришло задание завести фотохронику одной закрытой клиники, так что Ида устроила Джемму туда. С легкостью устроила. Правда, в качестве уборщицы, на груди которой нужно было пристроить фотокамеру. Из Центра прислали массивный серебряный крест с инструкцией и искусно вмонтированной в крест оптикой. В соответствии с инструктажем с этой игрушкой Джемме нельзя было расставаться ни под каким соусом и беречь его следовало, как единственный ключ от квартиры. Ида любила представления, ох как любила! И она устроила для этой курицы с её векторно-направленными мозгами свой очередной цирк. Сунула крест и сотню долларов знакомой аферистке, гадавшей на картах таро. Та с миной Нострадамуса изрекла, что всё невезение Джеммы – от отсутствия креста на груди, и торжественно водрузила на пышный бюст недотепы камеру в виде камушка в центре креста.
– Только смотри мне, чтоб не мочила его водопроводной водой! – пригрозила гадалка напоследок.
– А святой – можно? – спросила растерявшаяся дуреха.
– И святой нельзя. И спать в нем нельзя. А нужно вешать перед сном на оленьи рога в холле. Поняла меня? – выпучила глаза гадалка.
– Вай мама джан, – обомлела Джемма от прозорливости ясновидяшей, узревшей рога за километры.
– Да она, курица, ноги должна мне целовать, – думала всякий раз Ида, когда Джемма засыпала тяжелым сном от подсыпанного снотворного, а Ида сканировала отснятое за день. – Спит в мягкой постели, вместо того чтобы бомжевать. Работает уборщицей, оплачивается как директор. А я тут верчусь, как черт на сковородке. Ладно, материалы отошлю, а там видно будет, что с ней делать…
Пара-тройка других дурочек и придурков, трудоустроенные ею в нужные места, надежд не оправдали, а одна и вовсе поставила на грань провала. Нужно было осторожничать. Формула получалась забавная: «Легко устроить на работу, но некого».
Все было просто: её симпатичное кафе западного типа давно стало одной из достопримечательностей Еревана, а завсегдатаями заведения стали и благополучные армяне из зарубежных диаспор, и сотрудники аккредитованных здесь дипмиссий и представительств, и местные руководители и бизнесмены, и депутаты и прочая местная дребедень. Приятное интернациональное соседство за столиками, здоровенные американские порции по-здешнему вкусной еды и довольно низкие благодаря дотациям «тети Цецилии», цены притягивали местный истеблишмент, как мошкару к лампе. А радушная хозяйка Ида улыбалась каждому, расспрашивала о делах, семье, помнила дни рождения и делала приятные сюрпризы за счет заведения.
Мультик близился к финалу. Алчный Саблезубый тигр переметнулся в стан благородных спасителей детеныша, так что Ида даже перестала смотреть на экран. Фильм окончательно растерял сходство с нерисованной жизнью.
Сеанс окончился, Ида спустилась на первый этаж кинотеатра.
– Ой, не могу, что за чудо – этот мультик! Ленивец – душка! – поделилась она впечатлением с кассиршами, – я еще раз приду его посмотреть.
Дома не тот эффект!
– Конечно, приходите, – заулыбались скучающие в пустом кинотеатре кассирши, – мы вам всегда рады…
– Я пока поиграю немного, пока за мной заедут, да? – продолжила любительница мультиков и, расплатившись, уселась за крайний слева игровой компьютер. Включила его, нашарила под сиденьем плотный конверт. Именно это означали город и дата в конце письма «дяди Отто»: Кинотеатр «Москва» (Касале-Монферрато), четвертый компьютер (04) слева (01), стул (02). Отодрала, запихнула в сумку.
Зазвенел взведенный ею же будильник мобильника.
– Алло? Уже подъехали? Ну ладно, бегу, – ответила она молчащему телефону, прощально помахала девушкам в кассе, помотала головой в знак отказа от сдачи – и была такова.
– Слушай, она ведь совсем чокнутая, – шепнула одна кассирша другой.
– Жалко, да? – откликнулась другая. – Красивая такая, холеная, богатая… У неё только туфли с очками на тысячу долларов тянут…
– Вот с жиру дурью и мается, – подытожила кассирша.
С высоты ступенек кинотеатра Ида огляделась, сбежала к машине, села за руль и открыла конверт. Там было ровненько двадцать стодолларовых купюр. Значит, «тетя Цецилия» и покровительствуемая ею Ева и вправду довольны её содействием государственной регистрации антинародной секты. А это в свою очередь значит, что десятикратная к присланной сумма капнула на банковский счет на Кипре. Ида вставила ключик в зажигание, медленно вырулила на улицу и влилась в поток машин.
– Так где же найти грамотную активистку? – снова задумалась она и решилась: – Надо выдвигать Светку.
Как полезно гадать на кофейной гуще
1996–2004 гг.
Со Светкой они встретились впервые после тюрьмы ровненько через год, летом девяносто шестого. Ида как раз купила помещение для своего будущего кафе и лаялась с ремонтировавшими его рабочими. Недвижимость тогда стоила копейки, рабсила – бери-не хочу, но ей категорически не везло с поставщиками стройматериалов, дизайнерами и ремонтниками. Всерьёз её не воспринимали – хоть ты тресни! Легенда о богатом любовнике-армянине с Запада, которой её снабдил Осман, работала в глазах работяг против неё же.
«Нагрела тамошнего слюнтяя на большие тыщи, но нас-то не проведешь, – так и читалось в их глазах и сквозило в словах, – тоже мне, девчонка, раскомандовалась! Да что ты понимаешь в строительстве?»
Она и вправду ничего не понимала, так как этот курс в турецком учебном лагере не проходили. Да и юный возраст был серьезной помехой для обретения авторитета в глазах суровых армянских строителей. Ида плакала по ночам злыми слезами от неспособности изменить соотношение сил.
Вот в один из таких гадственных дней во время перепалки с монтажниками водопровода она и услышала за спиной прямо у входа в заведение:
– О-о-ой, не могу-у-у… Это ты, что ли, Ано? Нет, не могу-у-у: шикарно выглядишь!
Ида обернулась – перед ней стояла Светка собственной персоной: стройная, с орлиным носом на белоснежном лице и смеющимися изюминками глаз.
Ох и мечтала когда-то Ида об этой встрече, еще в бытность Ано, а не Идой. Чтоб проехать как-нибудь на своем подержанном, но настоящем мерсе мимо этой стервы, окатить лужей из-под колес и спросить: «Теперь-то дашь телефончик?»
Но сейчас ей было не до того, так как рушились все планы с пуском объекта.
– Да ты не реви, я сама с их братом натерпелась, пока свою комнатушку ремонтировала, – принялась та утешать удачливую сокамерницу, и, обернувшись к рабочим, насупила брови: Ну-ка, что за базар? Что это вы из ничего проблему строите?
Бойцовских качеств Светке было не занимать, и через минуту проблема была решена, а удовлетворенные компетентным руководством рабочие взялись за свои горелки.
– Да ты шика-а-арно устроилась, подру-у-уга, – восхитилась Светка, когда они поднялись в трехкомнатную квартиру Иды над кафе, – ой, не могу-у-у: и телевизор огромный, и видак. А ме-е-ебель, Ано…
– Я привыкла, чтобы меня называли Идой. Как Ануш окрестила, так и пошло-поехало… Ты-то как? – спросила её хозяйка заведения, ставя на стол чашку с кофе.
– О-о-ой, Идочка, и не говори-и-и, – протянула Светка, – всего-то три недели, знаешь, просидела я в тюрьме, пока шло предварительное следствие. А Владик, сволочь, всех окрестных шлюх к нам в дом перетаскал в мое отсутствие. Так одна даже тапки свои оставила. Ну, я этими же тапками его хорошо отделала! В другой раз – он меня. – Светка достала сигарету из пачки, закурила, – Словом, подала на развод и принудительный размен жилплощади. Так что оттяпала я от его родительской квартиры хоро-о-ошую однокомнатную рядом со своим родным физкультинститутом. Там и живу. Вот с работой мне совсе-е-ем не везет… – Света допила кофе и привычно перевернула чашечку на блюдце.
– Что так? – равнодушно спросила Ида, чтобы поддержать разговор.
– Ну, нашей финансовой пирамиде, знаешь, каюк. Начальство пересажали, имущество описали, я еле отделалась, и то потому, что и вправду – чистая, ничего, кроме высокой зарплаты. И ни один документ не согласилась подписать. Правильно меня родители предупреждали сто раз в день. И правильно я их в первый раз в жизни послушалась! – засмеялась она. – Сперва мы с мамой пахлаву пекли и сдавали в кондитерскую. На жизнь еле хватало. Потом знакомые рекомендовали меня одному министру – за новорожденной дочкой смотреть. У них старшие дети уже студенты, так их на министерских хлебах развезло на третьего…
– К какому министру? – равнодушно спросила Ида, но Светка вгляделась в обсохшее дно чашечки и заголосила:
– О-о-ой, мамочки мои-и-и, ты только посмотри: сквозная широкая дорога открылась до самого горлышка! Что-то бу-у-удет!
– Так что министр? – снова спросила её Ида.
– Десять часов пребывания в их хоромах с одним выходным, зарплата очень приличная. Но жена у министра, скажу я тебе – дря-а-ань – моим врагам! Сперва все нормально было. Ребеночек ма-а-аленький, хоро-о-ошенький – только дорогие подгузники меняй, бутылочку пихай и в ладушки играй. Потом эта трясогузка стала ревновать меня к мужу, придираться. А я – ты знаешь – со всеми на короткой ноге, но чтобы что-то такое – да никогда-а-а! Словом, уела она меня. Вот я на прошлой неделе вернулась домой, подумала хорошенечко и позвонила ему на работу по Прямому. И всё-о-о-о выложила. Он извинялся за свою дуру, просил потерпеть, но я ни в какую! Еще чего? Буду я перед этой трясогузкой пресмыкаться только потому, что ей с мужем больше повезло, чем мне с Владиком? Так что я теперь, Идочка, – безработный элеме-е-ент… А у тебя здесь работы для меня не найдется? Да хотя бы прорабом?
– А что? – подумала Ида, – хуже уж точно не будет. Да и связи у нее, оторвы, – что надо! Еще и нагрею Центр на её зарплате. Дрянь она, конечно, первый сорт, но именно такая мне сейчас и нужна. Пригодится. – И вслух сказала:
– Давай попробуем. Четыреста долларов в месяц за работу без выходных дней, пока не закончим, хватит? Но закончить должна под ключ за два месяца, обязательно до августа. А там – посмотрим.
– Ой ты мое со-о-олнышко, – обрадовалась непосредственная Светка, – да ты за мной как за каменной стеной будешь! Да я этих рабочих как построю в шеренгу с завтрашнего утра, так и будут маршировать под свисток, пока не закончим. Дай я тебя расцелу-у-ую…
– Иди к черту, – зло ответила Ида, – ты зачем мне номер телефона наврала?
– Слу-у-ушай, – заулыбалась Светка, – ну как бы я тебя, красавицу-раскрасавицу, с твоими-то глазищами, впустила в дом к своему шатуну? Я ж не знала, что буду разводиться!
Конфликт был исчерпан, а Ида действительно оказалась за каменной стеной Светкиных организаторских талантов. В июле стильное кафе засияло чистотой, из Турции прибыли заказанные столы, стулья и зонты. Первого августа была организована придуманная Османом и с блеском организованная Светкой презентация, куда припахали и многодетный министр со своей трясогузкой, и падкие на халяву сотрудники иностранных миссий, и ошивавшиеся на Каскаде закордонные дедульки со своими воспоминаниями об армянских корнях. Так и пошло. Мода на кафе дошла и до самого дальнего зарубежья, откуда богатенький теплолюбивый люд ехал на ереванский весенне-осенний сезон с твердым намерением опробовать обеды и посидеть-побалакать в этом гостеприимном заведении Каскада. Ненужных клиентов просто не было, и на каждого хорошо обученная в турецком лагере Ида заводила и регулярно обновляла персональное досье со всевозможными подробностями, которые то и дело запрашивала дотошная «Тетя Цецилия». Так прошло целых восемь лет.
Светка руководила кухней, в отсутствие Иды занималась и клиентурой. Язык у неё был напрямую припаян к мозжечку, так что всё, что она замечала и узнавала за день, выбалтовалось хозяйке буквально не отходя от кассы заведения. Только о своем красавчике-хахале – бывшем, как и она сама, спортсмене она упорно молчала в тряпочку. Тут опытная Ида смекнула: это у неё серьезно, и тем более нужно заманить его на дружескую пирушку для просвечивания.
Не то чтобы случай представился – Ида сама его сорганизовала, залив потолок собственного кафе из своей же квартиры. Всё равно осенью пора было ставить на ремонт восемь лет без единого выходного пахавшее заведение. Ида сама позвонила в санинспекцию, удивленный само-наводкой санинспектор явился не запылился, и, не дождавшись подачки, прикрыл контору на неделю.
– А что, – сказала она возмущенной самодурством инспектора Светке, – давай, раз мы в кои-то веки обе свободны, устроим пикничок? Вместо того чтобы гноить продукты в запертой кухне, поедем за город, отъедимся, отлежимся, твоего спортсмена с собой возьмем, а?
Светка не мычала, не телилась, и это стало не на шутку беспокоить Иду.
– Ты мне скажешь, что происходит, в конце концов или нет? – возмущенно спросила она. Это еще что за секреты с твоим спортсменом? Он что – сифилитик? Тогда тебе в кафе появляться нельзя!
– Ой, И-и-и-идочка, да при чем тут си-и-ифилис? – стала оправдываться Света. – Тут совсем другие дела-а-а. Он, конечно, постарше меня, но я его по институту хорошо помню: все девчонки по нему с ума-а-а сходили. Он тогда был уже женат, но на ком – я не знала. Оказывается, – на нашей покойной Тыкин Ануш, представля-я-яешь?
– То лав э![97] – искренне удивилась Ида.
– Мы с тобой и сами любили её и очень уважали, да, Идочка? Но для него она – настоящая свята-а-ая! Так что когда мы с ним недавно познакомились и он стал её при мне вспоминать, мне и хотелось рассказать о нашем с ней знакомстве, и неловко было говорить, что я сидела вместе с ней в тюрьме по статье мошенницы. Вот я и наврала, что и я – «политическая». Знаешь, как он меня зауважа-а-ал после этого?
– Вот и хорошо, – нашлась Ида, – теперь можешь представить ему и третью «политическую».
Пикник удался. Красавчик Арамис был галантен со своими «политическими» дамами, Светка шутила, Ида смеялась и демонстрировала собственную крутизну, извлекая из багажника новенькой тойоты все новые запасы еды и экзотического питья.
– Арамис, ты чемпионом по са-а-аблям был или кинжа-а-алам? – хвасталась Света своим знаменитым приятелем.
– Кинжал и сабля – орудия наемных убийц и шпионов, – последовал безапелляционный ответ Арамиса. – Я шпажист, а шпага – оружие защитника.
– А какая в них ра-а-азница? – удивлялась Света.
– Центр тяжести, – коротко объяснил Арамис.
– Для владения шпагой, мечом и рапирой необходима высокая техника, которая достигается годами усиленной тренировки. А так последовательно тренироваться можно только ради защиты высоких идеалов: отечества, дамы сердца, покровительства обездоленным. Самураи, рыцари круглого стола, мушкетеры, то есть известные нам именно своим благородством герои, дрались именно этим оружием. И здесь ритуал драки был не менее важен, чем результат. А у сабли и кинжала, или, как их называют турки, ятагана, центр тяжести смещен, благодаря чему поражающая способность гораздо выше при любой степени подготовки. Дай сегодня любому кочевнику кинжал – и завтра он станет заправским убийцей. Если снабдить его еще и соответствующей моралью. И никаких правил в ходе поединка или церемоний до и после драки. Вжик – и уноси готовенького.
– А «Танец с са-а-аблями» Хачатуряна? – нашлась вдруг Света, – это что-о-о – танец убийц?
– Нет, – улыбнулся Арамис, – это твоя привычная бакинская русскоязычность. Ну-ка, Ида, ты у нас настоящая армянка, родным владеешь: как называется этот танец по-армянски?
– «Сусеров пар», – пожала плечами Ида.
– Вот! – поднял палец Арамис. «Сусеров пар», то есть танец со шпагами! Сохранились записи композитора, свидетели того, как он спорил на эту тему с постановщиками. Но то ли кому-то это было надо, то ли посчитали, что сабля воинственней или благозвучней шпаги. Но наш народ, про который и написан балет «Гаянэ», саблями не воевал.
– Слу-у-ушай, а ты стал заниматься фехтованием, чтобы и вправду защищать да-а-аму? – старалась подбавить романтики Света.
– Да нет, – отмахнулся Арамис, – я начал заниматься фехтованием еще малышом. Во-первых, потому что меня выбрал тренер, а во-вторых, потому что это была интересная игра. Но с годами она, наверное, действительно пробудила во мне инстинкт справедливости, воспитала стремление защищать слабых…
– О-о-ой, ну ты и впра-а-а-авду самый настоящий мушкетер, – млела Света, а Ида уж не знала, кого из этих двоих она больше ненавидит.
Пили, вкусно закусывали, болтали, травили анекдоты – всё как на натурально случившемся пикнике.
«Моей Армении родной Я Солнца отзвук – речь – люблю…»[98] – декламировал Арамис, стоя над Аштаракским ущельем, распахнув руки и словно готовясь поплыть по воздуху вперед, к противоположному отрогу.
– Упадё-о-ошь, Арамис, – смеялась Света.
– Не упаду. А если и упаду – то на родной земле, – смеялся в ответ Арамис. – По скольким странам я ездил за свою жизнь, а такой красоты все-таки нигде нет, девочки…
– Да ладно тебе, – улыбалась Света, – а Ю-у-урмала?
– А Анталья? – сорвалось с языка вступившей в дискуссию Иды.
Арамис пронзил её долгим взглядом, потом процедил:
– Вот её, – он указал на Свету, – Советы испортили, а тебя кто? Ты-то ведь совсем молодая, и вообще из другого поколения.
Светку больно кольнуло разграничение поколений, в котором была подчеркнута молодость Иды.
– Её любимый ахпар[99] испортил, – невинно хихикнула она, указав тем самым Арамису на наличие хозяина, – они вместе туда ездиют.
– Откудошний он? – продолжил допрос Арамис.
– Он в Париже живет, – тренированно ответила Ида.
– Врёшь ты всё, – неожиданно подытожил Арамис, – да армяне Франции – они знаешь, как к нашей истории трепетно относятся? Цари Армянской Киликии – между прочим, Лусиняны, как и я, – похоронены в Париже рядом с Бурбонами. Это там каждый школьник знает. Да чтобы они со своими шлюхами ездили в нашу Киликию, где на каждом шагу – турецкий флаг? Врешь ты всё. Или с другим хахалем туда ездила, или твой дружок – вовсе не французский армянин.
– Да перестань ты, Арамис, – пыталась уладить конфликт Света, – Киликии уже пятьсот лет нет и в помине. Кто-то там должен жить?
– Конечно, должен. Но не тот, чьи предки вырезали моих предков для того, чтобы его потомки построили на костях курорт. А здешние недоумки таскались бы туда поджаривать свои задницы под тамошним солнцем…
– Слу-у-ушай, – не оставляла надежды умиротворить Арамиса Света, – так ты царских кровей?
– Не знаю я, каких я кровей, так как деда моего убили в восемнадцатом, когда турки напали уже на Восточную Армению, и он защищал нашу Первую республику. А отец у меня был напуганным ссылками родни молчуном-краснодеревщиком… Какой я царь? И кстати, какие вы «политические», члены нашей народной партии?..
– Да ладно тебе, Арамис, – затараторила обиженная Светка, – что ты придираешься, будто мы с Идой руководители партии или министры? Мы всего лишь женщины.
– В том-то и состоит ваша проблема, – не унимался раззадоренный её упорством Арамис, вышагивая вокруг них, – в том-то и проблема! Это мужчины имеют право ограничиваться меркантильными поисками добычи, забывать на время об идеалах и духовно опускаться до известной степени. Но даже свинствуя, они знают: его женщина себе такого не позволит и вовремя остановит…
Светка с Идой переглянулись, и та закатила глаза, как от наставлений зловредной училки. Арамис перехватил взгляд и завелся с новой силой:
– Да что вы понимаете в своей женской миссии? Случайно вылупились армянками, красивыми женщинами, и барахтаетесь с кем придется и где придется… Небось, думаете, что это и есть интернационализм? А слабо родить на чужбине хорошего мальчика и вырастить его таким, чтобы другой народ уважительно назвал его Ярославом Мудрым? Или воспитать Стива Джоббса? Вот что такое – способность любить другие народы…
По шоссе проехала шумная кавалькада машин с включенными на всю мощь магнитофонами, и Света с Идой проводили их тоскующими взглядами.
– Э, да кому я это все рассказываю, – махнул рукой Арамис, – волку Евангелие читают, а он говорит: «Кончай скорей, а то вон овцы уже уходят»…
Словом, не глянулась Ида спортсмену, да и Светка в её компании нарисовалась в невыгодном свете. Наверное, поэтому вскорости он исчез со Светкиного небосклона. Та походила пару дней зарёваннная, но долго горевать просто не умела. А вскоре здесь же в кафе познакомилась с Лёвой.
Да, со Светкой Ида была и вправду как за каменной стеной, но сейчас пора было выдвигать её на более серьезный пост – в государственное Агентство недвижимости. Ида поднялась в квартиру, отперла кабинет, включила монитор, понаблюдала за происходящим в зале, проверила, идет ли запись с каждого из столов. Всё было в порядке. Потом нашла на мобильнике нужный номер и нажала кнопочку:
– Алло, Хачатур Ашотович? Это Ида, да, да, я. У меня к вам просьба… Сегодня вечером будете? Милости прошу, очень рада… Но можно, я сейчас сама к вам подъеду? У меня конфиденциальный разговор. Да, паспорт при мне… Фамилия – Мардукян. Да, я знаю, где пропускное бюро. Спасибо.
Об опасностях инцеста на примере Дэна (брауна)
2004 г., осень
Когда Софи пришла в себя в подвале после аварии, она стала узнавать знакомые запахи. Собственно, именно на эти запахи она и помчалась сломя голову из особняка с тигриной клеткой. Потому что это был аромат подвала, где она родилась!
Но подвал совершенно преобразился. С труб больше не капало, потому что они были заботливо перебинтованы, как поначалу, до того, как она сгрызла бинт, – её больная лапа. Исчезли Ниточники и Усат ые Звери. А все углы заливал ровный свет, льющийся с чистого потолка. Жесткий мат, на котором она когда-то родилась, а теперь отлеживалась после аварии, был чистым и блестящим. А игрушки, которые она некогда звонко катала по полу, распугивая зверей, аккуратно лежали на полочках. Дверь, болтавшаяся раньше на одной петле и скрепленная длинной цепью с амбарным замком, была плотно пригнана и не позволяла проскальзывать в широкую щель, как они практиковали с мамой и братиками. Ими здесь уже почти не пахло, но это, безусловно, был тот самый подвал!
Пока Софи болела, Добряк часто заявлялся сюда, играл с её гулкими игрушками, ухал, сопел, начинал попахивать как деревенский Давид и весело болтал с ней во время очередного отдыха:
– Ничего, мы им еще покажем!
Кому они собирались показать, и главное – что, Софи понятия не имела, но согласно лаяла и весело кружила на трех лапах вокруг Добряка во время его игр. Но иногда он надолго исчезал, и Софи грустила даже больше, чем на мансарде или в тигриной клетке. Потому что вспоминала маму, братьев, всех своих прежних хозяев и осознавала весь ужас одиночества своей поначалу вроде бы задавшейся жизни. Вот уж действительно не родись красивой, а родись счастливой!
В свой очередной визит Добряк привел с собой вонючего человечишку, и чуткая Софи грозно зарычала на него и даже показала клыки. Вонючка со страху попытался пнуть её ногой, а Софи нацелилась тяпнуть его за эту вредную ногу. Разборке помешал Добряк и стал её успокаивающе оглаживать.
– Что же ты, дурная твоя голова, на бедного человека рычишь? Он же для тебя старается! – вразумлял её Добряк.
– Все равно он вонючка и вредина, – подумала Софи. – Самый настоящий Вредина.
Но Вредина достал из своего провонявшего всеми окрестными мусорниками рюкзачка зубчатую железку и проделал ею окошко в нижней части двери. Потом приделал к окошку автомобильный коврик вместо портьеры, и отныне Софи могла уже сама проникать в подвал и выходить из него, надавив носом на податливую резину.
– Ну спасибо тебе, Волод, на вот, держи, – сказал Добряк и протянул Вредине бумажку с картинкой и большой пакет, – я тут теплой одежды для тебя собрал. Ношеная, но чистая.
А потом обернулся к Софи и указал на окошко:
– Здорово я придумал, да? А то ты или с голоду здесь подохла бы без меня, или замерзла зимой в парке к чертовой бабушке. Я ведь, как швейцар, тебе дверь открывать-закрывать каждый день не смогу.
И оправившаяся после аварии Софи стала заново осваивать парк. Во многом он остался прежним, так как на тех же скамеечках сидели те же старички, которые часто спорили друг с другом, но были неизменно ласковы с Софи. Они приносили ей завернутые в бумажки вкусные косточки и даже мягкие мясные кусочки, и ставшая профессиональной попрошайкой Софи благодарно лизала их морщинистые руки.
Но оказалось, что Вредина обосновался в её парке! Он выглядел почти как Давид, но был гораздо меньше его ростом, а пах в тысячу раз хуже. И не было в нем ни капельки доброты деревенской половины исполина. Зато иногда разило противным «вэксинэйшн», и он был постоянно голодным. Он был настолько голодным, что даже крал у Софи спрятанные про запас аппетитные мясные кусочки и жадно поедал на заброшенной стройке в углу парка. Старички в лицо называли его Волод и безрезультатно пытались учить уму-разуму. За глаза его звали Бомж.
А еще был белоснежный красавчик с коричневыми пятнышками. Звали его Дэн, и по утрам он приходил в парк с Серыми Ногами, которые щедро угощали Софи хрустящими мясными конфетами. Так вот кем тогда пахло от Серых Ног! И Софи снова вспоминала свою сытую жизнь в тигриной клетке.
– А что, – думала Софи, – если Серые Ноги держат одного далматинца, то почему бы им не завести и второго? Ведь большинство людей хочет иметь и мальчика, и девочку. Я такая же беленькая, крапчатая и красивая, как Дэн, а на бегу даже не заметно, что задняя нога отсохла!
И Софи принималась кружить вокруг Дэна, призывая его поиграть. Она игриво припадала на передние лапы, приподнимала попку с вытянутым хвостиком, и гордец Дэн, если был в настроении, отвечал взаимностью.
Однажды он оказался в таком приподнятом настроении, что целых полчаса носился вокруг Софи, красиво гарцевал на задних лапах, пружинил пятнистые ушки и облизывал попку Софи. И она сама не заметила, как они слились в идеальную скульптуру у клумбы посреди парка.
– Нехорошо, – укоризненно качали головой старички, – хоть и собака, но она же из его помета, родная дочь! Это же всё на наших глазах тогда происходило! Как можно? И что у них может родиться после этого?
Старички ничего не знали про sterilization[100], а Серые Ноги сказали:
– It’s OK![101] Это просто здоровый собачий секс, и он для физиологии необходим!
Этого бесстыжего высказывания старичкам хватило на множество подогретых жизненным опытом и специальными знаниями дискуссий. Это сейчас они были старичками. А раньше они были, как они себя в долгих беседах называли, номенклатурой, которая возглавляла всё и вся от сельского хозяйства до искусства. И хотя по возрасту они опоздали на одну войну и оказались старыми для другой, всё же они были фронтовиками. Потому что когда-то крепко держали идеологический фронт.
– Ну да, – сказал один старичок, – это у них в стране вполне нормально. Что ни фильм, так какая-нибудь зареванная босячка или миллионерша жалуется, что её в детстве отец оприходовал. Или брат. Это у них в порядке вещей. Ни стыда, ни совести – что по телевизору, что в жизни.
– Это потому, – ответил ему бывший фронтовик идеи, – что осваивали Америку преступники и подрабатывавшие на них бляди в салунах. Так что с моралью у них был установочный дефект. К тому же их хваленые ранчо были на таком удалении друг от друга, что возник естественный дефицит решения половой проблемы.
Но был среди старичков настоящий спец по историческому материализму, и он им по-быстрому доказал, что в Америке институт брака был подорван истреблением индейцев, загнанных в крошечные резервации. А там от инцеста, или по-собачьему – инбридинга, или по-простому – кровосмешения было никуда не деться. И еще семейные устои подточило рабовладение, предусматривавшее разделение и распродажу черных семей по частям. Поэтому у чернокожих американцев понятие семьи до сих пор очень даже нестандартное и прямо скажем, полигамное. Так что, когда в шестидесятые хиппи стали спариваться на виду у всех, это был никакой не социальный протест, а распространение на потомков рабовладельцев замашек потомков их же рабов. И возникшие тогда, да и процветающие поныне свэп-клубы по обмену женами и мужьями на вечерок-другой – прямое продолжение их изначальной колонизаторской и рабовладельческой распущенности.
– Так что улыбающиеся в камеру президенты в обнимку с их благочестивыми женами – чистейшая рекламная фикция, разоблаченная курвой Моникой, – завершил он.
Слушал все эти диалектические выкладки, слушал старичок, который примазался к компании не в силу номенклатурной принадлежности. Просто он лучше всех играл в нарды и сам же их из дому приносил. А потом сплюнул и сказал:
– Тьфу ты, мать их хозяина… Корня у них нет, вот в чем дело. Вот и бесятся, как черви в банке. Слово придумали, испорченные твари, – секс. У нас о нем и понятия не было, а для женитьбы был закон «охт порт»[102]. Нет родства на протяжении семи колен – женись. Есть родство – забудь про такую женитьбу. Потому и невест испокон веку выбирали не из своего села или города, а издалека, но со сбором необходимой информации о семье и родне на те же семь колен. Тоже мне, секс! Мы безо всякого секса каких детей себе сделали, а? И летом в Сочи, Туапсе – тоже ничего себе было… Но это ж не для секса, а по молодости…
Софи ничего в этих диалектических тонкостях не поняла. И ещё она не знала смысла слова sterilization, а потому стала готовиться к материнству. В ветеринарии и даже человеческой гинекологии этот феномен называется graviditas spuria, или ложная беременность, которой страдали даже императрицы. Наверное, поэтому женское заблуждение инстинктов распространилось и на дочку дворняжки, принцессу Софи.
Если Серые Ноги пьют Scotch, то следует ли ждать и других событий на букву S?
2004 г., ноябрь
Был конец осени. Листья на дубах приобрели бронзовый цвет памятника, что через дорогу, живая изгородь из дикого винограда бархатно переливалась всеми оттенками багрянца, платаны алели, тополя желто высвечивались спокойным ноябрьским солнцем, а вязы по-прежнему оставались зелеными. Рыжий безуспешно охотился на прижившуюся в неправильно сколоченном скворечнике белочку. Та весело дразнила его, прыгая по густо стоящим вековым деревьям, а старички млели под нежаркими солнечными лучами и страстно спорили по поводу очередных международных событий. При этом они часто упоминали Армению, Россию, Америку и Евросоюз, и их разговоры смутно напоминали Софи оставшиеся в прошлом Жилистые Ноги и сытое безделье в тигриной клетке, куда она угодила под занавес зависимой от хозяев жизни. Но взять след этих героев старичковых бесед в парке не удавалось.
Старички по очереди играли в нарды, и многие из них считали Софи собственным талисманом, способствующим выигрышу. Софи делала вид, что исподлобья следит за ходом игры, и лежала возле их составленных для игры скамеек, уже совсем по-взрослому вытянувшись и положив морду на передние лапы. На самом деле она углубилась в себя и размышляла, прядая ушами от грохота припечатываемых к полю деревянных фишек.
После того памятного события Дэн на пару дней потерял к ней интерес, и это было страшно обидно. Потом он вновь стал звать её поиграть, но Софи и сама ощутила равнодушие к нему. Потому что Софи всерьез настроилась на рождение щенят, которые могли стать единственными родными для неё созданиями, так как мама и братья были безнадежно утеряны, а с хозяевами ей не повезло. Теперь она ждала своих собственных щенят – беленьких в коричневую или черную крапинку, прекрасных, как их бесчувственный папа и неудачница-мама, но счастливых и хорошо устроенных, в отличие от неё. Дочь деградировавшей в городе за профессиональной ненадобностью дворняжки и залетного иностранца-отца, красавица Софи под хорошей устроенностью имела ввиду доброго, щедрого, послушного и непритязательного хозяина. И это её заблуждение вряд ли распространялось только на собак: ведь оно свойственно и многим женщинам.
Когда солнце садилось, старички расходились по домам, и парк погружался в абсолютную темень. Тогда Софи принималась обходить скамейки в поисках парочек влюбленных. Обычно с ней добродушно делились чипсами, попкорном и мороженым, тающим от их жарких объятий. При её появлении девушки взвизгивали, демонстрируя своим ухажерам, какие же они боязливые и нежные. А молодые люди всячески укрепляли в своих избранницах убеждение в собственном бесстрашии и широте души. Они подпускали Софи близко, ласкали её и делились с ней аппетитным содержимым своих хрустящих кулечков.
А еще в парке стали появляться девушки неизвестного Софи типа. От них резко пахло всеми запахами туалетного столика Жилистых Ног, хотя сама обладательница столика так многообразно никогда не пахла. И еще они ходили в обуви на очень высоких подставках, а такую обувь Софи не встречала ни у кого из своих прежних хозяев. Даже у Давида обувь доходила до колен, но подставок не имела. Девушки испускали дым совсем как Давид и хрипло разговаривали друг с другом. Иногда к ним подходили разные люди, и они уходили из парка. А то и исчезали в недостроенном здании, где обосновался Вредина Волод.
Софи на заброшенную стройку не ходила, так как не ждала от Вредины ничего хорошего. Но однажды к нему наведались Серые Ноги. Софи осторожно прокралась вслед за ними в расчете на то, что на этот раз Серые Ноги будут мучить и Вредину. Но Серые Ноги настроены были вполне миролюбиво, и они вдвоем даже стали пить из бутылки Scotch.
– Ага, – подумала Софи, – они и с Жилистыми Ногами сперва пили Scotch, а потом уж начинались пытки.
Но пытки не начались. Наоборот, они долго по-дружески разговаривали, и на прощание Серые Ноги отдали Вредине несколько маленьких бумажек с картинками из тех, что водились в сумочке Жилистых Ног. Софи все это ужасно не понравилось. И вообще дружба Серых Ног с Врединой была для неё уж слишком, или too much, как сказали бы Жилистые Ноги.
Родом из комсомола
2004 г., 3 декабря
«Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой,
Он тоже ездил в саночках по горке ледяной»…
Вот в точности такой я и был. Белокурый, кудрявый, с ясным взглядом умницы, и бабка с дедом всё радовались: «наш маленький Ленин!» и уж не знали, где ещё поцеловать. У нас почему-то малыши светлыми рождаются, а уж потом, мужая, темнеют, как скворцы. Может, русские этих птиц так назвали, потому что оперением на армян похожи? Всё-таки «сквор» по-армянски – «одетый в траур»… А чёрт с ними, и с русскими, и с армянами, хотя и те и другие мне родня. Папашка был секретарь райкома в глубинке. Небось, мое имя помогло ему в карьере. Тогда все, кто хотел продемонстрировать лояльность к власти, называли детей Владимирами. Тем более что мать у него была русская. А это тоже лояльность к власти. Правда, в миру все Владимиры мгновенно становились у нас Володами или Ладиками. Я стал Володом, хотя должен был стать Ладиком, так как в росте застрял где-то в шестом классе и остался совсем маленьким.
Дразнить меня боялись – с этим и без папашки директриса разбиралась. Она меня и вправду любила, поблажки делала. А я её терпеть не мог, очкастую. Но вот что я действительно терпеть не мог в своей райцентровской школе, так это математику, физику с химией и прочую херню. Зато руки у меня были, как покойный дед говорил, золотые. И велосипед мог починить, и электросчетчик остановить, и телефонную линию наладить в свою комнату. Сам конуру для нашей собаки соорудил, покрасил. Любил я ее. Еще языки любил, да и у самого язык был трехметровый, как говорила директриса. А какой он еще может быть у единственного сына секретаря райкома? После школы папашка протолкнул меня в Ереванский госуниверситет на филфак. А там одни девицы! Вот и они, как бабка с дедом, уж и не знали, где поцеловать. Я тогда еще красивый был, кудрявый, одевался со спецбазы – с ума сойти!
Однокурсницы активные были, литературные вечера устраивали по домам, а всё больше – в моей свободной от предков квартире. Тогда все сельские секретари получали в Ереване трехкомнатные в окраинных микрорайонах. Если везло с карьерой и перебирались в Ереван, то уже получали в центре. Папашка мой так до конца и застрял в сельском районе, но с доплатой сам обменял на центр. Ну вот, устраивали у меня девчонки литературные вечера, из дому несли пышущие ванилью и корицей горячие пироги, свои стихи и классиков с подвыванием читали:
«Ты крутись, ты крутись, карусель, Твоей песенки знаю я хмель. Мглистый пурпур веселья без дна Был и сказкой, и чудом, но вдруг Всё пронзила улыбка одна — Нежно-подлая радость, испуг…»[103]Я тогда ещё не знал, что это за «мглистый пурпур веселья». Да и Терян не про то писал. Но я попробовал. Попробовал, когда уже в райкоме комсомола работал и вечеринки у меня дома перестали быть литературными. Кодеина по три таблетки глотали и балдели, смеялись до колик даже от вида паучка, забравшегося на стол. Но розового цвета еще не было, нет. Вот в точности в такую пурпурную мглу попал, когда в первый раз внутривенно попробовал. Вот это была красота! Те ощущения космонавта в открытом и именно пурпурном космосе до сих пор помню, хотя больше не повторились. Но до этого много этапов нужно было пройти…
Первая жена была дочка директора завода. Ни то ни сё. Но воспитанная, домовитая. Всё детей хотела, по гинекологам моталась. А откуда я ей детей возьму, если меня уже в Киеве вылечили? Я, когда университет окончил, папашка, с прицелом на комсомольский райком, устроил меня на годичные курсы комсомольских активистов в Киеве. Там и подзалетел. А у них, оказывается, в вендиспансерах фашисты засели. То есть лечить-то они лечили, но еще попутно стерилизовали всех кавказцев. Вы среди окружения поспрашивайте: кто учился в Киеве – после него только холостыми патронами стреляют. Но об этом разве жене расскажешь? Да и надоела она мне своими приставаниями: а что это за порошок у тебя в секретере? а почему ты зарплату так давно не получаешь? а почему анализы не хочешь сдать? С ней расстались по-доброму: папашка тогда еще секретарствовал, заводчик с ним тягаться не стал.
«Ты крутись, ты крутись, карусель, Твоей песенки знаю я хмель…»
Вторая была дочкой заведующей лаборатории. Но не научной, а лаборатории винного комбината. Мама моя родная, это ж какими штофами она нам вино на дом отсылала! И квартиру хорошо отремонтировала, с чешским кафелем и сантехникой. Ну и параллельно мои старались не отстать: от масла и сыра холодильник лопался, мед и орехи на столе не переводились – это они детородности старались поспособствовать. Всё вроде было нормально, но Нинка, вторая жена, была девкой ушлой, и мне пришлось стеречься. Я тогда после кодеина на порошок уже крепко сел, а она заметила. Научился колоться под ноготь большого пальца ноги, а следом выпивать стакан вина, чтоб кайф оправдать. Больно, конечно, в первый момент, но куда от неё денешься, такой заметливой? А шприцы швырял прямо в дворовое окно, пока соседи с первого этажа не устроили расследование: а откуда это шприцы сеются на их головы по вечерам? Нинка, я думаю, сообразила, но промолчала, а пока стала выслеживать, как чекист контру.
Но тут случился небольшой вселенский апокалипсис в виде кончины советской власти. И безработный папашка с маман перебрались ко мне, в Ереван – будущих внуков нянчить. Я их, конечно, устно не стал разочаровывать. Но в остальном разочаровал, сильно разочаровал. Я тогда уже в Госплане работал. Кто по возрасту из комсомола выбывал, тот шел в партийные органы, то есть на повышение. Или в Госплан – топтаться в кадровом отстойнике среди такой же полуноменклатуры в ожидании подходящего момента. Они с маман совсем другим ожидали меня увидеть, сотрудника важного правительственного органа. А я – с черными кругами под глазами, тощий, как дистрофик. Маман – в слёзы, а они у неё и так после закрытия райкома не пересыхали. Стала врачей обзванивать. А я что – дурной, анализы сдавать?
Я как раз тогда отцовский тайничок обнаружил с облигациями, которые уже тыщу лет никому не нужны. Но сумел сбыть, зарядился под завязку. Родители – в вой, но я им показал, кто в доме хозяин. Нинка вызвала свою лабораторную маман, а та просто собрала в чемоданы тряпичное и серебряное приданое – ведь чешскую сантехнику уже не отдерешь – и увела свою чистюлю от греха подальше.
Вот из-за её демарша, наверное, и получила моя бедная мама инсульт и свалилась в постель на полгода. Папашка от неё не отходил, а я между тем другой, и очень солидный тайничок обнаружил. Вот тогда-то я и пересел на внутривенное и ощутил «мглистый пурпур веселья без дна». Да, это был всем кайфам кайф! И никакой вой папашки, обнаружившего оскудевший тайничок спустя месяц, не мог его испортить. После этого он остатки стал на себе носить и как что – шасть к соседям со своими запасами. Отсиживался у них от периодов моего буйства. Мама к тому времени уже умерла, царствие ей небесное, ненамного пережила свою любимую советскую власть. Да и бедный мой папа вскорости последовал за своей властью и женой. Бедные люди, упокой Господь их души, как зомбировала их советская власть, так и утащила за собой в преисподнюю!
«Ты крутись, ты крутись, карусель, Твоей песенки знаю я хмель…»
Светка была ровно на голову выше меня и вообще спортсменка. Веселая была, игрунья! Не то чтобы она на мою квартиру купилась, но квартира сыграла свою роль, сыграла. Она ведь считала, что квартира – производное от достоинств человека. А потому в таких апартаментах мог жить только умный и солидный, но не понятый предыдущей дурой человек. Я здесь, говорила, прямо как у себя дома, в отцовской квартире. У них в Баку точно такая же сталинка была, когда родителям пришлось без штанов драпать через балконы в девяностом. Но выжили. Их Гарри Каспаров вместе со своей родней и соседями чартерным рейсом вывез. Это ж сколько там напичканных добром квартир осталось! Армян же история не учит. Домовитые, всё в дом. Вот и Светка. Деньги зарабатывала хорошие, видак купила, кассет целую прорву. Американские фильмы про любовь очень любила, млела перед телевизором, когда я был уже в отрубе. Всё удивлялась, что дорогая румынская стенка стоит, а на полках пусто. Купит хрустальную вазочку, поставит на полку, порадуется пару дней, а на третий её уже нет! Разбилась, говорю. Она уже начинала догадываться, когда её арестовали вместе со всеми сотрудниками её конторы.
Меня из Госплана попросили к тому времени. Не могли, наверное, простить коммунистическое происхождение и имя. А жить-то надо! А я что – даром комсомольским организатором работал? Видаков тогда еще почти ни у кого не было, я и стал массовые сеансы устраивать дома. Не так чтобы очень, но на кайф хватало. Ребята приходили из наших, здесь же и ширялись, и мне доза перепадала. Один раз привели важного такого человека, с золотыми цацками. Давай, говорит, квартиру мне продай, сделаем фиктивный обмен на однокомнатную в хрущевке. Хорошие деньги заплачу, говорит.
Я подумал день, поторговался и согласился. Он принес аванс, я обещал справки для обмена за неделю собрать. А тут объявляется Светка прямо из тюрьмы! И находит в коридоре чужие тапки, а я уж и не знаю, чьи они! Может, кто-то с подагрой пришел на сеанс и забыл. Ну и постели, понятно, все помятые, грязные. Так она из этого такой сеанс мне устроила – страшно вспомнить! Этими же тапками проклятыми всю черепушку исколотила. Ей-то сверху, при её росте, удобно, а у меня ну совсем сил нет сопротивляться в сушняк! А главное – я совсем забыл, что она первой из жен у меня прописалась, так как иногородняя! И отказывается переезжать в хрущевку – хоть ты у неё в ногах валяйся, хоть цветочными горшками в неё швыряй! И что больше всего обидно, так это то, что я здесь уже сто лет живу, она – всего-то год, а соседи все на её стороне. Милицию вызывают, показания сволочные дают. В общем, присудили мне принудительный размен с ней, и съехал я в двухкомнатную.
И там меня находит тот, что в цацках. С пацанами пришел. Или отдавай, говорит, гнида, мои деньги назад прямо сейчас, или я тебе не завидую. И в доказательство попинали ногами лежачего, прямо у меня на кухне. А где я ему деньги возьму, если и сам уже в долгах? Словом, обменял я и эту квартиру. И переехал в однокомнатную хрущевку в микрорайоне. Еле выторговал у этого мужика доплату. Он человек незлобивый был вообще-то, но не любил, гад, когда его обманывали. А я разве хотел обмануть? Так получилось из-за заразы этой, Светки…
«Ты крутись, ты крутись, карусель, Твоей песенки знаю я хмель…»Хрущевку я продал и не пожалел. Потому что район вроде в том же городе, но чужой, население – как из другой страны. Грубые какие-то, плевать им на мое образование и происхождение. А заплатили мне за хрущевку прилично. Молодая семья была из провинции, ей уже рожать, спешат. Когда же про мои должности и происхождение узнали, то даже торговаться постеснялись. Снял я комнату у одной ведьмы, за месяц вперед заплатил, а она меня через неделю взашей вытолкала и денег не вернула. Еще и грозилась в милицию спровадить наркомана проклятого. Куда деваться? Пошел в родном районе пошляться, может, кого сердобольного и встречу из старых знакомых. А там в парке стройка законсервированная! Я пролез, полазил, нашел прорабскую. Нормальная оштукатуренная комната, с дровяной печкой, столом, лавками. Руки-то у меня все ещё золотые, так я и окна залатал, и электричество наладил, и умывальник устроил. Пошлялся по мусорным бакам, старых тюфяков и одеял нашел, посуды недобитой. Даже лучше, чем у карги-домохозяйки получилось, да еще без неё и бесплатно! Ну, я там наширялся, мама моя родная, давно такого кайфа не было! А потом – опять сушняк, а продавать уже нечего: чужую стройку никому не впаришь.
Но когда я ошивался по мусорникам, оказалось, что баки-то эти – золотое дно! Испорченный старый телевизор выбросят, а там пайки и детали на четверть дозы тянут! Или тазы и ступки и всякую старую медную дребедень богатенькие буратины из новоиспеченных из дому повыбрасывают. А с этим можно прямиком к антикварам, и, хоть за копейки в сравнении с их-то наваром, сдать! Пожировал так с месяц, а потом на меня поперли какие-то громилы: сфера, оказывается, давно поделена. Виноват, братцы, говорю, не знал. Но дайте и мне-то дохнуть, раз карта так легла. С мусора же не убудет: эвон, баки дважды в день саночистка опорожняет, а они опять переполненные! Но эти громилы какие-то тупые попались, ничего не понимают, орут, вот-вот придушат. Тут на крик парень зашел из парка. Что это за базар, говорит, что это вы вчетвером на малявочку навалились? Один попытался сунуться к нему – отлетел. Другие поняли, что противник попался квалифицированный. Главный с ним объяснился, поручкался. Но на прощанье пригрозил, что если еще раз засекут у мусорников с работой по цветному металлу – хана мне!
Этот парень посидел со мной, воды дал попить, успокоил, послушал, какое у меня происхождение и образование и как мне сейчас тяжело живется. Но не посочувствовал, а стал командовать. Госпланов и райкомов, говорит, давно нет – и не надо. А ты, раз так сумел эту коптерку обустроить, давай, обустраивай и жизнь свою заново. Жизнь, говорит, никогда не поздно заново и с хорошей ноты начать. Руки у тебя золотые, вот ими и зарабатывай на жизнь. Но на настоящую жизнь, а не розовые облака. У меня лично, говорит, для тебя работка разовая есть: вход надо проделать для знакомой собаки. Заплачу, сколько надо, и знакомых поспрошаю: кому что нужно переделать или наладить. А ты эти розовые туманы забудь, а не то и впрямь пропадешь окончательно.
Словом, с приветом оказался парень: заплатил за персональный вход для приблудной собаки. Раньше меня собаки любили, и я их. А эта вредная попалась, невзлюбила с первого взгляда. Усмирил он её, еще и одежды мне дал, которая на моей фигуре – как мундир Гулливера на лилипуте. Но я ничего, подкоротил, ушил, где надо, вполне прилично поначалу смотрелась. Еще пару раз заходил он ко мне с едой и сигаретами. А потом махнул рукой: самоубийцу, говорит, можно спасти максимум два раза, а на третий он все равно удавится. Ты над этим подумай. И невдомек было дураку, что я вскорости стану не самоубийцей, а убийцей, так как за деньги на дозу я готов сейчас душу дьяволу продать. Да уж и продал, можно сказать…
Москва – Ереван – транзит
2005 г., ноябрь
Первое, что я помню, – мамины песни перед сном и ощущение счастья в кроватке. Когда она тихо пела, нежно массируя мне спинку, все дневные обиды на детсадовских друзей и грозных воспитательниц таяли, улетучивались, и я подкладывала мамину руку под щечку и счастливо засыпала. А ещё запомнилось, как папа подкидывал меня на колене:
«Мы едем, едем, едем В далекие края…»Папа подкидывал меня, мы вместе с ним голосили «едем, едем, едем», а ездила мама. И я на весь период маминой командировки попадала в лапы маминой подруги, жеманной тети Ирмы из соседнего подьезда. Она приводила меня из садика, пыталась кормить своими бездарными супами, а я отказывалась. Она наседала, я отмахивалась от ложки и ревела, пока вечером не приходил папа, спасая нас обеих. Дома мы с папой ели вкусные «взрослые» бутерброды с бужениной и маслинами, открывали банку заготовленного мамой еще летом компота из персиков, он читал мне перед сном любимую сказку «Цветик-семицветик» и целовал в лобик: «Спи, mia Carina»[104].
Мама привозила мне суперские платьица и туфельки («чтобы веселее бегала в них, мое солнышко»), папе – яркие галстуки и красивые авторучки («чтобы больше «зачетов» ставил своим охламонам, мой строгий профессор»), и дом снова наполнялся вкусными запахами кухни и нежным маминым ароматом. Рай длился два-три месяца, а потом повторялись и тетя Ирма, и её настырная ложка, и мой рёв, и наш с папой любимый «Цветик-семицветик».
Когда я пошла в школу, племянник нашей соседки тети Оли пошел в восьмой.
– Нет, Никитична, ты прикинь, – возмутилась как-то тётя Оля, сидя у нас на диване, – они в школе чуть не каждую неделю деньги на аборты собирают.
– Как на аборты? Кто? – обомлела мама и попросила меня:
– Каринэ, солнышко, поставь нам на кухне чай.
Это означало, что меня культурно выставляют за дверь, но я малокультурно застыла в коридоре.
– А вот так – на аборты их одноклассницам. То одна беременеет, то другая, а родители мальчишек – отдувайся! – продолжала возмущаться тетя Оля. – Может, и врут, заразы, но как на мальчишек налог установили, так и взимают без передыху.
– Это сейчас началось? – продолжала мама допытываться совсем слабым от ужаса голосом.
– Да нет, и в прошлом году бывало, но так чтобы каждую неделю – только сейчас. Сестра уж и классной руководительнице жаловалась, а она говорит, что это вы сами детей распустили, в школе они этим не занимаются. Школа несет ответственность только за то, что происходит в её стенах. Нет, ты представляешь, Никитична, если они этим и в школе начнут заниматься?
– Это что – повальное явление? – спросила мама.
– За всю Москву не скажу, но у моих подружек из цеха пацаны тоже пошли в восьмой и девятый – там то же самое. Одна у Ботанического живет, другая – у Павелецкого. Ты прикинь, а?
– Москва губительна для юных душ, – сказал мама, – мне нужно спасать ребенка. Москва просто губительна, – и я как раз вошла, чтобы отнести конфетницу.
Вечером меня отослали в мою комнату, как если бы я была виновата в тетьолиных проблемах. Я учила читать своих малограмотных кукол, а из кухни доносился голос мамы:
– Ну как ты не понимаешь, Костик? Причём тут противозачаточные средства? Проблема в нравах, а не в медицинских последствиях!
Папа что-то терпеливо объяснял маме, а она, обычно такая тихая и сдержанная, срывалась на крик:
– Мы просто-напросто осознанно погубим ребенка, если останемся в Москве в ближайшие годы! Какой Нью-Йорк? Если в Москве такое творится в седьмом классе, то в Нью-Йорке и детсад опасен! О чем ты говоришь?
Папа снова пытался что-то ей втолковать вполголоса, а мама снова кричала:
– Костик, миленький, ну как ты не хочешь понять, что мужчины и женщины – совсем разные, и созданы природой с разными целями! Мужчины – исследователи и завоеватели, и ранний сексуальный опыт – неотъемлемая часть и условие их познания и покорения мира. Женщины – хранительницы очага, консерваторы, где бы и кем бы они ни работали. И ранний сексуальный опыт неминуемо разрушает их здоровый природный консерватизм, вносит дисгармонию, обрекает на несчастливость…
Папа опять тихо возражал, а мама опять кричала, и мне становилось страшно, хотя я ничего не понимала:
– Господи Боже мой, да как же ты, такой тонкий и чуткий ценитель искусства и литературы, не понимаешь этого? Да, девочки влюбчивы, но их влюблённости духовно обогащают их. А ранний сексуальный опыт останавливает их духовное развитие, он для них деструктивен! Девушка должна ждать своего первого и единственного, потому что только с ним она может быть по-настоящему счастливой…
Я продолжала играть с куклами, но неожиданно почувствовала глухую и абсолютную тишину, вслед за которой раздался хлопок двери папиного кабинета.
– Костик, ты меня не так понял, – сказала мама вслед. Потом подошла к двери и добавила, не открывая: – Ты меня совсем не так понял. Точнее, я не то хотела сказать. Извини. Прости меня, Котик-Коток… Я люблю тебя, только тебя, и буду любить, пока живу…
Папа открыл дверь, мама вошла, и в наступившей мирной тишине я наконец смогла заняться образованием своих разодетых дурочек.
Когда мы потом пили на кухне чай, мама вдруг сказала:
– Я только одну историю тебе перескажу, а потом ты сам решай. Я обещаю, что подчинюсь…
– А вот подчинения я от тебя не требую, дика-рочка ты моя цивилизованная, – улыбнулся папа.
– И ты слушай, солнышко, – обратилась мама ко мне. – Я тебе объясняла значение твоего имени Каринэ. У армян есть традиция увековечивать названия своих городов, провинций, рек, морей, озёр и вообще своих исторических и священных мест в именах детей. Отсюда люди по имени Арарат, Ван, Назарет, Ани.
– И Каринэ – в честь провинции Карин, откуда вы родом. Помню, – продемонстрировала я свою эрудицию.
– Вот из этой провинции, во время небывалой резни в середине девятнадцатого века, люди разбежались по древним армянским поселениям. Осели на востоке Османской и юго-западе Российской империй. Сегодня это территории Турции, Грузии и России. Дедушкин отец перебрался в Тбилиси, а потом в Ереван, а его младший брат – в Кисловодск. Он там хорошо устроился и остался навсегда, создал большую и дружную семью. Когда во время Второй мировой войны немцы оккупировали Кисловодск, то, конечно, солдаты стали бесчинствовать. И в числе прочих плохо поступили с его внучкой.
– Как – плохо? – заинтересовалась я.
– Выругались, наверное, при ней, – объяснил папа.
– А у неё было шесть братьев, – гладко продолжила мама, – умные, приличные парни, которые уже были на фронте, а младший, который по возрасту для фронта еще не вышел, был безобразник и хулиган…
– Как и положено в жизни и в русских сказках, – засмеялся папа, и я обрадовалась, что он больше не обижается на маму.
– Так этот младший брат прокрался ночью в немецкий штаб и вырезал всю патрульную службу, двадцать два солдата и офицера.
– Что? – удивилась я, – что он вырезал из патрульной службы за то, что солдаты ругались?
Папа скорчил маме смешную гримасу, но она продолжила без особых разъяснений:
– И он, представь себе, не ушел, остался на месте ждать утра. Чтобы не подставлять других людей. А кроме того – чтобы продемонстрировать оккупантам, какие отчаянные поступки они же сами и провоцируют. Когда преступление было обнаружено, то, конечно же, было решено казнить парня. Но как? Местных жителей вешали. А его расстреляли, как воина. Конечно, родня убивалась. Но знаешь, что было потом? Немецкий фельдмаршал издал указ, запрещавщий немцам под страхом смерти приближаться к девушкам из армянских кварталов!
– Понял, – сказал папа, – и могу считать, что я счастливчик. Потому что если бы твои родственники прознали в свое время про русского хохла-профессора, ухаживающего за своей студенткой в интересном положении, то не поздоровилось бы и мне.
Тут уж мама сделала папе большие глаза и отправила меня чистить зубы перед сном.
Летом мы с мамой переехали в Ереван. Папа с мамой не развелись, нет. В школу я ходила в Ереване, а на каникулы мы ездили к папе, в Москву. И он к нам часто приезжал.
Когда через год в Ереване стали отключать свет и начались холода, это было даже интересно, потому что мама умела из всего сделать праздник. Мы жарили картошку на дровяной печке, на которой день-деньской пел чайник. Готовили уроки и резались в морской бой при свете свечей. А спать укладывались в кровать с заранее подложенной туда резиновой грелкой.
А когда давали свет – Боже мой, как мы радовались! Мама включала сразу и стиральную машину, и пылесос, и телевизор. Мы пылесосили, смотрели телевизор, делали на электромясорубке котлетный фарш практически синхронно! И гладили, гладили одежду, пока не отключали свет. И кипятили в больших баках воду, чтобы, когда свет вырубят и не будет телевизора, искупаться, сидя на корточках и поливая друг друга из ковшика. Электрическое счастье длилось два, а то и три часа в сутки! Мама тогда уже была «общественным партработником», как смеялся папа, и он так и не сумел её уговорить вернуться в Москву.
Когда маму взяли вместе с её однопартийцами, у нас в школе из-за холодов были каникулы, и я проводила их в семье маминой двоюродной сестры, у которой дочка, Назик, была моей сверстницей и тоже училась в пятом классе. Но самым главным было то, что жили они рядом с больницей «скорой помощи», а это означало, что у них почти не отключали свет. Уж там-то можно было целый день читать при настоящем электрическом свете, играть в монополию и смотреть телевизор! Сперва мамин арест хотели скрыть от меня, но сразу после известия приехал папа и сказал: «Ты, mia Carina, взрослая девочка, а потому я могу сказать тебе всю правду. Это, конечно, недоразумение и оно скоро разрешится. Но пока мы должны поддерживать маму там, в неволе, хорошими известиями отсюда. И продолжать гордиться ею. А там, глядишь, и найдем цветик-семицветик и загадаем, чтобы мама вернулась к нам».
И мы гордились. Папа выписал из Москвы хорошего адвоката, но недоразумение никак не разрешалось. И цветик не находился. Мы с папой жарили картошку, писали маме длинные веселые письма-ежедневники и раз в неделю целой пачкой сдавали вместе с продуктовыми передачами. И каждый раз, отправляясь с ними в тюрьму, мы надеялись на свидание с мамой. Но свидания не разрешали. Зато охранники рассказывали маме, что видели нас, восхищались папой, хвалили, какая я красивая и воспитанная девочка, и мама, должно быть, радовалась рассказам почти как состоявшимся свиданиям.
Передачи готовили мамины двоюродные и троюродные сестры и жены братьев. Они же и установили негласное гастрономическое дежурство, целью которого было закормить нас с папой до обалдения. И вообще мамина родня взяла нас в такое плотное кольцо опеки, что мы с папой даже скучали по тому, чтобы побыть наедине.
Летом маму перевели в тюремную больницу, и мы уже надеялись увидеться с ней, когда папе позвонил адвокат. Папа сорвался с места, уехал. Родни набежала целая куча. И по заплаканным глазам, жалостливым взглядам и вздохам я и сама поняла: мама умерла!
В шестой класс я пошла уже в Москве, куда мы с папой вернулись, и это была закрытая частная школа. Конечно, я прослыла дикаркой и кавказской пленницей отсталых взглядов, и этот шлейф я с удовольствием таскала и в РГГУ. Летом мы с папой ездили на мамину могилу. Останавливались уже в гостинице, так как квартиру, в которой уже никто не был прописан, отобрало государство. Сперва мы приезжали одни, потом с нами стала ездить и тетя Ирма, переехавшая из соседнего подъезда к нам. Без увещеваний поесть её супа и не на людях она была вполне терпимой.
Когда мы с папой и Ирмой приехали в Ереван после девятого класса, мамины однопартийцы уже были на свободе. Они узнали о нашем приезде, пришли в гостиницу. И взрослые дядьки с огромными носами и глазищами плакали, как дети, вспоминая ее!
Поскольку я училась на историческом и по папиному совету собиралась специализироваться на Византийской культуре, то стала помимо европейских языков всерьез учить Грабар[105] и попутно – турецкий. Даже съездила в Турцию – попрактиковаться. Прошлым летом, сидя с Назик в маленьком ереванском кафе, я разговорилась по-турецки с человеком по имени Хикмет. Он сказал, что в следующую поездку я могла бы здорово заработать, поучительствовав в Анкаре во время летних каникул. Но из Москвы не получится: отправкой он занимается из Еревана. И я обрадовалась: это означало, что я смогу купить свою собственную квартиру в Ереване и жить здесь, никого не беспокоя. А папа будет приезжать уже ко мне, как домой. Дальше рассказывать?
Часть 5 Шварцмент
Шахматные и другие поединки на войне
1991–1994 гг.
Шварц не любил вспоминать войну в Карабахе. Она произвела очередной противоествественный отбор и отобрала у жизни самых честных и самых храбрых. Чего мальчишек учить войне? Они в неё играют с самого детства. Но и в самых страшных мальчишеских снах не может привидеться, что война будет вестись в настоящих горящих деревнях с ревущими коровами и мечущимися курами, а защищать придется окровавленных и плачущих старух и детей. Мужчины Карабаха были те еще упрямцы и вояки, которые из поколения в поколение поставляли миру наполеоновских маршалов Мюрата и Пьера, российских генералов Мадатова и Серебрякова, советских маршалов Баграмяна, Бабаджаняна и десятки отчаянных генералов. Так что своими силами они могли справиться с поджигателями и убийцами ОМОНа противника. Но не с советской 4-й армией, начавшей массированную операцию «Кольцо», всё туже сжимавшее и опустошавшее армянские деревни.
И главной проблемой здесь была психологическая: никогда еще за всю свою богатую военными разборками историю армяне не воевали с русскими. Отечественная война в Карабахе становилась для армян практически гражданской из-за русских солдатиков. Так как русские парни были свои, родные, вместе с ними армяне вековечно бились против турок, и воображение отказывалось видеть в них врага. Надо было показать и доказать российским ребятам, что не их это война, не те амбиции, за которые стоило бы платить своими молодыми жизнями по разнарядке коррумпированного начальства. А вооружение было делом десятым: карабахцы как воевали с самого начала отбитым у противника оружием, так и продолжали добывать его.
И Шварц в числе многих подался в Карабах на помощь местным.
Особенностью этой войны было еще и то, что обе стороны продолжали носить форму советских солдат и офицеров, а потому издали определить, кто свой, а кто чужой, было довольно проблематично. Наметанный глаз дифференцировал тех и других по лепке черепа: у турок он обычно удлиненный, как дыня, а у армян – круглый, как, соответственно, арбуз. Но до такого бахчевого опыта надо было еще дожить. При этом карабахцы прекрасно знали азербайджанское наречие, так что помимо вони перевязочных бинтов, недельных носок и немытых подмышек война приятно попахивала розыгрышами и победами, производными от этих знаний.
Героев войны не награждали: не было еще у Карабаха и Армении своих наград, как не было и собственных армий. Была просто отечественная война за право народа продолжать жить на своей исконной земле, а такую войну без вмешательства третьей силы народы обычно выигрывают. И армяне её выиграли. А где-то под конец войны ставший уже командиром большого объединенного отряда Шварц оказался в карабахской тюрьме за то, что чуть не убил сволочного штабиста из Еревана.
…Этот сон Шварц видел регулярно, и возвращался он, как фильм, в котором Шварц был и главным героем, и зрителем. И смотрелся он как настоящий фильм, и вызывал такие же отстраненные эмоции, как в кинозале.
Крупным планом – шахматная доска. Идёт обычная игра, и только видно, как заскорузлые пальцы одного игрока и вполне ухоженные другого передвигают фигуры. Внятно слышен голос второго игрока, рассказывающего по-армянски байку, и голоса и смешки обступивших их болельщиков. И Шварц помнит этот голос, эти аккуратные пальцы. И видит свои – с обломанными ногтями и трещинами на обмороженных руках. Игрок продолжает рассказ:
– Ну, маленький был лес, эли. Зайчики-майчики бегали, за ними – лисички, за лисами волки гонялись…
– У них что, кросс? – спрашивает смешливый болельщик.
– Да нет, балда, кушали они друг друга. А их ели в свою очередь вши и муравьи. А тех – птички. Наука называет это всеобщее взаимоедство биоценозом.
– Ага, то есть едят друг друга вне цензуры…
– Ну а лес-то со всеми его разборками контролировал медведь. Впал он в зимнюю спячку, а сорока слетала на другой берег и принялась тараторить: «Как это мы живем! Лисы зайцев и сорок едят, дятлы даже божьих коровок не щадят, а медведь всех зверей подряд… ну это, подвергает сексуальной агрессии».
– В смысле то самое делает? – хохотнул голос болельщика.
– Ну да. Словом, разоряется сорока: «Надо резко менять жизнь в нашем лесу, защитить права зайчиков, а медведя гнать обратно в тайгу!» Ну, сперва все так были заняты тем, что закуски-макуски делали, что не стали её слушать…
– Ну так ведь от этого трудно оторваться!
– Ну вот, потом врубились. Зашептали, заворчали, залаяли, зарычали – и пошло… С другого берега даже прискакала пара буйволов, чтобы подучить отстаиванию прав: не имеет, мол, прав верховная власть каждого в лесу, ну это… осуществлять сексуальную агрессию. Только в случае крайней необходимости. Но если момент назрел – можно, но обязательно под протокол. Чтобы все чин-чинарем. А медведя гнать из нашего леса, гнать обратно к нему в тайгу.
– Ара-а-а, я понял: медведь – это русские, а буйволы – американцы!
– Не ломай кайф, дубина, дай досказать. Ну вот, даже этот деревенщина догадался, а городским доскажу до конца. Словом, медведя выгнали, выбрали льва, чтоб контролировал права. Сорока потарахтела-потарахтела, а потом собрала по лесу все, что блестит, и удрала за море.
– Ага, а это…
– Уберите этого кайфолома!
– А зверушек стало совсем мало: часть разбежалась, у части случился падёж. Ну, у льва крайняя необходимость – каждый день. Так что снизившееся поголовье зверья стало подвергаться этой сексуальной агрессии гораздо чаще. Зайцы больше не прыгают, а бьют в барабаны, волки, хоть и сытые, рычат и показывают зубы даже муравьям. Но к чести новой власти надо сказать, что делается все под протокол, как учили буйволы. Вот и думают зверушки: а есть ли вообще разница – если Медведь тебя без протокола… того-самого, или Лев, но под протокол? Только лишняя писанина…
– Ну хоть теперь имею право сказать, кто Лев?
– Ладно, – опрокинул ладью Шварц, – сегодня, видимо, твой день, Езевпос, поздравляю…
– Чего-чего? Как он его назвал?
– Да это не то, что ты думаешь, деревня. Это такой баснописец был в Греции, Эзоп…
– Но неприятное у него имя, скажу я вам…
Странный-странный, совсем киношный сон. Теперь уже видно, что шахматы лежат на столе тюрем ной камеры, а вокруг сидящих на лавках арестантов столпилось еще четверо сокамерников.
– Два ноль! – победно растопырил пальцы сокамерник, – учитесь, ребята, обставлять ментуру по всем фронтам, чтоб меньше нос задирала…
И еле успел увернуться от тяжелой руки Шварца, отвлекшегося на скрежет ключа в замке. Двое надзирателей, как всегда, подозрительно оглядели вытянувшихся во фрунт шестерых заключенных, весь убогий интерьер камеры с наклеенными на стены открытками Богоматери.
– Шаваршян, на выход, с вещами!
– Ничего себе, – «мой день»! Как в игрушки играть – мой, а как на свободу – так твой? – дурашливо возмутился сокамерник.
– Молчать, – привычно-иронично рявкнул надзиратель, – если голова так варит в шахматах, этим бы и зарабатывал на хлеб. А то лазишь по пустым домам, мародерствуешь, – осуждающе прищурился он и пропустил Шварца с его ношеным-переношенным полупустым рюкзаком.
Крупным планом – две пары подкованых сапог конвоиров и его, Шварца, ветхая обувка, эхом отдающие в коридорах тюрьмы. Три пары ног останавливаются перед дверью. Стук в дверь, покашливание, вопрос – ответ.
– Шварц джан, брат джан! – вскакивает со стула в кабинете тюремного начальника румяный Тоникян, тискает Шварца, похлопывает, и кажется, что он заодно проводит врачебный осмотр. Потом, заглядывая в глаза снизу вверх, счастливо шепчет:
– А говорят, чудес не бывает! После двух недель очухался тот сукин сын. Жить будет и даже – бегать. Выхаживал я его, брат джан, как мама – ляльку. Только грудью не кормил. Так что Дядя Вова наверху поговорил, ваши ребята приехали, побеседовали с дуралеем, а парни из управления надавили на тестя и шурина. Ну, он, как миленький, взял заявление обратно, еще и извинился. Снаружи нас машина дожидается. Поедем домой – мальчишек своих не узнаешь: богатыри! Бегают уже, болтают, балуются…
Заметно потеплевший начальник возвращает часы, авторучку и ключи, даже пожимает руку и напутствует:
– Дай Бог, чтобы встречались в ином, чем это, месте. Тюрьма – для воров и блядей, пусть они сидят. А ты, сынок, я слышал, настоящий герой. Тебе подходит совсем другая жизнь. Ну разжаловали тебя в лейтенанты, ну и бог с ним, званием: из храбрых парней тебя всё равно не разжалуешь. Ты еще свое возьмешь…
Через месяц после затишья ожесточнные бои возобновились, и Шварц вернулся в свой поредевший отряд. Не мог не вернуться. Вот тогда-то его и поймал снаряд.
Как определить вес собственной жены
18 декабря 2004 г., полдень
– Эй, кто сегодня старший? – спросил по мобильнику Шварц, стоя у своего подъезда и глядя на окна четвертого этажа.
– Сегодня я, – пробасил родившийся на двадцать минут раньше брата Погос.
– До ноля часов – уточнил Петрос по параллельной линии. Голос его еще только ломался.
– Такелажные работы с сюрпризом, – возвестил Шварц и вставил ключ в багажник машины. Багажник открыли объявившиеся со скоростью кванта близнецы.
– Кайф, – сказали они дуэтом, обнаружив в нем новенький компьютер о два монитора и принтер в придачу.
– Здорово, что не стал ждать Нового года, пап, а то бы мы за столом не усидели, – поощрил отца Погос.
– Да, мы за десять дней как раз все программы инсталлируем, сеть наладим, интернет-провайдера подберем… – принялся излагать спонтанную программу действий основательный Петрос.
– Шиш вам – за десять дней, – отрезал довольный реакцией детей Шварц, – и это не подарки лялькам от деда Мороза, а инструменты для моих сотрудников…
– Как? – синхронно ужаснулись близнецы, – вся эта крутизна не нам?
– Вам, вам, но с сегодняшнего дня вы мои внештатные сотрудники, и у меня есть срочное задание для вас. Так что делайте ваши инсталляции-минсталляции сегодня. Вон, у подъезда проводку монтируют чьей-то сети. Выясните что и как, договоритесь. А завтра засядете в Интернете, как у бабушки на диване. Потому что есть у меня для вас срочное и важное задание. Пошли домой, поговорим, – и подхватил, как книжку, здоровую коробку из багажника.
Марго строго наблюдала за оживлением своих мужчин и молча накрывала на стол, готовая придраться к любому проколу. Если он купил детям такие подарки, то на какие деньги они будут накрывать новогодний стол? Это ведь не хухры-мухры, а серьезные затраты! Одного только мяса килограммов десять-двенадцать надо купить: и окорок запечь, и толму завернуть, эшли-кюфты налепить, цыплят нафаршировать… Неудобно всё-таки, родственники придут, его сослуживцы, соседи, друзья детей… Эти растущие организмы вообще все сметают со стола, как стадо динозавриков. А еще дорогие зимние овощи и фрукты, орешки и сухофрукты…
– Нет, надо с ним серьезно поговорить, – решилась Марго, и Шварц сам возник в дверях комнаты.
– Маргушкин-Ватрушкин, – обнял он её за плечи, – чем это от тебя так вкусно пахнет?
– Адреналином, – отрезала Марго. – Тебя что, министром назначили? Или переметнулся в преступный мир? Откуда лишние деньги?
Вопрос был с провокацией на предмет выяснения одной-единственной подробности: лишние это деньги или новогодняя заначка?
– Я тебе тысячу лет назад обещал, что будешь спокойно засыпать и просыпаться, если дети здоровы? – ответил Шварц вопросом на вопрос.
– Обещал! Вот в том-то и дело, что обещал! – возмущенно зашептала маленькая и пухленькая Марго, запрокинув голову, чтобы держать в кадре выражение глаз своего высоченного мужа.
– Я тебя когда-нибудь обманывал? – улыбался глазами сверху вниз строгий Шварц.
«Скореё всего, с бабами – тысячу раз», – подумала Марго, но вслух тихо ответила:
– Нет!
– Вот для того, чтобы ты спокойно делала баиньки, я ни министром, ни преступником быть не собираюсь. А деньги эти – абсолютно честный гонорар за редкий интеллект твоего мужа, ачик джан, – и вальяжно вынул руку из кармана.
Марго пришлось пропустить мимо ушей высокомерное «ачик джан», которое на русский вольно переводится как «девочка моя», но имеет оттенок недосягаемых возрастных и практических преимуществ автора высказывания по сравнению с адресатом. И кто бы не пропустил, если бы перед ним величественно положили на стол ну очень серьезную пачку стодолларовых банкнот, стянутых желтой резинкой!
– Возьмешь отсюда на новогодний стол, подарки. Особенно не бесчинствуй. Если сможешь правильно распорядиться, то летом поменяем окна, уберем следы детских боев, поменяем обивку на мебели. А первого сентября отправим их в десятый класс из такой удобной квартиры, что пусть мне попробуют учиться не как надо. Пообедаем – расскажу, какую перепланировку я придумал.
– Вай, Армен джан, – только и сказала Марго, повиснув на нем со всеми своими килограммами.
– А ты говоришь, – засмеялся Шварц, подбросил Маргаритку и оценивающе заявил: – похудела на полкилограмма!
– Ага, с вами похудеешь: весь день из кухни не выхожу и всё пробую. А эти твои организмы повадились блинчики с шоколадом на завтрак требовать!
– Ничего, Марго, пусть радуются. Вот попадутся им в жены теперешние длинноногие кемпбелы, не то что блинчиков – бутерброда с сыром у них не допросятся. Эй, хакеры-шмакеры, к столу!
Ликбез для юных сыщиков
18 декабря 2004 г., за полдень
– Рассказ для внутреннего использования, а не для трепа в кругу друзей, – начал Шварц, и мальчишки притихли: рассказы их немногословного обычно отца были почище любых детективных историй. И действительно сохранялись в семейном кругу, который они с детства привыкли считать продолжением отцовской службы.
– У команды одного олигарха произошла крупная стычка с командой другого. Постреляли друг в друга, дуралеи. Теперь идет следствие, скоро суд. Один умер в больнице, двое остались инвалидами. Дураки, ну. Ни башки, ни задницы для учебы – только кулаками умеют махать за деньги – вот и допрыгались.
И здесь читателю становится понятно, что служебной информацией Шварц делился с семьей исключительно в педагогических целях.
– Так вот, пока суд да дело, до выигравшей в драчке стороны дошел слушок, что конкурент собирается угробить их коллективно, и каким-то хитрым способом. И олигарх перепугался. Мы с ним знакомы, в детстве на самбо вместе ходили. Вот он и позвонил, попросил проконсультировать на этот предмет. А я все раньше него знал, так что составил ему проект обеспечения безопасности: с чертежами, эвакуационными схемами, планами, цифрами и картинками. И действительно оригинальное решение для абсолютной безопасности, и фундаментальность исполнения впечатляет несведущих.
– Кайф! – синхронно выдохнули близнецы.
– Да пусть бы сдох, – в сердцах сказала Марго, – чего он мальчишек посылал на смерть?
– Не скажи, – возразил Шварц, – какой ни есть, а человек, и мы должны о нем позаботиться. Тем более что обычно метят в главного, а попадают в дворню, в семью. А у него у самого четверо детей, старенькие родители. В таких делах обычный способ – не аккуратный выстрел оптической винтовки из окна книжного склада, как в случае с Кеннеди…
– Вай, Армен, извини, перебью, – Марго заливисто рассмеялась. – Помню, папа рассказывал, что у них в стройтресте был прораб один, Вачик. Вот он приходит в день убийства Кеннеди на вечернюю пятиминутку, а там еще никто толком ничего не знает, только пересказы радио. Все только строят предположения: что да как. И тут он важно заявляет: «Кеннеди убили во время банкета». Все на него уставились, а он солидно так говорит: «Я своими ушами слышал по радио. Сказали «по-кушение», то есть он как раз кушал, когда в него выстрелили».
– Видали? – обратился Шварц с улыбкой к сыновьям. – Учите языки, граждане. Не то налёт с банкетом перепутаете, и получатся из вас не сыщики, а клоуны.
– Большое вам мерси, – убежденно откликнулась Марго, – мне одного сыщика на семью вот как хватает, – и мальчишки понятливо улыбнулись, чтобы не обидеть мать, и заторопили отца:
– Пап, так что там с системой безопасности?
– Ну вот, когда кто-нибудь пытается подгадить противнику, он что делает? Изучает, где тот больше всего проводит времени: в семье, в головном офисе, в любимом ресторане, у подружки…
– Ага, как бацнули в книге Санни Корлеоне, – смекнул Погос. – В кино по-другому было.
– смекнул Погос. – В кино по-другому было.
– Молодец, – одобрил эрудицию сына Шварц, считавший «Крестного отца» необходимым ликбезом на всех уровнях мужского возраста и сознания. Эти мафиози так по-армянски были уважительны к родителям, преданы братьям и сестрам, с таким аппетитом ели за общим семейным столом, с таким трепетом относились к семейным устоям и, невзирая на это, так оголтело таскались по бабам, что, если бы сменить имена, можно было бы подумать, что речь идет о самых настоящих арменоидах. И еще мафиози Корлеоне были мафиози-чистоплюями: они покровительствовали игорному бизнесу, но отвергали наркотики. Всё как у нас. Хорошая была книга, воспитательная. Практически – книга всех времен и народов, считал Шварц.
– Так вот, уяснив маршруты передвижения, противник выявляет их слабые места и недостатки в охране, – продолжил Шварц семейный семинар. – Здесь у наших олигархов проблем нет, так как это у них здорово исследовано и схвачено, наши ребята в свое время постарались. Но это самые очевидные коммуникации. А есть еще уйма других, скрытых: поставка стройматериалов или сырья для производства, в которых может быть спрятан сюрприз; подстава в виде отравленных продуктов питания или напитков; водопровод, в конце концов.
Сыновья отложили принятые на вооружение вилки и напряженно вслушивались, боясь пропустить слово. Так что Шварц продолжил:
– В Москве был случай. На совете директоров крупной фирмы пили чай. На столе коробка с пакетиками чая и вазочка с сахаром. И все директора своими же руками дружно клали пакетики и сахар в свои чашки. Когда среди них начался мор и всех развезли по больницам, здоровеньким оказался лишь один, и за него крепко взялись. Выяснили, к тому же, что он пил не чай, а кофе. «Ага, – думают, – неспроста он чаю не пил!» Мытарили его, мытарили, а потом догадались, что он был нестандартным еще в одной привычке: кофе-то пил без сахара!
– Так они что, яд с сахаром схарчили? – не удержался Петрос, и Марго пронзила его осуждающим сленг взглядом.
Шварц решил, что материнского взгляда достаточно, и гладко продолжил:
– Там к следственной бригаде прикомандировали нового башковитого парня. Так он вспомнил, что в старом-престаром детективе Агаты Кристи кого-то травили фтором. А фтор, скажу я вам, не имеет ни вкуса, ни запаха, ни цвета. Сделали анализы на фтор – он самый! Отправили в лабораторию чайную коробку и сахарницу, и в сахарнице нашли фтор!
– А кто втюхал-то? – спросил Погос, – секретарша? – И Марго воздела глаза к небу, то есть к потолку.
– Нет, это было в случае с другим гендиректором, умер, бедняга. А здесь еще интересней: отравил один из пострадавших от отравления директоров. То есть он отравился, пока у себя на квартире обрабатывал сахар ядом. Недооценил возможности своей потравы!
– Ну дает мутылевщик! – возмутился Погос. – И что, все умерли?
– Да нет, все стали инвалидами, притом лысыми: фтор еще и вызывает выпадение волос. И отравитель тоже теперь лысый, как колено, к тому же в колонии строгого режима. Вообще все эти корпоративные вечеринки – дело хорошее, но требующее специального надзора. А у нас как? Пока не облысеют, не врубаются, что прослеживать нужно буквально все: и поставщиков, и экспедиторов, и шоферов, и ночных сторожей, и содержание холодильников, и работников кухни…
– Слушайте, – прервала его Марго, – пока у вас есть свой работник кухни, может, приступите ко второму?
– Еще как! – с энтузиазмом ответил Шварц, – вон какой у тебя натюрморт обольстительный получился из рядовой курицы!
Мальчишки молча если, переваривая очередную отцовскую лекцию, и он обратился к счастливым от обстоятельного семейного обеда ребятам:
– Молодец у нас мама, да? А вам, господа, задание с длинным перечнем вопросов, на которые хочу получить ответ не позднее послезавтрашнего вечера. Не знаю, как это у вас делается в Интернете, но дайте поиск по именам, влезайте хоть в фондовые сводки, хоть в их национальные библиотеки, перечитайте их газеты и журналы…
– Так у них же другой язык, – скептически скривил губы Погос.
– Такого лингвистического героизма я от вас не требую, – усмехнулся Шварц, – но английский там развит будь здоров: это же бывшая колония Великобритании. А я за что плачу вашей репетиторше?
– За эстетическое наслаждение твоих хитрюг, – рассмеялась Марго. – Вот и проверишь, за что платишь.
– Справитесь, граждане эстеты? – дурашливо посуровел Шварц.
– Будем стараться, товарищ майор, – хором ответили облеченные высоким отцовским доверием близнецы.
– Слушай, а мальчишки у нас ничего, да? Голова варит! Хорошие парни выросли из безобразников-карапузов, – разблагодушествовался Шварц после ухода близнецов.
– Это я у тебя хорошая, что практически на демонстрации фотокарточки отца вырастила таких парней, – засияла гордая за детей Марго.
– Конечно, хорошая. А какая еще? А вот если еще поставишь чашечку кофе, то тебе вообще цены не будет.
Когда они уже пили кофе и расслабленно болтали, Шварц вдруг спросил:
– Маргушкин, а что это за зверьки такие маленькие, серо-беленькие – из них еще классные шубки получаются?
– Если это не домашние мыши, то наверняка шиншиллы. А шубы из них чуть ли не дороже, чем ремонт нашей квартиры. И вид теряют уже через год-два. Так что эти шубы покупают только дегенераты-скоробогаты. А ты про это забудь, пожалуйста: я тебя и без роскошных подарков люблю.
– Маргушкин, ты – самый весомый выигрыш в моей жизни, – обнял её Шварц. – Ну-ка? Насколько весомый? Ага, плюс полкило!
Часть 6 Ермонья
Первый зуб как метод первичной профориентации
1968 г.
Когда Шварцу было восемь лет, он крепко обиделся на родителей и решил уйти из дома. Он положил в свой брезентовый рюкзачок атлас мира, компас и ушанку. Потом подумал и добавил шерстяные носки и копилку в форме сундучка.
– Ну и уходи, – закричала мама ему вслед, – пусть тебя ножеточник заберет в ученики, раз в нормальной школе учиться не умеешь!
А папа возразил:
– Да не возьмет он его без аттестата третьего класса…
Ножеточник был довольно страшненьким горбуном, ходившим по дворам со специальным станком с наждачными кругами и пронзительно кричавшим:
– Ножи-но-о-ожницы точу, ножи-но-о-ожницы!
Перспектива угодить в ученики ножеточника была не бог весть какая, но отступать было некуда, и Шварц закрыл за собой дверь квартиры. Потом спустился на первый этаж и замер у выхода из подъезда. Уж лучше он уйдет в Америку. Там у папы есть родственник, приславший ему в прошлом году целый блок жевательной резинки, и они всем двором жевали её. Конечно, уходить в Америку вот так, не попрощавшись с друзьями и родней, не хотелось. Они, небось, сидят сейчас по домам и готовятся к обеду. А у него дома такой крик подняли из-за тройки по армянскому! Нет, напрасно он плакал прошлой ночью, когда приснилось, что папа с мамой погибли в авиакатастрофе. Бессердечные они люди, раз отдают единственного сына горбатому ножеточнику. У маленького Шварца даже защипало в носу.
Смеркалось, но маленький Шварц все еще стоял в подъезде и перебирал возможные варианты заграничного похода. И тут в дверях подъезда возникла бабушка Ермонья. Оценивающе взглянув на его покрасневший нос и набитый рюкзачок за спиной, бабуля сказала:
– Ай ты молодец, мой мальчик, что спустился меня встретить – с балкона увидел, да? А то я с утра гату пекла – дай, думаю, свеженькую принесу, а как ваши ступеньки одолеть с ношей, не подумала. Ну, спасибо тебе, мой хороший. И что бы я без тебя делала? – и бабуля передала Шварцу распластавшийся в сетке ароматный сверток.
– Вообще-то я кое-куда собирался, – промямлил Шварц, и бабушка обрадованно перебила:
– Вот молодец, живи долго, сынок! Хотел уходить, но свою бабулю встретил, чтобы помочь. У кого еще есть такой мальчик-мужчина?
Надо сказать, что последний специфический оборот является высочайшей оценкой человеческих качеств армянских мальчиков. Он намекает на их заведомую зрелость и готовность быть причисленными к лучшей половине армянского общества. К ней, этой лучшей, то есть мужской половине, так же метафорически причисляют расторопных решительных женщин, награждая эпитетом «женщина-мужчина». И по-армянски это звучит совсем не обидно, а как признание отменных деловых и закаленных духовных качеств дам. А то же самое, но произнесенное по-турецки, – ужасный, фактически бранный эпитет, намекающий на гормональную неполноценность и неточную сексуальную ориентацию отмаркированной особы.
Когда они с бабулей поднялись на четвертый этаж и вошли в почему-то не запертую дверь, мама буднично взяла у Шварца рюкзачок («Дай, повешу, сынок»), как будто он вернулся из магазина. Потом они вчетвером обедали и болтали, и папа вышел на балкон покурить, и за компанию с ним вышла мама. И Шварц услышал, как папа громко спросил:
– Слушай, Еран, а чего он копилку-то взял? Там ведь не его деньги, а наши. Это мы собирались купить ему на Новый год настольный хоккей.
Потом они пили чай, и бабуля рассказывала смешные истории про детей ленинаканской школы, где она когда-то преподавала. А папа и мама наперебой вспоминали, как у Шварца прорезался первый зубик, и они устроили Атамhатык – обязательное народное празднество по первичной профориентации уже способного укусить малыша. Маленького Шварца, еще ползунка, посадили на ковер, вокруг него разложили теткин стетоскоп, отцовскую логарифмическую линейку, десятирублевку, лупу, авторучку, словарик, кисточку, игрушечный пистолет, мячик, матрешку и грузовик. И Шварц сразу схватил пистолет, а потом, подумав, открыл матрешку.
– Военным будет, – обрадовалась тогда бабушка.
– И бабником, – хохотнул папин брат.
– Аналитиком, – поправила бабушка, – и тонким!
Теперь, сидя за столом, папа с мамой наперебой вспоминали его первые шаги, первые слова и шалости, смеялись и подначивали влюбленную в него с первого взгляда бабушку, кушали тающую во рту гату, заливались веселым смехом и удивлялись: когда же их мальчик успел так неожиданно вырасти? Потом папа снова вышел покурить, и мама снова его поддержала, а бабуля спросила:
– Как ты думаешь, что такое счастье, сынок?
И сама же ответила:
– Это когда дня не проходит, чтобы тебе не хотелось сказать своему родному человеку: «Я люблю тебя». И когда и недели не пройдет, чтобы тебе не ответили: «Ты лучшее, что было в моей жизни».
Хаш как мерило превратностей судьбы
18 декабря 2004 г., полдень
Столовой городского УВД с недавнего времени заправлял бывший марсельский ресторатор месье Саргис. Благодаря ему задрипанный ментовский общепит с его облезлой стойкой, тарелками с разномастными каемками и штампованными пузатыми стаканами быстро прослыл замечательным рестораном с изысканной западноармянской кухней.
Новые западные штучки попадают в Армению поздно и в несколько изувеченном состоянии. А главное – не приживаются, так как созданы для других типов народов с этикой, исключающей стыд, и законопослушностью, исключающей смекалку. Вот если бы новинкой социологии подуло в МВД, то спецы от этой заморочки резво подсчитали бы, что кривая раскрываемости преступлений резко взмыла вверх с момента воцарения Саргиса в неудобоваримой ментовской харчевне. Попросту менты передают коллегам: «У Саргиса можно очень вкусно и дешево перекусить, добить «дело» по всем статьям, а уж потом тащиться домой поспать, если повезет!»
Лет 5–6 тому назад Саргис перебрался из Марселя в Ереван, открыл маленький уютный ресторанчик, который моментально обрел славу модного заведения бомонда. Ограниченность мест и потрясающий уровень подзабытой здесь западноармянской кулинарии привели к тому, что даже завсегдатаям приходилось записываться за несколько дней вперед. А чего-чего, но упорядоченности и заданности, диктуемой со стороны, армяне в своей жизни не любят. Тем более что вкусно поесть здесь можно и дома. Тогда Саргис решил расширить дело и в пае с лучшим учеником открыл большой ресторан на соседней улице. И прогорел. Тогда он вернулся в маленький ресторанчик. Но любимый ученик увел уже всю клиентуру в свой собственный. Так Саргис оказался в столовой ГУВД и стал потрясать кулинарное воображение своего нового и малоизбалованного этим делом контингента.
Если вы встретите не испорченного русским фольклором армянского мента и рискнете задать нехитрую загадку «А какое это слово из трех букв начинается на «х»?», то не спешите готовиться к задержанию. Потому что ответ будет прост и прекрасен, как и сама его суть:
– Это хаш, – ответит мент, – а если букв побольше, то, может, хоровац. Или хинкали. Или хашлама из хорошего ягненка…
Вот хаш, хоровац, хинкали, хашлама и даже кебаб, который совсем на другую букву, и являлись вечно востребованными и изредка предлагаемыми блюдами, над которыми ни шатко ни валко трудились прежде повара ментовского общепита. А тут – Саргис со своей толмой из устриц и тающим во рту уммусом! Так что его меню было для них откровением и чудодейством.
В отличие от армян советской выпечки, Саргис не увязывал размеры прибыли с собственными потребностями. Вот почему в его заведениях и цены были удобоваримыми. Будучи настоящим ресторатором, Саргис подсаживался к обедающей клиентуре в погонах, выслушивал комплименты, делился тонкостями приготовления поедаемого ими блюда, рассказывал исторические анекдоты, случаи из жизни своих прежних заведений и стран, и вообще нёс всякую интересную всячину. Саргис был кладезью кулинарной и кулуарной информации. Но кроме того, сам того не ведая, он стал замечательным информатором.
– Что, поймали убийцу Арама? Известный был в городе парень, – спросил он Дядю Вову.
Начальник городского управления вызвал Дядю Вову в воскресный день, сам опаздывал, так как был у министра, и это было нормально. Министр устроил всем превентивный нагоняй за систематическое нарушение правил дорожного движения членами коллегии министерства и их сынками. Поводом стала трагическая смерть на дороге начальника тюрьмы Гагика Погосяна, который сгорел вместе с сыном в собственной машине, успев угробить таксиста с пассажирами. Такие нагоняи здорово действовали на сотрудников. В особенности в течение первой недели. Потом забывались, и все начинало раскручиваться до следующего безобразия. Но, раздумывая об этом, Дядя Вова учитывал и возможные кадровые перестановки, в результате которых прокурорские опять получат новые портфели в МВД и их влияние усилится. Что-то они в последнее время затевают козни и против него. Полковник, хоть и не был в курсе подробностей, но пытался выстроить линию защиты. А тут еще и Саргис с его информированностью. И Дядя Вова в сердцах отбросил вилку:
– Ты-то откуда знаешь?
– Хлебом-солью кормил, хорошие столы накрывал для него и его друзей. Он мне еще свою картину подарил, висела в моем ресторане. «Подружки» называлась. Женщины его любили, а?
– Слушай, Саргис, ну не могу я о нем слышать. И мы – мужчины, а мужчины последние две тысячи лет святыми бывают редко. Но быть таким бабником и иметь их столько сразу и по очереди – это ж с ума сойти можно! У меня начальник угрозыска майор Шаваршян – опытный следователь, тысячу дел расследовал, но список женщин преставленного составлял – пачку сигарет выкурил!
– Это который? Тот, что вы Шварцем называете? Вот этот действительно хороший парень – выдержанный такой, лишнего слова не скажет никому, даже если недоволен. На него посмотришь – все семь предыдущих колен представишь. Он наших, настоящих западных армянских кровей. Ты, говорит, Саргис, чкмех-кюфту совсем как моя бабушка готовишь. Каждый раз, как у тебя ем, её вспоминаю. А Арамис – тот тоже был хороший по-своему, но Шварц другой, совсем другой. Бедный Арамис, упокой Господь душу. Жизнь, а? Гулял-гулял, еще вчера толму кушал, хаш и всё такое, а ушел в один миг…
– А ты говоришь…
Как раньше устраняли налоговых инспекторов
1885–1978 гг.
Бабка у Шварца была классная. Почти до самой смерти её пытались клеить по телефону неправильно набравшие номер юные бездельники: такой у неё был молодой и красивый голос и столько неизбывной женственности сквозило в его модуляциях. Умерла она в 93 года, успев в последний месяц наобщаться с обоими мужьями, пятью сыновьями и даже Кавором[106]. Они приходили за ней из потустороннего мира, обеспечивая плавный переход отсюда туда в состоянии душевного комфорта. При этом она удивлялась тупоумию окружающих, не способных разглядеть желанных для неё гостей.
Выросла бабуля в зажиточной семье владельца коньячного завода в большом и богатом армянском городе Ван, который некогда был столицей древнего Армянского царства, а сейчас находился в центре Османской империи. Их было восемь братьев и сестер, и это нормально вписывалось в среднестатистические данные тогдашних армянских семей точно так же, как сейчас по ребенку на родительскую душу. Что-то, видимо, углядели в глазенках новорожденной, раз назвали Ермоньей – «Сверкающей». Девочка действительно была лучезарной красавицей, мечтавшей о карьере пианистки.
Шел памятный 1901 год, знаменовавший новое столетие и новые надежды армян, оживленно обсуждавших перспективы освобождения родины от невежественного ига Османской империи. А центром генерации идей и зачинщиком этих надежд был просвещенный Тифлис, где вот уже несколько лет действовало генеральное бюро первой армянской политической партии «Дашнакцутюн». Именно туда частенько наведывался отец Ермоньи, а в этот раз взял и её с собой – показать хорошему преподавателю фортепиано, дальнему родственнику. В доме музыканта девушка столкнулась с симпатичным молодым директором армянского лицея из Харберда, другого армянского центра культуры на западе Османской империи. Он приехал в поисках нового руководителя духового оркестра гимназии на смену умершему.
Что харбердский Аршавир моментально влюбился в ванскую красавицу Ермонью, можно было бы и не писать – и так понятно. Но что образованный молодой человек, да еще педагог и директор, окажется настолько целеустремленным и хулиганистым, что не будет ей в дальнейшем давать проходу в её же родном городе, который был в трех днях езды от его Харберда, следует подчеркнуть особо. Словом, не прошло и года, как, призвав председателя армянской купеческой гильдии Харберда в качестве Кавора и железного аргумента для сватовства, Аршавир явился к отцу Ермоньи. Но не видать бы образованному учителишке своей раскрасавицы Ермоньи и при явке всех купцов-армян Османской империи, которых было тогда ровным счетом сто семь тысяч, если бы на девушку не положил глаз кривоногий сборщик налогов их вилайета[107], чья должность в империи благозвучно именовалась нотабль. И винозаводчик отдал дочь Аршавиру.
А дальше все развивалось по традиционному армянскому сценарию. С кружевным платьем невесты, специально привезенным из Парижа по заказу супруги Кавора, разукрашенными фаэтонами, тремя сотнями гостей, толмой, тем самым шашлыком по-карски, что печется сейчас чуть ли не на каждом углу и уже зовется по-арабски шаурмой, богатыми подарками и приданым из множества пудовых матрасов и одеял из белоснежной овечьей шерсти; вышитого постельного и столового белья и новенького немецкого фортепиано.
Но начиналось все, конечно, в главном храме Вана – гулкой и богатой церкви Святых Апостолов Петра и Павла, где в обряде венчания главным был сакраментальный вопрос священника «Тэрэс, завакс?», что по большому счету означает «Отвечаешь за нее, сын мой?» И Аршавир счастливо ответил утвердительно. После чего священник обратился к сияющей Ермонье: «hназандэс, вордьякс?» – то есть «Будешь покорна, дитя моё?» И затянутая в кружевное французское платье обладательница немецкого фортепиано совсем по-армянски приняла на себя церковный обет послушания своему мужу. Безо всяких там европейских «Согласны ли вы вступить в брак?» Раз пришли, то согласны. А вот согласен ли он быть в ответе за все, что ожидает их молодую семью? И будет ли эта музыкальная девочка обеспечивать своей согласной покорностью гармоничный семейный унисон? Вот это и есть базовый вопрос для строительства крепкой семьи, все еще озвучиваемый Армянской Апостольской Церковью.
В Ване происходила только первая часть празднования, которое продолжилось в Харберде. А продолжение чуть было не провалилось. Прибывший представитель спохватившегося нотабля вызвал жениха прямо из свадебного зала и сообщил, что никуда он не уведет оттуда свою ханум. Не уведет, пока с ней лично и в интимных условиях не познакомится сильно запавший на неё его кривоногий патрон.
– Тамам, – ответил Аршавир, что с турецкого переводится как О'кей, – о чем разговор. Только придется ей нарядиться в турецкую паранджу, чтобы никто не узнал и я не был опозорен в глазах земляков.
– Чок сахол, – гаденько улыбнулся турок, что по-русски звучит как «будь здоров», и укатил на своем персональном ишаке.
Не знаю, какие такие турецкие химеры надоумили нотабля на право первой ночи с юной армянской невестой, но это были самые последние химеры в его напрасной жизни. Жизни глумливого уродца, заточенного на кровавую борьбу со снедавшим его комплексом национальной неполноценности. А невеста попалась вооруженная и очень усатая.
Зарезав нотабля и скинув паранджу, Аршавир во весь дух помчался к дому, запихнул в фаэтон свою Ермонью и пару одеял из приданого и дал деру на север, к Средиземноморскому побережью империи. А хозяева и гости, как всегда, отослали женщин и детей в горные селения к родственникам и приготовились к обороне. Так амбиции кривоногого сюзерена обернулись последней ночью не только для него самого, но и для двух братьев Аршавира и десятка вооруженных до зубов баши-бузуков. Но охота к интиму с армянскими невестами у турок пропала надолго.
1915 год застал Аршавира и Ермонью в древнем городе Мараш, столице армянских ремесел. Уникальная вышивка «мараш», придуманная в свое время тамошними рукодельницами для украшения одежды и белья, в своем искореженном названии «мережка» перекочевала в дальнейшем в Европу и Россию именно оттуда. Аршавир руководил мужским лицеем «Евфратский Колледж», Ермонья вела класс фортепиано в женской гимназии. Трое старших мальчиков были лицеистами, а двое малышей находились дома под присмотром гувернантки-армянки и приходящей прислуги из курдов.
В августе в окрестностях Мараша объявились пять сотен выпущенных из тюрем головорезов и отряда турецких солдат. Всех мужчин города, и в том числе Аршавира, собрали с рабочих мест якобы для регистрации призывников и буднично расстреляли. Потом собрали всех учащихся мальчиков, связали по четыре, стали сдирать с них кожу заживо, отрезать им головы, уши, пенисы, накалывать на шесты и баловаться этими игрушками. Другая группа пошла по домам, грабя и разрезая детей на куски.
Когда Ермонья прибежала домой, первое и последнее, что она увидела, были головки её трехлетних близняшек, Петроса и Погоса, то есть Петра и Павла, выставленные бандитами на полированную крышку немецкого фортепиано. Дальше она ничего не помнила; скорее всего, служанка забрала её в свое курдское село. Через несколько дней Ермонья вышла из села и пошла, еще беспамятная, но полная решимости собрать и похоронить свою семью. Но семьи, равно как дома и города, тоже не было – осталось сплошное пепелище. Через какое-то время её подобрала миссия американского Красного Креста и переправила в Александрополь, который советская власть в дальнейшем переименовала в Ленинакан.
Ничего от той сияющей Ермоньи не осталось: теперь это была просто тихая ласковая классная дама в Александропольской женской гимназии, но по армянской школьной традиции её называли барышней, ориорд. Когда в 1922 году молоденький партработник Ерванд посватался к ней, она удивилась: ей было уже 36, и она считала себя глубокой старухой. Но когда «старухе» исполнилось 40, в их с Ервандом счастливом доме уже болтали, лепетали и агукали три кареглазые, как мама, девочки-погодки. Все-таки, у мужей Ермоньи была строгая специализация на пол младенцев.
Никогда она вслух не вспоминала своих пятерых мальчиков, но безграничная и трепетная любовь к мальчикам-внукам выдавала её с головой. О той, бесконечно счастливой жизни до рокового 1915-го, она молчала и считала бестактными вопросы об этом. Она с таким удивлением смотрела на рискнувшего задать вопрос собеседника, как если бы кто-то заладил пытать ангела о его физической жизни на земле, до вознесения.
Зато с удовольствием рассказывала, как ездила в Ереван к наркому замолвить словечко и вызволить из ссылки репрессированного в тридцать седьмом мужа. Потрясенный её манерами и знаниями нарком при ней же наложил спасительную резолюцию на заявление, и мужа отправили из Сыктывкара прямо на фронт, на тренировочную войну с белофиннами. Потом Ерванд, с небольшими интервалами в лазаретах, прошагал пол-Европы слегка контуженым и нашпигованным осколками, но с обеими руками и ногами. А в сорок пятом вернулся орденоносцем-победителем, но законченным алкашом.
За те два года, которых хватило, чтобы привыкшая на фронте к неразведенному спирту печень героя отказалась перерабатывать водку и всё прочее, что попадало в его организм, семья Ерванда была здорово опозорена в глазах окружения. И когда он, с сизым лицом и изъеденной циррозом в клочья печенью, дал дуба, Ермонья собрала нажитые вещички и перебралась подальше от молвы в Ереван. Тем более что все три девочки уже работали там и учились в различных вузах.
Как сильно может испортить московская аспирантура
1972 г., весна
Шварц был младшим, седьмым внуком Ермоньи, а к концу жизни было у неё от старших внучек уже и пятеро правнуков.
– Бабуль, – спросил её как-то в детстве Шварц, – если ты одна из семьи выжила во время резни в пятнадцатом, но от тебя фактически родилось пятнадцать человек, то сколько же было бы армян, если бы турки тогда не устроили геноцид?
– А ты умножь полтора миллиона невинных душ, убитых в пятнадцатом году, хотя бы на эти минимальные пятнадцать, и на эти же пятнадцать умножь многие сотни тысяч убитых в Эрзруме и Трапезунде в течение тридцати лет, предшествоваших тысяча девятьсот пятнадцатому году. И сотни тысяч убитых в Карсе и всей Восточной Армении вплоть до двадцать третьего. И приплюсуй с тем же коэффициентом триста тысяч убитых во Второй мировой. А ещё добавь к своей таблице умножения те миллионы турок и курдов, рожденных от многих сотен тысяч армянских женщин и девушек, что были похищены варварами во время резни. И от маленьких девочек, которых родители сами отдавали, чтобы они выжили. И миллионы тех, что боялись оставаться армянами и преобразились в турок и курдов. И не забудь приплюсовать тех, кто с тех пор боялся иметь из страха потерять. Сколько там у тебя получится в ответе задачки? Ты думаешь, сколько их было, когда они захватили, как инопланетяне, нашу родину и принялись нас уничтожать? Просто орда дикарей, к которым мы серьезно и не относились. Просто презирали и откупались. Вот и получили… – на Шварца смотрела совсем другая женщина с жестким взглядом, которого он никогда не замечал у своей ласковой бабушки.
– Бабуль, но это когда было! Сейчас турки другие… – обескураженно ответил мальчуган.
– С чего это ты взял, что другие? – удивилась незнакомая Ермонья, нервно теребя кружевной воротничок на тщедушной шее. – Народы не меняются. И армяне какими были, такими и остались, и русские, и англичане, и турки. Просто нет у турок под рукой живых греков и армян, так они их не убивают, а уничтожают монастыри, церкви, могилы, соскребают с них кресты, истребляют память, присваивают наше прошлое. Изменились? Ну, пусть встанут в ООН и извинятся. Это почему это даже Хрущев встал на съезде и извинился за ошибки Сталина? И реабилитировал всех, кого сослали и расстреляли? Даже нашего соседа-дармоеда, что был сослан за растрату, царствие небесное, реабилитировали, и жене за него пенсию назначили. И ленинаканского соседа по улице, что был известным на весь город спекулянтом, вывели невинно репрессированным. В президиумы пересел. Сам Хрущев смог – турки не могут? Нет, они молчат. Ну пусть скажут – нет, не полтора миллиона было, а на десять тысяч меньше! Молчат. А это значит – не раскаиваются в содеянном. Дай им шанс – они повторят всё то же самое, да еще применят новые изуверские способы убивать людей. Это быт народов меняется: телефон, скажем, появился, телевизор, стиральные машины. А сами народы не меняются. Сейчас на календаре семьдесят второй год, ты ещё маленький, а я уже совсем старенькая. Меня уже не будет, но ты увидишь, что еще до конца века они еще проявят свою сущность, попытаются все повторить один к одному, как было в 1915-м. И тебе придется защищать от них родину, быть прозорливее моих погибших братьев, потому что отступать от них нам уже некуда.
– Ну ты даешь, бабуль, – рассмеялся Шварц, который тогда еще был пятиклассником Арменом, – как же может быть, чтобы народы не менялись? Я – что, такой же, как были мои далекие предки, что тысячи лет назад выращивали виноград, делали из него вино, строили храмы и писали в них книги?
– А какая разница, выращиваешь виноград или делаешь, как твой отец, рассчёты для строительства домов? Главное – как и во имя чего ты этим занимаешься. Вот точно такой, как твои предки, ты и есть, сынок. Ты слушал те же сказки, что рассказывала мне в детстве моя бабушка, а она слышала от своей. И в этих сказках добро всегда побеждало зло. А добром в армянских сказках всегда было трудолюбие, стремление созидать, обустраивать построенный своими руками дом, а не отнимать чужой. А главное – любить свою богоданную родину, а не украденную землю. Знаешь, какая у самих турок была поговорка? «Хочешь что-то построить – позови армянина, хочешь сломать – зови турка».
– Да ладно тебе, бабуля, армяне же не святые.
Вон сколько воров и растратчиков показывают по телевизору! – пожал плечами внук.
– Конечно, не святые. Отбей у людей чувство родины и родной язык, так они и вовсе в чертей превратятся – куда там до святых! Зачем изуродовали армянскую грамматику, назвав это безобразие «реформой»? А чтобы отдалить язык, на котором вы думаете, от древнего языка жрецов, в котором были великие истины. Зачем понатыкали английских и русских школ для детей разных народов вместо того чтобы добротно преподавать и русский, и английский во всех? Чтобы вы перестали быть армянами. То же и турки делали, вырывая у армян из глотки языки, но на свой дикарский манер.
– Бабуля, ну вот посмотри, – не унимался Шварц, – у нас в классе есть Мальцева Инна, и Саша Блащук, и Илхасов Гюндуз, и Нина Москаленко. И ничем они не отличаются от меня или наших девчонок!
– Маленькие вы еще. Вот вырастете – и станете отличаться. Мальчики вырастут в мужчин, девочки – в женщин, и с той же неминуемостью русские дети вырастут во взрослых русских, армяне – в армян, турки – в турок. Никуда вы не денетесь от своих корней. Другое дело, что для тебя и Блащука мир разложен по тем же правилам, тем же ценностям. Конечно, однажды ты можешь решить, что не хочешь быть армянином, а хочешь быть англичанином. Ты станешь надевать клетчатые пиджаки, курить трубку, вместо кофе пить чай, и причем ровно в семнадцать ноль-ноль.
– Здорово! – развеселился маленький Шварц, представив себя в пиджаке в клеточку и с трубкой зубах, как крокодил в сказке Чуковского.
– Ну да, – улыбнулась Ермонья и привычно поцеловала его в стриженую макушку. – Ты станешь говорить тихо и мало и, в отличие от своего отца, не станешь устраивать шумных застолий по поводу приезда родственников и друзей. И не станешь участвовать в их жизни, и не будет у тебя Кавора, да и ты не будешь ничьим крестным отцом или свадебным Кавором. И что из тебя получится? Просто плохой армянин. Но англичанином ты все равно не станешь, даже плохим. То же и турки. На чем они состоялись как народ, на том и держатся. А состоялись они тогда, когда дикие сельджуки убили достаточно людей, чтобы захватить и уничтожить прекрасную Византийскую империю на издревле заселенных армянами землях, где мы всем народом счастливо жили вместе с другими народами. Турки… Да раньше это слово ругательным было… Всего-то полвека назад…
– Почему, бабуль? Ты это всерьёз? А почему турки называются турками?
– Ну, это не важно, – смешалась вдруг Ермонья.
– Как не важно? – удивился непривычный к уклончивым ответам бабушки Шварц.
– Мне моя бабушка рассказывала, что армяне с первого дня их появления в наших краях нехорошо прозвали их за неряшливый вид и быт…
Шварц застыл, а потом покатился со смеху:
– Какашки? Да, бабуль? Их прозвали туркотами, обкаканными?
– Ну это так говорили, может – да, а может – нет, – смутилась бабуля. – Я лично считаю, что вот за эти дразнилки и получили мы ятаганами. Как же им было терпеть народ, который помнил всё ещё с самого-самого начала? В тридцатые годы здесь уже, у нас, за способность помнить ссылали и расстреливали бывших князей и промышленников, хозяев богатых домов, профессоров университета, писателей… Красных профессоров вместо них настругали из крестьян.
– И их армяне называли туркотами? – заинтересовался маленький Шварц.
– Нет, конечно. У нашего крестьянина представления о культуре выше, чем у их паши. Слово «турок» всегда было оскорблением в наших устах, и адресно. Это уж потом, изгнав нас с родины, их предводитель Кемаль объявил, что «турок – это звучит гордо», и они вывернули традицию наизнанку, стали клеймить друг друга не словом «турок», как раньше, а «эрмени». Это старая, очень старая игра в шиворот-навыворот: «он украл – или у него украли?» Поди разберись, если нет свидетелей… Так что турки, а следом за ними Европа и Советы, сыграли в эту игру и выиграли у нас. Как раз тогда, когда уже во многом по формальным культурным признакам стали походить на нас, – вот что обидно! Ведь мы писали для них учебники, словари, энциклопедии, умно дискутировали: это уже снабженный собственной грамматической системой язык или еще диалект армянского со множеством арабских заимствований? Давайте же доведем его до абсолютной индивидуальности, и это будет наш очередной вклад в развитие общечеловеческой цивилизации!
– И охота была! – удивился маленький Шварц.
– Что, своих дел не было?
– Вот то-то и оно. У нас знаешь, как говорили?
«Пошло дерево к Богу жаловаться на топор, а Бог говорит: «Что ж ты жалуешься? Рукоятка-то у него – из дерева!» Да всё буквально создали для них, бесписьменных кочевников, когда у нас уже десять веков была развитая литература и книгоиздательство! Даже после геноцида, в двадцать шестом, когда армяне давно были истреблены в Турции и изгнаны, реформу турецкой письменности, переход с арабских букв на латиницу – и те осуществил специально выписанный ими из Болгарии армянин Марданян! Да у них даже букв своих нет, даже молитв. Что они создали сами за свою историю?
– Вот столько лет ты моя бабушка, а я не знал, что ты можешь быть такой злой. Ты что же, не умеешь прощать, бабуля? – удивился привыкший к иному образу своей ласковой бабушки маленький внук.
– Умею, мой мальчик. Умею и хочу, – вздохнула Ермонья. – Очень трудно жить, не прощая. Это даже труднее, чем быть непрощённым. Потому что нормальному человеку, чтобы его простили, свойственно каяться в своих проступках, стараться заслужить прощение, то есть становиться на путь самосовершенствования. Стремление к получению прощения улучшает человека, запомни! Другое дело – прощать. Ведь для того чтобы я простила смерть моих детей, Аршавира, его и моей родни и всех невинно убитых армян, у меня все-таки должны попросить прощения… Ты вот на прошлой неделе не убил, не украл, не поджег, а нагрубил тете Кларе. Ты ведь извинился?
– Ну да… – насупился маленький Шварц.
– Плохо было?
– Да я бы в жизни не извинился, если бы ты не заставила.
– И что, считаешь, что напрасно заставила? – испытующе вглядывалась в его лицо Ермонья.
– Ты знаешь, бабуля, – задумчиво сказал маленький Шварц, – Клара ворчунья и крикунья, и я все еще считаю, что она не имела права обливать нас с балкона водой, чтобы мы перестали играть в футбол и шуметь. Но ты права: она вредная, но старенькая, а со стариками нельзя вредничать в ответ. Да и не только со стариками. Вон с Блащуком мы крепко подрались в сентябре, он Верон бестией назвал. Так мы дулись с ним пару дней друг на друга, а потом он сам подошел на перемене: я же, говорит, только пришел в ваш класс и не знал, что она твоя сестра, извини, брат, и давай дружить.
– И что? – насторожилась Ермонья.
– Ну что. Я пожал ему руку, и он сказал, что в мое отсутствие и сам будет её защищать.
– Ага, – обрадовалась Ермонья, – я же говорила тебе, что великодушие – великая сила. Оно делает человека сильнее. И знаешь, ведь это-то и притягивает армян к русским, потому что у наших народов один и тот же кодекс мужской чести. А это главное в характере народа.
– Армяне, русские – все это временно, – расфилософствовался поощренный бабушкой Шварц. – Зоя Степановна, наша учительница истории, рассказывала, что со временем национальности сотрутся и будут только две нации: социалистическая и капиталистическая.
– Дура ваша учительница истории. Такую идиотку в наше время в школу привратницей бы не взяли! Национальности сотрутся, народы сольются – прости меня, Господи… Знаешь, что это будет означать? Что люди потеряют память и Зло одержит верх над Добром. А такого быть не может, потому что…
Но «потому что» не было обосновано, так как на бабулю налетела мама Шварца Ерануи:
– Мама, ну чему ты учишь двенадцатилетнего мальчика? Да какая тебе разница, как твои далекие потомки будут называться – армянами, чукчами, французами? Ты ведь прошла тридцатые годы, сама натерпелась! Будет историчка очередной раз вызывать в школу – сама пойдешь извиняться в свои восемьдесят семь!
– И пойду, – понесло Ермонью.
– И ребенка исключат из школы! Ты этого хочешь? – возмутилась отлично знавшая слабые места матери дочь.
– Нет, не хочу, – убежденно отказалась Ермонья. – Никуда я не пойду, и ты, Армен джан, не распространяйся особенно на эту тему. Эх, Еран, напрасно я со своим уважением к образованию послала тебя в аспирантуру. Всего-то три года в Москве, а корень ослаб. Национальность какая – тебе не важно, что у сына нет ни брата, ни сестры – не важно, что родителям нельзя делать замечание при внуках – и то не важно! Была хорошей армянской девочкой, а стала кандидатом гидропонических наук…
Ерануи хлопнула дверью, а мать продолжила, обращаясь к внуку:
– Ты мужчина, потомок хороших династий.
Ты, конечно, на уроках в школе молчи про это, мой мальчик, но помни всё, что я тебе говорю. Меня не будет – все равно помни. Корни – это основа не только деревьев и цветов. Люди точно так же уходят корнями в родную землю. И без корней просто вянут и духовно умирают. А то, что осталось без корней, годится только в гербарий и сухоцвет икебаны. Просто читая, слушая и оглядываясь вокруг, снимай лоскуты, что навешивают на глаза лошадей, чтобы не глядели не в ту сторону. Русские их совсем по-армянски шорами называют…
Часть 7 Дорогая Ида
Почем геодезия с картографией?
21 ноября 2004 г., полдень
Очередное письмо гласило:
«Дорогая Ида,
Спасибо за письмо. Тетя Цецилия благодарит тебя за хороший уход за тетей Кейт и за подарок. Поблагодари от нас сиделку, хотя её приятель очень досадил тете Цецилии и та просит объяснить ему правила хорошего тона.
Грегори в восторге от комиксов и уже пробует сам рисовать. Как бережешься от гриппа? Будь осторожна и не заразись. Говорят, помогает чеснок.
Искренне твой, дядя Оскар.
Острув-Мазовецка, 23710311»
Ида вернулась домой, сняла с полки Иллюстрированный словарь Оксфорд-Дуден Библиографического института Мангейма и раскрыла на странице 237, где под номером 1 была нарисована телефонная будка. Следующие две цифры шифра означали десятое отделение связи – бывший главпочтамт на центральной площади. Тройка означала просто номер кабинки, а одиннадцать – 9:00, так как в шифре всегда шло опережение на два часа. Завтра с утра следовало первой наведаться на почту. Уж очень активным было это место, где однажды у неё под носом студенты-провинциалы умыкнули заслуженный конверт. Ох, и плакала она тогда! Но выводы сделала верные и больше никогда не запаздывала.
Так-так-так, посмотрим. «Тетя Цецилия благодарит за хороший уход за тетей Кейт и за подарок». Это значит, что благодаря балаболке Светке с её отксеренными докладными специалистов и правительственными документами строгой секретности турки выиграли-таки через подставную фирму тендер на осуществление космической аэрофотосъемки территории Армении. И Осман знает сейчас все тонкости геодезии и картографии Армении лучше, чем всё её правительство, вместе взятое. Ай да мы со Светкой! И при этом дурёха была убеждена, что просто помогает близкому приятелю Иды. А как радовалась неожиданной карьере! Всё-таки снова стала помощником в правительственной структуре, правда, помощником всего лишь замдиректора, но ведь не парилась в кухне кафе! Вообще всё было обставлено так аккуратно, что Светка ещё и боялась, что Ида её не отпустит на новую работу. И из благодарности ещё не такие бумажки могла отксерить. И ещё отксерит, когда понадобится.
Ксерокопии – это, конечно, только часть дела. Самым хохмовым был лотерейный розыгрыш. Ида к нему подготовилась основательно. Дождалась прихода в кафе заместителя директора госагентства недвижимости с его благоверной, вызвала по мобильнику Лёву, который приходился заму родственником. Вышла она с Ллвой к народу и объявила: «Дорогие друзья, наше кафе совместно с фирмой «Тур Дистрибьютерс» проводит сегодня розыгрыш двух путевок VIP-класса на поездку в Анталью!» Все зааплодировали, а один сморчок из западных армян скептически так заявил: «Что вы тут радуетесь? Анталья – это лишь чужая песчинка нашего Киликийского царства!». Но Лёва его сразу отбрил: «У нас сейчас от того царства только хорошее пиво «Киликия» и осталось, так что радуйтесь возможности!» И радовались. А больше всех обрадовалась жена замдиректора, когда ноутбук Иды, водруженный на стол, устроил цирк с бегущими номерами, а потом раз – и остановился на номере их столика! Зам-то, Вааг Алтунян, догадался, что Ллва подстроил, ещё благодарил того втихомолку, небось…
Поехали они, покупались, позагорали в лопнувшем 500 лет назад армянском Киликийском царстве, а дальше было просто, как в детской азбуке. Сделали ему подставу в магазине, что будто бы он украл там галстуки от «Версаче», засняли, обещали показать в своих новостях и по международным каналам.
Словом, тендер турки выиграли, и выиграли практически без любимой всеми чинушами коррупции. Зачем она нужна, если есть старый как мир и безотказный шантаж? И стали обладателями стратегической информации, за которую, если перекупать, нужно было бы платить многие десятки миллионов! Да еще и получили от Иды данные геологоразведки урановых руд прямо на границе с Турцией. Вон, «Грегори уже рисует»! Интересно, они там врубились, какое сокровище обрели в её, Иды, лице? Так что пора им раскошелиться по-настоящему на её талант суперагента. Интересно, какая её ожидает премия? Нет, сегодня ночью не уснуть, пока не вскроет она на почте желанный конвертик, потому что чует её сердце, в конвертике на этот раз будут не купюры, а чек на очень серьезную сумму.
Надо будет и Светке хороший подарок купить долларов на пятьсот, раз они настаивают. Новый телевизор, например. Да сейчас и за четыреста очень приличный можно купить, с телетекстом. Да нет, нужно что-то более значительное, чтобы визжала и целовала и по гроб помнила. Шубку дорогую – вот что надо ей подарить! Это в самый раз! Она всё на её шубы заглядывается и умирает от зависти. Да, надо будет именно шубку подарить и перед Центром отчитаться, добавив тысячу. Она, балаболка, заслужила. Правда, Лёву она у неё, своей благодетельницы, аккуратно увела, да невелика потеря. Они, русахосы[108], всегда тянутся друг к другу, как волнистые попугайчики среди чижиков. Да и момент был такой, что нельзя было её убирать: тендер в госагентстве только-только затевался. Ничего, еще посчитаемся…
Чего бы ей самой учудить, если премия окажется и вправду значительной? Ну, куплю новые очки в «Эгоисте», ну, туфельки и сумку в «Балли», а потом? Может, в Африку махнуть львов пострелять?
– Идиотка, – остановила она собственные мечтания, – так тебе и так сафари предстоит! Вон, «приятель очень досадил тете Цецилии», и пора применить крайнюю меру – «чеснок». Моя бы воля – я б его тогда прямо на пикнике пришила, за эти его высокомерные проповеди. Тоже мне, красавчик-мушкетер! Но инициативу в таком деле опасно проявлять. Уж лучше вот так – по заданию Центра и за денежки…
– Лёва? – спросила она со второго мобильника, – в пять удобно? Ну да, в «Мариотте».
Это означало, что следовало спешить, так как встреча была назначена на двенадцать в полуподвальном ресторанчике «Клуб», где прослушки точно не было, а название начиналось с буквы, так же, как и час, отстававшей на пять единиц армянского алфавита.
О вреде кофе с коньяком
21 ноября 2004 г., полдень
Нет, вы мне скажите, может красивый мужик быть таким невезучим на женщин? Когда всё при тебе, а они – одна другой стервозней.
Когда в семидесятых у отца случились большие неприятности из-за дурочки, излишне доверчиво усевшейся в его зубоврачебное кресло, тот дал дёру от её родни и закона. И мы всей семьёй следом переехали из Еревана в Краснодар. Конечно, правнучки былого казачества были первый сорт. Но жить в этом городе, если не пьёшь, – скучно, как в батискафе! Пожил я там, насмотрелся в иллюминатор на это болото, и от страха застрять навсегда стал учиться, как зверь. И поступил хоть не в МГИМО, так в Лумумбу.
Была на курсе венгерка одна: глаза зеленые, волосы соломенные, сама белая в крапинку – как булочница Рафаэля! А заводная! Из всего белья разве что трусишки по праздникам носила. Бутылку водки могла выхлестать, жвачку пожевать и явиться на семинарские занятия. И ничего – выкручивалась! Папа у неё был большой начальник в органах притеснения венгерского населения, это срабатывало. Подарки принимала без комплексов, по ресторанам со мной ходила, у меня на квартире ночевала, а замуж – ни-ни! Чокколом[109] – и всё! При чем тут замужество? А при том, форнарина ты моя бесштаная, что возвращаться после окончания в Краснодар – да лучше пулю в лоб!
Потом встретил Любовь. Не любовь с большой буквы, а девушку по имени Любовь, соседку по ереванской улице. А она – здрасте-пожалста – давно в Москве с родителями живет. Папа – генерал в Генштабе. Эта поначалу казалась приличной: и белье на месте, и никакой тебе водки, и вообще воспитана по строгим ереванским стандартам. Правда, тоже как булочница Рафаэля, но по необъятным размерам. Словом, хорошая, к тому же единственная папина-мамина дочка. Поженились, когда времени у меня было в обрез: накануне распределения. Пару-тройку лет перекантовался в «Интуристе», куда тесть задвинул, а потом начались святые времена горбачовской кооперации.
Мамочка родная, да сколько ж я тогда денег заработал? И ничего не растранжирил. И квартиру купил, и свое турбюро отстроил, и палатки торговые открыл, и каждый раз, как Дед Мороз, домой заявлялся с подарками Любке и малышам. Правда, не каждый день заявлялся. Но ведь бизнес – он требует круглосуточного контроля и мониторинга. А Любка – в крик! Ей, видите ли, подарки побоку, а нужно энергичное участие в воспитании детей, любовь и внимание к тонкостям её души. А как её душу поймешь, если во всех книжках написано, что загадочную русскую душу не разгадать без батареи бутылок? А я – трезвенник!
Ну и черт с ней с её научно-фантастическими требованиями. Решили разводиться. А она почему-то за мою квартиру уцепилась, когда у родителей – хоромы! Я её отбрил как надо, она и заткнулась. Думал – осознала. А ко мне вдруг девятый вал налоговых проверок по всем объектам. Когда акты налоговиков в стопочку сложил и подсчитал – думал, инфаркт на месте хватит. Не хватил. Но и денег на выплату штрафов не хватило и не могло хватить до скончания дней. Ткнулся туда, ткнулся сюда – глухо, как в Кот Д' Ивуаре. А что ты хочешь, независимая от своей же империи Россия – это огромная и уже чужая страна, хоть ты и её гражданин! И при форсмажоре никто из знакомых близко не подпускает. Не к отцу же идти этой змеи-наводчицы. Её, конечно, подружки ереванские подучили. Была там одна дылда кучерявая – дым из ушей валил от организаторского энтузиазма. И главное – статья светит по уклонению в особо крупных размерах!
И что вы думаете, пришлось вот этой своей правой, которую лучше было бы мне самому отсечь, переписать всё, нажитое праведным, но не полностью облагаемым налогом трудом, на нужных ребят в прокуратуре, чтобы выпустили подобру-поздорову. Вернулся на родное пепелище, в Ереван. Здесь хоть есть старые друзья, родственники, младший брат Григор в прокуратуре давно работает.
И поначалу всё здорово складывалось. Зарегистрировал турбюро, познакомился с молодой красивой хозяйкой кафе, у которой прорва иностранных клиентов. Приударил, а она не против. Решили вместе съездить на Кипр, который непризнанный. Но в последнюю минуту оказалось, что у Идочки мама разболелась. Так что пообещала прилететь вслед за мной, следующим рейсом, через три дня: не пропадать же сразу двум билетам? Я и полетел. А там такое случилось…
Вы актрису Шер видели по телевизору? Такую томную, кудрявую, с правильным, как из-под командирской линейки, эллипсом лица? Вот в точности такая торчала на балконе соседнего со мной номера! Стрельнула газельими глазами и исчезла в глубинах номера. На следующий день – то же самое. Но на третий уж я её разговорил. Слово за слово, how do you do, я к тебе приду? У вас, говорит, кофе с собой есть? А какой армянин без кофе и коньяка за границу ездит? Пришёл со своим национальным набором, попили её заранее охлажденное шампанское, пообщались. А потом у меня всё поплыло перед глазами. От жары, подумал. А она как набросится на меня, как будто три года в клетке у жерла вулкана просидела! У меня аж дух захватило! Но потом мгновенно обесточило: оказалось, она мужик! Но клофелин меня уже до такого обалдения довел, что я и не здорово сопротивлялся, был в роли статиста. А когда проснулся у себя в номере, там уже Идочка сидит, видак смотрит, а там – мама моя родная! Всем порнухам порнуха, а в главных ролях – я, Левон Ншанович Алтынов, и сверкающий яйцами мон шер в съехавшем набок парике!
Словом, пал я в глазах Идочки безвозвратно. У нас с тобой, говорит, Лёва, могла быть большая и чистая любовь, а раз ты такой извращенец, будешь просто моим рабом, неукоснительно выполняющим задания. Шаг вправо, шаг влево – обнародую я эту оргию в родном тебе городе Ереване. Знает, змея, что с такой репутацией в Ереване самый продолжительный срок годности – сорок дней. А куда тогда бежать? Не в Краснодар же!
Задания поначалу были не так чтобы страшные. Так, досье на клиентов турбюро передавать, о прилётах-отлётах сообщать, кто с кем поехал, кто с кем вернулся, посылочки отвозить в Турцию и обратно. Но сам факт, что я, выпускник Лумумбы и бывший московский магнат, попал в рабство к этой фифочке с её хорошими иностранными и деревенским армянским, бесил меня, как овцу ёжик. Только и было свету в окошке, что незлобивая и веселая Светка. И мысль, что Ида сможет испоганить своим блокбастером и это, доводила до исступления. И вот – здрасте-пожалста – новое задание, из-под которого уже никогда не выберешься… Это что ж получается: я, Левон Алтынов, красавец-мужчина, у которого бизнес в Москве был в десять тысяч раз крупнее, чем ее дурацкое кафе, нужен был Иде именно в качестве информатора и курьера, а не друга жизни? Да уже и не только информатора и курьера: в свете нового задания бери выше, то есть – хуже…
Что нужно сделать, если послышалось «фас!»
8 декабря 2004 г.
Это было уму непостижимо! Это не укладывалось ни в какое собачье сознание. Вместо долгожданных хорошеньких щенят из живота выпал пузырь, который сразу осел, как цветной шарик, которым Поскрёбыш пытался как-то поиграть с Софи. Пузырь остро пах возможными щенятами, но был обескураживающе пуст, и разочарованная Софи съела его, вытянулась, положила голову на передние лапы и угрюмо уставилась в пространство.
Получается, что этот пижон Дэн просто надул ее. Надул пустым пузырем, в котором не оказалось ни одного щеночка. А ведь она ждала их целых шестьдесят четыре дня и уже просчитала, что рожденные к середине декабря, выйдут они с ней из подвала с первыми лучами мартовского солнышка. Вот тогда-то она примется знакомить их с закоулками родного парка с его доброжелательными старичками, станет предостерегать от Рыжего и Вредины и научит увертываться от их нападений и грозно рычать. Она будет кормить их и учить находить вкусную еду. Она обучит их всем тонкостям собачьего и человечьего этикета, и они найдут себе хорошего хозяина: доброго и мужественного, как Давид, богатого, как Жилистые Ноги, и веселого и участливого, как Добряк.
Тут Софи вспомнила, что, когда она с ночи залегла на мат, неважно себя чувствуя в предвкушении рождения щенят, вроде бы запахло Добряком. Издали даже послышался его голос. Но тогда её стало корчить, и она совсем забыла про него. Однако теперь пахло Добряком, но как-то странно! Что это? Софи непроизвольно заскулила и вспомнила об украденном Врединой мягком мясе в бумажке и о своем Добряке. Потому что она твердо знала, что оба они рядом и что-то тут явно не так, как надо.
Несмотря на недомогание, она толкнула свою резиновую портьеру носом, выбралась из подвала и пошла в сторону парка. Там, на выходе со двора, под аркой, скорчившись, на боку лежал Добряк, и из его рта и носа вытекала кровь. Рядом, низко склонившись над землей, что-то пытался нашарить Вредина. Софи лизнула Добряка в лицо: плохо дело!
– А, это ты, красавица, – тихо прошелестел Добряк, и Софи показалось, что он добавил слово «фас». Возможно, он и не проговорил это слово, означающее для всех собак мира, независимо от породы и языка, команду «нападай!» Но Софи впервые в жизни, и с большой готовностью исполнила эту возможную команду, потому что знала, что Добряк приказал бы ей это, если бы смог. Она подскочила к стоящему на карачках Вредине и крепко вцепилась в его голень. Вредина взвыл и стал отбиваться от Софи, молотя кулаком по её голове, носу и глазам. Но Софи еще крепче запускала зубы в его вонючую штанину. Когда Вредина в очередной раз извернулся, чтобы ударить её по голове, он потерял равновесие и свалился на спину. Софи выпустила противную штанину, из которой уже вовсю лилась кровь, глухо зарычала, оскалила зубы и склонилась, подобравшись к тощему горлу Вредины. В темноте арки она рассмотрела ужас в его широко раскрытых глазах, ожидающих верной смерти от далекой наследницы беспощадных волков.
– А пошел бы ты знаешь куда? Вредина ты и трус. Даже больше трус, чем вредина. Мать твоего хозяина, – совсем по-человечьи подумала Софи, присела и пустила вонючую струю прямо в его светящиеся ужасом глаза. И отошла к Добряку.
Такого запаха Софи никогда не нюхала, но она твердо знала, что это за запах. Потому что это был запах смерти, который не перепутаешь ни с чем, даже если мама не успела вооружить тебя такими собачьими знаниями.
И Софи завыла! Она горько выла о потерянных иллюзиях рождения щенят и о своей усохшей задней лапе, о забывчивом Старике и вверившем её Жилистым Ногам доверчивом Давиде, о вэксинэйшн и стерилизэйшн и о многом другом. Но больше всего она выла о Добряке, который на поверку оказался её самым любящим и преданным Хозяином в бесконечной веренице опекунов. И ещё она выла о том, что слишком поздно, только сейчас поняла это.
Каракурта
9 декабря 2004 г.
Ну и везучий ты парень, Лева! Уж и не знал, как подступиться к этому заданию, как грех на душу взять, а тут – звонок из Еревана! Светка ревет, ничего поначалу непонятно, а потом гундосит в трубку: «Арами-и-иса убили!» Я поначалу даже не понял: как это, я еще в Анталье, а его уже убили? Потом подумал: пронесло. Везучий ты парень, Лева! Ида, небось, сама разобралась. Или меня все-таки пожалела: уж как я её тогда уговаривал-умолял! Проняло все-таки. Кого-то другого, видимо, нашла. И чем ей Арамис не угодил? Он ведь, сколько помню, никогда за девушками не волочился, сами липли и не отставали, как репей. Небось не поддался её чарам. Не девка она, а паук: сети раскидывает и ждет, кто когда попадется. Каракурта она – вот кто!
Я в детстве, ещё до Краснодара, любил книжки о животных. Помню, подарили мне книжку с картинками о паучках. Славные такие, мохнатенькие. А среди них, оказывается, есть самки, которые своих же ухажеров и лопают! Сплетёт такая кружево, сидит себе, якобы муху дожидается, а сама знает: на эту же паутинку и самец попадется! Он, дуралей, муху-то сам словит, в паутинку обернет – и к ней, с подарком. И за её паутинку подергивает, как за дверной колокольчик. Она к нему подползает так жеманно, лапками подарок берет, поворачивается эротично, а он что – дурак? Прыг ей на спинку и давай па-учат делать, пока она муху обсасывает! Бывают, конечно, и среди самцов аферисты: вместо мухи щепочку или былинку аккуратно упакуют и раз – на спинку! Тут главное – успеть смотаться на всех восьми, пока она свой мушиный деликатес смакует или пытается со щепкой разобраться. Потому что чуть зазевался – догонит и сожрёт. Пустит на витамины для беременного пищеварения. Самок каракурта за это энтомологи черными вдовами зовут. Так и наша Идочка…
Эх, зазевался ты, видать, Арамис… Жалко тебя. А себя – жальче. Она и со мной так расправится, когда момент назреет… Уж и не знаю, как от неё беречься-уберечься… В полицию отечественную обратиться? Поздно. Нужно с Гришей потолковать… Ну, он разъярится! А двоюродные и вовсе с коньков слетят: мол, ты что, дурак, бизнес наш совместный подставляешь? Мало мы тебе процентов с ГРААЛя платим?
Это ещё кто по второму мобильнику?
– Алло? Ида? Вылететь ближайшим рейсом? А что такое? Ну ладно. Хорошо. Буду обязательно. В «Белладжио»? Ладно.
Сегодня понедельник. Ага, значит прямо из аэропорта нужно переться в кафе «Гусан» в Пушкинском парке, разница в одну букву и сотню шагов от дома – спасибо, хоть близко назначила. Есть в ней все-таки человечность… А что ей в таком пожарном темпе нужно-то от меня?
Нарды как инструмент дрессуры
9-е декабря 2004 г.
– Фу, Софи, фу-у-у!!!
– Ну иди сюда, моя красавица, посмотри, какую вкусную косточку я тебе принес… Да иди же сюда, сукина дочь!
– Эй, Волод, да не отмахивайся ты так, дурак, горло спрячь!
– Размик, а Размик! Ты её отвлеки, а я за ошейник-то схвачу… Да не бойся ты, ладонь спрячь в рукаве!
Старички метались вокруг валявшегося на гравии парковой дорожки Волода и по-волчьи оскалившей зубы Софи. Руки отбивавшегося поначалу бомжа были искусаны – будь здоров! Кровь лилась и из вчерашней раны на лодыжке и покусанной только что ляжки, а Софи непривычно зло огрызалась на старичков, чтобы не мешали ей исполнить задуманное.
Бабах – и здоровенная ореховая коробка нардов обрушилась на голову Софи, разбрызгав окрест черные и белые шашки. В глазах у Софи помутилось, она присела, а потом и вовсе растянулась на дорожке.
Сквозь окутавший её туман слышалось:
– В «скорую помощь» звоните! У кого есть сотовый? Сынок, я с этой техникой не управлюсь, сам набери…
– Воды, воды наберите из родничка в мою кепку: побрызгать его…
– Что ж ты так неловко его перевязываешь? Кровь так не остановить. Дай я, и платок у меня почище твоего… Ну, воняешь ты, Волод, совести у тебя нет, помылся б хотя бы, а то сам от себя еще и инфекцию теперь схватишь…
– Эй, Размик, ты чего собаку-то пинаешь? Нет чтобы пожалеть. Какая она бешеная? Да ты сам видел, как Волод её всегда доставал: всё объедки воровал, пнуть норовил, она еще с каких пор на него рычала…
– Ну да, я еще когда говорил: ох, покусает она тебя, Волод, когда-нибудь. Собака всё-таки, не киска какая-нибудь… Попить-то ей кто-нибудь принесет?
Звуки исчезли, и Софи погрузилась в вату тумана. Всё еще в беспамятстве, вздрогнула от обрушившихся на неё водяных брызгов и приоткрыла глаза: поодаль толпились ноги милых старичков и две пары аккуратных, незнакомых, обутых в сапоги, как у Давида, но гораздо красивей. С той же стороны отвратительно пахло ваксинэйшн и Врединой. Так он еще там? И Софи тихонечко зарычала. Мягкая рука того, что приходил в парк с нардами подмышкой и не пожалел их для экстремальной дрессуры, стала оглаживать Софи, приятно почесывать за ушами. Старички галдели, перебивая, как всегда, друг дружку:
– Да не бойтесь вы, не бойтесь: это она сама запаха вашего укола боится, вот и рычит…
– Да нет, докторка джан, какая она беспризорная? Это моя собака. Беспризорный – вот он, лежит на ваших носилках…
– Ты ему что вколола, медсестра джан? Ему ведь, наверное, не всякое лекарство подойдет: наркоман, говорят… Да нет у него места жительства. А ведь отец уважаемый человек был, царствие небесное…
– Привитая. А как же? Вон как он её нардами покалечил, а она возьми и укуси… Собака всё-таки, не киска какая… Обязательно буду на поводке держать, это сегодня только дома забыл…
– Ну какая же ты симпатичная медсестра, доченька. Муж не ревнует, что к незнакомым людям ездишь уколы делать в руки-ноги и другие места?
– Докторка джан, вы из какой больницы? Ах, из тринадцатой? Так там главврач – мой племянник, Арсен Хачатурович, слыхали? Вот я и говорю: очень он уважаемый человек, и дядю своего, то есть меня, – уважает… Спасибо вам, доктор джан. Если вдруг Арсен мой станет притеснять – так вы скажите, подсоблю, хе-хе… А собака моего приятеля – хорошая, воспитанная, вы уж не звоните в службу отлова, а? Он сам позвонит? Ну так я ему до этого позвоню, дядю своего не ослушается…
– Э, да какой порядок? Какой сейчас порядок, докторка джан? Порядок был, когда мы работали, а ты еще в школу ходила, четверки-пятерки получала…
Вылитый Байрон
2004 г., 12 декабря
Волод проснулся в состоянии блаженства. Хоть и перевязанные да побаливавшие, но его руки покоились на настоящем белом пододеяльнике, а под головой была мягкая подушка в наволочке, пахнувшей знакомой с детства свежестью жавели[110] и крахмала.
Рядом кто-то хмыкнул. На соседней койке сидел носатый старик с седым ёжиком волос на голове, в очках, с листом бумаги поверх книги на коленях, и быстро-быстро писал что-то. На уходящих вглубь свежепобеленной комнаты деревянных кроватях спали три тощих мужика, четвертый спящий был здоровенный и нещадно храпел.
– Проснулся? – осклабился старик беззубым ртом. – Доброе утро!
Волод заворочался, оглянулся на сквознячок за спиной и уперся взглядом в яркую луну за чистыми стеклами окна. Мать честная, так ведь ночь за окном! Где это я?
– Ты, старик, зубы с хлебом проел, что ли? – засипел Волод отвыкшими от функционирования голосовыми связками. – Ночь ото дня уже не отличаешь?
– Это ты двое суток проспал, день от ночи не отличая, – хмыкнул старик. – И людей от зверей не отличаешь: вон, говорят, с собакой подрался, как с человеком, еле прохожие спасли обоих.
Опа! Волод ясно увидел яростные глаза Софи, её страшный звериный оскал и дернулся на постели. В ответ заныла зашитая рана на бедре.
– Да она бешеная была… Ее, грязную тварь, небось на живодерню уже сдали, – зачем только люди их терпят, подкармливают? – поравнодушнее ответил Волод.
– Проку-то от тебя, такого чистого, – собачья шкура, – откликнулся дед. – От самого-то воняет хуже, чем от бездомной дворняги. Ты пойди душ прими, по коридору направо. От сестры-хозяйки белье с полотенцем возьми, чистюля.
– А что это за место? – схватился Волод. – Больница?
– Станут тебя, такого ароматного, в больнице держать, – хмыкнул старик. – Залатали и сразу переправили сюда. Приют это. Зимний приют для бездомных Всеармянского благотворительного фонда, слыхал?
Да нет, не слыхал, но идея Володу понравилась. Он потихонечку сел на кровати, но швы на бедре и лодыжке всё равно дружно заныли. Нашарил ногами незнакомые мягкие тапки, опасливо откинул одеяло и вдруг понял: в комнате-то тепло! Подхватив рукой резинку от огромных пижамных штанов, захромал в указанную сторону.
Сестра-хозяйка была тетка грудастая, волосы светлые – красивая, словом. Но манерная. Не знала, сука, что имеет дело с сыном секретаря райкома, всё нос зажимала, пока подписывался под документом с описью полученных вещей. Вслед покричала, чтобы трижды намылился и не забыл пальцы на ногах поскрести. После душа критически осмотрела ногти, дала ножнички, велела остричь их и прибрать обрезки. Потом, как в пионерлагере, осмотрела уши и отправила к дежурной медсестре.
Та совсем молоденькая была, худенькая, стыдливая. На филфаке такая же была, всё стихи писала, читала писклявым голосом. Эта не то чтобы нос воротила, но держалась настороженно, как с прокаженным, старалась лишний раз не прикасаться без надобности. Натянула резиновые перчаточки, сделала очередной, как оказалось, и больнющий укол в живот от собачьего бешенства, вручила две пластиковые баночки, предупредила, чтобы утром пришел сдать анализы, и отвернулась к раковине – умыться.
– А какие с меня анализы, если три дня ничего не ел? – возмутился Волод, – вот, на ногах еле стою…
– Три дня? – ужаснулась сестричка. – Ой, столовая уже закрыта. Извините. Ну-ка я спрошу, как быть. – Ринулась к рабочему столу, взяла было телефонную трубку, но сразу положила:
– Ой, да мне мама пирожки положила на дежурство, вот, возьмите все, кушайте на здоровье. Мне всё равно не хочется. Но они вкусные: есть и с сыром, и с мясом.
Ага! Прониклась наконец симпатией и состраданием. Поняла, наконец, с кем имеет дело! Волод трагически, но высокомерно улыбнулся: Мерси! – и артистически протянул к пакету перебинтованную руку. – Огромное мерси! – заграбастал пакет с пирожками и направился из её кабинета, усиливая хромоту.
– Байрон! – думал он по дороге, – вылитый лорд Байрон: худощавый, прихрамывающий и любимый женщинами. Хорошо, борода отросла и скрывает эти чертовы бородавки. Всё от антисанитарии окружающей среды. А Байрон-то, не помню, с бородой был или усами? Но всё равно похож… А где пирожки-то съесть? В палате старик может отнять. Или тот здоровяк, что храпел, проснётся от вкусного запаха. Ага, вот он, ручки-ножки-огуречик!
Волод сбавил хромоту и осторожно открыл дверь туалетной комнаты. Ну, чудеса! В комнате было чисто, светильник над зеркалом отражался в умывальных раковинах и писсуарах, двери кабинок были распахнуты настежь. Богатенький, видать, фонд этих самых благотворителей! Интересно, можно у них чего-нибудь дополнительно выпросить? Стипендию какую или пенсию персональную – все-таки я не кто-нибудь, а бывший сотрудник Госплана…
Волод заторопился в кабинку, щелкнул замком, убедился, что заперся, и счастливый, уселся на унитаз с пирожками в руке:
– Попируем, сэр!
Как братва снабжала книжками
10 декабря 2004 г.
Старик оказался ровесником Волода. Физиком был по образованию. У них, у физиков, голова в любую сторону хорошо работает. В Госплане, правда, не трудился никогда, но имел аж три кооператива при Горбачеве, говорит! Квартиру, машину, дачу и жен вереницу, как у Волода. Он, когда пирамиды вовсю развернулись, в банке взял кредиты для кооперативов под залог квартиры, дачи и машины, и вложил их в самую знаменитую финансовую пирамиду. Дебет-кредит подбиваешь – и оказывается, что чистого навара между банковскими обязательствами и пирамидальным доходом получается аж пятнадцать процентов! А их он стал вкладывать в ещё одну пирамиду, говорит. Хоть и физик, но жертва массового психоза, как ему потом объяснили сведущие люди. А роскошные, как в сказке, пирамиды хлопнулись однажды оземь и оборотились кучками жуликов без кола без двора! И платить им было своим должникам практически нечем!
Так Старик потерял квартиру, машину, дачу и всё частное и кооперативное имущество. А очередная жена ещё до того ушла, в богатый период. Женщин разве поймешь? Потом уже, бездомного, пожалела, взяла к себе в дом, но зачем мужчине женская жалость, говорит? Мужчина – он если мужчина, должен осязать уважение к себе и такой высокий градус любви, которого она же, красавица, и стесняется. А какой тут градус может быть, если мужчина – бездомный банкрот? Сам ушел. Поехал в Москву, думал снова встать на ноги. И встал, говорит. Нашел там дальнего родственника, точнее – брата крестного отца сына сводной сестры. Нормальное родство, а что? Тот уже крепко стоял на ногах, вложился, вместе большое хлебопекарное производство открыли. Лаваш и пури пекли такие, что кавказские рестораны в очередь становились на их поставку! И налоги платили. Потом этого парня убили. Из-за бабы. Дело обычное. Тогда чуть ли не каждый второй гроб, что в Армению привозили из России, был с мертвяком, что не уступил дело или бабу. Этот принял смерть из-за бабы, хотя своя семья была, и крепкая. Вот Старик и продолжал выплачивать семье те же проценты с доли, что и при живом компаньоне. С рэкетирами вроде тоже договорился заново, чтобы всё полюбовно. Но оказалось – не с теми! Когда наехали супер-рэкетиры, он разозлился не на шутку, говорит. Нервы уже были ни к черту. И проткнул обычным кухонным ножом самого оголтелого. Тут на счастье к зданию кавалькада ментовских машин подъехала совсем по другому случаю, но с воем сирен и прочими устрашающими эффектами. Это потом уж оказалось, что в ресторане, что делил помещение с пекарней Старика, свадьба была молодого лейтенанта милиции. Но тогда кто ж мог догадаться? Разбежались рэкетиры, оставив жмурика и недобитого Старика.
И оказался он на скамье подсудимых по статье «убийство» – сам избитый и без зубов. Еще спасибо, говорит, как раз в то время приехал в Москву на недельку старый знакомый: накануне в ресторане встретились, хорошо посидели, ереванскую молодость вспомнили, телефонами обменялись. Он-то, этот знакомый, и нашел ему дельного адвоката из армян, а тот парень грамотный был, напористый, так что сумел поменять статью на превышение обороны. Дали пять лет. Но всё равно, в тюрьме заказала бы его братва. Но старый знакомый – а он чемпионом мира был когда-то, связи в спортивных кругах большие – через знакомых спортсменов вышел на всерэкетирное руководство, объяснил, как дело было. Попросил за Старика и поручился. Так в тюрьме его не просто не третировали, но еще и уважительно отнеслись авансом. А уж дальше он сам утвердился благодаря характеру и знаниям, говорит. Но ручательство чемпиона решающим было, конечно.
Так вот, этот чемпион не уехал из Москвы, проторчал там три месяца, пока все дела Старика не уладил. А когда пришёл на первое же свидание в тюрьму, без лишних слов наехал: «Помнишь наш храм Звартноц, что много веков никак не восстановят? Его фотография в каждом школьном учебнике есть, помнишь? Круглый такой, трехэтажный, как свадебный торт. Можно его разделить на нижний – материальный уровень, средний – интеллектуальный и высший – духовный. Три этажа. И если пропорция нарушается, то с архитектурной точки зрения – просто некрасиво, а с человеческой – губительно. Потому что трехэтажный он только снаружи. А изнутри – никаких этажей, единое пространство. Все безраздельно, как в человеческой сути, и взгляд устремляется вверх, под самый купол, откуда свет льется. Так вот, ты как физик должен понять: храм этот – калька с миропонимания человека. Толковый ты парень и человек хороший, но всё на нижнем, материальном уровне зациклился, и даже интеллект твой только в обслуге у материального. А о духовной составляющей не хочешь задуматься?»
Сильно это Старика в самый кризисный момент проняло. Вот так стал он в самой растре-клятой тюрьме книжки по философии читать, всяких Штайнера-Майнера. Не поверите – братва по его списку присылала. Смех, да и только! Потом стал думать. Думать и сам писать. Сейчас вот выпустили его условно-досрочно за образцовое поведение, сразу приехал в Ереван. Принялся разыскивать своего добродетеля чемпиона, но телефон не отвечает. Так он сам попросился в бомжовку, чтобы перекантоваться до встречи. Очень уж хочет поговорить с ним по душам, а потом – прямым ходом в Эчмиадзин, говорит. Много у него вопросов скопилось.
И меня Старик теперь взялся учить: «Жизнь, говорит, никогда не поздно начать с чистого листа. На то человеку и дана свободная воля. А Промысел Божий – он всегда позитивный, в поддержку твоих добрых намерений. Это мне тот старый знакомый подсказал тогда на первом свидании в тюрьме». Где-то я всё это слышал… Стоп! Так это же самое мне Арамис твердил тогда в коптёрке! Чемпион Арамис… Господи, Боже праведный, да ведь я и забыл, что натворил… Всё со своими вавками носился, а то, что натворил тогда под аркой, стёрлось подчистую… И куда мне теперь деваться от себя?.. Что, одеваться и на выход? Как на выход? А холод собачий? А собака? В какую больницу? Да у тебя у самой вич-инфекция, дура сисястая! Пусти-и-ите!..
Самый счастливый резидент
12 декабря 2004 г.
Ненавистная страна. Кичливый народ. Живучие, как кошки, которых хоть с крыши кидай, а спускаются на свои четыре и идут себе дальше.
Народ – он как человек. А какой у человека самый большой орган? Кожа. Утратил шестьдесят процентов покрова – и хана тебе, никакая медицина не спасет. Так и территория народа. Отняли больше половины территории – считай, конец народу. Вон, сколько их совсем исчезло с лица земли после потери важных территорий. А от скольких только карнавалы и остались: эскимосы, каманчи, ирокезы… Как надо какой-то стране отчитаться, что не под корешок истребила аборигенов, отняв их землю, так начинает телерепортажи с чудными костюмами, заунывными песнями и смешными музыкальными инструментами. А от народа давно только тень осталась, как от отца Гамлета, потому что дух испустил, когда кожу отодрали.
У этих мы отняли девяноста процентов земель. И не просто отняли, а и самих, думали, под самый корень истребили. Кучки остались сирот и старух. Всё, думали, конец их чванству и зазнайству: «когда наш Нарекаци возвестил Ренессанс в Европе, вы еще кочевниками были, мы вам племенное имя дали, мы вас грамоте обучили, мы вам словари написали, мы вас хлеб возделывать и есть за столом научили»… Жаль, конечно, что пришлось все нефтеносные районы нашей великой Османской империи раздать арабам. Но зато армянам вместо их исконных земель шиш показали! И с благодарностью приняли от советской власти Ардаган, Баязет и весь Сурмалинский уезд, а в придачу – еще две их древние столицы, Карс и Ани. Для комплекта с Ваном. Но главное, что мы сделали вместе с Троцким, так это ампутировали у армян их сердце, их магический Арарат, и пересадили себе. Это была первая в мире операция по пересадке сердца, задолго до Барнарда! Ну, думали, это уж точно хана!
Так нет, выжили. Победовали, поскулили, безотцовщина подросла – и опять началось: «На-ши зем-ли, на-ши зем-ли!» Тогда Советы всех пересажали, в Сибирь сослали. А вместо законно принадлежащих армянам восточных земель Османской империи построили им мемориал, и они на время утихомирились, цветочки зачастили носить, слезу пускать всенародно.
Да, народ – он как человек. Сломишь дух человека, начнет он себя жалеть и плакаться на судьбу – не борец уже, ему любой ветерок что буря. Так и армяне – как приучили их жаловаться на судьбу, так и перестали бороться, послов наших во всех странах показательно отстреливать. Цветочки на мемориал, ха-а-а…
Но есть у человека еще один незаменимый орган – мозг. Он-то может здравую самооценку осуществить, в правильное русло свою судьбу направить. У народа мозг – это лидеры, вожаки. Вместо реальных лидеров сумели мы подсунуть этим романтикам своих агентов. Еще при Советах, когда выползли армянские националисты на улицы, митинги затеяли, поскандировали. А мозг-то – наш! И он придумал: требовать признания геноцида. Не своих земель в возврат, а извинения за истребление. И ведь поверили! И опять началось: «турки устроили в пятнадцатом геноцид армян, турки то, турки сё»… А ведь это был не геноцид, а борьба моего народа за право считаться нормальным народом со своим собственным прошлым. И со своей культурой, которая раз была на землях, где мы поселились и живем, значит – наша это культура и наша история! Географии без истории не бывает. Раз территория наша, то и её история принадлежит нам, и только нам!
А потом и вовсе святые времена настали, независимость их желанная, но с Запада контролируемая при нашем мониторинге. Они-то думали, что сами вождей выбрали, но не смешите меня: об этих технологиях уже километры бумаги исписаны… То есть вместо здорового мозга подсунули им психоз. Вот это был всем психозам психоз! Их подагенты помитинговали, собрали толпу стукачей, архив КГБ разгромили, а с ним и концы – в воду. Потом наши люди под руководством опытного лохматого стукача убедили народ дуралеев, что промышленные гиганты и атомную станцию нужно закрыть. Вот это был ледниковый период на целых три года! Считай, миллиона полтора, то есть не меньше, чем в резню, когда мы корень их проклятый хотели начисто извести, удрало спасать своих детенышей от обморожения и слепоты!
Да, всем хорош был наш президентствовавший агент: грамотный, амбициозный, завистливый, мстительный – полный комплект необходимых ставленнику качеств. Он когда еще малышом был в Сирии, то националисты-дашнаки отлупили его отца за предательство мамаши, ногами попинали. Мать дашнак, а отец – советский сек-сот. Семейка, а? Так он затаил на обе стороны обиду. А спустя многие годы по нашим сфабрикованным оперативным данным взял – и запретил эту партию в Армении. И всё руководство пересажал. Одни умерли, другие хрониками стали, третьи спились. А ведь это была единственная боевая партия со столетней историей! Да, это была, конечно, наша несомненная победа.
Но был у подсунутого нами вожака серьезный изъян: ленивый был, до невозможности ленивый. На свою президентскую работу только к двенадцати ездил. Я сам ежедневно проверял, гуляя по парку, что напротив его резиденции. Оттуда всё как на ладошке видно. Специально для этого собаку завел, хотя знал, что парк-то под пристальным вниманием нацбезопасности, всех проверяют. Вот и хорошо, проверили тихого американца, приехавшего за большой зарплатой в банановую крошку-страну. Проверяют, а я лежу на дне: каждый день на работу – и домой. Кобеля своего выгуляю в парке – и опять домой. Подружку завлл американскую, из тех, что, знаю, давно проверены и особенными миссиями из-за рубежа не облечены. Так что покопались они, повынюхали, видят – пусто! Запротоколировали и стали воспринимать как своего, ну совсем как старичков в парке. Вот тут-то я и стал разворачиваться потихоньку.
Да, президент-то их, а наш агент… Ну и тупой же был! Так до свержения и не сумел понять принципы действия банковской системы, промышленности. Хотя и это был плюс. Что не знал, то прикрыл и уничтожил. Жалко, свергли его. Но ничего, у нас во всех звеньях власти остались свои люди. Да и в оппозиции. Время придет – мы и из него, бывшего, оппозицию сконструируем: тут вопрос его розничной цены и оптовой – для шайки-лейки.
И потом – у нас ведь не все резервы исчерпаны. Сегодня новые времена и новые технологии. Капиллярный метод – это, конечно, заслуга американцев, но применяют здесь под нашим умелым управлением. Кап-кап-кап – каждую минуту микрокапли проникают в мозги здешних недоумков: «Бери от жизни всё!» Кап-кап-кап: «Наслаждайся днём сегодняшним!» И слоган вьедается в подкорку, становится частью сознания молодежи. Эти памятливые прежде армяне, привычные строить на века, помнить свои тысячелетия и планировать на сто лет вперёд, стали превращаться в бабочек-однодневок. Полуголые девки с экранов не сходят, фильмы про голубую любовь с утра до ночи крутят для подрастающего поколения. И ненависть, ненависть как норма мироощущения к своим же – иньекциями в каждом фильме, каждой передаче, каждом блоке новостей. А как кто вякнет, на него медийцы, нами подпитываемые, наезжают: «Вы что, коммунистическую цензуру хотите ввести? А права человека? А демократические ценности? При чем тут пропаганда или образование? Мы обеспечиваем досуг…» Давайте-давайте, ребята, обеспечивайте досуг для сук, пока не ссучится народец этого острова вымирающей морали… Ну, и, конечно, продвинутые тётки наезжают из Европы и Америки и агитируют за равные гендерные права, демонтаж семейных устоев.
А ведь народ в целом – это женщина, у которой лидером может быть только мужчина! Но агитаторы наезжают и кап-кап-кап: «В Швеции половина членов парламента – женщины!» Правильно. Применяйте шведский опыт: шведский парламент, шведские семьи, шведские школы, где арифметику с шестого класса начинают проходить. Пусть, пусть армянские мужики лезут от безысходности на шведские стенки…
Кап-кап-кап: водка «Русский размер» – несомненное качество»! А вы-то при чем? И какой там размер, если здешний народ, лишившись исконных земель и запертый по двум границам, давно страдает клаустрофобией? А как же. Народ ведь как человек. Они и сами этого не сознают, просто ощущают дискомфорт, даже сидя в большой квартире, что в большом городе. А это – клаустрофобия потомков тех, кто до Испании с Португалией держал всю морскую торговлю, а теперь живет через границы от своих морей. Вот от этой клаустрофобии и разъезжаются. А сумеем выторговать Карабах – и вовсе валом повалят.
Кап-кап-кап: «Семь провинций Карабаха – оккупированные территории, и их нужно рано или поздно отдать». Да кто ж отдаёт завоёванное кровью? Но мы аккуратно так лоббируем и сто раз на дню на всех международных уровнях – кап-кап-кап: «Нужно отдать!» И ни звука о том, что большая часть Карабахского княжества, вопреки договору России с Турцией, все еще оккупирована Азербайджаном. А там гляди – и вправду отдадут ведь, недоумки…
Работаем, стараемся, тратимся, конечно, но время работает на нас. За рубежом передохнут оголтелые состарившиеся сироты и их сыновья. А внуков уговорим: «Зачем вам-то земля? Вы что, оставите Париж, Москву и Глендейл и попретесь в загаженные курдами Ван, Карс и Эрзрум? Берите, ребята, деньгами, пока мы добрые!» И ведь польстятся, не побрезгуют! А здесь поработают всевозможные секты, в которых главное – отказ от национальности. Да и экономику маленькой страны подорвать – раз плюнуть. Чудо что в условиях пятнадцатилетней блокады не едят друг дружку, а наоборот – школы новые открывают, университеты. Ну, ничего, университетом сыт не будешь, нужно только выбрать или создать момент. И я, резидент разведки моей страны, для того здесь и юродствую в обличье равнодушного мелкокалиберного американца, сотрудника международной миссии.
Агенты у меня хорошие. И что самое забавное – агенты-армяне в тысячу раз лучше, чем наши, турки. Активные, головастые. Да хотя бы Ида – бриллиант, а не агент. Анаид, Анаида, Ано, Ида… «У любимого дитяти – семь имен». Она и вправду – выпестованное нами дитя. Десять лет верой и правдой служит, и с каким задором! Она-то меня не распознаёт, но я её, считай, регулярно вижу. Конечно, в маленьких странах срок годности агентов отмерен. Как говорят армяне, жизнь у вора и бляди – сорок дней, потом всё тайное становится явным. Жалко будет с ней расставаться, если что… Но если ситуация так сложится – придётся. Это золотое правило разведки. Одно штрафное очко за ней уже числится с её нерасторопностью. Пришлось самому рисковать, гримироваться, как в театре, для водевиля с бомжом. И Центру сообщил, чтобы построже с ней. В ответ дали задание попристальней понаблюдать: не двойная ли игра? Или тройная? Вот и наблюдаю. Вроде не пахнет, но при её сообразительности всякое возможно…
А своего урода Хикмета я еле успел переправить домой на грани провала. Жадность наша турецкая, а? Мало ему было денег из Центра и навара от продажи израильских соков – так нет, собственный порнобизнес затеял! Да, здесь главное – армян использовать со всей их башковитостью и слабостями. Сами свою страну и загубят. Мне еще в Турции на курсах армянского языка преподаватель их древнюю байку рассказал. Пошло Дерево к Лесу жаловаться на Топор. «А из чего Топор состоит?» – спросил Лес. – «Лезвие – из железа». – «Железа не бойся, – говорит Лес, – а из чего у него рукоятка?» – «Из дерева», – говорит Дерево. – «Вот его и берегись: без него железу тебя не одолеть».
Что у нас сегодня? Пятница? Послезавтра закачусь к своей уродине, поплаваем в её бассей не, попьём виски, опять заведётся от моих волосатых ног, побалуемся, отдохнем. Выведаю пару-тройку байтов информации, да и ей подброшу нужную утечку из того, что не жалко: ей-то, небось, тоже нужно хлеб отрабатывать. Эх, жизнь…
Но при всей неказистости моего здешнего существования, я, скореё всего, – самый счастливый резидент. Потому что работаю не только с профессиональным рвением, но искренне ненавидя здешний народ от имени моего народа и государства. Геноцид армян – он не кончился, ребята! Он продолжается и будет продолжаться, пока не искореним мы вас до самого последнего всеми возможными способами. С кем надо, подружимся, с кем надо – для виду разругаемся. Но все равно, и давно – документальные фильмы солидных телекомпаний, говоря об античном периоде, называют не Армению, а Турцию. И ни одна собака не рискнет гавкнуть об антиисторичности этих исторических кренделей. Армения? Какая Армения? Что-то вы путаете, уважаемый: не было такой страны. И не будет. И перестанет звучать этот опасный язык. И вырвут наконец из глотки последнего хвастуна тот орган, которым он продолжает утверждать:
«Мы себя другим не предпочитаем, Мало нас, но зовут армянина hайем»[111]…
Проклятие Оксаны
Полдень 12 декабря, 2004 г.
Вызванная для дачи показаний Назели Терзян Шварцу сразу понравилась: хорошенькая, сотрудница МИДа, а скромная, воспитанная. Это с ней Арамис созванивался в последние дни своих предсмертных виражей, и она могла стать серьезным источником информации.
Кто сказал, что личные симпатии не играют роли при объективных расследованиях ментов? Играют. Еще как играют! Вот увидишь такую девочку и понимаешь: чистая не только в твоём расследовании, но и во вслм. И такая не соврет.
«Интересно, сохранятся такие девочки в ближайшие десять лет, когда придет пора женить сыновей? Вряд ли: уж наше телевидение постарается вывести их окончательно из моды… Одних поблядушек демонстрируют, сукины обезьяны», – распереживался мысленно Шварц и спросил:
– Семейное положение?
– Я не замужем, – просто ответила Назели, и Шварц сощурился:
– Что же ты, такая симпатичная, магистр международных отношений – и не замужем?
– А мы невезучие на мужей, – улыбнулась Назели, – у нас по женской линии или вовсе не выходят замуж, или мужья погибают. В лучшем случае разводятся, – пожала она плечиками.
– Что так? – удивился Шварц.
– А над нами проклятие Аксан висит, – обреченно улыбнулась она.
– Что за Аксан? – спросил Шварц, отложил ручку и взялся за сигарету.
– У нас есть такое семейное предание. Еще до Первой мировой мамина прабабушка жила в Сю-нике, в селе. Туда приехал жениться из Петербурга сын местного князя. Он как раз окончил университет и собирался прочно осесть в Питере. Но родители поставили условие: или возвращайся навсегда, или женись на девушке из наших краев, а уж потом обоснуйся в Питере. Хоть будем знать, что за тобой и нашими будущими внуками будет хороший уход. И Аракел, княжеский сын, согласился. Родители стали прочить ему в жены Аксан, дочку местного богатого купца. Но просто так идти к купцу на смотрины Аракел отказался: что за непетербургская дикость? И родители договорились, что Аксан придет в назначенное время к роднику, а уж он там будет заранее, поразглядывает. Так пока Аксан умывалась-наряжалась, по воду к роднику пришла ни о чем не знавшая моя прапрабабушка. Звали её Ануш, и была она красавицей. И Аракел влюбился в Ануш с первого взгляда, думая, что облюбовал купеческую дочку. Родители передали радостную весть купцу, тот подготовил пиршество, пригласил свою родню, всю семью князя. Когда княжеская сторона пришла домой к будущим сватам, там уже собралось человек сорок купеческой родни. На столах – индейки, фаршированные кизилом, поросята, набитые плавом с орехами, ягнята, тушенные с овощами, вино, водка кизиловая, водка тутовая – ну все готово к торжеству помолвки. Князь доволен, купец от счастья деньги раздает висящим на заборе пацанятам, и Аракел ждет, когда же выйдет его красавица. Но тут в залу вплывает Аксан, а петербуржец – никакой реакции. Все оглядывается – где же его девушка с кувшином? А когда ему указали на настоящую купеческую дочь, взбалмошный петербуржец возмутился: «вы мне совсем другую показывали, вот на той и женюсь!» А на этой жениться наотрез отказался… Аксан не стала унижаться, ни слезинки не проронила, ушла и аккуратно прикрыла дверь. А в зале – шум! Оба родителя наседают на Аракела, а тот – ни в какую! Слово за слово, и в маленьком городке сразу выяснилось, кто же на самом деле запал ему в душу. Затаившись в своей комнате, пока князь объяснялся с отцом и тот уверял, что не будет держать зла, Аксан молча пускала злые слезы. Но после, говорят, прокляла мою прапрабабушку Ануш, чтобы не было ей и её потомкам по женской линии счастья в семи коленах. И продолжала проклинать и в день свадьбы Аракела с красавицей Ануш, и в день их отъезда в Петербург. Когда через три года началась Первая мировая, Аракел записался в Питере в армянский добровольческий корпус, а Ануш с двумя детишками отослал к родителям – в Сюник. Всего через три месяца Аракел погиб на турецком фронте, и Ануш осталась вдовой в неполных двадцать лет. Когда она через пять лет вновь вышла замуж, и второй муж погиб, обороняя Сюник под командованием Нжде. Сюник они спасли, но то проклятие не могло быть недейственным: все-таки, Аксан – это Святое Око…
– Лав э[112], – усмехнулся Шварц, – и из-за какой-то купеческой дочки все дочки-внучки вашей прапрабабушки несчастные?
– Да, – пожала плечами Назели, – как что, наши так и говорят: «Это дурной глаз Аксан». И когда тетя Ануш умерла, помню, так говорили. Мы с Каринкой маленькие были, но помню. И когда Каринэ пропала, говорили то же самое. Дядя Арам её ведь искал, со мной поэтому познакомился: я-то родилась после их развода с тетей Ануш.
– Так Каринэ Полуботко – дочь Лусиняна? – в лоб спросил Шварц, следя за лицом девушки.
– Наши при мне об этом не говорят, но я давно догадывалась: уж слишком много шептались и переглядывались, как речь о них заходила. А как его увидела – вообще сомнения исчезли. Но дядя Костя такой хороший человек, такой хороший… Мы его очень любим и уважаем. Хотя Каринка – вылитый дядя Арам…
Венера польская
Утро 17 декабря 2004 г.
Клиника как клиника, да и больные с виду обычные доходяги, на лбу не прочтёшь, что ВИЧ-инфицированные! В палате было четыре кровати, Волод лежал поверх одеяла, поджав ноги и тихо подвывая: у-у-у-у! Не дают наркоту, суки-и-и-и! А свой внутривенный ёрш как засандалят – всё внутри горит, хоть пожарных вызывай! У-у-у-у! Нет, что со страной стало, а? Стоило Советам гробануться – и на тебе, пожалуйста: сына первого секретаря райкома в спидцентре пытать заладили! У-у-у-у-у!
Шагинян вошел в палату в сопровождении врача, тот подошел к Володу, правой рукой, что в перчатке, пощупал пульс, прищурился на бородавки на скулах, спросил:
– Ну как дела, Затыкян?
Тот ненавидяще оглянулся на доктора и продолжал:
– У-у-у-у…
– Да не дуйся ты так, мы тебе только добра хотим, скоро полегчает, – посочувствовал доктор, – вот видишь, человек к тебе пришел, поговорить хочет…
Волод моментально прекратил скулеж и уставился на Шагиняна:
– Ты кто?
– Я друг твоего друга, – многозначительно произнес Шагинян, и Волод навострил уши.
– Какого друга?
– Арамиса.
Волод сел на кровати:
– Чемпиона?
– Ну да.
– Так он… не того?..
– Да ну что ты, контузией отделался…
– Живой, что ли?
– Ну да… Хочешь, дам телефон – поговорить с ним? – и Шагинян извлек из кармана мобильник.
– Что за фигня? – лихорадочно думал Волод, – не успел устроиться в ту роскошную бомжовку с жалостливой медсестрой – так сразу перетащили сюда. Теперь вот только стал здесь осваиваться, с этим добряком доктором общий язык находить (небось понял, с кем дело имеет!), так на тебе – пожалуйста: добро пожаловать в тюрьму. Хотя нет, если всего-то легкая контузия у Арамиса, то без тюрьмы дело обойдется. Главное теперь – выпросить у него прощение, он-то парень незлобивый, сам меня защитил тогда от громил… Неужели жив? Ну и везунчик ты, Владимир Затыкян…
– Ну что, поговоришь с ним? – настаивал Шагинян со своим приставучим мобильником, и Волод смешался:
– Да нет, потом как-нибудь…
– Ну тогда пойдем, поговорим по душам у доктора в кабинете, – пожал плечами Шагинян, и Волод послушно спустил ноги с кровати.
– Ну-ка расскажи, чем это он тебя так обидел, что ты гантелей замахнулся, – начал Шагинян, усевшись во врачебном кресле напротив Волода.
Волод молча теребил бородавку на бритой щеке.
– Парень-то, что дал тебе задание на разборку с Арамисом, у нас уже побывал, показания дал, – нудил Шагинян, чем совершил махровый просчет в своем неказистом блефе.
– Парень? – уставился на него Волод. – Не было никакого парня.
– Как не было? – возмутился Шагинян, мысленно праздновавший свой сыщицкий успех. – Да он у нас сидит!
– Не было никакого парня, – убежденно повторил Волод, и Шагинян понял: – Не врет!
– Ну так кем же его прикажешь называть? – сориентировался Шагинян.
– Тёлка была, – развёл руками Волод, – душевная такая…
– Ну да, – попытался сохранить лицо Шагинян, – девушка у нас тоже фигурирует – ну и что?
– Что – что? Здоровая такая, ишу чап[113]… С акцентом по-русски говорила. Полька, наверное.
Почему адреналин метил у Валеры Шагиняна исключительно в правое колено, истории и медицине неизвестно. Но в моменты волнений оно у него начинало прыгать, как у малообъезженного рысака. Вот и сейчас, пытаясь скрыть постыдное побрякивание ключей в правой штанине, Валера закинул ногу на ногу, обхватил колени, как поэты на портретах, и неожиданно вспомнил свой польский опыт.
…Польки были не такими уж высокими – так себе для балтийских девушек. Слишком крупноголовые, зато белобрысые, а это Шагиняну нравилось. Он приосанился, вздёрнул и без того выдающийся нос и браво стал надвигаться на их стайку. Те встали. Мать честная, так это они сидячие были метр шестьдесят пять! И как после этого с ними общаться?
– Садитесь, садитесь, пожалуйста, – озабоченно застыл он на месте, – садитесь, мадам эээ… мамзель… – и остервенело заскреб подбородок. Дождался, пока усядется последняя, и только после этого подошел к столу: – Ну что? Кто будет рассказывать?
– Прошу пан, я разумею по-русски, – встала одна из них во весь свой неимоверный рост, и Валера даже замахал на неё руками:
– Садитесь, дорогая э-э-э… пани, садитесь же! Дайте армянскому мужчине возможность быть на высоте, в конце концов. Всё-таки мы горцы, и привыкли на всё смотреть сверху. Даже на красивых спортсменок.
Девушки заулыбались и зашептались, а поли-глотка продолжила:
– Прошу пан, мы польска команда по баскетболу…
– Ну да, а с таким ростом в какую еще команду примут? – думал всё еще шокированный Шагинян, – не в фигурное же катание…
Кабинет директора гостиницы был, вероятно, спланирован как раз для спортивных товарищеских встреч: здоровенный стол заседаний легко вместил лишь одним своим боком всех белокурых попрыгуний, которые, усевшись, вернули Шагиняну нормальную самооценку.
Дело норовило оказаться не просто препротивным, но и международно озвученным. Польки приехали на спортивные сборы в горнолыжный курорт Цахкадзор посреди лета, и у них в первые же минуты спёрли все паспорта. Как на беду, Шагинян как раз подьехал к своему приятелю – директору гостиницы, чтобы разместить у него на пару недель племянников. И тут же угодил в объятия чуть ли не рыдающего директора, который слёзно просил сиюминутно разобраться и не дать, чтобы какая-то воровская сволочь ославила его на всю Армению и даже Польшу и замутила бриллиантовый авторитет.
– Сам виноват, балда, – думал тогда Шагинян про себя самого, – нечего было трепаться давеча на крестинах, приписывая себе сыщицкие таланты Шварца, – сам виноват – вот и выкручивайся сам…
Страшное преступление оказалось тогда незатейливым замыслом местного деревенского парня, влюбившегося с ходу в одну из баскетболисток. Будучи полон решимости жениться, но не зная фамилии-имени, он на всякий случай слямзил из-под носа у администратора гостиницы документы всей команды. Шварц догадался даже по телефону, у него голова была нашпигована прецедентами по Армении и всему миру, как у здоровенного компьютера. Словом, похитителя нашли, конфликт уладили, Шагинян стал для директора гостиницы авторитетом почище всех киношных агентов с нулями и семерками, но слово «полька» вызывало у него с тех пор неприятные ассоциации. И вот опять полька, да еще «ишу чап». Они что, маленькими не бывают?
– И как её зовут?
– Венера…
– Ну и какая она – твоя польская Венера? – прищурился Шагинян, совсем как Шварц.
– прищурился Шагинян, совсем как Шварц.
– Влюбилась она в меня… – горделиво поднял бровь Волод, – душевная оказалась женщина. все поняла: и из какой я семьи, и как с нами обошлась эта дурацкая независимость. Помочь обещала с домом…
– А чем ей Арамис не угодил?
– Обманул он ее, говорит. Обещал жениться, девичества лишил, а потом отказался. А у неё братья строгие, говорит. Убить её могут. Вот и решила сама за свою честь заступиться…
– Сама полька, а братья – отставшие от сексуальной революции армяне? – поднял бровь Шагинян. – Такая молоденькая твоя полька, что братья честь контролируют?
– Да нет, но в том-то и дело, говорит, что всю жизнь берегла себя для будущего мужа, а Арамис так надругался…
– Ну-ка опиши мне ее, – заторопился Шагинян, поглаживая коленку, – лицо, фигура какие?
– Ухоженная девушка, со вкусом, – самодовольно откинулся на стуле Волод, – ногти длинные, с ярким лаком, помада такая же, ярко-красная… Чллочка такая кокетливая, ресницы длинные…
– А одета была во что? – не отставал Шагинян.
– Элегантно. Свитер такой пушистый, полушубок и брюки. все дорогое…
– Слушай, Волод, ты мне манекен из магазина описываешь или живую женщину? – усмехнулся Шагинян. – Формы-то у твоей Венеры какие?
– Во! – обрадованно растопырил руки Волод. – Сиськи – во! все бретельки лифчика одлргивала, чтоб не лопнули.
– Секс у вас с ней был?
– Да нет… – смешался давно остывший к постельным радостям Волод. – Потом, говорит, когда все образуется, и о более серьезных взаимоотношениях задумаемся…
– А цвет лица, кожа?
– У меня в коптерке все освещение – одна лампочка… Но духи приятные… и душевная женщина, душевная…
– Хорошо посидели? – догадался Шагинян. – Небось выпить-закусить принесла?
– Небось выпить-закусить принесла?
– Ну да, – улыбнулся наконец Волод воспоминаниям, – виски, маслины, колбасу дорогую…
– И план принесла?
– А с чего бы бывшему сотруднику Госплана не попробовать плана? – осклабился Волод.
– А денег сколько дала? – вошел наконец в колею допроса Шагинян.
Волод молча теребил бородавку на щеке: так я вам и расскажу, суки!
Шагинян зашуршал бумагами из папки, помассировал коленку и решился: блефовать так блефовать!
– Ну да, та самая Венера. Слушай, Волод, вот здесь у меня есть протокол допроса твоей Венеры, так она говорит, что и денег тебе дала.
– Ну и что? – окрысился Волод, – может в конце концов кто-то проявить сострадание к сыну первого секретаря райкома, комсомольскому вожаку, бывшему сотруднику Госплана? Или вас устраивает, что человек лишился дома благодаря вашей независимости, живет в конуре и голодает? Это вы, ваша беспощадная капиталистическая система довели меня до края! И наркотики – это возможность хоть на пару часов отнырнуть от вашей бездушной системы! И теперь укоряете в том, что я взял несчастные пятьсот долларов у женщины, обесчещенной вашей же системой?
Шагинян обалдело слушал ораторский мастерпис Волода и думал:
– Мда-а-а, велик был потенциал у советской власти в лице комсомола и Госплана! Но они-то ее, надо полагать, и угробили!
– Считай, что и у нас есть система против вашей системы, – вещал между тем Волод в пылу ненависти ко всему и вся, – система взаимовыручки изгоев вашего бездушного общества! Сами, суки, доводите людей до ручки и сами же преследуете. А она мне денег на покупку квартиры обещала – своей, настоящей, с горячей водой из крана! Она, а не вы с вашим несуществующим социальным обеспечением! Ненавижу вас, ваши тупые морды, ваши полицейские мигалки, всех вас ненавижу-у-у-у! У-у-у-у!..
– Вот хрястнуть бы по этой бледной спидоносной мордочке, – размечтался Шагинян в ожидании маршрутки, – чтобы знал, комсомолец чертов, папенькин сынок состарившийся, что есть же предел человеческой деградации… Да нет, это у совершенства есть предел, а у деградации бездна ступеней для падения… Алло? Товарищ майор, тут у нас Венера нарисовалась… Нет, польская. Сейчас буду.
Мир, где никуда не смоешься
Вечер 17 декабря 2004 г.
Каракурта – она и есть Каракурта! Я ей говорю: – Нет его, Ида! Уж все больницы исходил и морги, негде искать!
А она:
– Ищи, не мог же испариться. Где-то этого чертова урода вылечили или закопали!
Ладно, набрал шоколадок и новогодних календариков, включил личное обаяние и пошел по новой аккуратнее расспрашивать девочек в приемных отделениях.
– Да вы буквально с полотна Тициана, – таращусь на каждую, если не особенно уродливая. – У какого художника я мог видеть ваш портрет? Как, неужели еще не писали? Так я вас познакомлю с лучшими. Или лучше в своем фильме сниму. Я же режиссер. Но сейчас у меня вынужденный простой: актер у меня пропал, а он одинокий, бедняга. Помогите найти, а?
Конечно, кокетничали глазками, краснели от своей высокохудожественной оценки, искали актера в больничной регистрации – но нет его, и все тут! Уж под самый занавес, в отдаленной от центра больнице, которая внеурочно дежурила в день исторической схватки бездомного Волода с увечной дворнягой, сработало. Медсестричка похлопала глазками от незнакомого ей имени:
– Терзяна знаю, Цатуряна знаю, а Тициан – он что, современный? Но страшно смутилась, узнав о своей безграмотности. Далеко пойдет в самообразовании. Посочувствовала, как и все, что друг актер у меня пропал, стала рыться в бумажках – и нашла! Но вчитавшись, удивилась:
– Так это же бомж – ваш Владимир Затыкян!
– Ну и что? – говорю, – бомж что, не человек? У них, у бомжей, знаешь какая подходящая фактура для кино? Да и вообще, разве он виноват? Вот, ты, к примеру, красавица, при советской власти бомжей видела?
А она смеется:
– Я и советскую-то власть толком не видела, я ж в восемьдесят седьмом родилась!
Ладно. Из бумажек стало ясно, что забрали Волода в приют Благотворительного фонда. Приперся туда. Нет, говорят. За ним сюда из спецлечебницы приехали, выписан он от нас. Какой лечебницы, говорю? Психушки, что ли? Если бы психушки, говорят, и то бы лучше было. Словом, в спидцентре оказался Волод. Звоню ей, каракурте проклятой: так, мол, и так, ВИЧ-инфицирован твой клиент, пусть себе валяется на койке, пока сам не откинет копыта. А она – в крик! Ты что, говорит, на личные неприятности нарываешься? А такие слова в её напомаженных устах – страшная угроза, я-то знаю!
Пошел. Представился другом, удостоверение киностудии показал. Правда, на другое имя. Впустили.
– Ну что, Волод, – говорю, – помнишь меня по улице? Мы с тобой еще в хлебных очередях вместе стояли в конце восьмидесятых?
– Нет, – говорит, не помню. Я в таких очередях в жизни не стоял: у меня ж отец был секретарь райкома! Да и я сам в Госплане работал! Но раз пришел – спасибо. Что скажешь хорошего?
– Да вот, – говорю, – ребята с улицы тебе пере-дачку прислали, таблетки хорошие.
Глазенки у него вспыхнули, сразу заграбастал. Хотел одну сразу в рот отправить.
– Да нет, – говорю, – ты лучше после отбоя прими, больше будет кайфу. И персонал не заметит. Что ты спешишь? Сперва поговорим-побеседуем что, да как.
– Вот-вот, – говорит, – дело у меня – форменный как[114]. Спид я оказывается подхватил, когда ширялся чужими шприцами. Плохо мое дело, брат. Одна радость – жив, оказывается, тот парень, кого я чуть не убил. Не взял я грех на душу… Мне ведь самому умирать, что бы здесь ни болтали о новостях медицины. Ты представляешь, брат, наладиться помирать при совсем свежем грехе? Я же, между нами говоря, хоть и согласился на такое страшное задание – устранить его, как та дура с сиськами мне заказала, все равно убивать не хотел. Выследил его у нас в парке ночью, подошел, уважительно так заговорил. Попросил у него денег на дозу – и все! А он рассвирепел, чемпион чертов, пощечину мне закатить хотел. А часы его – брык – с руки-то и слетели! Я тебе как брату говорю – хочешь, и у него спроси: не хотел я его убивать. Но когда он такую истерику устроил и нагнулся – часы пошарить – я его со зла и хватил гантелей… А тут на меня эта зверюга напала… Слава Богу, жив, слава Богу…
– Какой парень жив? – не выдержал я его слюнявой болтовни.
– Ну как – какой? Тоже с нашей улицы, чемпион мира. Фехтовальщик. Арамисом зовут…
Я остолбенел:
– У тебя что, – говорю, – спид или спайдер[115] в голове? Совсем мозги паутиной покрылись? Я ж сюда как раз с его семидневного поминовения пришел, цветы на могилу клал… Спортивный телеканал специальную передачу про него вчера показывал…
Мама моя родная, какой же он крик поднял! Чтобы в таком хиленьком тельце – и столько звука? На пол повалился, ногами сучит, орет, как баба, визжит, как двенадцать поросят! И клянет, клянет какого-то обманщика-мента! И верещит, что не хотел убивать, и пихает, пихает разом все таблетки себе в рот!
Персонал сбежался, на меня глазищами зыркают. Ведь и схватить могут!
– Пойду покурю, – сказал я и раз – за дверь. И в темпе дальше, за ворота заведения.
Ну и неудачник же я. Спидоносного бомжа – и того не сумел оприходовать, как надо. Уж там врачи мои таблетки живенько на анализ сдадут – и с приветом, Левон Ншанович, добро пожаловать в тюрьму за распространение наркотиков! А может, и яда – кто её знает, Каракурту? И что мне теперь делать? Ей расскажу – так она и на меня какого-нибудь Волода натравит. Смываться надо подальше от неё из Еревана… Но куда? В Турции Ида точно найдет. В России – наши менты найдут, у них договор. В Америку визу пока оформишь – найдут и та, и другие. Вот мир, а? Железного занавеса нет, а все равно никуда не смоешься! Отсидеться где-нибудь в районе нужно, обдумать все, а там видно будет…
О возможных последствиях шопинга
18 декабря
Фотографии встречались любопытненькие. Американская рок-звезда, которую без грима и парика трудно признать в плешивом доходяге. Известный итальянский кутюрье с бородавками по всей морде. И еще куча всяких именитых иностранцев, в том числе из России и других бывших братьев по несчастью.
Ида смекнула: обнародовать эти фотки в западных странах будет значить сбросить хорошую нейтронную бомбу на анонимную дорожку СПИДвея с Запада в Ереван и обратно. И тогда от местного снадобья для именитых педиков все уж точно откажутся наотрез. Охота была переться за тысячи километров, чтобы местные папарацци поживились тобой прямо на больничной койке!
Джемма была, конечно, дурой еще той, но с убеждениями. Попробовала Ида присоветовать ей, чтобы шприцы, оставшиеся от инъекций «Арменикума», та оприходовала и принесла, так она – в вой! Ты что, говорит, еще чего доброго, заражусь этой гадостью или секрет фирмы выдам! Там сестра-хозяйка точный учет ведет, тютелька в тютельку. Не было еще случая, чтобы использованный шприц пропал. Да и зачем он тебе? Я, говорит, подписку давала о соблюдении дисциплины! А сама слезливо так рассказывает о новеньком больном, который даже не педик, а нормальный натурал, с женой и детьми, а подзалетел, когда кровь сдавал у себя в Уфе.
– Слушай, – участливо сказала ей тогда Ида, – раз ты так о нем переживаешь, давай я от той гадалки икону чудотворную принесу: пусть повисит у него в палате, пока будет лечиться. Может, поможет?
– Да ты что? – возмутилась Джемма, – нам категорически запрещено давать подарки, принимать и вообще что-либо приносить с собой. Нам туда даже завтрак нельзя проносить, сами кормят в столовой. Жалко, конечно, человека, но его безо всякой иконы «Арменикум» вылечит. Уже целых четыреста вылеченных есть, представляешь?
Ну и дура. А ведь как бы здорово бабахнуло от иконы на весь район! Остались бы от клиники археологические руины и сплошная инфекция от ошметков спидников. Вот это был бы международный скандал! А какая премия была бы получена из Центра! Что-то Джемма совсем непослушной стала. Видимо, нужно свежие кадры искать, раз у неё такая преданность конторе вырисовывается. Впрочем, её фотографическая миссия исполнена.
– Слушай, Джемма, – позвонила она дурехе в воскресенье, – зимний сезон уже в разгаре, Новый год на носу, а я так ничего нового из одежды и не купила. Давай пошляемся по магазинам? И тебе чего-нибудь тепленького и красивого купим?
– Вай, Ано джан, ты моя спасительница, – обрадовалась та, – ну что бы я без тебя делала? Ничем не могу тебя пока отблагодарить, кроме молитв: дай тебе Господь хорошего мужа, красивых, как ты, деток…
– Всему свое время, – хмыкнула Ида, – а пока жду тебя у «Дружбы», у входа в станцию метро.
Место было людное, Ида припарковалась подальше в стареньком жигуленке, который купила в прошлом году на авторынке и оформила на имя Джеммы. Подошла, обняла Джемму со спины, показала, где машина стоит, а сама задержалась у газетного киоска. Купила два женских журнала, села за руль, рядом уже разместилась эта корова в радостном предвкушении бередящего душу шопинга. Заехали в пару-тройку магазинов, напримеривались, купили кое-чего, потом в кафе – позавтракать. Джемма вся сияла в новом джемпере и новых сапогах.
– Нет, ты посмотри, до чего хулиганы дошли, – удивлялась она. – Приносит сегодня почтальон телеграмму с постным таким лицом. Читаю, а телеграмма на мое имя, но про каких-то чужих людей: какой-то Армо умер, какая-то незнакомая семья скорбит вместе со мной. Обалдеть! Им что, денег не жалко на розыгрыши? Вот, посмотри-ка, полюбуйся на это безобразие!
Ида повертела телеграмму, подняла брови:
– Ты почтальону сказала, что розыгрыш?
– Да нет, откуда! Я со страху раз десять прочитала, пока до меня дошло, что враки. Он давно ретировался: это ж не свадьба, чтобы чаевых дожидался!
– Ну и ладно, – усмехнулась Ида, – может, еще одна Джемма в соседнем подъезде живет, адрес просто перепутали.
– Так надо ж тогда её найти, бедную! – схватилась Джемма.
– Вот вернешься домой – и поищешь, – успокоила её Ида.
– И то правда, – согласилась Джемма и отправилась в туалет. Вернулась, полная решимости срочно найти свою тезку по соседству, так что решили ехать назад, домой. По дороге Джемма стала клевать носом – подсыпанный порошок начал действовать. Ида вырулила на Аштаракское шоссе, натянула себе по брови Джеммин берет, нахохлилась. Проехала пост ГА И, миновала киностудию, пару офигенных аляповатых дворцов, отстроенных нуворишами. Стиль ММГД – Материализация Мечты Голоштанного Детства. Потом проехала еще километров тридцать, и наконец совсем стемнело.
– Ничего, – думала Ида, руля по припорошенному снегом шоссе, и у меня будет такой же здоровенный домина, с садовниками и горничными, но во сто раз красивей. Надо будет еще пару-тройку лет постараться, и выйду, как обещал Осман, на заслуженный отдых. А там, глядишь, и вправду, как благословляла эта идиотка, появятся муж и детишки. Всё-таки нужно их про запас сотворять, чтобы любили, заботились, в глаза заглядывали. И будет она строгой, но справедливой матерью. Не то что деревенская истеричка, которая всё ещё живет в своем домишке, знает, что дочка-та её в большие люди выбилась, но гонора больше, чем мозгов, чтобы приехать и извиниться! А жаль. Уж сколько раз Ида репетировала, как пошлёт её куда подальше – пусть только сунется!
Ида посидела в машине с потушенными фарами, пока Джемма уже хрипела от острого сердечного приступа. Пощупала пульс – бьется, и это хорошо! Сняла с неё крест, врученный гадалкой, вышла из машины, попыталась стащить – ох и тяжелая, корова! Сноровка, преподанная в учебном лагере, помогла: поддела её под задницу сведенными в мощный кулак обеими руками, перекувырнула пару раз, и та заскользила вниз, ко дну ущелья, ударяясь о выступы, как куль с мукой.
Ида положила телеграмму в бардачок, оставила машину с незапертой дверью, перешла шоссе, села в оставленную с утра Ниву и поехала назад, в Ереван.
Через пару дней можно будет разыграть удивление по поводу неблагодарной дурехи, которую она имела глупость приютить, приодеть и даже устроить на работу, а та – возьми и исчезни черт её знает где!
Часть 8 Похороны мушкетера
Убитые тоже умирают
19 декабря 2004 г., вечер
Шварцу следовало спешить, и он развил темп спринтера на дистанции марафонца. Сперва он наведался в мэрию, потом в Управление по миграции, потом в Интерпол, потом в налоговое управление, потом в авиакомпанию, потом в МИД, но там уже было давно закрыто. И он направился в управление. Месье Саргис был на месте: он сидел, как обычно, за столиком у стойки за бокалом вина и курил «Житан». Начальство прощало ему эти вольности.
– Здравствуй, здравствуй, господин майор, что-то тебя не видно. Инч кузис?[116]
Ох, любил Шварц этот мягкий западноармянский говор! Еще с детства, когда бабуля общалась с выходцами из родных мест и их оживленные разговоры окрашивались иронией и возмущением, перемежались смехом и дрогнувшим от сдерживаемых слез голосом. Не вслушиваясь в слова, а лишь ловя интонации, маленький Шварц делал вид, что занят своими уроками, а на деле придумывал целое кино, где были герои и злодеи, подлые заговорщики и башковитые разоблачители их затей.
– А что есть? – спросил он теперь.
– О, много чего есть, – расплылся в улыбке пожилой ресторатор, – салат из мозгов есть, салат из баклажанов есть, пастуший салат есть, толма в устрицах есть, толма в виноградных листьях есть, тарамац есть, тава-кюфта есть, твоя любимая чкмех-кюфта есть. Захочэш?
– Нет, это долго будет, месье Саргис. Лучше принеси мне салат из мозгов – они мне сейчас ох как нужны – и посиди со мной.
– Они всем нужны, – улыбнулся Саргис и поспешил на кухню.
– Выставка – это хорошо, – одобрил усевшийся за столиком Шварца месье Саргис. – Искусство улучшает людей. Арамис как стал рисовать, другим стал, даже взгляд изменился. Жалко, умер.
– Не умер он – убили, – поправил Шварц.
– Убитые тоже умирают, – миролюбиво ответил Саргис. – У нас в Константинополе в армянском квартале всё было рядом: тут школа, тут типография, тут больница, тут церковь, и тут же наше христианское кладбище. Легче было смотреть на жизнь просто. Да и висела она на волоске, так что каждый день был подарком. Если армянина убивали турки, его тихо-тихо отпевали в церкви и молча несли на кладбище, как если бы он умер от аппендицита. Если человек уже умер, то какая разница – как он умер?
– Слушай, – совсем по-дядьвовски возмутился Шварц, – ну не могу я понять константинопольских армян! Что вы за люди такие с головой ниже плеч! В пятнадцатом году турки уничтожили армян по всей стране, а у вас, в столице, – всю передовую интеллигенцию. Но простых писак, врачей, ремесленников и торговцев не тронули, чтобы вы продолжали обслуживать их и подтверждать фикцию армянского присутствия. И вы дрожали, но продолжали им угождать. И всё ваше сопротивление свелось к тому, что между собой вы называли этот город не Стамбулом на турецкий манер, а Полисом, как прежде. Ну почему вы не уехали хотя бы в двадцатые годы?
– Зачем? Это же была наша историческая земля! И куда? Армения уже была под советским колпаком. Да и жалко было отцу оставлять дом, магазин, все такое…
– А почему ты потом уехал во Францию?
– Да потому что надоело жить, вобрав голову в плечи, как ты говоришь. А в пятидесятые годы опять начались погромы магазинов и предприятий греков и армян. К тому времени я стал бакалавром медицины. Ты знаешь, наверное, что в Турции с середины девятнадцатого века было запрещено принимать армян в военные учебные заведения. Мы тогда все еще были большинством, и грамотным большинством, а турок это пугало. Так вот, когда мне пришло время идти служить в турецкую армию, оказалось, что пойду я не армейским врачом, а рядовым пехотинцем. Но родители-то помнили, как в пятнадцатом армян собрали в армию служить и всех поголовно убили. Словом, на семейном совете решили, что надо мне уезжать. У моего деда фамилия была Урфалян, знаешь? Потом по кемалевской конституции заставили всех переделать фамилии на турецкий лад: и греков, и евреев, и армян… И все в нашей семье стали Урфа-оглу. Поезжай во Францию, сказал отец, это демократическая страна. Будешь жить в безопасности, на ноги встанешь, восстановишь там нашу фамилию. Я и поехал. А французы – нет, говорят, или сохраняй ту, с которой приехал, или бери французскую. Так что я стал единственным в семье Урфалье.
– А дети?
– И дети тоже. Один сын за сборную Франции играет, Арто Урфалье, – может, слышал? Другой – помощник адвоката, Вазген Урфалье.
– Слушай, а я и не знал, что турецкая фамилия – это обязательное конституционное требование.
– А как же. Когда у меня открытый ресторан здесь был, ко мне много народу приезжало из Константинополя: и турки, и курды, и армяне, и те турки, что недавно узнали, что они армяне, и турецкие курды из бывших армян – так у всех турецкие фамилии! Армянская судьба, да?
Насупившийся Шварц закивал:
– Вот потому-то армяне, как больные, всех круглоголовых и глазастых брюнетов с выраженными носами достают своими вопросами: hay es?[117]
– Нет, Армен джан, совсем не только поэтому. Целых тридцать процентов сущности человека – это его генетическая память. А генетика – это не только форма носа и тип характера. Это еще и самая настоящая историческая память о событиях очень далекого прошлого, крепко сидящая в подсознании. Внутренний голос, думаешь, что? Вот эта память и есть! И она тебе подсказывает, что твой предок в сто тридцать втором колене именно такую глупость и совершил, за что был убит. И её повторять не стоит! Это память, Армен джан, самая настоящая память предков…
– И эта память подсказывает, что незнакомый собеседник может оказаться армянином?
– Вроде того. Была все-таки гораздо более гигантская армянская империя, чем мы можем себе представить, точнее – армянская цивилизация. А мы почему-то ведем отсчет только начиная с победы Айка над Бэлом четыре с полтиной тысяч лет назад или успехов Тиграна Великого – много позже. И крушение той древнейшей цивилизации связано не с политикой, а с природным катаклизмом, затеянным на космическом уровне. Типа Атлантиды и Всемирного потопа… Только в этом случае осколки погибшей цивилизации могут бродить, как сомнамбулы, по миру и искать себе подобных. Нет, это не гонор, не зазнайство, это – закрепившаяся в генетической памяти необходимость поиска себе подобных… Ученые еще это откроют, вот увидишь.
– И заодно выяснят, что Д’Артаньян был армянином, – усмехнулся Шварц.
– А тут и выяснять нечего. Ты знаешь, как звали этого шевалье, его отца? Да точно так, как меня, – Саргис.
– Я слышал, сейчас сюда много турок ездит, – сменил тему нахлебавшийся армянской памяти Шварц.
– Ну много, не много, но ездят. Твой новопреставленный друг Арамис пришел как-то ко мне с турком пообщаться, попросил переводить им разговор.
– Тоже спортсмен, что ли?
– Нет, Армен джан, не спортсмен, там другая и очень противная история, – гадливо скривил толстые губы месье Саргис.
– Ну-ка, ну-ка, – подобрался Шварц. – Расскажи.
– Давай я столовую закрою, пойдем ко мне домой: и картину возьмешь, и поговорим, и хорошее вино выпьем. Идет?
– Месье Саргис – ты находка для нашей полиции!
О вреде применения тарелок не по прямому назначению
18 декабря 2004 г., вечер
На носу было пусть католическое, но всё же Рождество. Ну мог главврач модной клиники в конце концов просто так посидеть с друзьями? Дружба детства – она как курение или любая другая приятная зависимость. Забрасываешь ее, обрастаешь знакомствами с нужными людьми, общаешься с удачливыми. И они с тобой – как с нужным и удачливым. Но мало – ох как этого мало для полноты жизни! И даже семья тут не помогает. Ведь контактерами с самой счастливой порой – с твоим собственным детством – являются только те, кого и сам помнишь с незаживающими корочками на коленках. Нет, дружба детства – самая иррациональная из зависимостей, а потому неизлечимая с точки зрения практической медицины. Так Тоникян спровоцировал Шварца и Верку на новую встречу в её мастерской, а сейчас безмятежно трепался:
– Нет, Шварц, ты не прав, осуждая вывозную проституцию. Экспорт всегда был серьезной гарантией для роста ВВП любого уважающего себя государства. И даже если страна не была в состоянии производить конкурентные на международном рынке товары, то Ленин и Троцкий, а вслед за ними все дальнейшие вожди революционной России баловались экспортом революций. Вон президент США в настоящее время тоже озабочен экспортом. Экспортом на Восток демократических ценностей, силами танковых бригад своей армии. Государственная казна Королевства Таиланд давно официально пополняется доходами с вывоза за рубеж изощренных искусниц тайского массажа. А у них ведь проверенные веками навыки охвата всех поверхностей и закоулков человеческого тела! И национальные теневые экономики бывших союзных республик в последние годы жиреют от экспорта. Экспорта простой, как у кошек, но весьма доходной для «крыши» проституции…
Тут Верка возмущенно всплеснула руками, но Тоникян гладко продолжил:
– Между прочим, в теневой экономике ничего особо пакостного и нет: денежки несимпатичных олигархов все-таки проливаются золотым дождиком на их верноподанных, от них капают в магазины и рестораны, университеты и больницы, там люди получают зарплату, гонорары…
– Здрасьте, – прорвалась Верка, – ты еще нам скажи, что деньги не пахнут. Ну, растлила тебя медицина, ну растлила! Не здравоохранение, а рыночные отношения!
– А вот здесь ты не права, Верочка. Между прочим, мои деньги фактически пахнут дезинфицирующими средствами, физраствором и дорогими духами клиенток. Но фигурально они пахнут их светлым будущим, которое на самом деле в прошлом. И здесь я ничего аморального не нахожу. Омолаживая их внешне, я создаю мощные психологические стимулы для дальнейшей жизни и творчества. Если бы кто-то подсчитал, сколько самоубийств, преждевременных инсультов и инфарктов было предотвращено моими хирургическими – и заметь: абсолютно пластическими! – вмешательствами, то мне бы дали орден героя страны!
– Ну ты даёшь, Тиграша, – Верка снова всплескнула руками, – ты хоть при Шварце не трепись. Уж кто-кто, а он-то настоящий герой страны! Сколько орденов ты получил, Шварц?
– Шиш, – улыбнулся Шварц, отвлекшись от раздумий.
– А все почему? – не унимался Тоникян. – А потому, что вздумал сдержать слово, данное пленному азеру. Отпустить его живым-невредимым, если выложит правду. Но откомандированный в часть тупица из штаба решил, что законы чести на войне не работают, и чуть не грохнул того. А что сделал Шварц, будучи совершеннолетним человеком и даже опытным милицейским чином и полевым командиром? Азера отпустил, а своего родного штабиста отправил в хорошенькую кому. И что ты, Майн Мент, в результате получил за свой железобетонный, но абсолютно архаичный кодекс чести? Живого азера, полудохлого армянина и вместо ордена даже не шиш, а Шуш: отдых в шушинской тюрьме и свеженькие лейтенантские погоны вместо майоровых эполет!
– Ладно, – Шварц резко сменил тему, тем самым предупредив очередной всплеск возмущения Верки, – ты мне лучше скажи, а что Арамис делал в Америке?
– Что-что, ну что армянин делает в Америке? Едет в Лос-Анджелес. Там вывесок на армянском языке уже больше, чем в Ереване. Верочка, ты достойный представитель нашей семьи. Пахлава – класс! – оценил Тоникян и бережно переложил в тарелку еще один кусок.
– Достойный представитель запилил бы тебя за все твои слабости, – рассмеялась Верка. Но Тоникян уже прожевал и закинул ногу на ногу:
– Арамису брат приглашение прислал в девяноста первом, он и поехал. Это когда мы принялись троллейбусы вручную толкать от обесточенного перекрестка до следующего, если помните. И мыться из шайки, как папуасы. И я зачастую оперировал при свете аккумуляторных ламп или даже ручных фонариков. Чудо, что ни один фонарик не забыл в полостях пациентов! Мда-а-а… Тогда ведь казалось, что света и газа больше никогда не будет. Как въехали в дровяной век, так и застрянем в нём навечно. И ведь здорово застряли, на целых четыре года! Сколько тогда пессимистов уехало, а? Если посчитать наших с вами одноклассников и моих однокурсников, то добрая треть! Вот вам и психологическая иллюстрация армянской интеллигенции: треть – активные, то есть удирающие, пессимисты, другая треть – пассивные пессимисты, то есть брюзги, не способные ни тронуться с места, ни заняться толковым делом на месте. Зато мы с вами представляем бравую оптимистическую треть интеллигентного народонаселения, способную к выживанию в государстве, давно растерявшем опыт государственности!
– Так что Арамис? – поинтересовался привычный к просеиванию болтовни Тоникяна Шварц.
– Арамис уехал в числе пессимистов. Но Америкой он очень был разочарован: и из-за этого мещанского болота, говорит, я, олимпийский чемпион, рискнул в молодости свободой, спортивной карьерой и жизнью? Они, говорит, там как черви слепые живут. Чуть не стал буревестником революции.
– И что? – спросил Шварц и пристроился с сигаретой у форточки, которая ему приходилась как раз на уровне рта, исторгавшего клубы дыма.
– А что Арамис делает на перепутье жизни? – вопросительно развел руками Тоникян.
– Да женится наверное, – предположила Вер-ка.
– Умница-девочка. И не просто женится, а выкидывает экзотический матримониальный фортель. На этот раз он осчастливил корсиканку – то ли француженку, то ли цыганку, то ли итальянку и обоих её детей.
– И что? – обернулся от форточки Шварц.
– Что-что – «и что»! Здесь говорил: «У меня друзей и знакомых в Лосе чуть ли не больше, чем в Ереване, в два счета хорошую работу найду». А там ткнулся туда, ткнулся сюда – ничего сами не предлагают. Стал намекать, так ему предложили пьяненьких из ресторанов вышибать или кнопку на бензозаправке нажимать. Но до этого он года два утолял свой этнографический интерес и изучал американский менталитет. Потом выяснил, что он у американцев отсутствует. Есть только мощная пропаганда, почище, чем в Советах, и нашпигованные ею слабенькие американские мозги. Когда он окончил свое эмпирическое исследование, оказалось, что на дворе уже конец девяноста третьего года, а сам он на подходе к возрасту Христа. Тут-то он и взялся вплотную за поиски работы. Раз получил от ворот поворот, два, а на третий учинил свой фирменный дебош, поразбивал каких-то фарфоровых тарелочек со стены. Нет, Верон, это у тебя не вино, а мерон, миро, то бишь. Дай-ка еще налью…
– И что тарелки? – направил его в нужное русло Шварц.
– Ну вот я и говорю, пока армяне живут на родине, они едят, как люди, нормальную, уважительно приготовленную еду, притом обязательно – из красивых тарелок. А как уезжают, становятся обезьянами, едят sea food[118] из картонных коробочек, а тарелки, как тамошние мещане, на стенки вешают. Их Арамис и покрушил. Потом зацепился случайно замком браслета часов за крюк на стене и с новым приливом злости пошел крушить вообще всё вокруг. Замок своего знаменитого «ролекса» так до конца и не сумел толком починить, куда ни обращался. Чуть что – раскрывался. Чудо, что так и не потерял.
– А чем закончился дебош? – Шварц снова вырулил в нужную плоскость.
– Его как миленького спровадили в местную тюрьму на десять месяцев. За это время его корсиканская Кармен сделала ему «чао!» через суд, и он вышел на свободу в статусе холостяка и с наработанной в тюремной мастерской суммой на отъезд в Ереван. И еще – с хорошим знанием тюремного испанского, усовершенствованного на базе ранее полученных знаний в Барселонском концлагере. Между прочим, рисовать он стал в тюрьме, всё Арарат изображал, церкви, натюрморты с персиками и гранатами, и за всеми этими художествами здорово заскучал по отечеству. А оно у нас, если вы обращали внимание, как у хорошо сохранившегося патриархального народа – обязательно мужского рода. Братья говорят, Арамис всё цитировал Дантона: нельзя, дескать, унести родину на подошвах сапог. Вот и вернулся в кроссовках на родную землю. У нас в Управлении диаспоры небось галочку поставили, мерзавцы, что это следствие их целенаправленной работы по репатриации.
– А что его Товарищ Дима – не помог с устройством? – спросил Шварц, вернувшись за стол.
– Да кто бы Диме помог. Он, оказывается, давно спился, гимнасточка его вытурила и решение суда получила, чтобы не приближался к её дому на пушечный выстрел. В кино американцы показывают, японцы пишут – не верим, а он действительно в картонной коробке живет где-то на свалке с другими бомжами. Арамис водил его пообедать, поговорить, а тот даже говорить не может, только мычит.
– Нет, ты подумай, – поджала губы Верка, – сидели все за советским забором, крыли в голос этот самый забор и придумавшую его советскую власть, а как забор снесли, оказалось, что и там не Эльдорадо, и здесь-то был относительный рай!
– Рай относительным не бывает, Верочка. Не играют архангелы рядом с чертовой сковородкой. И не бывает коммунизма с человеческим лицом. Не лицо у него, а рожа, и тут пластическая хирургия бессильна. Но где она – благословенная середина, человечество еще не ведает и вряд ли узнает. А вдруг она здесь, у нас, пока мы едим испеченную твоими умелыми пальчиками нежную пахлаву из английских тарелок, а не вешаем их на стены?
– А чем это «ролекс» Арамиса был так знаменит? – поинтересовался Шварц.
– Боюсь соврать, брат джан, но где-то в начале восьмидесятых, вскоре после Олимпиады, Арамис то ли выиграл кубок Европы, то ли стал золотым призёром чемпионата мира. Его фотографию в рост растиражировали в иностранных газетах и журналах, а он же у нас красавчик – стройный, подтянутый, кудрявый, чистый мушкетер. Вот какой-то богатый армянин из болельщиков и послал ему настоящий золотой «ролекс» – с одиннадцатью бриллиантами, золотым браслетом и настоящими рубинами в механизме. И сопроводил письмом: «Не дает, мол, советская власть нам возможности серьезно помогать Армении, чтобы гордиться её не разбавленными в советской экономике достижениями, так мы гордимся лучшими её сынами и помогаем им индивидуально. И ты, Арам Лусинян, один из них. Такие же часы я дарил Тиграну Петросяну, Араму Хачатуряну, Никите Симоняну» и не помню еще кому-кому-кому. Так Арамис с этими часами даже в худшие свои минуты не подумал расстаться, они были для него не менее ценны, чем медали.
– Он почти каждый день торчал у меня в мастерской. Талантливый, непутевый, открытый и непосредственный, как ребенок, – вздохнула пригорюнившаяся при воспоминаниях об Арамисе Верка. – И меня не покидает чувство вины за то, что должна же была разглядеть проблему, уберечь его, как маленьких оберегают. Но все эти качества, при его титулах-то и опыте, так раздражали…
– Верон, а он за тобой не пытался ухлёстывать?
– спросил Тоникян, нацеливаясь на очередной кусочек пахлавы, и Шварц насторожился.
– Ты совсем дурак? – возмутилась Верка и продолжила: – А про этого миллионера мне Арамис рассказывал. Этот Паравян – удивительный добряк, всем помогает и там, и здесь. А еще он скупает в зарубежных архивах документы, подтверждающие уничтожение армян в Турции и при султане, и после прихода к власти младотурок. Да вы, наверное, слышали, он для этих целей финансирует строительство исследователького центра в Ереване. Но Арамис говорил, что человек, которому Паравян доверил все оргвопросы по строительству, здорово его надул. Участок не купил, как обещал, но арендовал за взятку в мэрии, причем за счет территории жильцов соседних домов. Да и в расходной части строительства надувал здорово, всё вымогал новые суммы и тянул со строительством… Арамис так злился на эту тему, что я старалась её избегать: в таком состоянии он уже не мог рисовать. Но что я знаю, так это то, что Арамис очень гордился дружбой с Паравяном, а когда стал писать маслом, две картины послал ему в подарок с летавшим в Таиланд пилотом.
– Паргеву Паравяну? – поднял глаза от тарелки Тигран.
– Ну да!
– Он позавчера скончался. Я по радио услышал, – озадаченно выдал он.
– Да ты что? – ужаснулась Верка.
– Слушай, Шварц, я тут вспомнил один детективный роман, ну, точно, как здесь получается… – начал Тигран.
– Иди ты к черту, циник пластический, – возмутилась Верка, – ты хоть представляешь, какой замечательный человек умер?
«Убитые тоже умирают», – вспомнил Шварц слова месье Саргиса.
Как важно архивировать счет матчей
18 декабря, после полудня
– Ах, Паргев, Паргев, – думал Леонард, меря дёргаными шагами большой зал паравяновского дома, куда близкие пришли после похорон на поминальный фуршет. – Конечно, ты был старым, но казался вечным! И зачем я тебя нервировал своими идиотскими подначиваниями! Но так ведь было всегда, все годы нашей дружбы! И это была игра, которую любили мы оба, и она уже не повторится ни с кем другим… И как Господь может отнять жизнь у человека, даже в таком возрасте, если у него планов еще на годы, а голова и сердце работают, как у молодого мужчины?
– Андраник, – обратился он к старшему сыну Паргева, – я хочу, чтобы ты знал, что мне очень жаль, что так случилось с Паргевом. И что он был моим лучшим другом с тех пор как вернулся в Таиланд…
– Знаю, Ленни, знаю, – ответил тот, и широкое охристое лицо осветила паравяновская улыбка, – и он тоже любил тебя как родного…
Андраник с высоты своего роста положил руку на плечо Сэмюэля.
– Я ведь накануне был у вас, – не унимался Леонард, мы играли в нарды, шутили, спорили. А что было на следующий день?
– Да нормально начинался день, как обычно. Отец с утра был в приподнятом настроении, так как с минуты на минуту ждал кого-то с Ближнего Востока с копией очередного архивного документа, которую он собирался купить…
– Откуда – с Ближнего Востока? – спросил Ленни, по инерции продолжая интересоваться паравяновскими делами.
– Кажется, из Сирии, – рассеянно ответил Андраник.
– А этот сириец пришел? – поинтересовался Леонард.
– Сам он не пришел, а прислал пакет с местным посыльным. Тот принес копию приказа от 1903 года паши Айнтапского вилайета Турции. Это был запрет говорить по-армянски на улице и в публичных местах, предусматривавший наказание в неповиновении: вырывание или отрубание языка. И был приложен список имен первых двухсот, подвергнутых экзекуции за первую неделю. Скорее всего, это отца и расстроило так… Уж очень близко к сердцу он воспринимал события тех времен…
– Это не события, – поправил его Сэмюель, – это трагедия его народа.
– это трагедия его народа.
Андраник молча махнул рукой.
– Ему стало плохо сразу после ухода посыльного? – дотошно допрашивал Сэмюэль.
– Не после ухода, а во время встречи с ним. Задыхаться стал. Тот очень перепугался, крик поднял, но уже поздно было. Молоденький мальчишка совсем. Наша Кими, горничная, еще и его успокаивала. В доме ведь больше никого не было.
– А как его звали? Он от какой почтовой службы? – не унимался Сэмюэль, в котором вдруг проснулся журналист.
– Не знаю, Ленни, не знаю. И полицейский лейтенант спрашивал, а прислуга за всей этой нервотрепкой забыла о мальчишке. Он, видимо, струсил и убежал. Извини, я отойду к гостям…
– Да, я хотел спросить, – спохватился вдруг Андраник, – ты бы хотел взять что-нибудь на память?
Ленни замер в нерешительности.
– Да наверное – дневник наших баталий в нарды, – развел он руками.
– Хорошо, – улыбнулся Андраник, – сегодня же перешлю его тебе.
Теперь Леонард сидел у себя в кабинете и грустно листал солидный том с собственными аккуратными циферками счетов их матчей и точно проставленных дат. А за каждой были их веселые мальчишники на двоих.
Под итогом последнего матча было накарябано наискосок: Arachnа!
– Это еще что такое? Когда я декламировал «Божественную комедию», блокнот был уже закрыт и отложен. Вон, и записано другими чернилами! И счет обычно записывал я. Арахна… «О дерзкая Арахна, как живую тебя я видел, полупауком, и ткань раздранной видел роковую»!.. Что-то тут не так, – подумал Ленни, – что он имел в виду? Поэму Данте? Миф[119]? Или настоящего паучка? И не случайно он записал это в нашей с ним книжке. Он что, специально оставил мне сообщение?
И стал искать в справочнике телефонный номер лечащего врача Паравяна.
Мамма миа!
18 декабря, вечер
Господин Бруно Павезе был, судя по всему, ровесником Леонарда. Ну может, чуть старше или младше. Словом, что-то около семидесяти. Толстобровый, глазастый и все еще широкоплечий, он выложил на стол свои мытые-перемытые в дезрастворах крепкие ладони, которые успели спасти в армейских госпиталях с тысячу людей и в Корейскую войну, и во Вьетнамскую, и здесь – уже в качестве частно практикующего врача. То, что Павезе согласился незамедлительно принять Леонарда, изменив свой график, было данью памяти Паравяна. Тут и сомневаться не стоило. Потому что, сухо поздоровавшись с ним, он развернул кипучую деятельность по перекладыванию толстых книг на столе из одной стопки в другую, трижды раскрыл деловой дневник, сделал пометки, закрыл и вновь открыл.
Должно быть, еще с военных времен он терпеть не мог журналистов, которые далеко не всегда были героическими борцами за возможность услышать правду из передового окопа и прифронтовой полосы. Чаще бывало как раз наоборот: фронтовые корреспонденты послушно писали свои репортажи под диктовку штабистов.
– Но ведь такая картина во всех профессиях?
– затеял с ним мысленный спор терпеливо дожидавшийся Леонард. Ведь и врачи далеко не сплошь врачеватели и уж тем более герои? И редкая современная певичка берет верхнее ля, и уж наверняка редкий художник знает сегодня человеческое тело так, как это было принято двести лет назад…
– Я думаю, вы читали официальный бюллетень и эпикриз? – подал наконец голос доктор Бруно.
– Да, господин доктор, но я виделся с ним буквально накануне смерти, и ничего в его внешности или настроении не предвещало скорую кончину.
– Конечно, покойный Паравян был в целом здоровым человеком с очень хорошей наследственностью, – ответил доктор, крутя в лапищах тонкую шариковую ручку. – Хотя о его наследственности можно только догадываться, – с усмешкой прервал себя он сам, – так как никого из близких родственников ему не удалось найти после резни. Но идеальная работа всех органов подсказывала, что генетика у человека была хорошей. Да и сердце работало, как у молодого мужчины.
– И тем не менее сердце остановилось? – озвучил свои сомнения журналист.
– К сожалению, да. – печально ответил доктор.
– Такое случается? – спросил Ленни, барабаня пальцами по подлокотникам кресла.
– Ну, остановка сердца стала следствием. Причина – отек легкого. Это могла быть аллергическая реакция на съеденную накануне острую пищу, которой он любил побаловать себя, несмотря на мои запреты… – доктор снова развел руками, – вы учтите почтенный возраст!
– Вы участвовали во вскрытии? – продолжал допытываться журналист.
– Я не имею на это права. Но я читал результат вскрытия и разговаривал с коронером, – ответил доктор, положил в рот леденец и в знак доброй воли протянул такой же Ленни.
– Спасибо, – Ленни взял один и запустил в рот. Нёбо обдало обещанным рекламой арктическим холодом. – Так результат вскрытия подтвердил результат осмотра?
– Да, – ответил Бруно, посасывая леденец. – Острый астматический приступ, который вызвал остановку сердца и летальный исход.
– А снотворное, которое вы ему прописали, не могло способствовать? – спросил вдруг журналист.
– Это абсолютно безобидное средство, которое в его возрасте даже показано, – сдержанно возмутился доктор. – Если, конечно, его не смешивать с препаратами, содержащими фторуксусную кислоту. Но я их ему не прописывал и он их не принимал.
– А яд пауков содержит фторуксусную кислоту? – спросил Ленни.
– Ну наконец! Начинаются журналистские игры воображения! – подумал доктор и вежливо осведомился вслух:
– А при чем тут пауки?
Леонард неопределенно пожал плечами, промолчал, но продолжал смотреть на доктора, не снимая вопроса. И тот поддался:
– Да, в яде некоторых пауков действительно содержатся нейротоксины. Ну, например, у общеизвестной «черной вдовы», или Latrodectus mactans. Её укус действительно может вызвать у человека судороги и даже паралич. А для животных он почти всегда смертелен. Но здесь такой паук не водится…
– А в Сирии?
– При чем тут Сирия? – вспылил наконец Павезе.
– Видите ли, доктор, хронологически получается, что Паравян пережил неожиданный приступ астмы сразу после получения пакета из Сирии…
Доктор сардонически улыбнулся и сложил ручищи лодочкой, как для молитвы:
– O Mamma mia! Поздравляю, господин Сэмьюэль. Так и вижу заголовок вашей статьи крупными буквами: Смерть армянина в таиланде в результате отравления, затеянного на Ближнем Востоке по законам итальянской мафии!
– Интересно, посчитал он меня обычным искателем сенсаций или зацикленным на всемирных заговорах евреем? – думал Леонард по дороге домой. – Но фабулу изложил точно…
Мушкетеры не крутят романов со старыми девами!
19 декабря 2004 г., утро
Шварц объявился в своем РОВД ровненько в 8.00, а Валера Шагинян был уже на месте.
– Ну что? – спросил Шварц.
– Да вроде четверо у нас особо высоченных преступников, но все сидят по тюрьмам, и сидят безвылазно: я проверял, – отрапортовал Шагинян, подрагивая коленом. Шварц понял: ждет вопроса!
– Я так и думал. А что это у тебя?
– Да вот я сводную таблицу сделал для вас: имя-фамилия, год рождения, место жительства, судимость, по какому делу проходил в качестве обвиняемого или подозреваемого, особые приметы, отклонения от стандарта роста в ту и другую стороны…
– Ага, а я думал: сам-то догадаешься? – прищурился Шварц, глядя в глаза рассиявшегося Шагиняна. – Молодец. Ну ты мозг, – поощрил он парня.
– Вырисовывается вот какая картина. В двенадцать тридцать ночи Лусинян вышел от Светланы Гаспарян, что проживает на Демирчяна тридцать шесть, прошёл по той же улице метров триста-четыреста и срезал путь к своему дому через Пушкинский парк. Через два подъезда от роковой арки у него был небольшой подвальный спортивный зал – прикупил у соседа по дешевке в период приватизации, тренировался после возвращения из Америки, потом забросил. В последнее время он этот зал отремонтировал, привел в порядок. По агентурным сведениям, собирался продать отцовскую квартиру, что в том же дворе, и временно переселиться в подвал до лучших времен. А на вырученные деньги устроить персональную выставку. Я с риэлторами говорил: уже вроде бы и покупатель наклевывался: место ведь хорошее, здание «сталинское». Риэлторская контора приличная, проверенная тысячу раз, так что их отметаем…
Впившиеся в Валеру шварцовы глазки засияли: мальчишка явно делал успехи на сыщицком поприще!
– Он там в подвале попоек не устраивал?
– Нет. Над подвалом живет нервная старая дева, которая бесконечно ссорится с верхними соседями по поводу топота их детей у неё над головой. Уж она бы насчет попоек раззвонила. Мой агент её расспросил: никто, говорит, в тот подвал не ходил.
– А с ней у Арамиса романа не было, согласно его обычаю?
– Вы бы видели эту грымзу, товарищ майор…
– Слушай, Шагинян, я подвал осмотрел вчера. Там маты странной белой щетиной обсыпаны. И в двери лаз проделан… Собака там живет, что ли? Ты подвал проверял?
– Проверял, колбаску носил, – улыбнулся Шагинян.
– Ну? – прищурился Шварц.
– Далматинец это, молодая сука. Не чистопородная, но красивая…
– Ну так это же как раз профиль Лусиняна, – прищурился Шварц.
– Он её осенью с улицы взял, после того, как её машина сбила, товарищ майор. Старички парка говорят, приютил её, выходил, там и прижилась. Сам же для неё этот лаз сконструировал. Судя по описанию дворничихи, это она выла над Лусиняном после убийства.
– Слушай, Шагинян, – заволновался Шварц, – я так и знал, что вторую кровь на месте происшествия она могла пустить! Раз её связывали с Арамисом такие нежные отношения, она ведь запросто могла тяпнуть убийцу! И могла бы нас привести к нему, если бы мы врубились! Ну и промахнулись же мы!
– А вот и не промахнулись, товарищ майор. Есть у меня для вас сюрприз. – и Шагинян вытащил из письменного стола пластиковый пакет с килограммовой гантелей, на которой значилось «90 коп.».
– Это ты из вещдоков увел? Или… – начал догадываться Шварц.
– Или! – засиял Валера. – Товарищ майор, это пара той, что валялась под аркой, и нашел я её в подвале Лусиняна под матом – закатилась, наверное. Ведь мы искали среди спортивного инвентаря, но не нашли. То есть убийца точно бывал у Лусиняна в подвале, знал, что где лежит, там и слямзил гантелю. То есть вы правильно подсказывали, что искать надо не обязательно верзилу, но можно крошечного форточника. И вот для этого-то и припасен мой интересный списочек…
– Мог бы уже и фамилию вписать коротышки коротышку с первой группой крови, отрицательным резус-фактором. Молодец, Шагинян, ну, башка у вас, карабахских, варит, – похвалил Шварц.
– Встречаются карабахский бедняк и аштаракский олигарх, – завел рассиявшийся от похвалы Шагинян.
– Считай, что анекдот уже рассказан, – хмыкнул Шварц.
Запах женщины
19 декабря, все еще утро
– Господин полковник, как поживаете? – В трубке послышался знакомый моложавый голос. Шварц взбесился, но сдержался:
– Майор Шаваршян слушает.
– Это вас Шагандухт Мелик-Шахназарян беспокоит. Читали статью про наших обидчиков?
Сегодня вышла.
– Да нет, в какой газете? Хорошо, ознакомлюсь – позвоню. Будьте здоровы, – и крикнул в соседнюю комнату: – Тхерк[120], «Власть народа» кто-нибудь читает? Ну да, сегодняшний номер…
Газетка была насквозь желтая, но именно в таких чаще можно было найти здоровые зёрна фактов, покрытых вонючим перегноем спретен и измышлений авторов публикаций. Шварц сложил руки на столе, как некогда на четвертой парте, и углубился в язвительный текст:
«ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ
Отдельные товарищи утверждают, что деньги не пахнут. И их позиция – не следствие хронического гриппа или перенесенной в детстве свинки с элементами синдрома Дауна. Просто папа с мамой запустили, педагоги проглядели, а полицейские и судьи сами хворают теми же осложнениями. Ну, не различают многие отдельные товарищи тлетворное амбрэ от денег из своих разнообразных источников! Зато при всем своем отбитом обонянии безошибочно чуют запах женщины, которая и есть причина и следствие их бивалютных и даже тривалютных приходов. А потому бизнес, завязанный на женском факторе, процветает в нашей стране с живостью ярких майских одуванчиков. Эти неприхотливые цветочки расцветают весной интенсивным желтым цветом, притягивают им к себе всех эндемичных, то бишь местных насекомых, а к концу лета легко разлетаются пушинками-парашютиками по всем окрестностям. И особенно – окрестностям ближним, точнее ближневосточным, где под философским взглядом армянских послов спокойно орудуют два десятка сутенёров, возглавляющих отряды лихого эскадрона шлюх нашей, отечественной, выработки.
Сотня обездоленных и растленных работодателями деревенских девчонок из Армении, выполняющая свой интернациональный долг на влажных постелях Дубая, Шаржи и других поселений в сложных климатических условиях субтропиков, имеет паспорта гражданок страны, которой было наплевать на них еще задолго до их падения. Зато некоторым принимающим государствам совсем не безразличны нравы, царящие в собственной стране. А потому скрупулезно собранные эмиратскими полицейскими факты легли недавно в основу договора, обязывающего наше государство возвернуть на собственную территорию живой товар с нехорошим нравственным душком и впредь проявлять бдительность при попытках аналогичного экспорта.
Конечно, обратный приток рабочей порносилы негативно скажется на хорошо отлаженном бизнесе его авторов и воротил. Может привести к снижению расценок и вообще излишней суете на устоявшемся рынке. Ну да не беда: этот вопрос легко регулируется нашими ретивыми по ангажементу полицейскими и судьями. Часть девушек они отправят в женскую колонию, чтобы не допускали ценовых вольностей. А наиболее перспективных и отзывчивых оприходуют в своих стационарных заведениях: вон их сколько расцвело за годы независимого от морали движения вперед!
Вам беленькую, как пломбир, или шоколадненькую, как сникерс? А может, рыженькую, как тигренок? Тощенькую, как гладильная доска? Пышненькую, как пампушечка? Да с нашим и вашим удовольствием! Никаких проблем! А если хотите предварительно отмыть их от предыдущей клиентуры, то пожалте в ГРААЛЬ. Здесь намоетесь в этнографических банях с заказанными девками и по-русски, и по-турецки, и по-древнеримски. Да и все остальное совершите с неменьшим интернациональным размахом. Правда, и расплатиться придется серьезными деньгами. Например, люди знающие утверждают, что ночь с невинной девушкой стоит в ГРААЛе аж пять тысяч долларов, из коих 500 выплачиваются поутру дурочке в компенсацию за потерянную невинность. И почему-то полиция страны так и не нашла причинно-следственную связь между первым дежурством в ГРААЛе студентки Н. из провинции и её самоубийственным прыжком с Киевского моста.
Жители окрестностей рассказывают, что периодически здесь появляются и пытаются скандалить родные обесчещенных. Но им быстро затыкают рот всевозможными способами. А способов у хозяев заведения – хоть завались! Ведь это не кто иной как братья Григорий и Левон Алтуняны – «владельцы заводов, домов, пароходов», что в нашей жизни выражается владением сетью магазинов стройматериалов, сетью строительных компаний и сетью борделей, увековечивающих их имена в бесхитростной аббревиатуре Гриши и Ллвы «Гр-Ал-Л» с мягким знаком в конце. Знака этого в армянском алфавите нет, зато само слово Граал переводится с нашего родного просто и возвышенно: «Святые Письмена»! Однако святостью ни сами братья, ни руководимый ими бизнес отнюдь не отличаются. При этом послужной список братьев Алтунян является даже отрицанием наличия святости как таковой в обозримом подлунном мире.
Люди с хорошей памятью запомнили Григория Алтуняна в качестве преданного помощника председателя Национального парламента самой первой выпечки, затем – руководителя пропагандистской кампании в штабе наипервого президента в провальной избирательной гонке 1996 года. Тот же самый Григорий Алтунян всплыл в 2003 году в качестве ответственного за связи с общественностью и средствами массовой информации уже в штабе следующего президента. И неудивительно, что участие предприимчивого комформиста, но бездарного пиар-штабиста Г. Алтуняна обеспечило обоим президентам их высокие кресла со скрипом, который в народе именуется подтасовкой голосов. Всем запомнилось знаменитое телеинтервью Гр. Алтуняна, когда единственное, что он смог выдавить о PR, было то, что последний «делится на белый и черный».
О белом пиаре активист выборов разных президентов имеет представления не больше, чем о тайских диалектах. Но вот что его действительно прославило и сделало незаменимым, так это способность собирать или придумывать компромат на всё, что движется и дышит. Черный пиар – вот область незаменимости Григория Алтуняна! Хотя ему самому неоднократно приходилось перекрашиваться во многие цвета, чтобы столь успешно строить карьеру при всех режимах и властных партиях страны. Вот почему бордель на улице Ленинградской для Григория Алтуняна – логическое продолжение его политической карьеры. И столь же логичным и необходимым для регулярного сбора компромата является его скромная должность помощника генпрокурора. Другое дело – его брат и компаньон – внешне скромный Левон Алтынов, вернувшийся из России с переиначенной на «ов» фамилией и переиначенным взглядом на мир. Обновлённое мировоззрение последнего и стало базовым для развития туризма, замешанного на порнобизнесе.
Но Алтуняны – это не только два брата. Это клан, в состав которого по крови и партнерству входят также их кузены Вааг и Саак Алтуняны. За последнего Григорий в бытность пиар-штабистом замолвил словечко нашему авторитетному соотечественнику Паргеву Паравяну, несущему ответственную миссию Почетного Консула Армении в Таиланде, и договорился в нашем МИДе. Так среди бела дня начальник канцелярии ереванской мерии Саак Алтунян был протащен в почетные консулы Королевства Таиланд в Армении. Григорий же, с его феноменальными связями наверху, придумал и спротекционировал операцию по незаконной приватизации земли двух соседствующих на перекрестке зданий с разными адресами: пр. Маршала Баграмяна, 6 и улица А. Исаакяна, 46 под строительство якобы консульства Таиланда.
У Ваага Алтуняна своя специфика. Этот скромный заместитель директора Государственного агентства недвижимости успешно выполняет функцию заградотряда предприимчивых начинаний клана. Он водит дружбу с верхами и обязывает их своими одолжениями. Периодически появляясь на «объектах» братьев в роскошном джипе «Брабус» со сплошными нулями и семерками в госномере, он устно и визуально демонстрирует недоброжелательному окружению основательность опоры бизнеса клана, что на армянском языке звучит как «Мер дем хах чка»[121].
И здесь стоит вспомнить, что был у Алтунянов папа- (для Ваага с Сааком – дядя) стоматолог, при наличии жены и детей иррационально поведший себя с девушкой, пришедшей всего лишь поставить пломбу на больной зуб. Скандалы и расходы, связанные с их тушением, старым соседям Алтунянов запомнились до сих пор и явно легли в основу проф- и соцориентации его потомков. Но вернемся на Баграмяна, 6.
Попервоначалу клан Алтунянов с присущей ему бесхитростностью в анонсах официально оформил отвод участка под «строительство объекта обслуживания». А мы уже знаем, о какого рода обслуживании может идти речь, если за дело взялись Алтуняны. Под это дело они заказали архитектору Гарнику Асатряну проект застройки, включающий, как обычно, бассейн и «нумера». То, что деньги не пахнут, преподаватель Архитектурно-строительного университета Асатрян прочувствовал давно, а потому пребывает в фаворе у многих денежных мешков, проектируя им версали и бордели с одинаковым размахом. При этом дефект обоняния сопровождается у педагога-архитектора и тяжелой формой астигматизма. А потому строительство «объекта обслуживания» клана Алтунянов было затеяно в самом центре Еревана буквально в трех метрах от обоих соседних зданий, что начисто лишило их жителей солнечного света и притока воздуха. В результате преподающий азы архитектуры спец сам же их нарушил настолько, что превратил окрестные красивые двухэтажные здания в интерьере улицы в божьих коровок, замерших у подножия развесистой поганки псевдоконсульства.
Но заживо замурованные обладатели гибнущей окрестной недвижимости оказались не жителями, а жительницами, чей запах Алтуняны не почуяли по той простой причине, что женщины эти давно выбыли из возрастной группы, являющейся объектом деловых интересов братьев. А запугать пожилую армянскую женщину Григорию, Левону, Ваагу и Сааку Алтунянам, со всеми их черными PR-акциями, полицейскими трюками и демонстрацией крутизны трудновато. Ведь пенсионерки – это бедный, но наиболее социально независимый класс в нашем обществе. Их невозможно притеснять по месту работы или напускать на них для устрашения полицейских или налоговых хищников. По той простой причине, что нет у них ни работы, ни предпринимательских доходов, а потому и зависимости от властей предержащих. Вот почему в испорченных пиаром мозгах деловитых братьев и родилась идея об устранении препятствий на псевдо-государственном уровне, то есть придумывании фантома «консульства Таиланда», временами вырастающего до масштабов «посольства Королевства Таиланд». При этом и муниципальные начальники, и полицейские, и судьи прекрасно понимают условность обозначения «объекта», но игра есть игра, и кто из них не грешен, чтобы пытаться воспрепятствовать натиску всесильного и всережимного клана Алтунянов?
Несмотря на всё перечисленное, народ верит, что власть искренна в своих намерениях покончить с коррупцией и клановостью. А потому, не найдя справедливости, всё еще обращается ко всем её ветвям, и в том числе – к нам, СМИ. Но будучи четвертой, и самой затёртой, ветвью власти, мы используем наш единственный рычаг борьбы с безобразиями – вот эти страницы, на которых все могут прочитать правду о том, что творится вокруг. И хочется нам на этих же страницах еще и помечтать, что однажды, притом совсем скоро, власть проснётся на свежую голову и скажет, обратившись к пострадавшим жительницам изувеченных застройкой окрестностей.
«Мы были не правы. Но сейчас прозрели и даже открылся заложенный нос. А потому на основании экспертных оценок авторитетных членов Союза архитекторов и специалистов Министерства градостроительства снесём к чертовой бабушке это абсолютно незаконное строение с его ложными технико-строительными обоснованиями и лживыми авторами и заказчиками. И еще долго будем служить народу, а не паханам ереванской проституции. А вы нас простите: все-таки вы годитесь нам в матери, а матерям свойственно прощать».
Так что с наступающим Новым годом, дорогие женщины! Не нужно нам никаких западных гендерных программ равноправия и унификации полов. А необходимо то, что всегда отличало армянское общество: бережное и уважительное отношение к женщине, потому что она – залог рождения и воспитания следующих поколений армян. Будьте счастливы и здоровы! И не бойтесь никаких кланов, братанов и паха-нов: их срок отмерен, а Армянская Женщина будет жить в веках».
– Читал, Шварц? – заскрипел Дядя Вова в трубку.
– Да уж, – откликнулся Шварц, – умеют некоторые журналисты писать, ничего не скажешь!
– Как не скажешь? Да как не скажешь, если полиция там упоминается семь раз? – возмутился Дядя Вова.
– Семь – счастливое число, Владимир Левонович, – улыбнулся Шварц в трубку, – и в статье есть, кстати, необходимые нам факты. Я здесь. Зайду?
– Ну так давай… А то отпросился до Нового года, как Дед Мороз, а в статье, видишь, уже даже женщин поздравляют…
Часть 9 Госнебезопасность
Как отличить разведчика от делового
19 декабря
Вообще-то он походил на делового: солидно и тщательно одетый, с холеными усами. Но без золотых цацек нынешних бизнесменов. Большие карие глаза смотрели серьезно. Но глазки были не то чтобы слишком умными для делового, а слишком проникающими вглубь.
– Из соседней конторы, – подумал Шварц, – наш брат-контрразведчик!
– наш брат-контрразведчик!
И Дядя Вова представил гостя:
– Знакомьтесь. Полковник Липарит Акопян из Агентства Национальной безопасности. А это – наш орел, начальник отделения уголовного розыска Центрального района майор Шаваршян.
– Я о вас наслышан, – сказал полковник, крепко пожав руку Шварцу, – и лицо его внезапно озарила открытая улыбка. – Вы ведь тот самый легендарный Шварц?
– Тот, тот, – горделиво заскрипел Дядя Вова, – тот самый герой войны и наших криминальных будней!
– Оп-ля, – подумал Шварц, – сейчас, как они всегда делают, скомандует: «Всё побоку, и занимаетесь только нашей проблемой» – вот уж дудки!
– Я вас особенно не стану донимать, – улыбнулся Акопян, но у нас есть информация по вашему району. Фирма «Арменикум» ведь в вашем районе?
– Да она прямо в вашем районе, – закашлялся от смеха Дядя Вова, – как раз напротив вашей конторы!
– И это хорошо, – улыбнулся в ответ Акопян. – Но у нас есть информация, что ею сильно заинтересовались соседи с Запада. Так я хотел спросить: нет ли у вас оперативной информации по этому объекту?
– Да вроде нет, – задумался Шварц, – там всё всегда тихо-гладко… Нет, точно нет. Есть ориентировка?
– Есть информация, что предвидится финансируемая из-за рубежа некая операция то ли в виде информационной атаки, имеющей целью дискредитацию препарата и клиники, то ли диверсионные мероприятия.
– Мать-перемать, – возмутился Дядя Вова, – у меня в районе? Это кому ж так мешает борьба со СПИДом?
– Уж очень лакомый кусочек – эти исследования, – многозначительно поднял брови Акопян, – если ежедневно в мире регистрируется четырнадцать тысяч больных, а общее число, по неофициальным данным, перевалило за сто пятьдесят миллионов. Сто пятьдесят миллионов в двухстах странах. Вы только вообразите. Причем за последние годы от этой болезни умерло уже двадцать восемь миллионов человек.
– Мать-перемать, – выдохнул Дядя Вова, чей сегодняшний словарный запас не отличался разнообразием, – да это ж можно считать, что перемёрло население трех-четырех среднестатистических стран!
– Вот то-то и оно, – согласился Акопян, – так что можете себе вообразить, какие сумасшедшие средства выделяются на создание лекарственных препаратов и вакцины. Вкладываются все: международные органы здравоохранения, государства, частники… Конечно, некоторые зарубежные фармакологические фирмы уже кое-что разработали. За счет грантов, конечно. Разработали не бог весть что: препараты, которые ненамного облегчают состояние ВИЧ-инфицированных. А прибыли получают колоссальные. Швейцарцы, например, разработали препарат, стоимость упаковки которого – девятнадцать тысяч евро, а годовой доход с продаж прогнозируется в размере миллиарда франков!
– И вдруг нате вам, – усмехнулся Шварц, – безо всяких донорских вливаний извне, изобретенный и апробированный в маленькой стране препарат «Арменикум»!
– Вот то-то и оно, – поддержал его Акопян, – и притом препарат, который переводит забывчивых, плешивых, покрытых бородавками, некоординированно двигающихся и хлюпающих носом больных СПИДом в категорию полноценных людей. Людей с хорошей памятью, в хорошей физической форме, работоспособных и даже красивых! Ну да, ведь «Арменикум» попутно излечивает прыщи, псориаз, дерматиты, себорею и даже гепатит С.
– Слушай, Акопян, – удивился Дядя Вова, – так почему «Арменикум» не регистрируют за рубежом, если после него можно хоть на конкурс красоты ездить?
– Самое сложное для международной регистрации – экспериментальная база, Владимир Левонович, – принялся объяснять Акопян – понятно, что они с Шварцем уже прихлебывали кофе, а Дядя Вова чай. – Дело в том, что после исследований на животных апробировать препарат можно только на реальных больных добровольцах. А где мы их здесь возьмем? Рекламировать за рубежом незарегистрированный препарат нельзя. Единственный информационный канал – электронный сайт «Арменикума» и фольклор: излеченные больные делятся, если хотят, информацией с другими больными.
– Ну, они вряд ли будут трепаться об этом, – предположил Шварц.
– предположил Шварц.
– Конечно, – согласился «сосед», – поэтому за несколько лет сюда приехало только четыреста человек. И абсолютно все были излечены. Но ведь это капля в море! Кроме того, – расходы. При продвижении на фармакологический рынок новых товаров около половины бюджета съедает именно эксперимент. Для этого нужны сумасшедшие деньги. К примеру, две с половиной тысячи наркоманов Таиланда получают что-то вроде пособия от американской лаборатории. Все они сидят на внутривенных инъекциях, ВИЧ-инфицированы, часть уже болеет СПИДом, остальные рано или поздно заболеют. Так лаборатория содержит эту армию и ставит на ней свои эксперименты.
– Мать-перемать, – ужаснулся Дядя Вова, – они что там в Таиланде – сплошь больные СПИДом?
– Сплошь не сплошь, но процент инфицированных очень велик. А в Африке СПИД и вовсе косит направо и налево. В Лесото, например, больше половины населения ВИЧ-инфицировано. В Кении и Танзании тоже очень высокий процент. Там местные колдуны готовят снадобья, которые временно облегчают состояние больных, но технология изготовления – из ряда вон!
– Ну-ка, ну-ка, – подобрался Дядя Вова, – что это они там учудили?
– Снадобье готовят из крайней плоти невинных мальчиков, которая обладает высокими иммунными свойствами, – полушепотом объяснил Акопян, как если бы в комнате были дети. – Вот там и участилась охота на мальчиков, которым просто-напросто отрезают половые органы и готовят лекарство. Испанские врачи работали там по линии ООН, напоролись на несколько случаев, и можете себе представить, под какими шапками вышли на Западе газеты.
– Да-а-а, – крякнул Дядя Вова, – не знаю, как ты, Липарит, а я все-таки считаю, что главное для национальной безопасности – это образование и здравоохранение. Как бы там наши с вами коллеги ни старались, а если с этими двумя позициями в стране провал, то кастрированным окажется не только население, но и само государство.
– Вы правы, конечно, Владимир Левонович, но я затрудняюсь назвать сферу, роль которой была бы незначительной для национальной безопасности. – возразил Акопян, любуясь на аккуратные кольца дыма Шварцовой сигареты.
«Недавно бросил!» – подумал Шварц.
– Все-таки государство – это такое же диалектическое единство, как человеческий организм, – продолжил Акопян. – Зуб болит – и ты сегодня уже нетрудоспособен и даже неадекватен. Не говоря об ампутации руки, ноги или болезни жизненно важных органов. Так и государство, в нем всё жизненно важно. Кстати, в животном мире это прекрасно понимают на интуитивном уровне, а потому драк внутри стаи, если не считать конфликтов в брачный сезон, практически не происходит. Они друг друга даже не кусают, так как покусанная особь просто не сумеет догнать объект охоты или наоборот, удрать от противника. И ведь стая благодаря коллективному разуму, осознает, что каждая, даже никудышная особь, ценна, так как и в ней мощь и сила всех, которыми руководит наилучший из всех возможных вожак.
– Да уж, там выборы не подтасуют, – улыбнулся Шварц. – Дерутся, небось, не на жизнь, а на смерть для выяснения сильнейшего.
– Да нет, – пожал плечами Акопян, – это распространенное заблуждение. На самом деле иерархический потенциал они выясняют простым обнюхиванием, и после строго придерживаются правил подчинения.
– Слушайте, – вспомнил Дядя Вова, – лет двадцать назад я с семьей был в Сухуми, когда обезьяний питомник еще не разбежался по лесам соседей. Так там вожак тоже не кусался, а, будучи нормально ориентированным павианом, наказывал непослушных самцов публичным изнасилованием. И экскурсовод объяснил нам, что вожак просто-напрасто демонстрирует и жертве, и всем присутствующим, кто в стае может поиметь любого, то есть кто самый главный.
– Ну да, – улыбнулся Акопян, – вот когда представитель Белого дома выходит на лужайку к микрофонам и осуждает действия той или иной страны – это и есть публичный половой акт Америки над этой страной.
– Само собой, – улыбнулся Шварц, – у них там крайней плоти до черта. Они же всех новорожденных мальчиков обрезают.
– Да ты что? – поразился Дядя Вова, – всех-всех, независимо от вероисповедания?
– Ну да. У них это считается обязательной санитарной обработкой младенца. И страхование это оплачивает, мне родственники из Америки рассказывали. При отказе нужно гору формуляров заполнять и врачам на лапу давать, – подтвердил Шварц.
– Вот тебе и конкурент африканцам и нашему «Арменикуму», – пожал плечами Дядя Вова.
– Несколько лет назад в прессе была шумиха, – вдруг припомнил Шварц, – кажется, «Комсомолка» в Москве пыталась защитить «Арменикум» от нападок мастодонтов этой области, интервью брали у одного больного…
– Вот-вот, – с готовностью поддержал его Акопян, – Бориса Николаева в девяносто девятом сюда привезли в крайне тяжелом состоянии, на носилках. Он прошел курс лечения и буквально ожил. Потом и его невеста Татьяна прошла здесь курс лечения, и они ежегодно приезжали, проходили профосмотр, подлечивались. Чувствовали они себя хорошо, находились в хорошей физической форме. Он даже работал грузчиком в порту – можете себе представить?
– Это кто из них кого заразил? – заинтересовался практичный Дядя Вова.
– Это уже не важно, – улыбнулся Акопян. – Важно, что они оба фактически излечились от СПИДа. То есть иммунодефицит был преодолен, но ВИЧ-инфекция в организме сохранилась – тут уж пока медицина бессильна! В прошлом году они поженились, а несколько месяцев назад Татьяна забеременела. Приехали, проверились. Здесь констатировали полный порядок, и врачи клиники жили в предвкушении рождения первого в мире малыша от излеченной ими пары. Но когда вернулись в Калининград, через несколько дней на них напали неизвестные. Боря был убит, а у Тани случился выкидыш. То есть для вынянчивших их врачей это был двойной удар по их уникальному эксперименту.
– В принципе это могла быть и хулиганская вылазка, и акция фашиствующих борцов со СПИДом, – прикинул Шварц.
– И мы такое допускали, – ответил Акопян, – но вскоре была получена информация о готовящейся акции уже в Ереване, а мы с вами в случайные совпадения не верим. Так что следует нам держать ухо востро. Спасибо за кофе и приятно было познакомиться и пообщаться. Еще увидимся. Вот мои телефоны, – добавил он, протянув Дяде Вове и Шварцу визитки, где кроме ФИО стояли только номера телефонов.
О важности амбиянса в общепите
19 декабря, вечер
Месье Саргис разлил вино по бокалам, и Шварц, как это водится, сказал:
– Ну, месье Саргис, я у тебя в доме впервые, и пусть мой приход принесет тебе удачу. Славно у тебя!
– Мерси, господин майор, – улыбнулся из-за толстых стекол очков Саргис, – и пусть мой дом принесет удачу тебе.
После протокольного тоста можно было переходить к делу, и Шварц попросил:
– Ну-ка расскажи, что это за переговоры вел Арамис с турком?
Саргис скривил рот, побарабанил пальцами по столу и тихо начал:
– Ты знаешь, я жил среди турок, мой отец торговал с ними, и я ему помогал. Словом, я к ним от ношусь как к соседям и приятелям. Среди них встречаются хорошие люди. Люди и государственная машина не совсем одно и то же, да? Бывает даже, что машина лучше народа, а бывает и наоборот. Это чаще. Когда у меня был открытый ресторан, их много приходило ко мне обедать, и я рад был их приходу. Но этот Хикмет был очень плохой человек, совсем без морали. Через слово повторял: “Paranin namusu yok”[122]. Ресторатору негоже холодно принимать клиента, если не поймал его на воровстве или грубости к другим клиентам. Все-таки мы не обувью торгуем, а кормим людей, и обязаны быть радушными для амбиянса, атмосферы, знаешь? И это получается естественно. Но с ним мне приходилось сдерживать себя, чтобы не обрезать или не указать на дверь.
– Арамис познакомился с ним у тебя?
– Почти. То есть он где-то слышал о Хикмете, искал его, зашел как-то в парикмахерскую постричься – а там разговор о каком-то турке по имени Хикмет. Арамис стал их расспрашивать, а они: пошел, мол, Хикмет к Саргису пообедать. Тот и пришел следом. А Хикмет уже совсем пьяный!
– Он что – алкоголик?
– Скорее пьяница. Любил он поддавать. Особенно в последнее время. Но злой был, злой – что трезвый, что пьяный. Когда трезвый, скажет едкость – и молчит, кушает, глаза в тарелку. Обведет взглядом зал – и опять в тарелку. А пьяным глупости болтал, к персоналу приставал, пока я не подсяду к нему, не затею разговор на какую-нибудь нейтральную тему: наводнение по телевизору или еще какой ураган…
– И к Арамису прицепился?
– Скорее Арамис к нему. Арамис ему говорит: «ты – тот самый Хикмет?» Хикмет знает турецкий, арабский, по-армянски только еле объясняется. Арамис его языков не знает. Друг друга не понимают, но я вижу, Арамис ищет ссору. Как можно? Тот человек, хоть и плохой, но гость в этой стране. И ещё он мой гость, раз обедает в моем ресторане. Я говорю, это вы от непонимания кипятитесь. Давайте сейчас разойдитесь, а завтра с утра, пока ресторан закрыт для посетителей, приходите, спокойно поговорите, я переведу, если больше некому. Думаю, как раз протрезвеет Хикмет, угомонится. Тогда посетителей уже мало бывало у меня, но все равно, я подумал, лучше отложить: пусть успокоятся.
– Когда это было?
– Мы уже по субботам-воскресеньям хаш с утра ставили – значит, осенью. В один из таких дней я и получил приглашение от твоего начальства. И уже собирался ликвидировать ресторан. Наверное, конец октября – ноябрь.
– Чем занимается здесь этот Хикмет?
– Официально он представляет компанию, которая торгует натуральными фруктовыми соками из Турции и Израиля. В литровых коробках, знаешь? Большими фурами завозит их из Турции.
– А неофициально?
– А неофициально, Армен джан, язык не поворачивается сказать…
– Наркотики?
– Нет, Армен джан. Он женщин вербует в турецкие бордели.
– Сутенёр, что ли?
– Нет.
– А что тогда?
– Он вербовал не простых, а таких изысканных, знаешь, образованных, с манерами. Вы их интеллигентными называете, да? И обманывал, что нанимает на работу в частные пансионы или гувернантками в богатые семьи. Английский, говорил, будете преподавать за большие деньги, музыку, этику, эстетику, всякое такое… Говорил, год поучительствуете – и можете в Ереване хорошую квартиру купить. А потом, там уже, его подручные паспорта отбирали, месяцами в подвале держали, пока не сломаются…
– Это ты сам узнал или тебе Арамис рассказал?
– Немного сперва узнал от Арамиса, потом еще кое-что узнал…
– И о чем же пошел разговор Арамиса с Хикметом?
– Не пошел у них разговор. После первых слов Арамис на него набросился, еле оттащили. Я, говорит, еще выясню, кто у тебя за спиной стоит. И тебя, и твоих компаньонов подвешу ногами к рекламному щиту, на котором ваши соки красуются.
– А что были за первые слова?
– Да и слов-то не было. Просто положил он перед ним список имен-фамилий, а Хикмет гнусно так ухмыльнулся и говорит: «Эту не помню, эту не помню, а эту вот хорошо запомнил. И этих двух». Тут Арамис на него и набросился. Мы с двумя поварами не повисли бы на нем – плохо Хикмету пришлось бы.
– И что?
– Ничего. Хикмета я к себе в кладовку увел, кофе дал, успокоил. Вышел – смотрю, Арамиса нет уже, ушел.
– Когда ты после этого их видел?
– Больше не видел. Через неделю я закрыл ресторан и перебрался к вам в управление.
С чего начинался Хренисанц
20 декабря
Телефонные книги Шварца были как толковый словарь Ачаряна: целых четыре тома и каракули на нескольких языках. Попадая в ступор следствия, он частенько листал их, и подсказки всплывали сами собой, как у лингвистов-исследователей. Вот и сейчас, листая том третий, он остановил взгляд на достаточно свежей записи: «Анджелло Tаркулян. Начальник канцелярии ереванской мэрии. Вегетарианец. Самозадержание 15.08.2003». Шварц вспомнил и улыбнулся.
…Это была по-настоящему счастливая ночь. Подаренные свояком старые кондиционеры потарахтели, но сожрали невыносимую ереванскую жару, и нежная прохлада наконец воцарилась в квартире. Близнецы заснули в одинаковых позах батальных героев, а родители наконец не боялись обжечься друг о друга. Зазвонил телефон:
– Слушай, Шварц, это я, – заскрипел Дядя Вова, – тут у меня один мудак повесился…
– Кто? – автоматически спросил спящий Шварц.
– Да у нас в КПЗ. Приезжай, – невпопад ответил шеф и бросил трубку.
– Вот в это время и нужно ездить на работу, – утешал себя заспанный Шварц, руля по предрассветным безлюдным улицам, где фонтанировали поливальные машины, а дворничихи ритмично шуршали метлами.
Только что погасли уличные фонари, и было почти темно, так что лишь угадывалось, как листики на деревьях счастливо трепещут от утреннего ветерка, а цветущие кусты, яркие и пахучие к вечеру, пока лишь озвучиваются просыпающимися птичками. Томное утро ереванского лета еще только хлопало ресницами на востоке, но уже угадывалось, с каким жаром примется солнце обнимать свой любимый город.
– Да уж, к такой жаре никогда не привыкнешь – хоть сто лет живи. К ней надо приспосабливаться, – думал Шварц с незажженной сигаретой под левым резцом. – Кондиционер, это, конечно, рывок человеческой мысли. Раз уж живем не в домах своих дедов – со стенами метровой толщины – то кондиционеры для нас – самое то. И напрасно Маргаритка боится болезни легионеров… Легионеры – они кто? Те же иностранные наёмники, что между притеснениями местного населения боятся нос высунуть из казармы или форточку открыть где-нибудь в Северной Африке или на Ближнем Востоке. А нечего в чужую страну с оружием лезть – вот и болеют искусственными болезнями… И кого там в КПЗ занесло? Вроде пусто было вчера с утра…
В камере КПЗ воняло уборной и нашатырем, на покрытом клеенкой лежаке распластался начальник канцелярии мерии Таркулян, а усталая пожилая докторша щелкала замками чемоданчика от электрокардиографа.
– Ка те чка?[123] – боднул головой Шварц в сторону чиновника.
– А куда от нас денется? – равнодушно пожала плечами докторша.
Да уж, медперсонал КПЗ был явно заражен цинизмом тюремщиков.
Дядя Вова сидел здесь же, на арестантской лавке и прихлебывал чай.
– Нет, ты подумай, Шварц! – расстроенно заскрипел он. – В воскресенье встретились мы с этим травоядным за столом у моего зятя. Нет, не в смысле – травоядным скотом, хотя так оно и есть, а в смысле травоядным, вегетарианцем. Да ты его должен знать: канцелярией заведует в мерии, его там Сеньором Анджелло за глаза кличут. Не знаешь? Ну, Бог тебя миловал. Имя ему придумали родители, а? Неужели за всю жизнь только «Овода» прочитали? Ну вот. Как, говорит, Владимир Левонович, сделать, чтобы реально почувствовать себя арестантом? Посодействуйте, а? Посадите меня на пять-шесть часов во всамделишную камеру, чтоб всё как по-настоящему. Я ведь только внешне аппаратчик, а в душе писатель! Теперь вот взялся наконец за настоящий роман – это чудо будет, а не роман! Сенсация века! Там герой попадает в застенки террористов. Я хотел бы прочувствовать все его переживания…
А дело было так. На следующий же день после встречи, по горячим следам договоренности, Сеньор Анджелло закатился с утра в понедельник к Дяде Вове в кабинет аккурат в момент особенно хорошего настроения последнего. Наступило оно в связи с молниеносным раскрытием преступления прошлой ночью и держалось до самой полуночи. Но об этом потом. А пока аппаратчик повторил свою просьбу посидеть у них в камере. И развесёлый Дядя Вова, не будь дурак, вызвал дежурного по КПЗ Николая Курикяна. Николай отличался в райотделе крошечным росточком, редкой исполнительностью и еще более редкой тупостью, что давало не всегда адекватные результаты. Вследствие специфической композиции личностных характеристик начальство его, невзирая на возраст, и остальные за глаза всё еще называли Коликом. Вот и сейчас, вылупив глаза то на Дядю Вову, то на не слезавшее с экрана городского телеканала кривоватое лицо без устали пиарившего себя канцеляриста-романиста, бедняга не мог взять в толк, что же от него в самом деле требуется.
– В камеру! – рявкнул Дядя Вова для облегчения задачи конвоира. – Забирай это в камеру, Колик! – и ткнул пальцем в Анджелло. Задача была понята моментально.
– А ну пойдем, – угрожающе надвинулся на писателя Колик, – и давай, без глупостей. Руки назад!
Автор гениального замысла был препровожден в камеру без особых нежностей. Дядя Вова поусмехался себе под нос и записал в настольный календарь: «Освободить С-ра Анджелло в 16:00».
Но лето! Благословенное ереванское лето, которое врывается в окна пенсионеров и влюбленных, разносчиков мороженого и милицейских начальников и ворошит руками утреннего ветерка свисающие со стула детские распашонки и лифчики, бумажные салфетки и записки на столах. И листает, листает газеты и забытые в кухне поваренные книги, пачки накладных и настольные календари… Так запись была сделана Дядей Вовой на листке послезавтрашнего дня. И так писатель-чиновник был забыт в камере предварительного заключения.
Надо признать, что приподнятое экскурсионное настроение канцеляриста растаяло уже через полчаса после пребывания в угрюмой КПЗ, и Сеньор Анджелло решил вздремнуть на всамделишних арестантских нарах, чтобы скоротать время. Еще через два часа заскрежетал замок, канцелярист встрепенулся и стал пятерней охорашивать свой зачес, виртуозно связывавший правую сторону лысины с левой, как Панамский перешеек – обе Америки. Отворилась железная ставня дверного окошка, откуда лапа Колика протолкнула дымящуюся миску с обедом, ложку и два толстых ломтя хлеба.
– Иийя![124] – удивился Сеньор Анджелло и встал, – ну да, для полной картины нужно знать вид и вкус и арестантской баланды! – поставил миску на стол, присел на лавку и понял, что натурально проголодался. Он размешал ложкой содержимое миски, радостно убедился, что это борщ, но среди открытий числилась и сахарная мясная косточка, правда, не особенно богатая на мясо. Ну уж нет!
– Эй, Колик, – повторил он Дядь-Вовино обращение к стражу, – ты эту миску забери, а мне чего-нибудь другого принеси: я ведь вегетарианец!
– Кто-о-о? – прищурился появившийся в окошке круглый глаз Колика.
– Вегетарианец я, – постарался простецки улыбнуться стражу Анджелло, – я только овощные блюда ем, без мяса, без сливочного масла… Ну ещё сухофрукты, орехи, мёд, – продолжил он, заметив заинтересованность Колика.
– А это есть не будешь? – тихо осведомился тюремщик.
– Нет, – обаял его улыбкой бытописатель.
– Ну тогда отдавай обратно, – ласково предложил Колик.
Анджелло по-молодецки легко поднялся с лавки, передал в окошко борщ с сахарной косточкой и застыл у окошка, продолжая улыбаться тюремщику.
– Ложку верни, – попросил тот.
– А, ну да, конечно, – спохватился чиновник, отдал ложку и поинтересовался:
– А что ты мне принесешь поесть, Колик джан?
– Шан как[125]! Шан как дам тебе поесть! – загрохотал долго сдерживавший себя Колик и шлёпнул ложкой по интеллектуальному лбу самодеятельного романиста. – А Коликом своего деда называй! И на «джан» со своими дедом-бабкой на том свете будешь говорить, преступный сукин сын! Я для тебя – Товарищ Дежурный Сержант Курикян! – и ретировался с борщом и обольстительной сахарной косточкой, презрительно лязгая о каменный пол подкованными ботинками.
Спустя пять-шесть часов с начала отсидки Анжелло попытался привлечь к себе внимание, гулко стуча в железную дверь и властно призывая тюремщика. Но Колик был парень не промах – он и не таких здесь видал! Подошел к двери, грохнул дверцей окошка, отматерил, пригрозил сменить ложку на сильнодействующий инструмент. Романист замолк и надолго задумался.
– А что? – сообразил он, – ведь так оно, должно быть, и бывает! Именно этой потрясающей реальности я сам и добивался. Главное тут – не забыть детали, интонации, этот запах в камере и надписи на стенах! Да, такого опыта ведь нет ни у одного из собратьев по перу, этих заласканных болтунов…
Тут даровитый чиновник спохватился, что шикарный «Паркер», равно как и сувенирный блокнот из загранкомандировки в город-побратим, были экспроприированы суровым стражем при натуральном личном обыске, и застучал в дверь:
– Товарищ Сержант джан, ты мне ручки-дрючки верни, я же не буду здесь без дела просиживать. Ведь я писатель – сам, небось, знаешь…
Это был крупный тактический промах. И даже абсолютный стратегический просчет. Так как чего-чего, а слова «грох», то есть писатель, армяне терпеть не могут. Они даже так незлобиво ругаются: «Грох кез тани», что переводится как «Писатель тебя забери»: почти как чёрт тебя побери. А хорошего писателя именуют Варпетом, Мастером, чтобы не смешивать его с кляузной сволочью, что кичится способностью писать по любому поводу. И уходит эта всенародная личная неприязнь в далекие-далекие времена классического армянского дохристианства, которое почему-то именуют язычеством и даже многобожием. Хотя опять был один Бог-отец Арамазд, Бог-сын Ваагн, великий космический дух и всевозможные профильные святые. А в данном случае – ответственный не только за письменность, но и за финальную телепортацию душ и окончательное протоколирование их приема-сдачи Грох, или Гир, Тир, Дпир, что переводится почти одинаково: Писатель, Грамотей, Писец. Словом, у армян с писателями довольно старые счеты, не стертые даже государственным христианством длиной в тысячу семьсот с хвостиком лет. А Грикор Нарекаци, Уильям Сароян, Ваан Терян, Аветик Исаакян, Дереник Демирчян, Акоп Паронян, Шант, Егише Чаренц, Паруйр Севак, Ованнес Шираз и даже Сильва Капутикян, хоть и женщина, и другие самые любимые – они философы, романисты, сатирики, драматурги, поэты – словом, мастера. Причем тут писатель, «грох»? А тут, понимаешь, этот кривоносый – с локоном через глобус – туда же…
– Ах ты писатель, да? – взорвался неискушенный в романистике, но познавший все тонкости поведения предварительно заключенных Колик. – Ах ты, собак-писатель-сукин-сын, кляузная твоя душа! Небось, на всех соседей заявления пишешь, писателев собачий сын! Ты постучи еще в дверь, постучи, так я тебя научу грамоте…
При сдаче смены Колик негодовал и делился возмущением с заступившим молоденьким дежурным:
– Как испортила их советская власть, так и пошло! Да раньше кто за писательство деньги получал, за границу ездил? Ованес Туманян – он что, «Ануш» за деньги писал? Дворянин был самый настоящий, богач, сам людям помогал, да еще и поэмами просвещал… Вон, «Кот и Пёс» для детей написал… А Нарекаци? Здесь у нас еще до тебя один грамотный мужик несколько дней посидел – потом посадили за растрату в его институте – так он рассказывал, что Нарекаци весь десятый век просидел в келье на воде и хлебе, а написал такие стихи и поэмы, что с него и началась поэзия всей Европы и вообще средневековый этот, как его… Хренисанц[126]! Было что сказать своему народу – писали, не было – трудились по-настоящему: города строили, дороги прокладывали, виноградники устраивали, больных лечили, детей грамоте учили, даже азбуки для других народов создавали… А тут – посмотри, – он выставил курикяновскую шариковую. – Паркер[127]! Да ему мешки на базаре таскать, вместо того чтобы людям кровь портить. Ты на него посмотри, на его ручки-дрючки посмотри, собак-писатель-сукин-сын…
Чиновник-романист час-полтора потерпел, жадно съел оставленные Мишиком оба ломтя хлеба, потом опять заскребся в дверь и стал тоскливо требовать аудиенции с Дядей Вовой.
А что – Дядя Вова? Он уже успел перелопатить кучу дел возглавляемого им райотдела полиции центра Еревана, попринимать посетителей, съездить на совещание в министерство, свериться с настольным календарем и, довольный результатами трудового дня, с чистой совестью вернуться домой. Там заботливая женушка уже творчески накрыла стол, на котором в том числе дымился как раз-таки ароматный борщ с озерком девственной сметаны по центру. Вот такая синхронизация меню предварительно заключенных и невольно заключающих произошла в этот бурный и жаркий ереванский день. И как раз в момент полусонного просмотра ночного выпуска телевизионных новостей полковнику Карапетяну, а в миру Дяде Вове позвонил дежурный райотдела и сообщил очередную новость: заключенный КПЗ Таркулян попытался повеситься на собственной рубашке!
– Ах ду грох шун шан ворди[128], – совсем как Колик обомлел Дядя Вова и кинулся в райотдел, стандартно костеря самодеятельного писателя и одновременно молясь за его непопадание в окончательный список основателя литературной отрасли – бога-отправителя на тот свет. А уж оттуда позвонил Шварцу.
– Ну-ка, позвоню я в мэрию, потолкую с впечатлительным романистом, – подумал Шварц и набрал номер.
Экскурсии в КПЗ как обязательная составляющая профпригодности госслужащих
20 декабря, полдень
Сказать, что Сеньор Анджелло обрадовался звонку начальника угрозыска, было бы неверно: он струсил с первой же минуты. Но Шварц знал чиновничьи души не менее криминальных и по-простецки пригласил того посидеть в кафе неподалеку, «проконсультироваться», как он подчеркнул.
– Ага, вот я тебе устрою целых десять Ко-ликов, пока свой подвал приватизируешь или надстройку мансарды оформишь, – завредничал авансом чиновник-романист и судорожно сглотнул горькую слюну от нахлынувших воспоминаний о борще КПЗ.
Но планирование наедине с собой – штука ненадежная. Пока прополз первый час до встречи с Шварцем, Сеньор Анджелло всё больше и больше убеждался: консультация – это уловка, и полиция собирается устроить засаду в кафе. Чтобы взять с поличным. «Поличное» лежало в сейфе, и следовало срочно от него избавляться.
Анджелло запер кабинет, осмотрел его содержимое с точки зрения угрозыска, сжег в пепельнице мелкие ошметки пары-тройки истерично разодранных документов, открыл для проветривания окно и, дрожа от декабрьского холода и нехороших предчувствий, рассовал деньги под мягкой майкой голубого цвета. Потом связался по прямому с шефом и отпросился, сославшись на тяжелую мигрень. Мигрень была традиционной и наилучшей отмазкой Таркуляна: ну кто со здоровой башкой полезет в писатели?
Не доверившись личному водителю («небось, уже обработан ментами!»), Анджелло вышел со стороны хоздвора и сел в маршрутку. Доехал до дома тестя, сразу зашел в ванную комнату, переложил деньги из подмышек в портфель, запер на ключик и отдал кейс удивленным родственникам: «подержите рукопись… обещал издателю, но спешу… очень ценный роман, сенсация века!..» Позвонил жене с мобильника её племянника, сделал кое-какие распоряжения, сел в маршрутку и вернулся на работу с черного хода. Отдышался, поправил перед зеркалом зачес и пошел на встречу с Шварцем.
Но Шварца интересовал исключительно дом номер шесть по проспекту Баграмяна.
– Ну слава Богу, пронесло: это было еще при предшественнике! – мысленно обрадовался летописец, заказал чайничек дорогого копченого чая для себя, кофе для Шварца и полдюжины пирожных: – Не успел позавтракать, работы много, извините, господин майор, угощайтесь!
– А вегетарианцы едят пирожные с кремом? – серьезно спросил Шварц.
– Да я уже не придерживаюсь вегетарианства, – смешался Сеньор Анджелло, перед глазами которого в очередной раз всплыл тюремный борщ, – да вы угощайтесь, угощайтесь…
Суетливость Таркуляна была понятна Шварцу. Еще более понятно было определенное заискивание: часы, проведенные в камере под надзором грозного Колика, навсегда въелись в подкорку впечатлительного романиста, вызывая органический ужас от мыслей о повторном эксперименте. Так что слово за слово, и Анджелло, с его пионерской готовностью сотрудничать, рассказал, как попытка Алтунянов построить «объект» как раз на газоне между зданиями Медицинского института и теологического факультета Университета вызвала бурю страстей среди преподавателей обоих вузов. Поскольку арендатором участка земли был в прошлом начальник канцелярии мэрии, а ныне Почетный консул Таиланда в Армении Алтунян, он походил по властным коридорам и, задействовав всю мощь повязанного одолжением в сто тысяч баксов вице-мэра, осуществил простой, как в коммуналке, обмен небольшого участка между вузами на гораздо больший по адресу Баграмяна – там, где профессурой вроде не пахло.
«Ну да, не учуял запах женщин», – мысленно улыбнулся Шварц и спросил:
– Вы сегодняшнюю статью читали?
– Читал, – неприязненно поморщился Таркулян.
– Что, факты не соответствуют?
– Соответствовать-то частично соответствуют, господин майор, но не люблю я журналистов…
– Так вы же вроде из одной гильдии, – усмехнулся Шварц.
– Ну что вы, – обиделся Сеньор Анджелло, – мы, писатели, творим нетленное, а журналисты расхватывают жизнь на факты и сенсации. Они просто не в состоянии осмысливать её во всей выпуклой объемности. Вот если уж эта журналисточка была так здорово в курсе, то как же не нарыла или умолчала, что строилось здание за счет, – тут Таркулян перешел на шепот, – покойного Паравяна, нашего Почетного Консула в Таиланде? У консульства этой страны какая здесь работа? Никакая. Так что он собирался отвести под его деятельность только часть первого этажа, а остальное занять архивом и исследовательским центром по изучению документов известных событий пятнадцатого года…
– Вы имеете в виду целенаправленное массовое истребление армян в Турции? – жестко спросил Шварц и подумал: – Ну как же этот маленький человечек с локоном через лысину старается походить на иных высоких хозяев, избегающих называть вещи своими именами…
– Ну да, – согласно закивал Сеньор Анджелло и заторопился исправить оплошность:
– Саак Алтунян – таиландский консул здесь, он же мой предшественник в мэрии, – он, говорят, один проект внутреннего устройства здания представил на согласование Паравяну, а сам строил по другому проекту, с номерами для гостиницы. А какие сейчас гостиницы? Известное дело. Да. А еще он столько раз увеличивал сметную стоимость под землеустройство и фундамент, вытягивая деньги из Паравяна, что тот не на шутку разволновался – сам-то опытный строитель, – что участок на ползунах или воде. А здесь кроме камней что может быть? Письмо даже прислал с официальным запросом. Саак тогда ходил ко мне в мэрию ни жив ни мертв. К шефу заходил, тот так орал, что в приемной компьютеры мигали…
«Да уж, – думал Шварц, возвращаясь со встречи с Таркуляном, – всего-то несколько часов, проведенных в КПЗ в прошлом – и какая прорва информации, которую фиг бы этот сеньор изложил при другом раскладе. Да уж, неплохо бы всех чинуш хоть по разику отправлять туда на экскурсии. Молодец Дядя Вова!»
Вверх в карьере, ведущей вниз
21 декабря, утро
Информатор был предупрежден о том, что любая мелочь, каждая нестандартная ситуация крайне важны, и он вышел на связь с Шварцем.
– Уборщица у нас пропала, третий день на работу не выходит. Сестра-хозяйка звонила, домой заходила – никого!
– Давно работает? Как звать? Где живет? – взялся Шварц за авторучку, кляня цейтнот и свое перманентное пребывание в нём.
– Джемма Асрян, работает около двух лет. Живет в Аванском массиве.
Они потолковали еще, и Шварц поехал в отдел кадров клиники, предчувствуя, что «Соседи» уже там. Они как раз выходили, и он прочитал на их лицах принадлежность к Конторе точно так же, как и они – его полицейский чин.
В сводках пропавших без вести уборщица не значилась, так как родные не заявляли, да их у неё в Ереване и не было. За последние дни было зарегистрировано два случая самоубийств неопознанных лиц женского пола, и следовало их проверить.
Рельеф Армении диктует и специфику самоубийств. Как правило, здесь не лезут в петлю, не травятся, не стреляются в висок, антисанитарно разбрызгивая мозги по стенам. Здесь просто бросаются с мостов, соединяющих стороны глубоких каньонов. Чемпионом среди них поначалу значился такой вот трехарочный красавец над глубоким Разданским ущельем в Ереване. Он был отстроен в сороковые годы по армянскому проекту, но пленными немцами и назван был мостом Победы над ними. Через пару десятилетий после того как немцев этапировали на родину и аккуратно сдали-приняли во Франкфурте-на-Одере, планку первенства перехватил невезучий Киевский мост, связывающий центр Еревана с северо-западными микрорайонами.
Строили его в пятидесятых силами уже своих заключенных, гнездившихся в бараках мужской колонии как раз неподалеку от стройки. А недостроенный мост возьми и рухни! И единственными пострадавшими стали срочно осужденные за саботаж инженеры и прорабы. Когда мост рухнул, то в момент всеобщей паники преданные своим семьям заключенные разбежались по домам, но с разрешения начальства. Чтобы родные воочию убедились, что с ними ничего не приключилось, и не запаниковали бы. А после зэки дисциплинированно потянулись обратно, на место отбывания наказания – от проклятой власти разве спрячешься? Когда мост всё же отстроили и торжественно запустили, окрестив Киевским в честь командовавшего Советами выходца с Украины, конструкцию облюбовали самоубийцы столицы и близлежащих районов. И с этим не смогли справиться ни советская власть при любых секретарях, ни самостоятельное управление Третьей республики.
Так вот об обнаруженных поначалу неопознанных трупах. Были они найдены в разных местах, но оба были женского пола. Один принадлежал девушке лет семнадцати-двадцати, другой – женщине сорока-сорока пяти лет от роду. У молодой в качестве причины смерти судмедэксперты установили падение с высоты Киевского моста, лицо было обезображено до неузнаваемости. У сорокалетней был установлен инфаркт миокарда, нередкий при падении с большой высоты, а в данном случае – в глубокое Аштаракское ущелье. Отпечатки обеих в анналах угрозыска не значились. Два дня назад сотрудники госавтоинспекции приметили брошенные на трассе голубые жигули, на сиденье обнаружили дамский берет, а в бардачке – свежую телеграмму: «Дорогая наша сестра зпт Армо умер вчера тчк Скорбим вместе тобой тчк Семья Затыкянов». Машина принадлежала Джемме Асрян, телеграмма была адресована ей же, труп и берет были опознаны как Джем-мины, и её самоубийство приобретало логические черты. Точнее, могло бы приобрести, если бы Акопян не предупредил о возможных заморочках в «Арменикуме».
Так что пришлось Шварцу после разговоров с коллегами из райотдела по месту жительства Джеммы, чтения справок автоинспекции и выяснения обстоятельств отправки телеграммы из ереванского почтового отделения садиться за руль и ехать в район, откуда была родом Джемма.
Можно сказать, что поездка была плодотворной. Начальник префектуры Давтян был старым знакомым по университету и нормальным парнем.
– Что делается, а? Что творят, паразиты, а?
– разводил он руками, – Два трупа самоубийц, и оба мои! Молоденькую еле опознали, отца и братьев потом отливали водой.
– А Джемму кто опознавал? – спросил Шварц, затянувшись сигаретой по самые печенки от вида фотографий на местах падения обеих.
– Дочки. Тоже убиваются, бедные, что мать не уберегли, – ответил Давтян, подставляя пепельницу.
За дверью заскреблись.
– Ари![129] – рыкнул Давтян, и в кабинет засеменила молоденькая секретарша с подносом, на котором красовалась витиеватая композиция из сухофруктов и кофейник с чашечками.
– Ты кофе варила или хаш? Что так долго? – грозно рыкнул Давтян, и Шварц прикинул, какого рода взаимоотношения могут быть подоплекой такой непримиримой строгости.
Секретарша смутилась, извинилась, вышла, и Давтян подобрел:
– Племянница моя, на юридический хотела поступить, недобрала. Пусть пока здесь стаж набирает и осваивается. Я её в обиду, конечно, никому не дам, но пусть знает прозу милицейской жизни.
– Молодец, – засмеялся Шварц, принимаясь за кофе, – а то я думаю, для любовницы уж очень молоденькая.
– Вай, да ты что? – укоризненно мотнул головой Давтян, – Отцом-матерью клянусь, это и вправду племянница, младшая дочка старшей сестры. И потом, здесь разве любовницу заведешь? Тут ведь все как на ладони просматриваются. За этим делом приходится в Ереван ездить, брат…
– Ну да, – согласно кивнул Шварц, – а она – ну второй труп – она чем в вашем районе занималась?
– Была мелкооптовой торговкой, ездила в Турцию. Здесь о ней хорошо говорят. Муж молодым погиб на стройке, она двух дочек одна вырастила, честь по чести. Замуж выдала за хороших парней, приданое дала и перебралась в Ереван. Квартиру купила. А потом как бывает? Предел компетентности переступила. Влезла под непомерный банковский кредит в долларах, а доллар возьми и подорожай. Да и товар осел в рознице. Словом, обанкротилась она там в Ереване. И все деньги потеряла, и квартиру. У нас же не банкиры, а гнусные ростовщики, поблажек неблатным не дают. Дочки говорят, звали её к себе, но ей в Ереване старая знакомая помогла. В свою пустующую квартиру впустила без денег и на работу устроила в больницу.
– В Ереване она жила в свободной квартире Ано Мардукян, хозяйки кафе «Каскад» – ты знаешь такую? Она вроде тоже из ваших краев.
– Да кто ж её не знает, оторву? – обрадовался Давтян, – Экземплярец, да? Вчерашняя деревенская блядь, а выглядит – краса Парижа! Поджарая, круглый год загорелая, круглый год на носу фирменные солнечные очки. Хотя глазищи красивые, даже жалко скрывать. И она – ты замечал, Шварц? – поправляет очки то и дело большим и указательным так, словно устала автореферат писать к докторской. Экземплярец! А вроде – всего-навсего хозяйка крошечного кафе…
– Это тебе кажется, что только кафе, – улыбнулся Шварц, – У неё – комплексное обслуживание любого, кто посмел ступить на бренную землю Еревана. Под вывеской кафе у неё и турбюро, и прачечная, и риелторская контора, и Бог знает, что. Иностранцев она крепко держит в руках. И квартиры им нанимает, и уборщиц для этого держит, и кормит иностранцев, и туры им организует. Я удивляюсь её энергии.
– Слушай, я про неё справки наводил года три назад, когда без вести пропал парень, с которым она из соседней деревни удрала в девятом классе. Была дешёвкой похуже тех, что около ереванского цирка дежурят. Около года сидела в абовянской женской колонии. Сдохнешь со смеху, но там-то, в тюрьме, она и выучила английский! Помнишь, по делу дашнаков Ануш Айказян проходила?
– Бог ты мой, – похолодел Шварц, – я же с детства знал Анушик! Приходил к ней в тюрьму, мол, ничего не нужно? А она – «нет, спасибо, Армен джан, все в порядке. Скоро нашу партию реабилитируют. Столетнюю партию никому не дано запросто уничтожить. Если можешь, бумагой и карандашами помоги: я здесь девочек английскому обучаю». Я коробку писчих принадлежностей покойному Погосяну послал, он все смеялся: буду доклад делать в министерстве про опыт Английской палаты.
– Слушай, Шварц, а ты в курсе, что Погосян с сынком притон, оказывается, имели у себя в районе?
– Э, – махнул рукой Шварц, – нехорошо за покойником говорить, но это тот случай, когда собаке – собачья смерть. – Да нет, наш дворовый пес – ангел по сравнению с этим мерзавцем…
Давтян вытаращил большой палец на руке в знак абсолютного попадания Шварца.
– Бог ты мой, так эта Ано – из числа сокамерниц бедной Анушик? – вернулся к теме потрясенный Шварц. – И что – тот английский её так здорово раскрутил?
– Скажешь, тоже. Потом она за границу стала ездить торговать. Потом иностранца охомутала – то ли «Спасите детей», то ли «Спасите зверей», то ли «Спасите врачей». Потом вроде бы прибрала к рукам западного армянина и на его деньги кафе открыла. Английский с ними обоими усовершенствовала, французский выучила и теперь шпарит с иностранцами, как выпускница иняза.
– А куда она ездила торговать? – спросил Шварц, даже забыв о самоходом курящейся в пепельнице сигарете.
– В Турцию, а куда еще ездят? – безмятежно откликнулся Давтян.
– То есть они с Джеммой там познакомились?
– Ну да. Это же целая гильдия шоп-туристок. Одни, как Ано, вверх идут, другие, как Джемма, – вниз…
– Да уж ниже не бывает, – откликнулся Шварц и вздрогнул от всплывшей в памяти фотографии тела Джеммы на дне ущелья.
– Слушай, Шварц, что-то часто мы сегодня поминаем Ано: не к добру это, – усмехнулся Давтян.
– Не к её добру. – уточнил Шварц и с сожалением посмотрел на потухшую наконец сигарету.
Часть 10 Каждый армянин – это ты
Шварцу захотелось и того, и другого, и третьего
22 декабря, под утро
Снег повалил, когда Шварц был уже в дороге. И повалил с таким рвением, что на обратном пути, когда метель уже улеглась, все окрестные горы сияли белизной невинно и правдиво, как будто так оно и было много-много дней подряд. В зимнем небе звезды сияли ярко и в количестве, приличествующем хорошему планетарию. Горные деревни выгодно высвечивались ими, как огнями рампы. Уютно вился дым из печных труб. А дворовые собаки амбициозно озвучивали свои права на контролируемую собственность.
Спать хотелось ужасно. Так и тянуло напроситься к кому-нибудь в гости, поесть из глубокой тарелки крепкого, как брикетное мороженое, мацуна, отломить от листа хрустящий лаваш и завернуть в него кусочек овечьего сыра. И завалиться спать на тугие трехэтажные матрасы из шерсти, которые в деревнях хозяева держат на нетронутых кроватях специально для гостей. Но надо было спешить, так как с утра нужно было много чего успеть. Потому-то он и не остался ночевать у гостеприимного Давтяна. Шварц запихнул сигарету под левый резец и гуднул, спугнув замершего на обочине зайчика.
В Ереване была просто слякоть, заляпавшая крылья и капот, и плюсовая температура. Шварц выехал на проспект Баграмяна, свернул, подъехал к арке и не глуша мотора, еще раз походил под ней взад-вперед в ближнем свете фар. Прошелся по крепко спящему двору, заглядывая в окна. Вышел, заглянул в темный парк, походил вокруг, вернулся и сел за руль. Потом взял фонарь, снова вышел, подошел к лусиняновскому подвалу и направил фонарь в скрытый резиновым ковриком проем. Раздалось глухое ворчание, и на него уставились два светящихся глаза. Ну да, так оно и было!
Шварц добрался до дому только под утро, и такой обессиленный, что лениво постоял под душем, косясь на мочалку: мылить или не мылить? Потом решительно взялся за неё и довел дело до победного конца. Он насмотрелся, наслушался и напредполагал такого, что хоть от физической грязи надо было отмыться! Дома было тихо, тепло («Ага, разбогатела Маргаритка, транжирит на отопление!») и вкусно пахло котлетами.
Марго приоткрыла занавеску ванны:
– Тебе обед или кофе?
– И то, и другое, и третье! – Шварц сграбастал Маргаритку и поставил рядом с собой.
– С ума сошел? Взрослые парни за стенкой спят!
– шепотом возмутилась для порядка Марго.
– Вот и не шуми, – прошептал Шварц, деловито расстегивая на ней мокрый халатик.
Погос-Петрос
22 декабря, утро
– Па-а-ап? – в голос удивились проснувшиеся близнецы, застав Шварца завтракающим.
– Я что – не человек? – благодушно усмехнулся Шварц, – или ваш компьютерный робот? Вы-то почему дома?
– У нас же с понедельника каникулы. В школе – бр-р-р, холодрыга… А мы знаешь, в интернете кое-что нашли интересное, – пробасил Погос, и Петрос радостно закивал головой, подтверждая сказанное братом.
– Небось порносайт? – шутливо насупился Шварц, – смотри-и-ите у меня…
– Статью мы нашли – вот что! – обиделся Петрос, – статью о смерти армянина в Таиланде!
– Ну так это вы могли и в ереванских газетах прочесть, если бы газеты читали, – продолжал подначивать Шварц, – некролог Паравяна прочитали, что ли?
Близнецы переглянулись: неужели все их ночное бдение с переводом англоязычной статьи было напрасным?
– Да нет, пап, – забасил Погос, – это полемическая статья о возможных причинах его смерти. Там высказывается предположение, что ему паучий яд зафигачили. – И Шварц уважительно посмотрел на сыновей:
– Ну-ка, излагайте.
– Ну-ка, умывайтесь-одевайтесь! Это что за вид? Что за сленг? – возмутилась Марго, выплыв из кухни с горой пышущих жаром оладий.
– Кумекают мальчишки твои, – улыбнулся Шварц после обстоятельного разговора с близнецами. И если бы это было возможно, то сияющая с утра Марго заискрила бы всеми цветами радуги счастья, – вот если бы ты мне и пару девочек родила, то могла бы и посидеть со мной, пока бы они на кухне управились.
– Посидеть-послушать о твоих расследованиях? – Марго намеренно пропустила мимо ушей вариант пополнения семьи, но уселась напротив.
– Ну что я тебе могу рассказать такое, Маргушкин, чтобы ты еще не знала? – улыбнулся Шварц, – люблю я тебя, но это ясно безо всяких расследований.
Город только кажется большим
22 декабря, полдень
Маленькая была кожевенно-сапожная мастерская, метров шесть-семь, без окон. Под низеньким потолком прямо на вбитых в стену гвоздях висели деревянные вешалки с аккуратно застегнутыми ношеными куртками, пальто и плащами из кожи. Под ними на приступочке пола выстроились дамские сапожки всех моделей и цветов – на переделку голенища. Под стеной за антикварным «Зингером» сидел рыжий здоровяк, напевал что-то, качал педаль и вертел под прыгающей иглой рукав плаща. Весело уставился на Вардана:
– Чем помочь, ахпер[130]?
– Ты – Ашот Карапетян?
– Ну да!
– У меня к тебе пара вопросов, я из угрозыска Центра.
Мастеровой хлопнул по колену пухлой пятернёй: – Ну армяне! Ну что мы за народ? Всего и делов-то – десять лет назад год посидел в тюрьме! Так с тех пор кто кому где морду набьет или машиной переедет, сразу следователи к Ашоту: а ты не в курсе? Не в курсе я, ахпер! – раздосадованно шмякнул он себя по колену еще раз. – Честно на кусок хлеба зарабатываю, жену-детей содержу, понимаешь? Нет – не народ мы. Или Советы испортили, или всегда такие были… Э-э-э, наверное, за то, что мы такие чузохи,[131] турки и истребили нас, на себя джарму[132] взяли… Вот, сижу здесь целый день, работаю, понимаешь? А вы тут ходите…
Вардан обиделся:
– Что значит – «ходите»? Это моя работа: ты кожу переделываешь, дефекты из неё устраняешь, а мы их устраняем из общества. Без нас, думаешь, сидел бы здесь спокойно, пока жена и дети дома?
Ашот махнул рукой:
– Э-э-э, анох кани[133] – что с вами, что без вас… Хотя ты прав: каждый свой честный хлеб по-своему зарабатывает. Извини, что вспылил. Кофе поставлю?
– Ставь, – согласился Вардан и наблюдая, как Ашот дострачивает пройму, критически осматривает шов и аккуратно вешает плащ на плечики, спросил:
– Вы с Андраником Сакунцем сокамерниками были. Помнишь такого?
– Помню.
– Что скажешь о нем?
– Тха эр, эли, иря амар[134] – откликнулся Ашот, раскладывая кофе по чашечкам с водой и ставя их на раскаленную электроплитку.
– А по-твоему?
– Вор он был, этот Андо. Раньше, при Советах, все воровали: от завскладом и буфетчика до рабочего и директора: кто продукты, кто детали, кто телевизоры, кто деньги. У государства как не воровать, если оно же – главный вор? Взяло и украло земли твоего народа и другим продало, понимаешь? Даже историческую память украло, а? Подсократило в учебниках на несколько тысяч лет, понимаешь? – ссорился Ашот уже с ушедшей властью и помешивал поднимающуюся пенку.
– А что Андраник?
– Андо у людей крал. Я таких не уважаю, – откликнулся Ашот и поплевав на пальцы, осторожно взялся за горячие ручки кофейных чашечек.
– Но ведь вы вроде дружили в тюрьме? – настаивал Вардан.
– Э-э-э, ахпер джан, что значит «дружили»? – пробубнил Ашот, прикуривая от плитки. – Земляки мы всего-то, из Лори, да и то у меня родители оттуда, а я в Ереване родился, здесь в школу пошел, отсюда в армию ушел, здесь в Нархозе[135] учился. Летом только ездил к деду с бабушкой. Ни до, ни после тюрьмы я его не встречал и знать не знал. А там, в тюрьме, в маленькой камере, от безделья чем занимаются? Байки рассказывают из своей и чужой жизни, всю свою родословную до седьмого колена излагают, понимаешь? Вот у нас с ним и были общие воспоминания: «а в Ахпатском монастыре был?», «а в степанаванском пионерлагере отдыхал?» А так – что у нас общего? Я-то за драку сел. Сукин сын один не так посмотрел на мою девушку, я и вскипел. Слово за слово – глаза, говорит, для того и дадены, чтобы глядеть на что хочешь, – и покалечил я его немножко. А у него мама нервная такая была, и как раз – врач в судмедэкспертизе!
– Земляки мы всего-то, из Лори, да и то у меня родители оттуда, а я в Ереване родился, здесь в школу пошел, отсюда в армию ушел, здесь в Нархозе учился. Летом только ездил к деду с бабушкой. Ни до, ни после тюрьмы я его не встречал и знать не знал. А там, в тюрьме, в маленькой камере, от безделья чем занимаются? Байки рассказывают из своей и чужой жизни, всю свою родословную до седьмого колена излагают, понимаешь? Вот у нас с ним и были общие воспоминания: «а в Ахпатском монастыре был?», «а в степанаванском пионерлагере отдыхал?» А так – что у нас общего? Я-то за драку сел. Сукин сын один не так посмотрел на мою девушку, я и вскипел. Слово за слово – глаза, говорит, для того и дадены, чтобы глядеть на что хочешь, – и покалечил я его немножко. А у него мама нервная такая была, и как раз – врач в судмедэкспертизе!
– Девушка-то дождалась? – рассмеялся Вардан.
– Вон, двоих рыжих сыновей растит, а еще девочка у нас в прошлом году родилась: моя копировка, но черненькая, в маму, – блаженно улыбнулся Ашот.
– Храни Бог, – откликнулся, как подобает, Вардан.
– Храни Бог и твоих детей, кннич[136] джан, и всех малышей на свете, – посерьезнел Ашот, – а зачем живем-то?
Вардан решил скрыть постыдный в глазах мастерового факт своей неженатости и вообще подсократить разговор на добрых полчаса, обогнув тему риторического вопроса. Так что перешел к делу:
– И что рассказывал о себе Сакунц?
– Ну, я и говорю: таких, как я, в тюрьме уважают, а воров презирают. Воровские законы только называются воровскими, на деле это древние законы справедливости, которые были повержены вместе с нашими царями, понимаешь, кннич джан? Справедливость – она родилась с Адамом, еще во-о-он с каких времен… Постарше ваших гражданских и уголовных кодексов. А сейчас вы что называете ею, когда людей судите? К примеру, когда позволяете сыну отсудить имущество у старых родителей? Или голубым сукиным детям позволяете развернуться вовсю?
– Слушай, Ашот, я законов не пишу – я их исполняю. Ты вон, плащ шьешь из готовой кожи, не выделываешь ее. Так и я. Ты мне лучше помоги с подлецом-Сакунцем, чем выгораживать воров-ский мир, – возмутился Вардан и отставил чашку.
– Падальщик твой Сакунц. Падальщик, который у женщин на рынках сумочки воровал, пока они с продавцами торговались. У наших матерей и сестер воровал, понимаешь? Вот и помыкали в камере им все: во-первых, потому что, деревенщина, приехал в город городских же и обижать. И кого – пожилых женщин! Во-вторых, он в момент откровенности рассказал в камере такое, что его убить мало! – хлопнул себя по колену Ашот.
– И что это он рассказал? – спросил Вардан, подобравшись, наконец, к теме.
– Ребенка их общего, говорит, его подружка в роддоме отдала другим людям. Как же, говорим, отдала? Ты же отец! Пошел бы, поскандалил, врачам пригрозил! Полицию, на худой конец, привлёк бы! А он – нет, мол, нельзя мне было высовываться, да и деньги были нужны. Мол, детей варганить – дело нехитрое. А тогда не ко времени это было. – Ашот в сердцах опять припечатал пятерню к колену. – Ты такое бесстыдство видал? – Да разве такое можно творить, ай кннич джан, ай ахпер джан? Чтобы армянин своего ребенка, мальчика, в другие руки отдал – это ж каким скотом должен быть? В старину бывало, еще при моих родителях, если у брата нет детей, так другой брат с женой специально лишнего ребенка рожали, им отдавали, чтобы родная линия не обрубилась. Это другое, понимаешь? А тут? За деньги, представляешь? Да и не армянин этот Андо вовсе: голова такая длинная, как дыня, затылок плоский: настоящий турок, турецкий чобан[137]. Мы так его и звали: Чобан-Андо.
– Я думаю, турки к своим детям ничуть не менее трепетно относятся, – вступился Вардан, – при чем тут: армянин, турок, немец… Не человек он – другое дело. А подружка его, её как звали?
– Ано. Он нам все уши прожужжал, какая она красавица. Совсем идиот он, понимаешь? В тюрьме разве можно подружку рекламировать? Да еще с такой репутацией? Хотя это его в тюрьме и спасло по большому счету…
– Ну да? – равнодушно откликнулся Вардан, закидывая ногу на ногу.
– Ну ты знаешь, кннич джан, что информация из тюрьмы распространяется на волю быстрее передач – оттуда. Могли тюремные авторитеты её наказать очень даже оперативно. Но решили иначе. Пусть, решили, один гад накажет другого гада. И стали вести с этим подонком Андо воспитательную работу. Так что к моменту выхода – а просидел он больше пяти лет – был этот парень готовый зомби, как американец в Ираке. Главная была жизненная цель – найти и перевоспитать. Или строго наказать.
– А она к нему не приходила на свидания? Передачи не носила?
– Да нет, откуда? От ребенка отказаться смогла – и что, такая женщина передачи будет носить? Э, кннич джан, старики говорили: «Воскин эжан чи ли, бозиц эль кник чи ли»[138]…
Вардан такое слышал впервые и смеялся долго и заливисто. Потом, сдерживая волны подступающего хохота – неудобно всё-таки, следователь угрозыска, – насупился и спросил:
– И что? Удалось наказать ее?
– Не знаю… – пожал плечами и губами Ашот, – исчез он с концами… То ли в другую страну переехал – тогда ведь Шенгена не было еще везде по Европе, легче было. То ли попался снова на воровстве и кто-то сердитый его прикончил втихомолочку. В девяноста восьмом он вышел, при Левоне[139] дело было, понимаешь? Сколько народу тогда бесследно исчезло…
– Ты-то откуда знаешь о дате выхода? – справился Вардан.
– Ну как откуда? Этот город только кажется большим, а так пойдешь куда на крестины или поминки – а там кто-нибудь из надзирателей бывших или отсидевших ребят. Или их друзей и родственников. Или сидишь здесь, строчишь – и опять кто-нибудь знакомый с тех времен зайдет куртку кожаную переделать. Тебе вот ничего не надо подкоротить-перелицевать? Я знакомым бесплатно делаю…
– Да нет, спасибо, – засмеялся Вардан, – ты эдак большую семью содержать не сможешь, зря вкалывая, Ашот.
– Э-э-э, ахпер джан, деньги что? Грязь на руках: очень быстро смываются. А человечность – она остается…
– И то верно. Так кто же видел Сакунца последним, по-твоему?
– Кто видел? Ну не знаю, был ли он последним вообще, но бывший врач наш тюремный как-то сюда заходил, дубленку жены принес. Рассказывал, смеясь, что в один и тот же день успел он Чобану подписать и обходной для выхода из колонии, и встретить его, уже свободного, в сквере. А дата была знаменательная для доктора, день рождения сына, шестого февраля… И у моих отца и сына старшего именины в этот день, всегда справляем: Погосы они. Я потому запомнил. Так вот привезли они с женой малышей в детское кафе на Каскаде. А там на скамеечке Чобан сидит, как порядочный. Доктор подумал, что опять тот за старое взялся, потому что смешался он, увидев доктора, понимаешь?
Вардан взялся за мобильник:
– Товарищ майор, разговор есть, вас где найти? Так я рядом, через пять минут буду…
– Спасибо тебе за кофе, Ашот. Если что узнаешь о Сакунце – звони. И вообще, если понадоблюсь – звони. Ты, я вижу, хороший парень, – и протянул руку рыжему мастеровому.
Где зарыта голова собаки
23 декабря
Кафе было так себе, не прогорело вчера – в обозримом будущем обязательно закроется. Это хроническая болезнь ереванского общепита: прогорать, как свечка, на определенных местах всего за пару-тройку лет, если не случится чудо. Чудо в Ереване случается: то в высоком кресле оказывается парень с шестиклассным образованием, но с дипломом неизвестного науке херсонского вуза, то молоденькую поп-певичку, погибшую от лихого вождения, хоронят в городском пантеоне рядом со светилами мировой науки и отечественной культуры. Бывают и приятные чуда чудные: трёхлетние малыши, знающие назубок карту мира вплоть до райцентров Гватемалы. Или дети постарше, поющие или играющие на дудуке так, что взрослые плачут, как маленькие! Но чтобы случилось чудо спасения прогорающего ресторанного бизнеса – нет, в Ереване такого не бывало.
Конечно, всего через несколько недель после закрытия такого заведения на том же месте откроется другой ресторан или кафе, изменятся кулинарное направление, интерьер и униформа персонала, попервоначалу столики заполнятся оптимистами и авантюристами от гастрономии: а вдруг и правда чудо? И новый шеф-повар даже будет всячески потворствовать их энтузиазму стать здешними завсегдатаями. Но пройдет год, и станет ясно: нет, чудо сюда не придет, а персонал уже уходит. Про такие невезучие местечки говорят: здесь зарыта голова какой-то собаки! И если в русском языке зарытая собака означает открытие и почти «эврика!», то в армянском её же зарытая голова – это тайна, обволакивающая кармическую невезуху заведения.
Вот по такому без пяти минут прогорающему кафе слонялся его хозяин, мысленно подбивая отрицательный баланс года и проклиная свою дурную голову волюнтариста, рискнувшего арен довать в прошлом году это помещение вместо убыточной хинкальной предшественника.
Вардан сел у окна, папку положил на стол и закурил. И пока хозяин прикидывал: налоговик это или новый санитарный инспектор, Вардан вполголоса окликнул:
– Разговор есть, энкер джан[140]…
– Аса, ахпер[141], – тоскливо откликнулся хозяин, и Вардан огорошил:
– Я из угрозыска Центра…
– Мало было своей красоты, а тут еще ветрянкой заболел, – угрюмо усмехнулся хозяин.
– Ты в прошлом году продавал свою «пятерку»?
– Ну?
– «Ну» или продавал?
– Ну, продавал…
– Покупателя помнишь?
– Ну?
– Слушай, ты откудошний? – не вытерпел Вардан: такие буки являются в Армении продуктом экзотическим.
– Так тебе нужен покупатель или моя бабушка? – встречно вскипел хозяин.
– Ладно, – улыбнулся Вардан, – имя покупателя помнишь?
– Имя не помню, а саму помню.
– Ну?
– Ага, – улыбнулся наконец банкрот, – так и ты – из наших кралв!
И разговор наконец пошел:
– Фифочка была крутая. Я еще подумал: зачем такой моя задрипанная «пятерка» сдалась?
– Одна была? – подобрался Вардан.
– Нет, с ней тетка была деревенская – родственница, что ли. Та и подписывала документы. Но торговалась эта, фифочка. Круто торговалась, за каждую копейку. У меня аж мозги вскипели: иди, говорю, во-о-он на тот край базара, кур джан[142], там как раз велосипеды продают по такой цене. Отвернулся, пошел, ну она и помягчела.
– Сможешь описать внешность?
– Да уж проще простого. Ты не смотри, что пустым кафе заведую. Я ж Театральный[143] кончал… Невысокая, но стройная. Волосы красивые, пышные. Близорукая, наверное, потому что все время в очках. Но чтобы купчую прочесть, очки сняла, и глаза оказались красивые, огромные. Но неприятная какая-то…
– Хи ворь[144]?
– Даже не знаю, как определить… Млртвые у неё глаза… Такие бывают или от своего большого горя, или от больших бед, которые они сами приносят людям…
Где кончается криминал и начинается шпионаж
24 декабря
Да уж, кабинет у Акопяна был получше, чем у Шварца. Ремонт посвежее, да и мебель с компьютером новые. Акопян принял, как родного. Одет был безукоризненно, как и в прошлый раз, и Шварц подумал:
– А что в этом плохого? И зачем я так упорно отмахиваюсь от Маргаритки, когда она лезет с подходящим к свежей сорочке галстуком?
– Что, всё-таки попахивает криминал шпионажем? – улыбнулся Акопян.
– Да уж хуже душка не встречал, – пожал плечами Шварц, – абсолютной уверенности еще нет, но необходимо вместе помозговать.
– Вот и помозгуем, – улыбнулся Акопян в предвкушении и повёл рукой в сторону кресла. Сам отошел к селектору, шепнул что-то, вернулся, уселся в кресло напротив, утвердительно кивнул на вопрос в Шварцевых глазах и подвинул ему пепельницу.
– Вот что у нас получается, – начал Шварц. – Пропавшая уборщица «Арменикума» Джемма Асрян совершила самоубийство, прыгнув в Аштаракское ущелье. Труп опознан родными, однако самоубийство немотивированное, и складывается впечатление о срежиссированном убийстве. Зачем – спросите вы?
– Ну да, – улыбнулся Акопян.
– Зачем – и я пока не знаю. Но распечатки входящих и исходящих звонков с мобильного телефона свидетельствуют о частых контактах с Ано Мардукян, хозяйкой кафе «Каскад» – знаете такую?
– Обязательно, – коротко ответил Акопян и откликнулся на стук в дверь, – войдите!
Вошла раскрашенная, как на детских рисунках, юная секретарша, осторожно поставила перед Акопяном и Шварцем кофе в больших чашках, и Шварц прикинул:
– Племянница или более того? Да вряд ли.
– Дочка нашего зама, – тонко улыбнулся Акопян после ухода секретарши, и Шварц пожалел, что не съездил в прошлом году на курсы в Москву, где, говорят, был спецкурс по интегральной психологии, которая вроде здорово усиливает профессиональную проницательность. У Акопяна она – будь здоров! Проходил, что ли?
– Джемма жила на квартире Анаид Мардукян…
– Она же – Ида, – поднял палец Акопян.
– Ну да, а еще Ано, Анаида, но это еще не преступление, – пожал плечами Шварц. – Дальше. Факт проживания Джеммы в её квартире даже оправдывает их контакты. Меня насторожило другое. Во-первых, автомобиль, в котором она подъехала к месту суицида. Оформлен на нее, но фактический покупатель – та же Ано, к тому же Джемму никто из соседей или сотрудников никогда за рулем не видел. В деревню свою приезжала на маршрутке, хотя могла бы похвастать собственным автомобилем, да? А второй факт – крест. Большой крест с самоцветом или стекляшкой в центре, с которым она никогда не расставалась. Так вот его-то на месте события не оказалось. Хотя прибывшие на место полицейские утверждают, что к трупу никто до них не прикасался. – Перед глазами Шварца снова всплыла фотография обезображенного падением трупа, и рука потянулась за новой сигаретой. – Обыск брошенной ею машины тоже не дал результатов. Уж не фотокамера ли?
– Ано допрашивали? – спросил Акопян, вертя по столу салфетку.
– Да нет, я думал, лучше нам с вами сперва всё обмозговать, а уж потом её трогать, – не нравится мне она…
– Вот и правильно, – обрадовался Акопян, – вот и правильно. Зато ты мне нравишься, Шварц, с твоей профессиональной интуицией. Давай, когда закончим эту эпопею, переходи к нам в в Агентство Национальной Безопасности?
«Вот еще! – подумал Шварц, – еще не хватало – перекидываться к «соседям»! А Дядя Вова? А ребята? И чем здесь заниматься? Сидеть за новеньким компьютером и ждать, пока работяги из полиции принесут мне на блюдечке готовые факты?»
– Да ты не мрачней так, Шварц, – засмеялся Акопян, – это так, информация к размышлению. Ну, какой еще интересный бан-ман[145] есть у тебя об этой Ано?
– Весной девяноста второго она бежала от родителей в Ереван вместе с односельчанином Андраником Сакунцем. В январе следующего года родила мальчика. В роддоме оформлен выкидыш, однако отбывавший следственный период в Нубарашене[146] Сакунц рассказал сокамерникам, что мальчик был передан в бездетную семью через сотрудников роддома за тысячу долларов…
– По какой статье сидел? – прищурился Акопян.
– Воровство. Три доказанных эпизода.
– Ну а как же, – вздохнул Акопян, – обычная дорога… Давно сидит?
– В документах колонии зафиксировано, что этот Сакунц вышел условно-досрочно шестого февраля девяноста восьмого, однако в родную деревню не вернулся, на учет не стал. Мы подняли документы неопознанных жмуриков за февраль того же года и наткнулись на фотографии обезображенного грызунами тела, соответствующего ему по росту и телосложению. Остатки одежды схожи с той, что была на нем, когда Сакунц вышел из колонии.
– А где были найдены останки? – Акопян закрутил салфетку с новой силой.
– Да на нубарашенской свалке, – развел ладони Шварц. – Дураки, ну. Тянутся сюда из деревень, думают, чем мы хуже ереванских воротил? Может, и нам подфартит? А кончают в Нубарашене: кто в тюрьме, кто на свалке. А этот балда успел и то и другое.
– Да, Шварц. Крестьянин должен быть богатым, иначе обязательно потянется в город и станет изгоем, – качнул головой Акопян. – Конечно, жизнь в деревне – это неимоверный труд с утра до ночи. Но наш крестьянин от природы двужильный, ему только воду дай для орошения, техникой помоги и налогами не души. Ведь это тоже – вопрос национальной безопасности: вон сколько брошеных пограничных деревень…
– Да и непограничных – достаточно, – угрюмо согласился Шварц. – Собственно, при нынешнем-то раскладе, непограничных попросту нет.
– Правильно говоришь. – прищурился Акопян. – Хорошо, вернемся к Сакунцу. – Причина смерти была установлена?
– Передозировка ЛСД. Лошадиная доза. Хотя ранее в приеме наркотиков не отмечен.
– Кто у вас засвечен по наркотикам?
– Мы с Пятым управлением связались, проконсультировались. Нереально, говорят, чтобы ему такую дозу для приваживания дали. Да и клиент неперспективный, зачем он барыгам? Всех допросили на всякий случай – не знают такого.
– Что же это получается? Приятель Анаид Мардукян Сакунц, отбыв наказание в колонии, на радостях пробует лошадиную дозу ЛСД, умирает от передозировки, но мертвым оказывается не в постели, а на свалке. Поскольку семья не заявляла об исчезновании, а лицо обезображено грызунами, то идентификация трупа не состоялась. Что еще?
– А еще то, что уже к концу дня выхода из Артикской колонии – а ехать оттуда в Ереван на маршрутке часов пять, знаешь, – он был замечен главврачом колонии, который прежде работал в Нубарашене. И замечен на Каскаде, прямо напротив кафе Ано. То есть вышел на свободу – и прямым ходом к своей подружке, которая его ни разу не навестила за годы отсидки. А ехал он, как предполагают бывшие сокамерники в изоляторе и колонии, с решимостью найти и наказать…
– Но сам-то и был наказан, – завершил Акопян за Шварца.
– Ну да!
– Мы за ней наблюдаем, интере-е-есная девица, – усмехнулся Акопян, – есть у тебя еще что-нибудь в связи с ней?
– Тут есть кое-что поинтересней, – Шварц с сожалением уставился в дно кофейной чашки, и Акопян предупредительно шагнул к селектору.
– У нас в производстве дело об убийстве Арама Лусиняна, знали такого?
– Чемпиона-то? Знал, конечно. Уважаемый был человек, несмотря на все слабости, – откликнулся Акопян стандартной характеристикой Арамиса.
– Вот уж не пойму, за что все его уважали, – сердито пожал плечами Шварц, принимая кофе от размалеванной дочки разведначальника – Я его с детства знал. Да, красавчик, любимец женщин. Да, спортивный талант и даже талант художественный. Но безалаберный, непутевый и инфантильный настолько, что зла на него не хватало…
– Ты знаешь, Шварц, я раньше никак не мог понять один важный постулат Нжде: «Каждый армянин – это ты! Живущие ли вне страны или местные, ученые ли или невежественные, нейтральные ли или партийные – это армяне, и твоя холодность по отношению к ним равна каинству», – задумчиво улыбнулся Акопян. – Но пришло время, когда понял: каждый из нас – носитель характеристик всех остальных. И пусть эти черты не проявляются у нас, но они заложены в виде спор, что ли. Просто нам с тобой повезло с просвещенными и благополучными родителями, хорошими школами, дворовым окружением из аналогичных семей…
– Ты бы мою бабушку видел, – улыбнулся Шварц, – в моем случае она всех перевесила…
– И бабушки, и прадедушки, и так до седьмого колена – это духовное богатство каждого. Конечно, духовно богатые предки были у каждого из нас. Иначе ни Сакунц, ни Лусинян, ни наши олигархи и бомжи просто не родились бы на белый свет. Природа такое не позволила бы…
Шварцу такое не приходило в голову, но в принципе было верно и хотелось в это верить. Он задумался, усмехнулся, закурил, а Акопян продолжил:
– Мы с тобой в том или ином виде, в той или иной степени обладаем человеческими свойствами каждого армянина: и чемпиона Лусиняна, и деревенского изгоя Сакунца. И, наоборот, они сами являлись носителями задатков твоих, к примеру, достоинств. Или даже талантов и гениальности Арама Хачатуряна, Вильяма Сарояна или Маштоца. Или героизма Нжде, у которого не было на совести убийства ни одного советского человека и который сам сдался советским войскам, чтобы растолковать Сталину Армянский вопрос.
– Тут он просчитался.
– Да нет, прерванный американской атомной бомбой план Сталина по возвращению наших западных земель наверняка был подсказан им.
Правда, ценой его свободы и жизни…
– Это вдохновляет: сознавать, что в каждом из моих сыновей есть зернышко достоинств Нжде, – отвлекся Шварц.
– Конечно. И задачей семьи, а уж тем более армянского государства является создание условий для этих реализаций, пробуждения лучшего, что генетически заложено в каждом армянине. Но если я могу сожалеть о Сакунце как просто о мальчишке, который пошел не тем путем и бездарно погиб, то Лусинян – другое дело. Он уже подходил к возрасту и уровню духовности, когда начинают иначе мыслить. Понимать истинное… Я лично очень сожалею о нем… Ты знаешь, что он обнаружил сеть вербовки приличных девушек на преподавательскую работу в Турцию и их обмана и насильственного втягивания в порнобизнес? У нас уже была информация, мы начали наблюдение, но он в одиночку и абсолютно бесстрашно повел свое собственное расследование и вывел нас на агента турецкой разведки. Поторопился, конечно, а потому создал условия для «счастливой случайности», позволяющей преступнику смыться…
– Агент – это Гюндуз Хикмет? – вспомнил Шварц рассказ месье Саргиса, и его правая рука потянулась к пачке сигарет, хотя в левой руке дымилась старая, – так я и о нем хотел поговорить…
– Я ж говорю – ты готовый сотрудник контрразведки, – улыбнулся Акопян.
Сэкаhан
25 декабря
Ида видела сон – как вспоминала. На следующий после отцовых сороковин день в рабочий перерыв пришли сотрудницы матери – продавщицы их сельмага. Прочитали молитву, принесли тазик с родниковой водой, умыли ей лицо.
– Пусть они больше не видят горя, – приговаривала подружка матери, омывая ей глаза, и женщины согласно кивали.
– Пусть они впредь слышат только благие вести, – продолжала она, смачивая водой мочки материных ушей, и женская команда откликалась сочувствующими вздохами.
– Пусть они накрывают столы только для радостных событий в семье, – омывала она ладони вдовы, и лихие продавщицы влажнели бойкими глазами от сострадания.
Тазик дали Иде (тогда еще Ано) – слить воду в ручей: передать его текучей воде право унести тяжелую воду вдовьих слез и стенаний в реки и дальше – в моря и океаны. Но до ручья идти было далеко, и Ано быстренько слила содержимое тазика под абрикосовое дерево и поспешила назад – не пропустить ничего из болтовни самых компетентных сплетниц села. Продавщицы пообедали и увели мать с собой на работу. Это называлось «сэкаhан» – вывод из траура, а точнее – право на выход из дома после тяжелой потери. А тряпичный траур в деревнях носили долго – ох как долго. Мать и Ано попервоначалу заставляла, а потом махнула рукой. Деда в тот день дома не было: еще на рассвете он увез свои ульи в горы, в ароматную прохладу альпийских лугов армянской глубинки.
Но во сне дед сидел под своим деревом, когда Ано подбежала к нему со своим тазиком.
– Что ж ты, дура, делаешь? – удивился он, – да где же это видано, чтобы собственные корни своим же горем и питали? Ты зачем дерево портишь, отравительница? – и огрел посохом по заднице.
Жгучая боль пронзила копчик Иды, как от настоящего удара. Она все порывалась прощупать его, но дед крепко держал её за плечи, не давая извернуться.
– А ведь дед никогда и пальцем меня не тронул, – вяло думала, корчась от боли, Ида и удивлялась клочьям тумана, спускавшимся на её плечи. Как ватные снежинки на детских утренниках, хлопья тумана спускались с ветвей абрикосового дерева: все крупней и крупней, пока не окутали деда, Иду и все вокруг.
Однажды в Армении
26 декабря, утро
Странный выдался понедельник. Интригующий. В конвертике за сиденьем в седьмом ряду кинотеатра лежало не обычное письмо с поручениями, а крошечная рождественская открытка. Когда Ида открыла ее, чтобы прочитать поздравление Тети Цецилии, на неё пахнуло чем-то знакомым с детства. Ида поднесла к лицу и принюхалась:
– Что за ароматизатор? – задумалась она, но ничего не вспомнила.
После сеанса спустилась на первый этаж. Села за четвертый слева компьютер, что подальше от кассирш, нашарила конверт и невидящим взглядом уставилась в монитор. Вчера они здорово поддали у неё в ресторане, отмечая Рождество.
Компания была интернациональная, веселая, к ней всё клеился высокий красивый босниец, и она одергивала его только для проформы.
Боснийцу Рождество было, что коту плавки, но повод повеселиться был отменный. Как его звали? Милош. Милош Болич. Крепкий такой, широкоплечий, с прыгающими под рукавами бицепсами и безбашенный. Когда-то она заводилась даже при наличии одного из компонентов, а тут всё сразу!
Но теперь она хозяйка солидного заведения, правая рука зарубежного хозяина, Ида ханум. Так что на людях держится с достоинством. Для любовных дел у нее, конечно, припасена квартирка совсем в другом квартале, но Ида всё реже и реже пользуется ею. Все эти любовные игрища перестали её будоражить. Потому как деньги свои она давно отрабатывает совсем другим и гораздо более интересным способом. Она разгадывает и претворяет в жизнь ребусы, которые еженедельно извлекает из крошечных конвертиков в двух кинотеатрах или на дискотеке. И разгадывает так здорово, что Тетя Цецилия и Дядя Оскар души в ней не чают. Тут адреналину побольше, чем в сексе. Но гораздо сильнее, чем выполнение заданий, её будоражит предвкушение денег… И сами деньги, ритмично поступавшие в плотных аккуратных конвертах и десятикратно оседающие на банковском счету на Кипре. Но прослыть святошей тоже неправильно, так что нужно мудро балансировать на золотом сечении греха и добродетели.
– Что ты, пичку мать[147], далеко танцуэшь? – прижимал её вчера Милош к себе, как для снятия ксерокопии.
– Слабо прижимаешь! – подначивал его дынноголовый американец.
– Не пьэ, пичку мать, вот и далеко танцуэ, – весело объяснял Милош.
– Задушишь! – смеялась Ида, – да от таких танцев дети могут родиться!
– Дэти – это хорошо, – прижимал еще сильнее Милош, – айдэ дэтей дэлать.
Компания была совсем маленькая, так как на Рождество большинство иностранцев разъезжается по домам. Но это еще сильнее сплачивало оставшихся. Как кучку матросов, выживших после крушения большого корабля. Поддали как следует. Вообще-то с иностранцами какие тосты? Кричат, надрываются: «Тост! Тост!». А потом – всего пара слов: «За тэбэ, мила моя». Это, конечно, Милош. Пили даже за зверушек. Милош рассказывал о своей кошке, какающей прямо в умывальник. Американец – как его звали-то? – о своем бабнике-далматинце, перетрахавшем всех окрестных сучек. Смеялись до боли в пояснице.
Словом, уговорил-таки её Милош. Она уж и не помнит, как ресторан заперла, как свою квартиру над ним отперла. Но что было потом – помнит. А было здорово. А совсем потом вырубилась, конечно, напрочь. Утром еле проснулась, еле его, красивого такого бицепсоплана, растолкала, чтобы выпроводить. Не оставлять же одного на капитанском мостике со всей этой записывающей техникой и архивами. Под честное слово, что сегодня вновь встретятся, оделся, ушел, шлепнув на прощание по заднице. Прошлепала в ванную – ох, даже писать больно! И кровь… Он что, горилла, разодрал её надвое, что ли, всеми своими игрунчивыми мускулами? Ладно, никакого секса ему сегодня не будет, зверюге чертовому…
Ида застегнула меховую курточку и вышла из кинотеатра. Как всегда, огляделась, отперла Ниву, села за руль, зацепила ключами колготы. Ну вот, опять паутинку дорогих колготок порвала, а юбка – мини, не прикроешь. Ладно уж, в машине не видно. У Русского театра ошивались два парня, которых она заметила и вчера. Что это – «грипп», как предупреждал Дядя Оскар, или из-за этой курицы Джеммы? Ладно, повеселимся.
Ида вырулила в густой поток машин, озабоченных предновогодними покупками и хлопотами. Тошнит. И сердце покалывает. Да и не мудрено: часа три-четыре всего поспала. Да и выпила черт его знает сколько. Надо будет подрыхнуть пару-тройку часов, а то вечером совсем плохая будет. Выехала на проспект Маштоца, припарковалась у банка. Зашла, сделала авансовые выплаты за свет и газ ресторана, задала пару глупых вопросов кассирше. Потом подошла к менеджеру, порасспрашивала и его. Если есть хвост, то пусть займутся ими!
Снова села за руль. Огляделась. Ох, а что там во втором конверте-то? Она и забыла посмотреть, надо же! Ого, две тысячи и травел-чеков на пять! Значит, предстоит командировочка! Здорово! Невдалеке скучали двое в неказистом форде. Ну-ка, давайте, прокачу и вас, хвостики вы мои ненаглядные! Это даже хорошо, что такие сумасшедшие пробки сегодня: поразглядываю вас повнимательней! Ида влилась в поток машин, направляющихся в аэропорт.
На трассе машины беззлобно переругивались клаксонами, после смены цвета светофора срывались как сумасшедшие: предновогодняя спешка набирала обороты.
– Всё, сегодня ни капли не выпью. И никаких постельных кувырканий. И спать, спать, как только закончу с этой клоунадой с ментами. Надо будет предупредить Центр, что ложусь на дно. Да они раньше меня сообразили: вон, дорожные чеки прислали. А Милош? А что, можно будет вместе с ним и съездить на Кипр. Или в его Боснию. А уж потом втихомолочку перебраться в Турцию. Нет, сердце ужасно разболелось. Или это не сердце? И копчик болит – нарыв, что ли? Заеду в аэропорт, схожу там в медпункт – пусть дуралеи, что в «Форде», и медпунктом займутся.
Впереди стоял здоровенный самосвал и дымил выхлопной трубой, как на пожаре.
– Да что ты, урод, дымишь? Тут и без тебя не дышится! – резко погудела Ида, прикидывая, как бы объехать его.
Дали зеленый свет, и машины сорвались с места, как на старте гонок.
– А чем это пахла открытка, помимо жасмина?
– вспомнила она, стараясь протиснуться в щель между самосвалом и разделительной полосой, и вдруг догадалась: абрикосом. Абрикосовым деревом деда. И мелкими грушами-дичками, что росли по дороге в школу… Надо же, как давно она не вспоминала родное село наяву, все только во сне видела и легко забывала, проснувшись. А тут всё всплыло, как на картинке. Всплыло так отчетливо, что её вновь замутило.
Тут еще самосвал, зараза, не уступает полосу и дымит в нос.
Из дыма отчетливо выросло огромное абрикосовое дерево, затрепетало зелеными и красными листочками. Картинка перед глазами поплыла и медленно закрутилась, дерево встало корнями вверх, корни завибрировали, будто ловя и сглатывая неведомую информацию. На мостовую вышли Рипсимэ и Гаянэ, улыбающиеся, красивые, и поманили её открытыми ладонями. С приборной панели на стекло прыгнул паучок и соскользнул обратно.
«Общее действие на организм характерно для ядов многих тропических пауков, укусы которых опасны для человека. Одним из наиболее опасных считается небольшой бразильский Паук Скакун дендрифантес ноксиозус… Его укус вызывает воспаление и сильнейшую боль, как от раскаленного железа; в моче появляется кровь, через несколько часов наступает смерть»… – вспомнила Ида лекцию курса отравляющих веществ в турецком учебном лагере. Черт… Ах, Милош, ах любовничек чертов от Османа, так вот что ты мне подсунул, пока спала? Да я тебя…
Грохот столкновения металла с металлом, звон рассыпавшегося стекла и вой зажатого телом клаксона слышны были далеко.
– Что такое? Что случилось? – спрашивали друг друга сбегавшиеся на место аварии люди.
– Женщина в «Ниве» наскочила на самосвал, – сокрушенно мотал головой старенький торговец лимонами, свидетель происшествия.
– А что такое? Кто-то пытался перейти дорогу?
– Да никого там не было…
– Старая? Молодая? – допытывались любители ДТП.
– Да там уже ничего не разберешь: от головы ничего не осталось, – пытался щелкнуть зажигалкой свидетель, а пальцы неудержимо дрожали.
Неанглийская группа «Битлс»
27 декабря
Уборщицу кафе ждали в хрюкавших выхлопными газами автомобилях. Сидели, заспанные, и от души отравляли «Нивой» окружающую среду ухоженных кварталов Каскада. Статный молоканин с окладистой бородой размеренно махал здоровенной метлой, расцвечивая и без того нарядную желто-зелено-багряную груду опавших листьев ошметками синих и белых воздушных шариков у детского кафе. Косарь посреди летней страды – и все тут!
– Слушайте, товарищ судья, говорит муж на заседании. Не могу понять, зачем эта неблагодарная дрянь хочет со мной разводиться. Я ей даже кофе в постель носил. Ей оставалось только помолоть, сварить и мне подать…
Всё было как обычно: Вардан травил анекдоты, Шагинян давился от смеха, Шварц слушал вполуха.
– Что же это получается? – думал Шварц. – Арамис в поисках дочери Ануша скорее всего своей собственной дочери, затеял броуновское движение среди людей, так или иначе задействованных в турецком туристическом бизнесе… Столкнувшись с непониманием или нежеланием помочь со стороны своих знакомых Лёвы Алтынова и Ано Мардукян, сам вышел на след турецкого агента Хикмета, для которого оптовая торговля консервированными соками и представительство турецкой турфирмы были двойным прикрытием. Арамис поднял такой шум, что тот был вынужден в спешке бежать в тот же день… Такое никогда не прощают… Подноготную Ано мы сегодня попытаемся выяснить…
– Приходят апаранцы впятером в бильярдную и сдвигают оба стола – всем вместе поиграть… – монотонно излагал Вардан, а Шагинян заливался смехом, как малыш от щекотки.
В семь утра было еще так темно, что непонятно было даже, какая будет погода, когда рассветлится. Уборщица кафе оказалась достаточно красивой женщиной лет пятидесяти с навечно замершей скептической складкой в уголках губ.
– Наверняка из бывших сотрудниц какого-нибудь закрывшегося НИИ, – подумал Шварц и оказался прав: та некогда была ведущим специалистом в Институте математических машин, известном в народе как Институт Мергеляна.
– А в чём дело? – возмутилась она при предъявлении ордера на обыск.
– Хозяйка кафе Анаид Мардукян погибла вчера в автокатастрофе… – начал деловито Шварц, но женщина вскрикнула, всплеснула руками и громко расплакалась:
– Тэрь Аствац, Тэрь Аствац[148]… Молоденькая совсем, ни родителей, ни сестер, ни детей, кто теперь будет на могилу ходить, ладан курить, плакать? – причитала она, – день рождения у неё завтра, тридцать лет всего-то должно было исполниться бедной девочке… Мы уже и подарок купили…
Пригласили понятых из соседей – заспанных стареньких супругов, которые тоже посокрушались и поплакали. Уборщица отперла кафе, и обыск начался с кухни.
Всё было как обычно. Необычными были ордера на обыск кафе и жилищ погибшей накануне молодой женщины, успевшей за недолгий срок со дня приезда из провинции в столицу страны обзавестись тремя машинами и тремя квартирами, модным кафе в центре города, но не успевшей справить собственное тридцатилетие.
– Товарищ майор, тут нигде ничего особенного нет… – разочарованно прошептал Вардан, подойдя к курившему в обеденном зале Шварцу.
– Ты обрати внимание на мебель кухни, – усмехнулся Шварц и прошел с ним в помещение, – видишь, стиль рустика, под деревенскую простецкую досточку. Думаешь, спроста? Так вы подергайте каждую из них, подожмите-отпустите – вот так, – и Шварц принялся демонстрировать проверку на тайник. Минут через пятнадцать с начала мастер-класса одна из планок шкафа плавно отошла, и Шварц осторожно извлек из открывшегося проема аккуратную коробку с шашечками.
– Это еще что такое? – удивились в голос молодые полицейские.
– Группа «Битлс», – довольно улыбнулся Шварц, – а в переводе на наш – жучки. Правда, эти электронные жучки не английские, а израильские. Все видели? – давай садись, Вардан, пиши, протоколируй.
Обыск в кафе закончили еще до прихода персонала, опечатали помещение и вместе со слесарем кондоминиума и понятыми поднялись в квартиру.
Квартира была большая, но тесно заставленная громоздкой мебелью с резными кренделями и фигурками на загривках стульев и дверцах шкафов. Повсюду висели картины с местными вариациями на французские и итальянские пейзажи в толстых рамах.
– Ну так с картин и начнем? – потер руки Шагинян, полный сыщицких предвкушений.
– Ты иди давай за компьютер садись, чекист, – улыбнулся Шварц. – За картинами, под матрасом и стопками постельного белья тайнички бывают только у домохозяек.
– Есть, товарищ майор, – подхватился Шагинян и вслед за Варданом отправился в рабочий кабинет Ано, что приходился как раз над обеденным залом кафе. Здесь дюжий слесарь уже шаманил в замке накрепко запертой двери одного из шкафов и вёл с ней нелицеприятную беседу. Дверь не поддавалась.
– Дэ давай, бацви, иши тха[149], – налёг он на дверь, и замок, крякнув, перекосил конструкцию. Но за нею была еще одна, с другим замком, на который обрушилось всё красноречие возмущенного слесаря. Здесь уже молодецкая удаль слесаря была бессильна, и он возобновил серьезные переговоры с незнакомым замком, перемежая их мануальными ухищрениями и тонкими инструментами.
– Ого, да здесь Пентагон, – присвистнул Вардан, заглянув в отпертый наконец-то шкаф.
Шварц подошел. На полках шкафа выстроились шесть видеомагнитофонов – как раз по числу столов и жучков в нижнем помещении. Отдельно лежали ещё два: очевидно, ведущих записи из кухни и туалета, или просто запасных. Здесь же мигали светодиодами еще два мудреных прибора. Шварц связался, согласно договоренности, по телефону с Акопяном и, дожидаясь их специалиста по спецаппаратуре, пошел щупать-крутить кренделя мебели. Один из них, на фризе высокой горки, подался, и на свет божий выплыла пачка DVD. Судя по фамилиям на корешках, здесь были представлены все созывы Национального Собрания и кабинеты министров за минувшую десятилетку.
– Надо бы поразглядывать до передачи «соседям», – подумал Шварц и перешел в спалню. Спальня как спальня. Точнее – спальня очень обеспеченной дамочки, упакованной так, что если говорить о белье, то и не упаковка это, а отмазка: вроде бы, называется бельём, а на деле – обрезок кружева или лоскуток силикона. Да, Маргаритке такое и не снилось. Да и незачем ей такие вредные сновидения… А где тут аптечка? Ага. Великовата для молодой женщины… Даже слишком велика: тут на целую богадельню… А что это в пеналах? Бог ты мой, да тут целая лаборатория ядохимикатов…
Из соседней комнаты подал голос Шагинян:
– Товарищ майор, да тут пусто, – разочарованно протянул он, и Шварц устремился к нему, – ноутбук-то отформатирован…
– Ну-ка, давай, в темпе зови этих женщин наверх, – указал Шварц на окно, – вон, стоят, митингуют.
Шагинян сбегал и привел. Шеф-повар, обе поварихи, судомойка и две молоденькие официантки ошарашенно толпились в коридоре квартиры, не рискуя войти.
– Да вы заходите, рассаживайтесь, – вальяжно пригласил их объявившийся Вардан, мысленно приходуя официанток в свой список и указывая всем на диван и кресла. Женщины в недоумении расселись на краешках сидений. Никто из них прежде здесь не бывал, и они с интересом, прикидывая на свой вкус и возможности, рассматривали обстановку. Весь коллектив первой смены был на месте. Не хватало малости – Ано-Иды.
– Менты-то здесь зачем? – шушукались они, – налоговики пристали, что ли?
– А где Ида? – подала голос шеф-повар, – со вчерашнего дня её что-то нет… Впервые такое, чтобы без предупреждения уехала.
– Она вчера попала в автокатастрофу, – начал Шварц, и женщины заохали.
– Сах а?[150] – и, услышав ответ, запричитали точно так же, как давеча уборщица.
– Я вот что хотел спросить вас, – начал Шварц, выдержав приличествующую моменту паузу, – когда вы видели её в последний раз?
– Вчера утром. Она отперла кафе и уехала по делам, – ответила за всех шеф-повар.
– А ноутбук был при ней?
– В кафе она его не заносила – это точно, – встряла молодая официантка. – Она просто отперла дверь, постояла, пока мы вошли, села в машину и уехала. Может, был в машине? Она его никогда не оставляла в кафе.
– А позавчера? Она ведь имела привычку работать на нем в кафе?
– Позавчера точно был, но она на нем не работала – так, пасьянсы собирала. Но мне никогда не разрешала, – обидчиво откликнулась молодая.
– А когда уходила вечером, был при ней?
– Когда уходила, был не вечер, а глубокая ночь. И при ней был не только компьютер, но и артасаhманци[151], – хихикнула вредная официантка.
Мойдодыр – он не всегда помогает
31 декабря, утро
– Так мы пойдем, товарищ полковник? – поднялся Шварц.
– С Богом. Только особо не витийствуйте – ты понимаешь, – поднялся из-за стола Дядя Вова. – Держите меня в курсе.
– Держите меня в курсе.
– Угу, – согласился Шварц и направился к выходу.
Было еще только семь утра благословенного 31 декабря. Время, когда истово преданный культу Нового года постсоветский люд сладко спит в постелях. И предвкушает суетливый день и громогласную ночь вокруг разъятых на все деревянные вкладыши столов. Было темно и холодно, а лобовые стекла машин бригады облепили первые снежинки.
– Вы давайте на лифте, а мы с Шагиняном пешком поднимемся, – скомандовал Шварц, и гордый выбором шефа Шагинян засопел ему в спину.
– Кто там? – сипло раздался из-за двери возмущенный голос Алтынова.
– Я это, я, – добродушно отозвался Шагинян.
– Ты – это кто? – голос приблизился к двери, – ты знаешь, который час?
– Да мне в район нужно уезжать, а я к вам заехал, Левон Ншанович, чтобы посылку из Москвы передать от важного человека, – занудил Шагинян, имитируя лорийский акцент.
– От кого это – «от важного человека»? – поинтересовался голос.
– Шофера Ваней зовут, новый черный джип водит, – гнусил Шагинян.
– О Господи, тупицы – они и есть тупицы, – барственно забрюзжал Алтынов, и дверь открылась. Дальше все было делом техники, в результате чего Лёва был усажен на диван гостиной меж двух оперов. А у заспанной Светки, с её хорошо просматривавшейся из-под пеньюара умопомрачительной фигурой, изъяли мобильник и усадили её в кухне.
– Вы не имеете права лишать меня средств связи и права позвонить адвокату! – возмущенно крикнула она и перешла на свистящий шепот: – Да вы что-о-о, ребята, совсем законов не зна-а-аете? Сейчас ведь совсе-е-ем другие времена: права человека и всё прочее. Да вас же пе-е-ервых в тюрьме и сгноят!
– Да что вы говорите, Светлана Грантовна?
– удивился появившийся в дверном проеме Шварц, – а кто сгноит-то: ваш деверь Григорий Алтунян или замдиректора вашего агентства, тоже их родственничек? Но их самих уже два часа как допрашивают. И они дают очень ценные показания и по факту тендера космической аэрофотосъемки, и по присвоению сумм в особо крупных размерах.
– О-о-ой, не могу-у-у: Майн Мент, – всплеснула руками Света, – а при чем тут мы с Лёвой?
– Ну что же вы, Светлана Грантовна? – продолжал ерничать разозлившийся на кличку Шварц, – Мойдодыра читали, Муху-Цокотуху наизусть знаете. Уголовно-процессульный кодекс, как вы недавно признавались, и вовсе любимая книжка. А детективов вы совсем не читали?
– Чита-а-ала, – обиделась Света, – и читаю.
– Плохо читаете, – усмехнулся Шварц, – иначе давно бы поняли, что живете, работаете и дружите со сплошной уголовщиной и шпионской сволочью.
– Но… – Светка заткнулась – как споткнулась. Потом возвела на него свои глазки-изюминки и выдохнула: – Кто уголовники и шпионы? Лёва? Гриша?
Шварц молча смотрел в упор. Света продолжала перебирать:
– И шеф – уголовник и шпион? Ой, мамочки мои, что же это творится… – И тут же зачастила: – О-о-ой, Шварц, миленький, ничего, что я вас так называю? Арамис так здорово о вас рассказывал, так ваше благородство расписывал, что я вам очень доверяю, – трещала она скороговоркой, – Ну помогите, пожалуйста, а? Ну неужели мне опять по наивности в камеру лезть и потом всё начинать сначала? Что я – доверчивая дурочка, мне и так родители каждый день твердят. Ну что за год такой проклятый выдался? Сперва Арамис, потом Идочка, теперь вот вы – то есть я хотела сказать, ни свет ни заря пришли арестовывать. Ну, дайте мне вырасти наконец, а? Я все-все детективы перечитаю и без вашей инструкции улицу больше не перейду. Ну, пожалуйста, помоги-и-ите, а?
– Это вы нам должны помочь, Светлана Грантовна, – усмехнулся Шварц. – Вам сегодня придется многое вспомнить из вашей работы у Ано Мардукян и дружбы с ней. И про жизнь и деятельность Левона Алтынова. Кстати, мы очень надеемся, что он сам изложит нам правдивую версию заказа на убийство вашего друга Лусиняна. А пока оденьтесь потеплее: одежда на вас не самая подходящая для зимы.
– О-о-ой, – зарделась Светка, заметив наконец, что сидит практически голая, – я сейчас.
– И своего тур-дистрибьютерса тоже соберите, – удержал её Шварц, кивнув на соседнюю комнату – поедем работать в интенсивном режиме. День сегодня праздничный, не хочу его лично вам особенно портить. Так что раньше сядем – раньше выйдем. Я отвернусь, – и Шварц отозвался на звонок мобильника:
– Да. Угу. Ну, молодцы. И мы выезжаем.
Арташ, купи гараж!
31 декабря
– Нет, Новый год не праздник, а сплошные терзания импотента, – крутил пальцами над расставленными в кухне мисками с готовыми и полуготовыми заготовками Тоникян. – Всё нравится, всё хочется, а уже не можешь проглотить и самую малость.
– Это еще не Новый год, еще только три часа дня. Стол еще не накрыт, а ты уже жалуешься на переедание. Ты ешь без хлеба, – засмеялась Верка, закладывая индейку в духовой шкаф, – больше влезет.
– Перекошенное у тебя мировоззрение, Верочка, чтоб ты знала. Нет чтоб сказать: давай, Тигранчик, я тебе своего фирменного вина налью, которое почему-то в обозримом пространстве отсутствует.
– Ой, Тиграша, извини, – и Верка метнулась к подслеповатому окошку, служившему ей дополнительным зимним холодильником. Но сразу вернулась, – а ты что до этого пил? Ты мне Праздник Близнецов не устроишь случайно? А то сюда скоро грозный Шварц придет!
– Очень страшно. Но он не придет. Он, бессовестный мент, бедных преступников пошел под самый Новый год брать, представляешь? Нет чтоб дать людям напоследок выпить-закусить. Слушай, Верочка, – продолжал болтать оживленный больше обычного Тоникян, усевшись за кухонным столом и разливая по бокалам вино, – ты как шпион изнутри, обьясни мне, почему это женщины так непоследовательны?
– Опять теща не угодила?
– Если бы только она! Её неспособность угождать – это качество институциональное, и тут мне от этого никуда не деться. Но жена и дочки ведь тоже из этой непоследовательной категории! В десять вечера, вот увидишь, бросятся искать и звонить: куда ты пропал, уже Новый год на носу! А сейчас он где – разве не на носу? Или в другом месте? А сейчас ткнешься домой – тебя шпыняют: зачем здесь насорил, зачем от торта отщипнул, зачем ананас разрезал? Ананас – он что, шампанское, которое открывают только в двенадцать?
Верка замерла.
– Ну и дурак ты, Тиграша, – произнесла она с отвращением, – это еще что за извращение – ананас? У тебя что, дед от переедания ананасами умер в лагере? Ты кого удивляешь своими замашками?
– Армянскую судьбу, Верочка! Ее, проклятую! Пусть знает, что бывают у нас и благополучные жизненные циклы! И пусть мои девочки наедаются на всю жизнь не только животиками, но и глазками, пусть эта сытость глубоко проникает в гены! Пусть завтра от них родятся хорошие барчуки с сытой костью. Пусть мои будущие внуки будут ломать голову не о том, где бы чего слямзить из-под носа у народа, а где бы что создать для него! Между прочим, голодная кость – штука опасная и никакими деньгами неизлечиваемая, Верочка. Чем голоднее кость у моих пациенток, тем больше жира на их фигурах, скажу тебе! И мне приходится бороться с ним как с историческим явлением! Потому что этот жир – прямое следствие голода их бабушек и дедушек в сиротских домах! И вообще, если бы нами правили ребята без генетического дефекта костного оголодания, был бы в Армении совсем другой расклад. И ананасы, между прочим, хоть раз в год, но перепадали бы всем! Этот снег когда-нибудь кончится? – резко сменил он тему, – это что же, погода опять будет нелетной?
– Тиграша, у тебя что – роман со стюардессой? – сложила губы сердечком вредная Верка, и в эту минуту зазвонил телефон.
– Артошка, сынок! – завопила Верка, – я так беспокоилась, так беспокоилась! Уж сколько дней ты не звонишь! Ну как ты, здоров? Не болел? Что делаю? Вот, готовлю стол к Новому году, и дядя Тигран мне помогает. Нет, индейка пока сырая, вряд ли он её ножку оттяпает. Да вот, смотрит на меня сердито и кулак демонстрирует… И он тебе передает привет. Ты-то как, сынок? Новый год с кем будешь встречать? Неужели греки Новый год не встречают? Только Рождество в начале января? А ты-то как будешь на Новый год, неужели просто ляжешь спать? Это какую-такую хорошую компанию наметил? Потом, надеюсь, расскажешь? Ты лучше на разговоры не траться, а напиши, да? Ты знаешь, Артошка, о чем я думала сегодня… Алло! Алло!
– Прервали, – произнесла Верка безжизненным голосом и брякнула трубку на телефонный аппарат, – связь, а?
В дверь постучали, и хмурая Верка медленно пошла открывать. На пороге с букетом белоснежных роз в курсантской форме Военной академии, стоял Арташес Георгиевич Айвазян, её любимый мальчик! Сперва хмурое лицо Верки просветлело, потом посерело, и она брякнулась бы об пол, как когда-то её тетка, если бы её вовремя не подхватил Артошка, выпустивший от растерянности цветы.
– Ну не дурак? – сказал Верка, придя в себя на диване и безошибочно обращаясь к прячущемуся за диванной спинкой Тоникяну. – Это твоя идея – старую больную женщину гробить?
– Вот чтоб ты знала, идея – Шварца, – высунулся из-за спинки сияющий Тоникян. – Это он сказал: давай, мол, парню билет в оба конца пошлем, чтобы он со своей красавицей-старушкой Новый год встретил. Но финальную часть я срежиссировал. Арташес сомневался, а я говорю, давай: во-первых, мать у тебя – кремень, а во-вторых, рядом в этот момент будет высококлассный врач. Медицина гарантирует.
– Ну что мне с ним делать? – сияя, как школьница, спросила Верка у сына, и тот безошибочно нашел нужный ответ:
– Мам, а ты поставь нам кофе, а? А я тебе такой подарок привез! Сейчас распакую.
– Да как же ты мог живого младенца в бумагу упаковать? – заорал Тоникян, и Верка чуть опять не бухнулась с ног. – Ладно, шучу, шучу. Это что за паучок?
– Ты знаешь, дядя Тигран, – застеснялся Арташес, – в Греции все шубы покупают и везут сюда. Но мне до них еще очень далеко. Так я маме в качестве аванса брошь из норки купил, а потом буду постепенно доращивать…
– Какой парень, а, Верон? Какой парень! Теперь главное дело – не дать ему жениться до исполнения заветной мечты, а то при нынешних снохах дело на левом манжете так и пробуксует…
Верка бережно взяла брошку, расцеловала своего мальчика, потом подумала и расцеловала Тоникяна, и тот, довольный высокой оценкой личных заслуг, заложил ногу на ногу:
– А что, недаром я его Артошкой Маминой Брошкой дразнил в детстве. Хотя, если бы знал, что дразнилки у меня такие провидческие, обзывал бы Арташ Купи Дяде Гараж. А чтоб Шварц не посчитал себя обойденным – Арташ Верни Шварцу Мараш!
– А что Шварц? У него задержание не опасное?
– Оно для нас с тобой опасное. Приедет ночью голодный и злой. Все твои заготовки сметет и меня найдет за что пошпынять. Но я на этот раз ему легко не дамся. Уж я на нем сегодня отыграюсь! Между прочим, мне из министерства нашептали, что министр подписал ему звание подполковника. Так что отныне будем мы с тобой и Марго с мальчишками несчастными подподполковниками. Как придет, не забудь подсказать, чтобы руку на голову Арташесу Георгиевичу положил: пусть инфицирует его своим новым званием на старый армянский манер!
– Это еще когда-а-а будет, – удивился тоникяновской наивности Арташес.
– Ага, и Шварц нам точно так же говорил, – переглянулись Верка и Тигран.
И тут у Тоникяна зазвонил мобильник.
– Ага. Угу. Ага. Вот это хорошая мысль! Ну, так я как раз у неё. Да нет, просто в кому впала минут на пять. Сам дурак, товарищ подполковник. Ты что там – в чистом поле? Я при женщинах и детях тем же тебе ответить не могу. Да ладно тебе, не бери в голову. Ага. Угу. Ага. Будет исполнено на уровне современных технологий.
Температура – это хорошо!
31 декабря, за полдень
– Ну мы шуму с тобой наделали, Шварц. Еще немного – крышка была бы нам, – скрипел дядя Вова, проглядывая сквозь очочки протоколы допросов. – Рисковал я, конечно, сильно, но правильно доложил в понедельник министру обороны. Это, конечно, полнейшее нарушение субординации, но он ведь – секретарь Совета безопасности. А здесь у нас материала на две войны потянет, – похлопал он по стопке бумаг. – Пришел – а там Акопян уже сидит! Втроем и отправились к президенту на доклад. Тот, со своей известной въедливостью, задал миллион вопросов, крякнул, брякнул, но одобрил решение. Вот вы и смогли провести операцию с Акопяном и военными коллегами консолидированно, без нежелательных накладок. Но если не будет у нас железобетонных аргументов обвинения, и перед главными двоими осрамимся, и наш министр с удовольствием нам башку открутит. И подарочек свой отберет.
– Не понял, – сощурился Шварц.
– Ха-а-ха-ха-а, – покатился Дядя Вова, – так я ж забыл тебе сказать, что с сегодняшнего дня ты у нас – подполковник Шаваршян! Вот приказ! Поздравляю! – И Дядя Вова встал во весь свой знаменитый рост и крепко пожал руку вытянувшегося Шварца. – Еще пара-тройка таких гениальных расследований – нагонишь и перегонишь свои потерянные звездочки. А эту обмоем как надо, обязательно обмоем. Вот только закончим с этим говном, от которого душу воротит. Я ж министру представление накатал еще, когда ты в один день свой дуплет пробил с раскрытием убийств профессора и иранца… – и тут же, чтобы не выглядеть ожидающим благодарностей начальником, продолжил:
– Новый год, а, Шварц? Два всемирно известных человека и еще полдюжины трупов в могилах, блядь в холодильнике, целый взвод оперов из трех силовых ведомств уже неделю не спит, а правительство стоит на ушах. И всё из-за великолепной семерки мерзавцев из пяти стран, изгадивших здесь все и вся ради личных денег и интересов пары враждебных государств!
– Когда я в детстве сильно болел и метался в жару, товарищ полковник, моя бабушка, которая жизнь бы отдала за меня, не позволяла маме делать мне жаропонижающие уколы. «Не бойся, Еран, – говорила она маме, – ничего плохого не случится, я рядом. Высокая температура нужна ребенку, она устраивает генеральную уборку в организме и сжигает заодно все другие хвори в самом зародыше. Для того Бог и посылает детские болезни, чтобы вычищать тело малышей для долгой и здоровой жизни». Может, так и у нас? Раз уж в нашей бесконечной истории мы на протяжении последних веков растеряли опыт управления государством и республика у нас фактически совсем молодая, может, такие встряски – во благо? Для генеральной уборки во имя долгой и здоровой жизни страны?
– Ну, Шварц, тебе книги писать. Здорово сказал. Попробую теми же словами унять грусть нашего министра, а? Ха-а-ха-ха-а, – залился Дядя Вова и стал натягивать шинель. – С наступающим не поздравляю, еще увидимся сегодня. Но ребятам передай, чтобы к полуночи все вы были по домам, с семьями. Как новогоднюю ночь встретим, так год и проведем. Так что без излишнего служебного рвения в застенках. А я пойду-ка на эшафот. Скажи: ни пуха, ни пера…
– К черту, товарищ полковник, – брякнул Шварц невпопад.
Опять двадцать пять
31 декабря, за полдень
В ближайшее время будет скучно. Совсем скучно. Есть рекомендация Центра залечь на дно и отдохнуть. Не знаю, кто как, а я связываю этот совет с отъездом в Москву Анаид, той оторвы, которая иногда шлялась сюда по понедельникам. Сама ей билет заказала в аэропорту. А запомнила я её еще с поездки руководимой мной тургруппы. На лбу было крупными буквами написано «блядь», а наивные эчмиадзинские сестры приволокли её в качестве личной переводчицы английского языка. Они там исчезли, а меня менты замучили потом допросами: «Да как же вы, тыкин Римма, могли привезти назад группу неполной, а нас не известили о пропаже людей?» А я что им – нянька, говорю? Я что же это, за ручки их должна была водить? Может, они там решили осесть на постоянное жительство. Вон, их сколько сейчас там крутится, слезу пускают: «Наша это земля, хребтом родное чувствуем!» Я-то тут при чем? Ох, натерпелась я тогда страху! Думала, засветилась. Но нет, пронесло.
А потом и двух лет не прошло, как Центр дал мне повышение, и я перешла сюда на скромную работу. Это у них правило: чем большим доверием ты облечен, тем ниже твой официальный статус. Зато намного выше доход, а он важнее. Раньше эвон – тряслась с группами через три границы, пару раз в аварии попадала – шофера ведь из турок никакие, автобус водят, как дедова ишака. Рисковала сильно, зарабатывала слабо – по сравнению с теперешним доходом. Ну вот, предложил мне куратор перейти сюда на выгодных условиях, я и перешла. Смотрю – шастает она иногда сюда, в кинотеатр, на детские сеансы. А я что? Я ничего. Сижу себе в афишном цехе кинотеатра, степлером афиши к рамкам присобачиваю: цык-цык-цык. Потом выйду из цеха, пойду прибраться в опустевшем кинозале, конвертик – в карман, и болтаю с билетершей. В следующий понедельник с утра – конвертик подклею, и опять: цык-цык-цык…
Ну и хорошо, что каникулы у меня наступили, как у школьников. Не всё же гноить дорогие шмотки и являться сюда бомж-бомжом, в тапках войлочных. Эх, ноги мои, ноги… Отекают в последние годы – не ноги, а колбаса. А какие стройные были! Мне все девчонки на курсе завидовали. Сглазили, наверное…
Вот надену дорогие да удобные туфли, приоденусь, с мужем и сыном в гости поездем на нашей «ешке» – пусть родственницы дохнут от зависти, что муж мой такой успешливый предприниматель! И ни одна душа не узнает, что денежки-то – мои! К нему ещё родственники подъезжают за коммерческими консультациями, он их с умным видом учит. А пацан наш мне подмигивает и на него кивает: понимает, что инсценировка всё это!
Интересно, как это мальчишка наш, Артурик, хоть и ребенок, а догадывается, кто в семье главный? Я-то виду не подаю. Подчиняется мне беспрекословно, а с отцом – так себе, всерьез его не воспринимает. А он сам виноват: все детские блажи, любые капризы исполняет. Вздумалось Артурику щенка белого взять с улицы – пожалуйста, приволок! Еле избавилась. Потом велосипед взрослый купил ему – чуть не расшибся насмерть у нас же в парке, налетев на дерево! Надо будет еще втихомолочку подлить им еще в лунки жавель, чтобы повысохли лишние. Хотя муж против. Недотепа он – и все тут. А как подружки завидовали, когда за него, за всеобщего любимца, красавца с кафедры гидравлики выходила, от жены уводила! Тоже сглазили. И она, небось, напроклинала с детками своими мерзопакостными. Разве в этом старике узнаешь того весельчака и красавца? Точно сглазили и бездетными нас оставили…
Соседи, злыдни, Артурику небось уже успели рассказать, что неродной, в роддоме купленный, но он и виду не подаёт. Потому что – умница! А красивый-то какой, сукин сын! Глазищи круглые, волосы волнистые. А на заднице – счастливая примета: родинки змейкой вьются!
Вот я ему и говорю: ты получше учись, а уж я тебя отсюда вызволю. И от армии, и от здешней неинтересной жизни подальше уедешь. Станешь гражданином какой-нибудь мощной и богатой страны, сам разбогатеешь. Уж мама постарается. А Армения – пусть о ней думают те, кто на самом верху и те, кто в самом низу. Те – потому что возможности должны оберегать. А те, что внизу, – потому что, кроме родины и родни, им оберегать нечего. А мы люди серединки. И нас много. И плевать нам и на тех, кто наверху, и на тех, кто внизу, и на то, о чем они пекутся. Где еда – там и нужная среда…
Вот и хорошо, что директор пораньше сегодня отпустил. Ну, любимые мои ребята на афишах, с наступающим Новым годом!
С Новым годом Собаки!
31 декабря, почти полночь
Сперва раздался незнакомый свист. Потом дверь отворилась, и в дверном проеме показался здоровущий человек. От него вкусно пахло телячьими котлетками и еще чем-то памятным с детства, но запахи эти перебивал несносный сигаретный дух. Софи даже чихнула. Человек щелкнул выключателем, и подвал вновь залил ровный свет с потолка, как бывало при Добряке.
– А ты и вправду красавица, но худышка, – усмехнулся человек и сел перед ней на корточки. Давай знакомиться. Дай лапу. Ай молодец. На-ка, специально для тебя принес, – и вынул из кармана котлетку с её головокружительным запахом. Софи была такой голодной, что сглотнула её в один миг и пристально уставилась на оттопыренный карман: там явно лежала еще одна, такая же пахучая и вкусная.
– усмехнулся человек и сел перед ней на корточки. Давай знакомиться. Дай лапу. Ай молодец. На-ка, специально для тебя принес, – и вынул из кармана котлетку с её головокружительным запахом. Софи была такой голодной, что сглотнула её в один миг и пристально уставилась на оттопыренный карман: там явно лежала еще одна, такая же пахучая и вкусная.
– Ах ты, хитрушка, почуяла, да? Ну ладно, пойдем, вместе попируем, – и человек снова присвистнул и похлопал себя по карману.
Софи озадаченно застыла на месте. Идти или не идти за ним? Но очень уж призывно пахла котлетка в его кармане. Да и сам он был явно добрый человек. Что-то и от Добряка, и от Давида. И Софи осторожно двинулась следом за ним. Невдалеке стояла машина. Он отпер ее, раскрыл настежь дверь и снова призывно свистнул, похлопав себя по карману.
– Что он, мальчишка, что ли? – возмутилась Софи, – что за прихлопы и посвисты? Взрослые себя так не ведут. И куда он собирается её отвезти? Сколько раз она каталась вот так в авто? Один раз, когда Старик увез её на дальнюю дорогу и забыл там. Ещё один раз – когда Жилистые Ноги привезли её обратно в город. Один да ещё один – это сколько будет? Что-то ей Добряк пытался втолковать по этому поводу. Ах, Добряк ты мой, Добряк! Вспомнив Добряка, Софи снова загрустила, хотела завыть и даже задрала для этого голову, но уперлась взглядом в добрую улыбку человека и успокоилась. Уж вторую котлетку она съела обстоятельно, со смаком. Потом быстро, чтобы не успеть передумать, вспрыгнула на заднее сиденье и улеглась, удобно вытянув усохшую лапу.
Они больше стояли, чем ехали по запруженным автомашинами освещенным улицам. Всюду мигали разноцветные фонарики, машины беззлобно гудели друг дружке, и Софи авторитетно откликалась на каждый гудок. Потом они подъехали к аккуратному дому, какой был и у Жилистых Ног. Человек вышел из машины, надел на неё новенький поводок, пристегнул его к ошейнику, присвистнул:
– Ну, пошли, красавица, – и толкнул дверь. Дверь подалась, и из дома запахло такой вкуснятиной, что Софи от неожиданности присела. В таких вкусных домах она еще не бывала!
– С Новым годом вас всех, с Годом Собаки! – выкрикнул человек, чтобы перекричать гвалт за огромным столом, и все на секунду застыли.
Что потом началось! Люди повскакивали с мест, стали целовать его и по-разному называть. Чтобы у одного человека – и столько имен? Одни называли его Папа джан, другие – Брат джан, третьи – Армен джан, четвертые – Дядя Армен, пятые – Армен Арутюнович, старая женщина с ворохом на голове назвала его Балик джан[152], а другие – просто Шварц. Женщины забегали вокруг стола, стали менять местами посуду, а маленькая девочка подошла к Софи и боязливо погладила её по голове. Потом осмелела и еще раз погладила. Потом почесала ей за ухом. Потом погладила и почесала грудку. И Софи тоже осмелела и лизнула её в лицо.
– Вы уже познакомились? – подошел Человек, – её Софи звать, знаешь?
– Знаю, – сказала девочка, – я её уже люблю. Это будет моя собака.
– Видала, Верочка, что наш друг устроил под Новый год? – дурачился за столом толстенький человек. – Плюс к жене, теще и трем дочкам еще и сучку далматинца приволок: мол, где пять, там и шесть! Да нет, мама, в смысле девушек шесть, а не того, что Вы подумали. Ну, молодец, Шварц, ну спасибо!
– Спасибо вам, дядя Армен, – всерьез стали благодарить Человека нарядные девочки, обрадованные так, как только дети умеют радоваться зверью. – У неё лапка болит? Папа, ты её вылечишь?
– А как же. Ваш дядя Армен из меня в два счета и ветеринара сделает. Ему-то что? А вы что же, хромую её не будете любить?
– Ой, папочка, еще как будем! Её же жалко, очень-очень будем любить, – затараторили девочки хором.
– Ну раз так, то устройте ей там место в прихожей. И покормите как следует – вон какая худая! – озаботился тот, что только что сердился на Человека. – Как её зовут? Софи? Скажите пожалуйста, какие мы благородные! Но в Новый год Свиньи я соглашусь и на одну ляжку – можешь на ошейник не разоряться, Шварц.
Софи наелась, дала девочкам потормошить себя, прощально лизнула младшую в лицо и счастливо задремала на детском матрасике, от которого все еще пахло детской попкой и всеми вытекающими из неё обстоятельствами. Люди в комнате галдели, смеялись, выкрикивали что-то, а потом наступила тишина, и сквозь дрему Софи услышала слова Человека:
– А сейчас я хочу выпить за светлую память нашего друга Арама Лусиняна, которого любили женщины и собаки, старики и дети, друзья и поклонники его многочисленных талантов. А негодяи боялись его настолько, что вынуждены были убить. Когда мы были молодыми, он был слишком красивым, удачливым и веселым, чтобы я воспринимал его всерьез. Но чем дальше я шел по следу его убийцы, тем больше понимал и уважал Арама. И чем больше я понимал его, тем с большей уверенностью могу теперь сказать вам, что из жизни ушел самый настоящий благородный мушкетер Арамис…
– Я же говорила ему, что имя – это судьба, – вздохнула одна из женщин.
– Это точно. Наш Арамис, совсем как мушкетер, сумел вскрыть заговор врагов нашей страны, спасти для нас эту юную красавицу Карину – ты не плачь, не плачь, девочка моя. Артошка, ты чего это не ухаживаешь за сестрой? Как не сестра? Еще какая сестра! Что за пропуск в воспитании, Верон? И вам, Погос и Петрос, самая что ни на есть сестра, смотрите мне, чтобы всегда оберегали! На суше и на море!
– Ну, Майн Мент, ты даешь! Да ладно, не щурься так грозно, не буду, не буду. Но должен же кто-то тебя так называть, раз уж Арамиса нет…
– А вам спасибо, Константин Иванович, что присоединились к нашему столу. Как вместе встретим, так и будем дружить весь год и всю жизнь. Новый год у нас длинный, погостите еще пару недель, пообщаемся, дети подружатся…
– Вот и я говорю, Шварц, дом у меня большой…
– Ну и болтуны – эти люди, – думала сквозь дрему Софи, – болтают, болтают, кричат. На столе столько мяса и вкусных косточек, а они едят горькую траву и огнедышащие стручки, запивают водой с противными кусачими пузырьками или этой гадкой ваксинэйшн. Нет чтоб быстро наесться мясом до отвала, нежно и благодарно лизнуть того, кто больше всех нравится, и тихо заснуть, вдыхая сладкий запах младенца, что спал когда-то на этом мягком матрасике, под которым припрятан вкусный кусочек…
Примечания
1
Hrome! (чешск. яз.) – Чтоб мне провалиться!
(обратно)2
Hrom (арм. яз) – название города Рима
(обратно)3
Имеются в виду Ромул и Рем, основавшие, согласно преданию, г. Рим. Дата основания Рима – 753 г. до н. э. Ереван старше на целое поколение строителей – 782 г. до н. э. Оба окружены семью холмами.
(обратно)4
А как же (арм.)
(обратно)5
В армянском обществе – уважительное обращение к женщине.
(обратно)6
Что. (англ.)
(обратно)7
Где (англ.)
(обратно)8
Когда (англ.)
(обратно)9
Очень хорошо. А как зовут Вас, юная леди? (англ.)
(обратно)10
Меня зовут Ида. (англ.)
(обратно)11
Хорошо. А откуда Вы родом, Ида? (англ.)
(обратно)12
Я родилась в маленькой деревне, расположенной в прелестных Лорийских горах. (англ.)
(обратно)13
Восхитительная деревня. (англ.)
(обратно)14
Как мило с вашей стороны (англ.)
(обратно)15
Пах – интонационное междометие (арм.), соответствует русскому «Ого!»
(обратно)16
Фермер (англ.)
(обратно)17
Семья (англ.)
(обратно)18
Продукты питания (англ.)
(обратно)19
Фонд (англ.)
(обратно)20
Помощь (англ.)
(обратно)21
Щеночек (англ.)
(обратно)22
Миленький (англ.)
(обратно)23
Бедненький (англ.)
(обратно)24
Мужланы (англ.)
(обратно)25
Цена; премия (англ.)
(обратно)26
Эс гижа (арм.) – Он сумасшедший
(обратно)27
Игроки! Болельщики! Вместе мы – сила. (гимн ФК «Барселона»)
(обратно)28
Да святится солнце твое, Арев (арм.) – игра слов, т. к. имя Арев переводится с армянского как «солнце».
(обратно)29
Мир (англ.)
(обратно)30
Бедность (англ.)
(обратно)31
Собственность (англ.)
(обратно)32
Нефть (англ.)
(обратно)33
Партнерство (англ.)
(обратно)34
Заговор (англ.)
(обратно)35
Ветеринар (англ.)
(обратно)36
Обследование (англ.)
(обратно)37
Прививка (англ.)
(обратно)38
Подтверждение (англ.)
(обратно)39
Хорошо исполнено (англ.)
(обратно)40
Воскресенье (англ.)
(обратно)41
Бассейн (англ.)
(обратно)42
Шотландское виски (англ.).
(обратно)43
Сэндвичи (англ.).
(обратно)44
Лосось (англ.).
(обратно)45
Ветеринар (англ.)
(обратно)46
Стерилизация (англ.)
(обратно)47
Очень хорошо проделана (англ.)
(обратно)48
Как поживаете? (англ.)
(обратно)49
Ты мне очень нужен (арм.)
(обратно)50
Драм – армянская национальная валюта. В описываемый период (1995 г.) тысяча драмов равнялась трем долларам (прим. автора)
(обратно)51
О-о-ох, и не знаю, дитя, что из тебя выйдет (лорийский диалект арм. яз.)
(обратно)52
О-о-ох, уж и не знаю… (арм.)
(обратно)53
Да будут садиться за стол с семью сыновьями! (арм) – общепринятое благословение, адресованное молодым семьям.
(обратно)54
Господин (арм.)
(обратно)55
Нету (арм.)
(обратно)56
Госпожа (арм.)
(обратно)57
Тебе идет, красавица! (тур.)
(обратно)58
Семьдесят центов эти, восемьдесят центов – те, один доллар – эти… (англ.)
(обратно)59
Шестьдесят пять центов эти, семьдесят пять – эти, девяноста пять – эти… (англ.)
(обратно)60
Мадам – очень хороший мадам! (почти англ.)
(обратно)61
Наша завтра утром прибывать (тур.)
(обратно)62
Однако вам следует уступить (англ.)
(обратно)63
Армянская барышня – очень хорошее переводчик (тур. – англ.)
(обратно)64
«Гжин таран арсаник…» (начало арм. поговорки) – «Повели дурака на свадьбу… [, а он: «Да здесь лучше, чем у нас дома!»]
(обратно)65
Они! (тур.)
(обратно)66
Моя сумка! (тур.)
(обратно)67
000 (тур.)
(обратно)68
Мои деньги! (тур.)
(обратно)69
Ладно (тур.)
(обратно)70
Добро пожаловать, красавица. (тур.)
(обратно)71
Чем могу помочь? (тур.)
(обратно)72
Мне нужна по-o-oмощь, мне нужна по-o-oмощь…(англ.)
(обратно)73
Я позвоню другу. Он тебе поможет. (англ.)
(обратно)74
Стол без вина – что женщина без улыбки (тур.).
(обратно)75
Деньги открывают любые двери (тур.).
(обратно)76
Игра слов: ano (тур.) – маяк
(обратно)77
Добро пожаловать, Добро пожаловать, господин (тур.)
(обратно)78
Ахпар – букв.: брат (западноармянский лит. яз.) и является общепринятым обращением у всех армян. Однако специфика коннотации (на восточноармянском лит. языке это «ахпер») позволяла соответствующим органам в советское время точно делить произносящих на «наших» и «ненаших». Они же распространили эту заразу на все общество: в Армении до сих пор ахпарами за глаза называют зарубежных армян (прим. авт.).
(обратно)79
Только что (тур.)
(обратно)80
И не стыдно тебе? (арм.)
(обратно)81
Иди давай (тур.)
(обратно)82
Извините за беспокойство (тур.)
(обратно)83
Не знаю, что и делать (арм.)
(обратно)84
Горе нам (арм.)
(обратно)85
Здесь – «Надо же» (тур.).
(обратно)86
«Мой заветный ключик – прямо в твой замочек. Ну и парень я, ну и седельщик!». Известна как распространенная среди русскоязычной детворы считалка-тарабарщина: «Ала баланица, дуз кабаница, эй гиди манчо, паланчо!»
(обратно)87
Папа (курд.)
(обратно)88
Манэ – моя жена, и этот ребенок наш (общий) (курд.)
(обратно)89
Немедленно убирайтесь (курд.)
(обратно)90
Прямо сейчас! (курд.)
(обратно)91
Дёнме – буквально: перевертыш (тур.)
(обратно)92
Зары – игральные кости для игры в нарды (прим. авт.)
(обратно)93
Данте. Божественная комедия. Пер. с итал. М. Лозинского.
(обратно)94
Иоанн, Матфей и Марк
(обратно)95
Лука
(обратно)96
Мы – мир, мы его дети (англ.)
(обратно)97
Ну ничего себе! (арм).
(обратно)98
Стихи армянского поэта Егише Чаренца (1897–1937). Пер. авт.
(обратно)99
Армянин Запада. (жаргонное выражение)
(обратно)100
Стерилизация (англ.)
(обратно)101
Всё в порядке! (англ.)
(обратно)102
Семь колен (арм.)
(обратно)103
Стихи армянского поэта Ваана Теряна (1885–1920) (пер. авт.)
(обратно)104
моя дорогая (итал.)
(обратно)105
Грабар – Древнеармянский литературный язык
(обратно)106
Кавор – посаженый отец, которого женихи Армении выбирают из числа наиболеё уважаемых знакомых, а вслед за свадьбой причисляют к ближайшим родственникам (прим. авт.).
(обратно)107
административная единица в Османской империи, губерния
(обратно)108
Русскоязычные армяне (прим. авт.)
(обратно)109
Целую ручки (венг..)
(обратно)110
Жавель – производимая и популярная в Армении жидкость для выведения пятен с тканей и дезинфекции, водный раствор хлорноватисто-кислого натра.
(обратно)111
Армянский поэт Паруйр Севак (1924–1971)
(обратно)112
Да ладно тебе (арм.)
(обратно)113
Ишу чап (арм) – огромная (букв.: с ослиный рост).
(обратно)114
Как (арм) – говно
(обратно)115
Spider (англ.) – паук.
(обратно)116
Что будешь (западноармянский лит. яз.)
(обратно)117
ты – армянин?
(обратно)118
рыбные блюда (англ.)
(обратно)119
Согласно древнегреческому мифу, искуссница-вишивальщица Арахна из Малой Азии посмела вступить в соревнование по мастерству с самой Афиной, за что была обращена ею в паучка. Класс паукообразных зовется арахнидами.
(обратно)120
Парни (арм).
(обратно)121
Мер дем хах чка (арм) – букв.: игры против нас безнадежны, т. е. «против лома нет приема».
(обратно)122
Деньги чести не имеют (тур.); в русском варианте – «Деньги не пахнут».
(обратно)123
«Есть или нет?» (арм.). Здесь – «Жив или нет?»
(обратно)124
Ух ты! (арм.)
(обратно)125
Собачье дерьмо (арм.)
(обратно)126
Букв.: Обузданный Дух (арм.), но имеется в виду Ренессанс
(обратно)127
Мешки (арм.)
(обратно)128
Ах ты собак-писатель-сукин сын (арм.)
(обратно)129
Здесь: Иди сюда (арм.)
(обратно)130
Брат (арм.)
(обратно)131
Чузох (арм.) – недоброжелательный.
(обратно)132
Чарма; джарма (арм.) – негативная карма
(обратно)133
Анох кани (арм.) – способный (на это) натворит.
(обратно)134
В собственных глазах – парень как парень (арм)
(обратно)135
Народное название Института экономики и финансов (прим. авт.)
(обратно)136
Кннич (арм.) – следователь
(обратно)137
Чобан (арм.) – овечий пастух; чабан
(обратно)138
У золота цена не скостится, а блядь в жёны не сгодится (арм. поговорка).
(обратно)139
Первый президент Армении (1991–1998) Левон Тер-Пет росян
(обратно)140
Товарищ дорогой (арм.)
(обратно)141
Говори, брат (арм.)
(обратно)142
Сестрица (арм.)
(обратно)143
Ереванский художественно-театральный институт.
(обратно)144
Как так? (арм.)
(обратно)145
Бан-ман (арм.) – здесь: всякое такое.
(обратно)146
Нубарашенский следственный изолятор в Ереване
(обратно)147
Сербское дежурное и беззлобное ругательство
(обратно)148
Боже Праведный! (арм.)
(обратно)149
Ну давай, открывайся, ишачий сын (арм.)
(обратно)150
Сах а? (арм.) – жива?
(обратно)151
Артасаманци (арм.) – иностранец
(обратно)152
Сынок (арм.)
(обратно)

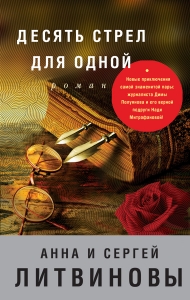









Комментарии к книге «Про любовь, ментов и врагов», Лия Артемовна Аветисян
Всего 0 комментариев