Олег Финько ЖИВОЙ СМЕРТИ НЕ ИЩЕТ Роман
От жизни той, что бушевала здесь,
От крови той, что здесь рекой лилась,
Что уцелело, что дошло до нас?
Ф. ТютчевГлава I ВЫИГРЫШ
«Приводятся в боевую готовность зарубежные белогвардейские отряды, усиливается разведывательная работа японцев. Против участка Забайкальского пограничного округа на хайларском и солуньском направлениях сосредоточена шестая японская армия…
В течение всего года по всей Маньчжурии проводились краткосрочные сборы белоэмигрантов и казаков с целью подготовки кадров Захинганского казачьего корпуса…»
Из доклада командования войск Забайкальского пограничного округа о подготовке Японии к войне против СССР на территории Маньчжурии. Шестнадцатого января тысяча девятьсот сорок третьего года.«…Наиболее активно стали проявлять свою деятельность русские белогвардейцы.
Белогвардейцы Тарбагатайского округа… приступили к созданию повстанческо-бандитских формирований, сколачивают кадры для совершения вооруженных набегов на нашу территорию…»
Из доклада командования войск пограничного округа об обстановке на границе.Проводника — мужика, прихваченного в таежной деревушке возле кривуна, речной излучины реки Нюкжи, — зарубил сам есаул Дигаев. Зарубил тогда, когда, по мнению остальных, вроде бы и нужды в этом уже не было.
— Чисто побесились люди, ить загубили живую душу не за понюх табака, — пробормотал Савелий Чух, сморщившись. — Не уважаю.
И он, и остальные члены поисковой группы, как они величали свою банду, за двадцать лет, проведенных в эмиграции, отвыкли от большой крови.
Ефим Брюхатов, тяжело спрыгнув в снег с коня, нагнулся над убитым, расстегивая деревянные, самодельные пуговицы на его полушубке:
— Чего это ты, ваше благородие, — недовольно поглядел он на есаула, — нельзя было по-человечески сделать? Допрежь велел бы ему раздеться, а там хучь руби, хучь коли, мне дела нет, ты перед богом в ответе. А теперь гля-кось, весь полушубок в кровище, неопрятность, не дюже удобно.
Неловко стащив с убитого полушубок, Брюхатов, размашисто перекрестившись, гнусаво, под дьячка, зачастил, закатывая глаза кверху:
— Упокой, господи, душу усопшего раба твоего Ивана и прости ему вся согрешения вольная и невольная…
— Сусанин, понимаешь, нашелся, — не обращая внимания на недовольство подчиненных, возбужденно говорил есаул Дигаев. — Предупреждал ведь, что я тебе не лях, веди как положено, по путику. Специально завел черт-те куда, вот и валяйся здесь до Страшного суда, мне не жалко. Не жалко, по-нят-но? — Он исподлобья оглядел стоявших вокруг людей, с вызовом останавливая взгляд на каждом.
— Все понятно, дорогой Георгий, — кисло улыбнулся ротмистр Бреус, — захотелось тебе его казнить или миловать, казни, пожалуйста, бог тебе судья. Только ведь прав Брюхатов, зачем же с кровищей? Фу! Раздел бы его и пустил по сугробам, через часок-другой мужичонка сам бы дуба дал. Впрочем, не берусь тебя судить, друг любезный, ибо сказано в писании: «Не судите — и судимы не будете».
Мужик до последнего уверял, что с часу на час они выберутся на тропу, а там и до заимки рукой подать. Правда, никто ему не верил. Еще утром голец — высоченная горная цепь, лежавшая выше границы леса, — казалась им непреодолимой. Выделяясь на фоне пасмурного неба скалистыми пиками, она подавляла воображение, пугала каменными россыпями на плоских поверхностях гор, на которых в любую минуту могли поломать ноги лошади. Но потом проводник случайно или со знанием дела выпел их на гольцевую террасу, и идти стало проще. Лошади там шли легко по убою — плотному снегу, и настроение у путников заметно улучшилось. С гольца по ущелью спустились в долину и у выхода на пес наткнулись на кукольничок — молодой еловый подрост.
— Ты погляди, какая краса, Николя, — тормошил ротмистр Бреус сотника Земскова. — Да в какой Маньчжурии или Японии ты такое увидишь, милый Мика? И такую землю мы отдали этим красным оборванцам!
Ельник действительно казался сказочным. Укутанный пышными, заледеневшими сверху, искрящимися шапками снега, от которых пригибались лапы деревьев, он превратил лес в фантастическую сцену, на которой вели хоровод разряженные куклы; отсюда и это точное народное слово — кукольничок, кукольник — зимняя краса, подсмотренная людьми.
— Тебе бы, Сан Саныч, — прервал рассуждения ротмистра Бреуса есаул Дигаев, — хорошо в женской гимназии беседы проводить об эстетике. Им бы не успевали слюнявые батистовые платочки менять. Восторг! Красота! Чистота!.. Болтовня все это. Погляди, что здесь делается! Снега в этом паршивом ельнике столько, что нам такую западню и за сутки не преодолеть. И потом, если я еще не все забыл, что с Сибирью связано, так здесь же с десяток берлог, не меньше. Провалимся, потревожим хозяина, значит, прежде чем прибьем его, он нам коней до смерти перепугает, а то и задрать парочку успеет. Куда же ты, большевистская паскуда, — обратился есаул Дигаев к проводнику, — завел нас?
Мужик огляделся.
— Трошки заблудились. — Потом он махнул рукой куда-то вправо, но сказать ничего не успел.
Дигаев, прижав нижнюю губу к зубам, резко засвистел. А когда удивленный проводник оглянулся на свист, он, стронув коня с места и резко склонившись к конской гриве, с потягом ударил шашкой по худой, морщинистой шее проводника, нелепо выглядывавшей из воротника шубейки.
И такой странной, неестественной казалась эта картина — на фоне подступившего кукольника разметался на белом, поблескивающем снегу пожилой бородатый мужчина, и сугроб возле него все более и более промокал темной, дымящейся кровью…
Ельник обогнули справа и сразу попали на стегу — узкую, но заметную тропу, которая через полчаса привела в высокий лиственный лес, светлый, малоснежный, с кустарниковым подлеском.
— Если это тот самый лес — «догдо», о котором говорил проводник, значит, где-то поблизости и заимку искать надо, — с осуждением поглядел в сторону есаула сотник Земсков.
— А что, вполне такое может быть, — беззлобно согласился есаул Дигаев, — не все же нам в снегу ночевать. Поймав удивленный взгляд сотника Земскова, он продолжал: — Какая разница, сотник, правильно он нас вел или неправильно? Один черт, его отпускать нельзя было, он бы нас при случае опознал и тропинку нашу комиссарам из энкэвэдэ выдал. Я и так хвоста боюсь, а у меня еще с двадцатых годов нюх на погоню отменный. Так кого мне жалеть: мужичонку бесхозного, который что был на свете, что нет его — ничего как есть не изменится, то ли нас всех, мучеников за святое дело отчизны, у которых и остался-то последний реальный шанс отвоевать свое почетное место под солнцем?! То-то же, сотник.
Уже в сумерках вышли на небольшую полянку, на которой темнели два бревенчатых барака с дверями, подпертыми большими лесинами. Судя по всему, бараки были заброшены уже много лет назад. Кто коротал в них свои денечки — рабочие ли геологоразведочной партии, лесорубы ли, а может быть, и вольные старатели-артельщики золотишко какое-никакое в шурфах промышляли, — неведомо. Но похоже, что люди это были добросовестные, работники отменные, клали бараки на века: кряжи спелых деревьев рублены в лапу, проконопаченные пазы, крыша в несколько рядов покрыта корьем. Посередине бараков стояли железные печи с проржавевшими, но все еще целыми трубами. В одном решили поселиться сами, а во второй барак поставить коней.
— Сиплый! — позвал есаул Дигаев Ефима Брюхатова, заработавшего в Харбине эту неблагозвучную кличку из-за своего хриплого, тусклого голоса. — Давай-ка Насте в помощь, харч готовьте, а то пуп уже к позвоночнику присох. Ты, Чух, лошадьми займись.
— А то я сам не знаю, — тихонько, но все же довольно слышно проворчал казак. Он уже расседлал своего гнедого и, накрыв его короткой походной попоной, принялся за коня есаула.
Дигаев пошел взглянуть на окрестность. Прапорщик Владимир Магалиф отгораживал в углу барака куском брезента закуток для себя и своей сожительницы Анастасии Симанской, которая выполняла в банде роль артельной мамки — кашеварила, на всех стирала, штопала нехитрую амуницию.
Ротмистр Александр Александрович Бреус, как всегда, не найдя себе дела, старательно размахивал руками, что заменяло физические упражнения, и рассказывал сотнику Земскову о системе английской гимнастики, способной продлить жизнь любого мужчины не менее чем на десять лет.
Итого, семь человек, семь белобандитов, эмигрантов, вернувшихся в марте тысяча девятьсот сорок третьего года из Маньчжурии в Советскую Россию для поиска золота, припрятанного в годы гражданской войны в спешке отступления.
— Ваше благородие, — откашлявшись от дыма, выскочил из барака Ефим Брюхатов, — ну какого рожна вы здесь стоите? Мы вас уже с дровами ждем, а вы все лясы точите, — набросился он на сотника Земскова, — вы ведь по Хайлару небось помните, что Сан Саныча никому не переговорить. Быстрее все переделаем, быстрее и отдохнем, идите за-ради Христа.
Сотник Земсков конфузливо махнул рукой и, ухнув по колени в снег, с трудом побрел к высоченной сухостоине, склонившейся неподалеку над тропой:
— Сейчас, Сиплый, сейчас я ее срублю, погоди.
А ротмистр Александр Александрович Бреус, воспользовавшись оказией, уже забрасывал вопросами Ефима Брюхатова, сам же торопясь ответить на них:
— Вот как это, Сиплый, случилось, что ты, рядовой казак, смеешь так нахально говорить с офицером? Да двадцать лет назад тебя бы, сукина сына, за такое хамство на коньке этого барака вздернули! Верно говорю? Верно ведь, а?
— Дык чего же верного, ваше благородие? И в двадцатые годы по-разному бывалоча. Иной раз офицеры нам порку устраивали, чужими жизнями заместо бога распоряжались, а когда и их к стене ставили. Бывалоча они и в бою в затылочки пули получали. Да кто же супротив прежнего сравнивает?
— Как кто? Ты ведь все равно казаком как был, так и остался! А с меня и с сотника Земскова никто офицерского звания не снимал. Верно?
— Что правда, то правда, и казаки ишо есть и офицеры, да только ни армии не видать, ни земли, которой мы бы нужны были. Вот она в чем загвоздка, Сан Саныч.
— Сейчас мы с тобой, Сиплый, как в военном походе! И дисциплина прежде всего, она нас и спасет в трудный час.
— Суперечить не хочу, но, по моему разумению, это не военный поход, а экспедиция акционеров, ваше благородие Все ухи — ребята, в случае удачи пай-то у всех одинаковый будет. Все остальное: и звания, и обращения, и разные там реверансы — детские свистульки. Если направдок гутарить, то в Хайларе я с тем же сотником Земсковым потягаться могу. Там он ко мне не раз в трактир приходил, сам, без приглашения. То, гутарит, Сиплый, выручи с деньжатами, то, мол, Сиплый, вступай в дело, лесозавод построим. Время всех уравняло в званиях, а кое-кого и вперед выдвинуло. Дай нам бог сейчас богатство урвать, тогда окончательно сравняемся, да и то надолго ли? Вон прапорщик Магалиф, сохрани его царица небесная, ежели у него Настя денежки не успеет к рукам прибрать, живо на наркотики спустит или проиграет, и опять у него, кроме звания прапорщика да этой самой верной Насти, ничего не останется. А у меня денежка к денежке — вот и капитал!
— Есть в твоих словах резон, Сиплый, но больно все голо получается, бесцеремонно как-то.
— Вот вы, Сан Саныч, вроде поумнее прапорщика Магалифа и сотника Земскова, но ить и у вас руки не оттуда растут, даже вы без первоначального капитала в экономической жизни нулик из себя представляете, какие уж тут церемонии!
— Ну ты не перебарщивай, Сиплый, я фривольностей в разговорах не терплю. Говори в общем или о ком угодно, а меня не трогай.
— Я разве супротив, ваше благородие, могу не трогать, хучь что я о вас гутарил? Что вы умнее прочих, я бы с вами и вообще в компанию вступил…
— Это как понимать, как предложение?
— Как угодно понимайте, ваше благородие, а от сказанного не откажусь, даст бог. — Сиплый, отдышавшись, нырнул в дымный барак, где возле печки орудовала Настасья, а ротмистр Бреус, дав несколько дельных советов сотнику Земскову о том, как сподручнее рубить дерево, пошел ко второму бараку, в котором Савелий Чух устроил конюшню.
Лошади топтались еще перед бараком. Чух надел им поверх оголовья недоуздки и привязал за чумбур. На всех ездовых были заботливо наброшены попонки. А сам Чух разжег в печке огонь, дым от которого, заполнив комнату, выходил не через узкую нависшую трубу, а через двери. Чух пристроил на плите большой медный котел, найденный под нарами, и растапливал в нем комья снега, подтаскивая в цинковом ведре все новые и новые порции.
— Ты что здесь кочегаришь? — поинтересовался ротмистр Бреус. — Уж не баньку ли готовишь?
— Не, Сан Саныч, — шурудя головешкой в топке, ответил Чух, — лошадей попоить нужно, а о нашей баньке не пришло время думать.
— Правильно, — одобрил ротмистр, — лиши нас сейчас лошадей, и обречены мы. Не растерял ты, Савелий, казацкой заботливости, верно службу понимаешь. Эх, Савелий, мне бы сейчас сотню таких, как ты, и сам черт бы не страшен.
— По-моему, ваше благородие, так кончилось наше время, побаловались, погуляли всласть. Теперича разве вот так, как мы сейчас, нырком в Расею и дунем отсель восвояси, пока не спохватились и нам ноги не оборвали вместе с тем, из чего они растут.
— Верно, Савелий, маловато у нас теперь силенок. Я в двадцатые годы месяцами мог с коня не сходить, а нынче всего-то двадцатый денек в походе, гляжу, уже и поясницу ломит невтерпеж, и в паху покалывает, боюсь, уж не грыжа ли подстерегла.
— Дык не вы один такой, ваше благородие. Все наше войско постарело на двадцать годов. Кому в гражданскую было двадцать, тому нынче за сорок, а кому допрежь четыре десятка стукнуло, тот и вовсе старик — шестьдесят лет, это не сладость. Завязки шаровар у щиколоток без табуретки не каждый завяжет. Казаки, разъязви вашу! С таким войском не навоюешь. Нам сейчас вокруг дома мотней трясти, а не по свету мыкаться.
— Ничего не поделаешь. Вот если бы немцы побойчее шевелились да японцы в Сибирь двинулись, не остались бы и мы с тобой, Савелий, без ратных подвигов, без крестов боевых и без почестей.
— He-а, Сан Саныч, какие же это почести — с германцем в родную станицу возвращаться? По мне, так уж лучше на чужой стороне помереть, чем такой позор испытать.
— Какая тебе, Савелий, разница, с кем большевиков бить, с атаманом Семеновым или с япошками? По моему мнению, так цель оправдывает средства. Ты, кстати, из каких будешь? Какой станицы?
— Старокубанской станицы я, Сан Саныч, там родился, крестился, миловался, а помирать вот в Маньчжурию забрался.
— Ты прямо-таки поэт, Савелий, рифмуешь!
Растопив снег и слегка подогрев воду, Савелий в несколько заходов вычерпал ее ведром, попоил лошадей. Потом снова наносил снега в котел.
— За один раз не управиться, раза три придется растапливать, да то ничего, торопиться нам сегодня некуда. Боюсь, Сан Саныч, что и завтра нам отсюда не тронуться. Так у меня сегодня ноги ноют, ажник каждую косточку чувствую, а этот барометр меня досе не подводил, быть пурге сегодня, ну в крайнем случае завтра.
— Ну, господин метеоролог, если ты уж решил накаркать непогоду, так уж лучше сегодня, пока мы под крышей, не дай боженька, в тайге метель захватит, намаемся, настрадаемся, намерзнемся.
— Я, Сан Саныч, призывался осенью шестнадцатого года. Ну, думал, за два года и германца разобью, и полного георгиевского кавалера заработаю, и уж в станицу меньше, чем сотником не вернусь. Жену молодую оставил, на сносях она у меня уже была. Молодая да красивая, а здоровая какая баба была, работящая, дай бог каждому такую, только не напастись. Агафьей звали. Вернусь, думал, в чинах, настрогаем мы с милатой детишек-ребятишек в долгие зимние вечерочки, и буду жить-поживать, беды не зная. Да вот так с конца шестнадцатого года в станице и не был, это выходит — двадцать семь лет. Подумаю, представлю себе прошедшие годы, и оторопь берет. Это же целая человеческая жисть вместилась, а все искания зряшны. Прожил свой срок в мечтах и воспоминаниях.
— Что, Савелий, так ничего и не знаешь о том, как там у тебя дома дела обстоят?
— Брехать не буду, однажды слышал. Мы тогда с атаманом Семеновым уже в Приморье порядок наводили. Однажды на Светланской улице — это главная улица во Владивостоке — народишко разгоняли, глядь, в толпе физия знакомая. Кондрат Бельченко, иногородний, у нас в станице в свое время прижился, в работниках был у моего соседа. Он меня поначалу не узнал. Посля мы с ним весь вечер просидели, отвели душу в разговорах. Он, правда, в рабочих был, больше к красным примыкал, но мы с ним не о политике, а о своей станице балакали. Рассказал, что мать моя померла, земля ей пухом лебяжьим. У жены моей Агафьи сынок от меня народился, в память о бате моем Иваном назвали. Вот и все новости за двадцать семь лет. Так и вырос, видать, сынок Иван. Ноне небось с германцем воюет. Я хоть его никогда не видел, а жалость к нему большую испытываю, Сан Саныч, а вы хотите, чтобы я с Гитлером в одном ряду шел, против сынка родного, что ли? He-а, ваше благородие, супротив кровных родных не воевал и воевать не буду. Так-то.
Савелий Чух напоил лошадей. Потом засыпал в торбы овса. Своим лошадям, и ездовой и запасной, он в овес добавил резку из ржаной соломы.
— Ты где это соломы раздобыл, Савелий?
— Это когда мы проводника, которого есаул порешил, мобилизовывали, я у него на сеновале маленько позаимствовал. Ему там все равно осталось с лихвой, скотину-то его мы на провиант порезали.
— Ну и жуки вы, братец! Ефим Брюхатов у него втихомолку в сундуке пошурудил, ты на сеновале, а есаул, если мне чутье не изменяет, с его женой в сараюшке ванек с маньками понаделал. Взяли мужика со всех сторон, как в доброе старое время. Ну, ты не жмоться, моим коням тоже подсыпь соломенной резки. С ней лошади и овес лучше пережевывают, и слюны больше выделяют.
— Для вас, Сан Саныч, не жалко, могу и ржаной соломкой поделиться, вы человек мягкий, деликатного обхождения. Не то что наш есаул: чуть что не по нему, так сразу грозит, орет как оглашенный, ажник осип от злости.
Чух притащил откуда-то из угла большой клок соломы и тут же, у очага, остро отточенной шашкой нарубил ее кусками шириной в два-три пальца; высыпав резку в торбу, старательно перемешал ее с овсом и вернулся к очагу.
— Так ты у него еще чего-нибудь из кормов позычил или только соломы?
— Для всех лошадей мы у него овес выгребли, хотя там и было-то всего пудиков восемь, на зубок нашему табуну. А для своих я еще пудик бобов прихватил, это для них как деликатес, разнообразие, значит.
— Ты этим разнообразием, Савелий, и моих подкармливай, понял? Время придет, сочтемся. Однако дальше нам всех лошадей не сохранить, с кормами день ото дня все хуже и нам, людям, и им. Вот, казалось бы, какая малость — простая трава, ее летом в пойменных лугах сколько угодно, а от нее жизнь животного зависит. Не хватило этой самой травы — и подыхай лошадь, какой бы ты чистой породины ни была.
— Так, Сан Саныч, и человеки от такой мелочи зависят, что иной раз сам удивляешься. Как муравей, бывало, ползешь наверх кучи, а тебя кто-то всемогущий поддел соломинкой и вниз сбросил. Ты снова на себя крупинку — по божьим масштабам — навалил и наверх полез, а он тебя снова шутки ради сбросил, так вся жизнь и проходит, а до верха кучи все не добраться. Меня вон уже сколько раз сбрасывали неудачи. Да с каждым разом все больнее падать, все труднее наверх ползти, будь оно все неладно. Мы когда за кордон ушли, думали, быстро вернемся, ан нет, большевики власть отдавать не желают. Пришлось основательнее устраиваться. Я под Хайларом себе землицы прикупил, раскорчевал. Одному с хозяйством не справиться, дык я женился. Не по закону мы с Надеждой жили — я ведь в церковном браке с Агафьей досе состою, — но по согласию. Ох, и работали, ох, и работали мы, Сан Саныч, ни себя я не жалел, ни Надежду. Как только пупок с натуги не развязался. Она, правда, понимала, что иначе нам не выбраться из нужды, из сил выбивалась. Была она истинной казачкой: и жена, и рабочий вол, и мамка — родила она мне сына, Кириллом назвали. Выбился я все же на чужбине в крепкие хозяева, на ноги прочно стал, немало лет на это ушло, а снова внизу оказался — в мгновение ока.
Савелий Чух горько махнул рукой и, замолчав, пошел допаивать лошадей, которые уже справились со своим сухим пайком. В барак он не вернулся, и ротмистр Бреус, посидев немного возле огня, вышел на поляну. Небо над лесом было чистым, ярко светила луна, отражаясь мириадами звездочек в настовом снегу. От деревьев, на краю опушки, частоколом тянулись темные контрастные тени. Возле первого ожившего барака зычно распоряжался есаул Дигаев, глухо стучал топором сотник Земсков.
Савелий Чух отошел к лошадям и, скрутив соломенный жгут, досуха растер им своего гнедого. Этим же жгутом он с меньшей охотой поелозил по крупу запасного коня и тут же отошел к своему гнедому любимцу. Став с левой стороны, он широкими, спокойными движениями почистил щеткой голову, шею, потом взялся за переднюю левую ногу, корпус… Ротмистр Бреус молча наблюдал за казаком, пытался вслушиваться в несвязные ласковые слова, с которыми Савелий Чух обращался к коню, хотя и понимал, что ничего особенного тот сказать не может. Против волос Чух скользил щеткой без усилий, а вдоль вел ее с небольшим нажимом. Он чистил коня с явным удовольствием, не пропуская неудобных, малозаметных мест — шею под гривой или внутреннюю поверхность бедер. Вроде бы небрежным, но на самом деле очень ловким движением он очищал щетку о зубцы скребницы, оставляя в ней грязь, пыль и перхоть, а потом, выбив в снег грязь из скребницы, он снова льнул к коню, ласково оглаживая и чистя его. Оставив слева несколько штрихов — следов выбитой скребницы, он перебрался на правую сторону коня и принялся чистить ее в той же последовательности.
Он так же нежно и осторожно чистил голову коня, что кавалеристу Бреусу, знавшему толк в лошадях, не хотелось уходить. С затылка, сверху вниз, под челкой и ремнями недоуздка. Сверху вниз шшш-ших, сверху вниз ш-ш-ш-ших. Закончив чистку коня щеткой, Савелий Чух достал суконку и протер животное ею.
— Влажной суконкой надо протирать, влажной, — укорил его ротмистр Бреус.
— Так он у меня пока не в конюшне стоит, ваше благородие, на дворе хоть и маленький, да морозец, чего же мне коня портить? Правильно говорю, Сан Саныч?
Ротмистр промолчал, а Савелий Чух, и не ожидая ответа, перебрал пальцами гриву, челку, а потом и хвост, протер волосы суконкой и почистил их вдоль щеткой. Потом так же старательно и осторожно, будто возился с младенцем, он протирал коню окружность глазниц, ноздри, специальным ножом, выстроганным из липового дерева, расчищал копыта.
— Коли разбогатею, братец Чух, возьму тебя к себе на службу. Пойдешь?
— Дык какой же антирес мне тогда к вам идтить, Сан Саныч? Ежели вы разбогатеете, значит, и я тоже; за одним ведь делом в Расею вернулись, или у вас другие соображения? Хотя мне сейчас никакое золото покоя не вернет.
— Да чего же ты такой унылый, Савелий? Что у тебя случилось? Ты так и не досказал в бараке. Кстати, ты бы вот так же заботливо и моего коня почистил, а я тебя послушаю, может быть, совет дам, а?
— Почистить недолго, Сан Саныч, но допрежь мне положено конем атамана Дигаева заняться. Да не серчайте, я обоих успею. С его-то конем возни больше, он весь в хозяина: нервный, злобный. Его только я не боюсь чистить, а остальные казаки и здесь, и в Хайларе без намордника за чистку или седловку и не брались. Этот жеребец, как волк, зубами тяпнуть может. Вот так-то.
— А ты почему его не боишься?
— Я к нему спокойно отношусь, говорю тихо, как с самим его благородием. Когда и сухарик дам или соли чуток. Их благородие есаул проявляет к своему коню грубость и непонимание. Жеребец ему не доверяет, а это рано или поздно скажется, ей-богу, скажется. Конь — он памятливый, как баба молодая, ему ноне нагайкой дай, а он тебе эту обиду через год припомнит, да еще в самый неподходящий момент. Я такое в своей сотне видел. Но что я вам гутарю, вы и сами знаете.
— Смотри, Савелий, есаул узнает о том, что ты его за глаза критикуешь, быть беде.
— Нехай, я ить его уже и в лицо предупреждал. Да вы только посмотрите на его красавца! Не глядите на то, что он густыми волосами зарос, как якутская лошадь; под Хайларом, где он на свет появился, тоже ведь не Индия — холодновато, вот и зарос. Это жеребец арабских кровей — хадбан. Приглядитесь к его голове: небольшая, щучья, а ноздри, смотрите! — Савелий Чух увлекся, загорелся. — Ноздри большие, подвижные. Такого стервеца мне бы на хутор для развода. Они, конечно, позднеспелы, дык то не беда, и живут поболе других пород, и в старости борозды не портят, на кобыл выпускать можно.
Все это ротмистр Бреус знал и без Савелия. Он еще с Хайлара с завистью смотрел на жеребца атамана, но, когда он предложил тому обмен с доплатой, есаул Дигаев с усмешкой отказался:
— Полно вам шутить, Сан Саныч! Какой может быть обмен? Истинного эквивалента вы мне предложить не сможете, а идти на сделку себе в убыток — это не по мне-с. Но вы не расстраивайтесь, на те сокровища, которые мы в России выручим, вы целый табун жеребцов сможете приобрести, каких только душенька пожелает, хоть арабской, хоть английской чистокровной породы.
— Побойтесь бога, есаул, вы ведь не женщину в постель посулами завлекаете. Не думаю, чтобы деньги, прихваченные нами в Сибири, были так велики. — Ротмистр метнул испытывающий взгляд на Дигаева. — Да и то, что заработаем, предстоит поделить на семь паев, а это уже совсем крохи по нынешним понятиям, жизнь-то дорожает, вы разве этого не замечаете?
— Ну, если минимум пять миллионов в твердоконвертируемой валюте, в золотых слитках для вас, ротмистр, не деньги, тогда это уже ваши трудности. А по поводу семи паев, так и тут вы что-то напутали.
— Позвольте, нас в Россию семь человек направляется или уже меньше?
— Семь членов группы, это верно. Но с чего вы, любезный Сан Саныч, взяли, что равный с нами пай получит и бабенка прапорщика Магалифа? Настасью я нанимаю кухаркой и прачкой с твердым окладом и выплатой полевых, но не более того. И вообще, пусть Магалиф говорит спасибо за то, что я считаюсь с его прихотями и несу расход на его любовницу, я сам себе такого баловства позволить не могу.
— Но если я правильно понял, прапорщик Магалиф — единственный участник поисковой группы, точно знающий место захоронения сокровищ.
— Вот именно, Сан Саныч, поэтому я еще терплю его выкрутасы и на протяжении последних двух недель оплачиваю его наркотики. Если вы думаете, что мне это легко, то ошибаетесь, дай-то бог из Хайлара выехать до тех пор, пока кредиторы не засуетились.
— Остальные участвуют в походе на равных условиях?
— Если я отвечу на этот вопрос положительно, Сан Саныч, то, безусловно, разочарую вас, но это не входит в мои планы. Рядовых казаков Ефима Брюхатова и Савелия Чуха мы щедро наградим за верную службу, с тем и отпустим после похода. Да и то, если все окончится благополучно и они живые и здоровые вернутся с нами в Хайлар. Смотрите на них как на наемников, которые должны принять на себя тяжесть похода и проявить себя в боях. Надеюсь, что вы понимаете: говорить им об этом не следует. Итак, остается четыре офицерских пая и вклад в эмигрантскую кассу, которого не избежать. Это вас устраивает?
— Ну, дражайший Георгий Семенович, это уже что-то, на таких условиях рискнуть можно.
…Этот тайный замысел есаула Дигаева Александр Александрович Бреус и вспомнил, разговаривая с Савелием Чухом. А тот, не ведая о том, старательно осматривал лошадей, проверял состояние их ног, прощупывал сухожилия.
— Гля-кось, Сан Саныч, опять вроде с магалифским жеребцом неладно, а? Трошки хромает. — Савелий Чух стал лицом к лошади и, удерживая ее руками за ремни оголовья, ухваченные под трензельными кольцами, слегка осадил лошадь, заставив ее ровно встать на все четыре ноги. Отпустив ее, обошел, а затем склонился над копытом.
— Верно, Савелий, обезножел конь, засечка венчика, — указал пальцем ротмистр Бреус, — видно, на быстром аллюре ушиб. Мало нашего Магалифа мамочка в детстве наказывала, говорил ведь ему: береги жеребца, Вольдемар, береги его, словно первую любовь. Нет, не послушался ротмистра, а теперь жеребца нужно освобождать от работы. Даром только овес будет жрать.
— Если осторожненько, Сан Саныч, то на нем еще можно ездить.
— Это тебе, к примеру, можно или мне, но не Магалифу. Тот как неземной мальчик, не гляди, что сорока лет от роду, а все о чем-то возвышенном думает, о неземном.
— Опиуму ему небось хочется, Сан Саныч, или выпить. В Хайларе брешут, что, дескать, если наркоман, так на горилку не глядит, но в жизни это не так. Я его ни разу нормальным не видел, лихоман его вытряси. Все чем-то одурманенный. А тут уж двадцать дней как трезв. У проводника в доме самогонку разыскал, тот для компрессов держал, да и тут не повезло — Настасья бутылку разбила. Дескать, случайно, но ведь бабьему слову верить нельзя, все у них случайно. Сам прапорщик человек невредный, ежли ему объяснить, что без жеребца погано ему будет, может жалеть его, кто знает.
— Но ты, Савелий, об этом сам докладывай. Не люблю я ни врагам, ни друзьям плохие новости сообщать, они на меня потом чертом смотрят, будто я виноват в их несчастьях.
— Дык то моя служба, Сан Саныч: смотреть за лошадьми и докладывать атаману. Вот уж он ругаться будет, это точно. Небось таких матюков наслушаюсь, чирий ему на язык, что перед людьми мне стыдно будет. Ладно, брань я переживу, не кисейная барышня.
— Чего ж ты тогда не переживешь, Савелий?
— Еще одну такую собачью жизнь, Сан Саныч, я уж теперича не осилю.
— Чем, скажи, тебе жизнь не нравится, неблагодарный! Живешь, хлеб жуешь, птичек слушаешь, на небушко глядишь.
— Мне бы на него и вовек не глядеть. В Хайларе оно мне чужое, опять же здесь не в небо глядеть приходится, а таиться, как бы хозяева не застукали да не подстрелили: мы ить к ним не с подарками наведались, а с горем. И чего, ваше благородие, всем нам неймется? Аль нам жизнь дешева стала? Вот я, казалось бы, набедовался сам, ну и плакать бы мне втихомолочку над своей горемычной жизнью, нет, я на родную сторонку опять татем забрался. Маманя мне с небольшим три десятка лет тому назад говорила: «Шкодлив ты, Савелий, не по возрасту»; советовала: «Уймись по-хорошему». Не послухал матерю. Я и вправду ведь шкодлив, все не туда меня жизнь носит. Хочешь, чтобы все было путем, по-людски, из кожи вон лезешь, ан время пройдет, опять, оказывается, не то я делал. Ну как такое понять, Сан Саныч, как выправить положение, можете вы мне это объяснить как ученый человек? Вы ить гимназию оканчивали, в юнкерском училище премудростям обучались, а?
— Чему, Савелий, быть, тому не миновать, эта истина не мною придумана. Все мы жертвы эпохи, а коли так, нужно у этой самой эпохи хоть чуточку своего счастья урвать, вот и сквитаемся с ней.
— Э, урвать. Я на своем хуторе урывал как мог. В июле, как сейчас помню, мне рожь убирать нужно, жену скрючило, внутри, говорит, Савелий, все полыхает. Что же мне было — разорваться? Аль все бросать к чертовой матери да ее к врачу везти, аль погодить маленько. Ты потерпи, гутарю ей, потерпи чуток, не бросать ведь поле несжатым? А на работников полагаться нельзя, им бы поболе полежать, поменьше поработать, не свое ведь хозяйство. Замолкла моя Надежда, вялая какая-то бродит, на себя не похожа — как в воду опущенная. Я уж рукой махнул, толку от тебя ныне нет, Надя, поезжай сама к врачу, а позже и я там буду. «Нет, — отвечает, — теперь уже торопиться некуда. Я пока травки попью, а ты с работой справляйся сам». К ночи в курень чуть ли не на карачках приполз от усталости, а она ко мне с допросом: «Любишь меня, Савелий?» — «Мать твою так! — кричу. — Да какая мне сейчас любовь, не видишь, что ли? Аль не при уме? Мне что, восемнадцать лет? Это в щенячьем возрасте можно и работать и любиться. О чувствах заговорила, значит, выздоровела, какого же лешего дома околачиваешься? Завтра чтобы со мной на поле отправлялась». — «Не к тому, — говорит, — я тебя спрашивала, хотела тебя попросить, что, если помру, не бери в дом больше женку. Другую приведешь — меня забудешь, и не останется обо мне памяти на всей земле». Вот как, ваше благородие, помирать собралась, а сама живого требует — памяти! Утром проснулся, за окном уже дневной свет, продрых зорьку, что ж это Надежда не подняла?! Хотел было побранить ее, глядь, а она уже отошла, отмучилась, тихая такая лежит, спокойная. Ослобонился от бабы. Разве мог я подумать, что из-за какой-то болячки такая здоровая баба умереть может! Коли бы знал, и на урожай, и на хозяйство плюнул бы. Да откеда же знать-то было.
— Не наговаривай на себя, Савелий, на хозяйство ты бы никогда не плюнул.
— Тогда, может, и по-вашему вышло бы, но ныне думаю, что была мне Надежда важнее хозяйства. Да оно с ее смертью и захирело, в один миг в упадок пришло, как будто она его заколдовала. Я ведь тогда против бога и совести пошел, теперича никакого оправдания душа не принимает, а в то время казалось, что иначе и быть не может, не предвидел, что вместе с ней и из меня жизненные соки уходят, что, будто в отместку за нее, дальше жизнь на еще больший перекосяк пойдет. В то злополучное утро Надежду покойную в подвал на ледник уложил — в жару ведь умерла. А сам вместо того, чтобы распрощаться с ней по-людски, похоронить, опять в поле рванул — тучи шли, боялся, что не сберегу урожая, если дожди затяжные пойдут. Убрал рожь, потом еще с неделю сено косил, не подыхать же зимой скотине без корма. А тут меня кила враз скрутила.
— Кила — это грыжа, что ли?
— Точно, но у нас килой зовут. Вымахала она у меня с торбу величиной, не ступить, не повернуться, как шпорами промежность разрывает. Дополз кое-как до дому, за ночь очухался, а потом, как знахарь мне килу вправил, и за похороны наконец взялся. Сыночек наш Кирилл еще в младенчестве помер, родных у Надежды не было, соседей тоже звать не стал, у меня с ними нелады были из-за пограничной межи, моей земельки оттяпать хотели. Так вот, сбил я домовину из новых досок, а потом еще два дня копал могилу. Два дня потому, понимаете, что кила не шутка. Похоронил Надежду, и только тут стало до сознания доходить, что снова один я остался на всей чужеземной стороне и никому-то до меня дела нет. Такая тоска напала, что хуже смертушки. Поехал в город, зерно оптом продал, да не утерпела душа, запил — три дня гулял. Как до дому добрался, ума не приложу. Но как только добрался, сразу в память пришел — гляжу, нету у меня дому, пожарище, а по сторонам обгорелые дворовые постройки. А дело было так: я как из дому вырвался, мои работнички тоже в пьянку ударились, вроде бы Надежду мою поминали. Так напоминались, сукины дети, что курень по случайности сожгли. Вместе с домом один из работников сгорел, а остальные бродяги разбежались от управы. Ну что тут скажешь? В людей с тех пор я напрочь веру потерял. Как иначе? Ить из трех работников двое моими однополчанами и земляками были, кому же в таком разе верить, ежли не им? На кого положиться человеку в беде?
— Вот оно как, Савелий, теперь мне понятно, почему и ты с нами оказался.
— Потому и оказался, терять-то мне больше нечего. Сманул меня есаул Дигаев: впотьмах-то и гнилушка фонарем светит. Я после пожара в компании с прапорщиком Магалифом последнее пропивал в трактире. Озверел вконец. Чуть кто слово супротив скажет аль косо на меня посмотрит (а может, и показалось это мне), дык разум мутнеет и зараз в драку бросаюсь. Прапорщик, он что, тонкая кость, голубая кровь, квелый, приходилось мне одному отдуваться. Ох и часто же я бивал тамошний народ: и китаешкам, и крещеным доставалось направо и налево, но, по чести сказать, не реже и меня били. Соберутся, бывалоча, те, кого я первый задевал да обижал, и отделают за милую душу, ажник еле двигаюсь. Пока охаю, выздоровленья страшусь — держусь потише, знаю, что еще не успокоилось у меня нутро. А потом снова за свое, пропала охота жить, карабкаться наверх. Вот так и оказался я в поисковой группе вместе с прапорщиком. В последний раз решил сделать ставку — послужить обществу и себе.
— Думаешь, в Сибири разбогатеть? Как бы и тебе, и всем нам не пришлось волками выть за такую овечью простоту. А может, и вправду повезет, — неуверенно сказал ротмистр Бреус. — Окончится наконец наша неустроенность, перевесит судьба в пользу сытой красивой жизни. Так неужели мы таких благ с тобой, Савелий, не заработали? Представь себе, казак, сидим мыс тобой, положим, в приличном кафе на Елисейских полях в Париже, вокруг нас умные разговоры, комфорт, спокойная жизнь, ляфамки глазки строят, а? И в карманах у нас чековые книжки с солидным счетом. Эх, прожектов у меня — не на одну жизнь.
— Не рано ли мы с вами, Сан Саныч, за прожекты взялись? У нас в станице побаску гутарят: не те денежки, что у дядюшки, а те денежки, что за пазушкой. И уж ежли промеж нами, направдок гутаря, так думаю, что нам с вами в Париже было бы так же погано, как и в Хайларе или в Харбине. Ну, может быть, бабы посмазливее да обслуга получше, а так все равно это закордонщина вонючая. Мне бы сейчас не в Париж, извиняюсь, ваше благородие, а в своей Старокубанской станице оказаться, в своем саду с Агафьей послухать, как сынок Ванюшка жалеет меня, неприкаянного. Ишо ежли бы каким-то чудом там рядышком Надежду воскресить, дык стал бы для меня родной курень раем, ей-богу! По мне, зараз лучшего-то и в мечтах не надо.
— Не богохульствуй, Савелий! Ишь чего ты только не возжелал, и Кубани, и сынка, которого не вспоил, не вскормил, и двух жен сразу, как султан какой. А говорил, что у тебя запросы скромные.
«По донесению начальника пограничных войск НКВД Забайкальского округа от тридцатого июля тысяча девятьсот сорок первого года, мужское население Трехречья (Маньчжурия), как русские, так и китайцы, в возрасте от двадцати до сорока пяти лет обязаны явиться в Драгоценовку третьего-четвертого августа сего года. Русские, служившие у генерала Семенова, обязаны явкой независимо от возраста. Населению Трехречья приказано доставить в Драгоценовку по одной повозке с лошадью от каждого хозяина: зажиточные обязаны доставить по одной-две верховых лошади с седлами. Лошади и повозки якобы будут направлены в Хайлар.
Восемнадцатого июля тысяча девятьсот сорок первого года в Хайларе был войсковой праздник забайкальских казаков, который проводил начальник главного бюро русских эмигрантов генерал Кислицын.
Восемнадцатого июля тысяча девятьсот сорок первого года из Трехречья в Хайлар было вызвано пятнадцать влиятельных белогвардейцев, которые, вернувшись двадцать второго июля обратно, хвастались, что назначены начальниками белогвардейских отрядов, предназначенных для борьбы против СССР.
Во всех поселках Трехречья ведется усиленная антисоветская агитация…».
…Когда ротмистр Бреус с Савелием Чухом вернулись в жилой барак, там уже все было готово к ужину. Расположились вокруг грубо сколоченного из горбыля стола, который Ефим Брюхатов чуть было на растопку не пустил, да Настасья не позволила. Настя уже разложила по армейским котелкам розоватый кулеш, щедро сдобренный салом по случаю основательного привала. И от котелков, и от котла с кашей так вкусно пахло, что долго приглашать к ужину никого не пришлось, все быстренько расселись за столом, примостившись к своим котелкам, отыскав их по выцарапанным сбоку инициалам. Только Ефим Брюхатов все еще возился возле ровно гудевшей от пламени печи, да и то недолго, только бросил в ведро с бурно кипящей водой огромный кусок чаги — нароста, сбитого день назад с попавшейся на пути березы.
— Сиплый, — поторопила Настя, — хватит тебе вокруг печи увиваться, или еще не согрелся? Гляди, как мужики кашу лопают, как бы и до твоей порции не добрались.
— Мое не тронут, поди, все знают, что я за свой кусок горло кому хоть перегрызу, — самоуверенно отозвался тот.
— Как это, Брюхатов, неделикатно с твоей стороны. Сидим, понимаешь, по-семейному ужинаем, а ты тут такие слова говоришь, ей-богу, как нехристь какой, — укорил его ротмистр Бреус. — Хотя я понимаю тебя, ты таким образом чувство удовлетворения выражаешь. Ну, тогда другое дело, но все-таки к чему такой откровенный натурализм — «горло перегрызу»? Хотя я еще в отрочестве в юнкерской казарме всяческой брани наслушался, но так к ней вкуса и не приобрел. Грубые слова, они как рашпиль для тонкого обхождения. А здесь как-никак и женщина, и твои командиры.
— Так я ить чистую правду сказал, — удивился Брюхатов, — напомнил, чтобы ни зараз, ни потом случайностей не вышло. Как гутарят, на чужое надейся, а свое паси.
Посидели, поблаженствовали за густым, черным от чаги чайком, пили с крохотными кусочками сахару вприкуску. Когда отяжелевшие отвалились от стола, есаул распорядился:
— Настя посуду убирает. Сотник Земсков с Брюхатовым дровишек запасут, а ты, Чух, к лошадям иди, костер твой уж прогорел, дымоход прикрой да заводи коней, не все же им на морозе ночевать. Осмотрел их? Все в порядке?
— Хотел доложить, ваше благородие, да вам все недосуг. У жеребца прапорщика на правой передней ноге засечка венчика. Разгружать его надо завтра, пускай заживает.
— Ты, Володька, чего же молчишь? — повернулся есаул к Магалифу.
— Да я как-то и не заметил, сам только что узнал, ей-богу.
— Слушай, прапорщик, ну нельзя же все время быть не от мира сего? Конь для тебя сейчас такое же спасение, как твоя Настасья. Пока запасные есть, а как не будет? Что делать станем?
— Ладно, атаман, ну не повезло, стоит ли так много говорить об этом. Заметил бы я засечку на пару часов раньше, что бы с того изменилось? Ни черта.
— Ну, прапорщик, — взорвался есаул Дигаев, — не был бы ты мне сейчас так нужен, я бы тебя заставил с тысчонку верст пешком отмахать, ты бы эту засечку до смерти запомнил. — И, еле сдерживая себя, он повернулся к Брюхатову. — Какого черта еще здесь прохлаждаешься? Я ведь велел тебе дров наколоть, мать твою туда.
Брюхатов лениво поднялся:
— Сколько нервов из-за какого-то полена расходуете, ваше благородие! А матерю мою вы напрасно упоминаете, я этого дела не люблю, ох как не люблю, ваше благородие… — И он, не торопясь, вышел из барака следом за сотником Земсковым, которому ничего повторять дважды не приходилось.
— Дык я пойду, ваше благородие, — поднялся и Савелий Чух, — разотру лошадям ноги смесью. А то нагрузки у них не дай-то бог, ишо бы суставы и сухожильные пазухи не отекли.
— Это ты хорошо придумал, — поддержал ротмистр Бреус, — пойдем-ка поглядим, ум хорошо, а два лучше.
С ночи над урочищем, в котором притаились ожившие бараки, пронесся жгучий северный ветер, где-то неподалеку он столкнулся с теплыми массами воздуха, и началась нередкая для этих мест куреха — злобная метель с поземкой, которая металась между высокими густыми деревьями, а вырвавшись на поляну, и вообще теряла меру, со злой сибирской настойчивостью обрушивая на бараки заряды снега, подвывая и визжа от нетерпения.
— Однако, есаул, — выглянув за дверь, высказался ротмистр Бреус, — скверная погода, и, судя по всему, надолго. Если дня через три отсюда выберемся теперь, так нужно будет судьбу благодарить.
— Ничего, глядишь, и за два прояснится, — хмуро ответил есаул, — одно хорошо, если энкэвэдэ и вышло на наш след, так сейчас его потеряет; нет худа без добра. Отоспимся, лошадям дадим отдых.
— Осмелюсь доложить, ваше благородие, — вмешался Савелий Чух, — корма дней на пять, не боле. От силы на семь, ежли паек лошадям урежем.
— За пять дней, Савелий, мы уже у деда на заимке будем, если погода даст нам хоть маленькое оконце. А у старого скряги и лошадей подкормим, и сами перед новым переходом поедим и запасемся продуктами. Вот только если его уже бог к себе прибрал, тогда неприятностей не оберешься. Ты, Савелий, на всякий случай, запасным поменьше овса сыпь, экономь.
Тут же решили зарезать жеребца прапорщика Магалифа.
— Какого черта его кормить, если неизвестно, когда он снова работать сможет, — рассудил есаул, — ты, прапорщик, пока на запасную Земскова сядешь. Вы, сотник, не возражаете? Ну и хорошо. А позже у красных товарищей позаимствуем, вот и обойдемся.
Возражений не было, и отсиживаться в таежном бараке стало как-то веселее: мясо, даже если это жесткая конина, всегда поднимает настроение.
Весь следующий день Анастасия не отходила от плиты: варила, тушила, мыла посуду, а мужики, сытно поев, снова заваливались спать. И лишь Савелий Чух надолго уходил в конюшню, занимаясь лошадьми, да недовольному тем, что пришлось оторваться ото сна, Ефиму Брюхатову с сотником Земсковым снова пришлось отправляться на заготовку дров. К вечеру наконец все выспались.
— Как думаете, ротмистр, потеряли энкэвэдэ наши следы или где-нибудь поблизости крутятся? — вернулся к своей излюбленной теме есаул Дигаев.
— Почему вы думаете, что они на наши следы вообще напали? Может быть, мы для них как неуловимый Ким, знаете такой анекдот?
Заметив, что их разговором заинтересовались и остальные, ротмистр Бреус стал красноречивым, слова подтверждал широкими театральными жестами, так как любая, пусть даже самая маленькая аудитория всегда была для него лучшим тонизирующим средством:
— Сидят в портовой таверне города Гонконга два полицейских шпика, — начал рассказ ротмистр. — Вдруг мимо окна промчался человек. Затем промелькнул еще и еще. Готовность у сыщиков повышенная, как у нас сейчас, поэтому один из них хватается за револьвер и к окну. «Сиди спокойно, — успокаивает его приятель, — не волнуйся, это же неуловимый Ким!» — «И правда неуловимый?» — «Конечно, он же никому и на хрен не нужен, потому и неуловимый!» — Не дожидаясь реакции слушателей, ротмистр Бреус раскатисто и заразительно расхохотался. — Вот так и мы, есаул, как тот неуловимый Ким. Красным сейчас не до нас, смею вас уверить, они все свои здоровые, боеспособные части бросили против германца, а если на всю Сибирь и сохранили пару дивизий, так это не для того, чтобы нас преследовать, а чтобы полицейскую службу нести да японцев пугать.
— Сразу видно, Сан Саныч, что вы давно газет не читали, — вмешался в разговор сотник Земсков, — как я понимаю, у господ большевиков в Сибири и на Дальнем Востоке хватит сил и на наших нынешних покровителей японцев, и для того, чтобы нас отловить, если мы о себе заявим очень уж громко. Двадцать лет, прошедшие после гражданской войны, они не сидели сложив руки, поэтому не удивлюсь, если узнаю, что, пока мы здесь чаек из чаги попиваем, они наши бараки в кольцо взяли и минут через десять ультиматум о сдаче предъявят.
Есаул Дигаев непроизвольно посмотрел на часы, а Ефим Брюхатов, не таясь, отошел к углу, где стояло оружие.
— Ну и шуточки у вас, сотник, — недовольно поежился есаул, — а впрочем, мы ведем себя так, как будто все еще находимся в Маньчжурии под покровительством тамошних властей, ни караула не выставили, ни окрестности толком не обследовали. Нет, пора нам в дорогу собираться.
— Побойтесь бога, есаул, ну кому сейчас караул нужен? Да и что он может увидеть в этой круговерти? Савелий Чух в соседний барак ходил, с десяток метров, да и то боялся потеряться в метели. Это вам не Париж, милостивый государь, вот так-с. А собираться в дорогу может сейчас только самоубийца, зато лично меня ни за какие богатства Сибири сейчас отсюда не выманить. Да вы припомните, Георгий Семенович, речку Нюкжу. Неужели она вам не снится после того случая? Так то среди белого дня произошло, а сейчас ночка темная. Бр-р-р. — Передернулся всем телом ротмистр Бреус, своим видом показывая, как ему не хочется даже думать о том, что происходит за стенами барака.
Событие, на которое намекал ротмистр Бреус, каким-либо особенным, необычайным не было, конечно, если делать поправку на суровые погодные условия Сибири и на сложность похода. На Нюкже есаул Дигаев, ехавший против своих правил первым, попал в пустоледку, коварную западню, которыми богаты сибирские реки. После осеннего паводка, который прихватывают морозы, уровень воды падает, между льдом и новым уровнем образуется пустота. Иногда же она появляется в результате подтаивания поверхностного льда. Провалившись в пустоледицу, лошадь своей тяжестью пробила продольную проруху, тут же со всего маху расколотила и второй ледяной этаж, оказавшись в воде. Есаул, сначала и испугаться не успевший, заметил, как вдоль прорухи метнулась тень не тень, но что-то очень напоминающее водяную крысу. Течение реки под ледяным панцирем было сильным, и есаула Дигаева, запутавшегося в поводьях, стало тащить вниз. Жизнь его могли спасти мгновения, но эти-то мгновения уходили на панику и боязнь оставшихся на льду подойти к пролому ближе. Есаул уже захлебывался в жгучей воде, когда, страхуемый Савелием Чухом, к краю провала подполз сотник Земсков и, ловко набросив на него аркан, удержал на поверхности воды. Когда пострадавшему удалось обрезать путлища стремян и взобраться на круп лошади, его с помощью аркана вытащили на поверхность льда. Через десять минут на берегу Нюкжи полыхал костер, а есаул, сдирая с себя одежду, на глазах покрывающуюся ледяной коркой, переодевался во все сухое.
— Ну, Николай, — еле двигая застывшими от озноба губами, говорил он, — по гроб тебе, мой дорогой брат, обязан. Должника ты себе приобрел такого, что в любой момент на меня рассчитывать можешь, я, брат, добро помню. — И тут же несвязно, задыхаясь от холода, от мысли, что только что едва не распрощался с жизнью, он громко порадовался тому, что ехал не на своем арабском жеребце, а на запасной лошади, которая теперь в проломе обречена на гибель, так как никому из-за нее рисковать не хотелось, да и шансов спасти ее практически не было.
Даже теперь, в теплом сухом бараке, воспоминание о пустоледке оказалось для есаула не из приятных:
— Что тебе неймется, Сан Саныч? Нашел что вспомнить. Ты бы лучше еще инеем на бревнах повосхищался: «Заколдованная застылость в старинных рисунках», — передразнил есаул Дигаев ротмистра Бреуса. — Странная у тебя натура, вроде все по существу говоришь, красотой любуешься или, скажем, предостерегаешь от опасности, а настроение после твоих речей портится, и с чего бы это?
— Самое лучшее в нашем положении, господин есаул, — это ни о чем не задумываться. А к вам уже вон какие мысли потекли, вы их побыстрее прочь гоните, как Борис Годунов, помните: «Чур меня, чур!»
Я себя уже давно стараюсь серьезными размышлениями не удручать, так лишь о пустячке каком-либо помечтаю и только Ну, например, о том, что мои родители оказались якобы намного умнее, чем они были на самом деле, и уже после революции девятьсот пятого года — помните это предостережение всем нам, ныне выставленным из России? — перевели бы они свои капиталы во французские банки. Представляю себе, что как будто именно так они и поступили в жизни, сразу на душе радостно становится. Действительно, трудно ли было им сберечь деньги во Франции или в Швейцарии в стальных толстостенных сейфах? Я бы сейчас в таком случае не по тайге хоронился, людского глаза опасаясь, а где-нибудь на Адриатическом побережье отдыхал. Нет, к сожалению, не сделали мои родители этого дальновидного шага, им такое даже в голову не пришло, что царю-батюшке рабоче-крестьянский гегемон с помощью интеллигенции может под попку коленкой дать. А что мы из себя представляли без государя императора? Мошкару, да и только. Ветерок подул посильнее — и разнесло нас по всему земному шару. И все потому, что русский дворянин на трех сваях крепок: авось, небось да как-нибудь.
— Ну какой вы русский, ротмистр? Фамилия вас с головой выдает: Бреус! — ухмыльнулся есаул Дигаев. — Вы, полагаю, из немчиков? Потому-то и германцев с их психом Гитлером подхваливаете. Откройтесь, зов крови почувствовали?
— Какой-то из далеких наших предков, господин есаул, перебрался в Россию из Швеции, но было это не менее двух столетий назад, поэтому считаю возможным причислять себя к исконным русакам, да будет вам известно. И попрошу не проверять мои патриотические чувства, их нет, растаяли как мираж после того, как рабочее быдло выставило нас за границу отчизны. Для меня родиной станет та страна, где я смогу купить поместье и безбедно жить, отгоняя, как кошмар, все воспоминания о последних двух десятилетиях. Подумать только, свои лучшие годы я провел в прозябании только потому, что мои наивные старички не догадались перевести семейные ценности в заграничные банки! И теперь я вынужден принимать участие в каких-то сомнительных авантюрах, рыскать по Сибири в поисках сокровищ, которые не прятал.
— Н-но-но, господин ротмистр, попрошу не отзываться в таком тоне о деятельности нашей поисковой группы, — укоризненно помахал указательным пальцем есаул Дигаев. — В настоящее время мы выполняем функции форпоста лучшей части белой эмиграции. Из заработанного нами, как вы помните, немалая сумма перепадет и всему движению.
— Не смею спорить. Как вы знаете, спорить вообще противно моей натуре. Что есть спор, есаул? Дело богопротивное, вынуждающее нас активно мыслить. Кого я могу перевоспитать, если и с самим собой справиться не сумел? Люблю, знаете-с, заглядывать в самые тайники своей сущности, в своей душе копаться и те мелочи, которыми наделен почти каждый человек, принимаю за основное, неисправимое, отрицательное до страха. Все понимаю, трезво оцениваю себя, но избавиться от копания в себе, от превращения мухи в слона не могу. Вот и влачу по жизни тяжесть дум своих, я понятно выражаюсь?
— Да чего же тут не понять, Сан Саныч, всяк в неволе у своих страстей. Кому бабу ущипнуть, а кому подумать, порассуждать, как бы он это сделал, если бы были соответствующие условия, да мочь, да ее согласие.
— Поделитесь опытом, есаул, как вам это так быстро удается все поставить на свои места?! — с заметным сарказмом воскликнул ротмистр Бреус.
— Здесь, Сан Саныч, не опытом нужно делиться, а характером.
— Отцы командиры! — позвал собеседников Ефим Брюхатов. — Не желаете ли с нами в таежного козла сыграть?
Казаки с Магалифом, уложив на краю стола спичечный коробок, по очереди подбрасывали его щелчками вверх. Если коробок падал этикеткой вверх, игроку начислялось по два очка, на ребро — пять, на попа — десять очков, тыльной стороной — ноль. Выигрывал тот, кто первым наберет пятьдесят очков.
— Подо что играете, казаки? — оживился Дигаев. — Если под интерес, то я не только сам присоединяюсь, но и Сан Саныча уговорю поиграть в эту интеллектуальную игру.
— Под щелбаны, ваше благородие, играем, — без тени улыбки пояснил Савелий Чух.
— До чего же в нашей среде нравы упали, Сан Саныч, если казак предлагает своему походному атаману, офицеру, игру на щелбаны? Ну, что вы на это сказать можете? Где святые идеалы уважения, почитания и почтения вышестоящих? Вот вам тема для дальнейших раздумий, а может быть, даже для статейки в харбинской газетке. Играйте-ка, братцы, без нас, у вас лбы покрепче, вот и тренируйте их, — милостиво разрешил есаул Дигаев.
Минут двадцать в бараке стоял шум и хохот, под который отсчитывали щелчки.
Из-за полотнища, отделявшего угол комнаты, выглянула Анастасия:
— Господи, потише бы вы ржали, жеребцы, вздремнуть прилегла, так и то не даете минуты спокойной.
— Ниче, Настя, ночкой поласкает тебя прапорщик, сразу под любой шум заснешь. Аль он тебе уже зараз понадобился? Дык мы отпустим, сей минут, — зубоскалил Ефим Брюхатов. — Нет, станичники, в коробки играть — это детская забава, неинтересно, — поскучнел он, — картишки бы разбросить, дык время вмиг бы пролетело. Ваше благородие, — обратился Брюхатов к есаулу Дигаеву, — может, дозволите разок-другой карты сдать?
Есаул Дигаев на минуту задумался. По его же настоянию группа приняла решение о том, чтобы до тех пор, пока драгоценности не будут в их руках, карты в руки не брать. Но тут вроде бы случай исключительный: метель не утихала, а занятия для людей не было, безделье-то тоже мучительно.
— Ну, ладно, орлы, первый и последний раз разрешаю. А потом до самого окончания кампании ни-ни. Понятно? Сами же голосовали против карт. Да не забудьте, что сейчас я уступил по настоянию общества.
Кинулись искать карты, но ни у казаков, ни у офицеров их не оказалось, уж на что Ефим Брюхатов был запаслив, тут и он удрученно развел руками. Потом его узенькие, заплывшие жиром глазки снова оживились, и он просительно — как-то бочком, бочком — подошел к есаулу Дигаеву:
— Вашблагородь! Коль уж вы разрешили, может быть, и картишки нам на забаву одолжите?
— С чего это ты, Сиплый, решил, что у меня карты есть? Уж не в сидор ли ко мне свой вездесущий нос заталкивал?
— Какой же антирес, вашбродь? — хитровато улыбнулся Брюхатов. — Я ведь вас не первый день знаю.
И в трактире нашем видывал, как вы игру ведете. Аза спрос не бьют в нос.
— Ладно, помните мою доброту, уважу вас, но, как напоминал, последний раз играете.
— Какой вопрос, какой вопрос, вашбродь!
Есаул Дигаев покопался в вещевом мешке и откуда-то снизу достал небольшой резной деревянный ящичек. Щелкнув изящным крохотным ключиком, он откинул крышку, и все увидели полдюжины карточных колод, уложенных в три ряда. Секунду помешкав, есаул достал одну из них и подал Ефиму Брюхатову.
— Ну, вашбродь, у вас здесь их столько, что хучь игровой салон открывай. А может быть, и откроем, после того как разбогатеем?
— Даст бог, разбогатеем, тогда на эту тему и погутарим, а сейчас, коли сами потеху выпросили, рассаживайтесь вокруг стола. Сдать вам карту для начала, что ли? — Есаул Дигаев вроде бы сомневался, как ему поступить, но его чуткие, болезненно нервные, подвижные пальцы уже ощупывали колоду, разбрасывали карты веером и тут же непостижимо ловко тасовали их. — Как играть будем? Без интереса или как?
— «Или как», — поторопился высказать свое мнение Ефим Брюхатов, правильно поняв вопрос есаула.
— Не надо бы под интерес, Георгий, переругаемся еще чего доброго, а нам ведь немало дней друг друга терпеть, — возразил ротмистр Бреус.
— Ничего, Сан Саныч, не переживай из-за таких пустяков, мы по копейке ставить будем, чтобы никому не обидно было проигрывать, — успокоил Дигаев. — Или у тебя мелочи нет? Так я одолжу, с моим удовольствием.
— Да я ведь ни к тому говорил, — отмахнулся Бреус, — ну, раз играть — значит играть. Проверим свое счастье.
Затею мужчин едва не нарушила Анастасия:
— Володь, иди сюда, — позвала она требовательным голосом своего сожителя.
Магалиф нехотя поднялся и шагнул за брезент.
— Ты чего, Настя? — услышали сидевшие за столом его голос.
— Они как хотят, а тебе играть не стоит.
— Что это тебе в голову взбрело, Настя? Что страшного, если мы в «дурачка» перекинемся?
— У тебя всегда так начинается: сначала «дурачок», а потом исподнее с себя спустишь. Хватит, надоело мне с тобой возиться: то опиум, то водка, то карты, когда же ты наконец успокоишься? Посиди со мной.
— Да ты что же это меня позоришь? Люди собрались поиграть, а я из-за твоего каприза буду компанию рушить? Ты что же думаешь, что я совсем себя контролировать разучился? Хорошего же ты обо мне мнения, ничего не скажешь. Обещал ведь я тебе в Хайларе, что во время похода ни на морфий, ни на гашиш не посмотрю, и что? Уж как мучился в первые дни, как меня корежило, сама ведь видела, однако ни понюшки не нюхнул, ни сигаретки не выкурил, ни разу не ширнулся. А тут забава для гимназистов — картишки.
— Не садись, Володенька, не садись. Темно у меня на душе, нехорошо, ты же знаешь, меня предчувствия ни разу не обманывали, — запричитала Настя.
Затем за брезентом что-то упало и, поправляя китель, к столу выскочил взъерошенный прапорщик Магалиф:
— Почему не сдаете, есаул?
— Да вот тебя ждали, прапорщик, все гадали, отпустит тебя баба или при юбке держать будет, — подковырнул его есаул Дигаев, — но гляди-ка, она у тебя с пониманием оказалась, дозволила. — И, обращаясь уже ко всем присутствовавшим, поинтересовался: — Во что играть будем, господа? Как сдавать? В третями стос, в триньку-секу или в тэрс переметнемся? Или кто-то желает сыграть в хайларскую буру?
— Да уж коль прапорщик пообещал Настасье поиграть в «дурачка», так чего же обижать слабый пол, начнем с «дурачка», — предложил ротмистр Бреус. — Желание женщины для нас превыше всего, не так ли?
— Тогда в «харбинского дурачка», в секу, — подмигнул есаулу Дигаеву Ефим Брюхатов.
— Нет, — оборвал есаул, — раз прапорщик Насте пообещал и ротмистр просит, играть будем в простого «подкидного дурака», зачем нам по пустякам друг на друга обижаться, верно, ротмистр?
— Так это же, есаул, мое золотое правило!
Лениво, без азарта сыграли в «подкидного». Ставки были действительно копеечными, и проигрыш никого не обескураживал. Есаул все время проигрывал и равнодушно удивлялся тому, что карта не идет к нему:
— Ты смотри, опять прапорщик выиграл! Вам, Магалиф, может быть, ворожит кто-нибудь? Настя, — повернулся есаул к брезентовой занавеске, — ты почему же только своему мужику ворожишь? Хотя бы иногда и об остальных заботилась, ты все-таки отрядная мамка, всем носы должна вытирать чистыми платочками, а не только любимчикам.
Настя промолчала.
— А что, господа, нельзя ли увеличить ставку, по гривенничку ставить будем, а? — поинтересовался ротмистр Бреус, выигравший последние партии и брезгливо глядевший на старые монеты, прежде чем ссыпать их в пухлый кошелек, разукрашенный кнопочками, медными окантовками и имеющий несколько отделений для денег разного достоинства.
После увеличения ставок из игры вышел Савелий Чух:
— Баста, ваши благородия, я больше играть не хочу, побаловался маленько и хватит.
— Чего это ты, Савелий, — удивился ротмистр, — обиделся, что до сих пор не выиграл? Так карта дурная, сейчас ко мне, к примеру, идет, а потом тебя полюбит.
— Нет, Сан Саныч, меня матерь ишо в детстве супротив карт предостерегала, не бывает, гутарила, вернее пагубы, чем гадалки. Сам я их, признаться, не уважаю, на чуму они мне сдались. Да вы играйте, не обращайте на меня внимания. Я вот тут в уголочке посижу, седла почищу, смазочкой их потру, седло ить тоже ухода требует, тогда и служить дольше будет.
— Правильно, Савелий, — одобрительно кивнул головой, не глядя на казака, есаул, — ты у нас в отряде вместо вахмистра, все хозяйство тебе доверено, оправдывай. А карты больше нашему брату подходят, офицеру.
Аппетит у игроков разгорелся, и есаул Дигаев уже еле сдерживал их стремление повысить ставки, не забывая каждый раз предупреждать партнеров, что он категорически против большой игры.
— Вы, есаул, все проигрываете, потому и боитесь, — упрекнул его прапорщик Магалиф, — смелее быть надо, со смелым удача.
— Ну, против такого обвинения никуда не попрешь. Прислушиваюсь к критике. Коли прапорщик требует повышения ставки, а остальные не против, я как все, чего же выделяться? За картами мы все равны, здесь что я — есаул, что казак Ефим Брюхатов — все с одинаковыми правами, — согласился есаул Дигаев. — А посему подчиняюсь большинству.
Не заметили, по чьему предложению и когда перешли на более азартную картежную игру — «буру». Ротмистра Бреуса, который то ли действительно подзабыл, как в нее играют, то ли и не умел никогда, научили в два счета, по ходу игры:
— Вы, ваше благородие, Сан Саныч, — поучал его Ефим Брюхатов, — главное, запомните, как карты оцениваются: туз — одиннадцать очков, десятка — десять, король — четыре, дама — три, а валет — два. Вот и старайтесь набрать на трех картах не меньше тридцати одного очка.
— А если у меня на руках три козыря окажется, Сиплый, тогда что?
— Тогда вы король, ваше благородие, и будем величать вас не меньше как вашим высочеством, идет?
И вот тут, после долгого везения, ротмистр Бреус несколько раз подряд крупно проиграл, В выигрыше оказался есаул.
— Странно, есаул, как только вы раздаете, так я проигрываю, с чего бы это?
— Наверное, с невезения, ротмистр! Почем мне знать другую причину?
— А мне кажется, что я такую причину разгадал, господа, по даже назвать се стыжусь, — продолжал ротмистр Бреус.
— Так поделитесь своей разгадкой с нами, ротмистр, — с вежливой холодной улыбкой ответил есаул. — Может быть, постыдимся вместе, в узком кругу товарищей.
— Ваши карты краплены! Поглядите, они же у вас заточены!
— Заточены? Что-то я такого не замечаю, объяснитесь, ротмистр!
Ротмистр Бреус собрал все карты, плотно сбил их на столе и показал присутствующим колоду сбоку. Карты действительно были не равны, не прямоугольником, как должно было быть, а едва заметной трапецией, один конец карты был уже другого. Однако как бы там ни было, но заточенный конец был идеально гладким, как будто навощенным чем-то.
— Вот видите, — пояснил ротмистр Бреус, — если нужные карты перевернуть на сто восемьдесят градусов, то при тасовке их всегда можно отделить и расположить в выгодном для сдающего месте. Я, господа, этот способ знаю еще со времен царской службы, по вот на практике встретился с ним впервые.
— А я, господин ротмистр, узнал о нем только сейчас, от вас. И в связи с этим хочу задать вам два вопроса, чтобы на этом этапе удовлетворить свое любопытство: если вы знали об этом способе и видели крапленые, как вы их называете, карты, то почему же вы молчали об этом тогда, когда не менее двадцати раз выиграли?
Ротмистр Бреус смутился:
— Собственно… Сначала я как-то не замечал. Знаете ли, жизненные неудачи всегда заставляют думать, будоражат мысль… Кто же, господа, будет задумываться над причинами, приносящими счастье… В принципе я ведь никого не обвиняю, я просто обратил внимание… Так-то…
— Как нехорошо, ротмистр, у вас получается. Пока выигрывали, на все глаза закрывали, а тут и проиграли-то, очевидно, меньше выигрыша, но уж всех шельмецами считаете. Обидно, господа, что даже среди своих соратников, людей, с которыми не боишься идти на смерть, встречаете такое непонимание! А теперь позвольте задать вам второй вопрос: вы видели, как я вскрывал колоду? Я ведь делал это на ваших глазах. Да вы поглядите у себя под ногами, ротмистр, не стесняйтесь! Не постеснялись же вы обвинить меня в бесчестном для офицера поступке.
Ротмистр Бреус, уже понявший, какую оплошность он допустил, затеяв этот разговор, вместо того чтобы потихоньку выйти из игры, больше всего был недоволен именно собой. Боявшийся скандалов, чуравшийся любых недоразумений, если они не касались его лично, здесь он как-то нечаянно, неосознанно нарушил свои принципы. И вот теперь эта мерзкая сцена, когда он, прекрасно все понимая, должен оправдываться, краснеть, заискивать и искать выход из создавшегося положения. А голос есаула Дигаева креп в праведном, еле сдерживаемом гневе:
— Разверните этот комочек, ну, что? Убедились, что колода была упакована на фабрике? То-то же. Вот к ней, то есть к фабрике, которая изготовляет эти игрушки, и предъявляйте свои претензии. Да еще, пожалуй, к тем, кто научил вас видеть в своем боевом товарище и в походном атамане подлеца, а в колоде, неточно обрезанной бездельником-рабочим, — крапленые карты. Нет, у нас, у казаков, так не принято! Может быть, в кавалерии, где вы служили, допускаются такие обвинения, а у нас они кровью смываются. Вам все понятно, господин ротмистр? И вам больше нечего мне сказать?
— Да, да, господин есаул, пожалуй, я был не прав. Показалось черт знает что. Приношу вам свои извинения. Я ведь сразу заявил, что претензий ни к кому не имею, вот только… Виноват-с, есаул, вы, душечка, не обижайтесь на меня, мало ли чего между товарищами бывает.
— Хорошо, ротмистр, я не злопамятен, — смягчился Дигаев. — Давайте руку и забудем этот пошлый инцидент. А чтобы недоразумения больше не случилось, я достану другую колоду, но вскрывать и проверять ее будете вы сами, вот это и станет для вас лучшим наказанием.
Достав колоду, он небрежно бросил ее на стол, а ротмистру Бреусу под насмешливыми взглядами Ефима Брюхатова и прапорщика Магалифа пришлось нехотя вскрывать ее и делать вид, что он проверяет карты.
— Все, есаул, замолив грех, выбываю из игры. Ведь с самого начала не хотел играть, да и вы, помнится, есаул, были против, а вот все же вошли в азарт.
— Я, пожалуй, тоже играть больше не буду, — лениво потянулся есаул. — Хватит. Поиграй-ка ты, Сиплый, с прапорщиком Магалифом, а мы поглядим.
— Да какой же интерес вдвоем играть, вашбродь? Вы-то хоть не бросайте игры, давайте еще немного перекинемся, не все же спать, а то скоро в медведей превратимся.
— И верно, господин есаул, отчего бы вам еще не поиграть? Недоразумение благополучно разрешилось, так не рушить же из-за какой-то мелочи такой хорошей компашки, а? — присоединился к просьбе и прапорщик Магалиф.
— Если уж вдвоем просят, так и быть, сыграю с вами еще, а там и спать пора.
И игра закипела, партия от партии становясь все азартнее, рвались вверх ставки, разгорались страсти. К есаулу Дигаеву хорошая карта потеряла дорогу, и он все проигрывал, расставшись уже с половиной всей своей наличности.
— Все, — отбросил он колоду после очередного проигрыша, — сегодня мне окончательно не повезло, видно, это вы, ротмистр, накаркали. Но ничего не поделаешь, проигрыш нужно принимать мужественно, по-офицерски.
— Чего же это вы, господин есаул, так легко сдаетесь, — с покровительственным высокомерием удачливого игрока посочувствовал прапорщик Магалиф, — это, конечно, ваше дело, но я бы не встал из-за стола, пока не отыгрался или не спустил все. Нужно же судьбу испытать, а то не живем, а тлеем.
— Попробую прислушаться к вашему совету, — неожиданно быстро согласился есаул и, перекинувшись с Ефимом Брюхатовым мгновенным взглядом, потянул к себе колоду:
— Раз так, сдадим святцы. — Он ловко «запустил трещотку», создав видимость тщательной перетасовки карт и тут же перевернув вольт, — шулерский прием, вернул карты в колоде в первоначальное положение и быстро их сдал.
С этого момента за столом почти не говорили, раздавались только жаргонные картежные словечки, и лишь по голосам, которыми они произносились, их тональности, чистоте, скороговорке окружающие могли бы попытаться понять, кому везло в этой стремительной, напряженной игре.
— Вам!
— Марьяж!
— К вашему Николаю, наш святой Павел — валет!
— Старик Блинов — туз!
— Шеперка козырная!
— Извольте сдать!
Прапорщик Магалиф проиграл выигрыш. Он побледнел, и, когда раскрывал карты, казалось, что он дрожал от страсти. Его руки суетливо мусолили карты, поглаживали картинки и щелкали по ним. Глаза мельтешили по лицам игроков и подолгу останавливались на колоде, силясь увидеть что-то сквозь решетчатую рубашку. Затем он спустил все деньги. Свои и Настасьи.
— Господин есаул, позвольте в долг! Я хочу отыграться!
— Пожалуйста, прапорщик, воля ваша, только в долг я не играю. Вы знаете, как это называется, когда играют в карты, не имея возможности расплатиться? Лимонить. Я подобных шалостей не люблю.
— Сиплый! Одолжи мне, как добро в Якутске возьмём, я тотчас рассчитаюсь, а если сейчас отыграюсь, тут же и отдам с процентом. Выручи! — В голосе Магалифа преобладали искательные, просительные нотки. Прапорщику впору было заплакать.
— Да какие у меня деньги, прапорщик, побойся бога! Мне досе ишо взаймы давать не хватало!
— Выручи, голубчик! Дай отыграться, я же гол как сокол остался, а карта вот-вот придет! Мне сегодня обязательно повезет, Сиплый, я удачу в воздухе чувствую. Слышишь?.. Это она шелестит… Я тебе тоже пригожусь, истинный Христос, не вру!
— Ну, нехай выиграешь — твои, а ежели проиграешь, дык я у есаула твой картежный долг куплю, уплачу ему своими кровными. С условием самым пустяковым: будешь расплачиваться — одну треть добавишь, а ежли сейчас выиграешь, все одно треть с тебя. Согласен?
И снова прапорщик Магалиф проиграл. А страсти в нем уже бушевали так, что, когда Настасья, внимательно прислушивавшаяся к игре, выглянула было из-за занавески, чтобы унять его, в ответ услышала такую брань, которой и старый матерщинник есаул Дигаев позавидовал.
Сиплый купил у прапорщика долг еще раз и больше рисковать не пожелал.
— Не, прапор, будя. Ты так скоро, окромя своих, и мои шаровары проиграешь.
— Господин есаул, предлагаю сыграть под часть моего пая от тех сокровищ, за которыми идем в Якутск. Соглашайтесь, ведь верное дело. Сам я закапывал, вот этими руками. Даже сейчас помню ящики от орудийных снарядов, в которых все упаковано.
— Нет, прапорщик, я готов играть на что угодно, кроме оружия, коня и будущего пая. Ну посудите сами, проиграете вы мне сейчас пай или я вам свой, так какой же резон будет проигравшему рисковать и собственной свободой и жизнью? Да, ей-богу, ему куда проще будет под шумок прихватить пару запасных с провизией и темной ночью покинуть нашу теплую компанию. Нет, на это я никогда не пойду, наша экспедиция, прапорщик, — это единственное, что у меня впереди осталось.
Прапорщик снял с шеи цепочку с фамильным медальоном и бросил ее на кон, взяв с есаула слово, что тот продаст вещицу ему обратно, после того как прапорщик разбогатеет.
Но и медальон оказался на той стороне стола, где сидел есаул. И по мере того как все спокойнее, холоднее и недоступнее становился расчетливый Дигаев, распалялся, окончательно терял голову прапорщик, кидаясь от одного участника похода к другому. Но, будто почувствовав что-то неладное и торопя развязку, никто не хотел давать ему денег.
А за столом Ефим Брюхатов, закручивая напряжение еще в более тугую спираль, стал выигрывать у есаула, громко сообщая о выигрышах и приглашая окружающих радоваться вместе с ним.
— Опять карта ушла от меня, — посетовал Дигаев, — говорят, что доброе дело иногда помогает вернуть удачу. Садитесь, прапорщик, я прощаю самый последний ваш проигрыш. Можете считать, что деньги снова ваши, если хотите, можете сыграть на них. Но, в общем-то, я вам не советую этого делать, вдруг проиграете. Лучше возьмите и припрячьте их до лучших времен, мы пока с Сиплым сквитаемся. Доброе-то дело я уже сделал, должен же я у него теперь выиграть.
Но Магалиф предпочел играть. И казалось, что фортуна снова, как и в начале игры, повернулась к нему. Он дважды взял банк и тогда решился за один раз восстановить утраченные позиции, вернуть большую часть проигранного. И… все проиграл!
— Конец! — удрученно, тускло глядя в карты, произнес он. — Играть больше не на что.
— Это точно, прапорщик, вас не спас даже мой лахман — прощение карточного долга. Ничем помочь вам больше не могу. Хотя… хотя разве… Ах, нет-нет, пустое…
— О чем вы, есаул, вы можете еще на что-то сыграть со мной? Да? Можете? Так в чем же дело?
— Нет, прапорщик, это какая-то дикая, непонятно откуда взявшаяся идея мелькнула, но нет, нет…
Однако прапорщик не успокаивался, он тормошил партнеров, умолял сказать.
И тогда есаул, жестко глядя ему в глаза, кивнул головой в сторону брезентового полога:
— На нее… играем? Взамен — весь ваш проигрыш.
— Нет, нет! Спаси вас Христос, что вы говорите, есаул! Как вы смеете? Нет!
Но есаул уже и не слушал его, он продолжал свою затянувшуюся партию с Сиплым, который опять излишне громко выражал свою радость по поводу очередного выигрыша.
Глаза прапорщика бегали по лицам игроков, по их рукам, ласкали карты, кучку золотых монет, сложенную на середине стола. Его лицо отражало внутреннюю борьбу разума с помешательством, щеки побледнели, как будто кровь затаилась в сосудах, и только в глазах отражались блики страсти, ярости, желания наркомана, человека, забывшего пределы разумного.
— Согласен! — тронул он есаула за рукав кителя.
— На что вы согласны? — отчетливо, громко произнес Дигаев. — Что вы мне предлагаете?
— Давайте играть на Настю! — прохрипел прапорщик.
За занавеской что-то упало и покатилось, позвякивая.
— Вы хорошо подумали, прежде чем делать мне такое предложение? — спокойно поинтересовался есаул Дигаев.
— Да полно вам, полно, есаул, разве мало вам того, что я так унижаюсь, что я согласился? — в каком-то горячечном бреду проговорил Магалиф и, собрав карты, протянул их Дигаеву. — Сдавайте или велите мне сдавать?
— Да ладно уж, услужу вам, прапорщик.
Есаул Дигаев наклонил под небольшим углом колоду в руке, рубашкой к походной линейной лампе, и ему стали заметны едва различимые потертости ластиком на глянцевой поверхности в одном из углов карт. После этого он использовал заурядный технический прием шулеров — «держку», когда партнеру вместо нижней карты сдаются карты, заранее подобранные при тасовке, «на глаз». Недаром ведь есаул Дигаев в течение последних двадцати лет был постоянным посетителем игорных салонов Хайлара, Драгоценовки и Харбина.
Игра состоялась моментально. Банк, в котором была только одна ценность — Настя, сорвал Дигаев…
Магалиф, убедившись в проигрыше, упал головой на разбросанные по столу руки и застыл.
Есаул Дигаев аккуратно собрал карты и уложил колоду в ящичек. Упаковав вещевой мешок, отбросил его и с нарочито безразличным выражением лица не спеша прошел за перегородку…
В комнате стояли долгие стонущие звуки пурги, бесновавшейся за стенами барака. Где-то свистело, завывало, поскрипывало. В бараке, в нелюдской тишине едва слышался постный голос Ефима Брюхатова:
— Господи, аз яко Человек согреших, Помилуй мя, просвети, Помрачи лукавое Похотение.
— На всякий час ума не напасешься, — неизвестно в чей адрес бросил ротмистр Бреус.
Минут через двадцать из-за полога вышел Дигаев, бесстыдно застегивая на ходу брюки. Следом за ним появилась Настя, бледная, в чем мать родила, груди, как вода в бутылке, бултыхались на ходу из стороны в сторону. Все присутствующие отвели от нее глаза, но она все равно ничего не замечала:
— Савелий, у тебя где-то в аптечке спирт был, дай глотнуть.
Услышав ее голос, Магалиф поднял голову, помутневшими, невидящими глазами всмотрелся.
— А ну пошла назад, стерва! — гаркнул он. И, схватив ее за руку, с силой, которой никак нельзя было ожидать от этого задохлика, отшвырнул ее. Женщина, споткнувшись, упала, ударилась локтем о красную от жара железную обшивку печи и дико закричала. В бараке почувствовали тошнотворный запах паленого мяса. Магалиф рывком приподнял ее и втолкнул в угол за брезентовый полог. Мужики, делая вид, что это их не касается, занимались своими делами.
— Падлы, твари вонючие! Все людское растеряли! — заорал Савелий Чух.
— Че-е-го-о? — тягуче пробасил Дигаев, потянувшись за топором, валявшимся возле печи.
Вроде бы всхлипнув, Савелий открыл дверь барака и исчез в метельном вихре.
— Дурак ты, Георгий! — неторопливо поднявшись, буркнул сотник Земсков. — Из-за твоей жеребячьей течки считай две сабли потеряли. Да и баба теперь рано или поздно уйдет. Жаль. И обстирать могла, и сготовить. Будешь дурить, уйду я из отряда, ей-богу уйду.
Глава II В ЧУЖОЙ КЛЕТИ
«В связи с успехами Красной Армии над немецко-фашистскими войсками и предрешенным всем ходом международных событий крахом гитлеровского блока русская эмиграция в Маньчжурии потеряла свою убежденность в окончательную победу „оси“. Резко стало возрастать оборонческое течение, стали проявляться симпатии к СССР не только отдельными лицами из среды лояльно относящихся к СССР раньше, но и белоэмигрантскими авторитетами. Как ни старалась японская военщина морально воздействовать на эту среду, убедить ее ложной пропагандой об успехах японских и немецких войск, скорой „гибелью“ Советского государства, действительное положение вещей дошло до сознания большей части русской эмиграции…
Японская военщина, не видя положительных результатов от морального воздействия на русскую эмиграцию, перешла к репрессиям. По всей Маньчжурии проводятся массовые аресты русских, невзирая на личности…».
Из доклада командования войск Забайкальского пограничного округа. Двенадцатое января тысяча девятьсот сорок четвертого года.Еще два дня над бараками бушевала сибирская кура. Наконец сильный ветер начал стихать, ослаб и мороз. Окончания пурги путники еле дождались. В жилом бараке к тому времени установилась такая напряженная атмосфера, что, казалось, появись от случайного соприкосновения людей маленькая искорка, и взрыв эмоций разнесет вдребезги всех и вся. Савелий Чух под тем предлогом, что за лошадьми нужен глаз да глаз, переселился в конюшню. Настя появлялась на общей половине только тогда, когда мужики уже спали. Ее кашеварские обязанности с памятного вечера взял на себя Ефим Брюхатов, который охотно рубил шашкой куски свежезамороженной конины и подолгу варил ее, хищно принюхиваясь к запаху мяса. Редко был слышен командирский бас есаула Дигаева, и уж совсем незаметным стал прапорщик Магалиф, как будто в той картежной игре растратил он все свои жизненные силы и сейчас их хватало только на то, чтобы повернуться с боку на бок и горестно вздохнуть.
Утром в бараке проснулись от тишины. Еще не поняв, что именно безмятежное спокойствие, разлитое в природе, явилось причиной их раннего пробуждения, они позевывали и удивленно оглядывались, В бараке явно чего-то не хватало.
— Братцы вы мои! Ни звона, ни скрежета, да неужели проклятая метель окончилась! — радостно воскликнул ротмистр Бреус и, наскоро натянув унты без портянок, выскочил в двери. — Подъем! Пики к бою, шашки вон, в атаку марш-марш! — заорал он, вернувшись, и запустил белым плотным снежком в потягивающегося от утренней неги есаула.
— Да ты что, Сан Саныч, — передергиваясь от проникших под белье морозных комочков, запрыгал Дигаев, — с ума сошел, что ли? К снежкам хрыча сорокапятилетнего потянуло, тьфу на тебя!
— Чисто дите, стал быть, — улыбнулся Савелий Чух.
— А ты не забывай о том, что тебе атаманская власть дадена, сурок сонный! Мы бы уже час в пути могли быть.
Наскоро, не разогревая, поели вчерашнего мяса и закопошились в своих углах, собирая вьючные сумки и сидоры.
Савелий Чух, как всегда, был возле лошадей. В руках у него был сухой широкий бинт зеленого цвета, сшитый из китайских военных медицинских косынок. Склонившись перед своим любимцем, он заставил его стать на ногу и, наложив бинт ниже запястного сустава, сделал пару витков и продолжил бинтовать ногу слегка наискось сверху вниз. Добравшись до путового сустава, но не трогая его, он пробинтовал вверх, закрепив бинт под запястьем тесемками.
— Вот так, мой красавец, вот так, хороший, теперь тебе ни ушибы, ни царапины не страшны, — он ласково погладил ногу коня в обмотке, — и не бойся, если они у тебя намокнут, дядька Савелий сменяет их на сухие. Запасец есть.
Рядом переминался с ноги на ногу жеребец Насти, ноги которого тоже были забинтованы, к слову, впервые за все время пути.
Путники в полном снаряжении высыпали из барака. Есаул Дигаев подошел к лошадям и, оглядев своего коня, повернулся к Чуху:
— Савелий, почему это ты моему жеребцу не перебинтовал ноги?
— Так вы же, ваше благородие, мне бинтов не давали, а своих у меня было не абы сколько, — невинно пояснил Савелий Чух, — но если вы мне прикажете, Настасьиного жеребца разбинтую и вашим займусь. Как, велите? — И он вопросительно поглядел на Дигаева.
Вокруг примолкли, прислушиваясь к разговору.
— А ты, Савелий, оказывается, не так прост, каким кажешься, — недовольно оглянувшись по сторонам, тихо буркнул Дигаев. — Смотри не переиграй, со мной шутки плохи. — Он отошел к своему жеребцу, и тот, обладая удивительной способностью угадывать внутреннее состояние седока, уже по походке, по дыханию хозяина почувствовал его возбуждение, испортившееся настроение. Жеребец нервно всхрапнул, дергая головой. — Цыц! Волчья сыть! — Дигаев резко рванул лошадь за щечный ремень. — Я тебе! Твою мать!
А Савелий Чух, уже не обращая внимания на Дигаева, перехватил из рук Насти ее седло:
— Зараз, девка, помогу, погоди трошки, побереги силенки.
Он положил на спину лошади потник, подровнял его и, опустив сверху седло, подвинул его по направлению волос на место. Он копошился возле лошади: подтягивал подпругу, вкладывал удило в рот лошади, стараясь не задеть зубы, потом надевал недоуздок. А Настя, как будто все так и должно было быть, равнодушно стояла рядом, рассматривая деревья и силясь разглядеть что-то в вышине.
— На конь! — вскричал Дигаев минут через десять неизвестно кому, так как все уже были готовы к выезду, и только Савелий Чух привязывал к своей запасной лошади обернутый в потник и старательно перевязанный медный котел, найденный в бараке.
Выехали из лиственного леса, и тропа повернула вдоль адарана — как местные эвенки называли горные гряды, поросшие лесом.
— Ты, есаул, знаешь, куда ехать? — поотстав от группы, поинтересовался ротмистр Бреус. — Я так давно уже ориентацию в этих дебрях потерял. И раньше-то, когда бродил с сотней в здешних краях, сам дороги не мог найти, а сейчас и подавно. А ты ведь тоже тут два десятка лет не был.
— Это кто же тебе такое сказал? — усмехнулся Дигаев. — Возможно, не был, а возможно, и бывал, да не раз. А?
— Кто тебя знает, — внимательно поглядел на Дигаева ротмистр Бреус, — может быть, действительно наведывался. Я слышал, что наши хайларские и харбинские землячки эти места долго в покое не оставляли.
— А ориентироваться в здешних лесах действительно нелегко, но можно, — покровительственно продолжал Дигаев. — Главное, водораздел найти да примерное местонахождение знать, а там уж любая речушка или ручей к основному руслу выведут. Труднее, ротмистр, напрямик путь прокладывать. А по реке, по ручью не потеряемся. Во-о-он, видишь ковригу. — Проследив по направлению руки, ротмистр на фоне далеких белесых облаков увидел массивную сопку, которую при небольшой фантазии можно было принять и за гигантский каравай хлеба. — Вот за ней и поищем зимовье нашего дедка-боровичка, а дальше он нас поведет, он в этих краях с сопливых лет, все досконально знает.
Тропа задела край леса, продвижение по которому сразу затормозилось.
— Вот это буревал, — удивленно оглядывался сотник Земсков, — давненько, признаться, я такого не видывал.
После метели от многодневных снежных заносов небольшой лес, росший вокруг, заметно пострадал. Ветви и даже тонкие стволы многих деревьев под тяжестью снеговых шапок обломились и, перегородив тропу, сделали ее труднопроходимой. А идти по бездорожью и вовсе было бессмысленно.
— Буревал или снеговал, от этого наше положение не проще, — угрюмо ответил Дигаев. — Чух! Земсков! Спешивайтесь, будете тропу пробивать. Потом вас сменим.
Лошади, иной раз проваливаясь до брюха, словно плыли в глубоком снегу.
Однако природа смилостивилась к ним. Раза два вильнув, стезя вырвалась на небольшой якутский алас — открытую равнину, покрытую кустарником. Ехать из-за глубокого снега было по-прежнему трудно, но уже не так непосильно, как в снеговале. Время тянулось томительно, однако еще медленнее укорачивался путь, не уступая легко ни одного километра.
— Быть может, и правильно, Сан Саныч, лучше бы нам отправляться в поход без лошадей? Ведь думали об этом в Хайларе. В газетах писали, что финны половину своей армии на лыжи поставили, такие гонки устраивают, что вся Европа завидует, а мы все по старинке. Да что там финны, они далеко. На казачьих сборах в Трехречье летом прошлого года начальник главного бюро русских эмигрантов генерал Кислицын хвастался, что и Квантунская армия, и Захинганский казачий корпус уже и зимним обмундированием снабжены, и лыжи для них заготовлены.
— Эх, сотник! Финляндию, да хоть и всю Западную Европу вместе с Японией в нашу тайгу брось, они и затеряются, Расстояния несопоставимы. На лыжах можно бежать и гонки устраивать, если через каждые полсотни километров базы ожидать будут. Нам же и себя доставить нужно, и провиант, и оружие, да еще и силы сохранить для встречи с товарищами из энкэвэдэ. А на лошадях худо-бедно, но к весне доберемся до места, значит, на самый ответственный этап операции останется лучшее время года. Доставать лошадей для нас тоже не проблема. Этих в дороге загоним, новых в селах реквизируем.
«В харбинском депо идет интенсивная работа по замене вагонных скатов маньчжурской колеи на размер колеи дорог СССР. Эвакуация из г. Маньчжурия и других пограничных пунктов продолжается. Охрана границы и особенно против участка Даурского погранотряда японцами усилена, в отдельных кордонах солдаты на ночь остаются в окопах и огневых точках…».
Из донесения заместителя начальника войск НКВД СССР.Дорожка пошла на взгорье и вскоре вывела на солнцепек — южный склон горы. Эта сторона во все времена года лучше прогревалась солнышком, поэтому и снежный покров здесь был потоньше, испарялся лучше.
— Коли на солнцепек выбрались, повеселее будет идти, — улыбнулся Савелий Чух, — по сравнению с теми местами, где мы только что сквозь лес продирались, здесь хоть скачки на приз Хайлара устраивай! Вы поглядите, братцы, на этом косогоре весной или летом сено бы для хозяйства заготавливать, во-о будылки, небось разнотравье здесь, как на Кубани. И леса туточки мало, разве в том углу сосновый островок, да он нам не помеха.
Есаул Дигаев тронул поводья и догнал Настасью, медленно ехавшую впереди, чуть сбоку. Женщина уронила голову вниз и лишь изредка лениво пошевеливала поводьями.
— Чего пригорюнилась, Настя? Ты погляди, какое вокруг ведренье, приятная погода, верно?
Женщина угрюмо промолчала.
— Слушай, — не унимался Дигаев, — а чего ты так странно сидишь на лошади? Со стороны кто посмотрит — не поверит, что ты с казаками дружбу водишь. Этак ведь и тебе неудобно, и лошади тяжелее. Вон как напряглась ты вся, как будто на тебе самой ездить собираются. Что молчишь? Ты гляди, гляди! У тебя сиделка — пардон, заднее место твое, — переместилось совсем уж на круп, зато колени свисли вниз; сидишь, понимаешь, «как на стуле». Наверное, стремена короткие? Как же ты коня посылать будешь? Ты вперед телом подайся, вперед, — Дигаев ласково похлопал женщину по бедру.
Настасья резко выпрямилась, с яростью оглядела советчика с ног до головы и, нагнувшись к нему, что-то прошептала почти на ухо.
— Понял меня, нет? — уже громко, так, что слышали и все остальные, поинтересовалась она у Дигаева. — Или тебе еще раз повторить, но вслух, так, чтобы все знали о том, что ты из себя как мужик представляешь? Попробуй, козел приблудный, еще только раз дотронуться до меня своими грязными лапищами, не посмотрю, что ты атаман, жахну из винта и тебя, и Володьку зараз, разбирайтесь на том свете, кто из вас сволочнее.
С двух сторон к ним уже торопились сотник Земсков и ротмистр Бреус. Но их вмешательство не понадобилось. Настасья, дав выход гневу, снова поникла, равнодушно глядя на гриву, и только руки, беспокойно перебирающие поводья, говорили о том, что нет ей ни в чем утешенья в глухой, быстро прижившейся тоске. Дигаев, надавив шенкелями на бока лошади, послал ее вперед и, оторвавшись от группы метров на сто, поехал не оглядываясь. Догонять его не посмел ни Земсков, ни Бреус.
К ночи, когда поняли, что до заимки все равно не добраться, облюбовали пару сухих лиственниц и, срубив их, стали устраивать на склоне нодью.
— Прямее, прямее клади, — ругал Дигаев Ефима Брюхатова, в паре с ним укладывавшего трехметровые бревна друг на дружку. — Мать твою!..
— Свою наладь, дешевле обойдется! Слухай сюда, есаул, покеда другие не подошли. — Ефим Брюхатов спокойно положил свой конец на снег и, подойдя к Дигаеву, который от неожиданности продолжал держать комель, тихо, чтобы никто не услышал, злым гундосым голосом произнес: — Я ведь тебя уже раз просил, не трогай моей матери. И не ори на меня. Ты приглядись вокруг, после твоего выигрыша станичники к тебе охладели, ох как охладели. Оторопь берет, робею за тебя. Пожалуй, только я один пока еще и люблю тебя.
А вдруг и мне зябко станет? Кто ж твои тылы прикрывать будет? Ты, есаул, основное пойми, что времена изменились, это уже не годы гражданской! И если я в нашем походе поддерживаю твои игры в высшие и низшие чины, так это чтобы только тебя малость потешить.
Хоть, рассуждая здраво, оба мы с тобой равны, а кое в чем я тебе и фору дам, связи-то с японцами у меня-а.
Это не ты, это жизнь всем нам подпруги чуток отпустила. Понял?
— Плевать я, сукин ты сын, хотел и на тебя, и на твоих японцев, — сквозь зубы проговорил Дигаев, дряблые валики щек его пропитого лица задергались от злобы, — думаешь, что, раз они грошей на наше предприятие подбросили, значит, и указывать мне будут? Ценности возьмем, а там еще посмотрим, кому командовать смотром, мне или им. Земной шарик вон как велик. Тьфу, дьявол, чего ж я стою с этим бревном враскорячку. — Разжав руки, он шагнул в сторону. — Ладно, Сиплый, давай кумиться, нам с тобой делить нечего, а дело разлада не потерпит. Это вот за теми глаз да глаз нужен, они еще и с Советами толком не встречались, а вроде бы уже порозовели.
— Ну, будя! Нас тут ишо не слыхали, — тихо пробурчал Ефим Брюхатов и тут же повысил голос: — Вот и хорошо, господин есаул, — он засуетился, юля улыбкой, — так как вы хотите этот чурбан положить? Мигом все исполню, — громко, так, чтобы всем было слышно, заговорил он. — Конечно, вам виднее, сколько вы по этой Сибири прошли, дай бог каждому.
Дигаев кисло усмехнулся и стал мелко рубить смолистые поленья для растопки костра, который местные охотники укладывали по-особому и называли по-своему: нодья. Это — уложенные друг на друга изгородью несколько длинных обрубков, которые могли гореть, начиная снизу, едва ли не сутки, не ослабляя жара, рассылаемого по обе стороны огненного забора. Такой костер спасал в любые холода, спать возле него было особенно хорошо с подветренной стороны, где от горящего дерева, конечно, спящих подпаливало больше, зато и холодный воздух меньше выстуживал тела с другого бока.
Поели пшенной каши с остатками конины, наскоро хлебнув кипятку, заваренного все той же чагой, к которой Савелий Чух добавил раскопанный где-то поблизости золотой корень. Все без лишних разговоров улеглись: с подветренной стороны Дигаев, ротмистр Бреус и Ефим Брюхатов, с другой — все остальные. Караул, чтобы поглядывать за лошадьми и костром, решили устроить здесь же, на месте, без каких-либо формальностей, расталкивая очередного по часам Дигаева. Начали с Савелия Чуха, как всегда, безотказного и молчаливого.
Сидя на седле, брошенном на ворох еловых лап, Савелий Чух, разобрав оголовье, протирал его части влажной тряпицей, тщательно прочищал места, где кожа соприкасается с пряжками, отскабливал с трензелей ржавчину.
— Как погляжу, руки у тебя, Савелий, и минуты спокойно не полежат, все какое-нибудь дело находят. Как же ты без работы будешь сидеть, когда все мы несказанно разбогатеем?
— Вы, ваше благородие, Николай Анатольевич, когда-нибудь анекдот про жида слыхали?
— Это смотря какой из них.
— Жида спрашивает служивый: «Ты что бы делал, если бы вдруг царем стал?» А тот ему отвечает: «Я бы царствовал и попросил бы разрешения немно-о-жко шить». Вот и я куплю снова хуторок и буду хлеб выращивать, а как же без труда? Только если честно, Николай Анатольевич, так не особенно я в эти деньги верю. Легкого хлеба я не едал, незаработанные деньги в руках не держал. Ну, да бог с ними. Как у нас в станице говорили: побачим, сказал слепой; послухаем, поправил глухой, а покойник, на лавке лежа, прибавил: до всего доживем.
С другой стороны костра, под ровный гул разгоревшейся нодьи, Дигаев выспрашивал у Бреуса:
— А что, ротмистр, вот вы все о Париже да о Париже говорите, а там что — все медом намазано? Нас там все ждут не дождутся?
— Медом не медом, а жить красиво там умеют. Правда, это в том случае, если при деньгах. Но и тут опасность есть: имея капитал, нужно стараться поменьше якшаться с дорогими соотечественниками. А то будет как в Харбине, уж какие только организации не устраивают поборы, чьи только представители не попрошайничают не только по трактирам, но и по домам. Приеду я, есаул, в Париж и буду наслаждаться любимым мною русским языком только раз в году, на пасху, а в остальные дни года меня для земляков попросту не будет существовать. Вы согласны? Ведь не хватит же моих сокровищ для того, чтобы обеспечить приличную жизнь всей белой эмиграции! Я бы, была моя воля, даже в Хайлар на обратной дороге не заезжал, пускай дорогие соратники думают, что меня расстреляли красные. А то ведь — при всей моей любви к деньгам — так выпотрошат, что потом не одну ночь в Париже проведу в кошмарных воспоминаниях.
— Это вы точно подметили, ротмистр, — тяжело вздохнул Дигаев. — Однако пора спать, завтра ни свет ни заря снова в дорогу. И когда она только кончится? Я раньше думал, что мне износу никогда не будет, каждую мышцу в отдельности чувствовал, тело радовалось: ни усталость, ни хворь меня не брали. Ну а теперь утром поднимаюсь тело как чугунное. И это после отдыха! Нот как обманывался по молодости! Одни душевные страсти только и остались в радость, да и те, чувствую, вроде бы слабеют.
«По донесению начальника пограничных войск НКВД Забайкальского округа, японцы перебрасывают авиацию с китайского фронта к советской границе.
Отмечается концентрация японских войск Анда, Муданцзяна и Мулина, в связи с чем движение пассажирских поездов в этих направлениях прекращено.
В районе Муданцзяна японцами проводится мобилизация русских белоэмигрантов; восемьсот мобилизованных сконцентрированы на станции Ханда-Охеза. За сопротивление мобилизации много русских арестовано. По данным наших представителей, мобилизация в Маньчжурии в основном закончена.
Японцы намерены начать войну провокацией ряда инцидентов между СССР и Маньчжоу-Го с тем, чтобы войну объявила не Япония, а Маньчжоу-Го. Момент наступления ставится в зависимость от успехов немцев в войне с Советским Союзом…».
Весь следующий день опять попеременно то ехали на лошадях, то сами утаптывали для своего маленького каравана тропинки, освобождая их от сучьев и поваленных ветром деревьев. Мокрели в пахах лошади, прели под тяжелым зимним шкурьем люди… Уже вечером, поглядев на месяц, Савелий Чух отметил: лысый мерин через ворота глядит; и почти сразу, будто благодаря этой примете, где-то впереди на тропе услышали лай собак. Вскоре разглядели и притулившееся возле реки зимовьище.
Стучать не пришлось, не успели подъехать к частоколу из тонких бревен с острыми краями, как ворота со скрипом растворились и в открывшийся проем вышел сутулый здоровый старик, до глаз заросший бородой. Рядышком суетливо повизгивали два крупных кобеля.
— Полно брехать, — спокойно сказал им старик.
— А ты чего же, дед, вот так запросто открываешь, не спрашивая нас, кто, дескать, такие, чего хотим? — подъезжая поближе, спросил Дигаев.
— А чего спрашивать, — рассудительно пробасил тот, — вот поедите, чайку попьете, там сами все и расскажете. Да вот голос вроде бы слышу знакомый, так что долго в неведении не останусь.
— Здорово, дедуля, тысячу лет тебя не видал, а ты, кажется, и не изменился, — подошла к старику еще одна тень.
— Да неужто Володька? Магалиф? — Обхватив одной рукой прапорщика за плечи, приподнял тот фонарь повыше. — Точно, странник божий, значит, жив? Не спился, не скурился? Знать, немало тебе здоровья родители в свое время отпустили. Или перестал марафет принимать?
— Дедуля, если угостишь дьявольской травкой, так в ножки поклонюсь, четвертый день места себе не нахожу, чую, снова сорвался.
— А меня, старик, узнал?
Дигаев подошел вплотную.
— Чума вас разберет… Вроде бы ваше благородие сотник Дигаев. Не ошибаюсь? Или вы уже до полковников доросли? Вы али как?
— Я, только уже уйму лет не сотник, а есаул, понял?
— Понял, как не понять. Прошу в дом, ваше благородие. Я, как прежде, со старухой живу.
— Жива еще?
— Жива, чего и тебе, Володька, пожелает. Да ить, милый человек, что с нами сделается? Коротка молитва: «Господи спаси!» — а спасает.
Располагались в доме долго и шумно. И сразу же в горнице, вдоль верхних венцов которой были развешаны охапки пахучих трав, поплыл застоялый запах давно не мытых, сопревших ног, едкий уксусный запах мужского пота.
— Как от жеребцов тянет, — едва поздоровавшись, повела носом старуха. — Пока на бегу сполоснитесь, а после ужина помыться вам нужно будет как следует, чую, что давно мочалки не видели.
— Ладно, старуха, приготовь людям поесть, потом их жизни поучишь, — махнул рукой дед Гришаня. — Кашки им побольше свари. Русского мужика без каши не накормишь. Хотя какие вы теперь русские, а, Володька? На родной земле лет уж как по двадцать не были, язви тебя в почки? И по документу, поди-ка, теперь в япошках числитесь? — ехидно пытал старик.
— Вижу, ты, дед Гришаня, все такой же занозистый и остался? — усмехнулся Дигаев. — Хотя бы в честь встречи не обижал однополчан.
Двери, наличники, огромная русская печь, занимавшая половину горницы, были выкрашены в белый цвет. А по нему среди тщательно вырисованных разными красками замысловатых растений шагали петухи с огромными шпорами и гребешками всех цветов радуги, летели к буйному озеру стаи райских птиц-павлинов и дивных лебедей, скакали странные звери, непропорциональные, но удивительно гармоничные, наделенные какой-то непонятной на первый взгляд красотой. Все эти рисунки, намалеванные вроде бы детской, неискусной и не привыкшей к кисти рукой, сочетали в себе наивность, полное незнание художественных законов, отсутствие профессиональных навыков, но в то же время и мудрость простой жизни, взятой из общения с природой.
— Это кто же у вас стены так разукрасил? — равнодушно поинтересовался Дигаев. — Теперь не отмыть.
— А зачем их отмывать? — удивился дед Гришаня. — Я на них как погляжу, так и кажется, что уже дождались мы со старухой новой весны, солнышка.
— А весной о чем думаешь, глядя на них, дед?
— Весной, ваше благородие, мне за этими птицами вслед куда-нибудь улететь хочется, туда, где существует высшая справедливость, где люди друг другу братья, где все молодые, красивые и нежадные.
— Ну вот, старый, нас критикуешь за то, что мы улетели в иноземные края, а сам вслед податься мечтаешь, как же это понимать?
— А такая земля, ваше благородие, по моему разумению, должна быть не где-то в иноземщине, а туточки, у нас в Расее. Она и есть здесь, только искать ее нельзя одному. Да и когда искать? Это вы, как блохи, по тайге скачете, а мы ведь с фашистом воюем, поди-ка, слыхали?
— Слыхали, дед, только тебе что за печаль из-за этой войны? Сидишь у себя в займище и в ус не дуешь, до тебя разве только мы или японец добраться смогут.
— А говоришь, ваше благородие, что ты русский, язви тебя в почки. Да после таких слов какой же ты в попу русский?
— Но-но, дрючок старый, придержи язык, а то не посмотрю, что ты здесь хозяин. Ты уж не забыл ли меня часом?
— Да ты не обижайся, ваше благородие, — схоронил улыбку Гришаня, — я же правду говорю. Заметило, не упомню, сколько тебе лет?
Дигаев с минуту помолчал и ответил:
— Сорок четыре. А что?
— Ну, это ты, ваше благородие, брешешь. Как это говорится: жила кобыла у семи попов по семи годов, и гутарят: ей семь годов. Тебе уже в гражданскую было около тридцати, ну, да это твое дело. Из твоих лет ты чуть ли не половину провел за родной землей. Понятно, что и жалеть ее оттель разучился. А я здесь воевал, ненавидел, бивал и бит был, я ж ее ни на один день не покидал, как мне не жалеть Расеи? И всех этих гермашек да япошек как раньше били, так и сейчас проучим не абы как, непошто приставать, язви тебя в почки. Э, да что говорить! Отбавил бы мне сейчас господь возрасту, так я бы здесь с тобой сейчас беседы не вел, а бил бы германца пулей из своей пушки прямо в глаз, как белку. — Старик похлопал огромной темной ладонью по прикладу ружья, висевшего над лавкой, и перекрестился: — Прости, боже, обозвал безвинную тварь — белку, с германцем сравнил.
Дигаев повернулся за поддержкой к ротмистру Бреусу:
— Вот поспорьте с ним, Сан Саныч, о великой миссии Гитлера, о которой вы мне все уши прожужжали. Выскажите ему свои доводы, а я послушаю, ума наберусь.
— О чем мне с ним спорить? Вроде бы не о чем. Старик ведь истинную правду сказал, мы только по названию остались русскими. Вот глядите, он ваш бывший односум, сослуживец по полку, вы с ним в Сибири колчаковскую правду отстаивали, штыков не жалели, плетей тоже. Прошло двадцать лет — вам наплевать на то, что здесь делается, с кем оставшиеся русские воюют, а для него важна победа! О чем это говорит? О том, что растеряли мы, есаул, в эмиграции великорусскую гордость и патриотизм. Мы сейчас не столько о своей вчерашней, да-да, есаул, не мотайте головой, вчерашней родине помним, сколько о прежних обидах. Вот нам бы сейчас России на помощь прийти, вот в чем великая наша миссия! Но мы к ней не готовы. Мы с вами эту миссию с удовлетворением поменяем на энное количество золотых слитков и ювелирных украшений, которые обеспечат нам дальнейшее благополучное существование. Так какие же мы русские? Поэтому я хвалю и немцев, и японцев, и французов. Я старый, поживший человек, который и раньше не страдал от избытка идей, хочу забиться в уютный комфортабельный уголок и радовать свое тело, свой угасший дух. Мы все выродились, господа! Мы теперь как бурьян, куда ни ткни, везде прорастем хилым сорным стеблем, да в отличие от этого безобидного растения еще жечь будем любого прохожего да пованивать.
— Какой вы, однако, циник, ротмистр, — недовольно скривился Дигаев.
— Уж какой есть, но я циник правдивый, бичующий свои язвы и не желающий исправляться, как раз этим-то, есаул, я вам и люб. У нас с вами одна дорожка в отличие от вашего однополчанина деда Гришани.
— А вот мой сынок Ванюшка, наверное, сейчас воюет с германцем, — тоскливо проговорил Савелий Чух, — он кровь свою проливает, а его батька пропащий по Сибири за золотишком гоняется. Вот она, незарубцованная болячка. Эх-хе-хе, грехи наши тяжкие. — И как всегда в счастливые или горестные моменты, Чух вышел к лошадям.
— Ты, дед Гришаня, едрена мать, мое войско не деморализуй, понял? Помнишь, что раньше за такое было?
— Это за что было? Раньше вы, есаул, за Расею боролись, как сами говорили, а сейчас никак не пойму, то ли за немца, то ли за японца.
— Ну хватит, хватит, поговорили и ладно, а то еще переругаемся чего доброго.
— Не переругаемся, ваше благородие, нам ведь делить нечего.
— Нечего? А ты подумай. — Дигаев попытался сделать свой взгляд прежним, двадцатилетней давности: жестоким и пронизывающим, от которого иной раз взрослые мужики бухались перед ним на колени, теряли перед казнью присутствие духа.
Но дед Гришаня невинно глядел на него, хотя Дигаеву за этой кажущейся невинностью чудилась усмешка.
— Не забыл еще, что вы с отрядом хорунжего Васильева под Якутском прятали? Ну, чего молчишь, старик? Или попросить твоего дружка Магалифа, чтобы он напомнил?
Дед Гришаня скользнул глазами по Магалифу:
— А, так ты про те ящики из-под артиллерийских снарядов? Чего же не помнить, помню, но мне-то какое до них дело? Мне велели — я ямы копал, приказали — засыпал ящики.
— Ты с тех пор так больше там и не был?
— Опять старые вопросы. Я ведь уже говорил мужикам, что приходили из-за кордона десяток лет назад, — мне до чужого имущества делов нету. И вообще, мало ли что когда-то было? Мне чудится, что я там не бывал, ничего не видал и о ту пору на свете вроде бы не живал вовсе.
— А знаешь, что в ящиках было?
— Я бы сбрехал, что нет, но ведь Магалиф продаст: мы с ним в один из них заглядывали. Выходит, знаю.
— И место сокровенное никому не показывал? Побожись! Перед иконой побожись, старик! Если соврешь, так сожрет тебя геенна огненная.
— Будя! Что вы, ваше благородие, ко мне как репей прицепились? Я через геенну огненную по жизни прошел, чего же мне ее на том свете бояться? А побожиться, пожалуйста, — старик размашисто перекрестился, — вот вам крест, никому из чужих и домочадцев не показывал то место и думаю, что даже и сам не вспомню его, холера его знает.
— А вот вспомнить, дед Гришаня, придется. Большие люди нас за теми зелеными ящиками послали. Такие большие, что и упоминать их в этом курене неловко. И ты обязан нам помочь. Тебя ведь от присяги на верность царю и отечеству никто не освобождал. Покажешь? Не то…
— Не стращай нас, пужаные уже, с вами Володька Магалиф едет, он куда моложе, значит, и памятливее меня, вот он и покажет. А я, со своей стороны, цидульку нарисую, там все пропишу, что, может, вспомню. Вы там на месте все и сверите: что-то он припомнит, где и мой план поможет. Место приметное.
— Идем и безо всяких.
— Но куда же мне на старости лет зимой тащиться, язви тебя в почки? И старуху на кого оставлю? Ведь это не на день-два. Да скажи я ей сейчас такое, она и меня и вас так ухватом, ваше благородие, отделает, что никакие припарки не помогут. Никак нельзя мне ехать, мил человек, лекари уже лет пять грудную жабу вылечить не могут. А с ней мне только на печи лежать в силу, ей-богу. Оттого и охоту забросил, сердце от ходьбы, бывает, запрыгает, забьется, и впрямь как лягуха.
Как ни уговаривал есаул деда Гришаню, тот ехать в Якутск не согласился. А когда к уговорам подключился было Ефим Брюхатов, дед так зыркнул на него своими глазищами, что тот больше и слова не сказал.
— А ну его к бесу, — пожаловался он потом ротмистру Бреусу, — всю жизнь в тайге прожил, наверняка с лешими водится, в приятелях у нечистой силы. Такой где-нибудь в бочажине утопит, и поминай как звали.
«По донесению начальника пограничных войск Забайкальского округа, японцы продолжают оборонительные работы вокруг Хайлара, особенно в районе горы Оботу и дальше на восток. В городе все казармы заняты войсками, вокруг города много палаток.
…в Хайларе отмечено появление двадцати тяжелых танков, вооруженных двумя пушками и пулеметом каждый.
На реке Хайлар-Хе (близ Хайлара) проводились занятия по наводке понтонных мостов, участвовало до пятисот солдат и тридцать-сорок больших лодок.
Продолжается офицерское наблюдение за нашей территорией. В городском департаменте г. Маньчжурия организовано русское сыскное отделение, начальником которого назначен бывший полковник Власов. Двадцать второго июля тысяча девятьсот сорок первого года полицейским г. Маньчжурия розданы маузеры и винтовки. Сборы белоказаков в Трехречье распущены, но всем приказано быть готовыми и по вызову явиться немедленно.
Двадцать пятого июля состав белоэмигрантского бюро в Маньчжурии должен выехать в Харбин на съезд, на котором якобы будет обсуждаться вопрос об организации русского государства и формировании белогвардейского правительства».
После ужина сотник Земсков поинтересовался:
— Дедуля, а банька у тебя есть?
— Как же это у меня бани может не быть, милый? Али я не рожден, не крещен, али я чужой век заел? Такая банька, что выйдешь омоложенный лет на пяток. Тут же и на баб потянет. Пока бабка на стол готовит, вы уж позаботьтесь о себе, наносите в кадки воды. До реки здесь два шага по тропинке, а там у меня чардап очищен — прорубь для лова рыбки. Давайте, сынки, давайте, всем обществом — так там и работы на двадцать минут. А то ведь после ужина вас не поднять. Да неужто вам и вправду баня нужна? Вы ведь в чужой державе, поди-ка, по полгода не моетесь? У меня приятель есть, так он все зубоскалит: дескать, первые два месяца после бани всегда хорошо себя чувствует… Да шутю я, чего ты осердился? Старуха уже с полчаса как вашему Савелию баньку показала, он ее топит, потому и к ужину не поспел. Бабоньку вашу мы в избе с бабкой выпарим. Прямо в печи. Чего смеешься? Думаешь, опять шутю? Угли все из раскаленной печи выгребем, все там выметем, на пол настелем мокрой соломы, а она туда с запасом воды влезет. Тогда заслонку прислоним поглуше, и пускай ваша маруха моется всласть, парку поддает вокруг себя. Там, милый, такой парок бывает, что и банька позавидует. Случается, что любители даже задыхаются в пару, ей-богу, это значит опарыши. Это надо, от удовольствия помирают! Все равно что лежа на бабе помереть. — Дед запыхтел смешком, а за ним задрожала от общего хохота вся изба.
Банька была не очень вместительной. Поэтому в первую очередь пошли смывать грехи Дигаев, ротмистр Бреус и Ефим Брюхатов. Уж у выхода из избы Ефима Брюхатова перехватил дед Гришаня:
— Возьми кваску с собой, мужик. Всем подноси, никого не обноси: доброму для добра, худому для худа. Хотя если по откровенности, так откуда среди вас добрые? Моль одежду, ржа железо, а худое братство нравы тлит. Как, согласен со мной? Чудится мне все, малый, что когда ты в бандитские налеты не ходишь, так торговлишкой промышляешь, отгадал, нет?
— Тебя ведь, дед, еще есаул предупреждал, чтобы ты на грубость не нарывался, не грубил. Не банда у нас, разъясняю, а исследовательский отряд, совсем ты в тайге мохом оброс.
— Ну-ну, исследуйте, милок. А язык у тебя дерзкий, к старшим ты непочтительный, милок. А парку ты не боишься? Ну, к примеру, задохнуться в баньке? Нет? Да ты не бледней, не бледней, я ведь это к слову, как бы к примеру.
— Ты не дюже, дед, не дюже, — боясь оторвать глаза от Гришани, отступал Брюхатов.
Второй партией отправились париться сотник Земсков, прапорщик Магалиф и Савелий Чух, наконец-то оторвавшийся от своих лошадей. Уже в предбаннике, когда блаженный жар, выбивающийся из парной, охватил истомившиеся по теплу и наготе тела, они расслабились, только сейчас почувствовав, как устали за дни похода. Лениво переговариваясь, медленно раздевались, стаскивая нательные рубашки с пропревшими подмышками и кальсоны, которые тоже давно утеряли первозданный белый цвет от грязи и пота. Магалиф, равнодушно проскользнув к полку, прихватил тазик с кипятком, разбавил его ледяной водой из громадной кадушки, стоявшей у двери, и принялся быстро, как-то суетливо натираться куском коричневого мыла, пропахшего карболкой и еще каким-то казарменным запахом.
— Вы что делаете, прапорщик? — посетовал Земсков. — Первый парок хорошо принимать на сухое тело, тогда и поры скорее откроются, и тело задышит, всю усталость выбросит. Погодите, я сейчас немножко кваску на камни поддам.
— Для меня, сотник, можете не стараться, пустое это дело. Блаженство меня охватывает не тогда, когда я вдыхаю болезненно горячий пар и шпарю собственное тело кипятком, а скорее тогда, когда я вдыхаю аромат анаши или кокаина. Вот тогда действительно и все неприятности забываешь, и все те пакости, которые тебя окружают. К черту, я за чистоту духа!
— Ну как хотите. Но парку я все же поддам; если вам все равно, так чего же нам лишать себя мирской радости?
Земсков плеснул на камни четверть ковшика кваса, и по баньке проплыл, постепенно усиливаясь и проникая во все углы, благоухающий, дразнящий запах зерна, хлеба и еще чего-то такого, к чему человек быстро привыкает весной, с появлением первых цветов, пахучих трав и о чем тоскует в долгие зимние дни, лишь изредка радуя себя воспоминаниями в баньках. Пар уже обжигал не только тело, но и легкие, он покалывал кончики пальцев, щекотал поясницу, с которой ручейками стекал пот, оставляя после себя белые следы.
— Хо-о-оро-о-шо-то как, господи боже мой! — простонал Савелий.
— Ну, как парок? Берет? — поинтересовался Земсков. — Ты перебирайся, Савелий, на верхнюю полку, а я немного погодя еще поддам жарку.
— Погодите, господа, минутку, — торопливо смывая мыльную пену с головы и боясь раскрыть глаза, попросил прапорщик Магалиф. Не переводите на меня все свои ароматы, я сейчас обмоюсь и побегу в дом.
— Как хотите, прапорщик, смотрите, не пожалейте потом, в дороге, в холодной тайге о том блаженстве, от которого здесь отказались. Давайте-ка я вам спину потру. — Не дожидаясь согласия Магалифа, он прихватил вихотку и резкими, сильными движениями стал растирать худое, дистрофичное от наркотиков тело Магалифа. — Эко вас зелье скрутило. Вам и сорока, наверное, нет, а тело уже как у старика, прожившего сотню лет. А мышцы! Вольдемар, разве это мышцы мужчины? Боже мой, до чего же вы себя довели?
— Хватит, сотник, хватит, — блеснули из провалов глаза прапорщика. — И свои причитания оставьте для других, с меня хватит попреков и причитаний моей несравненной Анастасии.
— А о ней, прапорщик, вы бы вообще постеснялись упоминать. Не хотел я вам этого говорить, но вы сами начали, а коли так — выслушайте, пожалуйста, пару неприятных слов. То, как вы с ней поступили недавно, подло. Вам понятно: по-од-ло-о! — отчетливо произнес Земсков. — Это до чего же нужно деградировать личности, чтобы собственными руками толкнуть единственную любящую женщину в руки этого пакостника? Что, глаза щиплет?..
— Не продолжайте, сотник, не продолжайте, иначе я черт знает что с собой сделаю, а вы будете отвечать если не перед товарищами, то перед богом и совестью. Я ведь и так не могу теперь на Настю смотреть, не могу… — Всхлипывая, опаленный стыдом и жалостью к себе, прапорщик выскочил в предбанник.
— Напрасно вы его так, Николай Анатольевич, он ведь сейчас как сущий младенец. Не понимает, что делает. Я в Харбине нагляделся на наркоманов и на картежников. Хорошо еще, что есаул не велел ему во время картежной игры убить кого-нибудь, он ведь сделал бы это, ни на секунду не задумавшись. Я вижу, что Магалифа лечить нужно, а потом, чтобы не было искушения, запрятать его вместе с Настасьей, если она к тому времени не бросит его, куда-нибудь подальше, в глухой хутор, глядишь, еще и вернется к человеческому обличью и в теле и в душе. А вот есаулу за такие дела оторвать не только руки…
Земсков лег на верхней полке, а Савелий Чух, поддав еще парку, взялся за густой березовый веник и для начала, схватив руками его мягкий, широкий конец, с силой протянул его вдоль спины туда-обратно, отчего Земскову показалось, что с него сдирают кожу.
— Ничего, ваше благородие, потерпи чуток, это еще только разминка, то ли дальше будет.
После этого он в определенной последовательности то слабенькими хлопками, навевая на тело горячий душистый пар, то резкими, сильными стежками, выгоняя хворь, прошелся по рукам и ногам сотника, прокатал раза три веник взад-вперед по спине, промял каждое ребрышко, добрался до всех мышц, которые дрожали от радостного предвкушения сладкой пытки парения.
— Хватит, хватит, — мычал сотник, в то же время боясь, что Савелий действительно прекратит хлестать его и сегодняшний праздник пара и веника приблизится к концу.
Но Савелий, понимая эту игру, снова и снова поддавал парку и виртуозно управлялся с веником, растягивая это ни с чем не сравнимое удовольствие, которое, оказывается, несмотря на всю свою простоту, дается далеко не всем доступным умением. И лицо его не покидала шалая белозубая улыбка.
А потом, распаренные, ослабевшие, истомившиеся, они сидели в предбаннике, жадно пили квас и, вытирая струившийся по телу пот и оседающий пар, мирно разговаривали.
— На такие ноги и снова напяливать грязные носки и портянки? — пожал плечами Земсков. — Фу, до чего можно опуститься.
— Да стоит ли так переживать, Николай Анатольевич, ведь это одна минута, я зараз, — Савелий Чух прихватил серые от грязи шерстяные носки Земскова и, не слушая возражений, вернулся в парную. Минут через десять он появился оттуда и развесил выстиранное сушиться на лавке. — Так-то оно лучше будет, поприятнее.
— Спасибо, Савелий, право, как-то неловко, возишься тут с моим грязным тряпьем, а я тебе ничем и отплатить не могу.
— Зачем же платить, я ведь по-товарищески, уважить захотелось хорошего человека. Грязь не сало, потер, она отстала, верно?
— Брось, Савелий, от меня хорошего уже ничего не осталось, так, одна видимость. Раньше, понимаю, я хоть за какие-то свои идеалы с большевиками дрался, отстаивал тот порядок, который и при отцах, и при дедах был, а, скажи на милость, чего меня сейчас, как перекати-поле, по миру гоняет? Давно бы пора посидеть, подумать над тем, как дальше жить, а я все не решусь сам себе сказать, что профукал собственную жизнь. Остобрыдло все.
— Так вы, Николай Анатольевич, к белому движению сознательно примкнули? — Савелий нервно растирал голубой проследок рваной раны на предплечье.
— Ну а как ты думаешь? Конечно, сознательно. Вот мы с тобой здесь, Савелий, с глазу на глаз говорим, бояться некого, потому скажу честно: я еще лет десять после того, как мы в Хайлар ушли, верил, что положил свою молодость на алтарь защиты отечества! Ты уж извини за высокие слова, но что поделать, если в них-то я все те годы и верил. Для меня призывы адмирала Колчака, атамана Семенова не чужими были, а как будто личными, выстраданными. Ты только подумай: катится на Россию непомерная, огромная волна хаоса, анархии, пересматриваются понятия собственности, родственных отношений. Да ты же помнишь, как у красных в песнях пелось: «Кто был ничем, тот станет всем». Вот и защищал я себя и свое место в жизни.
Если они — крестьяне и гегемон этот, не к ночи будет упомянутый, — станут всем, то что же мне делать? Куда деваться? Ведь они не признают права на мое существование. Вот так, понимаешь, как я к белому движению и пришел.
— Это верно, Николай Анатольевич, лозунги-то и у Колчака и у Врангеля красивые были, только их ногтем колупнешь, а там дырка. Да даже если не колупать, дык сколько же мы несчастья принесли родной сторонушке? Сколько горя, крови, вы не забыли, какие безобразия допущались? Я вот по нашей сотне помню; деревеньку какую глухую захватим, дык ведем там себя так, как будто это уже чужая страна, которой нужно мстить до посинения. Поэтому мужиков пороли — не супротивничай, баб, прости меня господи, сильничали, к барахлишку как к своему относились. Если на такое ишо кто поимеет охоту, так только не я.
— Теперь и я об этом задумался, Савелий. Но, грешен, только теперь. А раньше иначе понимал: не мы эту революцию затеяли. У меня отобрали положение, имущество, так чего же мне кого-то жалеть? Шомполы, расстрелы? Все разгульное времечко спишет. Но не списало, брат. Чем больше старею, тем чаще мальчики кровавые в глазах.
— Какие мальчики, Николай Анатольевич?
— Это так, Савелий, у Пушкина Борис Годунов говорил, когда осознал свою вину. Вот видишь, ничего нового, во все века страдали. Я вот страдаю оттого, что не на тот кон поставил. Правильно ведь сегодня дед Гришаня говорил, ничего в нас русского не осталось. Порастеряли по заграницам и совесть и честь. Вместо того чтобы примириться с тем, что в России произошло, попытаться понять, может быть, назад попроситься, на Родину, мы все тайком, тишком норовим, охаять, урвать всего, что можно. Самому противно, во что я превратился, Савелий. А кому мы в Маньчжурии нужны, ты не задумывался? Я вот завел себе семью, но она распалась, жена ко мне с претензией — не можешь содержать так, как должно, как другие живут, так чего же женился? Приличной тряпки из-за тебя купить не могу. Хвостом вильнула и к другому ушла.
— И не жалейте вы о ней, если у нее только барахло на уме, дык рано или поздно бросила бы, пущай с другим наживается.
— Завел я было дело, Савелий, но и оно лопнуло, так как в экономике или в торговле я ничего не смыслю, обжулить меня разным прохвостам, типа нашего Ефима Брюхатова, при желании ничего не стоит. И дело даже не в этом. Любое мое начинание, Савелий, любое, подчеркиваю, обречено заранее на провал. Потому что я себя в Хайларе считаю временным человеком. Я в нем как бы на привале, а кто же в дороге дом строит? Кто всерьез хозяйством обзаводится? Вот уже двадцать лет живу на чемоданах. Домой хочу. До-о-мо-о-й! И уже не желаю я в Москву въезжать на белом коне с шашкой наголо, давно понял, что красных нам не осилить, потому что весь народ покраснел. Хочу приехать простым уставшим путником. Посидеть на вокзале на чемоданах, подумать немножко, а потом идти и искать себе крышу над головой и дело, которое меня прокормит. А за кордоном я ни к чему привыкнуть не могу: ни к тому, что там всем и на всех наплевать, ни к тому, что, если буду я болеть, мне никто кружку воды не подаст, коли у меня денег заплатить не будет. Не привыкну к тому, что уважают и боятся там тех, кто умудрился устроиться, разбогатеть, или те деньги, которые в России награбил, там не пропить и промотать, а выгодно вложить в дело. Ты вот на Ефима Брюхатова посмотри, ты его в Хайларе или в Харбине знал?
— Чего ж не знать, его там все наши знают. Женился на китаянке, как сам говорит, «акклиматизировался», один трактир записал на ее имя, другой на свое.
— Верно, да говорят еще, что на японскую контрразведку работает. Напьется кто-нибудь из наших у него в кабаке, наговорит лишнего, а через день-другой им уже, глядишь, и заинтересовались раскосые, уже крамолу ищут. Не знаю, может быть, и наговаривают на него, но мне Сиплый не нравится. Он и с нами неизвестно зачем пошел, то ли денег заработать, то ли все доподлинно хозяевам своим доложить. И что же ты думаешь, если они узнают, что мы сокровища раздобыли, так просто и позволят нам их разделить? Если ты так думаешь, Савелий, так плохо ты японцев знаешь. Выпотрошат они нас, как старых петухов, ощиплют и съедят.
А в доме в это время Дигаев хватился своей планшетки, с которой обычно не расставался, даже идя по нужде.
— В баньке, видно, забыл, — посетовал он, — придется идти на мороз, бр-р!
— Да куда торопиться, есаул, никуда оно не денется, мужики попарятся и прихватят.
— Нет, не люблю я, когда вещи по всем углам разбросаны.
— Ладно, есаул, запишите мне очко, выручая вас, схожу в баньку, принесу вашу планшетку. — И ротмистр Бреус, накинув на себя полушубок, вышел во двор, перебежал его наискось, прошел краем огорода и, тихонько приоткрыв наружную дверь, вошел в сенцы. Дверь в предбанник была приоткрыта, а в самой бане хлопнула дверь, послышались голоса — купавшиеся, видно, в это самое время выходили из парилки и рассаживались на лавке. Ротмистр Бреус помедлил, все еще держась рукой за деревянную ручку наружной двери, прислушался.
— Так вот, Савелий, — услышал он голос сотника Земскова, — продолжу-ка я мысль, что оборвал. Ты вот давеча сказал, что японцы могут и не знать о том, куда мы поехали. Позволь тебе не поверить. Об этом ведь весь Хайлар знал за несколько дней до нашего отъезда. Ко мне раза два офицеры подходили, интересовались, правда ли, что я с Сиплым и Дигаевым в Якутск за спрятанным сокровищем еду. А один мой приятель, не буду уж его имени называть, не хочу подводить человека, так тот прямо сообщил, что через Главное бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжоу-Го поход наш субсидирует японская контрразведка.
— Значит, ваше благородие, мы капиталы раздобудем, а их япошки к рукам приберут? Дык они же не сегодня завтра на Расею броситься могут, а мы им кучу денег. Не помню, я говорил, что мой сынок Ванюшка по возрасту тоже воевать должен? Вот эта мысль доняла меня так, что места себе не нахожу. Когда меня мобилизовали, жена им брюхатая была, а сейчас небось казак справнее меня. Глазком бы повидать его. А может быть, ему помочь чем нужно. Перед нашим походом кто-то мне в Хайларе сказывал, будто красные поперли германцев с Кубани. Как думаете, небось разорили гансы станицу, сто чертов их матерям?
— Да уж ясно, Савелий, на трофеи, наверное, даже навоз вывезли. В газетах о них разное пишут.
— То верно, они и из навозного сугрева отопление сделают. Так что, Николай Анатольевич, делать будем?
Неспроста ведь вы со мной этот разговор затеяли, я правильно понимаю?
— Нет, Савелий, ничего я тебе предложить не могу, да и не хочу. Мужик ты уже давно взрослый, самостоятельный, меня выслушаешь, а сам по-своему поступишь. Так?
— Дык оно, пожалуй, так. Но вы сегодня мне высказали то, о чем и сам не один день думал, гадал. Столько всего накопилось, что трудно мне, ваше благородие, во всем этом разобраться. Так поступить, как хочу, не удастся, не дадут; но и так, как до сих пор жил, туды-сюды шататься, тоже не могу. Куда деваться, ума не приложу. У нас в сотне в последние дни гражданской присказка такая ходила: «В воде черти, в земле черви; в Харбине разные, на Кубани — красные; в лесу сучки, в городе крючки; лезь мерину в брюхо, там оконце вставишь, да и зимовать себе станешь». Вот сейчас впору так и сделать.
Ротмистр Бреус, затаившийся в сенцах, услышал скрип шагов на дорожке, ведущей к баньке. Напрягая все свои мышцы и подтягивая дверь кверху, чтобы не скрипнула, он вершок за вершком приоткрывал ее, а когда шаги послышались совсем рядом, выскользнул наружу и, резко размахивая пальцем перед лицом, боясь, что Дигаев гаркнет во всю свою луженую глотку, жестикуляцией велел тому молчать, пропуская его в дверь, на секунду склонился к уху атамана.
— Тихо, — прошептал он, — послушайте, есаул, о чем наши казаки-разбойники разговаривают, это имеет к вам прямое отношение. А меня совсем не касается. Не забудьте потом как-либо планшетку из баньки вызволить. — И он, осторожно прикрыв за собой дверь, тихими шажками удалился по направлению к дому.
Шумного, обычно резкого в движениях Дигаева будто подменили. Он весь напрягся, ловко, по-кошачьи тихо подобрался к внутренним дверям и застыл вслушиваясь.
— А как ты говоришь, Савелий, тебе сделать не дадут? — поинтересовался сотник Земсков.
— Дык по-хорошему мне бы пустить коня наметом до первой большой станицы, поискать домишко с красным флагом на коньке и идти сдаваться. Так, мол, и так, дорогие земляки, слухайте со вниманием: хотите казните, хотите милуйте, но нагулялся я по заграницам, уморился, хватит, хорошего помаленьку. А там на выбор: хотят, пускай сажают, отсижу что положено, а нет, то готов кровью завоевать право на жизнь. Нехай на фронт посылают, во мне сейчас злости много скопилось, я германцам покажу, как казаки оружием владеют. Пошшупаю им кости шашкой. Может, где в войсках и сынка своего, Ванюшку, встречу. Только пока что сомневаюсь, решусь ли я на такой шаг. Да боюсь, что и есаул с Сиплым меня так просто не выпустят, их благородие уже давно на меня косо смотрят… Тш-ш-ш… Показалось или действительно ветерок по ногам?
— Да чего ты хочешь, если на дворе ветер, то и в дверь прорвется. Свежий воздух — это хорошо, Савелий, особенно после парилки. Я раньше после бани любил в холодную речушку бросаться или в чистом снегу покататься, ох и освежало! Но уже лет пять, как боюсь. Радикулит схватит, так никакими растираниями потом не спасешься, пока не сломает, не повыгибает тебя вдосталь. А что тебя касается, казак, так и вправду они тебя сейчас попросту не отпустят. У нас ведь каждый человек на счету, из семерых на Магалифа и Настю полагаться нельзя; в прапорщике неизвестно как душа держится, а баба, особенно злая на весь мир, она и есть баба. Вот и остается нас пятеро разбойников.
— Чего же это вы, ваше благородие, так сурово о нас гутарите? Какой я, к слову, разбойник? Другие, может, и бандитствуют, а я простой казак.
— А чего бы ты хотел? С кем живешь, тем и слывешь. Так вот лучше ответь мне, Савелий, много ли за тобой грехов гражданская накопила?
— Особых грехов вроде бы и нет. В бою бил, как и все. Дык то честная битва. У красных задача была меня в навоз пустить, а у меня своя цель — как раз наоборот. А в деревнях я не шалил, я народ всегда жалел, как вспомню свою станицу, так вся злость тает. Люди везде одинаковы.
— Так чего тебе тогда бояться? Вполне, парень, могут тебя простить. А ежели на фронт допустят и геройство проявишь, так, гляди, еще и медальку какую заработаешь. Не стыдно будет и в станицу вернуться. Ищи момент, станичник. Ты ведь первый раз в России после гражданской оказался?
— В первый!
— Когда же такая удача у тебя еще появится?
— Это вы верно, Николай Анатольевич, подметили.
Я к вам давно приглядываюсь, хороший вы человек, ваше благородие, простой, ни чины вас не испортили, ни жизнь наша суетная, заграничная. Откроюсь уж вам как на духу. Только предупреждаю, скажете кому — откажусь, отрешусь и объявлю, что это вы меня сами с панталыку сбивали.
— До чего ж тебя, Савелий, запугали, голову заморочили. Ты уже никому не веришь.
— А кому верить, ваше благородие? Если у нас каждый друг на друга при случае напраслину возведет? Перегрызлись все в Хайларе, как псы цепные. По душам поговорить и то не с кем. Ну, да это я так, к слову. А главное в том, что я еще в Хайларе задумал, коли возьмет меня есаул в этот поход, то не уеду я больше из Расеи. Спытаю счастье. Это вы верно сказали, последняя у меня возможность уйти домой. А сами вы как, ваше благородие, решили? Назад вернетесь?
— Мне, Савелий, куда как проще, я ведь все-таки офицер, со мной ни есаул, ни ротмистр не посмеют говорить, как с нижними чинами. Бежать я не стану, не дворянское это дело. Поеду до Якутска, помогу атаману найти золотишко. Там же, в Якутске, пускай и делит все честь по чести. А когда моя доля будет уже при мне, что захочу, то и сделаю, человек я вольный и от всех обязательств свободный.
— Тоже до Парыжу задумали, ваше благородие? Следом за ротмистром?
— Для меня роднее Земляного вала в Москве ничего на свете нет. Никакой Париж с ней не сравнится. Не напрасно же каждый русский мечтает хлеб-соль покушать, в Москве святой колокола послушать. Я, брат, другое задумал. Возьму свою долю богатств и в Якутске к властям явлюсь. Позвольте, скажу я им, вручить вам сумму немалую, надеюсь, она вам пригодится — у американцев танки и самолеты купите. Подсчитают они, сколько я безвозмездно отдал, глядишь, и простят меня за все, что в гражданскую надурил.
— Так уж и безвозмездно, ваше благородие?! Это же вы им откуп предлагать собираетесь.
— Ну и что? Деньги, особенно в золоте, и в Советской России немалую ценность имеют, не забывай, станичник, там ведь сейчас не коммунизм, а социализм. Совсем ты, смотрю, политически не подкован.
— Я, может быть, и не подкован, Николай Анатольевич, но в том, что вы говорите, прореха. Они у вас поинтересуются — а где, мол, господин бывший белогвардейский сотник, остальное добро? Вы ведь нам только часть возвращаете. Что вы на это им ответите?
— А то и отвечу, что могу распоряжаться только своим. Моя доля: что хочу, то с ней и делаю, а до остального мне дела нет, пускай сами выясняют. И вообще, Савелий, мудрствуешь ты, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят.
— Дык то дареному. А вы собираетесь у них драгоценности забрать и им же как дар возвратить. Что-то у вас, Николай Анатольевич, концы с концами не вяжутся.
— Что ты мне можешь предложить, Савелий? Чтобы я все найденное вручил большевикам? Не забываешь ли ты о моей офицерской чести? Быть предателем я не могу. Но оставлять на полпути своих товарищей не стану. Они рассчитывают на меня, и я сам знал, на что иду. Только теперь с ними невтерпеж стало. Дойти бы, а там — взяли, поделили, разбежались, по мне, так лучше и не бывает.
— Дык нашу банду, Николай Анатольевич, не сегодня завтра начнут отлавливать, как бешеных собак.
— Какую банду, Савелий, выбирай выражения! Если это банда, так и мы бандиты.
— А так оно и есть. Вы об этом и сами гутарили только что. Да вспомните-ка: убили ведь проводника среди белого дня ни за что ни про что? Как это называется, новым освободительным походом? А пока до припрятанного барахла доберемся, еще не одного человека жизни лишим. Без дуростев не обойдемся. Вы поглядели бы, как есаул на деда Гришаню зыркал, когда тот в Якутск ехать отказался. Так бы и зарубил его, но пока чего-то побаивается.
— Может быть, ты и прав, Савелий, может быть… — Сотник Земсков задумался и не торопясь принялся одеваться. — Поглядим, как дальше события будут развиваться; одно тебе скажу, что на своей земле я больше не пролью ни капельки крови. С меня хватит. А ты подумай, может быть, тебе не следует торопиться, подождем, а там вдвоем… а?
— Я же гутарил, Николай Анатольевич, в точности пока не знаю, как буду поступать. Подожду маленько. Обдумать все надо, стал быть!
Из сенец вдруг ударил резкий порыв холодного воздуха. Савелий вскочил с лавки и, широко открыв дверь, так, чтобы свет от лампы освещал подальше, выглянул.
— Никого, ветер балует, — успокоил его сотник Земсков.
Когда Земсков и Савелий Чух вернулись в избу, Дигаева там еще не было.
— А есаул где? — громко поинтересовался сотник Земсков. — Мы ему тут планшетку принесли, закружилась, видно, от пара голова, все барахло растерял.
— Чудно, — ни на кого не глядя, бросила Настасья, — за этой планшеткой уже двое бегали, и ротмистр Бреус, и сам Дигаев, а принесли вы.
— Ты ошиблась, Настасья, я хотел было сходить за ней, по свернул к лошадям, а есаул и вовсе по нужде отправился.
— И вообще, бабе в казацкие дела лезть нечего, — почему-то сердито, с вызовом, вмешался Ефим Брюхатов.
Земсков с Савелием переглянулись…
Со двора, впустив в избу густое, клочковатое облако морозного воздуха, вошел Дигаев. Насупившийся, чем-то недовольный, он прошел к плите и, выдвинув ногой табурет, присел, прислонившись спиной к теплой стенке.
— Я чего, твое благородие, спросить хотел, — издалека начал дед Гришаня, — ты мою кобылку на конюшне видел?
— Видел твоего заморыша, дед, видел. Если ты мне собираешься предложить поменять ее на нашу лошадь, то пустое дело, дураков нема.
— Погоди трошки, положим, мил человек, ругаешь ты ее зазря, животная она хоть куда, а по нашим местам и получше твоих коняг. Это же якутская, северная лесная порода. Она тебе в любой мороз без конюшни выдержит и на подножном корму чуть ли не всю зиму проживет. А что волосатая да вроде неказистая, так мне же ее не на выставку.
— Не расхваливай, дед, менять все равно не буду.
— Да кто тебе сказал, язви тебя в почки, что я менять собираюсь? Ни в жисть. Но вот подумай сам, я тебе план нарисую, расскажу, как до Якутска добраться и как там до самого того места выйти, — должен же и ты меня каким-то образом отблагодарить? Думаю, что должен, хоть что-то русское в тебе осталось!
Ты же знаешь, твое благородие, я и сам из казаков. Лошадь моя меня вполне устраивает. Но если бы ома ожеребилась хорошей полукровкой, я не был бы против. Понял? Это я тебе на благодарность такую намекаю.
— Так ты чего, дед, от меня хочешь?
— Не иначе, есаул, как он вам самому предлагает его кобылку оприходовать, — засмеялся ротмистр Бреус, — а ты уверен, дед, что от есаула породистый жеребенок будет? — Тут Бреус перехватил полный ненависти взгляд Настасьи, которым та одарила Дигаева, и поперхнулся.
— Неуместные шутки, ротмистр, — взвился Дигаев.
— И верно, твое благородие, неуместные. Под тобой ведь жеребец арабский ходит! Ну так нехай он мою кобылку покроет. Ему в удовольствие, мне в радость, и ты со мной сквитаешься.
— Да я, дед, уж найду способ с тобой сквитаться, — двусмысленно протянул Дигаев, — не беспокойся.
Но дед Гришаня, как будто не слыша его, продолжал:
— Скрестим их, и появится у меня хорошая верховая лошадь. Будет на чем молодость вспомнить.
— Ты бы ее лучше на бабке вспомнил, — оскалился Ефим Брюхатов.
— Милок, — приподняв кудлатую бровь, спокойно на него поглядел дед Гришаня, — у меня волчья желчь есть, тебе не пригодится?
— К чему она мне? — опасливо поинтересовался Брюхатов.
— А вот если пару крошек ее человеку мужеского пола в еду положить да при этом сказать тайные слова, дак у него вся мужская способность отсохнет, через то и баба из дому выгонит. Ты меня правильно понял? Я за твое здоровье сильно беспокоюсь, а то ты меня уже раздражать начал. Вон Володька Магалиф не даст соврать, мы с ним в одном полку служили, злопамятный я, жуть какой. Помолчи хучь трошки, будя!
— Чего же так, дед, всем остальным шутить можно, а мне и посмеяться запрещено? — обиделся Ефим Брюхатов.
— Вот ты, конский лишай, над остальными и шути, а меня, последний раз предупреждаю, не моги трогать, осерчаю, язви тебя в почки, понял?
Брюхатов промолчал.
— Я тебя спрашиваю, милок, ты меня понял?
— Да понял, понял… — боязливо отодвинулся подальше от деда Брюхатов.
— Так как, твое благородие, по рукам? Мы тогда с Савелием завтра днем всю операцию и проделаем. Сегодня я бы лошадок травками нужными подкормил, живительного зелья налил бы им, а то твой жеребец отощал в дороге, подрастерял маленько детородной силы.
— Эх, дедуля, — вмешался ротмистр Бреус, — я бы на твоей стороне был, кабы нам завтра не в дорогу с утречка.
— А что, — неожиданно согласился со стариком Дигаев, — почему бы нам и не уважить нашего сотоварища? Нет, станичники, как хотите, но мне кажется, что ради доброй услуги деду Гришане мы на денек могли бы и задержаться. Как, орлы?
— Да можно бы, — тут же согласился Бреус. — Дорогу получше разузнаем, коней подкормим, сами отдохнем. Когда теперь нам в теплой избе спать, кому это ведомо? А от этой нодьи у меня скоро одна сторона тела обуглится, а вторая вечным льдом станет.
— Коли дедушка просит, — льстиво глядя на Гриша ню, произнес Ефим Брюхатов, — обязательно надо выручить его кобылку, наше благородие.
На том и порешили. Когда казаки начали было укладываться спать, дед Гриша ни поинтересовался у своей старухи:
— Слушай, Прасковья, ты шерсти набила?
— Да есть пары на четыре, Гришаня. — И вытолкнула ногой из-под лавки здоровый, казалось бы, неподъемный мешок, но он повиновался малейшему движению ее ноги, и было понятно, что в нем что-то легкое, воздушное. — Если еще нужно, так погоди, я тебе и на пятую пару перебью. Остальное в подклети, сам возьми. А может, сегодня не будешь? Все-таки гости в курене?
— Дак что же, Прасковья, упускать такую возможность? Баня протоплена, воды там хватает, тепла тоже. Пока гостюшки дрыхнуть будут, я дело и сделаю, завтра отосплюсь. Настилать валенки ты будешь, али мне самому?
— Выстели, Гришаня, ты сам, а я к завтрему опару поставлю, хлебца испечем и себе и казакам в дорогу. Давно свеженького хлебца не ели? — ласково спросила старуха, глядя на Савелия Чуха.
— Давненько, бабуля, я уж дык и вкус забыл. А что это ты, батя, делать собираешься на ночь глядя? Уж не валенки ли валять? — повернулся он к Гришине.
— Точно, их, а ты что, знаком с этим ремеслом?
— Да как сказать, у меня батя вальщиком был. Это у него вроде забавы считалось. Однако и забава в хату копейку давала. У нас в семье шесть детей было, из них только я мужик, а остальные девки. А на них, как знаешь, земельный надел был не положен, так что цену рублю в хате знали. Коли дозволите, поглазею, как у вас валяют, поучусь.
— Да чему у нас учиться, сынок? В тайге живем, в кулак жнем, пню кланяемся, лопате молимся, — хитровато блеснул глазами дед, — коли не лень, пойдем.
— Ну так и я с вами, если не возражаете, — вскочил сотник Земсков, — никогда не видел, как валенки делают. В Хайларе о такой науке и не слыхивали. Поехали, дедуля, с нами, там морозы тоже бывают сильные, цены твоему товару не будет, с руками оторвут.
— Чего ж, сынок, ехать за семь верст киселя хлебать? У меня и здесь они не залеживаются.
Взяв мешок с шерстью, они вышли. Дождавшись, пока старуха ушла в клеть, есаул подошел к Ефиму Брюхатову:
— Иди, Сиплый, посиди с ними, послушай. Мы вот с ротмистром Бреусом сегодня уже столько интересного услышали, что я теперь ума не приложу, что делать. Может, и ты что-нибудь интересное узнаешь.
Ефим Брюхатов скорчил было недовольную мину, собираясь наотрез отказаться, но Дигаев коротко сказал:
— Надо! Потом все объясню, не теряй времени, да мотай там все на ус.
— Бог в помощь! — с радушием, на которое только был способен, пропел Брюхатов, входя в предбанник.
— Аще бы не бог, кто бы нам помог, — сердито глянув на умильную физиономию вошедшего, ответил дед Гришаня и недовольно добавил: — Тесно что-то у нас стало. Кто не работает, двигайся к стенке, по лавкам.
На столе, притулившемся возле крохотного, расположенного чуть ли не у самого потолка оконца, был расстелен широкий кусок грязного, густо-коричневого полотна, на которое дед Гришаня раскладывал шерсть, старательно ровнял ее заскорузлой мозолистой ладонью. Потом он скрутил полотно в трубку и начал катать по столу.
— Давай, дедуля, помогу, — вызвался Савелий Чух.
— Сиди, помогальщик, и до тебя очередь дойдет.
Пошаркав еще немного по столу, он подозвал Ефима Брюхатова:
— Ну-ка, милок, порастряси жир, порадей чуток.
Когда Ефим Брюхатов уже засопел от напряжения и третий раз поинтересовался у Гришани, не хватит ли, тот молча отстранил казака, развернул полотно и, критически оглядев его, завернул сбитую кошмой шерсть, отчего она стала напоминать гигантскую унту, только какую-то расхлябанную, разношенную. Потом снова поочередно катали дед с Ефимом, и Гришаня время от времени осматривал свое творение, добавляя изуродованными многолетней работой руками клочья шерсти. Затем, перевязав унтину из шерсти бечевкой, дед Гришаня мочил ее в каком-то едком растворе.
Для валяния он затащил еще один стол в парилку. И вскоре многострадальная унта оказалась в кипящем котле, а оттуда уже — на втором столе умельца.
— Ефим! Милок, поотдохнул трошки? Подь сюда! — позвал дед Брюхатова. — Погляди, что я делать буду, а гам меня сменишь, — улыбнулся он. — Только чего же ты во всей этой сбруе маешься? — Он поддел обкуренным коричневым ногтем ватные синие штаны Сиплого. — Раздевайся догола, милок, скинь шаровары, поработаем, а потом сполоснемся от трудового пота. Что, взопрел? Это тебе не лозу рубить, раз — и готово, у нас дело сурьезное.
Подвязав фартук из обезволосенной конской кожи, дед Гришаня принялся катать вытащенный из кипятка валенок, и было непонятно, как же это он умудряется не обжечь руки.
— Савелий, навязался помогать, так тоже не сиди, тащи из сенцов водицы, не жалей ее, в реке воды много. — Дед, не останавливаясь, забыв об отдыхе, мял валенок, уплотняя, сбивая его, и наконец стало заметно, что это уже далеко не рыхлая, податливая шерсть, прилипающая к одежде легкими, невесомыми хлопьями. Скругленным, замысловато изогнутым поленом дед Гришаня выправлял носок валенка и снова мял, крутил, волочил по столу, а потом, снова опустив его в кипяток, вроде бы равнодушно поинтересовался у Ефима Брюхатова:
— Ну, как, милок, настилать валенки будешь в предбаннике или здесь со мной управляться изволишь? Мужик ты, смотрю, еще здоровый, у тебя все ладно должно получаться, ты только силы не жалей, на кой ее тебе для закордонщины беречь? Ну, наделаешь еще пару китайчат и все, язви тебя в почки. А валенками пол-Сибири одеть сможешь.
Ефим Брюхатов, уже давно понявший, какой каторжной может оказаться эта ночка, просительно посмотрел на старика:
— Ты, батя, погоди немного, я к есаулу схожу. Он ведь меня ненадолго отпустил, сказал, что я ему зачем-то в избе буду нужен. Пойду спрошу, сам понимаешь — атаман, ему перечить нельзя. — И он с непонятной робостью направился к двери, а оказавшись в предбаннике, и одеться-то толком не успел, скорее выскочил во двор.
— Ваше благородие, делать мне там нечего, — повеселевшим голосом доложил он есаулу. — Над валенками они там пыхтят. Это такая работенка, что не особенно разговоришься. Да и от колдуна злющего лучше бы подальше держаться.
— Ладно, их теперь все равно не устережешь, если захотят тайком перемолвиться, всегда найдут такую возможность. Мы и так достаточно знаем, — буркнул Дигаев и отошел к ротмистру Бреусу:
— Что вы думаете, Сан Саныч, о том, что мы с вами слышали?
— Да я, признаться, есаул, ничего особенного и не слышал, если помните, предоставил эту возможность вам.
— Опять в тень уходите? А мне расхлебывать?
— Вам это по чину и по должности — атаманом артель крепка. Хотя если хотите знать, то все пошло шиворот-навыворот с того вечера, как вы у прапорщика Настасью выиграли. Никак не уразумею, неужели вам мало баб в Хайларе было? Зачем было рушить святое солдатское братство?
— Бросьте вы эту красивую фразеологию, ротмистр. Я что же, по-вашему, лишен страстей? Или похож на заводную куклу? Ну сорвался, понимаешь, сорвался! Чего же вы в тот момент молчали? Подошли бы и по-товарищески предостерегли, коли вам так дорого это братство. Я ведь сначала понарошку к предложению этого психа, наркомана несчастного отнесся. А потом думаю, дай проверю, до какой же черты он все человеческое потерял? Да и сам натворил дел.
— Как говорил поэт, — глубокомысленно заметил ротмистр Бреус, — горечь, горечь, вечный искус окончательное пасть… Если хотите совета, есаул, так поворачивайте всю нашу шайку-лейку обратно. Только совет это праздный и необязательный. И вы и я понимаем, что обратно ходу нет, те же страсти не позволят, мечта о деньгах и страх, что с вами расправятся те, кем вы посланы.
— Пустое говорите, никем я не послан. У нас компания «Дигаев, Бреус и К°».
— Пусть будет так, не расстраивайтесь, есаул, из-за моего неуместного предложения. Меня во всем этом, как я вам неоднократно докладывал, интересует только одно — мой пай. И вот во время получения я сумею проявить и твердость духа, и характер, и все, что вам будет угодно. Ибо деньги мне заменят все: и отчизну, и семью, и прошлое.
— А что же все-таки теперь с сотником Земсковым и Савелием Чухом? Они при первом же случае к красным перебегут! Боже мой! Было нас семь спаянных общей задачей человек, а теперь полный развал.
— Не разыгрывайте античных трагедий, есаул, наш развал точное зеркальное отражение того, что происходит во всей белой эмиграции. Я бы на вашем месте делал вид, что ничего не знаю. Поднимать сейчас скандал — чем он кончится? Мы окажемся в меньшинстве! Приглядимся, подумаем, попланируем, время еще есть. Главное, никого из этих голубчиков не упускать из поля зрения. А сейчас, извините меня, есаул, мне пора спать, сегодня я окончательно понял, что должен быть собран и, как никогда, здоров и бодр.
А в баньке сотник Земсков и Савелий Чух, воспользовавшись возможностью, торопливо расспрашивали деда Гришаню и о Советской власти, и о жизни в России, и о последних новостях с фронта.
— У нас в армии новые знаки различия введены, — с гордостью рассказывал дед Гришаня, — теперь у всех родов войск погоны.
— Это, выходит, как в наше время были? — поинтересовался Савелий.
— Примерно такие. Только, конечно, куда красивше. А армия наша гонит фашистов так, что они убегать не успевают. Вот, к слову, недавно под Сталинградом триста тысяч с гаком фрицев в плен взяли. — Гришаня сказал об этом так, как будто с его легкой руки Красная Армия едва ли не ежемесячно одерживала такие победы. — Крепка у нас армия, скажу я вам, станичники. Вам такая и не снилась. Ну и мы, тыловые граждане, значит, ее всячески поддерживаем. Вот как вы думаете — для кого сейчас валенки со мной катаете, язви тебя в почки? — Старик хитро улыбнулся и пояснил: — Для фронта, для солдатиков, вот для кого. Таким-то валенком, — постучал он по заготовке, — не грех германцу и под зад поддать, верно? Я не только валенки, я и все деньги наши со старухой — пять тысяч — сдал в фонд обороны.
— Что, отобрали, что ли? — поинтересовался сотник Земсков.
— Зачем же отобрали? Ты, Коля, просто несознательный элемент, да у нас сейчас и рабочие, и колхозники, и директора фабрик — все сдают деньги или золотые побрякушки в фонд обороны.
— И верно, дедуля, чего это я удивляюсь? Ведь во времена Минина и Пожарского тоже сдавали ценности на оборону страны. Сами сдавали, наверное, и вас не заставляют.
— А тем гражданам, — продолжал дед Гришаня, — которые сдадут особенно крупные суммы, так тех письмами или телеграммами благодарит сам Сталин. Понял? Это тебе не фунт изюму, от Сталина телеграмму получить!
— Вот как! — со смыслом посмотрел сотник Земсков на Савелия Чуха. — А ты, Савелий, говорил, что красные не оценят серьезный денежный вклад. — И он тут же перевел разговор на другую тему: — Скажи, Гришаня, а как здесь к нашему брату, белогвардейцу, относятся? У нас рассказывали, что все лагеря ими забиты.
— К кому как! Ежели белая кость, золотопогонник, да над простым народом издевался, стрелял-мучил, того и до тюрьмы могут не довести, шлепнут сразу же после суда. А меня же, к примеру, и недели не держали. В жандармах я не служил, в полиции тоже, никого не вешал, а если и принимал участие в боях, так как и все.
Савелий с удовлетворением хлопнул кулаком по столу:
— Значит, не преследуют?
— Да ить, мил человек, за что меня преследовать? Посмотрю на тебя, вроде бы ты толковый мужик, работящий, уважительный, а вот таких простых вещей не понимаешь, язви тебя в почки. Я ведь работаю, а не на дурняшку хлеб лопаю. Понятно, в гражданскую войну проявил я некоторую несознательность, раза два бегал от красных к белым и наоборот. Но это до тех пор, пока не понял, что большевики лично ко мне претензий не имеют. А позже, как только после возвращения из белых войск домой узнал, что казачки атамана Семенова среди заложников и мою Прасковью высекли принародно на сельской площади, так и вообще успокоился. Вы лучше скажите, чего вы все меня пытаете? Уж не в бега ли от своего батьки есаула хотите уйти? Если так, то тикайте, тикайте зараз, не мешкая. Объясните властям, по какой причине пришли из Хайлара, в ноги упадите, пообещайте трудом и кровью доказать, что вы не хуже остальных. И поверят. Должны поверить!
Отваляли уже к утру. Старик Гришаня определенно схитрил. Одному бы ему с таким количеством шерсти и за сутки не справиться, а втроем и поваднее и быстрее работается.
— Ну вот, ваш первый вклад в оборону готов, — удовлетворенно сказал старик, развешивая готовые валенки на стене. — Завсегда могу засвидетельствовать об этом где угодно. А сейчас, станичники, идите в избу, отдохните трошки, прихватите у сна еще часика по три, я попрошу старуху не будить вас.
Проспали сотник Земсков с Савелием Чухом даже не три, а не меньше пяти часов. Проснулись от того, что громко хлопнула входная дверь и где-то за стеной расхохотался Сиплый. Не торопясь оделись и, прихватив в сенцах ведро с водой, вышли во двор слить друг дружке — умыться.
За забором слышался глухой, по снежному насту, перестук лошадиных копыт, приглушенно и как-то непривычно мягко, призывно ржали лошади. Отставив ведро с утонувшим в нем деревянным ковшиком, Савелий Чух направился к воротам:
— Погодь маленько, ваше благородие, сейчас солью, дай хоть одним глазком поглядеть, каков Буян в деле.
Не удержался и сотник Земсков.
На большой овальной полянке возле заимки, уже утоптанной, неслись друг за другом две лошади. Маленькая светло-серая кобылка, ростом в метр тридцать с небольшим, убегала от жеребца, словно нехотя, отчего даже ее грива, свисавшая в правую сторону, временами взлетала, но не развевалась как при быстром беге.
Была она явной, никудышненькой дурнушкой, судя по всему, прожившей недолгую, но бурную жизнь. Об этом свидетельствовало и правое ухо, наполовину урезанное, отчего оно казалось замшелым подгнившим пнем. И красный правый глаз. И старое, едва видное тавро, поверх которого было выжжено свежее, отчего оба они потеряли свою четкость. В придачу ко всему ноги невесты косолапили вовнутрь. Но все это не умаляло ее достоинства — возможность стать родоначальницей нового семейства. В глазах разгоревшегося страстным пламенем арабского жеребца, невесть как попавшего не только в эти глухие таежные края, но и в руки своего хозяина, она была самой желанной. Чуть повыше ее ростом, метра полтора в холке, с характерными для этой породы короткими линиями, с шелковистыми, вздымавшимися волной от легчайшего движения гладко вычесанными гривой и хвостом, он носился по площадке, егозя вокруг знающей себе цену кобылки, и от страсти с его верхней губы, несколько перекрывавшей нижнюю, срывались хлопья пены. Иногда он взгромождался на нее, но срывался, тоненько ржал и, снова догоняя, какое-то время скакал рядышком, бок о бок.
— Будь ты неладен, — бормотал дед Гришаня, — опять сорвалось. Ну, размазня иностранная.
— Давай, давай, Буян, — визгливо-резким смешком подбадривал жеребца Ефим Брюхатов, и казалось, что у него самого из уголка рта течет струйка слюны, — покажи этой замарахе, на что хайларский удалец способен.
Умерив прыть, кобыла перешла на шаг, и только тогда конь, задрожав мелкой подкожной зябью, дорвался до нее.
— Ай да мы, — не сдерживаясь, гордо стукая себя в грудь, засипел Ефим Брюхатов, — гля-кось, Савелий.
— Чего же ты, кобель вонючий, сравниваешь себя с чистым животным? — с усмешкой повернулась к нему Настасья. — Тебе с твоим атаманом только сильничать, да и то больше на пыхтенье и пар исходите, чем на дело.
— Ну, Настя, ну, баба злющая, я до тебя доберусь, я тебе косу выдеру за язык твой. Ни стыда в тебе, ни совести. Какого же ты хрена пришла глядеть такое? Стоишь рядом с мужиками да еще рассуждаешь о чем-то. Моя бы жена от позора удавилась, со стыда пунцовой бы стала, а тебе хоть бы хны, развратница.
— Шутишь, Сиплый, — понимающе улыбнулся прапорщик Магалиф, — о твоем борделе при хайларском трактире все мужики знают. А деньги за свидания, если я не забыл, твоя раскосая супруга собирает. Ты не припомнишь, вы с ней вместе или она сама таксу установила? Ей-богу, дороговато берет, особенно за тамошних туземок. А Насте не грози, я ведь не всегда под балдой бываю, иной раз, если при трезвом уме, и к ответу тебя призвать могу.
— Да ты шо, мозгляк, угрожаешь мне, али как тебя понимать?
— Помолчи хучь трошки, Сиплый, — не выдержал Савелий.
— Господа, господа, к чему ссоры, — подошел к ним ротмистр Бреус. — Сиплый ничего обидного сказать не хотел, верно, Ефим? И прапорщик, насколько я понял, никому не угрожал, это досадное недоразумение.
Ну, улыбнитесь друг другу, и снова мир! Не мешайте прекрасному зрелищу.
— Ты, ваше благородие, как судья из той сказки: прав медведь, что корову съел; права корова, что в лес зашла. Его спрашивают: «Так разве ж так судят?» А он в ответ: «И вы правы!» Видал, как бывает, язви тебя в почки? Гляжу я на тебя, ваше благородие, и думаю, ты как масло на воде, все хочешь сгладить, а отчего так?
— О людях беспокоюсь, дед Гришаня.
— Не-е, это ты о себе думаешь, ежели среди вас какая склока поднимется, она сразу и по тебе ударит, а ты осторожный, но, как я понимаю, куда опаснее, чем этот пустобрех Сиплый, а? С тобой по доброй воле лучше не связываться.
— Вам виднее, дедуля, вам виднее. Для меня главное — душевное равновесие, так сказать, внутренний комфорт.
— А ты глупой, — повернулся дед Гришаня к Ефиму Брюхатову, — напрасно девку обижаешь. На Дону и здесь, в Забайкалье, испокон веков все станичные детишки случки наблюдали, и у собак и у лошадей. И хуже от этого не становились, потому что это закон природы. Да и подумай, как лучше узнать об этом греховодном деле, от которого дети рождаются? Можно собрать мальцов, и ты перед ними выступишь, расскажешь, для чего и как это делается. Но ты ведь так расскажешь, милок, что все испохабишь и салом вымажешь, после этого кто из мальцов не стойкий, как подрастет, к тебе в бордель ударится. А можно тебя в сторонку убрать, чтобы чуток чище было, а шпингалетов не гонять, если увидели что, так и пускай у природы учатся, язви тебя в почки.
— Верно вы, Гришаня, подметили. За границей такое зрелище считается непристойным, низкопробным, разве только среди лошадников или собачников, но там специалисты, — поддержал деда ротмистр Бреус. — Зато все сексуальные вопросы там уж представят и так и этак, уж до чего только не дошли. — Ротмистр засмеялся тихим сладко-раскатным смешком, припомнив, видно, до чего там дошли. — А в России признаков надвигающейся сексуальной революции что-то незаметно. И в этом, не могу не отметить, — цельность и чистота нашей прародины, верно, есаул?
Дигаев вяло отмахнулся и, не желая вмешиваться в разговоры, отошел к Чуху.
— Савелий, займись жеребцом, смотри, не запали его. Накорми, напои, почисть, утомился мужик.
— Да чего же я сам не знаю, ваше благородие? Все будет в порядке, не извольте беспокоиться. Мне Буян как свой, уж о нем я позабочусь, — и, прихватив коня за недоуздок, Савелий Чух повел его во двор.
А дед Гришаня, к которому присоединился сотник Земсков, потрусил за расшалившейся кобылкой, которая по сравнению с приуставшим племенным жеребцом вроде бы еще была полна сил, любви и озорства и не давалась в руки хозяину.
Собрались все вместе уже за поздним завтраком. Громко шваркали ложками, кто помягче — деревянными, пожелтевшими от времени, кто звонко — оловянными, груболитыми, темно-серыми.
— Ты чего это, девка, такая хмурая, — склонилась над плечом Настасьи бабка Прасковья, — али обидел кто? Или нездорова?
— У меня все хорошо, бабушка, это вам показалось, — тихо ответила женщина.
— Она, Прасковья, пирожка, наверное, хочет.
— Нет у нас сегодня пирожков, что-то я и не подумала. Каких хотела-то, девонька?
— Гороховичков. Не хмурься, девка. Хороши пирожки гороховички, да и я их не едал, а от дедушки слыхал, а дедушка видал, как мужичок на рынке едал. Охти-хти гороховики: солоны, велики, а с руки нейдут. — Дед Гришаня разошелся, приподнялся с лавки, показывая и тех, кто в его воображении ел, и какими огромными были пирожки.
— Ах ты, шут гороховый, Гришаня. Девку потешить решил, а я и вправду поверила. И на старости лет не уймешься, все бы тебе кого-нибудь разыграть.
— Да нам с тобой, старуха, униматься поздно, не те года.
— Какая я тебе старуха? Прасковьей меня кличут. Прасковьей, ишь придумал чего. А ты, Настюшка, бросай-ко свою гоп-компанию. Да зачем они нужны тебе, эти мужики? Все старые, лысые, потертые, вроде мой-то даже и покрепче. И Володька твой не находка, верно, лет на пятнадцать постарше тебя, не меньше. Помню, два десятка годов назад он ни кола ни двора не имел, так, думаю, и сейчас не имеет. Верно говорю, девонька?
— А почто ему капитальные хоромы, — расходился дед Гришаня, — три кола вбито, бороной накрыто, и то дом, хотелем прозывается, угадал я, Володька?
— Угадал, дедуля, угадал. Будут деньги, и хоромы найдутся.
— Оставайся, Настенька, у нас, — уговаривала Прасковья так, будто в избе, кроме них, никого больше не было, — чего тебе по тайге с этими охальниками шататься? Они ведь, по глазам вижу, и обидеть могут почем зря. А у нас ты мне заместо доченьки будешь. Мне в старости радость и подмога, и старик наконец, глядишь, остепенится.
— Да ты у меня сама, Прасковья, шальная с сопля-чьих лет. У нас в селе думали, что замуж выйдет — остепенится, а она и потом вприсядку за свекровью, за моей матерью, значит, ходила. На виду у всей деревни.
— Ну и что с того, что вприсядку по деревне ходила? А ты бы хотел меня в монашеском платке видеть? Вот, Настюшка, наша бабья доля, никак мы своим казакам угодить не можем. А они нас все завтревами кормят. Дескать, наряды будут завтра, своя изба — завтра, гроши — завтра, только расходы сегодня. И до старости доживешь, так он последнее возьмет и куда-нибудь отдаст, в какой-нибудь фонд. Полгода назад собрал все, что скопили на черный день, и куда, думаете, люди добрые, дел? В фонд обороны для победы над германцем сдал. — Старуха говорила вроде бы с осуждением, но всем было понятно, что она очень довольна Гришаней и даже гордится им.
— Места получше деньгам не нашел, что ли? — удивился Ефим Брюхатов.
— Что же это ты, станичник, так щедро Советы сбережениями одариваешь? — недовольно поинтересовался Дигаев. — Может быть, ты, Гришаня, уже и в их большевистскую партию вступил, признавайся!
— Не, если бы даже попросился, не взяли бы, — улыбнулся дед, накручивая клочок своей бороды на палец, — у них там все сознательные, грамотные, а я в гражданскую с вами якшался, а всей грамотешки — два класса церковноприходской школы, какой я, к бесу, большевик. Загашник свой мы с Прасковьей не Советам отдали, как ты говоришь, а на славную победу всего народа в борьбе с иноземным захватчиком.
— Ишь как излагать научился, как по писаному, прямо-таки мозгодуй — агитатор!
— А по-моему, он правильно поступил, — послышался голос сотника Земскова, — я, господа, думаю, что мы с вами после окончания кампании тоже бы должны выделить какую-то сумму для победы.
— Вы, сотник, хоть понимаете, о чем говорите? Они нас разбили, родины лишили, а мы им сумму?
— Да не им, не им, правильно ведь вам дед Гришаня сказал, а своему народу, который кровью истекает. И почему, есаул, вы сделали такое удивленное лицо, как будто впервые услышали о добровольных пожертвованиях для разгрома германцев? Вы ведь читали в Хайларе наши эмигрантские газеты, помните, что во многих странах истинно русские люди вносят денежные вклады в это святое дело! Чтобы для вас не было новостью, предупреждаю, что и я последую этому примеру после того, как получу свой пай. Отправлю, к примеру, почтой в адрес Государственного банка России.
— Ошибаетесь, господин сотник, никуда и ничего вы не направите. Наш поход согласован с руководителями Главного бюро русских эмигрантов в Маньчжоу-Го, которые ждут нас в Хайларе, деньги вручим им, а уж они выделят нам то, что сочтут нужным.
— Это что-то новое, ваше благородие, не на таких условиях мы собирались в поход.
— А ведь и верно, есаул, что-то вы сегодня хитрите, какие такие руководители? — лениво поинтересовался прапорщик Магалиф. — Коли деньги им, так пускай они и рискуют, роются под Якутском на глазах у энкэвэдэ.
Есаул Дигаев понял, что ляпнул лишнее, и попытался неловко, но категорически выкрутиться:
— Драгоценности найдем, а там решим, как с ними поступить, может быть, действительно большую часть разделим, но я никому не позволю ни копейки отдать Советам! Кто попробует сделать это, станет моим заклятым врагом! Даю слово чести!
— А я даю слово чести, что буду распоряжаться со своей долей так, как сочту нужным, — не уступал сотник Земсков. — И никому не позволю вмешиваться в свои дела.
— Господа, ну что это за отдых? — взмолился ротмистр Бреус. — Эти вечные споры, всеобщее недоверие и недоброжелательство, мне это начинает надоедать. Зачем нам заранее делить шкуру неубитого медведя? Давайте тихо и мирно делать свое дело. А если нам повезет, думаю, что каждый достаточно зрел и мудр для того, чтобы правильно распорядиться своим капиталом. Мне совершенно не по душе замыслы сотника, но в конечном итоге он сам волен поступать, как ему заблагорассудится. Если сотник не собирается предавать нас, то, по-моему, пускай он хоть сам идет воевать с немцами, меня это не касается.
— Земсков, господин Бреус, никогда и никого не предавал! — гордо ответил сотник.
— Вот и отлично, так о чем же спор, господа! Предлагаю выпить по мировой чашке чаю и готовиться к завтрашнему походу.
— А я пойду вздремну, — протяжно зевнул прапорщик Магалиф. — Гришаня, сколько на твоих серебряных? Как они у тебя, все тикают? Господа, я когда-то нашему другу Гришине подарил чудесный брегет. Вы можете не поверить, но каждый час он играет мелодию «Боже царя храни», а каждые полчаса мазурку Шопена. Гришаня, не жмоться, покажи брегет, если ты и его не подарил своим комиссарам.
— Подарить не подарил, но и сохранить, сынок, твой подарок не сумел. Лет пятнадцать назад в Якутске потерял, а может, и спер какой фармазон, там их хватает.
— Эх ты, Гришаня, такую штуковину не сберег. Я как сейчас помню надпись на задней крышке: «Прапорщику Магалифу от атамана Семенова за верную службу». Это, господа, атаман мне вручил после первых своих переговоров с японцами, на которых я был при его особе переводчиком.
— Да, Володька, светлая у тебя голова была, не хуже того брегета с музыкой.
— Почему же была, Гришаня? Она и есть, — похлопал Магалиф себя по худощавому остроскулому лицу. Жидкие истончившиеся русые волосы венчиком окаймляли огромную плешь, которую неловко маскировала длинная прядь, уложенная поперек головы.
— Я ведь, Володька, тебя и другим помню, красивым, бравым парнем, таким, каким ты в наш полк пришел. И куда все это подевалось! Гляжу теперь на тебя, в чем и душа держится, поди-ка, только на своем непомерном честолюбии и жив.
— Нет, Гришаня, уже и честолюбия не осталось, так, невесть что держит меня на этом свете. Раньше вот Настя удерживала, а теперь и она отвернулась.
Настя, ничего не ответив, демонстративно поднялась из-за стола и вышла.
— Значит, обидел ты ее здорово, сынок, если такая девка от тебя отвернулась. Оставался бы ты, Володька, действительно у нас, окрепнешь на вольном воздухе, подхарчишься, о своем гашишном марафете забудешь. С Настей помиришься, подлечу я тебя травками, как вашего Буяна, и дождемся мы с Прасковьей от вас внучонка. Оставайся, парень, в этом-то и есть твой последний шанс.
— Нет, Гришаня, там, где я сейчас живу, деньги правят бал. Деньжата, а еще лучше деньжищи. Заведу себе частную курильню, и, пока буду в кайфе, вы выясняйте свои отношения сами — и белые, и красные, и черные. А я уже выдохся. Нужно было мне с тобой в двадцатых годах оставаться, когда ты мне предлагал, а сейчас поздно.
— И точно, дед, вредное ты существо, все подбиваешь моих казаков от дела отойти. Смотри, кончится мое терпение, не погляжу, что у тебя прошлое бело, поучу разуму.
— Поздно, милок, меня чему-то учить.
— Ну, тогда давай-ка мы с тобой посидим над картой, помаракуем, ты мне путь-дорожку до Якутска подскажешь.
— Что ж не подсказать, это можно.
Дигаев расстелил на столе карту и склонился над ней, изучая рельеф местности.
Женщины, о чем-то тихо переговариваясь, мыли в большом тазу с горячей водой посуду, ротмистр Бреус, усевшись поудобнее у окна, листал потрепанный, державшийся на последних нитках томик Маяковского, найденный им здесь же, между лампадками у иконы; остальные разбрелись. Гришаня быстро сориентировался по карте, но говорил потом, почти не глядя в нее.
— До устья нашей речушки выйдешь, твое благородие, а там сразу в наледь уткнетесь. Не пугайся, как помнишь, это дело у нас в Сибири нередкое. Лед там толстенный выпучило, по нему и бронепоезд можно пустить, прошел бы без боязни. Тарынг минуете — это так наледь якуты кличут — и держитесь правой стороны безбоязненно. Километров через пяток с гаком встретится тебе, твое благородие, тёбюлех, протока, значит. Вот в нее ехать не моги, опасное дело. И островом напрямик путь сократить не удастся, там такой колодник, что и лошадей поизувечите, и сами не скоро выберетесь. Крупные деревья уже осели на землю, сучья потеряли и превратились в колоды, там только лешему и ходить. Пойдешь основным руслом по левой стороне. А как на деревьях, что нависают над рекой, увидишь коржаву, ну, большой иней, значит, кухту на деревьях, так сразу в сторонку бери, потому что там вас опарина подстерегает. Местечко такое на реке есть, оно не замерзло, так как внизу глубокая яма и оттуда ключи с напором бьют, но его чуток ледком затянуло, а после давешней вьюги, глядишь, и снежком сверху занесло, лучшей западни на нашей реке нет, берегитесь ее, твое благородие.
Дед Гришаня, неловко тыча задеревеневшим от тяжелой работы указательным пальцем в карту, еще долго показывал Дигаеву удобные для похода участки тайги, диктовал приметы, по которым можно было уточнять дорогу, и рассказывал о неожиданностях, которые подстерегали незнакомого с местными условиями путника в тайге.
— Карта у тебя, твое благородие, хорошая, вроде бы не врет, но все поправки мои заруби на носу, потому как карта — это теория, а без практики даже тебе, хоть ты в нашей тайге и пошастал немало, — трудновато придется.
Откуда-то из клети послышался разгневанный голос Прасковьи, и дед замолк, прислушиваясь.
— Кого-то из ваших костерит старуха, — довольно сказал он Дигаеву. — Что-то, видать, нашкодили.
Дверь в избу растворилась, появился Ефим Брюхатов, за которым шла Прасковья с большой стеклянной банкой в руках.
— Ну, что же это, мужики, такое? Думала, что раз вы с моим стариком служили, то не будете в доме по сусекам рыться. А тут не успела оглянуться, как этот мордастый банку с медвежьим салом уволок. Вот ворюга, прости меня господи. Да ты бы попросил меня, отдала бы тебе сало и, может быть, еще чего, так нет — сам полез шукать.
— Ну что ты, Сиплый, — недовольно спросил Дигаев, — уж и упереть с толком, без шума не смог? Да на что позарился, нашел что взять. Гришаня нас и так пообещал припасом на дорогу снабдить. Вот не дал бы добром, тогда бы ты и собирал трофеи. Все тебе неймется.
— Да ничего я брать не собирался, вот тебе бог, — перекрестился Сиплый. — Смотрю, банка какая-то стоит, дай, думаю, погляжу, что в ней такое. А старуха расшумелась.
— Ай-яй-яй, — соболезнующе покачал головой дед Гришаня, — злые люди доброго человека в чужой клети поймали, это что же делается на белом свете?! — И, повернувшись к Ефиму, уже суровым тоном спросил: — Кто тебя, урода, зародил на свет! Ты знаешь, что в тайге с ворами делают? Не слыхал? Я тебя, падлу, сейчас заставлю все это сало сожрать, тогда долго помнить будешь.
— Может быть, он и правда просто посмотреть хотел? — вступился ротмистр Бреус.
— Вернетесь вы к себе домой, ваше благородие, а у вас по горнице такой смотрельщик узлы собирает, что скажете, как его назовете? То-то же. Все, милок, иди, но на этот раз я обязательно тебя накажу, ты уж не держи на меня за это зла.
В тот день Ефим Брюхатов, опасливо поглядывая на деда Гришаню, ни в обед, ни в ужин не притронулся ни к чему съестному, только чайку попил, да похрустел сухариком, достав его из своего сидора. А на ночь завалился спать не с краю, как всегда, а на кошме между есаулом Дигаевым и ротмистром Бреусом.
— Что, Сиплый, — посочувствовал ротмистр Бреус, — опасаешься старого колдуна? Ну и правильно, такой чего угодно может подсыпать в еду, и надо же было тебе его сердить.
Дед в это время на крыльце давал последние напутствия Савелию Чуху:
— Ты, как только до Якутска доберешься, так и иди сразу в областной Совет, а еще лучше так сразу в НКВД, просись на прием к товарищу Квасову: дельце, стал быть, есть; он в свое время мною занимался, толковый мужик, с пониманием. Привет ему от меня передашь, дескать, дед Гришаня велел передать, что скоро весточку подаст. Только ты с ним, милок, не темни, рассказывай все, как попу на исповеди; хотя я, прости господи мои прегрешения, — перекрестился старик, — дважды был на исповеди, а правды батюшке так и не сказывал. А для чего сказывать? Господь и так обо мне и старухе все знает, а попу скажи, тот попадье ляпнет, от нее все село узнает. Понял все?
— Понял, Гришаня…
В это время дверь скрипнула, на крыльцо, почесываясь, в просторной рубашке и в заправленных в белые носки шароварах вышел есаул, и Савелий Чух без какого-либо перехода затарахтел:
— Вот и сказывает он мне, ночь-то темна, лошадь-то черна: еду, еду, да пощупаю: тут ли она…
— Что полуночничаете? — перебил его рассказ Дигаев. — Секреты у тебя, Савелий, какие-то появились, с чего бы это? Уж не у деда ли надумал остаться?
— Какие секреты, ваше благородие, мы тут знакомых общих вспомнили, уж насколько страна огромная, но пересекаются иногда стежки.
— Ну-ну, недолго здесь треплись, засветло в дорогу выступаем. — И он, помочившись прямо с крыльца, чем вызвал явное неудовольствие Гришами, вернулся в избу.
— Это о чем ты только что рассказывал, милок, всурьез или шутейно? — поинтересовался дед. — Я что-то не понял.
— Да я это для маскировки, чтобы есаул чего не подумал, у него нюх острый, не дай бог что пронюхает, добра тогда от него не жди.
— Чую я, сынок, что тебе от него и так добра не будет. Он только на крыльцо вышел, а меня уже чем-то холодным обдало, злой он мужик, ненавистный, опасайся его.
— Ладно, дедуля, уже немного осталось, потерплю до Якутска.
— Ты вот что, сынок, до Лосиного зимовья с ним дойдешь, послушаешь, не изменил ли он планы, да цидульку мне маленькую напиши, как дальше двигаться будете, есть ли какие перемены. Положишь ее на оконный наличник в горнице, он там высокий, не видать чужому будет.
— Исполню все, дед, как велишь…
Глава III КОВАРСТВО
Лихо не лежит тихо:
либо катится, либо валится,
либо по плечам рассыпается.
Утром распрощались с дедом Гришаней и с его Прасковьей. Отъехав километра три, есаул вдруг припомнил, что оставил в лесной избушке узелок с махоркой.
— Нельзя возвращаться, есаул, — недовольно покачал головой ротмистр Бреус, — примета такая есть — к несчастью, так чего же судьбу испытывать, скажите на милость? Потерпите без курева до Якутска.
— Это вам, ротмистр, терпеть легко, вы ведь некурящий. Ведите отряд дальше, а нам с Ефимом лишний пяток километров не в тягость, вернемся, благо здесь пока рукой подать, мы скоро догоним вас.
Развернув коней, они рысью отправились обратно по утоптанной тропе и вскоре исчезли за щетиной голых зимних вершин деревьев.
— Угораздило вас, вашбродь, табак забыть, теперь скачи лишние километры.
— А я, Сиплый, ничего не забывал, все при мне.
— Чего же мы возвраща-а-а… — начал догадываться Брюхатов.
— Я думал, Сиплый, что ты сообразительный. Я так сразу заметил, что Гришаня тебе не понравился, а коли так, дай, думаю, помогу своему соратнику счетец деду предъявить. Мы как приедем, ты у дверей стань и держи старых хрычей под стволом. Но стреляй только в самом крайнем случае; если наши пронюхают — быть в отряде беде, а нам свару затевать никак нельзя. Пока ты с ними тихие беседы будешь вести, я под курень соломки подсыплю, бутыль с керосином разолью, нехай старые грешники погреются.
— Умная у вас, вашбродь, голова. Я и то подумал, оставляем их живыми, а вдруг они кому о нас расскажут, мы ведь при них не стеснялись, все свои дела наизнанку вывернули.
— Вот потому мы с тобой, Сиплый, и возвращаемся. Только предупреждаю, не вздумай что-нибудь из барахла хватать. Нам оно в походе ни к чему. Лишняя тяжесть да улики, будь они неладны.
Старики были уже в избе, а собаки встретили путников, весело повиливая хвостами, как старых знакомых, недаром же Дигаев два дня не жалел на псов ни сухарей, ни сахару.
Ефим Брюхатов, решительно перекрестившись и передернув затвор, вошел в избу, а Дигаев, забежав в сарай, поднялся на сеновал и столкнул оттуда сухого, по-летнему пахучего сена. Он бодро бегал вокруг избы, рассыпая его, потом схватил в углу кучу бересты и мелко наколотых полешек для растопки, с которыми провозился вчера часа два, и всему нашел место. Достал из клети десятилитровую бутыль с керосинчиком, припасенным стариками для бытовых нужд, и, щедро поливая, не жалея эту редкую и дорогую в тайге жидкость, пробежался вокруг дома. Осмотрел окна: крепко сколоченные рамы с толстенными створками, узенькими проемами для стекол, в которые и собаке нелегко было бы выбраться, а не то что человеку. Потом он на цыпочках вошел в сенцы и, остановившись у внутренней двери, прислонил к ней ухо, прислушиваясь: в избе тихо разговаривали.
— Хреново ты помрешь, Сиплый, язви тебя в почки, — слышался скрипучий голос Гришани, — в корчах, боль будет такая, что и нормальному человеку не вытерпеть, а тебе и подавно. Криком будешь кричать, а никто не подойдет, не успокоит, куска хлеба не даст. Потому что болезнь твоя будет страшнее той, от которой тебя китайцы вылечили. От той ты только осип да едва нос не потерял, а в этой твой конец, запомни. По телу язвы пойдут страшные…
— Замолчи, старый хрыч, а то и тебя, и твою старуху сейчас пристрелю, сам помрешь без покаяния.
— А чего же мне молчать, если я сейчас на тебя колдовство напускаю? Вот не успеешь ты от моего куреня и на версту отъехать, как тебя дрисня прихватит в тридцать три струи, не считая брызг. И посля из тебя будет течь неделю да еще два дня. И тогда вспомни: это я тебе первое предупреждение послал, поганка вонючая. А как язвы по телу пойдут, знай — снова моя работа, милок. Ну а теперь гэть отсюда, не чуешь, что ли, тебя за дверью атаман поджидает.
Услышав такое, Дигаев вздрогнул, как в детстве, когда взрослые ловили его за непотребным делом. «И точно ведь колдун», — подумал. Не входя в комнату, трижды постучал в косяк и, когда Сиплый выскочил, отдуваясь и смахивая рукавом пот, закрыл дверь на деревянный запор, которым хозяева никогда не пользовались, потом подпер эту и наружную дверь здоровенными кольями и тихонечко, как будто все еще боялся, что дед услышит его и здесь, велел Сиплому:
— А теперь бегом вокруг хаты, поджигай солому и бересту, да следи, чтобы не погасло. Ну, господи благослови. — И сам, ударяя большим пальцем по кремню массивной зажигалки, пошел с другой стороны. Он терпеливо ждал, когда запылает береста, заботливо подкладывая ее под кучки мелких смолистых ошметков полена, засовывая в пазы с паклей. Сыпал горящую солому на дощатую завалинку, политую керосином.
Убедившись, что в избе по-прежнему тихо, а огонь разгорается сам по себе и уже не погаснет, Дигаев подозвал Ефима Брюхатого:
— На конь, станичник! Давай теперь бог ноги. Не вздумай нашим орлам проболтаться, зачем мы здесь задерживались, пускай на этот раз чистенькими останутся. — И громко свистнул, от чего Буян вздрогнул и перешел на рысь.
Проскакали полдороги до того места, на котором оставили попутчиков, и вдруг Ефим Брюхатов негромко вскрикнул. Есаул Дигаев придержал жеребца и, оглянувшись, увидел, как бледный, с крупными каплями пота на лбу Сиплый, зажав обеими руками живот, вдруг перевалился в седле на бок и, оказавшись на снегу, торопливо стал расстегивать полушубок, добираясь до ремня брюк.
— Дедова, дедова работа, — дрожащими от страха губами произнес он минут через пять, — ведун проклятый. Ну, вашбродь, удружил ты мне по-товарищески.
— Не трепли лишнего, я тут при чем? — зло огрызнулся Дигаев. — Это ты с ним все чего-то поделить не мог.
— Ага, — жаловался Ефим Брюхатов, — у самого кишка тонка оказалась, чтобы постоять возле деда с винтарем, так меня послал?
— Я у него по клетям за медвежьим салом не ползал, сам напросился, и зачем оно тебе нужно было, ненасытная утроба?
— Что ты сказал, вашбродь?
— Туг на ухо стал с поносу?
Но Ефим Брюхатов уже ничего не слышал, он снова сидел возле своей лошади.
— Да ты что делаешь, Сиплый? — расхохотался Дигаев. — Так ведь скоро ни к тебе, ни к твоему жеребцу будет не подойти из-за вонищи.
Ничего не ответив, Ефим Брюхатов забрался в седло и медленно поехал следом за есаулом, уже не обращая внимания на его слова и прислушиваясь только к тому, что происходило у него внутри.
Пока догнали отряд, Ефим Брюхатов еще раза три присаживался под придорожные кусты, привычный розоватый оттенок на его щеки в тот день больше не вернулся, а сам он был как в забытьи и только все шептал что-то, еле шевеля губами, — похоже, что молитву припоминал.
— Ну как, нашли табачок? — спросил Дигаева ротмистр Бреус.
— А как же, — похлопал тот по вещевому мешку, — все на месте.
— Старик, ваше благородие, ничего не велел передать, — подъехал ближе Савелий Чух, — как он там?
— Ты так спрашиваешь, Савелий, как будто года два Гришаню не видел, что с ним за час-другой сделается? Здоров, как твой жеребец.
— А что это от вас, есаул, керосином вроде пахнет? — повел носом сотник Земсков.
— У Ефима Брюхатова живот схватило, вот ему дед и поднес шкалик керосинчику с настоем сибирских трав.
— Ты гляди, а я и не знал, что это горючее брюхо лечит, — удивился Савелий Чух.
— Лечит это зелье, казак, все лечит, — облегченно вздохнул Дигаев, поняв, что вопросов больше не будет и само объяснение, считай, позади.
Тропу прокладывали прямо по льду, кое-где перекрытому сугробами или припорошенному снегом, а порою и гладкому, до синевы выметенному ветром, но и такие места были не очень страшны, так как лошади были подкованы по-зимнему. Русло реки петляло большими меандрами, как кишкой. Но идти напрямик, выпрямляя путь, Дигаев не велел:
— Успеем спрямить, станичники, этот участок дед Гришаня велел идти рекой, так сподручнее.
Заметив впереди бёлёгёс — остров на реке, который огибала протока, — Дигаев сверился с картой и велел отряду идти с одной стороны, вдоль колодника.
— А вы, сотник, пройдитесь рысью по этой протоке, где-то там тропа может быть, о которой дед говорил, да вот отметить мы с ним то место позабыли. То ли здесь, — размышлял вслух Дигаев, — то ли у следующего острова. Не ровен час проедем. Поезжайте, сотник, не теряйте времени, мы не торопясь тронемся. Да держитесь ближе к правому берегу, чтобы дорожку не прозевать. Дед сказал, что там кедр стоит, а на нем большая затесь. Скорее!
— А ты, Чух, чего застыл? — набросился он на казака, прислушивавшегося к разговору. — Лучше бы приятелю помог, глянь, опять его схватило, немощь одолевает. Скажи на милость, Сиплый, опять приспичило? Ну чем же ты обожраться умудрился?
Ефим Брюхатов отмахнулся от него, как от назойливой мухи, и с помощью Савелия полез с коня.
— Вы знаете, ротмистр, Сиплый утверждает, что это дед Гришаня на него порчу напустил, — доверительно пояснил есаул Бреусу. — А мне кажется, что никакой порчи нет, никакого колдовства быть не может, просто у Сиплого оказались какие-то уж слишком слабые нервишки. Мнительным он стал до ужаса, дед пригрозил, а этот и нюни распустил.
— Кто знает, может быть, мнительность тому виной, есаул, а может быть, и действительно Гришане известно что-то такое, чего нам не понять. Я вот в заговоры никогда не верил, пока сам не испытал однажды. Было это, помню, в июле двадцать первого года под Владивостоком, есть там такое место — Седанка. Я, как вы понимаете, у атамана Семенова служил. Вышли мы с отрядом на Седанку, а там вдруг нас перехватывают каппелевцы. Дескать, территория наша, нечего здесь шмыгать. Это нам, семеновцам, есаул, они такие слова говорят. Изготовились к бою. Тут япошки неведомо откуда появились с уговорами, нельзя, дескать, господа, с помощью оружия отношения выяснять, вы ведь все под одним белым флагом воюете. Но нам уже не до них. Скажу вам, что бой тот мы, к сожалению, проиграли. Почему? От японцев помощи не дождались, они только ракеты осветительные в воздух бросали да залпами вверх стреляли для устрашения тех и других; а каппелевцев собралось столько, сколько ни в одном бою с красными не было, потому мы бой и продули. Впрочем, история эта длинная, поучительная, я как-нибудь ее вам подробнее расскажу, а сейчас только один факт. Задели меня тогда по предплечью шашкой. Кровищи вытекло столько, что мне аж дурно стало. Кистью руки пошевелить не могу, ну, думаю, не хватало еще гангрену подхватить, тогда вообще пропаду. Приятель меня на коня и в сопки, к озеру, было там небольшое такое озерко. Приводит в избу к старушонке. Не ахти какая на вид, но ведь с ней не детей крестить. Помоги, говорю, бабушка, озолочу. Мне, отвечает, твоей позолоты не нужно. Раздевайся догола. Разделся, здоровой рукой срам прикрываю. Она меня травками, настоями, потом пошептала что-то нечленораздельное, позыркала на меня глазами так, что у меня волосы встали дыбом. А там и заснул я. Утром проснулся — рука тряпкой перевязана, боли не чувствую, только зуд противный, знаете, такой бывает, когда рана уже зарастает. А через три дня и повязка уже не понадобилась, вот только рубец остался, на постое покажу. Так что вполне может и дед Гришаня эту науку знать, взгляд его помните? Тяжелый такой, пронизывающий…
В это время сотник Земсков торопился вдоль берега по льду протоки, спеша обогнуть ее и повстречать у островного мыса отряд.
Старательно вглядываясь в заросли по берегу, он уже не обращал внимания на прочный заматерелый лед, которым, казалось, протока промерзла до дна. Сыпалась сибирская копоть — мелкий снежок, затрудняющий видимость. Ветви невысокой ели, нависшей над берегом, были покрыты голубоватым, собранным в большие стебли, узорчатым инеем — куржевиной. Сотник Земсков загляделся на эту завораживающую красоту, и вдруг где-то под сердцем у него замерло: ветви ели, опутанной куржаком, полетели куда-то в сторону и ввысь, и он вместе с лошадью ухнул в едва только прикрытую льдом промоину; ледяная вода охватила его с головы до ног, ошпарила, и он шумно заколотил руками по воде, съезжая с коня и стараясь не запутаться в стременах. Тяжелые, мигом намокшие ватные штаны и шашка с револьвером тянули его вниз. Он цеплялся за край льда, но тот обламывался под его руками тонкой острой полоской, до крови раня кисти рук. Рядом, затягивая его под воду и отталкивая ото льда, билась в промоине лошадь; притороченная к седлу винтовка задевала его, цепляла за полушубок, который он силился расстегнуть. Сотник Земсков набрал в легкие побольше воздуха и, уйдя глубоко под воду, сбросил с себя шашку, с трудом выкарабкался из полушубка, который, намокнув, обтянул его тело, словно приклеился. Когда легкие уже разрывались от давления, от недостатка кислорода, он стал всплывать и получил резкий удар по голове шипом лошадиной подковы; вода сразу же окрасилась в красный цвет.
На минуту он потерял сознание, а когда пришел в себя, то вдалеке надо льдом увидел застывшее лицо Савелия Чуха, а потом услышал его голос:
— Погоди трошки, я зараз…
…Минут через пять после того, как сотник Земсков уехал по протоке, Дигаев позвал к себе Савелия Чуха:
— Слушай, Савелий, что-то мне не по себе, — громко сказал он, — нельзя человека одного в тайге отпускать. Поезжай вдогонку за сотником на всякий случай, только не торопись, к следам приглядывайся, на берегу засеку на дереве ищи.
А когда Савелий Чух отъехал за излучину, Дигаев тронул коня и оказался рядом с ротмистром Бреусом:
— Ротмистр, оставайтесь снова за главного, маршрут тот же, а я станичников подстрахую, сообща нам сподручнее будет сориентироваться на месте.
— Бог мой, если бы сам, своими ушами не слышал, то не поверил бы, общение с Гришаней на вас действует положительно, есаул, такая забота о ближних способна меня умилить. В добрый путь, есаул.
— Да за этим походным сортиром не забывайте наблюдать, ротмистр, — кивнул Дигаев в сторону Ефима Брюхатова.
…Савелию Чуху было не до созерцания красоты он издалека заметил попавшего в беду товарища. Он тут же спешился и, ведя коня на поводу, тихим шагом прошел немного вперед, осторожно нащупывая крепость льда одной ногой. Раздевшись до гимнастерки, бросил вещи на льду и, наскоро стреножив коня, прополз немного по льду, вместо шеста используя короткую кавалерийскую винтовку, но она была ненадежной и неудобной подмогой. В очередной раз ударил по поверхности льда прикладом винтовки, удерживаемой за ствол, и почувствовал, как приклад проваливается куда-то вниз… «Приехали, — прошептал он, — а что же дальше?» Рядом с барахтающимся в воде жеребцом из-под крошева льда появился сотник Земсков, он был уже без полушубка, по его лицу откуда-то из-под волос, смешиваясь с ручейками воды, стекала разбавленно-алая кровь. Савелию показалось, что Земсков жадным, умоляющим взглядом смотрит на него, торопит.
— Плыви сюда! — махнул он рукой сотнику, боясь стронуться с места. Потом Савелий приподнял винтовку и методичными ударами приклада стал разбивать перед собой тонкий, блестящий на изломах лед, освобождая поверхность воды для сотника Земскова. А тот, судорожно загребая руками, старался вырваться из круговорота, который образовался рядом с тонущей лошадью; он терял силы, а еще больше уверенность.
Позади Савелия Чуха послышались какие-то удары, и, оглянувшись, он увидел, как, постукивая перед собой лед прикладом винтовки, к нему приближается Дигаев, в левой руке которого зажат небольшой ствол кривой березки.
— Держи шест, Савелий, — прокричал Дигаев, протягивая Чуху березку.
А когда Чух ухватил ее и отбросил свою винтовку, Дигаев приободрил его:
— Смелее, станичник, смелее, а я здесь тебя придержу, подстрахую, — и он бросил ему конец веревки.
Но смелости в этот момент у Савелия не было. Непонятно почему при виде атамана его охватил страх, мерзкий, липкий, переходящий едва ли не в ужас. Однако он овладел собой, намотал конец веревки на ладонь, но все не мог стронуться с места, укладываясь на льду поудобнее и не в состоянии найти того положения, которое удовлетворило бы его натянутые до предела нервы. А сотник Земсков снова ушел под волны, но на этот раз, похоже, не по своей воле. Секунд через пять он всплыл, жадно хватая ртом воздух, и, изловчившись, ухватился за конец шеста, протянутого Савелием. Рука скользнула по мокрой поверхности и сорвалась.
— Твою бога душу крести… — несся надо льдом зычный, командирский голос Дигаева.
И Савелий Чух продвинулся вперед еще на полметра. Этого расстояния вполне хватило Земскову для того, чтобы ухватиться за березку мертвой хваткой.
Но тут и случилось самое страшное для самого Савелия. Он почувствовал, что не в состоянии пятиться назад с таким грузом, как Земсков, — лед под ним был слишком тонок, упрись в него — и провалишься.
— Тащите, вашбродие, — негромко закричал он Дигаеву, — тащите за веревку.
В то же мгновение он почувствовал резкий сильный толчок в подошву сапога, и от этого толчка и веса сотника Земскова он заскользил в воду. Савелий Чух отчетливо, спокойно — так как ужас, разрывающий, гнетущий его пару минут назад, исчез, растаял — скользил прямо в воду, с обреченностью понимая, что впереди его ждет неминуемая смерть. Однако в тот момент, когда он уже оказался в воде, рука почувствовала резкую боль от натянутой веревки, и у него мелькнула надежда на спасение. Отпустив ненужный уже шест, к нему по-собачьи добарахтался сотник Земсков и вцепился пальцами в гимнастерку. Перебирая руками, он ухватился наконец за ворот гимнастерки, и никакими силами Савелию не удавалось оторвать его. Немигающие глаза сотника Земскова были наполовину закрыты, лицо в страшных разводах крови. Савелию показалось, что сотник или в бессознательном положении, или не в своем уме. Но вот его тело напряглось, дернулось, и он, опираясь на Савелия Чуха, снова постарался выбраться из воды, топя того.
— Ташши, вашбродь, — все еще надеясь, что есаул Дигаев не слышал, уже в полный голос заорал Савелий, но тут же, наглотавшись воды, ушел под воду и почувствовал, как вместе с ним свободно опускается и веревка. Он перехватывал ее, ожидая опоры, но опоры не было. Зато под водой его отпустил сотник Земсков, который, топча его твердыми, из толстой кожи моржа, подошвами унт, опять попытался выбраться на лед. Задыхаясь, Савелий оттолкнулся от него и, всплыв, оказался рядом с опасно бьющейся лошадью.
Потом сотник Земсков последний раз ушел под лед и уже не вынырнул, река навсегда заглотила его.
Савелий, отбросив ненужную веревку, оба конца которой почему-то оказались в воде, подгреб к краю льда, недалеко от которого стоял Дигаев.
— Помоги, вашбродь, — молил Савелий, цепляясь уже за более толстый лед, так как тонкий был сбит им и Земсковым, обколот спиной лошади.
Дигаев поднял валявшуюся в снегу винтовку Савелия Чуха и протянул в его сторону. Савелий, держась за лед только одной рукой, оторвал вторую, целя ухватиться ею за приклад. Но приклад вдруг обрушился на руку Савелия, удерживавшую его у кромки.
— Бог тебе поможет, Савелий, — спокойно сказал есаул Дигаев и поднял винтовку за ствол для нового удара. — Бог тебе поможет, — повторил он, — и господа большевики, к которым ты собрался бежать с сотником. Счастливого пути, станичник. Кого из знакомых увидишь, привет передай, — обрушив удар на вторую руку, бессильно загребающую лед, продолжал Дигаев, — мол, есаул Дигаев кланяется.
В это время лошадь, в последний раз всхрапнув, ушла под воду и, видимо, зацепила Савелия поводьями. Он тоже оказался в глубине. Дневной свет тотчас стал меркнуть, а затем и вовсе исчез. Савелия потянуло под лед.
…Как только за Ефимом Брюхатовым захлопнулась дверь, Прасковья бросилась к окну, стремясь разглядеть что-нибудь сквозь стекло, разукрашенное ледяным узором. Дед Гришаня снял со стены охотничье ружье и, пошарив в небольшом, окованном железом сундучке, что стоял под лавкой, достал несколько патронов.
— Ты бы, Прасковья, не стояла у окна. А то ить этот придурочный и вправду стрельнет.
— Гришаня, они вроде бы поджигают нас, огонь сквозь стекло поблескивает, — разволновалась женщина, — ой, что же это они задумали, ироды, что затеяли? Да что ж ты стоишь столбом, дурень старый? Делай что-нибудь, пока мы живьем не сгорели! Связалась же я с тобой на свою голову, с твоими бандитскими дружками, а теперь и расхлебываю. — И старуха закрутилась по избе, собирая в узел постель и выбрасывая старое барахло из ларя, как будто это и было самое ценное в доме.
— Охолонь трошки, Прасковья, посиди, не мельтеши перед глазами, подумать надо.
— Пока ты думать будешь, пенек старый, я уже сгорю или от дыма задохнусь.
— Возьми ружье, старуха, держи под прицелом дверь, как только чуть приоткроется, так и шарахай, меться чуток повыше ручки, и нишкни, не время ругаться.
Гришаня отгреб охапку поленьев, сложенных на листе кровельной стали, прибитой возле топочной дверки печи, достал старенький топор, валявшийся внизу, потом отошел на несколько шагов от печи и, подтащив туда стол, взгромоздился на него прямо в валенках. На потолке среди старых, хорошо подогнанных, потемневших от времени досок выделялось, если внимательно присмотреться, более светлое пятно — заплатка на месте дымовой трубы от старой, когда-то стоявшей здесь русской печи-теплушки. Гришаня поддел доску, и она с визгливым громким скрежетом отошла.
— Да тише ты, дед, услышат, — заволновалась бабка.
— Для того ты и стоишь внизу с ружьем, — спокойно парировал дед, — но думаю, что не услышат. — И он отодрал остальные доски заплатки. Потребовав от бабки табуретку, он взгромоздил ее на стол и, кряхтя, полез сквозь отверстие в потолке, но оно оказалось узко. Гришане пришлось сбросить меховую душегрейку, но все равно он с трудом протискивался на чердак, ругаясь и дрыгая по воздуху ногами.
Когда, съехав на заду по крыше, Гришаня свалился на землю, бандитов поблизости уже не было. Жалобно скуля, метались в заднем конце двора собаки, боясь подходить к избе, вдоль завалинки которой разгорелось кольцо огня. Выпустив из избы Прасковью, дед Гришаня забросил ружье за спину и принялся граблями оттаскивать от дома горящую бересту и солому, а рядом кряхтела Прасковья, снуя от сенцев до завалинки и заливая следом за ним разгоравшиеся деревянные венцы избы. Вскоре о начавшемся было пожаре напоминали только слегка дымившиеся стены и неровная полоса пепла вокруг.
— Никак не пойму, чего это они толком избу поджечь не смогли, — рыская глазами по сторонам, бурчал дед Гришаня. Он зашел в сарай и тут же позвал старуху. — Гляди, Прасковья, в чем их ошибка. Им бы сразу сеновал раскочегарить, тогда бы нам с тобой с огнем не справиться, а они лишь вокруг дома суетились. — В середине пустого сарая лежал холмик золы от сгоревшего пучка соломы, наспех брошенного сюда бандитами. — Ой-ей-ей, — вздохнул хозяин как будто с сожалением, — видно, у энтих мужиков руки не оттуда растут.
Убедившись, что нигде не осталось ни искорки, дед Гришаня попросил старуху:
— Собери мне припаса на дорогу, через полчаса выезжаю.
— Сидел бы ты дома, Гришаня, — неуверенно возразила старуха, — вдруг нагрянут снова.
— Вот я и пригляжу одним глазком, чтобы не шкодили, язви их в почки. За ними сейчас, как за псами бешеными, глаз нужен, не то столько бед натворят, что долго не выправить. Если от меня долго весточки не будет, доберись до соседней зимовьюшки, попроси Кондрата не в службу, а в дружбу до района податься, пускай передаст в НКВД Савину, что те, кого он ждал, уже появились, шастают по тайге, мать их за ногу.
Взгромоздившись на свою кобылку, Гришаня неторопливо затрусил по дорожке, набитой копытами отряда. Добравшись до острова, он с недоумением поглядел на следы, раздваивавшиеся в этом месте. «Совсем память у Дигаева отшибло: я же не велел ему по тёбюлеху идти, — бурчал Гришаня, — не случилось бы беды». И он, сойдя с лошади, повел ее на поводу к протоке.
…А у Дигаева дела шли лучше не придумаешь. Когда он после трагических событий, разыгравшихся на тёбюлехе, вернулся своей дорогой и догнал отряд, там было все спокойно. Как всегда, отрешенно глядя вперед, ехал прапорщик Магалиф, и не понять со стороны было, задумался он о чем-то или бесцельно уставился в одну точку, щадя себя от анализа прошедших событий. Мечтательно разглядывал окрестности ротмистр Бреус, иногда срывая лапку ели, чтобы полюбоваться остро отточенными иголками и попытаться уловить едва ощутимый аромат хвои. Насупившись, ехала Настя, которая в последние дни, даже разговаривая с кем-то, не глядела собеседнику в глаза. Тяжело дышал непривычно тихий Ефим Брюхатов.
— Станичники! — ударил шенкелями на последних метрах Дигаев. — Беда, станичники! Сотник Земсков с Савелием Чухом в опарину попали! Оба утопли. Земсков так и жеребца своего утопил, видать, первым провалился. — Взгляд его был текучим и неуловимым.
— Да ты что говоришь, есаул? — по инерции продолжая улыбаться и прекрасно чувствуя неуместность своей улыбки, воскликнул ротмистр Бреус. — Как это утонули?
— Так и утонули, насмерть, как еще утонуть можно?
Ефим Брюхатов скривился, то ли ухмыльнулся, то ли хотел сказать что-то, но промолчал.
Магалиф, как будто очнувшись от сна, тяжело вздохнул:
— Вот она, наша жизнь, страшная и пустая. Сегодня ты жив, а завтра гибнешь под пулей или тонешь. Есаул, у тебя ведь наверняка есть анаша — божья травка, дай покурить на одну закрутку. Не испытывай ты мое терпение, оно и так уже на исходе.
— Постыдился, бы, дружки наши погибли не за понюх табака, а ты опять за свое, — укорил Дигаев прапорщика Магалифа. — Потерпи до Якутска, там, если совсем невмочь будет, попробую достать немножко.
— Как же это погибли! — с вызовом глядя на Дигаева, спросила Настасья. — Только что живы были, рядышком ехали, хоть рукой дотронься, хоть спроси о чем, и вдруг в живых нет? Обоих сразу? Так не бывает!
— Ну и дура ты, девка, — бросил на нее наглый взгляд Дигаев, — именно так и бывает. Что делать будем? — оглядел он остальных.
— Ехать! Ехать вперед и попробовать еще какое-то время покоптить свет, пока и нас такая же полынья не проглотит, — равнодушно мотнул головой прапорщик Магалиф.
— Успокой, господи, их душу, — набожно перекрестился Ефим.
— Хорошие люди были, душевные, — огорченно покачал головой Бреус. — И кто теперь с лошадьми возиться будет? Такого конюха, как Савелий Чух, нам никогда не найти. До чего же хозяйственный мужик был! Вот так бог и прибирает к себе хороших людей. И что, говорите, есаул, попали они под воду, как вы в свое время?
— Чего я? Я в пустоледицу провалился, там и воды было немного, а здесь внизу, наверное, бездна.
— Помнится, есаул, вам тогда сотник Земсков жизнь спас?
— Что ее было спасать? Лошадь, стоя на дне и вытянув голову, свободно дышала, там бы кто хочешь выбрался с помощью или без нее, а здесь куржачина такая, что, когда я подоспел, уже ни сотника, ни жеребца его в воде не было.
— Так вы могли спасти Савелия?! — вскричала Настасья.
— Как бы я его спас? Скажи, как? До чистой воды не добраться, ледок тонюсенький, не держит. Пока разделся, шест выломал, глядь, а его тоже нет, видно, от судорог скрючило, и амба.
По тропинке, которой они шли, раздалось какое-то звяканье, и путники увидели лошадь Савелия Чуха. Стреноженная, она торопилась вслед за отрядом, но, лишенная возможности двигаться свободно, неловко переступала, подпрыгивая обеими передними ногами, и, пожалуй, никогда бы не догнала людей, если бы они не остановились, обсуждая страшную новость.
Увидев лошадь с притороченным к седлу вещевым мешком Савелия Чуха, Настасья истерично зарыдала, не пряча скривившегося, такого некрасивого в горе лица.
— Так что делать будем? — в подленьком неторопливом выжидание глядя на нее, снова спросил Дигаев. — Ума не приложу!
— На тёбюлех скакать, к промоине, — колотя по луке седла, кричала Настасья, — наверное, их еще спасти можно, а мы здесь языки чешем!
— Кого спасать! — устало, сочувственно качая головой, поглядел на нее Дигаев. — Я же сам видел, погибли все.
— Так, очевидно, похоронить по-людски надо, — оживился ротмистр Бреус, — вот и отдадим последний долг товарищам.
— Вода, вода унесла их под лед, — уже спокойно, как маленьким непонятливым ребятишкам, объяснял Дигаев. — Ну хватит, станичники, обсудили, помянули, пора и в путь. Помочь мы им уже ничем не сможем, а время потеряем, опять у нодьи ночевать придется…
Глава IV МИРАЖ
«Клуб НКВД.
Оперетта „Баядера“. После спектакля танцы. Весь сбор поступает на постройку эскадрильи санитарных самолетов. Начало в восемь часов тридцать минут».
«Аллах-Юнь (по телеграфу). Новыми производственными успехами отмечают победы Красной Армии горняки Верхне-Майского прииска.
Во второй половине месяца на прииске значительно расширился фронт работ за счет привлечения на производство женщин и подростков. Организовали социалистическое соревнование, что помогло поднять производительность труда на пятнадцать процентов.
Горняки уже выполнили шестимесячную программу золотодобычи и работают в счет следующего полугодия».
Из сообщений газеты «Социалистическая Якутия».Весной перед ледоходом Якутск едва ли не на месяц теряет устойчивую связь с обширными территориями республики по другую сторону реки. Не та река Лена, с которой можно было бы шутки шутить. Набухнет, потемнеет, вся нахмурится — и жди неприятностей. Порой и мужик вместе с санями и лошадью ухнет в неведомо когда появившуюся полынью, и поминай как звали. От зимника одно название остается, наезженные санные колеи в ручьи превратились, а там, где конские копыта следы оставляли, — озерца, по которым ветерок рябь гонит. В такое время с правой стороны в Якутск только самая большая нужда погонит.
Дигаева узнать было трудно. В затрапезном овчинном тулупчике, в суконной, стеганной на вате зимней шапке-ушанке, один конец которой был лихо задран кверху, в серых высоких валенках, обшитых на задниках кожей, он совсем не похож был на самоуверенного есаула, руководителя банды бывших белогвардейцев. Отросшая седоватая бороденка настолько меняла его облик, что ни один из его хайларских дружков не признал бы Дигаева. Был он похож на старателя, и на сезонного горного рабочего, и на колхозника из дальнего района.
Уже битых три часа он бродил по улицам в правобережном Хаптагае, растянувшемся вдоль Лены, и без малейшей надежды на успех уговаривал местных жителей перебросить его на другую сторону, в село Табагу, от которого до Якутска было уже рукой подать.
— Я ведь не даром, — с жаром пояснял он, — заплачу наличными.
— Ну, конечно, наличными, не чеками же на Русско-Азиатский банк, — усмехнулся собеседник, слонявшийся возле магазина, — только на черта мне твои наличные на том свете. Вчера у нас один смельчак попытался перебраться, а сегодня его вдова в поселковом Совете уже пособие выбивает в связи с утерей кормильца. Посиди, брат, недельки три, не мельтеши, а там уж паром заснует.
— Да ты что, забыл про военное время? — напирал на него Дигаев. — Если я не доберусь за пару дней до Якутска, меня начальник под суд отдаст.
— Опять же не моя забота, — рассудительно отвечал мужик, — тебя ведь посадят, я-то при деле.
— Чего на тебя время терять, — сплюнул Дигаев, — слепому с глухим не столковаться.
— Погоди, землячок, — окликнул его тот, — на зелененькую разоришься, я тебе совет дельный дам.
— Мне не совет нужен, а переправа, — зло отмахнулся Дигаев, но все же остановился, — чего хотел сказать?
— Тридцаточку вперед гони, — пошевелил пальцами протянутой руки мужик, — с моей легкой руки завтра в Якутске будешь.
Когда кредитка перекочевала из рук в руки, вымогатель склонился к уху Дигаева и тихо, как будто боялся, что их подслушают, сказал:
— Ступай по переулку, выйдешь на Байкальскую. Кликни Степана Беспалого. Из местных на лошади с тобой никто не поедет, слово даю. А Беспалый на Олёкме промышляет. У него оттуда и нарта с собачками. Домчит как в первом классе, только успевай раскошеливаться. Ну, теперь разбегаемся, пойду за твое здоровье бензобак дурью залью, — похлопал он себя по животу.
Беспалый и впрямь согласился.
— Поедем сегодня к вечеру, как подморозит чуток. Кроме денег, принесешь бутылку спирту, а для опохмелки красненького; без этого разговора не будет.
К вечеру, когда лужи прихватило хрустящим ледком, Дигаев спустился к сходне, скользя по плотной, застывшей корке старого снега, обмякшего днем от оттепели. По громкому повизгиванию собак отыскал заветерок — местечко на склоне горы, куда не добирался ветер. Беспалый, сидя на корточках возле перевернутой нарты, крепил сыромятным ремешком стойку.
— Пришел все-таки, а я подумал было, испугаешься. Кроме нас-то с тобой, сегодня дурных переправляться нема. Принес то, о чем договаривались? Расчет вперед, а то утонешь еще, чего доброго, так считай, что я задарма туда и обратно смотался.
— Ну и шуточки у вас здесь, с души воротит, — хмуро ответил Дигаев и, протянув бутылки и несколько хрустящих бумажек, добавил: — Как договаривались.
— Новенькие, — потеребил деньги пальцами Беспалый, — уж не сам ли печатаешь?
— Был бы станок, Степан, я бы тебе их нашлепал за милую душу, а так каторжным трудом зарабатывать приходится, с потом и кровью…
Степан поглядел сквозь бутылки на свет и обрадованно отметил:
— Опять недолив на пару пальцев. Вот сука, это, наверное, Катька из продмага отливает, мужики уже давно замечают такое дело. Быть ей битой, быть, — с уверенностью сказал Беспалый и, ударом ладони в донышко выбив пробку, сделал длинный глоток спирта из горлышка. Потом он заткнул бутылку в зеленую брезентовую сумку из-под противогаза. Уловив взгляд Дигаева, пояснил: — Ты не думай, я не алкаш какой. В году больше двух раз пить не приходится, я ведь охотник, нашему брату, если запить, так это верная погибель. У меня вчера братка в Лене утонул. — Он помолчал. — Последнюю ездку за Лену решил сделать и ухнул в полынь. Жалко братку, вот я сейчас и помяну его душу грешную.
— Да ты погоди, ты постой, — заволновался Дигаев, — как же так, у тебя вчера брат при переправе утонул, а ты сегодня сам со мной через Лену собираешься? Может быть, не стоит рисковать? В уме все это не укладывается.
— Как не стоит? Раз ты меня побеспокоил в такую пору, значит, тебе очень нужно. Выручу, паря. Да не переживай, я ведь не только из-за тебя на ту сторону еду, там у меня маманя живет, нужно к завтрему ее на похороны доставить. А братку все равно не вчера, так через полгода бог бы прибрал. У него туберкулез, потому и в армию не взяли, дали дома помереть.
Он крикнул собак, и те поднялись, потягиваясь.
— Значит, так, паря, — давал последние инструкции Беспалый, — если собачки в полынь уйдут, то ты на лед переваливайся, но нарты не упускай, мы с тобой собачек из воды вытянем. А если так случится, что сам в воде окажешься, не тужи и опять-таки нарту не бросай, тут уж собачки постараются, они у меня с понятием, не дадут пропасть. А вообще не дергайся, сиди себе спокойно. Ну, все готово, поехали.
Он гикнул, и собаки, вначале вроде бы нехотя, а потом, все больше увлекаясь, потянули нарты с ездоками вниз, на лед. На самом берегу рыхлый, весенний рассыпчатый лед-метик сдерживал движение, и Беспалый, соскочив с нарты, бежал рядом, помогая упряжке.
— Поть, поть, — орал он с упоением.
Упряжка выскочила на лед и, объезжая полыньи и подозрительно темные места, оставляя за собой узкий след-змейку, устремилась в глубину бесконечной речной шири.
Беспалый пристроился впереди и, вытянув из сумки бутылку, сделал еще глоток.
— Желаешь выпить? — предложил он на этот раз и Дигаеву.
Дигаев сморщился, припомнив туберкулезного брата Беспалого, и, не желая пить адскую жидкость, не закусывая и тем более не запивая, отказался.
— Нет, чего-то не хочется.
— Ну как знаешь, вольному воля. А братку помянуть не грех, хорошим человеком был, он у меня в Булунском округе комсомолом заправлял. Понял, какой пост человек занимал, да? То-то же. Один из всей нашей семьи получил образование, на учителя выучился. Во дела, да? У нас в роду все крестьяне и охотнички, а он в учителя подался. Башковитый был. Мать им гордилась, спасу нет. Приехала к нему в гости, по улице идут, а перед ним, сопляком, и старый и малый шапку ломают — сам учитель идет. Вот какое уважение! Он когда в отпуск домой приехал, так я его первые дни стеснялся, ей-богу, младшего братку стеснялся! Мать наговорила, да и сам с усам, понимаю: учитель!
А потом ничего уже, по-родственному. Он ведь такой же остался — душевный.
Беспалый перегнулся, на лету нарты подчерпнул ладошкой, сложенной ковшиком, снежицы — воды от растаявшего на льду снега, — и громко, с наслаждением выхлюпал ее.
— Я, паря, знаешь ли, не люблю разной там выпивки, у нас в семье сроду никто не пил. Вот чай — это другое дело, чаю с вареньем я могу и полсамовара выхлебать. У меня мамаша любит приговаривать: чай не пил, какая сила!
В тон ему Дигаев продолжил:
— Чай попил, совсем ослаб.
— Нет, это так шуткуют, а по правде, когда вернешься с путика в займище, только чаем и отогреешься от мороза.
Нарта подскочила на колдобине, рванулась из-под Дигаева, и тот едва удержался на ней, вцепившись в боковину белыми от напряжения пальцами. Собаки, бешено загребая лапами, тянули вверх нарту, съезжающую в полынью, и Дигаев непроизвольно замычал от страха, по это не помешало ему отметить, какими глубокими порезами въелась ременная упряжь в тощие собачьи тела, напрягшиеся в непосильной работе.
— Поть-поть! — подбадривал их Беспалый, соскочив с нарт и подсобляя псам. — Ты чего это так побледнел? — удивился он, глянув на Дигаева. — Потри лицо снегом, а то еще замрешь, чего доброго, возись тогда с тобой. Слабоват ты, оказывается, паря, чую, не наших, не крестьянских кровей.
— Ранение сказывается, — соврал Дигаев. — Воевать — это тебе не в охотничьей избе в носу ковырять, — съязвил он.
Но Беспалый оспаривать его злую шутку не стал:
— Верно, нелегко еще нашим война дается. Но после Сталинграда ничего не страшно, теперь погоним немца до Берлина прямым ходом. Я вот, думаешь, чего сейчас здесь, а не в тайге? Под призыв попал. После похорон собираюсь в войска, вот так.
— Да какой из тебя вояка? — мстил Дигаев за недавний упрек в трусости. — Ты ведь и шага воинского не осилишь.
— Это ничего. Зато я в снайпера сразу подамся, мне это дело привычно. Нашлепаю их, как белок на промысле, пускай знают, как к нам приставать.
— За каким чертом тебе воевать, скажи по совести? — не сдержался Дигаев. — До Сибири германцы все равно не доберутся — далеко, а чего тебе до остальных? Сиди себе на охотничьем участке и радуйся белу свету.
— Это как тебя понимать? Дезертировать, что ли, мне предлагаешь? Значит, пускай мою землю всякие фрицы топчут, а я в тайге отсиживаться буду?
— А какая тебе разница. Советская ли власть, немецкая ли? Один черт, тебе кому-то подчиняться надо и налоги выплачивать. А при немцах, может, хозяином станешь. Вон сколько при царе в Сибири крепких хозяев было.
Беспалый недоверчиво поглядел на Дигаева:
— Ты это что, серьезно?
— Почему бы и нет?
— А ну пошел, гнус пакостный, с моей нарты! — закричал вдруг Беспалый и легко, одним движением плеча сбросил того на лед. — Я его, понимаешь, как человека везу, а он меня на что подбивает! Он развернулся и стеганул по Дигаеву остолом, которым погонял собак.
— Поть-поть! — зло прикрикнул он на собак.
— Стой, стой, Беспалый! Да ты что! Я же пошутил, я проверить тебя хотел, наш ты человек или нет! — задыхаясь от бега, от страха остаться на реке, где на каждом шагу его подстерегала смертельная опасность, кричал Дигаев. — Я же сам с фронта, раненый, изувеченный, а ты меня здесь бросаешь…
Услышав последние его слова, Беспалый затормозил остолом, отчего нарты заюлили из стороны в сторону, а на льду остался глубокий, прерывистый след от металлического наконечника.
— А если фронтовик, чего же ты так проверяешь, паря? Ну, ты даешь, а ведь чуть тебя еще пару раз не отходил, как сволочь последнюю. У тебя что, и докумет есть, что ты с фронта?
— А как же, а как же, Степа! Хочешь, покажу сейчас, хочешь, как до берега доберемся.
— Ладно, я тебе верю, только ты мне больше таких проверок не устраивай. Злость глаза застлала, чего это, думаю, он со мной о царе, о немцах беседы ведет. Я к такому не привык.
— Фу, Степа, тебе перед армией еще бы выдержке поучиться, Вдруг ты во фронтовую разведку попадешь? Там нужно уметь выслушать, сдержать себя, на провокацию не поддаться, а если сразу же кулаками размахивать начнешь, так и себя раньше времени раскроешь, и товарищей подведешь. Это же тебе не драку у пивной в Якутске устраивать. Расстроил ты меня как, Степа, враз раны заныли. Дай спирту глотнуть чуток. — И, не вспоминая больше ни о чахоточном брате Беспалого, ни о брезгливости, Дигаев наскоро обтер горлышко бутылки и, обжигаясь, жмуря глаза, сделал несколько долгих глотков. Захватив рукой кусок рыхлого, заледенелого снега, он затолкал его в рот и только тогда вдохнул воздух, поморщился, сокрушенно качая головой; это надо же, из-за своего языка едва не остался один-одинешенек в этом угрюмом и опасном белом пространстве.
— Ну, полегчало? — с пониманием поинтересовался Беспалый. — А ты в каких войсках служил?
— В кавалерии, Степан, в кавалерии, в специальной, в засекреченной части, о ней, видишь ли, мало кто знал. Нам задания поступали с самого верху. А ты меня остолом, змей такой.
— Ладно, не бранись, кто ж тебя знал. Я с детства вспыльчивый, как вижу какую несправедливость, так не могу себя сдержать.
Беспалый заметил, что одна из собак хитрит, совсем не тянет свою лямку, и ловко запустил в нее остолом, отчего пес взвизгнул и заметно налег на постромки, разделяя труд товарищей. А Беспалый, подхватив с земли упавший остол, подбодрил упряжку криком.
— Ты, паря, заметил, как тот пес, с белым пятном на ухе, старается отлынивать от работы, перекладывая ее на собратьев? Но как только ему достанется пару раз остолом, так умнеет на глазах. Вот такого паршивого пса в любой артели найти можно, и уговорами на него не подействуешь, ему вздрючка нужна.
— Намекаешь на что или к слову?
— Какие намеки, паря, мне на фронт, а тебе теперь в тылу нужно будет оборону крепить. Не думал еще, куда на работу, аль уже пристроился к делу?
— Думаю, на курсы бухгалтеров поступить. Или в милицию подамся, как думаешь, примут?
— Как не примут? Захочешь, так примут, но лучше бы тебе в милицию не ходить, парень.
— Это почему же мне туда пути заказаны?
— Ты не обижайся, но глаза у тебя не добрые, злые. Может быть, это от ранения, в себя еще не пришел, а может быть, таким и родился, кто его знает. В милиции, особенно в наше время, когда везде горе, нужно к людям в душе сострадание иметь, стараться понять каждого: что толкает его на грех, как ему помочь, предостеречь и только потом наказывать. Я вот такого пса белоухого уж как ни крутил в упряжке, все места он у меня перепробовал, и кормил его отдельно, вдруг, думаю, мало ему, ослаб, потому не тянет. А как убедился, что ленив он не в меру, так и к наказанию приступил. Так то пес, а человека понять труднее. Иной раз он, может, от тоски в драку лезет, так ты ему отлуп дай и попробуй выковырнуть у него занозу, поговори по душам. Так ты не сможешь, жестокий ты мужик, иди лучше на курсы бухгалтеров.
— Подумаю над твоим советом, Степан, а пока дайка бутылку, я за курсы бухгалтеров выпью глоток.
Еще несколько раз Дигаев прикладывался к бутылке, пока не осталось в ней жидкости лишь на донышке. Зато не крутило больше его душу от страха перед коварной дорогой, не боялся уже ни полыньи, ни трещины во льдах. Спирт придал храбрости, но и ловкости заметно поубавилось, поэтому все чаще Беспалому приходилось поддерживать Дигаева в рискованные моменты, заботясь не только о дороге, о собаках и нарте, но и о пассажире, которого заметно развезло.
Солнце приблизилось уже к краю окоема, сделалось большим и не таким ярким. Из воды, скопившейся на подтаявшем сверху матером льду или проникшей через трещины, появился наслуд — тоненький, свежий ледок. Собаки лапами пробивали его и до крови царапали подушечки лап. И вскоре, оглянувшись назад, можно было увидеть длинные окровавленные цепочки собачьих следов. Беспалый все чаще и чаще вскакивал и, ухватившись за ремень, тянул нарты вместе с собаками.
— Отчего кровь? — пьяно поинтересовался Дигаев и, не дождавшись ответа, одобрил. — Правильно, так их, тварей, пускай поживее бегут.
— Нет, — задумчиво повторил Беспалый уже с полчаса назад высказанную мысль, — нельзя тебе в милицию, никак нельзя. А вот братка мой где угодно мог работать. Он ведь и туберкулезом заболел перед войной из-за своей доброты, паря. Геологи у них в районе осенью заблудились. Не вышли в назначенное время, хоть плачь. Поискали их поблизости, радиограммы по округе дали, никто не признается, что видел их. А братка мой подговорил еще двух старателей, да и подался с ними в тайгу, к тому месту, где геологи должны бы быть. И нашел ведь одного из них! Вывел к якутам в кыстык, это у них так зимний дом называется, — пояснил Беспалый, — а второй все таки пропал. Вот тогда же братка промерз до того, что вскорости у него и началась чахотка. А кто его заставлял этих геологов искать, если уже и их начальники успокоились? Братка тогда уже из школы ушел и комсомолом заправлял. Вот и сидел бы себе в теплом кабинете, писал бы распоряжения за столом, покрытым кумачом, нет — он в тайгу. Как думаешь, правильно он поступил? Молчишь? Ну и правильно, а то еще ляпнешь что, так опять тебя остолом учить придется, — согласился Беспалый, глядя на дремлющего в пьяном забытьи Дигаева, и продолжал рассказывать вроде бы для себя: — А брату в больнице пришлось долго лежать, потом в родные края насовсем перебрался с женой и ребятенком. В школе работал. Не могу, говорит, на пенсии сидеть, когда весь народ воюет. Вот оно как, паря.
По реке с посвистом потянул сивер, небо постепенно затягивалось тучами, из которых посыпал бусенец — снежная морось, становилось морозно.
Миновали Табагинский елбан — высокий, гладкий мыс на берегу, а когда солнце уже ушло за горизонт, осветив краешек туч алым цветом, постепенно переходящим в размытый зеленоватый оттенок, собаки ускорили бег, почуяв берег, запахи человеческого жилья.
— Табага, — тормошил Беспалый Дигаева, — проснись, говорю, паря, в Табагу приехали. Ну, вояка, чего за бутылку хватался, если пить не умеешь? — Но Дигаева от выпитой почти что в одиночестве бутылки спирта развезло окончательно, он никак не хотел просыпаться. Это и спасло Степана Беспалого…
Ночевал Дигаев в доме матери Беспалого, а наутро, едва открыв глаза и окатив холодной водой раскалывающуюся от боли голову, пошел голосовать проходящим на Якутск автомашинам.
Погода в Якутске в двадцатых числах апреля сорок третьего года днем была вполне весенней. Столбики градусников пересекли плюсовые отметки. На улицах, пробивая застарелые оплывающие сугробы, текли ручьи, на особенно оживленных — трудно было даже пройти из-за больших луж и грязи. К слову, грязь была легкой, песчаной, и просыхало в городе быстро. Отвыкшие за зиму от солнца, теперь заливающего город теплом, горожане расстегивали пальто, нежились, не торопясь в помещения.
Дигаев брел по широким улицам, постепенно привыкая к городу, в котором последний раз ему довелось побывать в девятнадцатом году, в смутные колчаковские времена. Странное совпадение — и двадцать четыре года назад он нередко бродил по городу в таком же смурном, болезненном от попоек состоянии. В те далекие дни улицы возле жилых домов были загажены так, что барыньки или бабенки из состоятельных брезгливо морщили носики, отмахиваясь платочками. Впрочем, делали они это, только завидев мужчин, в остальное время вонь была для них привычной.
Вдоль дорог бежали деревянные тротуары, основательно сбитые поперечными короткими плахами. Длинные доски опирались на бруски, и, если те подгнивали, доски пружинили, прогибались не в такт шагам, заставляя семенить ногами или переходить на дорогу.
Как и прежде, Якутск был в основном деревянным. Дома одноэтажные, бревенчатые, рубленные в венец. Множество двухэтажных: с балкончиками, антресолями, как на городских барских усадьбах, с непомерно огромными окнами, украшенными резными разноцветными наличниками, сверху напоминающими геральдические короны.
В колчаковские времена обыватели не любили открывать ставни, и Дигаеву как-то невдомек было, что в малоэтажной деревянной столице могут быть такие красивые здания, построенные в свое время прочно, со вкусом, с высоченными, чуть ли не в два человеческих роста, потолками в просторных комнатах, от которых Дигаев, проживавший много лет в клетушке на окраине Хайлара, уже и отвык. Он со злой завистливостью оглядывался по сторонам, сравнивая свою нынешнюю иноземную родину с Якутском, и понимал, что последний отличается в лучшую сторону. Уж, казалось бы, такой пустячок, как печная труба, но если в Хайларе ее могло венчать дырявое проржавевшее ведро, то здесь он против воли залюбовался высокими искусно украшенными красавицами трубами с затейливыми флюгерами по бокам. Даже водостоки домов, обычно неприметные, здесь казались признаком достатка; уж каких только стоков он не заметил: круглые, трех- и четырехгранные, с затейливой резьбой по жести, с вензелями и венчиками, а вдоль крыш — даже с жестяными вазами, чеканными розанами. Они крепились к стенам замысловато кованными фигурными крюками, а те концы, из которых стекал свежун — снежная талая вода, — внизу изящно выгибались и, переметнувшись подальше от стены дома, иногда даже на другую сторону тротуара, склоняли над бочками морды неведомых глазастых ящеров, раскрывших пасти, утыканные вырезанными по краям зубами, а кое-где даже с расщепленным жалом. Вот, оказывается, сколь щеголеватой и нарядной оказалась северная столица огромного края.
— Успокоились, суки, — тихо шептал Дигаев, подмечая все новые и новые изменения в облике города, — неужто забыли, как мы здесь похозяйничали, — захихикал он, припоминая двадцатые кровавые годы. — Сейчас бы здесь красного петушка пустить, ох и забегали бы вы все, засуетились.
Оно и верно, почище любого нашествия или вторжения деревянный город до сих пор боялся пожаров, которые были здесь частыми гостями, опустошая немалые районы и плодя многочисленных погорельцев.
Дигаев остановился у газетного стенда:
— «Социалистическая Якутия», двадцатого апреля сорок третьего года, — прочитал он вслух, и, хотя ничего в этом предосудительного не было, испуганно оглянулся. — Ишь чего захотели: социалистическая…
Он читал о том, что в ночь на семнадцатое апреля советские самолеты произвели налет на города Данциг, Кёнигсберг и Тильзит, в течение двух часов бомбили военно-промышленные объекты этих городов. Только три самолета не вернулось на свои базы. И он поежился, в душе порадовавшись, что не оказался сейчас в этом самом Тильзите, а мог бы, мог бы и оказаться, сдуру, как он теперь понимал.
Очередное объявление привлекло его внимание: «Два шофера на легковые автомашины М-1 требуются Уполнаркомзагу СССР по ЯАССР, справляться: Ленинская, семьдесят три, в часы занятий». Он раза три повторил непривычные, труднопроизносимые слова — Уполнаркомзагу, ЯАССР — и подумал, что вполне мог бы устроиться здесь на работу шофером, и даже на легковую машину. «Нет уж, — остановил он себя, — карлите вы здесь сами, а я достоин лучшей участи».
С другой стороны стенда висел небольшой плакат, отпечатанный на серой газетной бумаге: «Горючее нужно фронту. Экономьте каждую его каплю! Сэкономив триста кг жидкого топлива, можно обеспечить горючим один советский танк на суточный бой с противником!» Еще раз оглянулся и, никого не заметив, с наслаждением сорвал плохо приклеенный плакат, как будто этим он мог помешать суточному бою танка с противником.
Он брел по Набережной и с удивлением прочитал, что теперь южная ее половина называется улицей Николая Чернышевского. Вышел на когда-то хорошо знакомую ему Большую и увидел, что она носит имя Ленина. Но вот на бывшей Соборной Дигаев заметил табличку: улица Нестора Каландарашвили, и изменить после этого его настроение к лучшему было уже невозможно. У Дигаева было такое ощущение, как будто его публично оплевали, надругались над ним. Как же это так — именем Каландарашвили назвали целую улицу! Того самого красного, который помешал так хорошо начинавшейся было карьере Дигаева.
Тогда, в девятнадцатом году, путем сложных интриг, в которые он вовлек всех своих мало-мальски влиятельных приятелей из контрразведки, то бишь осведомительного отдела штаба Иркутского военного округа, Дигаеву удалось получить должность заместителя начальника каторжного централа в селе Александровском. Он получил туда направление одновременно с досрочным присвоением очередного звания. О чем другом ему еще можно было мечтать! Однополчан направляли на фронт, а он из Якутска ехал в райские кущи, где при желании можно было и деньжат припасти на будущее, и без особой опасности расти в чинах и званиях. Вот так и было бы, не попадись на его пути командир красного партизанского отряда Каландарашвили. В сентябре, ровно через месяц после того, как Дигаев приступил к исполнению своих обязанностей, переодевшись в белогвардейскую форму, Каландарашвили с отрядом прибыл в тюрьму, и, пока Дигаев разбирался с предъявленными ему поддельными документами, караул был обезоружен. Четыре сотни освобожденных заключенных так и не удалось разыскать. Дигаеву это стоило разбирательства на офицерском суде чести, из войсковых старшин он был разжалован в есаулы, каково?
Дигаев и к покойнику сотнику Земскову долго испытывал теплые чувства именно из-за того, что тот, задержавшись в Сибири с остатками колчаковцев, был свидетелем гибели командующего войсками Якутской области и Северного края Нестора Каландарашвили. В марте девятнадцатого года неподалеку от деревни Табаги (в которой Дигаев, перебравшись через Лену на собачках, ночевал только вчера) на узкой протоке колчаковцы устроили засаду и подстерегли меньшую часть отряда и штаб командующего. Никого не пощадили белогвардейцы, даже с десяток крестьян-ямщиков порубили. А теперь благодарные горожане увековечили память о герое-грузине.
«Ну и ладно, — мстительно подумал Дигаев, — зато я сегодня за час одолел эти тридцать восемь километров от Табаги до Якутска, а тебе, партизан, уже никогда не преодолеть их, так-то!» — Ущемленное было самолюбие и тщеславие удовлетворились этим доводом, и Дигаев, уже не останавливаясь, зашагал к Кружалу — рынку, который примостился между улицей Собранской и Зеленым Лугом. Собранская почти не изменилась. Справа тянулись добротные высокие деревянные дома, притаившиеся за остроконечным тыном. А напротив высились магазин и дом купца Кушнарева, который, не дожидаясь полного разгрома белогвардейцев, прихватил ценности и сбежал в двадцатых годах в Японию.
«Вернусь домой, — подумал Дигаев, — нужно будет с Кушнарева бакшиш выбить за хорошую новость: стоит, мол, твоя собственность, хозяина дожидается. Авось тряхнет мошной, старый скупец».
Кружало было похоже на какую-то старинную крепость времен покорения Ермаком Сибири. Массивные, на века построенные торговые ряды с крохотными оконцами на антресолях у лавок, с подъездными путями из толстенных плах на опорах с четырех сторон опоясывали базарную площадь. Но в то же время, когда Дигаев проходил мимо Кружала, там было тихо и пустынно. В сорок первом и сорок втором годах лето в Якутии было знойным, засушливым, высохло все на корню, поэтому зимой на сорок третий год было очень голодно. В торговых рядах толкались несколько старух, предлагавших кое-какое старье, но спросом оно не пользовалось, и бабки возвращались к голодным внукам, шныряя по соседям в поисках картофелины или пригоршни овса. Снабжение было никудышным, и продовольственные карточки во время закрытия переправы через Лену отоваривались плохо.
Дигаев пробежал через переулок и остановился возле домика, притулившегося у забора церкви Предтечи, огромного каменного здания с замысловатыми карнизами, высоченными колоннами у входа и балкончиками у основания главного купола. Оглядев церковь, с пониманием почесал бороду: за прошедшие двадцать лет ему раз десять пришлось читать в хайларских и харбинских газетенках о том, что храм и взорвали, и сожгли, и перестроили под жилой дом для большевистских лидеров.
Дигаев прошел узенький дворик и, звякнув щеколдой, оказался в темных холодных сенях.
— Галя-я-я! — крикнул для приличия, входя в незапертую комнату.
Хозяйки не было. На деревянной тахте, покрытой домотканым цветастым ковриком, прислонившись к стене, полулежал Владимир Магалиф. Вид его был неопрятным, неухоженным, лицо заросло многодневной рыжеватой щетиной. Уставившись бессмысленными, потухшими глазами в стену напротив, он вяло перебирал четыре оставшиеся струны на гитаре с щеголеватым голубым бантом на грифе и, словно зациклившись на одном аккорде, монотонно пел скабрезные частушки:
На горе — кудрявый дуб, Под горою — липа. Ванька Маньку повалил — Делают Филиппа.— Здравия желаю, Вольдемар! — с деланной бравадой воскликнул Дигаев.
К его удивлению, ответа не последовало. Все так же, не переводя на него взгляда, Магалиф тренькал на гитаре, старательно выговаривая слова очередного куплета:
Из колодца вода льется, По желобу сочится. Хоть и плохо мы живем, А по бабам хочется!— Что с тобой, станичник, или признавать не хочешь? — подойдя к нему вплотную, подтолкнул валенком Дигаев.
— Вашбродь! Не трогай ты его, — выглянул из соседней комнаты Ефим Брюхатов. — Не в себе Володька, третий день пьет не просыхая, горе себе придумал.
— Да в чем хоть дело? Повзбесились вы все здесь, что ли? — шагнул Дигаев в горницу Брюхатова.
А следом за ним несся негромкий, тусклый голос бывшего прапорщика:
На горе стоит береза, Тонкий лист и гнутый. По твоим глазам я вижу, Что ты чеканутый…— Настасья его бросила. Бросила и сбежала, вроде бы с медсанбатом резерва, его на фронт из этих краев снарядили. Ну, стерва она, вашбродь, мужик кормил, поил ее, в люди хотел вывести, а она и от него, и от нас утекла, не попрощавшись, как кошка бездомная.
— Да, — с горечью плюнул Дигаев в сторону печки, — возле нас ей самый дом был. А на что он пьет? — кивнул головой в сторону музыканта.
— Кто его знает, денег вроде нет, а каждый день с утра пьяный приходит.
— Вы здесь, однако, от безделья скоро таких дел наделаете, что потом сообща не расхлебаем. А где Бреус прохлаждается? Распустил он вас, как я погляжу.
— Здесь я, есаул! — раздалось от порога. — С благополучным прибытием.
— Тс-с… Бреус, тут тебе не Хайлар и не тайга, — погрозил пальцем Дигаев, — на время все чины и звания следует забыть. Ни в коем случае. Чтобы я больше этого и не слышал. Все поняли?
В городе Калязине Нас девчата сглазили. Если бы не сглазили, Мы бы… —не успокаивался Магалиф.
— Бреус, Брюхатов, какого черта вы его не угомоните? И где это он набрался народного творчества? Выходит, черт знает по каким притонам здесь шнырял.
— Не обращайте внимания, Дигаев, это он теперь так настроение выражает. Немного попоет, а там и баиньки, — успокоил Бреус. — Вы лучше расскажите, как добрались.
Участников дальнего перехода было не узнать. Ефим Брюхатов настолько спал с тела, что, казалось, уменьшился в объеме раза в два. Тройной подбородок, окладистые щеки хомячка пропали, только вытянувшаяся морщинистая кожа напоминала о них. Вместе с толщиной Брюхатов потерял и всю свою осанистость, представительность, вообще же он очень ко времени был похож на тяжело переболевшего человека. Его самоуверенный голос уже не рокотал к месту и не к месту, и казалось, что даже тембр его сменился, изредка позволяя угодливые интонации.
И только Бреус оставался самим собой, как всегда, он был гладко выбрит, аккуратно подстрижен. А сочетание широких галифе, старенького кителя с потемневшими следами от споротых погон да очки в металлической оправе придавали его внешности вид демобилизованного воина, занимающего небольшую руководящую и вполне интеллигентную должность.
— Вы, Бреус, выглядите так, как будто никогда не покидали этих краев, — одобрительно поглядел на него Дигаев.
— Уважаемый Дигаев, способности к мимикрии у меня врожденные. Но это только внешне, моя суть всегда и везде остается прежней. Итак, каковы наши планы? Могу доложить, что за эти дни мы с Брюхатовым прекрасно изучили интересующую нас местность.
Дигаев и Бреус разложили на столе карту, рисунки деда Гришани, напоминавшие детские каракули, и склонились над бумагами.
— Та-а-ак-с, — приглядывался Бреус, — пожалуй, здесь несколько иначе, чем на местности. Погляди, пожалуйста, Ефим, кирпичный завод должен быть между Чучун Мураном и озером Ытык-кель, а здесь он несколько в стороне, верно?
— Да вроде бы так, Сан Саныч, — тупо уставившись в чертежи, согласился Ефим Брюхатов.
— У нас два ориентира, — продолжал Бреус, — известно точное описание дороги по тропе от часовни Чучун Мурана.
— Что за часовня, были там? — поинтересовался Дигаев.
— А как же, драгоценный наш Георгий Семенович, — успокоительно похлопал Бреус Дигаева по руке, — везде были, все знаем, доложу вам без лишней скромности. Построена часовня из балок, имеет дверь и окна, наверху установлен большой деревянный крест в два человеческих роста, не меньше. В приличной сохранности, только нам ведь там не жить, она для нас важна лишь как отправная точка. Но этот путь длиннее, хотя и малолюднее.
— Я бы им и пошел, — подал голос Брюхатов, — тихо, безлюдно, а если кого встретим, то раз… и нет комарика.
— Вы как думаете, Сан Саныч?
— Думаю, что мы просто обязаны прислушаться к мнению нашего дорогого друга Ефима, — витиевато ответил Бреус, — с той лишь разницей, что мы воспользуемся этой дорогой, уже возвращаясь со своими сокровищами. Вот тогда-то нам действительно нужно будет опасаться чужих глаз. А на дело я бы советовал идти через озеро.
— Поясните, Сан Саныч, — попросил Дигаев.
— На озере Ытык-кель в наши любимые двадцатые годы стояла архиерейская церковь. Там же была и летняя резиденция архиерея. Она была нашим вторым ориентиром. Но, как ни жаль, все эти постройки тогда же и сгорели.
— Значит, этот путь отрезан?
— Почему же, Георгий Семенович? Место пожарища до сих пор хорошо заметно, от него и двинем. Да куда мы гоним, станичники? У нас. в запасе еще не меньше десяти-пятнадцати дней. Вы ведь, Георгий Семенович, — обратился Бреус к Дигаеву, — установили срок операции сразу же после ледохода. Еще сто раз успеем отмерить, прежде чем аккуратненько так, — показал Бреус длинными тонкими пальчиками, — отрежем.
— Нет, господа, — задумчиво барабанил по карте Дигаев, — столько времени ждать не стоит, давайте рискнем завтра к вечеру, а там, если не успеем покинуть город сразу, то перепрячем золотишко. Так-то оно спокойнее будет, не оставляют меня дурные предчувствия. Да и нам в Якутске нелегко отсиживаться будет, попадем под толковую проверку документов, вот наша липа и не выдержит. Посудите сами, станичники, по дороге мы маленько наследили, понимаете, о чем я говорю? Вдобавок ко всему вы еще и Настю проморгали. А вдруг болтанет где-нибудь лишнее, она ведь много знает, очень много… Хорошо бы даже сегодня покопаться в наших подземных закромах, но похоже, что Володька сегодня уже не очухается.
— Это верно, — захихикал Ефим Брюхатов, — ему выпитое не в пользу. Завтра до опохмелки на человека не будет похож.
— Тебе, Ефим, задание, — приказал Дигаев, — чтоб завтра с него глаз не спускал. Не упусти этого слабака, не то опять зальет глаза и вместо дела частушки нам будет исполнять. Вы, может быть, к его концертам за эти дни и привыкли, а меня от них с души воротит. Ничего, недолго мне еще его шуточки терпеть, пускай только место уточнит, ягненочек, а там разберемся что к чему.
— Пора бы, а то, вашбродь…
— Я же тебя, Ефим, по-человечески предупредил, нет больше в Якутске ни ваших благородий, ни ваших сиятельств, трудно запомнить, что ли?
— …А то, Георгий Семенович, — без запинки поправился Брюхатов, — возимся мы с ним, как черт с писаной торбой, не понять, за что ему такие привилегии. С местом вон и то без него разобрались.
— Не кажи гоп, пока не перепрыгнешь, Ефим, у нас в сотне так донцы любили говорить, — усмехнулся Бреус, — вот выкопаем ящички, тогда будет ясно, разобрались мы или нет. Но ты прав, в общем уже знаем, что к чему.
— И то правда, — успокоился Ефим Брюхатов.
— Пока ты завтра, Ефим, будешь Володьку стеречь, мы с Сан Санычем ломик с киркой поищем да лопат парочку, чтобы во всеоружии быть. Как пишут большевики в своих газетах, проявим, товарищи, трудовой порыв и отметим его социалистическим соревнованием.
Только убрали со стола бумаги, как в дверях появилась хозяйка.
— Галя, голубка, да ты ли это! — раскрыв руки для объятий, пошел к ней навстречу Дигаев. — Постарела-то как, батюшки мои!
Они обнялись без чувств, отдавая дань традиции и тем отношениям, которые были между ними когда-то.
— А какой красоткой, станичники, была Галя четверть века назад! Неужели я вам не рассказывал?
А как пела под гитару! Галя, не ту ли твою гитару Володька насилует своей похабщиной? Эхе-хе, куда все ушло!
— Да и ты уже, Жорик, в преклонных годах, — поджала губы женщина, — чего меня обсуждать, вон зеркало, глянь хоть одним глазком, если не боишься, что от огорчения давление подскочит. — И, не простив ему унижения и бестактности, зло спросила: — Так ты нынче в бандитах ходишь? А был когда-то в благородиях… тожеть, видать, солоно пришлось.
— С чего это ты взяла, что я бандит, Галя?
— Так нынче с револьверами под гимнастеркой только урки ходят или лягавые. На милицейского или военного ни ты, ни они, — кивнула она на Ефима Брюхатова и Бреуса, — не похожи, значит, урки. Да мне без разницы, лишь бы вы за постой платили хорошо да меня ни во что не втягивали. Время тяжелое, раз уж как любовники не сгодитесь, так живите в квартирантах.
— Обиделась на меня, Галя? Так я обидеть не хотел, прости меня, дурака.
— Бог простит, Жорик, да изволь сегодня за квартиру деньги отдать за месяц вперед. Четверо вас, по двести рубликов с брата.
— Ну и дерешь ты, Галя, как в гостинице.
— Так если у меня что не устраивает, вы и переезжайте в гостиницу. Там, конечно, документы потребуют, но у таких молодых ребят они всегда есть.
— Сдаюсь, Галя, сдаюсь на милость победителю. Забыл за эти годы твой язычок, вот и напросился, каюсь.
— Ну то-то, — чуть-чуть смилостивилась хозяйка, — значит, как с деньгами?
— Дозволь, Галя, завтра отдать? Все будет в лучшем виде, к вечеру.
— Гляди, Жорик, у меня память хорошая, к вечеру напомню.
Когда женщина вышла в другую комнату, служившую и спальней, и кухней, и кладовой, чтобы приготовить ужин из припасов гостей, Дигаев недовольно пробурчал Ефиму:
— Вот старая карга, наловчилась сразу же за глотку хватать. Ну посмотрим, может быть, завтра уже и не до нее будет.
— Не стоит с ней отношения портить, Георгий Семенович, она баба толковая, еще не раз пригодится, — не согласился с ним Брюхатов.
А Бреус уже выскочил следом за хозяйкой, предлагая ей помощь по хозяйству и без меры рассыпая дежурные, ни к чему не обязывающие комплименты, с помощью которых быстро восстановил у Гали хорошее настроение.
К вечеру следующего дня, задолго до того как солнцу склониться к закату, компаньоны двумя парами вышли из дому. По бывшей улице Правленской, а ныне Петровского, они дошагали до Вилюйского тракта и, покинув чистенький дощатый тротуар, выбрались на тракт, вмиг оказавшись у глубокой огромной лужи. Бреус поначалу старался идти на каблуках, боясь выпачкать до глянца начищенные хромовые сапоги, но потом и он махнул рукой на их чистоту, дорога и дальше не обещала быть лучше.
Впереди размеренно шагали Ефим Брюхатов с Магалифом, они попеременно несли грязный мешок, в котором были закручены шанцевые инструменты, ломик и изрядный моток манильского троса. Шагов через двести следом за ними брели Дигаев и Бреус. У последнего за плечами был небольшой сидор с продуктами, который он прихватил на всякий случай.
Добравшись до обугленных покосившихся столбиков на месте бывшей архиерейской дачи, Ефим Брюхатов с Магалифом присели, дожидаясь остальных.
— Ну, чего расселись, станичники, — недовольно покосился по сторонам Дигаев.
— Домов дальше нет, Георгий Семенович, значит, бояться некого, можно всем вместе идти, — успокоил Ефим Брюхатов, — так повеселее будет, глядишь, и мешочек, хе-хе-хе-с, поможете нести.
— Мешок несите с Володькой по очереди, а у нас руки должны быть свободны, видел в конце Правленской милиционеров конных? Вот то-то же, бдительность терять нельзя.
Выждав минут десять и оглядевшись, нет ли кого поблизости, пошли вместе дальше. Бреус, который шел последним, двумя ударами топора сбил заранее заготовленные жерди в сажень и теперь, накручивая ею шаги, подсчитывал расстояние.
— Перестраховываешься, Сан Саныч, — упрекнул его Магалиф, — что же, думаешь, мы теперь кладбище не найдем здесь? Да вон оно, — показал он рукой в сторону взлобка, на пути к Чучун Мурану.
— Может быть, и найдем, — не стал спорить Бреус, — но лучше проверить, там теперь два кладбища, старое и новое, так не ошибиться бы.
Крохотные кладбища, скрытые ельником от нескромных взглядов, примостились по соседству, разделялись они неглубокой, заросшей кустами лощиной. Сейчас лощина еще не освободилась от снежного забоя, скопившегося здесь с зимы.
— Тысяча двести саженей, — подвел итоги Бреус, — значит, на нижнем. — Он внимательно огляделся. — Теперь вы уточняйте место, Вольдемар, где-то здесь должна быть сросшаяся лиственница, а я ее не найду.
Магалиф прошел по небольшому пятачку:
— Вроде бы вот в том углу, — нерешительно показал он.
— Но там же вообще ни одного старого дерева, — засомневался Дигаев, — ты, Володька, не ошибаешься? Подумай хорошенько, вспомни, ты ведь тогда меньше пил, да?
— Меньше или больше, разве в этом суть? Я пить и сейчас не люблю. Кто обещал, атаман, что в Якутске достанешь на закрутку-другую? Вот и сдерживай слово.
— Будет тебе несколько ампул морфия, устраивает? — успокоил его Дигаев. — Но и ты нас не заставляй работать попусту. Не забудь, и тебе копать.
Магалиф еще покрутился между осевшими холмиками и снова вернулся к тому же месту:
— Здесь!
Бреус с сомнением покачал головой, но спорить не стал:
— Здесь, так здесь, за работу, станичники. Кто первый начнет?
— Как кто? — удивился Дигаев. — Володьке и начинать, это его право и честь первооткрывателя, так сказать. Ефим! — повернулся он к Брюхатому, — помоги нашему герою, а потом мы вас сменим.
Ефим Брюхатов приготовился было спорить, но, поглядев на собранного и решительного Дигаева, потянулся за киркой.
Легко дались только первые тридцать сантиметров, а дальше пошла твердая, замерзшая за зиму земелька, которой, несмотря на солнечную сторону, нужно было долго оттаивать. Ефим Брюхатов с силой колотил киркой по мерзлоте, но та поддавалась неохотно.
— Оттаивать ее нужно, — тяжело дыша, предложил Ефим. — Давайте распалим костер? Тогда в два счета осилим.
— Опять про конную милицию забыл? — поинтересовался Дигаев. — А они и энкэвэдэ сюда быстренько приведут. С чего это в таком месте костры, лопаты? Ты думай, Ефим, прежде чем говорить.
— Ну, тогда подмените, пора мне перекурить, — отбросил кирку Ефим.
Поворачиваться в яме двоим было неловко, поэтому Дигаев, сбросив шубейку, с уханьем и кряканьем тяжело долбил грунт, а мелкие осколки, скопившиеся на дне, чистенько сгребал и выбрасывал наверх Бреус.
Поменялись еще пару раз. И уже всем досталось нелегкой заботы.
— Вот если бы меня сейчас поставили на Александрийский централ, так я бы знал, как побольше досадить каторжным. Они бы у меня, сукины сыны, весь световой день долбили мерзлую землю. Так бы ухайдакались, что никаких революций не пожелали бы устраивать.
— Не вы первый, Георгий Семенович, это открыли. А как вы думаете, кто строил самую длинную и сложную в мире трансконтинентальную железнодорожную магистраль до Владивостока? В основном ваши каторжные и строили. Но, как убедились на собственном примере, хватило у них сил и на революцию.
— Ну а если, к примеру, нас в Якутске схватят, так что с нами сделают? — поинтересовался Ефим Брюхатов. — На каторгу, что ли?
— За вами, Ефим, столько грешков и старых и новых, — засмеялся Бреус, — что на пощаду вам рассчитывать нечего. А так как каторги у большевиков нет, они отменили ее, остается одно — поставить вас к стенке и пропеть «аминь!».
— Какие же, Сан Саныч, такие грешки вы за мной знаете, за которые меня можно к стенке?
Устав с непривычки от тяжелого физического труда и уже не особенно веря в удачу, Дигаев отшвырнул лом в сторону:
— Хватит болтать, Ефим, бери лом.
— Я полчаса уродовался, а вы и пяти минут не подолбили. С чего бы это, Семеныч?
Не сдерживаясь, Дигаев, едва переводя дыхание, ответил:
— А хотя бы из уважения к тому, что я о тебе знаю. Столько, Ефимушка, знаю, что хоть здесь поймают тебя, хоть в Хайларе прознают частицу, а конец один будет — вышак.
— Ну, это еще доказать надо, Семеныч, доказать. А если на то пошло, то я не меньше про тебя знаю, да и остальные тоже.
— Станичники, да что с вами? До золотишка штыка на два земли осталось, а вы, как старухи торговки из-за места на рынке, разругались. Не совестно? И торопиться надо, солнышко скоро сядет, а нам еще отсюда топать.
Ворча что-то, Ефим Брюхатов полез в яму.
Еще минут через двадцать Бреус вытащил из земли подопрелый кусок шитой золотом парчи, потом еще… забелели кости.
— Ну, Володька, отдубасить бы тебя этим ломиком! — кричал наверху Дигаев. — Почище шахтеров уродовались, а толку нет, а все из-за тебя, обормота, просил ведь, подумай получше, не торопись. Вместо драгоценностей попа какого-то откопали или монаха.
В наказание за ошибку Магалифа заставили засыпать яму. Равнодушно, так ничего и не ответив, он неловкими движениями сбрасывал грунт в яму, и Бреус с подчеркнутым дружелюбием и охотой принялся помогать ему.
— Шабаш, господа гробокопатели! — радостно объявил Дигаев. — Теперь марш-бросок в казарму, а завтра снова мародерствовать.
— Я, Георгий Семенович, уже столько лет знаю вас, — старательно выбивая полушубок, отметил Бреус, — но никак не могу привыкнуть к вашей лексике: что ни слово, то грубость, как вы можете?
— Дело, Сан Саныч, не в словесной шелухе, а в сути. Ну как еще можно назвать то, чем мы с вами сегодня занимались по вине нашего непутевого сослуживца?
— Ну, например, назовите нас искателями жемчуга, — кокетливо предложил Бреус.
— А ведь точно, Семеныч, как это мы раньше не подумали, — постучал себя по голове Ефим Брюхатов, — раз поп, значит, и жемчуг внизу должен быть, нужно было еще пару раз копнуть да земельку порасчистить. Жемчуг-то масенький, не зная, и не заметишь.
— Боже мой, — деланно ужаснулся Бреус, — куда я попал, в этом обществе каждого тянет к открытой уголовщине. Давайте поторопимся, а то уже сумерки, пока доберемся до своего уютного гнездышка к милой Гале, и так увозюкаемся по уши.
Оставив в ельнике инструменты в мешке и сидор Бреуса, они поспешили в город.
На другой день, теперь уже после обеда, они снова отправились к Чучун Мурану.
И снова, наморщив лоб, бродил по полянке Магалиф, прекрасно понимая, что еще раз ошибиться ему уже нельзя. Но внимание его было рассеянным, а мысли витали где-то совсем в другом месте. Машинально он уселся на пенек, едва заметный в сухих будыльях травы, и, закрыв глаза руками, застыл.
— Вольдемар, так где это место, по-вашему? — спросил Бреус, пытаясь вернуть его к действительности.
Магалиф молчал. Не ответил он и на окрик Дигаева, которому надоело ждать неизвестно чего.
— Тише, Георгий Семенович, — успокаивающе замахал руками Бреус, — дайте ему прийти в себя, разве вы не видите, что он после ухода Настеньки сам не свой, боюсь, как бы не кончилось все это плохо. — Затем, отойдя с Дигаевым на приличное расстояние, он добавил: — Боюсь, что в нынешнем своем состоянии Вольдемар не сумеет правильно распорядиться со своей долей сокровищ.
— С этим психом это сокровище еще нужно найти, — недовольно ответил Дигаев. — А если найдем, то в беде ни его, ни деньги не бросим.
— Да уж надеюсь, — понимающе улыбнулся Бреус.
Вдруг Магалиф встал и с удивлением, словно не понимая, как он очутился здесь, стал озираться по сторонам, будто и не замечая компаньонов.
— Вольдемар, — окликнул его Бреус, — вы кого ищете? Если нас, то мы здесь. Вы еще не вспомнили это место? — Тут Бреус бросил взгляд на пенек, с которого поднялся Магалиф, и радостно закричал: — Так вот же это раздвоенное дерево, вот оно, глядите на пенек!
И все они минут пять разглядывали старый пень с двумя спиленными стволами, расходящимися под углом, толковали о породе дерева и о его примерном возрасте.
— О чем говорить, — остановил споры Дигаев, — копать нужно, а там видно будет. Если ошиблись, — он покачал головой, — здесь работы… до лета хватит.
И снова летели в стороны мелкие смерзшиеся комья, менялись в яме усталые «искатели жемчуга», с трудом одолевая неподатливую северную землю.
В глубине показался уголок плотно пригнанного ящика с остатками облупившейся зеленой краски.
— Есть! Нашел! — заорал Ефим Брюхатов и, отбросив ломик, попытался руками отгрести грунт. Но куда там, тот словно закаменел.
— Пусти, Ефим, я теперь сам. Помогу тебе, — напористо сказал Дигаев.
— Ага, разбежался тебя пускать, как же! — возбужденно ответил Ефим Брюхатов и показал Дигаеву фигуру, свернутую из трех пальцев. — Когда просил подменить, так никого из вас не допросился, а вот нашел — и всем сюда захотелось. Теперь уж сам отрою.
И он с удвоенной энергией задолбил землю, старательно отгребая ее и выбрасывая старым печным совком, позаимствованным у Гали без ее на это разрешения.
Прилег на край ямы Дигаев, пожирая глазами каждую отвоеванную пядь, склонился Бреус, выбрав местечко посуше. И даже Магалиф подошел к разверстой земле и, по-наполеоновски сложив руки на груди, гордо, с демоническим блеском в глазах наблюдал за действиями расторопного Ефима Брюхатова. А тот, обколов со всех сторон ящик, нагнулся над ним, поставил ногу поудобнее и с силой рванул вверх. Без толку. Еще раз. Еще… Вдруг от неожиданности он с силой ударяется спиной о стену, со стоном распрямляется и подает наверх крышку давным-давно сломанного, подгнившего ящика.
— Вот черт неуклюжий, — не может сдержать себя Дигаев, — отломал. — Он с недоумением оглядывает обломок и отбрасывает его. — Копай, копай дальше, чего встал?
Ефим Брюхатов все еще охотно продолжает рыться и удачливом углу, но там пока ничего больше нет. Он углубляет все дно ямы и находит еще пару древесных обломков. Рассмотрев их, подает наверх и следом выбирается сам:
— Хватит с меня, что же я, проклятый…
Его место занимает Дигаев. Он расширяет площадку ямы, вгрызается ломиком в стены, углубляет дно.
Наверху Бреус топориком, а где и руками разминает крупные комки земли, рассматривая их и отбрасывая в сторону. В одном из комков его пальцы сквозь подтаявшую в руках землю нащупывают что-то твердое. Он молча очищает попавшийся ему овальный предмет концом мешковины. Внимательно разглядывает и громко кричит:
— Поглядите, что я нашел!
Ефим Брюхатов тянет к нему руки, но Бреус не отдает ему находки:
— Так гляди, Ефим, я еще сам не разобрался.
Наконец, нащупав какую-то кнопку, он с силой давит на нее и просовывает конец перочинного ножа в образовавшуюся щель. Следует еле слышный щелчок — и в руках Бреуса раскрывшийся брегет с потускневшим циферблатом и застывшими стрелками. Бреус уже смелее очищает его овальный корпус, пытается покрутить заводные головки. Наконец одна из них сдвигается с мертвой точки, и стрелки начинают туго поворачиваться. Вот большая — минутная — достигает шестерки, и… на старинном заброшенном кладбище слышится неуверенная, с длинными паузами, но в то же время серебряно-чистая мелодия мазурки Шопена. Через несколько секунд она затихает, растворяясь в легком сибирском ветерке.
— Позвольте взглянуть, Бреус, позвольте… — настойчиво протягивая руку, едва не вырывает брегет Магалиф, в глазах которого впервые за последние дни появляется некая осмысленность.
Он осматривает часы, а потом, без разрешения взяв из рук Бреуса перочинный нож, начинает старательно очищать крышку от налета и остатков ржавчины, перемешавшейся с землей. Вскоре становятся заметны отдельные буквы, и Магалиф еще яростнее работает кончиком ножа, однако двигает им осмысленно, стараясь не повредить буквочек, из которых уже рождаются слова.
— «Пра-пор-щи-ку Мага-ли-фу, — медленно читает Вольдемар появившуюся на серебряной крышке надпись, — от атама-на Семенова, — и, уже не глядя на текст, по памяти быстро заканчивает, — за верную службу». — Он на минуту задумывается, а потом кричит Дигаеву, безмолвно наблюдавшему из ямы за происходящим: — Финита ля комедия, господин есаул! Думаю, что искать там больше нечего. Вспомните, я рассказывал, что перед расставанием подарил эти часы деду Гришане, а дед признался, что потерял их в Якутске пятнадцать лет назад. Потерял, когда выкапывал сокровища…
— Теперь все понятно, — разочарованно говорит Бреус, помогая Дигаеву выбраться из ямы. — Даже если бы мы перекопали всю эту сопку до самого Чучун Мурана, ни золотишка, ни драгоценностей бы уже не нашли, дед Гришаня давным-давно их отсюда изъял. Вот старая бестия! Поэтому он и не хотел ехать с нами сюда! Да и чего ехать, если он заблаговременно перепрятал сокровища и, видимо, сбывает их крохотными порциями, вот на хлеб-соль ему и хватает. Думаю, господа, что нам немедленно нужно ехать к деду Гришане, пускай-ка этот скряга поделится с нами. Если уж так получилось, нужно принять его в долю, вот все мы и будем довольны.
— Куда ехать, куда? И зачем? — с тоской вздыхает Дигаев.
— Опоздали мы к деду, — подтверждает Ефим Брюхатов с явным сожалением.
— Как опоздали? — недоумевает Бреус. Но тут же на секунду замолкает. — А… вот оно в чем дело… Когда, Дигаев, вы догнали нас в тайге и от вас попахивало керосинчиком?.. Выходит, что… — никак не может выговорить главного Бреус.
— Вот именно, вот именно, — кивает головой Дигаев, — тогда-то мы с Ефимом и спалили избу, со стариком в придачу.
— Не мы с Ефимом, — старается оправдаться Брюхатов, — вы самолично все это, Семеныч, задумали и осуществили, никого не спросив и не посоветовавшись. А я что? Я в этом деле пешкой был, неразумным исполнителем. Хоть ведь предупреждал вас по-человечески, что нужно было эту избушку на курьих ножках снизу доверху перетрясти.
— Так поехали, чего тянем! — слышится голос Магалифа.
— Куда поехали, Вольдемар, что вы предлагаете? — интересуется Бреус.
— Как куда, к старику. Дед Гришаня все расскажет, вот посмотрите, с ним нужно только по-дружески потолковать, по-приятельски, а он мужик щедрый, я по полку помню.
— Сгорел Гришаня, вместе со своей Прасковьей сгорел, — внятно, как глухому, поясняет Бреус, держа прапорщика Магалифа за плечо.
— Позвольте, как сгорел? И откуда вы такое можете знать, ведь мы все время находились вместе?
— Вы, прапорщик, как будто не в своем уме, ничего не слышите, ничего не видите, как можно? Ведь только что есаул Дигаев и Ефим Брюхатов признались, что сожгли деда, когда возвращались за забытой махоркой. Ну, теперь наконец-то вы поняли, что случилось?
— Значит, золото пропало… старик сгорел, а больше никто ничего не знает? Чего же мы перлись на край света? Чего же ради я из-за вас всех и этого проклятого золота Настю потерял?! Из-за миража все потерял! — Магалиф нагнулся, не спуская глаз с Дигаева, пошарил возле себя и, схватив штыковую лопату наперевес, как винтовку, бросился на него с хохотом.
Дигаев лишь в последний момент увернулся от удара, ошарашенный даже не столько внезапным нападением, сколько этим ужасным, неуместным здесь хохотом.
Промахнувшись, Магалиф замер на месте, оперся на лопату и согнулся, сотрясаясь от истеричного, громкого смеха, который изредка прерывался сильной икотой. Потом он перевел дух и оглядел напарников:
— Значит, Гришани нет, сокровища пропали, Настя исчезла, а вы все живы? Нет, нет-нет-нет, — закричал Магалиф, — не бывать этому! — Размахивая остро заточенной лопатой, как дубинкой, он снова бросился на Дигаева. И на этот раз тому бы несдобровать, если бы Ефим Брюхатов не подставил ногу. Магалиф споткнулся и упал ничком. Падая, он рассек себе голову о боковину острия лопаты, на миг потерял сознание. Когда очнулся, на нем уже елозили Дигаев и Ефим Брюхатов, скручивая руки и беспощадно избивая. Магалиф с необычной для его телосложения яростью и силой боролся с ними, вырываясь и воя на одной протяжной ноте.
— Бреус, — кричал Дигаев, — Бреус, быстрее топор…
— Да вы что делаете, господа, — суетился вокруг дерущихся Бреус, — прекратите сейчас же, мы же все свои, хватит.
— Падлы хайларские, — рычал распятый на земле Магалиф, время от времени вырывая руку или ногу для того, чтобы садануть врагов. — Не думайте, что вам все это сойдет. Не думайте!.. Как только вырвусь, так сразу же пойду в энкэвэдэ. Пусть… пусть меня засудят, но и вас, скотов, расстреляют.
Услышав это, Бреус поднял топор за самый конец топорища и брезгливо протянул его Дигаеву. Раздался дикий, предсмертный крик Магалифа…
Служебная записка
Первого августа тысяча девятьсот двадцать восьмого года в горотдел милиции явился гражданин Карнаухов Григорий Савватеевич, он же Гришаня, вольный старатель ключа Алги. Карнаухов показал, что на заброшенном кладбище, находящемся возле горы Чучун Муран, при своем отступлении белогвардейцы закопали несколько ящиков с награбленными ценностями. Заявление им сделано из желания помочь рабоче-крестьянской власти и в признание совершенных им ранее, в силу малой грамотности и прежней несознательности, ошибок. Карнаухов добровольно указал место захоронения.
В присутствии свидетелей первая бригада под моим руководством произвела выемку означенных ценностей, которые действительно имели место быть в хорошо сохранившихся ящиках из-под артиллерийских снарядов. При раскапывании один ящик был случайно разбит, однако выпавшее золото было собрано. Прилагаю протокол о производстве выемки и опись изъятых сокровищ, которые были мною переданы по акту в Якутское отделение государственного банка.
Оперуполномоченный горотдела милиции Квасов.
Глава V НАЛЕТ
«Якутск. НКВД. Скирдину.
В районе реки Майя, притоке Алдана, появилась вооруженная банда численностью двадцать человек.
Бандиты захватили и угнали пять лошадей в подсобном хозяйстве продснаба. Возле прииска Огненного ограбили зимовье. На Алданском тракте банда совершила налет на транспорт с золотом, но была отбита.
Бандой руководит Дигаев, по непроверенным данным — бывший белогвардейский офицер. Вооружены винтовками, карабинами, револьверами и шашками.
Из имеющихся оперативных сведений видно, что бандиты пришли в район со стороны Якутска. Дигаев и два его приятеля, оформившись по поддельным документам охотниками-заготовителями в Золотопродснабе, получили продовольственный аванс и около месяца скрывались в населенных пунктах района, выдавая себя за демобилизованных, готовящихся для отправки в Красную Армию, или за охотников, добирающихся до промысловых участков.
В целях быстрейшей ликвидации банды сформирована опергруппа.
О последующем информируем дополнительно.
Начальник РО НКВД Филиппов».По понятиям военного времени, Виктор Богачук пришел домой довольно рано, еще и двух часов ночи не было. Жена, погромыхав многочисленными запорами (она боялась воров), наконец открыла и, позевывая, равнодушно поинтересовалась:
— Что это ОНА тебя сегодня ни свет ни заря отпустила?
— Не время для шуток, — устало отмахнулся Виктор, — через четыре часа я Должен быть в отделе, в командировку уезжаю.
— Ну-ну, — снисходительно кивнула головой Зина, — знаем мы эти командировки. Тебе собрать вещички или сам найдешь?
— Ложись, Зинуля, мне ведь не впервой ехать, найду что положено.
— Это на что ж ты, Виктор, намекаешь? На то, что тебе не впервой укладываться самому? Я в твоем понимании такая мегера, что и чистого белья мужу уложить не смогу? Представляю, что ты обо мне своим сослуживцам говоришь.
— Зин, — попросил Виктор, — ты бы не заводилась хоть ночью, тебе выспаться нужно, завтра с утра на работу, я бы тоже пару часиков покемарил. Устал что-то сегодня, как гончая собака.
— Ну, у нас ведь всегда так, — не сдержалась Зина, — если кто-то в семье устал, так это наверняка ты, а если отдыхал и радовался жизни, так, по твоему разумению, это я. Господи, Виктор, неужели ты не замечаешь, в какого жестокого эгоиста ты превратился? Евгений Поликарпович, наш сосед по коридору, тоже работает в органах, но он уже часов пять как дома, ужин помогал супруге готовить, с ребенком перед сном поиграл.
— Евгений Поликарпович работает в кадрах, у них там свой режим, отсидел от и до — и домой, а твой муж, Зинуля, старший уполномоченный отдела по борьбе с бандитизмом, ты это поймешь когда-нибудь или нет?
— Старая песня, Виктор, по-твоему, я такая дура, что ничего не понимаю. Зато ты для меня палец о палец не ударишь. Уедешь сегодня — и ни забот у тебя, ни хлопот; хозяйство на мне, огород на мне. Уже май месяц кончился, ну мог же ты хотя бы огород до конца вскопать? Как глазки посадили, так ты ни разу там с тяпкой и не появлялся. Что же, по-твоему, осенью картошку только мы с Митюшкой есть будем?
— Ты прости, Зина, на этой неделе у меня и минуты свободной не было, приеду — все починю, все вскопаю, что скажешь, то и сделаю. У нас поесть ничего не осталось? Перекусить бы.
— Всегда ты такой, — разжигая примус, устало отмахнулась Зинаида. — Тебе бы только поесть да на сторону, лишь мое нечеловеческое терпение спасает семью от развала. Митюшку жалко, растет без отца.
«Нечеловеческое терпение» появилось у Зинаиды совсем недавно, лет пять всего, не больше, а это совсем пустяк по сравнению с пятнадцатью годами, которые они прожили вместе. И стоило Виктору явиться домой поздно, как она закатывала ему такие истерики, что любопытные соседки охотно выходили в длинный общий коридор — послушать. Не помогали в спорах с женой объяснения о ненормированном рабочем дне, о срочной работе или поручениях руководства. Эталоном Зинаиды считался Евгений Поликарпович да еще один-два общих знакомых, которые были очень далеки от оперативной работы, а поэтому имели возможность своевременно приходить домой. Стыдно кому признаться, но однажды, когда Зине показалось, что от него пахнет духами, она тут же, возле двери, без долгих разбирательств расцарапала ему лицо ногтями, а сама, закатив бурную сцену, свалилась без чувств.
Через день после этого Виктора вызвали к заместителю начальника отдела.
— Вы не могли бы, товарищ Богачук, объяснить мне происхождение царапин на вашем лице? Упали, говорите? Ну что же, и такое бывает, примем ваше утверждение как версию. Мы, товарищ Богачук, знаем, что жена у вас нелегкий человек, с норовом, но ведь и ее можно понять. Вы уж старайтесь угодить ей, не делайте семейные взаимоотношения достоянием общественности. Если вы еще раз упадете и ушибетесь, будем серьезно наказывать вас.
— За что же, если сами поняли, какая она? Нелогично вы говорите.
— Работая в наших органах, вы обязаны помнить: имя офицера не должно быть связано ни с какими скандалами. Поэтому наша логика — это незапятнанная, безупречная честь работника НКВД. Вам все понятно?
— Тогда, товарищ подполковник, переведите меня в другой отдел, хоть в хозо, чтобы я мог приходить домой сразу же после окончания работы. Глядишь, жена и успокоится.
— Плохо знаете женщин, Богачук, — усмехнулся подполковник, — судя по всему, она вас любит, ревнует, а в сочетании с ее неокрепшим, взбалмошным характером получается такой букет, с которым нелегко справиться даже в том случае, если вы будете сидеть возле нее по двадцать четыре часа в сутки. Переводить вас мы никуда не станем, работник вы способный, энергичный, кто же от хороших сотрудников отказывается? Так что наводите в семье порядок иным способом. Попробуйте выделить немного времени для кино, для спектакля или концерта.
Виктор попытался поговорить с женой, объяснил, что из-за подобных скандалов его могут уволить из органов. Царапаться больше не стала, но истерики участились, и Виктор бегал через квартал за знакомым врачом, который терпеливо выслушивал его, собирал чемоданчик и, досыпая на ходу, шел выручать его Зинулю.
Укольчик — глядишь, она и пришла в норму.
Однажды после очередного бурного объяснения доктор попросил хозяина проводить его.
— Послушай, Виктор, ты когда-нибудь станешь мужиком или нет? Она тебя за нос водит. Я ей сейчас глюкозу сделал, ты понял? Ей мой укол как мертвому припарки, а она после него ожила, успокоилась. Ведь притворяется! Имей совесть, Виктор, не дергай ты меня, ради бога, я ведь за день устаю не меньше тебя, думаешь, госпиталь — это курорт, что ли? Ты пойми меня правильно, если случится что-то действительно серьезное, так я в любой момент…
Когда недельки через полторы жена вновь грохнулась на пол без чувств, Виктор сел в кресло, взял книгу и, едва сдерживаясь, ругая себя в душе за жестокость, сделал вид, что читает. Зина подождала немного, встала и ушла на кухню плакать. Выходит, доктор был прав…
Виктор чувствовал, что Зинаида, несмотря на все свои выходки, грубость и истерики, действительно любит его. Только любовь эта в ту пору была какой-то болезненной, едкой, отчего жизнь его становилась тусклой и невеселой. С годами жена успокаивалась, становилась ровнее. Приспособилась и свободное время проводить без него. На праздники Зинаида становилась душой любой компании, и он мог часами с любовью и восторгом наблюдать за ней, но возвращались домой — и доверительного взаимопонимания по-прежнему не было. Может быть, виной тому был и его характер, прямой, бескомпромиссный, негибкий, что нередко мешало и его продвижению по службе. Ровесники выросли до начальников отделов, а Василий Скирдин, с которым в двадцать первом году они работали следователями секретного отделения Якутской губчека, стал уже заместителем наркома их автономной республики. И вот только он все еще ходит в капитанах и не может прыгнуть выше оперуполномоченного. Впрочем, он понимает руководство и нисколько на него не в обиде. Как такому человеку доверить коллектив, если он с собственной женой никак не справится? Да и на работе, в то время как умный капитан Молодцов пожирает глазами начальство и чуть ли не бегом мчится выполнять поручения, он — Богачук — может и поспорить, и неуместный вопрос задать.
В половине шестого утра Зинаида разбудила его:
— Витя, вставай, опоздаешь.
— А чего же будильник не звонил? Я вроде бы его поставил.
— Звонил, еще как звонил, что и Митюшка проснулся было. На кухне картошка горячая, я кастрюлю в одеяло закутала, а чайник на примусе, только вскипел. Потихонечку выходи, не буди уж нас. Когда тебя ждать домой?
— Не знаю, Зина, но думаю, что за неделю-две управимся. Если задержусь, зарплату за меня сама получи, я доверенность в финхозчасти оставил.
— Ты бы письмо домой написал, а? Напиши, как дела, как чувствуешь себя. А то ведь никогда не знаю, где ты, что с тобой, когда вернешься. Вон Райка Молодцова от своего хоть раз в неделю, но обязательно получит письмо, а от тебя не дождешься. Невнимательный ты, Витя, только о работе и думаешь.
— Ну полно, полно жаловаться, Зина, я же не знал, что нужно написать. Вот сказала, теперь я запомню. Будет тебе письмо.
В дверь громко постучали.
— Приятель твой, Семка Жарких, видно, явился, по стуку определить можно. Весь дом перебудит, шальной мужик.
— Открой ему, Зина, я сейчас, только сполоснусь.
В квартиру ворвался шумный рослый Семен, с которым Богачук работал в одном отделе.
— Ты чего стучать по-человечески не научился? Все бы тебе ногами бахать, кто тебя воспитывал, Семка?
— Улица меня воспитывала, Зиночка, стройка, а потом армия. Я на фронте попытался было в двери фашистских блиндажей одним пальчиком стучать, да они меня не поняли, стрелять принялись, вот я и освоил эту невежливую манеру, теперь от нее никак отделаться не могу. Но я, Зиночка, как всякий холостяк, быстро поддаюсь выучке. Как сосватаешь мне дамочку посмазливее, так я в твои двери, как кошка лапкой, скрестись буду, правду говорю.
— Зачем же тебе посмазливее? Разве красивых на всех напасешься? Ты выбирай душевную, спокойную, с устойчивой психикой. А то вот Виктор женился на мне, на красивой, зато теперь мается, характер у меня не из легких.
— Зиночка, раз ты сама признаешься, значит, не все еще потеряно. Продолжай работать над собой, как говорит секретарь нашего парткома, а мы окажем содействие. Ну, где твое сокровище, Зинуля, никак галифе не натянет? Еще опоздаем, чего доброго. Хотя, как я теоретически предполагаю, торопиться нужно не на работу, а к раздаче наград.
— Го-то вас с Виктором ни днем, ни ночью дома не бывает. Ну ты хоть холостяк, а у него сын растет.
— Намек понял, Зинуля, как только вернемся из командировки, буду его с работы гнать за полчаса до того, как… А сам в неделю женюсь и буду вести размеренный образ жизни, стану для него примером. Вот жалко, ты уже фамилию сменила, а отбить жену у друга мне совесть не позволяет. Поэтому буду любить тебя издалека, на расстоянии.
— Болтунишка ты, Семка, — кокетливо поправила волосы у зеркала Зина.
— Нет, Зинок, я и на щедрые жесты способен. У меня ведра полтора прошлогодней картошки оставалось, я ее принес, — выдвинул он старую хозяйственную сумку, — ешьте с Митюшкой, толстейте. Когда приедем — неизвестно, пропадет еще, чего доброго, так я с горя удавлюсь. А так буду долго помнить, что доброе дело сделал, Витькину семью от истощения спас, глядишь, и мне от него что-нибудь перепадет.
— Ой, Сема, спасибо, не буду отказываться, я и вправду не знала, как до получки дотяну. Последние запасы выскребла.
Минут через десять Богачук и Жарких уже направлялись в здание наркомата.
…Заседание перед отъездом группы проводил заместитель наркома подполковник Скирдин. Был он, как всегда, краток, говорил только по существу.
— Напомню, товарищи, обстоятельства дела. Сегодня ночью начальник Аллах-Юньского райотдела НКВД сообщил, что в районе появилась вооруженная банда. Бандиты угнали на прииске Хлебном восемь лошадей, ограбили зимовье охотника. Два дня назад они совершили налет на прииск «Огонек», убили трех человек, похитили золото, приготовленное к отправке в Якутск, увели еще семь лошадей. Это все, что нам известно.
— А почему о событиях сообщили так поздно? На прииске должна быть радиостанция. Наказать бы виновных, чтобы впредь неповадно было… Как вы думаете, товарищ подполковник? — поинтересовался прикомандированный на время операции заместитель начальника паспортного отдела капитан Молодцов.
Скирдин сморщился, постучал карандашом по столу:
— Молодцов, о каком наказании может идти речь, если мы еще так мало знаем? Разберемся, а там видно будет.
— Какова численность банды? — потянул вверх руку Виктор Богачук. — Наших старых знакомых в ней нет?
— Называют разное количество: от десяти до двадцати человек, уточните на месте. Еще вопросы есть? Вы все трое: Молодцов, Богачук и Жарких — направляетесь в Аллах-Юнь в целях быстрейшей ликвидации банды. На месте сформируете опергруппу. Старшим группы назначается капитан Молодцов, его заместителем капитан Богачук. Райком партии в помощь вам выделит несколько партийцев из числа охотников и старателей, хорошо знающих местность. Ваша группа будет преследовать банду. Задача простая: бандиты должны быть арестованы, а золото, все до единого грамма, нужно вернуть государству. Напомнить, сколько стоит один танк или самолет в переводе на золото или сами знаете? Ну и хорошо.
— В районе будет действовать только наша опергруппа?
— Что за вопросы, капитан Богачук? — поторопился высказать свое начальственное мнение Молодцов. — Если понадобится, товарищ подполковник скажет нам об этом.
Не обращая внимания на реплику Молодцова, подполковник Скирдин, глядя на Богачука, ответил:
— В районы возможного продвижения бандитов, Виктор Михайлович, будут направлены еще три опергруппы, в тайге ведь пути для бандитов не заказаны, попробуй угадай сразу, куда они двинутся. Но руководство наркомата делает особую ставку на вас, на ваш опыт. Жарких нужно будет задержаться на прииске «Огонек» и восстановить точную картину бандитского налета. Ищите, старший лейтенант, людей, которые знают бандитов или смогли бы их опознать. Если все ясно, товарищи, вы свободны. Вылет самолета через полтора часа.
В полдень состоялось очередное совещание. Однако проходило оно уже в районном центре Аллах-Юне и вел его заместитель ОББ Дмитрий Квасов, который возглавил операцию на месте. Несмотря на внешность сельского учители, это был кадровый офицер, боевому прошлому которого завидовала вся молодежь отдела. Не зная его, можно было бы подумать, что этот высокий сутулый человек в очках страдает нервным тиком или же намеренно гримасничает. На самом же деле, попав в свое время в руки пепеляевцев, оставил он на допросах все свои зубы и вот уже который год мучился из-за вставных челюстей, которые мешали ему говорить и делали речь нечеткой. В кругу близких друзей он иногда пытался обходиться без зубных протезов, но его облик и речь сразу же настолько менялись, что любой разговор тут же терял свою доверительность и комкался, до тех пор пока Квасов не додумывался до причины. Губы его проваливались под нос, который, в свою очередь, заострялся и, выдаваясь вперед, напоминал не любимый детьми образ Кощея из русской народной сказки. А шепелявость и свист, сопровождавшие каждое его слово, делали речь нечленораздельной и чужой.
Заняв на правах компаньона кабинет начальника районного отделения, он собрал в нем свою гвардию и местных оперработников и на ручке сейфа, стоящего на высокой тумбочке, привесил крупномасштабную карту.
— Прежде всего, товарищи, — начал он, причмокивая, — всем нам нужно сориентироваться на местности. Поэтому я должен прочитать вам маленькую, но полезную лекцию. Рельеф района действий, как вам уже понятно, можно признать высокогорным, разница между дном долины и водоразделительными точками колеблется в пределах тысячи пятисот метров. Главные реки, которыми дренируется исследуемый участок, — Аллах-Юнь, Анча, Акачан и Юдома.
— Замысловато выражаетесь, Дмитрий Данилович, — подал голос капитан Богачук.
— Могу и проще, Виктор, — согласился Квасов, — нам придется преследовать и брать бандитов где-то на этих реках. А река Аллах-Юнь, к примеру, на широте Якутско-Охотского тракта достигает ширины в сто, а то и двести метров. Течет она в широкой плоской долине. Для любителей плавания, а ими в случае необходимости можем стать все мы, добавлю: полноводность реки регулируется большими наледями, которые не успевают стаивать за лето.
— Бр-р, уже сейчас холодно, — передернулся Жарких. — Какие страшные перспективы нам рисуете, Дмитрий Данилович.
— Что делать, мой друг, что делать, нередко в нашей работе нет выбора, поэтому лучше быть готовым ко всему. А вот река Юдома на нашем участке еще шире и многоводнее Аллах-Юня. Долина ее заболочена, с массой озер. Между озерами располагается мелкосочник, то есть невысокие холмы. Вот там трудиться будет еще сложнее, товарищи.
— Черт-те что, — опять не утерпел Семен Жарких, — не могли они ограбить прииск где-нибудь в районе Алма-Аты или Тбилиси. Какое бы облегчение для нас было: и тепло, и фрукты, по сравнению с нашими краями — просто рай.
— А на мой взгляд, дорогой Семен, рай — это место, где ты родился или вырос и где ты по-настоящему нужен, — протирая стекла очков, задумчиво сказал майор Квасов. — Я в тридцатых годах до того устал от холода, от авитаминоза и разных гриппов, что подался работать в Ташкент. И дело у меня там было интересным — уполномоченный экономического отдела Ташкентского областного отдела ОГПУ, это тебе не шутки. И с людьми познакомился золотыми, с одним сослуживцем я до сих пор переписываюсь, правда, в основном обмениваемся к праздникам поздравительными письмами, а вот не смог я обойтись без Якутии. Как только там слюнтявая краткосрочная зима наступает, так мне бегом хочется в Сибирь. Помаялся я, поскучал, да и уехал. Руководство местного ОГПУ долго не могло понять, чего же все-таки мне не хватает, отпустили неохотно. Однако мы отвлеклись, товарищи. Добавлю, что на притоках Аллах-Юня и Юдомы часты ущелистые участки на склонах, продолжительные террасы — моренные валы, крутые склоны долин в осыпях. Есть где бандитам спрятаться и отсидеться, но этого мы им позволить не должны.
— А если они в другие районы сбегут или в Хабаровский край, к примеру? — поинтересовался Виктор Богачук.
— Другие опергруппы постараются перекрыть им дорогу. Семен Жарких уезжает на прииск «Огонек» сегодня, а вы, Алеша, — обратился он к капитану Молодцову, — завершайте все дела по формированию группы, а завтра мы перебросим вас на «Огонек».
На том и порешили.
К вечеру, переговорив с добрым десятком человек и сопоставив их рассказы, старший лейтенант Семен Жарких уже мог точнее очевидцев рассказать о том, что произошло на прииске.
«Огонек» раскинулся на двух террасах сопок, разделенных узким неглубоким ущельем, по которому шумливо неслась небольшая речонка, впадавшая через несколько десятков метров в реку Юдому. Жилые дома, магазин и несколько административных строений разместились ближе к реке, а сам прииск, на котором трудилось несколько сотен рабочих, находился километрах в десяти по ущелью.
За день до налета Витька Охотников, дебильный, вечно сопливый парень лет восемнадцати, подслушав разговор двух незнакомых рабочих, которые долго бродили по улицам, ожидая открытия магазина, бегал по поселку и, брызгая слюной, сообщал каждому встречному о том, что бандиты собираются брать кассу. Над ним посмеивались, подзадоривали, требуя деталей, и тут же забывали услышанное: мало ли что взбредет в голову дурачку.
Но вот на двух связанных бревнах Юдому переплыл охотник из зимовья, по наименованию ручья, на котором оно стояло, известного как Волчье. Охотник весь день искал вдоль берега свою лодку, угнанную налетчиками, которые к тому же еще избили и ограбили его. Все, что он говорил подвыпившим мужикам на берегу, уполномоченный прииска попросил его повторить в конторе, в присутствии двух-трех своих доверенных лиц.
— А что тут говорить, — недовольно косился на уполномоченного охотник, возвращение которого в тайгу на некоторое время откладывалось, — пришли ко мне в зимовье, для знакомства прикладом ребра пересчитали. Доставай, кричат, меха, которые скопил. А откуда у меня меха, если я только на охоту вышел? Еще и обустроиться толком не успел, так у них же никакого понятия нет. Потом забрали мою бердану и заставили на веслах переправлять всю их шатию на ваш берег. Вот я их в четыре приема и переправил. Тут Лысый, они его Гошкой кличут, у меня часы отобрал. Потом слышу, его на берегу атаман отчитывает: мы, мол, Гошка, на крупное дело идем, а ты, как шпаненок, на мелочь кидаешься. Тот оправдывается, дескать, по запарке часы взял, вроде бы и не хотел. Но часы мне так и не отдал. Потом они мне приказали лодку сразу не брать, потребовали, чтоб постояла чуток.
— Какое же крупное дело они замыслили, не помял? — уточнил уполномоченный.
— Кто их знает, мне они не докладывали, а спрашивать я побоялся, вдруг, думаю, еще схлопочу зуботычину, кому это понравится?
К ночи уполномоченный прииска организовал в поселке дежурство. Охрану несли человек тридцать рабочих с охотничьими ружьями. Не веря в серьезность опасений уполномоченного, они слонялись вокруг конторы и магазина, жгли костер на берегу. Утром разошлись, рабочего-то дня никто не отменял.
Часов в одиннадцать дня, когда рабочие были уже на полигоне, а в домах оставались только женщины и дети, банда действительно налетела на прииск. Налетчики обошлись без пальбы, без криков и конского топота. Несколько человек молча окружили контору и кассу, остальные вошли в помещение. Всех присутствующих согнали в одну комнату и велели лечь на пол, ослушаться безоружные люди не посмели.
— Кто кассир? — поинтересовался атаман Семеныч.
С пола, отряхиваясь, поднялся пожилой человек, низенький, хрупкий, как мальчишка, и, если бы не усталое морщинистое лицо, увенчанное седеньким чубчиком модной прически «под полубокс», никогда бы ему не дать его возраста — пятидесяти пяти лет.
— Давай ключи, чего ждешь, — протянул руку атаман Семеныч.
— Нет у меня ключей, — развел руками кассир.
— Как нет? — удивился бандит. — Дома, что ли, забыл?
— И дома их нет. Директор прииска в Якутск поехал, вот и забрал ключи с собой.
— Ты поскладнее ничего не мог придумать? — понимающе похлопал его по плечу приятель атамана — холеный, одетый в полувоенную форму мужчина в очках. — Отдай Семенычу ключи, и тебе ничего не будет.
Кассир смущенно улыбнулся:
— Вы правы, но что тут можно придумать? А если хотите слышать правду, то никакого ключа я вам не отдам. Я несу и за деньги, и за золото, и за чеки полную ответственность.
— Какая ответственность и перед кем, когда у тебя остались считанные минуты, чтобы выбрать, что важнее: твоя собственная жизнь или чужая казна?
— Как вы не поймете, что я не имею права отдать вам ключи, там ведь государственное золото.
— Нам оно и нужно!
— Но вы сами никогда не отдали бы ключи, отвечая за золото, — с наивной искренностью убеждал бандитов кассир.
— Бросьте его уговаривать, Сан Саныч, сейчас с ним Ефим поговорит или Гошка.
— Погодите, Семеныч, попробую уговорить. — И Сан Саныч снова повернулся к кассиру: — Вот я бы, милый ты мой, сразу отдал ключи, да еще помог бы отнести золотишко к лошадям. Оно у тебя как упаковано — в мешочках?
— Да, в мешочках, только зачем вам знать это? Этот сейф весит полтонны, значит, целиком увезти его нельзя и открыть без ключа невозможно.
— Ефим, — распорядился атаман Семеныч, — берите его с Гошкой, пойдем в кассу разбираться.
Потом из кассы раздались такие душераздирающие крики, что сотрудники конторы, лежавшие на полу в бухгалтерии, еще плотнее прижались к деревянным половицам, боясь, что и их оторвут для допроса. Крики кассира становились все слабее, а бандиты, судя по их раздраженным голосам, уже нервничали, боясь упустить время.
В бухгалтерии снова появился деликатный, вежливо разговаривающий Сан Саныч.
— Попрошу всех подняться с пола и встать вдоль стены, — скомандовал он негромко.
Дважды приказ повторять не пришлось. Близоруко сощурив глаза, Сан Саныч протер очки и пристально поглядел на каждого. И тот, на ком он задерживал взгляд, замирал, как перед ударом.
— Вы все слышали, как мучился ваш товарищ. Я сожалею, что у меня не было в достаточной степени свободного времени для того, чтобы переубедить по-хорошему его. За что он умер? Скажите мне, за что? За какие идеалы? За золото? Но взамен того металла, который мы заберем, рабочие прииска намоют еще. Разве из-за того он умер, что боялся потерять свою должность? Но он всегда сумел бы на вашей родине заработать в два раза больше, не будучи кассиром.
— Для чего это вы нам говорите, гражданин бандит? — зло улыбнулся уполномоченный прииска. — Мы к кассе не имеем отношения, и вы понапрасну теряете время. Если хотите, я дам вам совет.
— Какой совет вы мне можете дать, дорогой мой? Говорите!
— Вам бы лучше уезжать подобру-поздорову. Скоро обед, и часть рабочих вернется с прииска в поселок. Боюсь, что вам может не поздоровиться. У каждого второго рабочего сын, брат или отец воюет на фронте. А это золото предназначено для покупки оружия за границей. Мы не можем его отдать.
— Я не желаю слушать вашу агитацию. Вы, вы лично знаете, где находятся ключи от сейфа?
— Никто здесь этого не знает, — угрюмо поглядел на своих товарищей по несчастью уполномоченный. — И я не знаю, а если бы знал — не сказал.
— Сиплый! Ефимушка! — ласково позвал Сан Саныч палача. — Пойди, дружок, сюда, тут еще одному нужно крепость голосовых связок проверить.
Ефим с Гошкой схватили уполномоченного и, пиная его, потащили из комнаты.
— Не надо, не смейте, бросьте его! — закричала одна из женщин. Она сжала перед собой кулачки и вся дрожала от страха перед происходящим, заливаясь слезами.
— А что вы можете предложить нам взамен, дама? — устремил на нее внимательный взгляд Сан Саныч. — Вы знаете, где ключи?
— Не смей им ничего говорить, Дарья! Замолчи сейчас же! — рвался из рук бандита уполномоченный. — Прокляну, прокляну тебя, дочка! Молчи!
Женщина отшатнулась и замолчала. Тогда атаман Семеныч, появившийся в комнате, спокойно распорядился:
— Никуда его вести не нужно, Ефим. Вгони-ка ему шомпол под ребро, чтобы он скорее заговорил, а доченька пускай полюбуется, как отец умирает.
Атаман рассчитал верно. Дарья так ничего и не сказала, но пальцем она указала на корзину для мусора, стоявшую у входа.
Заперев служащих в комнате, бандиты шумной гурьбой ушли в кассу.
Девяносто килограммов металла — золота, пистолет ТТ и карабин с патронами — забрали бандиты из сейфа, а деньги и золотые чеки они, не считая, вывалили в мешок из-под зерна и унесли во двор вьючить на лошадей. Погрузив золото, бандиты повеселели. Они быстро рассчитались с радистом, оказавшим им сопротивление, разбили аппаратуру в радиорубке и подожгли избушку вместе с несчастным. Потом, пока Гошка с Ефимом угоняли из конюшни лошадей, остальные придирчиво отбирали на складе магазина продукты: ящики с маслом, мешки с мукой и сахаром, мясные консервы и сгущенное молоко.
— Черт знает что, — ворчал Сан Саныч, — я не нашел на складе ни одного зернышка кофе. Как можно так жить? Не пойму. За полгода я не выпил ни чашечки.
— Не переживайте, Сан Саныч, — гарцуя на коне, успокоил Семеныч, — скоро вы себе сможете позволить все, чего только вашей душеньке захочется, любую роскошь.
Ушла банда в сторону деревни Ытыга, вниз по течению Юдома.
На другой день на прииск самолетом доставили оперативную группу. Высадили на подходящей поляне неподалеку от «Огонька», оттуда она быстро добралась до поселка.
— Докладывайте, старший лейтенант, что удалось выяснить за это время? — начальственным тоном приказал капитан Молодцов, который за сутки, казалось, подрос на пару сантиметров.
— Ты хочешь сказать, Алеша, чтобы я поделился с тобою информацией?
— Что за фамильярность?! Я как командир группы требую обращаться ко мне по уставу. Докладывайте!
— Да пошел ты к черту! — враз разрушил все начальнические иллюзии Молодцова Семен Жарких. — Я тебе не подчиняюсь, у меня отдельное задание. Будешь чваниться, ничего тебе не скажу. Что у тебя за манера, Алексей, только тебя выделят чуточку, доверят операцию, как ты сразу же в болванчика какого-то превращаешься: доложите, подойдите, отрапортуйте.
Поняв, что переборщил, Молодцов снисходительно улыбнулся:
— Ты уж шуток не понимаешь, парень, а еще фронтовик. Ну что ты здесь разузнал, поделись, если не секрет.
Подождав, когда начальник райотдела и капитан Богачук освободятся, Жарких подробно рассказал всей группе о том, что сумел узнать.
— Значит, всего десять бандитов, — задумчиво произнес Богачук, — а вы, Филиппов, кажется, сообщали в Якутск, что их около двадцати человек?
Начальник райотдела пожал плечами:
— У страха глаза велики. Я в том сообщении подчеркнул, что информация не проверена. Это Жарких с товарищами вмиг добрались сюда самолетом, раз, два и в дамках. Два дня назад из района отправились сотрудники райотдела, так они только сегодня к вечеру могут сюда прийти, столбовых дорог у нас в районе нет, да и рейсовые автобусы не ходят, так что, мужички, не обессудьте. А что касается имен, так ни одного не припомню. Думаю, что все бандиты в нашем районе люди случайные.
— Случайные бы уже заблудились. А эти ориентируются неплохо, неделю назад были на прииске Юр, потом сюда забрались, а где они ныне? — вздохнул Молодцов. — Видно, есть среди них местный человечек, он и на кассу навел.
— Выслушал я рассказ Жарких и никак не могу отделаться от мысли, что уже где-то слыхал и о Сан Саныче, и Семеныче, и Ефиме, — вопросительно поглядел на собеседников капитан Богачук. — Ну, предположим, Сема Жарких в наших краях человек новый, с него и спрос соответствующий. А вам эти имена, описание внешности людей ни о чем не говорят? Ну? Филиппов, Молодцов, подумайте!
— Не опережайте события, капитан Богачук, кому надо — и вспомнят, и разберутся, а вам сейчас о людях подумать надо, расквартировать, ужин обеспечить. Без напоминаний учитесь работать.
— Пока ты, Алеша, окрестностями любовался и с Жарких спорил, мы с Филипповым уже все сделали. Группу разместили в клубе, там же и перекусим, костерчик уже наладили.
Жарких ушел к радисту опергруппы готовить передачу в Якутск о первых итогах своей работы. Богачук с Филипповым отправились поглядеть место происшествия: контору и кассу, захваченные бандитами. А Молодцов, заложив правую руку за портупею и сощурив глаза, отчего они у него становились, по его мнению, суровыми и всевидящими, решил прогуляться по поселку, поговорить с людьми.
В результате его прогулки через три часа несколько жителей поселка уже были арестованы и сидели возле клуба под охраной, ожидая, пока для их содержания найдется более подходящее место.
— За что ты их арестовал? — поинтересовался у Молодцова капитан Богачук.
— Ну, подумай сам, садовая голова, за что их можно было арестовать, — довольным тоном отвечал ему капитан Молодцов, — за пособничество бандитам. Жарких здесь прослонялся целый день, а соучастников выявить так и не сумел. Но ничего, я его ошибку уже исправил. Однако доложить об его инертности руководству наркомата — обязательно доложу.
Минут через десять появился и сам Жарких.
— Слушай, Леша, что случилось? Почему ты задержал людей?
— За связь с бандитами и поддержку, которую они им оказали. Неужели тебе это непонятно?
— Дарья из бухгалтерии и так до сих пор не может в себя прийти после всей этой жуткой истории. Такие события женщине пережить! Это же надо понимать!
— Вот и думала бы, когда ключи от сейфа бандитам отдавала. Теперь пускай расхлебывает. Вот интересно, почему ты ее сразу не арестовал? На смазливенькое личико клюнул? Знаешь, как это называется?
— Да ты мне-то дело не шей, Алексей. Подумал бы сам головой, девка ведь от страха, от горя указала на ключи. Они же почти на глазах у женщин кассира убили.
— Кассир выдержал пытки и не сказал ничего, хотя и знал, что они его убьют.
— Кассир погиб как герой. Его именем, может быть, когда-нибудь еще и прииск назовут, мужик был что надо. Но разве могут быть героями все? На ее глазах отца хотели пытать, тут железным надо быть, чтобы промолчать. Ключ все равно бы нашли, о том, куда его кассир бросил, все присутствующие в конторе знали.
— Ты что здесь пропагандируешь, Жарких? Что значит — не все могут быть героями? Если надо, если им прикажут, то обязаны стать! Таково время.
— Да не было с ними в то время такого указчика, как ты. Может быть, и Дарья сможет совершить в бою подвиг, но ведь для этого и условия, и душевный подъем должны быть. Я, Алексей, на фронте сам видел, как здоровенный мужик, бывший грузчик, поначалу плакал в окопе, смерти боялся. Зато через три месяца его не узнать было — лучший разведчик полка. А тут молодая баба, кровь, смерть, отца родного пытать собрались. Ну посуди, а если бы над твоей матерью издевались.
Молодцов опешил от такого поворота и уже не так уверенно ответил:
— Если бы да кабы… Ишь закидоны у тебя какие. Указала ключи, вот теперь пускай посидит, подумает.
— Никакими доводами тебя не проймешь, Молодцов, толстошкурый ты. Даже если Дарья виновата, то зачем ее сейчас под замком держать? Она ведь не опасна, вреда не принесет, пускай живет нормально, суда-следствия ждет.
— Нет уж, пусть посидит, чтобы другим неповадно было. И ей урок, впредь умнее будет, не пойдет на поводу у бандитской шайки.
— Ты что думаешь, ей с бандитами еще когда-нибудь встретиться придется? Если такое случится, так нас с тобой наказывать нужно будет…
— Ты в нашей работе пока еще мало соображаешь, Жарких. Это тебе не на фронте, здесь и гибкость нужна, и хитринка, и беспощадная суровость.
— А почему Наумова арестовал? За какие такие грехи? Он чем твою беспощадность заслужил?
— Ну, ты как маленький, Жарких, — хмыкнул Молодцов, — все тебе объясняй, все рассказывай, а мы ведь не в школе сержантов войск НКВД. Тебе же за звездочки на погонах платят, сам должен мозгами шевелить. Наумов — рабочий магазина Золотопродснаба, который бандиты ограбили, — снисходительно поглядел Молодцов на Жарких. — Они на складе вмиг разобрались, что к чему, не стали, к примеру, растительное масло брать, прихватили сливочное.
— Ты в этом складе был? Помещение большое, а продуктов горка. Сразу видно, где что лежит. Наумов во время налета в соседнем бараке спал. Он услышал о бандитах, только когда они уже уезжали из поселка. Свидетели подтверждают его показания.
Молодцов сам успел допросить Наумова и прекрасно знал все, о чем ему рассказал Жарких. Наумов ему тоже показался простым человеком, незаметным, ограниченным, вялым. Когда не было дел на складе магазина, он отправлялся с лотком в бригаду мыть золотишко в заброшенных хвостах. «Вот вкалывал до этого, ни черта не мог найти, хоть весь поселок перебери, — жаловался он Молодцову, — а недавно заработал тысячу рублей бонами, и тут же арестовали. Невезуха». Но Молодцов и здесь не поддался чувству жалости. Наумов может быть пособником бандитов. Близок к конторе, вроде бы тих — чего лучше для маскировки.
Третьим арестовали сторожа магазина Дудакова, тоже не из затейливых.
Сейчас он сидел на корточках, прислонившись спиной к стене клуба, и, часто моргая больными закисшими глазами, торопился повторить свою историю капитану Богачуку, который слушал его не перебивая.
— Часов в одиннадцать налетела банда. Кто в контору, кто в магазин. Ну о том, что в кассе было, я потом узнал, а у нас в помещении они закрыли ставни на окнах, на дверях бумажку вывесили, переучет, мол. Стали брать необходимые им продукты. Я свое ружье в сторонку отставил и по просьбе энтих стал им помогать вытаскивать из магазина муку, пряники, конфекты и приторачивать все к седлам лошадей. Вначале-то они меня спиртом напоили, пей, говорят, старик: я, конечно, выпил. Дал им седло наше, магазинное, они из-за него хотели к продавцу на дом идти, громить его. Чего, думаю, людей будут на дому беспокоить, еще сопрут что-нибудь, вот и отдал. Да вы не подумайте чего худого, там не седло, а беда. Оно уже давно разошлось, плоским стало из-за ленчика. Как кобыла под седлом пройдет разок, так глядишь — холка сбита, а кобыла бюллетенит. Перед отъездом мне предложили выпить еще одну полную кружку неразведенного спирта, я и ее выпил, чего добру пропадать. После этого уж ничего не помню. Говорят, что я окно в своей избе выламывал, бабку ругал, кричал что-то. Но сейчас во всем этом честно признался, так что никуда не денешься.
Двое других задержанных, по всему видно, были случайными свидетелями.
— Алексей, можно тебя на минуточку, — отозвал Богачук Молодцова в сторонку.
Тот поднялся неохотно, всем своим видом показывая, что мог бы и не идти, но он окажет такое одолжение.
— Может быть, не будем лошадей ждать, а отправимся сразу по следам? Нельзя нам время терять, вот попомни мое слово, начальство из Якутска сегодня по рации браниться будет. Да и поделом — золото пропало, это тебе не рваную простынь с чердака стянули.
Упоминание о начальстве подействовало на Молодцова. Он лениво хлестал себя по сапогу хворостиной, не торопясь с ответом.
— Они на лошадях, а мы пешком — так не скоро догоним, только люди устанут. Это не выход, капитан Богачук.
— Давай на две группы разделимся. Я вперед пойду, а ты подождешь коней, потом нас догонишь. У меня такое чувство, Алексей, что не могли они еще далеко уйти. Старатели рассказывали, что кто-то из охотников в прошлом году видел Гошку-бандита у зимовья Мишки, это возле рассохи, там, где речушка Утайка в Юдому впадает. Если так, они могут сейчас сидеть себе спокойненько, в зимовье погоню пережидать, к дальнему переходу готовиться. Я, может, там их и прихвачу.
— Подумать надо, капитан, не могу же я такое ответственное решение на бегу принимать. Давай радиосеанса с Якутском дождемся, с руководством обсудим, что да как.
— Что ты тут тумана напускаешь, Лешка? Время идет, начальство за это по головке не погладит.
— Хорошо, уговорил, только давай мы с тобой наоборот поступим: я по следам банды пойду, до зимовья Мишки, а ты дождись лошадей, сдай арестованных и со второй частью отряда догоняй меня, понял? Рацию я с собой возьму, буду держать руководство в курсе преследования.
— Задержанных я бы на твоем месте, Алексей, отпустил. С ними же все ясно. Допустим, в действиях сторожа Дудакова и суд найдет криминал, но Дарью с Наумовым и остальных напрасно под стражей содержишь. Освободи их, не бери грех на душу. Если Дарья от нервных потрясений и от позора залезет в петлю, это сколько же разговоров будет? Подумал?
— Чего ты меня все учишь, капитан Богачук? Кого из нас старшим поставили, тебя или меня? Если меня, то я в советах не нуждаюсь. Я сеть с мелкой ячейкой в воду запустил и полюбуйся — вытащил живность, теперь разберемся, кто из них виноват, кто прав. А ты только языком чешешь. Пособников врага я жалеть не стану, ты меня знаешь.
— Ну и я тебя с твоими загибами оправдывать не буду, ты меня тоже знаешь. Если сегодня их не выпустишь, то я во время радиосеанса в Якутск доложу.
— Жаль, что помочь тебе ничем не смогу, — с самоуверенном улыбкой парировал Молодцов. — Я бы тебе оставил рацию, но она мне самому нужна. Ладно! Хватит терять время, капитан Богачук, соберите в клубе личный состав оперотряда, я должен проинструктировать люден.
Минут через пять все были в сборе. Капитан Молодцов солидно откашлялся, не торопясь расправил гимнастерку под широким кожаным ремнем.
— Вы, товарищи, уже несколько часов в поселке. И поесть успели, и с местными достопримечательностями познакомились. Зато я ни минуты покоя не имел. Сам работал и своим помощникам, — кивнул он в сторону Богачука и Жарких, — поручений надавал. Удалось выявить нескольких пособников врага, прояснить обстоятельства этого дела, узнать приметы и клички бандитов. Сделано много. Но это не значит, что мы теперь должны сидеть и ждать, пока нам приведут лошадей, чтобы на них продолжать погоню. По моим сведениям, банда вполне может сделать передышку перед дальним марш-броском по тайге; место известно — километрах в тридцати отсюда. Отряд мы сейчас разделим на две части. Половина отправится со мной для преследования, а если понадобится — и уничтожения банды. В поселке останется часть группы, которая, дождавшись обоза, догонит нас. Командиром назначаю своего заместителя капитана Богачука. Соответствующие указания я ему уже дал. — И, копируя манеру заместителя наркома полковника Скирдина, он снял с руки часы, не торопясь завел их и тогда только распорядился: — Если все ясно, товарищи, вы свободны. Отправление из поселка, — он постучал по стеклышку часов ногтем, — через полчаса.
Отряд ушел, а Богачук, Жарких и присоединившийся к ним младший оперуполномоченный местного райотдела Петр Афонский отправились на прииск, по баракам и жилым домам отыскивать очевидцев, с которыми еще не успели поговорить, чтобы уточнить и осмыслить детали налета, познакомиться с людьми и расспросить о событиях, предшествовавших трагическим событиям. Но число свидетелей резко убавилось после арестов, которые провел Молодцов, и даже те, кого видели неподалеку от центра поселка в злосчастное время, неохотно давали показания, ссылаясь на плохую память. Вот и из очередного барака Жарких вышел несолоно хлебавши: рабочие дружно утверждали, что все в тот день находились на промывке и в бараке не оставалось даже дежурного. Уже под взлобком, на котором стоял барак, Жарких окликнули. Его догоняла молодая женщина, несмотря на летний зной, закутавшая лицо едва ли не по глаза цветастым платком.
Работала она мамкой в бригаде Старикова и уже несколько раз попадалась на пути Жарких, отчего он самоуверенно подумал, уж не понравился ли он ей? А почему бы и нет, чем он парень нехорош? Пожалуй, дело портит только лиловый шрам, рассекший его широкий, массивный лоб до брови, отчего лицо приобрело лукавое выражение, будто он все время игриво подмигивает.
— Чего лицо укутала, мамка? — шутливо потянул Жарких за кончик платка.
— От солнца, отчего же, — ответила девушка, хлопнув Жарких по рукам, — спалит кожу, ходи потом с шелушащимся носом.
— Ну и модница ты, таких сейчас и в городе не сыщешь! Народ воюет, а она о красоте думает.
— Так не вечно воевать, чего же женихов отпугивать.
— Бойкая ты девка, не успели мы с тобой и на лавочке посидеть, а ты меня уже в женихи произвела. Под таким натиском я, пожалуй, и не сдержусь, дам вскорости согласие на законный брак.
— Тю, жених нашелся, — хмыкнула девушка, — тебе небось за тридцать? Да? Зачем мне такой старик. Я помоложе хочу, ровесника. А таких, как ты, у нас в бригаде пятьдесят человек. И получше тебя есть, им только мигни.
— Чего же ты в такой мужской монастырь работать пошла? Обидеть могут, принесешь в подоле, так мать из дому выгонит.
— Дурак ты, хоть и при должности. Я у них одна, они меня берегут, балуют, — похвасталась девушка, — а если кто только подумает ссильничать, так его братан в старый шурф сбросит. Стариков мой брат, бригадир.
— Чего же ты за мной по поселку гоняешься? — с обидой спросил Жарких.
— По делу, помочь тебе хочу, только у меня условие есть. Примешь, скажу, а нет, так иди себе с богом.
— Принимаю с ходу! — уверил ее Жарких. — Твое условие — мое условие, как у нас в роте один грузин говорил.
— Освободи Дарью, чего вы ее схватили? Как бандитку какую под ружьем держите, стыд какой!
— Думаешь, она не виновата?
— Мужики золото не устерегли, а на девку пеняют; что, слабее себя нашли? И отец с ней не разговаривает. Проклял, старый олух, а за что? За то, что она его от мук спасла? Ты вот после нашего разговора, только не сразу, а хоть через час, вернись снова в барак и потолкуй с Егором Паркаевым. Он сказал, будто хорошо знает одного из бандитов, даже имя его называл.
— Что же этот Паркаев такой несознательный? Пришел бы и рассказал сам.
— Он и хотел, а когда вы стали народ хватать, он испугался. Говорит, посадят ни за что ни про что, а у него в Аллах-Юне детишки.
— Как тебя зовут-то, девонька? Полчаса с тобой разговариваю, а все еще не познакомились, — протянул Жарких девушке руку.
— Еще чего придумал, за руки держаться, а если увидят, что скажут?
— Скажут, за руку девку брал — женись! Ты сама откуда, куда сватов засылать?
— Из Чертова Улова я, деревня таежная, в ста километрах отсюда. А зовут Надеждой, только мне твои сваты ни к чему, я ведь сказала, старый ты для меня. А ты что, на фронте был? Где это тебя, бедненького, так задело? — Она легонько, лишь на какое-то мгновение прикоснулась пальчиками к шраму на лбу у Жарких, и ему показалось, что боль в голове, беспокоившая его с утра, сразу утихла. Он потянулся к ней и тут же получил ощутимый толчок остреньким локотком.
— Но-но!.. Так помни, ты обещал Дарью отпустить. Похлопочи за нее. Хорошая девка, ей, кто понимает, так цены нету. И не замужем, понял?
— И ты не забудь, что меня Семеном зовут, а фамилия Жарких, — кричал он вслед.
Когда некоторое время спустя Жарких зашел в барак, к его огромному огорчению, Надежды там не было. Отсутствовал и Егор Паркаев. Бригадир Стариков сидел на краешке длинных, во всю стену нар и, опустив ноги в тазик с желтоватого цвета водой, громко кряхтел. Рядом с ним стоял огромный чайник, из которого вилась струйка пара.
— Понравилось тебе у нас, начальник? Или ты тоже пришел ноги попарить в пихтовом отваре? Садись, я подвинусь, жалко, что ли. У тебя работа не лучше нашей, весь день на ногах, да все вприпрыжечку. А пихтовый отвар боль и усталость снимает.
Тазик из-за его ножищ казался непропорционально маленьким, и Жарких улыбнулся.
— Попарил бы, да не поместимся. Ты лучше скажи, где Паркаев?
— Чего это он вдруг тебе понадобился?
— Разговор к нему есть, лучше с глазу на глаз, но могу и в твоем присутствии парой слов перекинуться.
— Вот чертова девка, болтанула все-таки! Ведь просил ее, не вмешивай мужика и сама подальше будь, нет, мокрохвостая, влезла. В шурфе Паркаев, где ему еще быть. Со смены придет, пришлю его к тебе в клуб. Только ты не стращай мужика, попробуй понять его. Вот прибрось: не дай бог вы не поймаете банду, а в ней узнают, что Паркаев вам наболтал. Этого он и боится.
— Поймаем, Стариков, обязательно мы их поймаем. Я вот удивляюсь, как это вы их прошляпили. Восемьсот работяг на прииске, а десятка ублюдков побоялись.
Стариков усмехнулся:
— Да если бы мы в это время в поселке были, от них мокрого места не осталось бы, потому они и выбрались утречком, знают, что с рабочим людом лучше не связываться. А вот вас они долго будут по тайге водить.
— Почему это ты так решил?
— Тайги вы не знаете, понаехали, понимаешь, из города. Пока вы тут кого попало хватать будете, они за тридевять земель ускакают. А вы попытайтесь к старателям с душой подойти, с тонким обращением, помощи у них попросите, не стесняйтесь, они с охотой помогут. В тайге ворья не любят. Если понял, иди с богом. И еще, паря, совет на прощание: к Надежде больше не подходи, не смущай девку разговорами.
— Да ты откуда знаешь?
— А у меня свои энкэвэдэ есть, когда надо — докладывают.
Вечером в клуб пришел Егор Паркаев.
— Знаешь, зачем я тебя сюда позвал? — поинтересовался Жарких.
— А чего ж не знать, — открыто улыбнулся Паркаев, — Денис Стариков рассказал, велел обо всем доложить. Так что спрашивай, чека.
— Кого из банды знаешь?
— Гошку знаю.
— А фамилия как? Где познакомились? Как он выглядит? — поторопил его присутствовавший при разговоре капитан Богачук.
— Фамилии не знаю, — пожал плечами Паркаев. — Слышал, что он из Якутска родом, но в наших краях часто бывал и раньше. Он по знакомству коронки делает, зубы вставляет. Отсюда и кличут — Зуботехник.
— Как вставляет, в больнице или нелегально? — заинтересовался Жарких.
— Раньше, говорили, в больнице работал. А потом с золотом связался, его и посадили. Сбежал он вроде. У нас в районе про него всякое болтали.
— А как выглядит?
— Лысый такой, а в середине головы плешь светлым пятном выделяется.
— Он! — переглянулись офицеры. — Гошка косолапый, ногами внутрь загребает? — вдруг уточнил Жарких.
— Ага. Коронки он делает хорошо, ничего не скажу. А зубы дергает больно. Меня мужики предупредили, ты, говорят, терпи, не подавай вида, что тебе больно, и кричать не вздумай, а то он заводной, как почувствует, что клиенту страшно, так с подковыркой рвет, подольше; бедняга до визга доходит, а ему в радость. Псих, одним словом, но мастер хороший. Во-о-о, — ощерился мужик, — поставил мне зуб с коронкой, так я никаких хлопот уже несколько лет не знаю. Но избави меня господи еще раз к нему в руки попасть! Говорят, что старика кассира Гошка до смерти запытал?
Когда Паркаев ушел, Жарких сообщил капитану Богачуку:
— Выходит, Витя, я тоже знаю этого Гошку. Хорошо знаю, его фамилия Налимов. Мы с ним в одном общежитии в Якутске жили. Не помню, рассказывал тебе или нет? До армии я в строительном управлении работал, сначала печником, потом в бетонщики перебрался. Мы с Гошкой недельки две даже в одной комнате квартировали, а потом он нашему коменданту чуть ли не всю челюсть у себя в поликлинике привел в порядок, тот его за такую услугу поселил отдельно в комнатушке. Когда ребята подняли шум, комендант пояснил: мол, медик, и лекцию может прочитать о достижениях медицины, и любому врачу порекомендовать внимательнее относиться к работникам нашего управления, и медицинский бюллетень в общежитии выпустить. Я был доволен тем, что он отселился. К нему столько народу приходило, хоть караул кричи. Кто за консультацией, кто с просьбой без очереди на протезирование устроить. А мне его гости учиться мешали, я тогда вечернюю школу кончал. Он как ключи от своей комнаты получил, так попросил меня ремонт в ней сделать, я от радости, что он уходит, ему даже накат на меловой основе сделал. Это, знаешь, какой шик — накат елочкой! Хотел мне деньги за помощь дать, но я отказался, неловко как-то было со своего брать. Ну, говорит он мне, если зуб заболит или зашатается, приходи, по знакомству так вырву, что и не заметишь.
— Как же ты в нем не разгадал тогда гниду такую?
— Смеешься, что ли? Как отгадать можно? Он ведь все с улыбкой делал, она у него как приклеенная. У меня теперь после ранения голова часто болит, так до улыбок ли тут? А он, бывало, все лыбится, чудно. Но злой мужик был. У нас как-то в общежитии драка случилась. Все как люди, кулаками друг друга мутузят, а он сбил парнишку и давай его сапогом по голове бить. Я мужик здоровый, а, веришь — нет, с трудом его оттащил, в такую лютую ярость он вошел.
— А говоришь, разгадать трудно. Хорошему человеку трудно бандитом стать. Такая мразь рано или поздно покажет свое нутро, даже сквозь приклеенную улыбочку.
— Да, вот как оно, оказывается, бывает. Жил с ним под одной крышей, даже кровати рядышком стояли, а теперь ловить подлеца нужно, может быть, и допрашивать придется. Ей-богу, на фронте проще, там через передовую ползешь и знаешь: своих тут нет.
— А у нас тоже среди бандитов своих нет и быть не может. Как перешагнул закон, так пожалуйте бриться, — зло сказал Богачук. — Его при тебе посадили?
— Нет, к тому времени мне как ударнику комнату в коммуналке дали. Полгода всего и пожил в шикарных условиях, а потом война. Меня, как имеющего среднее образование, сразу направили в военное училище, а оттуда уже с офицерскими кубарями на фронт.
— Если тебе в него, к примеру, стрелять придется, не дрогнет рука? — прощупывал Семена Жарких капитан Богачук. — Ты, если слабинку в себе чувствуешь, скажи, не стесняйся, найдем какой-нибудь выход.
— С чего это моя рука должна дрогнуть, скажи на милость? Ты ведь сам только что говорил, что у нас среди бандитов своих не может быть. Он мне не отец, не брат, так что не переживай.
— А если бы на его месте отец или брат оказался, тогда как бы ты поступил? — не отставал Богачук.
— Тут ты хватил! Непрост ты, Виктор! То вежливый, заботливый, а то такие подковыристые вопросики подбрасываешь, что голову впору сломать, решая их. У меня такого быть не может. Единственный брат в первый год войны погиб. А отец умер, когда я мальцом был.
— Ну а если бы живы были и в банде оказались?
— Тьфу ты, репей несчастный, — выругался Семен Жарких, — что ты от меня хочешь услышать? Не стал бы я стрелять ни в брата, ни в отца, вот хоть убей ты меня здесь на месте, но стрелять бы не стал, — убежденно повторил Жарких. — От участия в деле отказался бы или рапорт об увольнении из органов подал, но поднять руку на родных не сумел бы. Теперь докладывай о моем мнении куда хочешь, а я все то же повторю.
— Дурак ты, Семен, зачем же мне куда-то докладывать, хреново ты обо мне думаешь. Я для себя хотел выяснить.
— Выяснил, и что?
— Вижу, что ты еще слабоват в коленках. Не проникся важностью нашей службы.
— Не пойму я тебя, Богачук. Ты же сам Молодцова ругал за то, что он арестовал Дарью. Она отца защищала, значит, по твоей теории, должна нести ответственность или хотя бы вину за это чувствовать. Выходит, прав Молодцов.
— При чем тут Дарья? Во-первых, она женщина, а во-вторых, простой человек, то есть который не служит в органах, какой с нее спрос? Ты ее воспитай, задачу перед ней поставь, тогда она, может быть, подвиг Зои Космодемьянской повторит. А с нас, кадровых офицеров, спрос должен быть куда строже. — Богачук поднялся с места, взволнованно заходил по комнате, говоря с большими паузами.
— Хорошо, Богачук, мою позицию выяснили. Добавлю только, что, на мой взгляд, государство сильно миллионами семей, крепких семей, в которых каждый уверен в том, что его в любой момент поддержать может мать, сестра или брат. А теперь отвечай: сам бы ты как поступил? Чего молчишь? Меня ведь выспрашивал?
— Не зна-аю! — по слогам произнес Богачук. — Прости, друг, действительно не знаю. И тебе такой вопрос по глупости задавал. По Уставу мне понятно, как поступить. Но вот представить себе, что такое могло бы произойти, а тем более как я бы себя повел, — не могу.
— Так какого же черта ты мне мозги полоскал?
— По недомыслию, значит. Обещаю никогда больше не вести таких разговоров, от которых не только у тебя, но и у меня башка затрещала.
Поздно вечером умельцы из оперотряда, включенные в него в районном центре, сумели отремонтировать радиостанцию прииска, поврежденную бандитами и едва не сгоревшую, благо рабочие успели потушить пожар. Однако брала она не все волны, и наладить прямую связь с Якутском не удалось. Связались с Аллах-Юнем. К счастью, заместитель начальника ОББ майор Квасов был еще в районе.
Обменявшись приветствиями и информацией общего плана, перешли на местный шифр.
— По имеющимся сведениям, — сообщил майор Квасов, — действовавшая на прииске «Огонек» банда пошла вниз по течению Юдомы. Не исключено, что бандиты группой, а возможно, и поодиночке попытаются выйти на водораздел к Аллах-Юню. В целях обнаружения и поимки бандитов на обслуживаемой территории вам необходимо сейчас приступить к проведению следующих мероприятий: в устье реки Утайки выставить заслон, провести усиленную разведку, то же самое проделать в сторону ключа Дагор. Организовать проверку документов у всех проезжающих на судах и прочих плавательных средствах по Юдоме, а также у всех подозрительных лиц, пробирающихся берегом. Не имеющих документов задерживать.
— Все поняли, — отвечал майору капитан Богачук. — Получили аналогичную информацию. Молодцов с большей частью опергруппы ушел к Утайке. Завтра утром, как только в поселок пригонят лошадей, с оставшимися бойцами ухожу следом за основным составом группы. Докладываю, что по делу банды Молодцов арестовал пять человек, о чем вам, вероятно, не сообщил. Считаю эти действия неправильными и вредными, прошу принять немедленные меры по исправлению ошибки, так как арестованы люди, которых нецелесообразно держать под стражей. Думаю, что следствие по делу банды лучше вести в районном отделе НКВД.
В конце радиограммы Богачук сообщал имена, клички и приметы бандитов, подробно остановился на Гошке Налимове, подчеркнув, что его хорошо знает старший лейтенант Жарких.
Это сообщение пришлось по душе Квасову, бандиты теряли маски, значит, работать с ними становилось несколько легче.
В заключение Квасов просил начальника районного отдела вместе с Богачуком выяснить, насколько обоснованны аресты, произведенные Молодцовым, и в случае необходимости отпустить людей.
— Ну, что я тебе говорил, — довольно обратился Богачук к Жарких, когда они вышли из будки радиста. — У Квасова светлая голова, он противозаконные действия нашего маленького наполеона поддерживать не станет, так-то.
— Я иного и не ожидал.
Не откладывая в долгий ящик, втроем допросили арестованных капитаном Молодцовым, составив подробные протоколы. Всех решили отпустить до особого распоряжения. После этого Семен Жарких долго слонялся по поселку в районе барака, занимаемого бригадой Дениса Старикова. Но Надежда так и не вышла, а самому являться в барак третий раз за день показалось неудобным. И ни за что бы Семен Жарких не согласился, если бы ему сказали, что бродит он из-за того, чтобы увидеть красивые карие глаза и услышать девичий голосок. При чем тут голосок? Обещал восстановить справедливость — и вот, пожалуйста, Дарья на свободе. Жарких слов на ветер не бросает.
Ночью, когда бойцы оперативного отряда уснули, Жарких еще долго донимал капитана Богачука вопросами.
— Слушай, Виктор, ты не спишь?
— Теперь не сплю, раз разбудил.
— Прости, не хотел. Скажи, а ты на своей Зинаиде по любви женился?
— С чего это ты такое спрашиваешь? Или пригрезилась будущая жена и ты от этого кошмара проснулся? Могу успокоить: среди женщин не больше пяти процентов мегер, остальные нормальные и достойные любви женщины. Поэтому спи спокойно, тебе обязательно повезет.
— Ты все зубоскалишь, Витя, а я серьезно. Рассказал бы.
— Вот выловим банду, Сема, тогда на досуге я тебе все расскажу, а сейчас разве только в двух словах: я же не граф какой-нибудь там, который из-за приданого женился; и не племенной жеребец, которого для этого самого дела держат. Любил я свою Зинаиду, Сема, так, что аж дух захватывало, когда хотя бы голос ее слышал. Меня как-то в Иркутск на курсы повышения квалификации отправили, так я из-за тоски на них не доучился, сбежал домой. Еле-еле дело о моем побеге в отделе замяли, а то уж хотели выговор в приказе дать за недисциплинированность. Но в служебную характеристику этот факт вставили, наверное, и сейчас в личном деле запись сохранилась.
— Чего ж ты с Зиной все не поделишь? Женщина она красивая, хозяйственная, Митюшку любит, на других не глядит, чего тебе, Виктор, еще нужно? Ну, побурчит иногда на тебя, а ты не подавай виду, что тебе это не нравится, перетерпи.
— С чего это ты меня учить взялся? Сначала наберись опыту, познай на деле, что такое семья, а там поговорим. Неспроста ты обо всем этом заговорил, Сема, признайся. Уж не Дарья ли тебе приглянулась? Что ж, одобряю, видная женщина. И отец у нее твердых убеждений, для семьи чекиста лучше тестя не придумать. Банду переловим, а там я готов сватом ехать.
— Не то говоришь, Виктор. Какая там Дарья! Симпатичная она девушка, согласен, но не в моем вкусе. Мне бы, понимаешь, такую… пониже меня ростом и с глазами большими, карими. Чтобы посмотрела и навек бы покой потерял…
— Спи, Сема, хватит болтать. А о благополучной семейной жизни тебе лучше с Молодцовым поговорить. Для него семья на первом месте, недаром же моя Зинаида так его жене завидует. Ты только заикнись об этом, для него лучше темы для разговора не придумать, соловьем будет заливаться, у него в голосе сразу доброта появится, засюсюкает словами с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Думаю, что, если бы была на свете такая должность — семейный человек, так кандидатуры лучше Алешки Молодцова на нее не сыскать.
Глава VI НЕУДАЧИ
«Принято по прямому в двадцать часов пятьдесят минут местного. Расшифровать немедленно. Якутск. НКВД. Скирдину.
Получено сообщение о том, что первого августа в десять утра банда в составе пяти человек замечена ниже Сарданаха. Вооружены карабинами. Имеют двух собак. Могут произвести нападение на базы по трассе, где имеются разбросанные грузы. Квасов».
«Якутск. НКВД. Скирдину.
Данные Квасова проверяем. Отряд могу отправить только завтра. Пять человек, больше полуглиссер не поднимает. Мое мнение, подождать до проверки, только после этого решать. Жду указаний. Вечером выйду на связь. Гончаров».
«Квасову. Из Якутска.
Гончаров сообщил, что данные о появлении банды на Сарданахе не подтвердились. Проверка выяснила, что это были не бандиты, а охотники. Требуйте от подчиненных тщательнее уточнять факты. Данных о местонахождении банды пока не имеем. Скирдин».
…Следующий день для группы капитана Молодцова был не из легких. Отшагав изрядно километров, решили устраиваться на обед. Командир выставил охранение, назначил дневального, который, распалив костер, занялся приготовлением немудреной еды, а сам, велев расисту готовить аппаратуру для сеанса, подошел к остальным бойцам, развалившимся на травке. Группа эта была довольно разношерстной по составу: старатели с окрестных приисков, инспектор райфинотдела, колхозники, волею случая ставшие в военное время охотниками-промысловиками, так как профессионалов-охотников призвали в армию. Люди местные, знающие тайгу и цену рабочей копейке, но боевым опытом они похвалиться не могли. Вот разве еще два солдатика из числа новобранцев внутренних войск, закрепленных за группой…
— Товарищи! — обратился к отряду капитан Молодцов. — Вы еще успеете полежать, пообедать, я вам для этого выделю часик свободного времени, а сейчас, пока я буду связываться с руководством в Якутске, сделайте марш-бросок по окрестностям, оглядитесь получше, чтобы ни землянку, ни следы костра, ни примятую веточку, ни травинку не прозевать. Нам теперь втройне осторожными надо быть, бандиты за любым кустом оказаться могут. Через час жду всех на обед. — Старшим дозорной группы он назначил инспектора райфинотдела Белохвостова.
Вскоре полянка приобрела вполне обжитой вид. Потрескивал костер, булькал на огне котел, неподалеку набирали силу дымокурчики, отгоняя гнус от походной радиостанции, возле которой примостился капитан, составляя шифрованную радиограмму.
Новости из центра были неутешительными, банда как будто растворилась в тайге, не давая о себе знать. По оперативным непроверенным данным, она должна была находиться в том районе, куда направлялся капитан Молодцов. Сеанс был в полном разгаре, когда на полянку, запыхавшись, выбежал один из тех, кто ушел в разведку.
— Готово, товарищ капитан. Двух бандитов задержали! — радостно закричал он, размахивая ружьем над головой.
— Тш-ш-ш, — успокоил его капитан Молодцов, — чего орешь? Потише докладывай, что у вас случилось, да вразумительно.
— B двух километрах отсюда идем, значит, вдоль закрайка, опушки леса, а они к реке вдвоем топают. Мы к ним бегом, «руки вверх!» кричим; куда там, припустили к лесу, чуть было не ушли. У каждого винтовка, опять же ножи. Товарищ Белохвостов отсек их от леса, стали мы их к Юйде прижимать. Озерцо вроде бы и маленькое, мелкое, но они в него побоялись идти, да и то правильно: сразу бы на чистом месте оказались, стреляй в них — не хочу. Едва они поняли, что нас больше и отступать некуда, так руки вверх задрали, сдались, значит.
— А остальная их братия где? — возбужденно подавая сигнал радисту, чтобы он не прекращал связь, спросил Молодцов.
— Вот и мы им такой вопрос задали, товарищ капитан. Молчат зверюги, не отвечают. Тогда товарищ Белохвостов велел их связать, рты мы им заткнули, чтобы они часом сигнал не подали своим. Я вперед прибежал, доложить.
Не скрывая радости, Молодцов тут же, не откладывая в долгий ящик, набросал в центр короткое сообщение о том, что героическими усилиями его группы задержаны два бандита и он преследует остальных. Подробности обещал во время вечернего сеанса.
— Первую мою шифровку теперь не передавай, — велел он радисту, — она уже морально устарела. Стучи вот эту, друг, да побыстрей.
— Как же так, — начал оправдываться радист, — я ведь уже начал…
— Так, дай гляну. — Молодцов пробежал глазами блокнот с записями, поглядел в черновики и, сориентировавшись, ткнул в лист пальцем. — Тогда досюда стучи старое и сразу же переключайся на новый текст.
Едва радист, закончив связь, приступил к демонтажу радиостанции, как на поляне появился весь отряд. В середине его под надежной охраной шли бандиты со связанными руками.
— Товарищ капитан, — лихо бросив ладонь к неприкрытой голове, доложил инспектор Белохвостов, — группа задержала и обезоружила двух бандитов. Давать показания отказались.
— Благодарю вас, товарищи, за службу. Думаю, что не только наше командование, но и райком отметит вашу инициативу и самоотверженность. Пока я буду допрашивать бандитов, быстренько перекусите и готовьтесь к преследованию банды. — Капитан Молодцов самоуверенно посмотрел на задержанных. — Думаю, что у меня эти субчики быстро заговорят.
— А мы и не собираемся молчать, — вдруг возразил один из бандитов. Он поглядел на своего товарища, как бы пытаясь заручиться поддержкой. — Мы думали, что это нас бандиты захватили, те, которые прииск «Огонек» ограбили, потому и молчали. А сейчас слышим, они вас товарищем капитаном величают, вы о райкоме говорите. — Он оглядел ошеломленных услышанным членов опергруппы. — Они, конечно, на чекистов не похожи, — кивнул он в сторону тех, кто задержал их, — зато вы при форме, значит, действительно наши.
— Вам, товарищ капитан, мы на любой вопрос ответим, — послышался голос его напарника.
В группе бойцов оперотряда послышались с трудом сдерживаемые смешки, перешептывание. Инспектор Белохвостов, стараясь не привлекать к себе внимания, попятился, надеясь скрыться от командира за спинами других.
— Отставить смех! — не скрывая раздражения, приказал Молодцов. — Кто вы такие? Откуда? — последовали его вопросы.
— Из Эльдикана мы, товарищ капитан, направлены от Золотопродснаба на заготовку дичи. Вы не сомневайтесь, у нас и документы есть. Велите развязать, я достану, — предложил первый, — они у меня в левом сапоге припрятаны, за голенищем.
— Мы как вооруженных людей увидели, — подтвердил второй, — так от греха подальше решили их перепрятать. Отберут документы, думаем, а потом пока новые выбьешь, объяснишь, что к чему, так наплачешься, время-то военное.
Нашлись и паспорта, и справки о временной отсрочке от призыва на воинскую службу, и даже еще чистые накладные о сдаче заготовленного мяса на склад Золотопродснаба.
— Белохвостов, — рассерженно рявкнул Молодцов, — куда же вы смотрели? Какой из вас, к черту, руководитель? Вы что же, бандитов от охотников отличить не можете?
— Да это Вахрамеев первый воду мутить начал, — оправдывался Белохвостов, — бандиты, говорит, идут, окружать надо. Вот и окружили. Да что вы так расстроились, товарищ капитан? Ну задержали мы не тех, кого следовало, так сейчас же и отпустим. Мы из хороших побуждений, как сказать, по части бдительности маленько перегнули. А какой я руководитель, — запоздало обиделся он, — так это моему начальству виднее. Я, можно сказать, товарищ Молодцов, собой рискую, с астмой по тайге бегом бегаю, стараюсь, а вы ругаетесь. Ну не устраиваю я вас, назначайте в следующий раз Вахрамеева, он вас еще не так поводит вокруг да около, баламут несчастный.
— Ладно, не до обид теперь, — рассерженно отмахнулся Молодцов, — в том, что ошиблись, большой беды нет. С Эльдиканом свяжемся, если все подтвердится, держать их не станем. Плохо то, что я поверил вашему донесению и сию минуту с ваших слов без разбору доложил руководству в Якутск, что поймано два бандита. Понятно теперь, в чем дело?
— Да, вот это конфуз, — соболезнующе покачал головой Белохвостов, — чего же это теперь будет?
— Врежут мне по первое число за поспешность, — уныло пожаловался Молодцов. — Так что, товарищи, вы теперь не жалуйтесь на жизнь, зажму я вас, приучу к дисциплинке. На войне как на войне.
Бойцы, пересмеиваясь, не в силах справиться с возбуждением после поимки заготовителей, с аппетитом ели, вспоминая, кто как держался во время погони. И только Молодцов вяло ковырялся ложкой в котелке, думая о том, какая гроза разразится над его головой после того, как в центре получат очередную его шифрограмму.
С Эльдиканом связаться не удалось и пришлось обращаться за посредничеством в районный центр. Через полчаса задержанных освободили и, вернув охотничьи ружья, разрешили идти на все четыре стороны. Проводив их до тропы, Вахрамеев оглянулся и, увидев, что за ними никто не смотрит, с удовольствием дал пинка одному из охотников.
— За что? Что руки распускаешь? — вскричал обиженный. — Сейчас капитану расскажу, он тебе покажет, как своевольничать.
— А что он мне сделает? — ухмыльнулся Вахрамеев. — Я вольнонаемный, в энкэвэдэ не состою, мне можно и пенделя тебе дать, чтобы ты в следующий раз сам кричал, что к бандитам не имеешь отношения. Опозорил меня перед товарищами…
И снова опергруппа шагала по таежным тропам. Возбуждение у бойцов спало, и на смену ему пришло чувство едва уловимого раздражения, неудовлетворенности. Ведь надо же такому случиться! Казалось, что уже и местонахождение бандитов раскрыли, и даже первых «языков» поймали, ан нет, на колу мочала, начинай сначала. И уже все шагавшие по тайге понимали, насколько они отличаются от настоящего воинского подразделения НКВД, которое, конечно же, не допустило бы такой промашки. А тут еще и сам капитан Молодцов способствовал общему упадку настроения и деморализации, всячески ругая районные организации, которые, по его мнению, не удосужились подобрать ему в группу народ поопытнее.
Часов в пять вечера устроили очередной привал. Вначале расположились метрах в десяти от тропы, составив здесь ружья в походный козел, но потом непоседливый Вахрамеев нашел поблизости, в пятнадцати метрах, уютный и сухой олбут — травянистую котловинку, образовавшуюся на месте спущенного озерца. Разморившиеся преследователи не удосужились даже забрать с собой вещички — перебрались туда, оставив на старом месте караульного.
— Золотые места, — огляделся вокруг Вахрамеев, — несколько таких олбутов, да побольше размером, и любой план по сенокосу можно было бы выполнить, как думаете, товарищ капитан?
Молодцов, далекий от сельских забот, не поддерживал разговора, молча растянувшись на густой траве.
— Сейчас сенокосов в тайге немало, — поддакнул Вахрамееву Белохвостов, — беда только в том, что косить некому. Как война началась, так мужиков в тайге в два раза меньше стало. А забот прибавилось: золото мой, руду давай, людей корми, подкрепление в армию отправляй. Тяжелое время. Мне иной раз завидуют, хорошо, мол, устроился, сидишь себе в конторе, только распоряжения отдаешь. А меня, поверьте, тоска берет. Разве все, что нужно, успеешь выполнить за двадцать четыре часа. Вот сейчас я по тайге за бандой гоняюсь, а ведь мое дело никто за меня не сделает. Вот и будут копиться старые и новые бумаги, и каждая срочная, каждую давай-давай.
— Так ты, Белохвостов, в армию просился бы, — посоветовал Вахрамеев. — Там только одна забота — бей немца да себя подстрелить не позволяй. Или после сытой жизни в конторе уже и не захочется в окоп?
— Ну вот, и ты забубнил о сытой жизни. Хотя какой сытой она может сейчас быть? Подумай своей головушкой. В армию я уже несколько раз просился. Пока врачи разрешения не дают из-за астмы. В Покровске, болтают, старичок живет, травками промышляет, иглоукалывание знает. Вот он мою болезнь может излечить. К осени попрошу у председателя райисполкома недельку, поеду к нему за здоровьем, а там и в армию начну собираться. Но, с другой стороны, ты, Вахрамеев, на нашу опергруппу посмотри, тут или хворые, или престарелые. Кто же с прииска подобру здорового старателя отпустит? Ему и на промывке дел хватит. На местах надеются на работников НКВД, на их опыт, хватку.
Они лежали на склоне олбы и, пощипывая травинки, равнодушно глядели в сторону стежки и дальше на сопку, покрытую густым лиственным лесом. Было покойно, тихо, даже ветерок замер.
— Гляди вперед! — толкнул локтем соседа Вахрамеев. — Да тише ты! Раз… два… три… — шептал он, — с десяток будет, а?
С укутанного густым зеленым подлеском залавка — небольшой высокой террасы на склоне сопки — в сторону тропы тихо скользили всадники, ведя на поводу запасных лошадей, нагруженных мешками.
— Наблюдай за ними, в случае чего свистнешь, а я к капитану, он начальник, пускай меры принимает. — И Вахрамеев тихо отполз вниз, где на солнышке нежился Молодцов.
— Товарищ капитан, банда вдет! — тихим голосом доложил он.
— Какая там банда? — умиротворенно потянулся вздремнувший Молодцов. — Опять с панталыку народ сбиваешь? Вот же неугомонный ты какой, Вахрамеев. Придется тебя откомандировать из отряда к чертовой матери.
— Тс-с-с! Не кричите, они рядышком, метрах в пятидесяти отсюда, а может быть, уже и ближе подъехали. Не сомневайтесь, на этот раз я не ошибаюсь. Только вы не высовывайтесь особенно, заметят, — шептал он вслед капитану, вмиг забывшему о дреме.
Молодцов, добравшись до края котловины, осторожно выглянул. И тут же у него исчезли последние сомнения. На стежку, в ту сторону, куда должны были идти они сами, выезжал последний всадник. То, что это воистину бандиты, было понятно сразу. Хорошо вооружены, а последние прямо-таки с армейской выправкой. Вон вроде и Гошка, а тот очкарик похож на Сан Саныча. Положение у капитана Молодцова было — не позавидуешь: оружие внизу, рядом с тропинкой, там же, где-то в кустах, и часовой, а вся его гвардия усталых, вспомнивших о болезнях и возрасте людей сидит в крохотном травяном оазисе и теперь уже не посмеет даже носа показать.
В это время со стороны кустов раздался выстрел. То ли от неожиданности, то ли от того, что стреляли совсем рядом, показался он Молодцову оглушительным. Метнувшись от склона к склону, вернулось эхо — будто второй выстрел, только потише.
— Наш часовой им вслед вжарил, — шепнул оказавшийся рядом Вахрамеев, — молоток парень.
Миг, и на тропе уже никого нет, только еще шевелились на противоположной ее стороне кусты. На минуту снова воцарилась тишина, а затем послышался резким командирский басок:
— Огонь! — раздался оглушительный, нестройный залп. И снова стихло.
— Ну, че, капитан, давай на рывок, к оружию? — по унимался рядом Вахрамеев.
— Какой рывок?! — поникшим голосом ответил Молодцов. — Предупреди людей, чтобы сидели тихо как мыши. Они ведь всех нас, как куропаток, перестреляют, пока до винтовок доберемся.
Но таких отчаянных, как Вахрамеев, в оперотряде больше не нашлось, остальные, безоружные, сами притихли, ни живы ни мертвы, мечтая, чтобы опасность пронесло.
В кустах, где скрылся противник, выждали еще какое-то время, потом раздались звуки раздвигаемых веток, топот, через несколько минут, судя по глухим ударам по твердому грунту, бандиты снова выбрались на тропу чуть дальше; мелькнули под кронами деревьев головы всадников, и вскоре снова воцарилась тишина.
— Фу-у, — вытер мокрый от пота лоб Белохвостов, — а я уже думал, конец, что нам отсюда никогда не выбраться. Повезло!
— Опасливые мужики, — нервно вколачивая кулаком росток крапивы в землю, отметил Вахрамеев. — Нет, чтобы оглядеться, поискать того, кто стрелял, а они пукнули хором да тикать.
— Сами мы хороши. — Молодцов зло заталкивал в кобуру пистолет. — Чуть в штаны не наделали. Это же надо, с такими лопухами связался! Жалко, вы оружие еще на тропе не оставили. Они бы собрали его — на всякий случай, пригодится.
— Да чего вы все ругаетесь, капитан? — огрызнулся Белохвостов. — Ну ладно, мы олухи, годные только в обоз, необученные. Почему же вы нам не подсказали? На то вы и командиром над нами поставлены, чтобы уму-разуму поучить, подсказать.
— Поздно учебой, заниматься, — не успокаивался Молодцов, — нам бандитов ловить надо, а у вас как в пословице: на охоту ехать, собак кормить. Ведь эти субчики почти в наших руках были. Сейчас бы дать отсюда, сверху, залп-другой — и конец банде. Верно умные люди говорят: если не повезет, так это уже всерьез.
— Ну что дальше-то будем делать, капитан? — поинтересовался Вахрамеев. — За ними вслед погонимся?
— Они теперь знают, что здесь кто-то есть, а коли так, то должны поставить на тропу засаду. Нельзя сейчас нам за ними ехать. Останемся здесь ночевать; завтра разведку вперед вышлем, потом и сами осторожненько двинемся.
Не доверяя больше ни Белохвостову, ни кому другому, капитан Молодцов сам выставил караул со всех сторон олбы, тщательно проинструктировал часовых и велел остальным отдыхать.
Тем временем бандиты, подумав, что стрелял случайный охотник, отъехали километров на пять до етёха — старого якутского стойбища, давным-давно оставленного людьми, — и тоже разбили бивак, не желая искать для ночевки места получше. И только недоверчивый, ко всему подозрительный Дигаев не поверил в то, что выстрел мог быть случайным. Вечером, когда солнце закатилось за горизонт, он сам, никому не доверяя, ужом прополз до хорошо запомнившегося места, которое сумел опознать даже в темноте. Неподвижно пролежав в кустах около часа, он заметил и отблески костра, горевшего в ложбине, и часовых, которые, боясь темноты, жались к огню и хорошо выделялись на фоне отсветов пламени. Когда в олбе заскребли ложками и зазвякали котелками, часовые утеряли остатки бдительности, и Дигаеву удалось подойти еще ближе. Он пересчитал людей, вгляделся в оружие, уложенное неподалеку от костра, прислушался к разговорам. Несколько раз его рука тихо сползала к ремню, нащупывая чеку гранаты, но рисковать он не осмелился и убрался к своим. Вернувшись в банду, Дигаев отозвал в сторонку под каким-то незначительным предлогом Сан Саныча и Ефима Брюхатого и поделился тревожной новостью, предупредив, чтобы они ни в коем случае не пугали остальных.
— Так чего ждем, Семеныч? — оживился Ефим Брюхатов. — Подползем к голубчикам, сначала пару гранаток бросим, а оставшихся в живых в шашки возьмем.
— Когда, Ефим, думать научишься не только о сегодняшнем дне? Этих убрать немудрено, но нами в таком случае НКВД займется всерьез. К чему нам тогда это золото, если надежды выбраться из Сибири не будет?
На рассвете, оставив разведчика неподалеку от етёха, банда ушла с тропы. Путая следы, забрели в бадаран — грязевое болото, оттаявшее за весну и половину лета не больше чем на полметра; потом свернули к реке Юдоме и долго искали возможности переправы.
Опергруппа Молодцова переночевала благополучно. Уже утром, незадолго перед тем, как тронуться с места, стоявший на часах Белохвостов, который уже года два благополучно скрывал свою близорукость, обходясь без очков, поднял тревогу и, не дожидаясь, пока остальные займут боевые позиции, на этот раз заранее указанные всем капитаном, выстрелил по бандиту. Не ударили в грязь лицом и другие, буквально изрешетив все кусты возле тропы. Развязке Молодцов уже не удивился. На месте убитого бандита лежал ствол трухлявого дерева, который, при хорошем воображении, издалека можно было принять и за вражеского лазутчика, как и случилось в действительности.
Но не бывает ведь нескончаемой череды несчастий и неудач. Даже в самое дождливое, скверное, холодное лето обязательно выпадет несколько солнечных погожих дней, которые скрасят настроение, пробудят веру в то, что и хорошая погода не за горами, нужно только набраться терпения и еще немного подождать.
Засветило такое солнце и в отряде капитана Молодцова. Уже на выходе из етёха, оставленного бандой утром, проклинавший жизнь Вахрамеев заметил вдалеке шевелящиеся ветви багульника. Пробежал глазами вдоль подлеска, ожидая зеленой ряби от ветра, но ветра не было. Пошептавшись о чем-то с капитаном, Вахрамеев с незадачливым Белохвостовым незаметно отстали, а еще через двадцать минут, завершив благополучное окружение сушняка, группа захватила в плен разведчика банды. На этот раз ошибки не было. Бойцы, как дети игрушку, разглядывали лошадь, на которую радист тут же навьючил рацию с ящиком аккумуляторов; рассматривали винтовку, будто надеялись увидеть какую-то незнакомую систему.
— Да вы чё, пленного бандита никогда не видели, что ли? — деланно удивлялся Вахрамеев, щедро отсыпая в огрызок газеты табак из кисета пленного и скручивая козью ножку. — Ну, кто еще желает закурить? Налетай, подешевело, табачок злой, бандитский.
— Вахрамеев, вы что делаете? — строго одернул его Молодцов.
— Как что, товарищ капитан, — невинно улыбнулся тот, — вы разве не видите, табачок курю. Может, и вас угостить? Так я с моим удовольствием.
— Закон не позволяет использовать имущество задержанного как свое, а вы уже все готовы поделить. Кто же так делает? Протокол следует составить, описать все, что при нем обнаружено. Займитесь-ка этим.
Говорить разведчик наотрез отказался, не помогали никакие уговоры.
— Чего это вы бандитскую морду уговариваете, товарищ капитан, вы дозвольте мне его пару раз по шее оприходовать, так враз расскажет и то, что знает, и чего не знает тоже, — не выдержал Вахрамеев.
Повеселевший после задержания бандита Молодцов самосуда не допустил, но стал разговорчивее.
— Как погляжу, Вахрамеев, вы не в ладах с законом. Ну где это вы видели, чтобы арестованного били, угрожали ему?
— Да как это где видел? У нас участковый уполномоченный пьяного на прииске поймает или воришку-несуна — под зад коленкой ему даст и приговаривает: «Когда же ты человеком станешь, непутевый? Сгинь с моих глаз!» Того как и не бывало.
— Ладно, Вахрамеев, иди занимайся своими делами, не мешай с гражданином беседовать.
— Ну, как хотите, товарищ капитан, а если понадоблюсь, кликните меня, я неподалеку буду.
Полдня маялся Молодцов с арестованным. В другое время и переживать бы из-за его молчания не стал. Пусть молчит, а там факты появятся, прижмешь ими немного — и заговорит. Но это в нормальной обстановке, когда задержанный уже сидит в камере предварительного заключения, сами тюремные стены на него давят психологически, и человек задумывается над неопределенностью своего положения, над непонятным будущим. А тут тайга. И до очередного сеанса связи с Якутском остаются считанные часы. О чем он будет докладывать? Вчера вечером, во время радиоконтакта с руководством, Молодцов вынужден был сообщить о том, что информация о поимке двух бандитов была преждевременной. После непродолжительной паузы его предупредили, что вопрос о нем, о Молодцове лично, будет решаться особо. Вот теперь бы и смягчить немного ситуацию, передать данные, рассказанные задержанным. Но тот молчит. У него характер. А у Молодцова, значит, характера нет. Он, понимаешь, может позволить себе молчание, а Молодцов — будь добр, доложи руководству два раза в сутки по рации, что сделано, обнаружена ли банда, какие меры принимаются для ее уничтожения. Капитан Молодцов задумался, вспоминая все свои ошибки за последние дни, и настроение у него становилось от этого все хуже. Наконец не выдержал:
— И черт с тобой, молчи. Расстреляю тебя сейчас без суда и следствия, так ты не обижайся, сам напросился.
— Как это расстреляешь, начальник? — растерялся бандит.
— А так, из винтовки. Ведь молчишь же!
— Не имеешь никакого права. Меня обязаны судить.
— А ты какое имел право, когда на прииске старика кассира пытал? Или когда радиста застрелил?
— Так то не я, гражданин начальник, — испуганно замахал руками арестованный, — то Гошка и Ефим, а радиста прикончил сам атаман — Семеныч. Я к тому касательства не имею. Избавь меня бог!
— Может быть, будешь брехать, что и в нас не стрелял, когда вы вчера по нас залп давали?
— Так вчера я не в вас, а по кустам стрелял. Семеныч крикнул «огонь!», я и стрелял. Я же ни в кого не попал?!
— Хватит разговоры разговаривать, в деда не ты, в радиста не ты, в нас тоже не ты. Вот и я о тебя руки марать не буду. Сейчас прикажу, и на свете на одного бандита меньше станет. Вахрамеев! — громко позвал Молодцов.
— Слушаю, товарищ капитан!
— Вахрамеев, полюбуйся на него — молчит удалец. Надоело мне его уговаривать. Не пора ли с ним кончать? Если я тебе сейчас, к примеру, прикажу, ты его застрелишь? — указал Молодцов пальцем на задержанного.
— А чего же не застрелить? Он, падла, со своими товарищами что на прииске над людьми вытворял? Они нас убивать будут, а мы с ними чикаться? Да я бы его еще во время задержания кончил, но вы велели живым доставить.
— Хорошо, Вахрамеев, не уходи далеко, скоро понадобишься. — Молодцов повернулся к бандиту: — Все понял? Говорить будешь?
— Незаконно вы поступаете, гражданин начальник.
— А что мне остается делать? С такими волками, как вы, жить — по-волчьи выть. Как фамилия, говори быстро.
— Порхачев Никита.
— Судим?
— Так точно, осужден нарсудом в тысяча девятьсот сороковом году по первой части сто сорок второй статьи Уголовного кодекса РСФСР к пяти годам лишения свободы.
— Так, — быстренько подсчитал Молодцов в уме, — значит, наказание не отбыл?
— Не успел, гражданин начальник, в мае прошлого года совершил побег из Хандыги.
— Один или групповой побег?
— Втроем ушли. Еще двое в банде остались, это я невезучий.
— Как попал в банду?
— Мы поначалу сами по тайге бродили. Потом одежонку раздобыли, знакомых нашли, веселее стало.
— Грабили, воровали?
— Да всякое бывало, гражданин начальник. Как на постой в тюрьму определишь, я тебе в красках свое жизнеописание нарисую, вместе со мной будешь плакать. И меня убивали, и на моих глазах резали, всего нагляделся.
— Хорошо, о тебе мы действительно еще успеем поговорить, отвечай, кто еще в банде? Когда и где познакомились?
— Всего в нашей компании десять человек. Мы было втроем собрались как-то у знакомого погулять, чаю-водки попить, а у него в то время на постое гости оказались — наш нынешний атаман Семеныч да с ним еще четверо. Ну, поговорили душевно, то да се, ага, чувствуем, вроде интересы общие есть. Семеныч нас расспросил, посочувствовал, вызвал на крыльцо покурить и говорит, долго ли вы будете по мелочи промышлять, ведь не сегодня завтра опять в тюрьму угодите. Идите, дескать, ко мне. Сделаем одно крупное дело — и до конца жизни будете обеспечены. Мои приятели, Виташев с Чефрановым, сразу согласились. А я его еще спросил, неужели он без нас обойтись не может? Большое дело, говорит, в одиночку не делается. Тогда и предложил нам налет на кассу «Огонька» устроить, ага.
Мы дали согласие. И сразу же прекратили разговор на эту тему, чтобы хозяин квартиры не узнал о нашем намерении. А тот, оказывается, рядом у двери стоял, все слышал. И стал проситься в компанию. Семеныч с нами посоветовался, верный ли парень, можно ли его брать. Поначалу мы уговаривали Шишкина — так его звали — не идти с нами. Дескать, у тебя жена есть, ребенок и документ в порядке: паспорт имеешь, военный билет, работай себе, пока в армию не забрали. А он отвечает, вот, мол, этого, дружки мои серебряные, как раз и боюсь. Заберут в армию, и погибну в далеких краях. А с большими деньгами я отсюда куда угодно уеду. «Ну гляди, дело твое, — сказал ему Семеныч, — только запомни, что обратно ходу нет». Вот так мы и порешили принять его в свою компанию, ага. Потом зашли в квартиру, и гулянка продолжалась. Но никаких больше разговоров о налете на кассу не было. Раз согласились, так и говорить больше не о чем. А позже, когда уже в тайге с Семенычем и его дружками встретились, то подивились мы — у них и лошади, даже с запасными, и оружие не хуже, чем в регулярной армейской части. И сами они какие-то вроде бы не наши. Мы такого даже не ожидали, ага.
— Что ты имеешь в виду? — переспросил Молодцов.
— Говорят вроде бы по-нашему, а вот такое ощущение, будто они издалека приехали и не все, что у нас делается, понимают. Вот в тайге раньше, бывало, засидишься с артелью, не выбираешься в село год, а то и два, приедешь, а здесь новостей — пруд пруди. Там дом поставили, здесь новый указ обнародовали, ага, поссовет избрали, участкового сменили. Вот так же и они, только в ином размере. Мы с мужиками говорили, те подозревают, что Семеныч с друзьями шибко издалека к нам прибыли. Но то не мое дело, сами выясняйте. А уж злые они на весь белый свет, так и слов нет.
— Ты что же, себя добрым считаешь?
— Не добрый, но без необходимости бить там или убивать не стану. Для них же человека кончить, что петуху голову оторвать, ага. Я вот с ними ходил, а сам их боялся. Вдруг, думаю, не то скажу или не то сделаю, потом неприятностей не оберешься, никак перед ними не оправдаешься. Злодеи, истинный бог, злодеи, — откровенничал задержанный, не спуская глаз с Вахрамеева, ходившего неподалеку.
— Так ты бы ушел от них, чего же держался?
— А куда мне деваться было? Я ведь после побега хорошо знал, что не сегодня, так завтра меня поймают и снова за колючую проволоку отправят. А с ними все-таки на миру, попадемся, думаю, так все вместе, не так обидно будет.
— Но и здесь не по-твоему вышло, — с улыбкой посочувствовал Молодцов, — тебя первого поймали. Теперь за ними дело. Рассказывай дальше про своих злодеев.
— Они нам лошадей своих запасных во временное пользование дали. Но велели своих добывать не мешкая. По тайге старались пробираться тишком. По пути заехали на свиноферму, которая обслуживает Юрское приисковое управление. Семеныч сказал, что после налета на прииск нужно где-то отсидеться, чтобы чекистов со следа сбить, а потому, дескать, нужно свежим мясом запастись. На свиноферме мы подкололи трех порядочных подсвинков и тронулись дальше. У нас с собой были продукты, килограммов пять-шесть спирту; Семеныч время от времени разрешал нам выпивать, говорил, что это для крепости духа хорошо, ага.
— Ну да, — согласился Молодцов, — пьяным-то море по колено, ум пропили.
Порхачев натянуто улыбнулся, согласно покивав головой, продолжил свою исповедь дальше:
— Перед походом Семеныч дал наказ, что если кто чужой попадется нам навстречу, то мы должны его убивать, иначе он может сообщить о пути следования нашей банды, и нас переловят. Когда мы миновали свиноферму, попользовавшись там мясом, как я уже говорил, то нам навстречу черт вынес мужика. Первым Ефим его увидел и хотел застрелить, но Семеныч его остановил и скомандовал мне: «Стреляй!» Я хоть и был здорово выпивши, но ответил: «Ну его к черту!» Семеныч меня обругал, мы, говорит, все должны быть кровью повязаны, или ты его, или мы тебя самого, ага. Я тогда выстрелил из тозовского обреза и попал в лицо.
— Убил его? — удивленно переспросил Молодцов. — А говорил, что без дела никого не трогаешь. Не так ты, видно, прост, Порхачев.
— Да нет, — оправдывался тот, — пуля прошибла щеку, человек упал, но был жив. А Гошка, кажется, добил его топором. Я отошел в сторону, с непривычки-то тяжело, и уже не видел, как и куда припрятали труп. Ребята потом говорили, что его бросили под выскорь, значит, под дерево, вывороченное бурей с корнем. Ругал потом Семеныч меня — не приведи бог, ага. Рассказывать дальше или хватит?
— Рассказывай, а как же. Мне обо всех вас побольше знать нужно.
— Ну гляди, начальник, мне времени не жалко и терять теперь нечего. При переправе через речку Юдому мы зимовщика почистили. Гошке еще его часы понравились. А когда мы переправились на ту сторону, где «Огонек», то Семеныч послал меня на разведку. На прииске было все спокойно, я этот прииск хорошо знаю и раньше там не раз бывал, у меня там даже знакомые есть. К вечеру у конторы вдруг дежурство установили, мужики с топорами и берданками всю ночь ходили, бранились, что уполномоченный зря не дает им спать, из-за глупых слухов, а бояться некого. Я еще с ними возле костра покараулил, сидели — обсуждали. Мы, говорят, до утра походим, а потом айда на работу, про банду, видно, набрехали нам. Утром и вправду все на работу ушли, а я скорей за своей компанией. Спозаранку-то туман сильный был, так я чуть ли не заблудился. Долго плутал, пока мы не соединились. А часов в одиннадцать мы были уже на прииске.
— Для чего же вы кассира убили? — поинтересовался Молодцов.
— Да мы его не убили бы, — просто, как будто речь шла о чем-то привычном, ответил Порхачев. — Так он же нам ключи от сейфа не хотел отдавать, а золото там. Семеныч велел заставить его говорить, ну, ребята маленько перестарались. Ефиму с Гошкой одно удовольствие кровь пускать, ага. Я с Гошкой в одной колонии сидел, с ним и в побег уходил, ушлый хлопец. Когда уже с прииска вышли с добычей, Семеныч в разведку послал моего приятеля Виташева да еще одного молодняка, которого к нам накануне сам же Семеныч привел. Но они как ушли, так и с концом.
— Куда же они могли деться, Порхачев?
— А кто их знает? Если вы их не арестовали, наверное, сбежали они от Семеныча и его друзей. Когда меня в мужика заставили стрелять, так Виташев потом переживал, теперь, говорит, моя очередь, меня заставят кого-нибудь убивать, а мне непривычно; ну как я его убью, он ко мне ночью приходить станет? Не хочу я, говорит, на мокрое дело идти, лучше обратно в колонию вернуться, ага, пускай срок добавят.
А теперь из моих дружков один только Гошка у Семеныча остался, но тому там хорошо, они одного поля ягодки. Вот как бы только не переругались при дележке золота. Я, начальник, этого момента, скажу откровенно, боялся пуще смерти. Пустят, думаю, в расход, чтобы мою долю золота не отдавать.
— А где хранится золото?
— Его при себе везет Семеныч, Ефим и очкарик — Сан Санычем его кличут. Я с Гошкой поделился своими сомнениями насчет дележки, ага, а он мне говорит — не бойся, Никита, за свое золото я самому черту готов зубы выдрать, и этим выдеру. Веселенькое время у них скоро начнется, ей-богу.
— А ты чего развеселился? — удивился Молодцов.
— Так для меня уже самое тяжелое окончилось, хоть и арестовали, зато я жив-здоров, а им еще мук придется вдоволь хлебнуть и друг от друга, и от вас.
— Невысоко ты, Порхачев, своих бывших дружков ценишь, как же это так?
— А чего же мне их ценить, гражданин начальник? Раз с золотом связались — потерянные они люди.
— Ну а если я отпущу тебя на время и велю отнести к ним письмо с требованием сдаться властям и вернуть награбленное золото, ты пойдешь?
— Ни в коем случае! Не пойду, гражданин начальник, тут ты меня ни кнутом, ни пряником не заставишь. Я к ним с таким посланием приду, тут же они меня на тот свет отправят, ага. А если и не отправят, так я уже просто так не вырвусь, значит, снова мне начинать эту проклятую жизнь? Нет, я свое отбандитствовал, хорошего помаленьку. Ты только, начальник, не забудь, что я тебе сам, по первому же требованию дал чистосердечные показания.
— Полдня мусолил, это тоже чистосердечно?
— Так это я продумывал, с чего начать. А теперь тебе такие подробности выложил, что и поймать их будет проще. Неужели я за такую откровенность жизнь не заработал? Как думаешь, начальник, что мне суд присудит? Четвертак или вышку?
— Кто же это знает? Но о чистосердечных показаниях я в протоколе допроса напишу, черт с тобой. Но с условием, признавайся, куда они пошли и где ты с ними должен встретиться?
— В два часа пополудни я должен быть на той стороне Юдомы возле дюеди.
Молодцов знал, что дюедя — это глубокое термокарстовое озеришко, с крутых овальных берегов которого обваливается грунт, оголяя корни деревьев, которые склоняются к воде. По рассказам проводников, для этих мест они не были редкостью.
— Возле какой дюеди? — уточнил он.
— У той, что к востоку от зимовья сорок шестого километра.
Молодцов взглянул на часы — было уже три с четвертью.
— Ты, что же, сукин сын, специально тянул, чтобы назначенное время вышло?
— Запамятовал я, начальник. Не нарочно.
— Вот и я запамятую, когда тебе снисхождение нужно будет просить. Устроил здесь, понимаешь, полдня воспоминаний, а дружки, конечно, ни минуты не потеряли, ищи их теперь, тайга-то большая.
— Не по злому умыслу, — канючил задержанный, — из головы вышибло, что вам это интересно, про встречу-то я совсем забыл сказать.
Снова попавшему в затруднительное положение капитану принимать решения не пришлось. В это время их догнала отставшая половина группы, которую, к большому огорчению Молодцова, привел сам заместитель начальника ОББ майор Квасов. Он моментально оценил обстановку и, задав несколько вопросов капитану и пойманному бандиту, приказал:
— Через пять минут, капитан, отправляемся дальше, к переправе, а там, хотя мы наверняка уже опоздали, будем искать дюедю. Какие ни есть, а все-таки следы.
Пока нашли подходящую лодку для переправы, перегнали вплавь лошадей и за несколько рейсов перевезли людей и груз, прошло не менее пяти часов, а там уже и стемнело. Искать что-то в лесу в темноте было бесполезно, и Квасов, не подавая вида, что он недоволен этим, дал разрешение устраиваться на очередной ночлег. Пока увеличившийся отряд располагался для короткого сна, он присел рядом с бандитом у костра и долго расспрашивал его, уточняя фамилии, клички, имена и выуживая из рассказа детальки, которые казались ему особенно ценными для дальнейших поисков бандитов. Отказавшись давать показания сразу же после того, как его поймали, Порхачев сознательно дал банде возможность уйти от погони. Но, избавившись от мести бандитов, он приобрел неприязнь сотрудников ОББ. Майор Квасов ни словом, ни жестом не давал ему этого попять, но Порхачев инстинктивно чувствовал опасные последствия своего обмана и, желая подольститься к Квасову, охотно отвечал ему на все вопросы.
— О чем с нами говорил Семеныч? Да он не шибко разговорчив, разве что по делу приказать, а так он больше беседовал с Сан Санычем и Ефимом. А на нас, как мне показалось, смотрел как на людей второго сорта: убери, застрели, оседлай.
— Но вы, Порхачев, мужик наблюдательный, думаю, что-то из их разговоров запало вам в память? Куда они собирались вести банду дальше?
— Семеныч предлагал сразу же идти в сторону Якутска, но Сан Саныч был против. Нельзя торопиться, говорил, давай сначала погоню со следа собьем, отсидимся где-нибудь, а потом разобьемся по двое-трое и в Якутск. Как я понял, у них там знакомство хорошее было, с квартирой.
— Ну а дальше? Какие планы у них были на будущее? Не может быть такого, Порхачев, чтобы вы или ваши приятели не подслушали.
— Специально мы, конечно, не подслушивали, — хитро ухмыльнулся Порхачев, — а вот случайно было дело. Из Якутска они собирались куда-то домой. Где их дом, я лично не понял, но ребята подозревают, что они навострили лыжи в Маньчжурию или еще куда подальше.
— Знакомые у них в Аллах-Юньском районе есть? Кто конкретно? Где живет? — выспрашивал майор Квасов.
— Нет, знакомых у них здесь нет. Я теперь думаю, что они и с нами связались только потому, что мы эти края вдоль и поперек излазили, на каждом ключе есть с кем поздороваться.
— И о ком вы Семенычу рассказали? На кого можете полагаться?
— Гошка предлагал в деревню Чертово Улово заехать. У него там приятели живут, хвастался, что чуть ли не всем жителям деревни золотые зубы вставил и они его теперь как родного встречают. Но остальным его предложение не понравилось: деревня, мол, маленькая, о гостях в тот же день прознают, вопросы начнутся, участковый может заинтересоваться. Семеныч предлагал сплавляться по Юдоме до Усть-Маи. Теперь и не знаю, право, на каком варианте остановились.
Майор Квасов поинтересовался адресом Афанасия Шишкина, в доме которого во время пьянки банда сформировалась в своем нынешнем составе.
— Как, говорите, его жену зовут? Раиса? Сама из местных?
— Не совсем так, гражданин майор, она из Якутска, грамотная баба Афанасию досталась, после семи классов финансовые курсы кончила, республиканскую газету выписывает.
— А где работает? — поинтересовался майор Квасов.
— В Усть-Mae пристроилась, в золотоскупку. Я уже говорил как-то Афанасию: с такой бабой как за каменной стеной. Всегда боны достать может, а значит, и отовариться помимо продовольственных карточек, и рублишко какой-никакой от старателей перепадет. А он все недоволен, самому, мол, зарабатывать нужно, я в доме хозяин. Вот и зарабатывает теперь себе вышку, я правильно понимаю, начальник?
— Странно что-то, Порхачев, — задумчиво спросил майор Квасов, — у Афанасия Шишкина жена работает в золотоскупке, в самый бы раз вам не на «Огонек» налет делать, а на ее контору. Она ведь и время могла подсказать удобное, чтобы золота побольше было, и подходы указать. Объясните мне, в чем дело?
— Не вы, гражданин начальник, первый об этом подумали. Я с ним разговаривал на эту тему еще год назад. Но он только руками замахал, что ты, говорит, с моей бабой на эту тему ни добром ни худом не столкуешься. Она у меня скорее свое добро отдаст, чем хоть копейку у государства возьмет. Тут уж с ней ничего не сделаешь. Поэтому он и от Семеныча скрыл, где она работает.
— Как же тогда Раиса Шишкина согласилась, чтобы Афанасий в банду ушел?
— Она второго ребенка рожала у родителей в Якутске, на днях должна вернуться в Усть-Маю. Афанасий написал ей, что заключил договор и уходит на месяц охотиться, чтобы заработать детишкам на молочишко.
— Думаешь, она ему поверит?
— Кто ее знает? Однако поверит она или нет, менять что-то поздно, придется ей теперь одной мальцов растить.
— Ответьте-ка мне, Порхачев, на последний вопрос: у кого в поселке вы ночевали перед налетом на кассу прииска?
— Ни у кого я не ночевал, всю ночь бродил, погода хорошая, чего не погулять, верно?
— Да вы, оказывается, романтик, Порхачев! Но у меня есть свидетельские показания, что рядом с караульными вы находились только до двух часов ночи, а потом исчезли. И как бы вы это ни скрывали, рано или поздно я доберусь до истины, но вам от этого будет хуже.
— Ну ночевал, что тут запретного? У женщины был, но у какой, все равно не скажу, отношения она к конторе не имеет, и подозревать ее не стоит.
— Кем же она работает? Если хотите, чтобы она вне подозрений осталась, назовите место работы.
— Мамкой она работает в старательной бригаде, мамкой, но больше я вам ничего не скажу, она к моим бандитским делам непричастная, верьте слову.
— Пока поверю, а там видно будет. Молодая она хоть, скажи? Старая?
— Зачем же мне старая, гражданин начальник, если мне самому двадцать шесть от роду?
Наутро поднялись затемно, звезды на небе поблекли, но еще были вполне различимы. Без суеты собрались, поели и с первыми лучами солнца выступили в поход. До дюеди добрались быстро. Молча рассредоточились, окружили ее, но, как и следовало ожидать, банды там уже не было. Полянка за озерком была истоптана свежими следами подкованных лошадей. Под навесом высоченной лиственницы нашли остатки давным-давно погасшего кострища. По всему было видно, что бандиты останавливались здесь перекусить, почаевничать, но ночевали в другом месте. На нижней ветке лиственницы вяло покачивалась влажная от росы сатиновая зеленая тряпка. Майор перехватил взгляд Порхачева на эту тряпку и, прикинув, что она никак не могла оказаться на дереве случайно, тут же спросил:
— Что вам дружки сообщают при помощи этого знака?
— Какого знака? — прикинулся непонимающим Порхачев. — Не вижу я здесь никакого знака.
— Опять время тянете? Усугубляете вы свое положение, отказываясь помогать нам. Вчера банду упустили только потому, что вы сказали слишком поздно о месте и времени встречи, сегодня снова дурачком прикидываетесь. Думаете, суд это оценит в вашу пользу? Боюсь, вы ошибаетесь. Мы, конечно, и сами разберемся, что к чему, но вы потеряете свой шанс. Вам теперь не о приятелях думать нужно, а о целости и сохранности собственной шкуры.
— Да ладно, начальник, жалко мне, что ли? Могу и сказать, только за точность не ручаюсь. Мы с Гошкой уговорились, если я опоздаю и они меня ждать не станут, так это сигнал, в какую сторону будут путь держать. Если тряпка зеленая, от солдатской гимнастерки, значит, будут сплавляться вниз до Юдоме, а если черная — так в сторону реки Аллах-Юнь пойдут. Но заранее предупреждаю, договаривались мы с ним на бегу, боялись, что Семеныч заметит, как шепчемся, он этого не любит, поэтому я мог и перепутать.
Охотники из группы походили вокруг полянки, присматриваясь к следам, и сошлись во мнении, что от дюеды всадники поехали не в одном направлении, а врассыпную.
— Знаем мы этот приемчик, — понимающе усмехнулся майор Квасов, — сейчас вроде бы разъехались, а километра через два где-нибудь в заранее оговоренном пункте соберутся вместе.
Однако следы банды вскоре затерялись в тайге, и место встречи определить не удалось.
Собрав оперативных работников: Молодцова, Богачука и младшего лейтенанта Петра Афонского, — майор решил провести совещание.
— Двадцать минут потеряем, зато определимся четче, подумаем, как нам ошибки не повторять и что делать дальше. Никто не против? — Майор Квасов внимательно посмотрел в лица присутствующих.
Возражений не последовало. И тогда Квасов продолжил:
— Скажите, капитан Молодцов, как вас угораздило за такой короткий срок наломать столько дров?
— Не ошибается тот, кто ничего не делает, товарищ майор, — недовольно ответил Молодцов, избегая глядеть в глаза Квасову.
— Верно подметили. Только у вас есть и иные ошибки, связанные с нарушением социалистической законности. Да взять те же аресты в поселке. Я по заданию руководства наркомата лично проверил их обоснованность и скажу, что вы поступили необдуманно, грубым кавалерийским налетом. Из пяти обиженных вами людей всерьез разговор может идти только о стороже, да и того нужно обвинять не в пособничестве бандитам, а в хулиганских поступках, совершенных им уже после отъезда банды.
— Велика беда, пару дней посидели, — отмахнулся Молодцов.
— В том-то и дело, что велика. После их задержания остальные замолкли. И вместо того чтобы опираться на население, с его помощью быстренько разобраться во всех тонкостях, мы потеряли несколько дней. А что рабочие о нас подумают, глядя на ваше поведение? Вы же компрометируете наши органы! Предупреждаю, что такие поступки никогда не найдут поддержки ни в отделе, ни у руководства наркомата. Не удивляйтесь, что после вашего возвращения в Якутск последует наказание.
— Наказывать у нас умеют, а вы лучше бы спросили меня: «Молодцов, когда ты последний раз спал нормально?»
— К сожалению, всем нам мало удастся нормально спать или есть до тех пор, пока не уничтожим банду и не вернем золото в кассу. А как вы умудрились оставить оружие возле дороги и едва не угробить весь отряд? Я уже не говорю о том, что проморгали банду, но ведь вы чуть-чуть и своих не потеряли.
— Кого ко мне в опергруппу направили, вы знаете?
Они, кроме охотничьих берданок, ничего в руках не держали, заставь их маршировать, так придется, как в старину, командовать, чтобы поняли: сено — солома, сено — солома, левой — правой…
— Не утрируйте, Молодцов. В других опергруппах не лучше, на одного-двух оперативных работников несколько сугубо штатских. Война идет, поэтому рассчитывать на лучшее мы не можем, спасибо за то, что район этих сумел выделить. Но вот проследить за их поведением, подсказать, что нельзя бросать оружие и уходить черт-те куда, вы были обязаны. А вы вместо того, чтобы проверить часовых, выслать разведку, сами решили вздремнуть, вот и результат.
Молодцов, понимая, что обвинения майора Квасова справедливы, больше не спорил. Ему хотелось только, чтобы нравоучение как можно скорее окончилось и они отправились бы вдогонку за бандой. Но майора остановить было трудно.
— Не буду говорить о задержанных охотниках, такой грех действительно мог бы случиться с любым неопытным работником, но зачем же так поспешно рапортовать непроверенную информацию руководству? Ура, дескать, готовьте награды! А как безобразно вы допросили пойманного бандита? Вместо того чтобы тотчас заставить Порхачева назвать время и место встречи с бандой, вы едва не забыли спросить его об этом. Вчера вечером, как вы знаете, у меня был сеанс радиосвязи с Якутском. По моей рекомендации заместитель наркома подполковник Скирдин отстраняет вас, товарищ Молодцов, от руководства опергруппой. Новым начальником будет капитан Богачук, а вы поступаете в его распоряжение. Кроме того, для усиления группы с вами остается младший лейтенант Петр Афонский. Парень толковый, деловой, да чего его расхваливать, сами знаете. Человек он местный, якут, а значит, и с якутским населением легко сможет установить контакт. Что будем делать дальше? Низовья реки Юдомы перекрыты нашими сотрудниками, там бандиты не пройдут. Думаю, что они уже знают или догадываются об этом. Дальний бросок по тайге не входит в их планы, они хотят попасть в Якутск. Значит, у них один путь — к реке Аллах-Юнь. На это, кстати, и Порхачев намекал. Выходит, что и ваша дороженька лежит в ту же сторону. Банда оторвалась от нас часов на четырнадцать. Надо наверстывать упущенное. Подойдите поближе, товарищи, наметим контрольный маршрут по карте.
Согласовали маршрут, уточнили время связи, и майор Квасов собрался уезжать из группы.
— Вы ведь знаете, в районе несколько опергрупп, хотим перекрыть все пути, и если не удастся разбить банду сразу, сожмем кольцо. Мне везде нужно поспеть, чтобы координация действий была четкая.
— Товарищ майор, позвольте мне с вами поехать, — попросил Квасова капитан Молодцов. — Чего же мне после понижения здесь оставаться, неловко вроде.
— Правильно, — поддержал его Богачук, — если душа не лежит, пускай едет, а вы вместо него Семена Жарких пришлите.
— Давайте-ка, товарищи, анархии не устраивать. Семену Жарких своих забот хватает, у него индивидуальное задание, а вам, Молодцов, нужно исправляться там, где вы наделали ошибок.
Майор Квасов уехал, а группа направилась через тайгу к маленькой речушке Аканже, притоку Аллах-Юня.
Капитан Молодцов на низкорослой якутской лошаденке замыкал отряд и был доволен тем, что никто не видит его, не тормошит, не высказывает сочувствия. Себя он чуть ли не с детства считал невезучим, но, сталкиваясь с очередной неудачей, никогда не позволял, чтобы кто-то жалел его. В такие минуты он становился нестерпимо высокомерным. А вот в случае удачи кичлив был без меры. Порой он из кожи вон лез для того, чтобы выделиться, выполнить задание руководства первым, но нежелание посоветоваться, попросить у товарищей помощи нередко сказывалось на результативности работы. Если в первые годы коллеги стремились прийти ему на помощь, выручить, то, замечая непомерную гордыню и гонор вместо благодарности, становились осторожнее. При всем при том Алексей Молодцов оказался довольно слаб духом. Это качество, прежде не замечаемое им самим, стало давать о себе знать после кратковременной работы в службе наружного наблюдения. Однажды один из его подопечных набросился на него с ножом, зажав в тихом и безлюдном переулке. Ранение оказалось пустяковым, из госпиталя его выпустили уже через неделю, но Алексей Молодцов тут же попросил перевести его в другой отдел. Со временем происшествие это забылось, и Молодцов приспособился ловко уходить от опасных заданий, благо желающих проявить самоотверженность среди его коллег всегда было с избытком, а их отдел был в стороне от непосредственной живой оперативной работы.
Молодцов и в этот раз хотел бы остаться в Якутске, но ограбление кассы прииска было уж слишком незаурядным делом, поэтому руководство наркомата направило в помощь ОББ на разгром банды абсолютно всех мало-мальски свободных сотрудников из других отделов.
Капитан Молодцов ехал по тайге и постепенно успокаивался. Конечно, то, что его разжаловали и перевели в рядовые сотрудники опергруппы, сильно било по самолюбию и подрывало его авторитет. Но с другой стороны, зато и вся ответственность теперь переваливалась на плечи Богачука. Человек он был энергичный, незлопамятный и, конечно же, не вспомнит, как покрикивал на него Молодцов на прииске. Хорошо бы найти предлог, чтобы уехать в Якутск, но кто его знает, как получится, а пока нужно искать банду.
Молодцов мерно покачивался в седле и вскоре отвлекся от мыслей о преследовании, мечтая о том времени, когда он сможет вернуться в свой отдел по паспортной работе и потихонечку копаться в бумагах, без этой нервотрепки, утомительных скитаний по тайге и опасности, которая могла подстерегать их отряд с любой стороны. Взглядом капитан постоянно упирался в спину Вахрамеева, у которого высокий мерин, серо-яблочной масти, размахивая длинным хвостом, задевал по морде лошаденку Молодцова. А Вахрамеев ехал и все боялся, что капитан окликнет его и упрекнет в том, что из-за его неразворотливости ушли бандиты, да и самого капитана понизили в должности. Вахрамеев продумывал, что он ответит капитану, но на ум приходили слова все какие-то жалостливые. А надо бы ободрить Молодцова, сказать, что они еще смогут показать свою храбрость и исполнительность и что он, Вахрамеев, вовсе не хотел подводить капитана. Потом Белохвостов, ехавший впереди, передал Вахрамееву свежий, всего лишь двухдневной давности номер «Социалистической Якутии». Он перехватил повод в левую руку и, подбадривая мерина шенкелями, заглянул на последнюю страницу газеты. По ней вовсе не видно было, что страна воюет, напрягая все свои силы, а их группа пытается догнать уходящую банду.
— …В кинотеатре Горкино, — шевелил Вахрамеев губами, — новый звуковой документально-хроникальный фильм «Победа в пустыне»… В клубе НКВД премьера оперы «Катерина» в трех действиях. Касса с двух часов дня…
Якутск смотрел кинофильмы, разыгрывал кубок республики по футболу и обсуждал проблемы раздельного обучения в школах, которое вводилось с первого сентября сорок третьего года. И только о банде нигде ни словечка. Потому что город был уверен — дни ее сочтены.
Глава VII ЧЕРТОВО УЛОВО
«Якутск. НКВД. Скирдину.
Богачук идет по следу банды. Два дня пропало, так как на одном из ключей потерял было след. Направление к реке Аллах. Просит выслать пятьсот килограммов овса. Прошу разрешить наш счет купить. Оперрасходы прошу выслать пять тысяч рублей.
Квасов.
Принято в двадцать два часа местного времени».
«Квасову.
По вчерашней несколько не понятно, уточните, откуда и куда точно мы должны выслать пятьсот килограммов овса, а также кому и для чего необходимы пять тысяч рублей, вам или Богачуку. Скирдин».
«Квасову.
Указанием наркома вам переводят пять тысяч для всех расходов, связанных с ликвидацией банды. Покупку овса разрешает на сумму в пределах двух тысяч при условии, если продснаб не дает бесплатно. Учтите, что нарком всемерно экономит средства, до минимума сокращает расходы. Скирдин. Якутск».
Уловом в Сибири называют водоворот, обратное течение реки на узком опасном пространстве, завихрение воды. В таких местах, как правило, не находится желающих купаться — кому охота тонуть? А вот рыбаков хватает: рыба здесь скапливается косяками, играет, хлопая по поверхности воды, а порой и выпрыгивая. Чертово Улово — это всем уловам улово. В давние времена старатели разыскали было здесь золотишко, и повалил сюда народ артельно и поодиночке. Но жилка оказалась слабой, невесть как попавшей сюда, скоро истощилась, и сколько ни били шурфов, золота больше не отыскали ни крупинки. Золотая горячка прошла, а поселок остался. Жили в нем русские, якуты, хватало и других национальностей. Жители промышляли охотой и рыбалкой, разводили огороды, в которых, сказывали, даже помидоры росли, заготавливали для Якутска чурки — маленькие скругленные поверху чурбачки, которыми долгое время мостили в городе дороги. В войну было уже не до строительства дорог, но чурочники уцелели, теперь они поставляли чурки для газогенераторных автомобилей. В войну деревушка наполовину опустела: кого не забрали на фронт, тот ушел на заработки. Стихли на улицах молодые голоса.
В июньский день сорок третьего года на противоположной от деревни стороне реки Аллах-Юнь стоял молодой мужчина и, приложив к губам руку, сложенную ковшиком, кричал перевозчика. У больших лодок, закрепленных к берегу толстыми, вручную кованными цепями, появился старик в ватной телогрейке. Внимательно поглядел на пришельца, потом без крика, громким голосом поинтересовался:
— Якого биса орешь?
Резонанс на этом участке реки был такой отменный, что мужчина прекрасно услышал вопрос, несмотря на то, что до старика было не меньше ста метров.
— Перевези, батя, в деревню, окажи милость, — закричал он.
— Що ты у нас в селе забув? Та не кричи больше, а то уйду, нехай тебя таймень перевозит.
Мужчина тоже перешел на громкий голос:
— Так кто же так объясняет, через реку? Перевези — расскажу. Мастеровой я, глядишь, и тебе пригожусь.
Старик ничего больше не сказал и ушел в деревню. Когда путник решил было, что дед не пожелал иметь с ним дел и удалился совсем, тот снова появился на берегу и большим ключом отомкнул здоровенный амбарный замок, освободив лодку.
— Спускайся по реке вниз, — велел перевозчик, — прямо не пройду, течение закрутит.
Мужчина взвалил на плечи большой и, видно, тяжеленный мешок с пришитыми лямками и пошагал к указанному месту.
— Чей будешь? Звидкиля прибыл? — снова не удержался лодочник.
— Ты, батя, как нерусский. Забыл, как в народных сказках говорится? Сначала накорми, напои, спать уложи, а потом и расспрашивай. А тебе бы сразу все знать.
— Так я ж и правда не русский — хохол. Тилькы в этих краях второй десяток лет. Час, сынку, такой, — налегая всем своим кряжистым телом на весла, невесело ответил тот. — Разный народ сейчас по тайге блукае, и добрый, и не приведи господи. Вон у тебя какой мешок, а шо в нем? Може, золото куда везешь, може, руду.
— Печник я, батя, печник.
— Та ты што?! — всерьез удивился старик. — А не брешешь, часом? Печников сейчас в Якутске не хватает, а ты сам к нам в глухомань подобру-поздорову прибыл.
— Так кому что нужно, отец, кому по городу рубли сшибать, а кому на природе поработать, подкормиться и опять-таки грошей скопить. А в городе сейчас какие корма? Одно название. Два неурожайных года было, забыл, что ли? Я вот из госпиталя вышел, врачи велели витаминов побольше есть, а где их найдешь в городе?
— Много балакаешь, хлопче, будто оправдываешься. А що касается жратвы, то с голоду пузо не лопнет, а только сморщится.
— Опять плохо, нелегко тебе угодить, батя, ты Же сам просил рассказать, а теперь упрекаешь. Тебе, может быть, помочь с веслами-то?
Старик некоторое время греб молча, выбираясь против течения вдоль самого берега.
— Та куды тебе в нашем Улове грести, тут и сила и соображение нужны. У кого думаешь на постой стать?
— Я без затей, пойду к тому, кто пустит.
— Так ты, хлопче, только ремонтируешь печи? Или и новые кладешь?
— Это кому как понравится. Но сам понимаешь, работа с материалом заказчика, у меня ведь при себе кирпичного завода нет. Ну, положим, по паре дверок, вьюшек, дымовых задвижек и прочей хурды-мурды я еще могу в крайнем случае из своего неприкосновенного запаса выделить, но большего с меня взять нельзя.
— Русские печи тоже клал? Или ты только по нынешним, варочным мастер?
— Это ты, батя, теплушку имеешь в виду? А чего же не класть, охотники на такие печи не перевелись. Но она же кирпича сожрет на четыре тонны, такую роскошь себе не каждый сможет позволить. Я, батя, и в хлебопекарне печь клал, а с ней не каждый справится. Опыт нужен, да и таланта немножко не помешает. Одному адвокату в Якутске до войны английский камин сложил. До сих пор благодарит. Если, говорит, посадят тебя или нужда припечет, обращайся, мол, всегда перед любым судом защищу. Понял, дед, как настоящего мастера ценят?!
— От брешешь, аж ухи вянут. У нас був такой в селе. Я, говорит, белку в око бью, чтобы шкурку не портить. А я как-то дывлюсь, а его баба эти самые беличьи шкурки выделывает, ужас та и тилькы! Пытаю ее: Тамара, ты не на сито их выделываешь? Обиделась, дуреха. Може, и ты так?
Печник промолчал: оскорбился или не захотел спорить — кто его знает.
Старик подогнал лодку к берегу и, поднатужась, вытащил ее нос на глинистый берег. Пока он звенев цепью, приезжий выволок свой неподъемный мешок на землю.
— Как же ты таку торбу из Якутска тащил? Пуп не розвязался? А кажешь, шо ты из госпыталя; шо ж ты там делал? Не детишек санитаркам?
— Недоверчивый ты, дед, какой-то, будто тебя всю жизнь дурили, да все уму научить не могли.
— Так оно и есть, хлопче, кто тилькы сельского дядька не дурит, кто тилькы с него не тащит. Потому и веры нет, а у тебя на морде написано, шо брешешь трохы.
— С чего ты взял?
— Боженька подсказал, понял? Когда у меня дети маленьки булы, нашкодят в хате, а я и подмечу. Откуда, пытают, ты узнал? А я на икону киваю: вот, говорю, кто мне рассказал все. Так они наловчились: як тилькы я з дому, они икону к стене отвернут, щоб боженька, значит, не подглядал за ними. Как это тебе нравится?
— Ты верующий, батя?
— Я, хлопче, тилькы себе верю да еще своей бабе, поскольку она уже стара, щоб дурить. А икона от батькив осталась. Висит и висит, хлеба не просит. Давай-ка теперь пидсоблю, — ухватился он за один конец мешка. — Так говоришь, що через тайгу ты один это пер? У меня кобыла в прошлом году в Улове утонула, так ты бы не нанялся ко мне вместо нее? Сил, бачу, хватит.
— Помогли мне подъехать, подвезли люди добрые, не все же такие въедливые и подозрительные, как ты. Тебе бы, батя, на работу в НКВД устроиться, большие бы деньги там огребал.
— Подывымося, може, кто туда и порекомендует. А чего ж тебе, хлопче, по селу шарахаться, людей пугать? Коли нам выпало познакомиться, то и пошли до моей хаты. Тилькы предупреждаю, спиртного я не приемлю и не люблю, когда в хате пьют. Идешь? Тогда давай руку на дружбу. Старыков я, Васыль. Переселенец. Теперь вроде бы на пенсии.
Печник, услышав его фамилию, будто что-то вспомнил и, чуточку замешкавшись, назвался, в свою очередь:
— А я Семен Жарких.
Добравшись до высокой избы-пятистенки, дед бросил ношу у крыльца и, подталкивая печника, вошел в дом.
— Мать! Где ты запропастылася? Глянь, кого я тебе привел, иди скорише, пока не передумал показывать.
Из смежной комнаты вышла пожилая женщина и, подойдя к Семену Жарких вплотную, стала, не стесняясь, разглядывать.
— Нет, не признаю, кто это, значит, давно не видала. Кто же это может быть?
— Совсем не бачыла, мать, — с торжеством сказал дед Василий, — а тилькы кто недавно жалився: печь, мол, дымит, под весь износился, рытвинами пошел, вот-вот все горшки провалятся. Сознавайся: жалилася? Лаялася?
— Ну чего уж ты при чужом человеке. Вдвоем останемся, так и выясним.
— Этот человек, мать, если не брешет, то печник.
— Батюшки, да где же ты его раздобыл? Да вы садитесь, отдыхайте, издалека, видно, шли, — засуетилась старуха возле Семена Жарких. — А ты бы кваску гостю поднес с дороги, пока я на стол соберу, — упрекнула она деда Василия.
— А чего это ты, мать, раскудахталась? Он же не в гости прибыл, а работать. Подывымося: як поработает, так и покормим, а то чего же харчи без толку на навоз переводить.
— Уймись ты наконец, не все ведь твои шутки понимают, еще обидится человек, тебя не зная.
— Если он вправду хороший — не обидится, верно, хлопче?
— Есть мне у вас и точно что рано, еще не заработал, давайте печь погляжу, — встал Семен Жарких.
Печь была еще горячей, и осмотреть ее изнутри Семену толком не удалось. Однако он понял, что справится с ремонтом, несмотря на то, что уже несколько лет не брал в руки кельмы.
— Ну а кирпичей маленько у вас в запасе есть, хозяева?
— Как не быть, — засуетился дед, — я хоть и не из куркулей, но хозяин, пойдем подывышься, — подтолкнул он парня, — может, с десяток обломков найдем.
— Да скорее приходите, отец, — наказывала бабка Анфиса, — долго ли мне здесь горшками пошурудить.
Дед Василий скромничал: в сарае у него лежала изрядная горка кирпича, заботливо огороженная горбылем. Семен Жарких взял кирпич, оглядел его, прибросил в руке. На боковой грани заметно выделялось клеймо кирпичного завода Атласова, который до революции снабжал едва ли не всю Якутию. Печник постукал кирпич, и послышался чистый металлический звук, он был хорошо обожжен.
— Да этому кирпичу уже лет пятьдесят от роду, — улыбнулся Семен, — а может, и поболе раза в два.
— Це точно, — согласился дед Василий. — Нам его на Алдан, было время, целую баржу из Якутска пригнали. Там тогда кафедральный собор после большого пожара разбирали, вот ушлые дядьки и пустили кирпич в распродажу. А шо, думаешь, раз старый — уже не годится?
Семен, мстя деду Василию за ехидство, неопределенно пожал плечами, не знаю, мол. Но сам он прекрасно понимал, что этому материалу цены нет, и, когда работал в строительном управлении, частенько имел дело с тугоплавким атласовским кирпичом. Но Жарких недооценил деда. Тот, выждав его реакцию, невинно заметил:
— У нас в селе старыми мастерами из этого кирпича все печи поставлены, а теперишние, не ведаю, може, его и негожим считают. — И, уже не сдерживаясь, негромко засмеялся: — Та ты, хлопче, не бойся, если не будет получаться, я тебе подсоблю, мы в селе ко всему приучены.
— Вы не так меня поняли, хозяин, — попытался оправдаться Семен, но потом махнул рукой и тоже рассмеялся.
Из сарая они пошли на берег реки, где разглядывали мелкие пещеры, которые появились здесь оттого, что местные жители копали себе глину на разные нужды. Глина была как по заказу, с незначительным количеством примесей — жирной.
— Ну, подывывся? — поинтересовался старик. — Пошли, поедим.
— Нет, дед, — уперся Семен, — поесть успеем, давай-ка глины во двор наносим да замочим ее. Слышал небось, что для качественного раствора глину заранее замачивают, за день, а то и за два?
Дед Василий с пониманием посмотрел на Семена и пошел домой за ведрами и лопатой.
Через час, когда в старой деревянной колоде они разбили крупные твердые комки глины, размельчили их поленом, как трамбовкой, и залили водой, от крыльца послышался голос Анфисы:
— Мужики, сколько же вас ждать можно? Идите за стол, все давно готово.
Они отошли к изгороди, Семен принес воды, а старик, стянув с себя рубаху, прихватил ковшик.
Ты чего это банный день затеял? — недовольно спросила Анфиса. — Руки бы ополоснул и хватит.
— Погоди, старая, дай пыль смыть, вся спина зудит. — Старик отошел в сторонку и, наклонившись, стал лить себе на шею и на тело холодную воду из небольшой деревянной бадейки. При этом он громко фыркал, отплевывался, и было заметно, что занятие это доставляет ему огромное удовольствие.
А Семен Жарких стоял рядом с ним и никак не мог оторвать глаз от еще крепкого, только у шеи дрябловатого тела старика, испещренного вдоль и поперек многочисленными рубцами шрамов.
— Где ж это вас так? — с нескрываемым удивлением спросил он. — Как будто гранатой или минными осколками шваркнуло. Досталось вам, дед Василий. Часом, не на первой мировой? В эту вроде воевать вы уже не должны были.
— Как-нибудь расскажу, если будет час, — отмахнулся старик.
— Уж он расскажет, — подтвердила с крыльца жена, — обязательно расскажет, скорее всего и не один раз. То-то я гляжу, раздевается, а он перед гостем похвастать маленько решил, дескать, не только тому кровь пришлось проливать.
— Замолчи, старуха, пока не поколотил, — грозно рявкнул дед.
— Вы что же деретесь дома? — неодобрительно посмотрел на него Семен.
— А как же ты думал? Все как у людей. Бей женку к обеду, вечером опять, не одлупцювавши за стол не сядь.
Старуха стыдливо прикрыла рукой рот, чтобы не заметны были щели от выпавших зубов, и засмеялась:
— Вы больше слушайте этого баламута старого, он вам наговорит. Вот я по тебе веником пройдусь, чтобы гостя в смущение не вводил…
Старик сделал вид, что в испуге закрывается от старухи руками, и натужным басом, подделываясь под голос попа, речитативом завел:
— От пожару и от потопу, а ще от лютой жены, господи, сохрани-и-и.
Рассерженная старуха хлопнула входной дверью.
— Пойдем скорее, Семка, а то если старая успеет розгневаться, то це буде надолго.
На столе в избе шел парок от вареной картошки, в миске громоздились соленые огурцы, прела перловая каша в чугунке. Семена Жарких уговаривать не пришлось, проголодавшись за последние дни, он с аппетитом ел, не уставая нахваливать все, что ему предлагали.
— Бач, як в госпитале Семка от домашнего отвык, вроде ничего особенного на столе нема, а ему все нравится, — довольно отметил старик.
— А наших вспомни, Василий, как приедут с прииска, так словно с голодного края, от стола не оттащишь. А уж вроде и Денис при должности, и Надюша при котлах продуктами заправляет.
— Так это, мать, не от харчей зависит, — уверенно перебил ее старик, — а от того, кто готовит. У тебя сызмальства навык имелся, оттого и смак и запах. А доньку Надийку ты все берегла, успеет, дескать, возле печи накрутиться, оттого ей сейчас и нелегко; представь себе, на такую ораву наготовить, да еще всем угодить. — Старик повернулся к Семену. — Доченька у нас поздняя, грешно сказать, родилась, когда мы с Анфисою уже по пятому десятку разменяли.
— Грешно тебе говорить, Василий, или нет, а с дочки пылинки сдуваешь, нарадоваться на нее не можешь. Ведь кровиночка его, — пояснила старуха Семену, — красавица. А так как дед и себя всегда красивым считал, вся их порода Стариковская такая нескромная, значит, думает, что доченька в него пошла.
Семен Жарких мельком глянул на хозяйку и подумал, что глаза Надежде достались от матери, такие же огромные, только у старухи они уже выцвели, пожелтели по ободку, устали от жизни.
— Сын наш, Денис Стариков, бригадиром у старателей на прииске «Огонек» работает, — пояснил хозяин. — Знаешь про такой? Тут недалечко, верст семьдесят с хвостиком, если прямо. Гарный прииск, про него даже в «Социалистической Якутии» писали, дескать, социалистическое соревнование на высоком уровне, работают старатели, себя не жалея. И нашего Дениса упоминали, даже фотография его бригады была напечатана.
— Одно слово, что фотография, — недовольно отметила старуха, — как мы с дедом ни вглядывались, а Дениса отличить не смогли, все там на одно лицо, темень.
— Это ничего, шо не розберешь, для того ж и подпись под ней, мол, передовая бригада Дениса Старикова на промывке. Кто грамотный, тот разберет.
— Денис и Надюшку к себе в бригаду перетащил, — с горечью сказала старуха, — мы было воспротивились, не хотели отпускать, да кто своему ребенку враг? Ей ведь к людям хочется, туда, где молодежи побольше. На прииске даже в военное время повеселее, а здесь, если война затянется, так и останется старой девой.
— Кто это тебе таку дурницу сказал, шо вона, проклятая, затянется? У Семки спроси, если мне не веришь. Чихвостим мы фрица в три шеи. Теперь до Берлина будет бежать без оглядки, как наскипидаренный.
— Когда война началась, Надюшка как раз школу закончила и уехала от нас, вот мне и кажется, что все это уже вечность тянется, — жаловалась старуху, — я так загадала: как только победим, так доченька домой вернется.
— Ага, держи карман шырше, як раз вернется. Девка шо пташка, открыл ладонь, пурх — нема ее. Разве шо жениха ей отыщем из нашего села.
— Ты бы думал, Василий, прежде чем говорить. Откуда в Чертовом Улове женихи? Мальчишки сопливые и те перевелись.
— Не горюй, Анфиса, не захочет она сюда ехать, так мы туда за ней тронемся, старики в доме всегда пригодятся. Я правильно кажу, Семка?
— Вроде бы правильно, дед Василий.
— Какой зять с тобой уживется, Василий? — всплеснула руками Анфиса. — Твои затеи да язычок только одна я и могу вытерпеть. Да и то с трудом.
— Не мели лишнего, Анфиса, не такой уж я плохой, як ты думаешь. А зять, если дочку полюбит, то нехай и до мене почтение имеет. Я ж твого батька терпел? Терпел! Уважение ему оказывал? Оказывал! А теперь припомни, как он меня встретил, какими недобрыми словами: ни в сыворотке сметаны, ни в зяте племени. Вот що мне в очи сказать посмел. А все оттого, шо был я из переселенцев-бедняков. Ну и шо с того? Прожили мы наш век неплохо, единственно, чего б я ще хотел, так это прожить еще стилькы, да пивстилькы, та четверть стилькы, а там и на погост можно.
— Ишь чего захотел, — охотно поддержала новую тему Анфиса, про себя радуясь, что Василий забыл о тесте. — Мне бы с первым внучонком понянькатъся, а там как бог даст. Жить сколько ты пожелал, так всем в тягость станешь.
— Это тилькы кажется, що в тягость, а как помрут батькы, детям их не хватает аж до собственной старости.
— Уж и израненный ты, Василий, и изрезанный, и обмороженный, и горелый, а никак тебе жить не надоест. Я иной раз присяду и чувствую, что устала.
Семен Жарких наелся и слушал стариков, жадно поглядывая на стол, где еще хватало и хлеба, и каши, и огурцов.
— Що, Семка, жалеешь, шо пузо не мешок и про запас не поешь? Ничего, мы еще завтра повторим, наедимся як следует, — шутил старик.
Анфиса еще и со стола не успела убрать, как входная дверь, брякнув кольцом, заскрипела, и в комнату просунулась старушечья голова:
— Василий, Анфиса! Есть в доме кто-нибудь? — поинтересовалась гостья, глядя на хозяев.
— А то ты не видишь, кума, — не удержался дед Василий.
— Ох да я не вовремя, соседушки, позже, наверное, забегу. Вон вы гостя потчуете, сами едите, вам, поди, не до меня сейчас, — раскланивалась старуха, не собираясь уходить.
— Ты чего хотела, соседка? — помешал развитию деревенской дипломатии Василий.
— Сказывают, что у вас печник поселился? — спросила та.
— И кто ж це сказывает? — удивился старик. — Со всего села один я с ним и балакав, никого не встречали, не говорили, а уже «сказывают». Это, часом, не ты, Анфиса, похвалилась? Правильно, кума, есть у нас печник, чего тебе от него треба? Признавайся, — по-хозяйски, как будто Семен Жарких принадлежал ему, поинтересовался Василий.
— Будто не знаешь, Василь, — жеманно отмахнулась соседка, — у меня ведь тоже печь дымит, трещинами пошла. Не глянете одним глазком? — просительно повернулась она к Семену.
— Посмотрю, — согласился тот.
— Посмотрит, — подтвердил и дед Василий, — но не сейчас, а после того, как у нас ремонт окончит. Верно? — поглядел он на Семена.
— Поглядеть и сейчас можно, — не согласился печник, — может, пока я у вас работаю, ей нужно материал какой раздобыть, вот у нее и будет времени с запасом.
В тот вечер Семен Жарких осмотрел печи в добром десятке домов деревни, перезнакомившись с ее жителями, которые уже загодя испытывали к мастеровому большое почтение. Да и то сказать, в сибирской деревне печь в доме — это как бы предмет культа. Можно обойтись без лошади, без коровенки и даже без огорода или сарая, но как прожить без печи? И стоило ей только слегка задымить, закапризничать, как женщины уже искали мастера, соглашаясь на любые его условия, лишь бы печник был знатный. Нередко хозяйки откровенно гордились тем, что печь у них клал не кто-то, а, к примеру, сам Никола Игнатьев, и потому она уже два года стоит себе, не принося никаких хлопот, знай только подмазывай ее стенки жиденьким глиняным раствором и не забывай подбеливать. Но война и здесь нанесла урон. Хороших и плохих печников забрали на фронт, а те, которых по болезни не взяли в армию, забросив вольный промысел, определились на работу на прииске. Мыкался народ в сибирских деревушках в поисках мастеровых, а разыскав, не жалел ни посулов, ни угощенья, стараясь предупредить каждое желание мастера. Не сделали исключения и для Семена Жарких, привечая и улещая его. Всем он обещал помочь по мере своих сил и времени, для каждого находил доброе слово, пока старательно оглядывал печи, простукивая кладки и исследуя топки. И в глухой деревушке, где люди не торопятся высказать свое мнение о человеке, пока не приглядятся к нему как следует, не посмотрят в деле, на этот раз вроде бы изменили традиции, подхваливая печника загодя.
С раннего утра Семен Жарких был уже на ногах.
— Ты, хлопче, не беспокойся, — подошел к нему дед Василий, — коли шо треба, то я тут, скажи.
— Ну и хорошо, — охотно согласился мастер, — вдвоем сподручнее будет, повеселее. Коли сам свои услуги предлагаешь, батя, давай мы с тобой на этих порах разделимся: ты раствором займись, а я печью. — И он выложил рядышком с песком грядку глины, начал старательно перемешивать ее, сильно ударяя лопатой.
— Понял, батя, как надо? Песку один к одному клади; жирная глина требует его побольше. Самое главное, чтобы раствор был без комочков, глины не оставалось, тогда и швы при кладке будут тонкие. Дело вроде бы нехитрое, верно? Но о важности его и говорить не стоит.
Дед Василий занялся раствором, правильно поняв свою задачу, а Семен, убрав печную заслонку, полез в варочную камеру русской печи и, устроившись на глухом ее поду, принялся осторожно выбивать неровные, в выбоинах, кирпичи.
— Это сколько же нужно было на такой печи еды приготовить, чтобы поверхность пода неровной, как волна, стала, — негромко бурчал он.
Анфиса, ревниво наблюдавшая за его работой и не уходившая, несмотря на пыль и сажу, повалившие из отверстия, все же расслышала, о чем он говорил.
— Ой, милый, сколько я на ней готовила, и сказать трудно. А до меня Васильева мать пекла, варила, жарила. Так что, гляди, три поколения наша кормилица повидала.
Семен еще и половины своей работы не сделал, как со двора вошел Василий.
— Готов, хлопче, твой раствор, можешь принимать.
Семен охотно выбрался из печи. Глубоко дыша и отплевываясь от пыли, вышел во двор, прихватил стальной лопатой глиняный раствор, который легко сползал с нее, не растекаясь, значит, он хорошо перемешан, и мастер удовлетворенно улыбнулся. А когда он отдышался и вернулся в горницу, из варочной камеры слышался спокойный ровный стук, и Анфиса, деловито принимая от мужа кирпичи, аккуратно укладывала их на пол.
— Ну, дорогие хозяева, вы, пожалуй, и без меня обойдетесь, — ободрил помощников Семен.
— Не нашелся бы ты, обошлись бы своими силами, — подал голос старик, — а теперь мы у тебя в подмастерьях. Ты только говори, что нужно, командуй. А уж мы все сделаем як велишь. Мы понятливые, не переживай.
Потом Семен Жарких тщательно готовил прочное и ровное основание под подовые кирпичи и, испытывая к одиноким старикам жалость и такое сочувствие, как будто были они ему родные, колдовал с кирпичами, стараясь придать поду небольшой подъем в глубь варочной камеры, чтобы Анфисе удобно было орудовать здесь ухватами. Руки Семена, вначале робко вспоминая утерянную ловкость, вскоре освоились, не боясь ушибов, задвигались, едва ли не с профессиональной ловкостью подбрасывая раствор и укладывая в ряд кирпичи. И ему было искренне жаль, что ни старик, ни старуха не поймут и не оценят того мастерства, которое вновь проснулось в нем; поди объясни им, что толщина швов между кирпичами здесь должна быть минимальной и не превышать одного-двух миллиметров. И ему этот минимум удается, удается, черт возьми!
И в военном училище, и на фронте, и, наконец, в отделе по борьбе с бандитизмом Семен Жарких, осваивая новое дело, всегда знал, что, кроме всего прочего, у него есть неплохая специальность, которая ни при каких обстоятельствах не даст ему пропасть с голоду, которая позволяет ему причислять себя к рабочему классу, поддерживать с ним незримые, но такие крепкие связи. И не потому это радовало его, что боялся не справиться с новыми вершинами и оказаться у разбитого корыта. Молодому Семену — предприимчивому и, чего греха таить, несколько самоуверенному — приятно было сознавать свои корни, свое рабочее происхождение, это были его тылы, крепкие основательные тылы рабочего человека, которого судьба перебросила на передний край борьбы — в милицию.
Покончив с подом, Семен присел на корточки возле печи, раскладывая инструменты, пока Анфиса убирала основную грязь, они с Василием негромко разговаривали, чувствуя друг к другу взаимную симпатию, которая проявляется у рабочих людей в совместном деле.
— Я, Семен, если ты не против, буду тебе помогаты и по другим хатам, — попросил старик.
— Мне-то что, помогайте, раз нравится, только зачем вам это? — удивился Семен, — Мало у вас своих забот?
— Я в будущее заглядываю, Семен, — задумчиво ответил хозяин, — ты сам подумай: скоро война окончится, в селе новые хаты начнут ставыты. Народ с фронта и с приисков потянется домой. Но если топором у нас каждый мужик владеет, то твое ремесло не всякому дано. Так я и хочу позаботиться о тех, кто еще свой дом не построил. Похожу с тобой, подывлюся, что-то в памяти и останется. В крайнем случае, если не смогу сложить новую печь, то хоть ремонтировать научусь. Як считаешь?
— Да научишься, батя, дело наше не особенно хитрое, это тебе не самолеты ладить.
— А что самолеты? Разве их не такие люди, як мы с тобой, роблять? Русич — мужик умелый: подывытся, попробует разок и будет делать не хуже других. Нам треба тилькы почаще назавтра загадывать, про запас, тогда совсем добре будет.
— И то верно, — согласился Семен.
— Послухай, хлопче, — вконец расчувствовался старик, — а чего тебе в городах по мостовым обувь стаптывать? Перебирайся к нам в село. Сейчас, конечно, не потянем, дядькив маловато осталось, а после войны построим тебе обществом избу — обживайся на новом месте. Дивчину найдем, женим, га?!
— Нет, батя, не стану врать, я в ваших краях недолго продержусь, скоро снова в Якутск вернусь.
— Ну, дывыся, — обиженно протянул старик, — пошто за тем гнаться, кто не хочет с нами знаться.
— Чего к человеку привязался, Василий? — вмешалась Анфиса. — Кому где любо, тот там и живет. Это тебя из Чертова Улова клещами не вытащишь, а ему, может быть, в городе пожить хочется. Пока молодой, пускай там потрется, народ посмотрит, а вот как на закат у него жизнь повернет, так, может быть, и сам в село запросится. Ты вспомни, как сам от города отказался. А ведь тебя тогда и начальство уговаривало, и я тебе советовала ехать, не послушался. Жили бы мы сейчас в городе — и Надюшка бы от нас на прииск не подалась.
— Ну вот, наступили тебе на больную мозоль, — недовольно поморщился Василий. — Хватит, Семка, сидеть, а то и на хлеб с квасом не заробымо.
И снова в работе незаметно бежало время. Семен затирал мелкие трещинки на поверхности печи. Крупные и глубокие щели он заделывал глиняным раствором, добавляя в него кирпичный щебень.
— Сейчас бы соли полкилограммчика, — вздохнул Семен, — ее, бывало, в растворчик добавишь, будто цемент схватывает, намертво.
— Соль нынче, хлопче, большая ценность, — пожаловался старик, — не скажу, шо у нас ее нет, однако на печь не напасешься.
— Ничего, обойдемся, — согласился Семен. Он ловко расчищал трещины, смачивал их водой, а потом, заполнив раствором, тщательно швабровал поверхность печи. — Дед! — не прекращая работы, позвал он, — а что это Анфиса говорит о том, что тебя в Якутск на жительство звали? Когда это было? Непривычно как-то вроде, простой деревенский мужик, а его из глухого села в город приглашают. Может, она для красного словца?
— И вправду было, — подтвердил старик, — это после того, как я свои отметины-шрамы получил. Тому уже лет двадцать, наверное. Анфиса, — позвал он, — напомни, когда я бандитов гонял на свинцовых рудниках?
— Когда ты их гонял, не помню, а вот тебя эти изверги хотели доконать в двадцать втором году.
— Тогда в Якутии последних белогвардейцев добивали, — спокойно, будто не слышал реплики жены, продолжал Василий. — Они никак успокоиться не могли, как осенние мухи: знают, шо не сегодня завтра из жизни уйдут, так особенно больно кусают. — Старик говорил неторопливо, с частыми паузами, и речь его стала много чище. Семен уже подметил: когда дед хотел, он мог довольно правильно говорить по-русски, не прибегая к большому количеству украинских слов. Да и мудрено ли, столько лет он прожил в Сибири. — Вот и к нам на рудник пишла такая банда, чекисты о ней узнали и поспешили ее опередить. Сообщили в рабочком, принимайте, говорят, товарищи, боевое крещение и встречайте их. С нами чекисты не остались, у них свое задание — на всякий случай вывезти с рудника запас динамита, чтобы он ни в яким рази в руки бандитов не попал. В той оперативной группе и было-то всего — чекист Квасов да два бойца из ЧОНа — частей особого назначения. Маловато орлов, прямо скажем. Поэтому в помощь им направили меня, как сочувствующего коммунистической ячейке. Выехали, а до Якутска шестьсот верст з лишком. На Алдане на нас первый раз напали, как мы тогда ушли, до сих пор не пойму, пидвезло, наверное. К тому времени весь цей район был уже в руках белобандитов, остановиться нам негде, как прознают, кто мы такие, так и не бачить нам больше белого света. Мне особенно себя жалко было, хоть я и сочувствующий, но ведь еду по своей доброй воле, остальные же — задание выполняют.
Опять-таки для них риск — дело привычное, а я, хотя господь меня силой не обделил, всю жизнь даже драки недолюбливал, ведь сила человеку не для того дана, чтобы он из себе подобных шкиру драв. Ну, делать нечего, терплю, дальше еду. Мороз в иной день такой, что плевок на лету замерзает, вот, ей-богу, не брешу. Когда решили, что вырвались наконец из района, в котором беляки шалили, зрадыв нас проводник, подвел нас наволочь к самой засаде. Вот здесь, понимаешь, парень, зимник проходил, — чертил дед Василий щепкой на грязном полу горницы, — по самому берегу озера, а справа над ним гора нависала пузом. Дали они из засады залп, враз чоновца сразили и половину оленей побылы. Мы в ризни боки подались, обороняться там негде было — место открытое, вторым залпом они бы нас всех прибрали.
— Ну и что, — торопил рассказчика Семен, — ушли?
— Что ты, хлопче, такой скорый? Ты уж слушай, як дило було, не торопи, а то мысль потеряю. Вначале они поймали чоновца, млоденький был парнишка, худеньке таке. Я уж потом узнал, как эти нелюди поступили с ним. Раздели догола и при пятидесятиградусном морозе заставили бегать по сугробам, да еще батогом подгоняли. А потом даже пули на него пожалели, забили палками до смерти. Понял, Семка, каки гадки люди по нашей земле в те годы ходили? В конце концов и меня с чекистом тем живьем захватили. Я в плечо навылет ранен, как кровью не истек — не понять. Он обморожен весь, уже еле рухався. Доставили нас в штаб банды и сразу же на допыт; рассказывайте, такие-сякие, мать-перемать, куда динамит везли. Чего рассказывать, и так понятно — в Якутск. Неделю держали нас в холодний. Шо я за эту неделю испытал, то словами не описать. Мужик я тогда был здоровый, так им особенно хотелось, чтобы я от боли закричал, завыл бы не своим голосом. Вот, мол, они по сравнению со мной мошки, а как укусить могут.
— И что вы, батя?
— А чего бы ты хотел услышать? Конечно, крычав не своим гласом. Все следы, которые ты на мне видел, тогда они и оставили. Особенно начальничек их отличался, есаул по фамилии Дигаев. Мне его вовек не забыть. Опытным бестией был, рассказывали, что он в тюрьме перед этим служил, а потом в белой контрразведке. Я, говорит, тебя учу не потому, что ты красным помогал, а потому, что мне в руки попался. Через неделю мы от них утекли.
— Как это можно было в таком состоянии сбежать? Опять вы за свои шуточки, дед Василий?
— Вот и они думали, что мы выкровылися та выкрычалыся и никуда не денемся, готовили нас для показательного расстрела. Сарай, в котором мы сидели, на замок закрыли, а часового даже не поставили, чего полумертвяков сторожить? А мы через сеновал и в горишне окно выбрались. Думаем, якшо вже умирать, то не од их ножей, болью захлебываясь, а уснуть в снегу, и вечная нам память. И вправду заснули. Хорошо уже так было, радостно, вот, думаю, как я беляков обманул, выбрал себе смерть спокойную на зависть. И вже ни раны у меня нэ болилы, ни грудь отбитая. Потом чувствую, словно иголки в меня впились, разом очнулся. Гляжу, вроде бы в чуме лежу на меховой подстилке, кумаланом у них называется, а на мне верхом якась баба эвенка, и ну трет меня, ну накручивает. В чуме жарища, но ноги-руки у меня отморожены, от тепла да от ее рук боль невыносимая. Потом напоила меня кисловатой настойкой с горечью, что-то поспивала надо мной, повыла, я и заснул.
Пробыли мы у эвенков не меньше месяца. Я в этом чуме, напарник мой по несчастью — в соседнем. К концу и вообще повеселело. Раны мои затянуло, старуха их чем-то смазывала, обмороженные места покраснели, пошелушились, почесались, и забыл я о них. Это сейчас, хлопче, эвенки нисколько не хуже нас живут, а тогда не позавидуешь им, брат ты мой. Зимой в чуме как натопят, так только успевают одну одежонку за другой с себя сбрасывать. Сначала зипун с себя скинет, это у их женщин вроде нашей шубейки, только яркий такой, охристо-желтый, а то и зеленый, как бутылка, бывает. Бисером зипун вышит, цветной тканью отделан. Потом баккари из оленьих камусов в угол летят, унты значит, — поймав недоумевающий взгляд Семена, пояснил дед Василий, — остальную одежду распахнут — и ходят, ну, прямо голисиньки, в чем мать родила.
— Ой, охальник ты, Василий, ничего другого рассказать не можешь, как про эту бабку свою. Знать, есть что вспомнить.
— Веришь, нет, Семка, ревнует Анфиса к моей спасительнице. Сколько лет прошло, сами в стариков превратились, а она все той простить чего-то не может, не пойму чего. Ты бы хоть призналась, Анфиса, а, Анфиса?
— Отстань ты, только у меня и дела, что ревновать тебя с утра до ночи.
— Ну, тогда я дорасскажу Семке ту историю. Глядел я на себя, Семка, к концу месяца-то и поверить не мог, что так люди живут. Цвет тела у меня, ну как кора у ракиты, светло-коричневый стал, на руках, груди белые полоски, словно бусы, — это пот тек и смыл грязь с кожи. Как сам понимаешь, не досталось им от царизма ни полотенцев, ни нижнего белья, а о постельном и не слыхивали. От вшей я так мучился, Семка, не пересказать! А хозяйке моей — ничего! В жизни такого не видел никогда, да и нет, видно, такого больше нигде на свете: хозяйка-то с ворота своего зипуна насекомую поймает, зубами ее прикусит и отбрасывает. Воздух в чуме ночью такой спертый, что дышать нечем. Я разок высунул голову наружу, под полог чума, так моя благодетельница меня обругала, воздух, дескать, холодный идет, захвораем. Тут она права, от сквозняков там вмиг чахотку приобрести можно было. Но ничего, постепенно привык я, выбирать-то не из чего. Дальше, мать, как — разрешишь мне рассказывать или опять обзываться будешь?
— Поглядим, что скажешь, — засмеялась Анфиса. Несмотря на то что она уже многократно слышала о жутких похождениях мужа, заинтересованности у нее сейчас было нисколько не меньше, чем в первый раз. Только ощущение ужаса пропало за давностью лет, и она со вниманием вслушивалась в неторопливый рассказ, иной раз как будто отделяя услышанное от того, что происходило все это с ее мужем Василием.
— А потом в тот же чум перебрался и сын хозяйки с молодой жинкою. Их стойбища белогвардейцы разгромили, отобрали оленей, сожгли кыстык — зимовье, значит. Короче, как у нас говорится, пустили по миру, других слов не придумаешь. Вот тут мне, Сема, потяжелее пришлось. Как только спать ложимся, молодые шкурой прикроются и прямо при мне своим делом занимаются.
— Да ты замолчишь когда-нибудь, охальник несчастный? Да ты что же такой срам рассказываешь?
— Я им тоже намекал, что это срам, — согласился Василий, — я уж и кашлял и вертелся, чтобы они поняли, не сплю, мол. Только им не до меня, словно никого и не было в чуме. А с другой стороны, ты вот, старуха, ругаешься, нельзя, дескать, о таком говорить. А шо, если так и было на самом деле? Если других условий к тому времени еще не придумали? Веками так жили, Семка, до тех пор, пока Советская власть не окрепла. Я лет десять назад разузнал по случаю адрес своей спасительницы и по-родственному с Анфисой, с сынком Денисом поехал к ней в гости. Приехал, жива, слава богу, хоть в чем уже душа держится: старая, больная. Поначалу не признала меня, а потом радости столько было, как будто я ее спас, а не она меня. И жила она уже в нормальном бревенчатом доме, чума давно в помине нет, внучата в школу бегают, только сынок по родственному завету в оленьих стадах Колымснаба Дальстроя работает.
— Хлебнули вы лиха, дед Василий, ничего не скажешь. А кто же вас в Якутск все же завлекал?
— Тот самый чекист, с которым мы динамит везли, а потом муки терпели. Он тогда в Якутске быстро в рост пошел, милицейским начальником зробывся. Я, каже, Василий, знаю тебя как стойкого человека, который ненавидит бандитов и может выжить в нечеловеческих условиях. Анфиса, — поглядел старик на жену, — подтверди, говорил он про меня такие слова?
— Было, — согласилась она.
— Без тебя, мол, пропадет якутская милиция не за понюх табаку, — лукаво посмеиваясь, продолжал старик, — потому приглашаю тебя в нашу столицу и обещаю в скором времени подыскать комнатушку для жительства.
— Чего же вы не поехали?
— Зачем мне его комната, если у меня здесь целый дом? И на руднике я не без крыши над головой жил. Скажу тебе честно, Семка, не лежит у меня душа к работе в милиции. Я человек вольный, а там дисциплина.
— Тут ты, Василий, привираешь, — не утерпела Анфиса. — С грамотешкой у него небогато, — пояснила она Семену, — вот и побоялся, что не справится в милиции.
— Если и так, то й що? И там, поди, не академики работают, захотел бы — выучился. Что ты за скверная баба, так и норовишь мне славы поубавить. Это ты, наверное, от зависти, тебя ведь в город на работу не приглашали, а ко мне доверие испытывают.
— Однако заговорились мы, — прекратил перепалку стариков Семен Жарких. — Еще разок печь пробелю — и принимайте работу. Топить ее не торопитесь, до зимы времени много. Денек постоит, потом ма-а-аленький огонь разведете, а топочную и поддувальную дверки настежь откроете. И так несколько дней протапливайте раза по два в сутки. Зимой будешь на ней греться, дед Василий, глядишь, и меня добрым словом вспомнишь.
Со следующего дня Семен и дед Василий стали кочевать со своим инструментом по селу. Меняли отдельные колосники, заделывали трещины, устраняли завалы в дымоходах и клепали заплаты на духовки. Работали дружно, как будто не один год были вместе. Все переговоры, как правило, вел дед Василий, которому нравилось давать односельчанам советы. Согласовывая оплату за работу, он старался и мастера, то есть Семена, не обидеть, но и возможности хозяев учитывал. Расплачивались больше продуктами: прошлогодней картошкой, топленым звериным жиром или кедровыми орешками. Мастер посмеивался, но деду не противоречил: пускай потешится старик.
— Ты бы, Матрена, муки печнику выделила, — настойчиво советовал тот в очередной избе.
— Где же ее взять, сосед? До нового урожая далеко, да и пока еще к нам завезут мучицу-то.
— А ты из тех двух мешков, шо тебе сынок с осени завез, выдели пару килограммчиков. Живешь ты, Матрена, одна, ешь мало, чего ждать, пока в муке черва заведется? Человек ради твоего тепла увозюкается, як бис какой, жилы рвать из себя будет. А ума скилькы треба, чтобы в твоей печи разобраться? Если человек заболеет, так его спросят, где болит, как он себя чувствует. Колет ли у него в сердце или пече в печинци, а печка, твоя молчит, поди догадайся, чем она хвора, отчего дымит и разгораться не хочет.
— Хорошо, Василий, — сдалась старуха, — только уж ты сам проследи, чтобы тяга была.
— У вас, хозяйка, печь особого ремонта не требует, — успокоил разволновавшуюся женщину Семен Жарких, — дымоход сажей забит, с этим мы быстро справимся.
— Что, Матрена, сынок на побывку скоро приедет? — отвлек старик хозяйку от печных забот.
— Не отпускают его нонче, Василий, ты же знаешь, поди, о том, что прииск банда ограбила.
— Краем уха слышал, но думал, шо брешут люди, ты что, и подробности знаешь?
— Как не знать, сосед, сынок обо всем подробно написал, жаль, что письмо затеряла, но я по памяти все расскажу. Налетела на них банда великая, человек в восемьдесят, никак не меньше. Всю охрану возле золотой кассы порубали, постреляли, золото в мешки и в тайгу спрятались.
— Что, и убили кого? — заволновался старик. — У меня ведь там дети.
— Ничего с ними не сделалось, — успокоила хозяйка, — сынок их видел уже после этого, сказывал, что Надюшка твоя к вам погостить собирается. А обиженных на прииске было много, человек тридцать убили да двадцать израненными лежат.
— Так, — перебрал пальцы на левой руке Василий, — ты, сусидко, всегда разив у десять преувеличиваешь, значит, було их около десятка, убили трех, а двух ранили. Як, Матрена, согласна с моей поправкой?
Семен Жарких подивился про себя житейской прозорливости деда, которого даже Матрена не смогла ошеломить своими цифрами. Слушая разговор стариков, он через вьюшку и задвижку трубы прочистил каналы и дымовую трубу.
— Ну, хозяйка, сколько ты сажи накопила, — передавая ей очередное ведро, доверху заполненное невесомо-воздушной грязью, посетовал он. — Так ведь и до пожара недалеко, нужно следить за дымоходом.
— Поняла, шо мастер говорит? Чуть было хату не спалила, старая, можно сказать, из погорельцев тебя в нормальные люди вернули, а ты двух килограмм старой муки пожалела, — ввернул старик. — Ну и шо дальше на прииске произошло?
— А чего дальше? Золота тонну на лошадей погрузили и ускакали бандиты в сторону Германии. Теперь в тайге за каждым деревом энкэвэдэ сидит, ловит их.
— Так если они в сторону Германии поскакали, чего же их у нас в тайге ловить? — уличал старуху на противоречиях дед Василий.
— Выходит, не все сбежали, часть здесь хоронится, — не сдавалась Матрена.
— Вот оно шо, — с каким-то одному ему понятным значением пробормотал старик, — значит, полно вокруг и казаков и разбойников, а мы сидим и ничого не видаемо. Це дило треба разжувати…
— Если у тебя, хозяюшка, печь при растопке будет дымить, так не расстраивайся, это еще не горе, — вернул Семен старуху к местным заботам. — В теплое время года такое бывает. Холодный воздух застоится в дымоходе и мешает проходу газов, поняла? Ты тогда сожги в печи стружку или солому, и она снова исправно служить будет. Давай сейчас попробуем, чтобы в следующий раз тебе не пугаться.
Семен Жарких уже для всей деревни стал своим человеком. Отбросив излишние церемонии, он мог зайти в любую избу, благо особого повода придумывать не приходилось, стоило только поинтересоваться печью, уже отремонтированной или еще требующей его заботы.
Вечером третьего дня в избу, где они работали, прибежала Анфиса и сообщила деду Василию, что у него гость.
— Кого это черт принес невчасно? — поинтересовался старик.
— Дружка твоего давнего, Гошку-зуботехника.
— Накорми человека, — распорядился дед Василий, — нам уже немного осталось, скоро будем. Скажи Гошке, шо я теперь при деле, печи ремонтирую. — И, повернувшись к Семену, добавил: — И что такое в свити происходит, объясни мне, Семен? Обычно к нам в деревню никого не допросишься, не доклычешься, а тут мастера спешат один за другим. Ты в наши края прыблудывся, следом за тобой зубодер. Кого еще ждать, ума не приложу, но чую, что продолжение будет. Знать бы тилькы, хорошее или плохое…
— Случайность, — отмахнулся Семен Жарких. — Ну, подумаешь, два специалиста заехали.
— Не скажи-и-и, хлопче, — не согласился дед Василий, — за всю мою жизнь в Чертовом Улове такого наплыву еще не было, это ведь тебе не Якутск и не Москва.
Задерживаться на работе в тот день не стали. Дед Василий первым вошел в избу. В открытую дверь Семен Жарких слышал, как хозяин с гостем поздоровались, и понял, что знают они друг друга неплохо, и отношения между ними за давностью лет нисколько хуже не стали.
— И где же печник твой? — поинтересовался Гошка. — Анфиса твоя сегодня не в духе, ничего толком от нее не узнал, говорит, вроде приятель твой? Откуда ты его привез, Василий? Давно он здесь?
— Ты, Гошка, часом, не в милицию перешел работать? — вопросом на вопрос ответил старик. — Все бы тоби знать. Увидишь хлопца, потолкуешь с ним, о чем захочешь — спросишь. Семка! — громко закричал старик, — ты де запропастывся? Иди в избу, не бойся, здесь все свои.
Семен Жарких вошел в горницу, слегка затемненную полуприкрытыми створками ставен, и со света не сразу заметил гостя. Оглянувшись по сторонам, он позади себя, у двери, увидел настороженно вглядывающегося в него Гошку Налимова. Нисколько тот за прошедшие годы не изменился, вот только вместо тщательно уложенных и напомаженных бриолином волос поблескивала лысина и щеки стянули несколько косых морщин.
— Знакомьтесь, гости шановни, — предложил старик чинно.
Гошка подошел к Семену Жарких, не торопясь протягивать руку. Пригляделся поближе и вдруг, коротко хохотнув, ударил себя по коленям.
— Да мы вроде знакомы, если не ошибаюсь. Семен, что ли? Жарких — ты? Чего не признаешься или не узнал?
— И точно знакомы, — прекрасно разыграл удивление Семен, — здорово, Гошка! Вот уж не думал тебя в этой глуши встретить. Ну в Якутске понятно, там каждый день на улице столкнуться можно, но здесь… это же надо такому случиться!
Гошка охотно пожал руку Семену и полез к нему обниматься:
— Вот так встреча! Это сколько же, Семен, я тебя не видел? Года три-четыре?
— Да как съехал ты, брат, в отдельную буржуйскую комнату, так и не виделись мы.
— Верно. Какими судьбами, Семен, ты в этот медвежий угол? Сам или поневоле? Где это тебе так черепок расколотили? Гляди, такой удар — и жив!
— Да как тебе сказать, Гоша, своя воля хуже неволи. В начале войны забрили меня в армию, отвоевал сколько смог, а после ранения демобилизовали. «Ты, — сказали, — со своей постоянной головной болью теперь на фронте не нужен». Вернулся в Якутск, там голодно. Вот и пришлось подаваться на кормежку в эти края. А ты откуда?
— И бывают же встречи! — не отвечая Семену, тормошил Гошка теперь хозяина. — Мы с Семеном, дед Василий, в одном общежитии проживали. Кровати бок о бок стояли.
— И то бувае, — глубокомысленно изрек старик, — чого быть никогда не може. Жили под одной крышей, а теперь у меня встретились, вот як. Значит, у вас и интересы общие, и поговорить есть про шо, пойду-ка я Анфисе на дворе помогу, а вы покалякайте. — Василий вышел.
— И много ты уже здесь продуктов заработал? — спросил Гошка.
— Хочешь, чтобы я с тобой поделился? — улыбнулся Семен. — Немало.
— Да если серьезно, то я бы не отказался. Только не думай, я не задарма, заплачу, как в магазине, будь спокоен.
— Да сколько тебе одному нужно, Гоша? Какие между старыми приятелями счеты? Бери бесплатно.
— Но ты все-таки не ответил, Семен, сколько дани с этой деревушки собрал?
— И картошка есть, и мука, и жир, они здесь не скупердяйничают. Если пожелаю, так и авансом взять могу. Только если у тебя, Гоша, деньги есть, ты у них и купить можешь, я зондировал почву, они и на шмотки поменять могут, и продать.
— Давай, Семен, я у тебя все оптом куплю, а ты здесь еще останешься и, что нужно, у них возьмешь, а?
— Ты что, Гоша, в торговлю подался?
— Нет, надо нам с тобой, Семен, по душам поговорить, откровенно, да только не на бегу, а обстоятельно. Давай так поступим: сейчас я у тебя все, что есть, заберу и у старика прикуплю маленько. И сразу уеду на зимовье, тут рядышком меня друг-охотник ожидает. Завтра приеду погостевать у деда подольше. Он когда-то просил своей Анфисе зубы вставить, вот мы по случаю с тобой и поговорим. Не возражаешь?
— Странно все это, Гоша, ей-богу, но спорить не буду, коли тебе так захотелось. Знаю, за тобой не пропадет.
— Вот это ты молоток, Семен, правильно дело понимаешь. Ты меня держись, не прогадаешь. Я сам жить люблю и другим дам.
Через час с небольшим Гошка, отказавшись от помощи, ушел в сторону таежной дороги, соединяющей Чертово Улово со всем остальным миром.
— Скажи, Семка, тилькы не бреши, вы с Гошкой договорились здесь встретиться, чи як?
— Как же я мог с ним договориться, если несколько лет его не видел?
Старик недоверчиво поглядел на Семена Жарких, но промолчал.
Действительно, на следующий день после обеда Гошка Налимов снова был в деревне. Он зашел в избу, в которой работал Семен Жарких с дедом, поглядел на их работу.
— Хорошо кирпич кладешь, — одобрил он, — словно бы и на фронте печки клал. А может быть, ты там в хозяйственном взводе был при начальстве? — пошутил он. — Какой-нибудь мужичок за свою бабу и огрел тебя кирпичом? Нет? Может, тогда тебе помочь чем?
— Побереги свои руки, Гоша, — отказался от помощи Семен, — ты по нынешним временам мастер редкий, зубные протезы делать — это не кирпичи класть.
Гошке похвала пришлась по душе. Покрутившись немного возле мастеров, он шепнул:
— Семен, шабашил бы ты сегодня пораньше. Понимаешь, разговор безотлагательный, а здесь ведь словом не перекинешься. Кончай побыстрее, я тебя на берегу буду ждать, возле лодок. Скажи деду, что выкупаться хочешь, на хрена ему все знать.
Через полчаса Семен, несмотря на протесты хозяев и молчаливое недовольство деда Василия, завершил работу. Они почистили инструменты, залили глину водой и налегке вышли из дому.
— Ты, батя, в избу иди, попроси Анфису, чтобы ужин приготовила, а я на речку сбегаю, окунусь разок.
— Берегись, хлопче, нашего Улова. Возле бережка поплескайся и хватит, не таки казаки, як ты, здесь с жизнью распрощались. Гошка на ужин тоже придет?
— Мне откуда знать его планы, дед? Его и спрашивай, да он ведь наверняка уже у Анфисы зубы проверяет.
— Нет от него в цей раз корысти, — недовольно сказал старик, — каже, инструментов с собой не взял, обещал позже заехать. Чего, пытаю, тогда сейчас прикатил?
Гошка Налимов поджидал Семена Жарких на берегу Аллах-Юня. Они отошли в заросли кустарника, присели на камешки.
— Я тебя, Семен, знаю давно и верю тебе.
— Спасибо, Гоша, только что это ты так серьезно начинаешь разговор?
— Видишь ли, то, о чем я тебе сейчас расскажу, ты никогда никому не должен говорить, не то и тебе и мне худо будет. Понял? — заговорил он с растяжкой.
— Пока еще не совсем, ты же о главном пока молчишь.
— Ты слышал о том, что на прииске «Огонек» взяли кассу с золотом и совзнаками?
— Только вчера Василий об этом от соседки узнал. Говорили, что тонну золота будто разбойники хапанули и в тайгу ускакали.
— Что еще болтала?
— Будто в налете участвовало чуть меньше сотни человек, и сейчас их по всей Якутии ищут, сегодня-завтра всех поймают.
— В общем, Семен, набрехала она. Я во время этого налета тоже там был. Золота мы взяли пудов шесть. И было нас куда меньше, а сейчас от десяти человек и вовсе пшик остался, да это не так плохо, сам понимаешь, доля каждого увеличивается. Хочешь нам, Семен, помочь?
— Да ты что, Гошка? Если поймают, меня же вместе с вами расстреляют. Я понимаю, ты хоть за свою долю рискуешь, а я чего же ради голову буду подставлять? Да и чем я вам помочь смогу? Даже не представляю. Нет, Гоша, извини, но на меня, друг, не рассчитывай. Я в Чертовом Улове продуктами запасусь и айда в Якутск на работу устраиваться, жить-то надо.
— Дурак ты, Семен! Да ты за короткое время с нами столько заработаешь, что потом несколько лет сможешь на боку полеживать и в потолок поплевывать. Ты что же думаешь, я о тебе не позаботился? Всех дел-то плюнуть и растереть. Золотом за услуги будем расплачиваться, понял? Зо-о-оло-о-ото-о-ом! А на него, друг ты мой, все на свете можно купить. У нас в отряде мужичок такой есть хитроватый — Сан Саныч, так он говорит, что при желании даже виллу во Франции можно купить.
— Зачем нам твоя Франция сдалась, — отмахнулся Семен, — и вилла тоже. Я здоровьишко подправлю и поступлю учиться. Будет диплом инженера, так не пропаду.
— И на время учебы тебе деньги не помешают, — успокоил его Гоша. — Короче, задача твоя простая: закупить нам побольше продуктов и втихомолочку перебросить нас на ту сторону, а там и об остальном поговорим.
— Золото пудами считаешь, а продуктов нет? Странно как-то.
— Об этом я тебе позже расскажу, поймешь, в чем дело, а сейчас говори, не морочь голову, не тяни за душу: согласен?
— Ради нашей старой дружбы продукты я бы еще мог купить или получить за золотишко в золотоскупке. А переправлять вас как? Собственного парохода у меня нет, лодки — сам видишь, мужики их, как псов, на цепь сажают.
— Это не помеха, приятель. Цепь и сбить при желании можно, а еще лучше, попроси ее у хозяев, дескать, порыбачить хочешь. Тебе они не откажут, ты ведь им услужил. Вот и переправишь нас.
— Чего же ты сам лодку не попросишь? Они и тебе ее дадут.
— Мне здесь открыто больше нельзя появляться, сейчас уйду, и с концом. НКВД меня по приметам уже знает, ищет, а башка у меня приметная, как назло, перед делом голову побрил. Мужики расскажут, что я лодку брал, вот и выйдут на наш след. И за продуктами мне в золотоскупку хода нет, могу спалиться. А тебе чего бояться? Ты перед законом чист, никого не убивал, золота не брал. Если даже поймают, скажешь, что мы тебя заставили или, дескать, не знал, что банде помогаешь.
— Так они мне и поверили.
— Поверили не поверили, а расплатимся с тобой золотым песочком, с учетом дороговизны военного времени. Это я тебе как друг обещаю.
— Не знаю… — все еще сомневался Семен Жарких. — Но если ты настаиваешь… Только вы мне сначала золотишко отдайте, а потом с меня требуйте, идет? — решился все-таки он.
— По рукам, Семен! Я ведь знал, что ты свою выгоду поймешь.
— Что у вас случилось, Гошка, почему вы без жратвы остались?
— Длинная история, приятель, чего ее вспоминать.
— Так куда же нам торопиться? А послушать все же интересно, а, Гошка?
— Мы от прииска «Огонек» через водораздел перевалили и вышли на эту реку, на Аллах-Юнь. Раздобыли большую лодку. Продукты в нее загрузили, сами расселись. Лошадям, конечно, места не нашлось. Так мы двух молоденьких кобыл на мясо зарезали, а остальных в тайге бросили, хоть и жалко было, но что поделаешь. Двинулись тихонько по течению. К тому времени нас уже семь человек оставалось, потому что двое от нас откололись и ушли по Ытыгской трассе, а приятеля моего, Никиту Порхачева, отправили в разведку, и он не вернулся. Может быть, заблудился или на переправе через Юдому утонул, кто его знает.
— А вдруг его милиция схватила?
— Вот этого я, приятель, и боюсь, Порхачев обо мне много интересного знает, как бы не развязал язык. Но вроде не должен он таких глупостей наделать, мы с ним вместе срок отбывали, вместе в побег уходили. Парень — кремень, раньше лишнего не болтал. Так и плыли мы по реке семеро. Хорошо плыли, спокойно. Пока нас волчье солнышко не подвело.
— Какое, какое?
— Волчье солнышко — это так среди блатных луна называется. В последнюю ночь сиверок потянул и утащил все тучи. А волчье солнышко светит вовсю, как часовой прожектором с вышки. И никуда от него не спрячешься. Мы уж и вдоль берега пытались плыть, и по середине реки, а все вокруг видно, как днем. Семеныч еще пошутил тогда, жаль, что подстрелить его нельзя, враз бы успокоилось. Хорошо сказал? — Гошка радостно рассмеялся. — Он, понимаешь, как поэт, говорит редко, но уж в самую точку. Вдруг слышим, окликают нас с берега. Кто, дескать, такие? Семеныч велел всем молчать и кричит в ответ: артельщики, едем на лотошное старание. Те велели нам грести к берегу. «Сейчас, — кричит Семеныч, — вот только чуток развернемся и к вам пристанем!» А сам шепотом приказывает: «Нажмите, станичники, может быть, пронесет». Куда там! Они стрельбу открыли, и пришлось нам схитрить: вроде бы разворачиваться начали, чтобы грести к их берегу, а самих, мол, течением сносит. Ушли в тень от ивы и к своему берегу, выбрались поскорее из лодки. Что тут делать будешь? Плыть дальше нельзя — обстреляют, а вступать с ними в перестрелку — без толку, так как ничего прицельного на их берегу не видно. Взяли мы оружие, золотишко прихватили и бегом вниз. Метров двести вдоль реки отбежали, глядь, скала над водой нависла. Мы на нее забрались. Лежим, наблюдаем, что дальше будет. Смотрим, с противоположного берега несколько лодок отплывают, все ясно — это за нами и нашим золотишком охотятся. Подпустили мы лодки поближе, а их как раз к нам течением сносит, и открыли огонь. Они как на ладошке, а нас с реки не разглядеть. Думаю, немало милиции и рабочих, которые с ними шли, мы в ту ночь положили.
— Так, наверное, и вам досталось?
— Нет, Сема, нам в тот раз повезло, вот только лодку пришлось бросить вместе с продуктами и разным барахлишком. Обидно, понимаешь, вцепились в хвост и рвут клочья. В лодке соленого конского мяса осталось два бочонка, центнера два с половиной, это же отборная вырезка; и сейчас, Сема, больно вспоминать. Ящик масла, целая канистра спирта, седла, уздечки — все пропало. А мы собирались чуть дальше отойти и коней раздобыть, снова конным броском в тайгу двинуть. Теперь если коней найдем — так упряжи нет. Невезуха.
Семен Жарких знал об этом происшествии от связного, который показал ему копию радиограммы, адресованной всем поисковым группам. Майор Квасов сообщал, что бандиты после столкновения с отрядом Богачука скрылись неизвестно куда, а также информировал о том, что руководство наркомата сурово отнеслось к этой неудаче. Потеря банды и даже следов ее, по мнению начальства, объяснялась неудовлетворительной деятельностью оперотряда и плохой разведкой — это уже касалось и Семена Жарких. Квасов требовал не допустить выход банды в сторону реки Алдана, для этого вдоль перекрыть все возможные пути отступления заслонами. Внизу листка простым карандашом Квасов приписал: «Семен! Возлагаю на тебя большие надежды. Без продовольствия, которое мы перехватили, они ринутся или в золотоскупку отовариваться, или в Чертово Улово к дружкам Гошки».
Ну вот, оказывается, дружков у Гошки в Чертовом Улове нет, и единственная его надежда на Семена Жарких…
Гошка заметно расстроился от своего рассказа:
— Понял, Семен, как нелегко золото достается? А тебе отстегнем без всякой опасности для твоей личности. Бери, приятель, пользуйся и вспоминай добрым словом своего кореша Гошку Налимова.
— Ты так рассказываешь, Гошка, что меня скоро слеза прошибет.
— Уважаю тебя, Семен, за юмор в трудную минуту. Теперь давай так с тобой договоримся. Я сейчас исчезаю. Если дед Василий поинтересуется, скажи, что не видел меня. А часиков в семь попроси у старика ружьишко, скажи, что поохотиться хочешь, и жди меня на этом самом месте в кустах. Я тебе золотишко принесу и маленько бонов за сдачу золота — это на продукты.
— Так мне старик и поверил, я ведь мест здешних не знаю, в охоте не силен.
— Ну и что? Потом пояснишь, что развеяться захотелось. И вообще, что тебе старик? Перейди, к примеру, жить к Матрене. Я у нее когда-то жил, заботливая старушенция и запасливая. Если у тебя что-либо сорвется, так я ее враз выпотрошу, каргу старую.
— Ладно, Гошка, попробуем.
— Одна попробовала — семерых родила. А нам делать надо наверняка, ясно? А то, сам знаешь…
— Грозным каким ты вдруг стал, Гоша.
— А я таким, может, всегда и был. — Гошка, оборвав разговор, исчез в кустах, не попрощавшись.
Когда Семен Жарких пришел домой, старики сидели за накрытым столом, но даже не притронулись к еде.
— Ты где загулял, Сема? — ласково спросила старуха. — Все уже остыло, пока тебя ждали. Иди умойся и за стол быстренько.
— А зачем ему умываться, Анфиса, он же тилькы с речки. Видишь, волосы мокрые и сам чистенький.
Семен Жарких понял свое упущение, но тут же нашелся:
— Не стал я купаться в реке, вашего Улова побоялся, но красота там какая! Посидел, отдохнул немножко и домой, здесь помоюсь.
— И правильно, Сема, река здесь коварная, не стоит в нее лезть. Иди скорее, умывальник полный, дед налил.
Старик промолчал, но было заметно, что он чем-то угнетен.
Поужинали быстро и непривычно молчаливо, без шуток-прибауток.
— Дед Василий! У меня к тебе просьба великая.
— Что за просьба? Кажы, коли в моих силах, помогу.
— Хочу по окрестностям с ружьишком побаловаться. Может быть, мяска раздобуду. У вас, говорят, для охотников места богатые.
— Так ты и охотник? Чего же молчал? Мы бы с тобой такой промысел устроили? Збырайся, я тоже скоро буду готов!
— Нет, дед Василий. Охотник из меня плохонький. Поброжу наудачу. От работы, от людей отдохну. Как говорят, пообщаюсь с природой, проветрюсь.
— Тебя нужно так понимать, шо не хочешь идти со мной, верно? — как всегда прямолинейно спросил старик.
— Я могу, конечно, и с вами, но для первого раза лучше бы одному. К ружью привыкну, чтобы перед вами не стыдно было, огляжусь.
— Все мне понятно, хлопче, не разжевывай, я ведь не мальчонка. Бери ружье и иди, тилькы не заблукай, места у нас урманные, дикие. Ты, часом, не знаешь, Гошка придет или совсем утик?
— Не знаю, дед Василий, мне не до него.
Глава VIII НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
«Квасову.
С намеченными мероприятиями согласны. Рекомендуем продумать их еще раз в деталях и провести без ущерба, учтя прошлые ошибки. Надеемся на фронтовой опыт Жарких, желаем ему успехов. Скирдин».
Гошка уже ждал Семена на берегу.
— Запаздываешь, приятель, — недовольно пробурчал он, — пойдем, здесь неподалеку я золотишко припрятал.
Они молча перешли гремиху, небольшую речушку с бурным стремительным течением, и через пару десятков шагов попали в калтус — моховое болото, заросшее кустарником и мелким лесом.
— Долго ли еще, Гошка? У меня сапоги к воде не приспособлены, промочу ноги, чего доброго.
— Ничего, Семен, не сахарный. Тут уже рядышком, вон видишь за кустами бугор-могильник? Так сразу за ним.
Бугра Семен Жарких не заметил, зато почувствовал, как в кустарнике в спину ему уперся ствол винтовки.
— Дай-ка, мужик, твое ружьишко, — раздался сзади чей-то голос, — я его помогу тебе нести. Ну вот, так-то спокойнее будет. Больше ничего стреляющего у тебя при себе нет?
— Откуда мне еще что-то стреляющее взять? И это ружьишко дед с трудом доверил.
— Гошка, проверь-ка его на всякий случай, — попросил сопровождающий.
— Да полно тебе, Ефим, это же свой.
— Я тебе сказал — проверь, это распоряжение атамана.
Ворча, Гошка наскоро обыскал Семена.
— Подержи его на прицеле, — приказал Ефим Гошке, передавая винтовку, и тут же сноровисто пощупал карманы, легкими быстрыми движениями рук проверил под мышками, провел пальцами с внутренних сторон ног и даже по спине. Вытащив из-за голенища сапога нож, он укоризненно показал его Гошке.
— Ну и что, — вскинулся Гошка, — ты ведь его об огнестрельном спрашивал, а без ножа никто в тайгу не пойдет, понимать нужно.
Они еще долго брели краем лесной болотной трясины, перебирались через какую-то протоку и уткнулись в крепь — озеро, заросшее тростником. На уровне человеческого роста прошлогодний тростник был сломан, образуя над водой невиданную, грубо сплетенную рыбацкую сеть с крупной ячейкой, над которой рос новый высокий тростник. Семену показалось, что дальше им не пройти, но Гошка нагнулся и юркнул в какую-то узкую лазейку.
— Нагибайся, Семен, — крикнул он, — а то без глаз останешься, придется на лечение тратиться. В таком заломе охоте цены нет, здесь ведь на каждом шагу дичь непуганая, а мы, понимаешь, сами таимся от охотников с лампасами.
Выбежав на невысокий бугор, они оказались в небольшой и редкой лесной рощице, где маленькая рубленая зимовьюшка притаилась рядом со ржавцом — крохотным болотцем с застойной и ржавой водой, из которого сочился узенький ручеек.
— Ну, — горделиво окинул рукой островок Гошка, — как тебе наш алар?
— Алар как алар, — недовольно ответил Семен, — только у черта на куличиках. Если ты думаешь, что я вам сюда жратву потащу, то ошибаешься, я же не тягловая кобыла.
— Не серчай, Семен, это по тайге в обход далеко, а если бы у нас сейчас лодка была, так через протоку в три раза быстрее оказались бы на реке. Семеныч! — громко крикнул Гошка. — Принимай моего приятеля.
Из постройки вышли несколько человек, не спеша приблизились, вглядываясь в гостя. Семен сделал пару шагов в сторону, под тень лиственницы, и уперся спиной в ее ствол. Движение это было неосознанным и не могло его выручить в случае… В том случае, если хоть один из бандитов лишь на один-единственный часок заглянул на прииск в тот момент, когда старший лейтенант Семен Жарких выяснял обстоятельства налета. Тогда ему конец. Пробежал глазами по лицам… Вроде бы доброжелательные, с ухмылками. Вот только эта, косо изучающая его хулиганская физиономия. Не дай бог, если они где-нибудь встречались.
— Ну, будем знакомиться. Гошка рассказывал, Семен, что тебе и повоевать пришлось? — шагнул навстречу коротконогий крепко сколоченный мужчина.
— Это сам Семеныч, — шепнул ему Гошка на ухо так, что слышали и все остальные.
— Было дело, — хрипловатым от волнения голосом ответил ему Семен, — посидел на дне окопа.
— Ну и как германец воюет, лучше, чем в первую мировую, или нет?
— Я к началу прошлой войны только на свет появился, поэтому не знаю. А нынче, сам убедился, бить их можно.
— И в каком же звании воевать пришлось?
— До старшего сержанта дослужился, перед демобилизацией три сопли на плечи повесили.
— Это, значит, по-старому унтер-офицер? — вопросительно поглядел на него Семеныч.
— Да кто его знает, как по-старому, а по-новому помощник командира взвода.
— Неплохо, совсем неплохо, сержант. У нас с тобой есть возможность подружиться, Семен.
— Так я и с чертом рад дружить, если он мне за это на бедность подбросит.
— Грубовато, по откровенно. Об этом не волнуйся, раз пообещали, то слово свое сдержим. Перед уходом получишь авансом и за продукты, и за очередные свои услуги, с лихвой дадим.
— Однако, друзья, гостей сказками не кормят. Прошу, Семен, в горницу, перекусим, выпьем, а там и поговорить можно будет. Хорошо бы, конечно, позастольничать на улице, но гнус покою не даст.
— Так я дымокурчик разведу, — услужливо предложил самый молодой из присутствующих, лопоухий якут в старой застиранной гимнастерке.
— Ну если выручишь, Афанасий, так спасибо тебе скажем, — снисходительно разрешил Семеныч.
— Мы здесь, сержант, все в своем котле варимся, ни тебе новостей свежих, ни разногласий особенных, уже притерлись друг к другу. Вот, думаю, ты и внесешь на какое-то время свежую струю. Согласен?
— Я постараюсь, но кто знает, получится ли?
Интеллектуальной беседы, на которую намекал Семеныч, не получилось. С самого начала пьянка приняла такие темпы, что Жарких, никогда не отличавшийся особенной любовью к спиртному, стал бояться за себя: как бы, опьянев, не наболтать чего-нибудь лишнего. Семеныч же, будто задавшись целью споить его, наливал и себе и Жарких непомерные дозы спирта и до отвращения медленно цедил из своего стакана, будто наслаждаясь мелкими глотками, тем не менее выпивая его за раз. С другой стороны от Жарких сидел очкарик Сан Саныч, приторно вежливый человек, единственный из присутствующих, кроме Жарких, кто был гладко выбрит и даже напомажен. Он вел обыкновенный разговор, вроде бы обо всем на свете, в то же время ни о чем, но вскоре Жарких почувствовал, что иногда этот общительный собеседник задает чертовски конкретные вопросы, а перемешивает их болтовней лишь для маскировки.
— Как же вы добрались до этих краев? — выспрашивал его тем временем Сан Саныч. — Вас наверняка останавливала милиция и требовала пропуск?
— Какой пропуск, Сан Саныч, здесь ведь не прифронтовая зона, — отмахивался Жарких, — паспорт у меня на руках, военный билет тоже, а других документов не требуется.
— И как часто вас останавливали за всю поездку, Семен?
— Да уж не меньше десятка раз, — приврал Жарких и, вспомнив рассказ бабки Матрены, добавил: — В селе говорят, что сейчас за каждым деревом по милиционеру сидит. Вот вам какое внимание оказывают.
Через десять минут Сан Саныч снова вернулся к той же теме, попросив Жарких показать ему свои документы.
— Какие документы? Кто ж их носит по тайге, а не дай бог потеряю? Ведь вообще-то я просто на прогулку вышел.
— Все-таки, Семен, окажите мне услугу, когда придете к нам в следующий раз, захватите свои документы, мне будет интересно на них взглянуть.
— Какой вопрос, Сан Саныч, обязательно захвачу, раз вам интересно взглянуть.
Семен Жарких, нарочито покачиваясь и извиняясь, уже раза два уходил в глубину островка и старым проверенным способом, которому его научила мать, засунув два пальца глубоко в рот, вычищал желудок, освобождаясь от невероятного количества спиртного, которое его заставляли пить. Несмотря на это, он быстро пьянел, и только неутихающее сознание опасности, подстерегавшей его в этой компании, не позволяло ему окончательно раскиснуть и потерять связующую нить мыслей.
Потом Сан Саныч выяснил, нет ли у Семена знакомых в театрах Якутска, и до Жарких с трудом дошло, что его собеседнику нужен паричок, всего лишь как сувенир, как память о театральном Якутске.
В ответ гость делал вид, что он еще более пьян, чем это было на самом деле: еле ворочая языком и по-приятельски грозя пальцем, утверждал, что уж он-то знает, для чего Сан Санычу парик, его не обманешь разговорами о сувенирах, но если нужно, то он раздобудет ему за золотишко хоть весь реквизит театра.
Потом пьяные, расчувствовавшиеся люди водили его в избу глядеть плотно набитые золотом мешочки, он щупал их и кричал, что готов идти с такими друзьями на любое дело, пускай они только позовут его.
Вечер, символизировавший взаимную преданность и любовь, закончился уже ночью, когда вполовину обгрызенное волчье солнышко уже отбежало добрую треть своего небесного пути.
Так и не убрав ничего с деревянного стола, вытащенного для пира на полянку, бандиты укладывались спать на длинные общие нары зимовья, накрытые сроду не стиранными одеялами поверх вороха камыша. Семеныч размахивал кулаком перед типом с хулиганским выражением лица — его звали Иосифом Виташевым, требуя, чтобы тот отправился в караул.
— Будь сделано, будь сделано, — уверял его Виташев, однако сам оказался на нарах раньше других, заняв ближайшее к выходу из избушки место.
Ночью Семен Жарких проснулся от монотонного, как причитания, шепота; сквозь разноголосый громкий храп спящих кто-то настойчиво твердил одно и то же:
— А я тебе говорю, что не верю ему. У него повадки мильтона, я их за свой век нагляделся. Нужно его убирать, пока не поздно. Давай его сейчас ножичком пырнем, и все шито-крыто.
— Да ты что, взбесился, Иосиф? Я же с ним в одной комнате жил, знаю как облупленного, какой он тебе, к черту, мильтон? Рехнулся ты совсем с пьяни. Зарезать его нетрудно. А кто тебе продуктов раздобудет? Кто с этого острова вытащит?
— А я тебе точно говорю, что не верю ему. Ты и с Никитой Порхачевым в друзьях ходил, а где, скажи мне, сейчас твой Порхачев? Век свободы не видать, если он теперь показания мильтонам не дает. Может быть, его как раз этот твой печник и допрашивал. Или давай, Гошка, его поспрашиваем, как того деда-кассира на прииске.
— Чего ты городишь, подумай! Семеныч мужик битый и то в печнике не сомневается, а ты никому не веришь.
— И Семенычу я не верю… Золото он почему до сих пор не поделил?
— Тише, паскуда, ты куда гнешь?
Голоса стали тише, и до Семена Жарких уже долетали только отдельные слова, короткие обрывки фраз:
— Не верю… лучше зарезать его, а заодно… две доли лучше, чем семь…
— Заткнись, фрайер, Семеныч, не дай бог, услышит, он тебе шары повыкалывает.
Пьяный Виташев еще долго бурчал, ворочаясь на своем месте, но ему уже никто не отвечал — Гошка заснул. Через некоторое время Виташев разбудил второго своего соседа — Афанасия Шишкина.
— Ты чего? Что такое? — испуганно затараторил тот.
— Тихо, Афонька, нишкни, давай выйдем, разговор есть…
Они отбросили одеяло, висевшее на открытой двери, и по очереди большими уродливыми тенями выползли за порог. Подождав несколько минут, следом за ними выбрался Семен Жарких. Выйдя из избушки, он прислушался. От стола, за которым они вечером пьянствовали, слышалось чавканье, легкий перезвон стаканов. Полуночники тихо говорили. Семен согнулся, чтобы его случайно не увидели на фоне темно-синего неба; осторожно ступая, обошел полянку, подкрался к ним с противоположной от избушки стороны.
— Ты меня знаешь, Афонька, — слышался голос Виташева, — я за свою жизнь в колонию уже четыре ходки сделал, видел-перевидел всякого, я сексота нюхом чую, по взгляду, по слову, даже по тому, как он ходит, честно, не вру. Так же и они нашего брата издалека определят; как им это удается, я не знаю. Готов биться об заклад, чтоб я своей матери никогда не видел, этот Семен — мильтон.
Афанасий Шишкин спросонья, видно, не вслушивался в то, что говорил Виташев, и, поймав только одну мысль, тоненько рассмеялся.
— На мать божишься, Иосиф, а сам говорил, что она у тебя уже умерла.
— Пустой ты человек, Афонька, я ведь не о матери, а о Семене. Раз его сюда НКВД прислало, значит, нас скоро брать будут, попомни мое слово. Он сейчас все разведает, пронюхает и доложит им. Ты заметил, как он наше оружие разглядывал? К каждому карабинчику присматривался, о гранатах поинтересовался, думаешь, это к добру? Короче, Афонька, меня они сейчас все равно не послушают, потому что о собственном брюхе думают, а Семен им жратвы пообещал привезти. Он утречком от нас уйдет, провожать его потопает Гошка. Нам с тобой нужно за часок до них с алара выбраться. Если спросят, скажем, что рыбки свежей захотелось, ходили вершу ставить, ты же вчера плел вершу? Бросим ее в воду, а на обратном пути проверим. Дальше калтуса его Гошка не поведет. А на болотце мы с тобой Семочку, нашего фрайерочка, и подстережем.
— Зачем он нам? — не понял Афанасий Шишкин.
— Как зачем? Свяжем его и маленько порасспрашиваем, на кого он работает, где НКВД нас подстерегает. Если признается, мы обо всем Семенычу расскажем.
— Что ж он, дурак — признаваться?
— А мы ему ножичком ваву сделаем, тогда заговорит. Если и вправду из молчунов окажется, тут же и утопим.
— Тебя после этого Семеныч тут же самого утопит. Нет, Еська, плохо ты придумал, из-за тебя разлад пойдет.
— Чего тебе Семеныч, Афоня? Он ведь нас если не пристрелит в удобное время, так сбежит с золотишком, кричи потом «ау!» в тайге. Жаль, Гошка заупрямился, а то топориком бы их сейчас потюкать, и весь металл нам троим достанется. Может быть, вдвоем с тобой так и сделаем?
— Разве так можно, Еська? Они же наши товарищи, мы на общем деле удачу ищем. Я к такому не привык. Позавчера рисковали вместе, вчера за одним столом ели, а сегодня перережем друг друга?
— Дурак, ты же сам, по своей собственной воле примкнул к нашему миру. Вспомни, как уговаривал нас, чтобы взяли на дело. Значит, теперь ты вор, ты меня должен поддерживать, а я тебя. А кто такой Семеныч? Или Ефим? Они случайные, в гражданскую войну у беляков служили. Они нам не товарищи.
— Не могу я, Еська, давай утром еще Гошку спросим, что он думает, а там и решать будем.
— Ну, гляди, Афонька, утром я тебя последний раз спрошу — и конец. Если опять упрешься, и тебе плохо будет, попомни мое слово, я обиды не прощаю.
— Перепил ты, Еська, завтра и сам по-другому заговоришь.
— Я завтра Семена прибью в болоте, а там видно будет, как с остальными поступить.
Не ожидая окончания разговора, Семен Жарких тем же путем заторопился в избушку. Когда они вернулись, он уже лежал, сжимая нож, — поведение Иосифа Виташева предсказать было невозможно. К утру он не выдержал и забылся неглубоким сном.
Проснулся Семен оттого, что кто-то тормошил его:
— Сержант, ну и горазд ты дрыхнуть, вставай! Тебе пора в деревню.
Семен Жарких секунду полежал с закрытыми глазами, вспоминая все, что происходило ночью, и нехотя поднялся.
— Пошли похмелимся по маленькой и в дорогу, — не отходил от него Семеныч.
Они вышли на полянку. К утру посвежело, и с наветренной стороны на лавках, на столе, на оставленных во дворе вещах из тумана осел водяной налет.
— Ишь наморось какая, — передернулся от прохлады Семен Жарких.
Все молча, неохотно ели, однако после первых стопок разговорились, но уже как-то лениво, устало, боясь, что похмелье затянется и превратится в очередной загул.
За столом Иосиф Виташев поинтересовался, когда уходит в деревню Семен. Тут мнения разошлись. Атаман требовал, чтобы Жарких не тянул и тотчас отправлялся, а гость не хотел торопиться.
— Мне, Семеныч, перед дедом оправдываться придется, где это я загулял. Если на охоте, то почему ничего не подстрелил? Гошка обещал раздобыть глухаря, вот тогда я и пойду в деревню.
Виташев, послушав Семена, успокоился и засобирался на рыбалку.
Вроде и привычен был Семен Жарких к опасностям, слава богу, немало их было и в военной разведке, и в отделе по борьбе с бандитизмом, но, поняв, что Иосиф Виташев собирается выслеживать его, он почувствовал учащенное сердцебиение. Он понимал, что исход схватки может быть разным, в особенности когда опасность будет подстерегать его за любым кустом. А если Виташев нападет на него не с ножом, а просто-напросто пристрелит из-за куста и весь разговор? Тут уж никакая сноровка не поможет, тем более что дед Василий зарядил патроны ружьишка мелкой дробью.
Иосиф Виташев отозвал в сторонку Афанасия Шишкина, они о чем-то быстро переговорили. Виташеву не понравился ответ Шишкина: когда Афанасий пошел от него в сторону, он резко схватил его за рукав.
— Да отвяжись ты от меня, Еська, — легонько оттолкнул его Афанасий Шишкин, — не хочу я. Разговаривай на эту тему с Гошкой.
Тотчас же Иосиф Виташев, коротко размахнувшись, неожиданно ударил его по лицу.
— Эй-эй, станичники, — бросился к ним Сан Саныч, — чего это вы руками размахались? Чего не поделили?
— С таким дураком разве можно какие дела иметь, — возмущенно ответил Афанасий, вытирая рукой кровь с разбитой губы, — как друга в доме принимал, кормил, поил, а он руки распускает. Знать тебя больше не хочу, Еська!
— Меньше бодяги разводи, валенок, пока я тебя в верзошнике не утопил!
— Да как только я слово скажу, тебя самого утопят!
И быть бы между ними драке, если бы Семен не увидел единственный шанс, который позволял ему вызвать недоверие к Иосифу Виташеву и спасти операцию по ликвидации банды, которая была теперь на грани срыва.
— Семеныч! — громко привлек он внимание. — Это, конечно, не мое дело, но могу рассказать, почему они спорят. Кстати, вас это прямо касается.
— Ну-ка, давай-давай, — одобрил Семеныч, поудобнее присаживаясь на коряге возле стола.
Ефим Брюхатов отошел за спины спорщиков, тоже внимательно прислушиваясь.
— Иосиф Виташев сегодня ночью уговаривал Афанасия Шишкина зарезать меня, чтобы я не доставал вам продукты и не вывозил отсюда на лодке. Потом предложил ему тюкнуть всех вас ночью по голове, а золотишко поделить на двоих.
Сан Саныч вынес из избы карабин и суконной тряпочкой начал начищать его.
— Чего молчишь, Иосиф? — с кривой улыбкой, как будто у него сильно разболелись зубы, спросил Семеныч и даже руку к щеке приложил, поглаживая ее.
— Чего бы ты хотел услышать, атаман? Я всем говорил, что это энкэвэдэшник, по повадке видно. Вы мне не поверили. Но он теперь это подтверждает. Зачем мне убивать его или кого-то из вас? Вот если ты мне прикажешь, так я ему, этому гаду лягавому, вырублю шнифты, ишь, мент, в цвет попал, разногласия между нами сеет.
— А за что ты Афанасия бил? — послышался хрипловатый голос Ефима. — Может, он тоже на НКВД работает? Говори, не стесняйся.
— Ты бы, Сиплый, хоть не глотничал, — огрызнулся Виташев, — у Афоньки голова так заточена, вот мы с ним чуток и погрызлись. Но это дело наше, сами решим, — Иосиф повернулся к Афанасию Шишкину и протянул ему руку для пожатия: — Держи кость, чего нам с тобой делить, если сходка против.
— Это ты хорошо придумал, — одобрил Семеныч. — Но мне все-таки интересно знать, из-за чего ты его по морде хлопал? Афанасий, теперь ты говори, — потребовал Семеныч.
— Постой, Семеныч, я ему напомню, о чем они говорили. — Семен Жарких чувствовал, что момент может быть упущен, и тогда расправа над ним обязательно свершится, и немедленно… — Он ведь предлагал тебе на калтусе меня подстеречь, предлагал?
— Я тоже слышал, — неожиданно раздался голос Сан Саныча, — говорили такое, Афанасий, уж ты не ври.
Слышать Сан Саныч ничего не мог, иначе события происходили бы по-иному, а говорил он для того, чтобы сбить Афанасия, не дать ему отмолчаться.
— Да… — механически согласился Афанасий.
— И о том, как вы соврете, что вершу будете ставить… — продолжал Семен Жарких, — говорил?
— Да! — снова повторил Афанасий.
— Ну, вот видите, я так вам и рассказывал, — торопился закрепить успех Семен Жарких, — слово в слово, я хоть был и пьян, но память у меня хорошая. А как потом он предлагал тебе, Афанасий, всех ваших корешей, включая Семеныча и Сан Саныча, топорком потюкать?
— Что скажешь, Афанасий? — равнодушно поинтересовался Сан Саныч.
— Верно, он так говорил, но ведь Семен с Сан Санычем сами слышали, что я был против! Зачем мне своих убивать? Мне и моей доли хватит. Это Еська хотел золото без вас поделить, нам, говорит, больше останется. Он и Гошку уговаривал, только тот тоже отказался, как и я.
— Что же ты, Гошенька, об этом молчал? — вонзился Семеныч темнеющими глазами в Налимова. — Может быть, такую возможность на всякий случай оставлял? Как мне тебя понимать?
— Брешет Афонька! — завопил Иосиф Виташев, почувствовав, что дело плохо. — Они, видно, с Семеном сговорились против меня.
— Тогда они и со мной договорились, Иосиф? — поинтересовался Сан Саныч. — Но такого и быть не могло. Как же ты, милок, смог додуматься — нас, своих верных друзей и благодетелей, как скотину безмозглую, топориком прибить? А я так хотел из тебя человека сделать, да, видно, не в коня корм.
— Человеком сделать? — поняв, что терять ему больше нечего, взорвался Иосиф Виташев. — Почему же вы золото сразу на всех не поделили? Так и тягаете его сами, даже носить другим не позволяете. Да, говорил я Гошке и Афоньке, — запальчиво продолжал обличать он, — что настоящие воры, воры в законе, так не поступают, всю добычу нужно было тотчас поделить. Оторваться от нас хотели? Гошка, Афонька, не поддавайтесь им, сегодня на меня бочку катят, завтра и до вас доберутся. — Резким ударом ноги он опрокинул стол на Семеныча и бросился в сторону, через поляну, но тут же споткнулся, запутавшись ногами в ветвистой палке, брошенной Ефимом, который настиг его, на бегу резко ударил сапогом под колено и вместе с Иосифом покатился по земле. Сан Саныч не сдвинулся с места, но передернул затвор, дослав патрон в ствол. Семеныч с руганью поднимался, брезгливо стряхивая с себя остатки еды и заботливо отставив бутылку с остатками спирта. Ефиму удалось подмять под себя Виташева, но тот изловчился и вытащил нож. Возможности для размаха не было, и он, уперев рукой черенок ножа к земле, пытался сбросить на острие Ефима.
Семен Жарких подошел к борющимся и грузно наступил на запястье руки Виташева. Тот дернулся от боли и, схватив зубами Ефима за скулу, стал по-собачьи рвать тело. В какой-то момент ему удалось сбросить противника, но опять помешал Семен Жарких, так и не отпустивший руку. Окровавленный Ефим оторвался от противника и, схватив его нож, со всей силой и яростью вонзил его в грудь Виташеву. Резко дернувшись, тот обмяк, но Ефим не мог остановиться, все колол и колол уже безжизненное тело.
Подбежал Гошка, но, поняв, что опоздал, с досады пнул своего бывшего приятеля и неожиданно не только для Семена Жарких, но и для всех остальных, кинулся на низкорослого Афанасия Шишкина.
— А, так ты с Еськой убить нас собирался, — кричал он, с остервенением нанося удары, — так лучше я тебя, гада, прибью. — Он пытался схватить Афанасия за шею, но тот вьюном крутился, не даваясь, до тех пор, пока подбежавший к нему озверелый Ефим не ударил и его ножом.
— Справедливость восторжествовала, — щелчком выбрасывая патрон из ствола карабина, негромко констатировал Сан Саныч. — Только зачем же столько эмоций, Ефим? Иди умойся, он тебя до костей искусал, а вдруг инфекцию в ранки внес? Ведь он зубов никогда не чистил.
Ефим с непониманием уставился на говорившего, а потом, уразумев, о чем речь, побрел к болотцу.
Семеныч по-прежнему сидел на бревне возле перевернутого стола и, обхватив голову двумя руками, раскачивал ее. Заговорил он спокойно, как ни в чем не бывало:
— Такое ощущение, Семен, будто она у меня сейчас треснет. Это ведь надо, как мы нажрались вчера. Видно, и спирт не из лучшего. Ты уж, Семен, постарайся достать медицинский спирт, после него я чувствую себя великолепно. Гошка, — окликнул он через минуту, — и долго эти жмурики будут здесь валяться? Тащи их отсюда куда-нибудь, твои приятели, тебе об их вечном покое и печься нужно.
— Только, милок, — забеспокоился Сан Саныч, — если уж не удосужишься их закопать, то отволоки как можно дальше, не то через пару жарких дней здесь так засмердит, что и Семеновой лодки не дождемся. А вообще, Гошка, — добавил Сан Саныч, — ты, оказывается, находчивый парень, прямо-таки шельмец, — и он рассмеялся, довольный.
— Вот ведь как живем, сержант, — пожаловался Семеныч, — своим же товарищам верить нельзя, за крупинку золота чуть жизни не лишили, а мы ведь их в компанию приняли, поделиться рады были всем, чем богаты. И тебе чуть было не досталось на орехи, я уж, признаться, поверил Иосифу, но истина, станичники, всегда восторжествует! — изрек он назидательно.
Потом они детально обговаривали задачи Семена Жарких.
— Первым делом, сержант, — инструктировал его Семеныч, — продукты. Раздобудь в деревне лошадь и отправляйся в золотоскупку. Золото сдашь, не скупись, оставь навар приемщице, добрее будет. Поясни, что на старательскую бригаду продукты набираешь.
— Так она мне и поверит!
— Тебе, Семен, с ней детей не крестить. Если даже нам не хватит тех продуктов, что возьмешь у нее, в следующий раз в другом месте отоваришься, а о ней и думать забудешь.
— И чего на них золото тратить? — прозондировал Семен. — Может быть, налетец на магазин устроить и задарма все отобрать?
— У вас, сержант, — вмешался в разговор Сан Саныч, — вероятно, не все благополучно с аналитическим мышлением. Вытрясти их магазин нетрудно, но в этом случае НКВД сразу же прознает, где мы скрываемся, в каком направлении продвигаемся, понятно? Сейчас они наши следы потеряли, вот нам и радоваться этому, легко унесем ножки. А золото для того нам богом и дано, чтобы мы его для собственного благополучия тратили.
— Понятно, — легко согласился Семен, — тогда жалеть его не буду.
— В разумных, конечно, пределах, — предостерег Сан Саныч, — без купеческих жестов, торгашей-то в твоем роду, Семен, надеюсь, не было?!
— Через два дня ждем от тебя весточку. Товар оставишь в условленном месте, — велел атаман, — мы его сами сюда дотащим.
— Двух дней мало, Семеныч, — покачал головой Жарких, — сегодня уже не уехать. Тронусь завтра, день туда, день обратно, да пока отоварюсь? Минимум три, и то при хорошем стечении обстоятельств, а вдруг продавец заболел или переучет какой-нибудь придумали?
На том и порешили. Затем Семеныч из двух одинаковых стаканов, привязанных бечевкой к ровно оструганному пруту, соорудил примитивные весы.
— Вот эта штука, сержант, весит ровно сто граммов, — снимая с поясного ремня бляху, пояснил он. — Тысячи раз проверено.
— Можно взглянуть? — попросил Семен. — Никогда такой не видел, ты гляди, с орлом, с царской короной! Где вы только такую раздобыли?
— Двадцать лет со мной, — полюбовался серебряной пластинкой Семеныч, — она теперь для меня как талисман. Ну, полно время терять, пора тебе на расходы золотишко взвешивать. Станичники, — обратился он к приятелям, — если не передумали, то на харчи и лодку вручаем сержанту полкилограмма. Идет? — Никто не возразил, и он, осторожно придерживая небольшой мешочек из плотной ткани, развязал замысловатый узел и стал отсыпать в стакан мелкие, пластинчатые и круглые крупинки золота тусклого желтого цвета.
— Ровно пять мер, — остановил Семеныча внимательно следивший за взвешиванием Сан Саныч.
Семен Жарких стоял перед бандитами в выпущенной из-под ремня старенькой гимнастерке, придерживая ее за края, а в подоле его гимнастерки желтела небольшая кучка металла.
— Что я с ним теперь делать буду? растерянно спросил он. — У меня тары нет.
— Ефим, хватит за морду держаться, — хохотнул Семеныч, — ишь как он тебя кусанул, даже следы зубов видны, будешь ты теперь не Сиплым, а Меченым. Да ладно, не обижайся! Сходи-ка лучше в зимовьюшку, поищи у Иосифа в сидоре кисет, у него знатный кисет, с вышивкой, и где он только его слямзил?
Золото высыпали в кисет, сюда же Семеныч отмерил еще десять порций — целый килограмм золота.
— Это тебе, сержант, плата за работу. Когда навсегда с тобой будем прощаться, еще столько же получишь. Щедро? То-то же! Помни, для своих мы не скупимся? Но отработать плату заставим, тут уж как хочешь.
Еще через полчаса вернулся Гошка из лесу, где он схоронил трупы своих друзей, и они с Семеном отправились к Чертову Улову.
— Гошка, — позвал Семен, — все спросить тебя хочу, да вроде бы неловко…
— Теперь все ловко, — равнодушно буркнул тот, — спрашивай о чем хочешь.
— Ты зачем Афанасия Шишкина прикончил? Он ведь Иосифа поддержать отказался и вообще вроде бы был парнем безобидным.
— Чудак ты, Семен. Афанасий проболтался, что я с Иосифом говорил, а коли так, и меня конец ждал. Выбора у меня не было: или мне нужно было Афоньку кокнуть, или самому на тот свет отправляться. В таких случаях каждому своя шкура ближе. А тут я оправдался, Семеныч увидел, что я ради них товарища не пожалел, и меня простил. Но больше всего этому смертоубийству был рад Сан Саныч.
— Это почему?
— Он, друг мой, куда опаснее Семеныча. Тот пошумит, поорет и успокоится, лишь бы крамолы не было да никто бы его не обманул. А Сан Саныч все жаловался, что на долю ему выпадет меньше, чем он предполагал. Теперь всем золотишка побольше достанется. Я сегодня им предложу золото поделить. Они сами жаловались: приходится по тридцать с лишним килограммов металла тащить, да приплюсуй оружие, продукты. Когда у каждого ноша своя, она в тягость не будет, верно?
— Мне бы такое золотишко, так я бы с ним бегом на край света убежал, — подзадорил Семен.
— Ты не плачься, Семен, кто знает, как события будут складываться, делай на меня ставку, тогда своего не упустишь. Мы с тобой, приятель, это сила. В своих краях, среди своих людей. У нас под каждым кустом дом, верно? А Семеныч с дружками люди пришлые. Они нам еще не раз поклонятся, о чем-то попросят. Может, кого-нибудь из них чекисты пристрелят, соображаешь? Еще на один, а то и на два пая прибавится, глядишь, и к твоим рукам прилипнет больше, чем сегодня.
Наметив для связи подходящее дуплистое дерево, они расстались.
Деда Василия дома не было.
— Ждал он тебя, ждал, Сема, да и ушел один, — пояснила Анфиса, — велел передать, что доделает печь сам, там вроде немного осталось. Где ты пропадал, сынок? Я старику всю плешь переела за то, что он тебя одного отпустил, мало ли что в дебрях случиться может.
— Что со мной случится, тетка Анфиса? Зашел далеко, а в темноте возвращаться побоялся. Разжег костер, скоротал ночку и сегодня немного поплутал.
Дед Василий расспрашивать Семена не стал, будто расстался с ним полчаса назад. Возился он с оштукатуренной печью, меняя футеровку топливника и начала жарового канала. Он уже выбрал из футеровки пришедшие в негодность кирпичи, расчистил место для укладки новых и закладывал образовавшиеся пустоты и впадины. Семен присмотрелся к работе. Дед Василий приосанился, готовясь к похвале. Но Жарких дождался, когда хозяйка вышла из комнаты, и тихо сказал старику:
— Брак, дед Василий! Напрасно ты поторопился начать без меня.
— Да ты что-то не то балакаешь, — заволновался старик, — какой брак, все делал так, як ты рассказывал.
Вновь вошла хозяйка. Сгорая от желания узнать о своей ошибке и в то же время боясь, что Семен опозорит его при женщине, дед раскашлялся.
— Ты, сусидко, не вовремя убираешь. Видишь, мастера калякают, так займись своими делами, нужна будешь, позовем.
— Конечно, Василий, потом и уберу, — заворковала та. — И верно, чего это я вам мешаю. Может быть, вам кваску, ребята?
— Потом, потом, — нетерпеливо дожидался старик, пока она выйдет.
Едва дверь хлопнула за женщиной, Семен показал на кирпичи:
— Гляди, дед Василий, у тебя перевязка новой кладки со старой сделана без учета однородности кирпича. Вот огнеупорный кирпич, а рядышком простой, и где ты его только откопал? А вот гляди еще, и тут…
— Велика беда, — протянул старик, — я боялся, шо и вправду чего испортил, а ты кирпичами недоволен.
— Хороший ты, дед, человек, но учиться тебе еще нашему ремеслу и учиться, — резко оборвал Семен Жарких, — у огнеупорного и простого кирпича коэффициент теплового расширения разный, понял? Ну, как бы тебе попроще объяснить… Обыкновенный кирпич при нагревании больше расширяется, а огнеупорный чуть-чуть, значит, запляшут у тебя кирпичи от жару — один так, другой этак. Стена потрескается и поведет всю кладку. Мне не страшно, я к тому времени в Якутске буду, а каково тебе будет выслушивать ругань? На все село опозоришься. А мне икаться будет. Давай, пока она ничего не поняла, разбирай кладку. Скажи, к примеру, получше кирпичи нашел.
— Де ж я их возьму?
— Как где, у себя в сараюшке. Твои атласовские сюда подойдут.
— Я на всю деревню кирпичей не напасу, — недовольно проворчал старик.
— Тогда признавайся ей, что напортачил, а кирпичей для переделки не имеешь, — посмеиваясь, посоветовал Семен.
Такого позора гордый старик стерпеть бы не смог, поэтому пришлось ему идти домой за своими кирпичами.
Выправили брак быстро. После обеда осталось только закрепить расшатавшуюся топочную дверку, но Семен делать это отказался.
— Вы, хозяйка, поглядите, рамка у дверцы лопнула. Видно, лили ее из некачественного чугуна, вот она и не выдержала. Грош ей теперь цена. Мне, конечно, закрепить ее недолго, но она снова вылетит, намаетесь вы с ней.
— Что же делать, сынок? Ты бы помог! Наверное, и у тебя где-то мать есть, в помощи нуждается.
— Ладно, хозяйка, убедила. Иди договаривайся с кем-нибудь о лошади. Поеду я в Нонкин поселок, там и тебе дверцу раздобуду, и остальным деревенским кое-что подберу, мой запас уже весь вышел.
Дед Василий с жалостью посмотрел на старуху.
— Ты думаешь, Семен, зараз коня легко достать? Как бы не так. Накланяется она, наплачется, прежде чем выклянчит.
— Ничего, мир не без добрых людей, — спокойно ответил Семен. — Сходи, хозяюшка, в поссовет к председателю, попроси его, а то давай я с тобой пойду, объясню ему все честь по чести.
К удивлению деда Василия, председатель поссовета быстро договорился о лошади с чурочной мастерской. Откуда Василию было знать то, что председателя под большим секретом обязали оказывать Семену всяческое содействие.
На другой день Семен Жарких был уже в Нонкином поселке.
Привязав лошадь во дворе, он вошел в просторный, построенный до войны дом. Здесь находились касса, в которой принимали от вольных старателей-лотошников золото, и магазин, отовариваться в котором могли только те, кто сдавал драгоценный металл.
Поглядел Семен на витрины, и не то чтобы голова закружилась, а как-то неуютно на душе стало от изобилия, от которого за годы войны отвыкли.
— Смотреть будете или сдавать-покупать? — поинтересовалась продавщица.
— Сдавать, чего же смотреть, — уверенно ответил Семен, — добра-то у вас сколько, — не выдержал он, — глаза отрывать неохота.
— Чего же в этом удивительного, — привыкшая пояснять, ответила женщина, — война на дворе, золота сейчас столько требуется! Всех, кто может с лотком управиться, нужно заставить в свободное время поработать. А как заставишь? Слыхал, говорят: живая душа калачика просит, а мы каждому такой калачик отыщем, был бы золотой песочек. Сколько сдавать будешь, молодец?
— Давайте я товар отберу, потом посчитаем, за все и отсыплю. У вас как, без ограничений продукты брать можно? — Привыкший к карточкам, поинтересовался Семен и тут замолчал, недовольный своими глупыми вопросами.
— Бери, покупатель дорогой, сколько тебе влезет. Об условии я уже говорила. Сегодня товару не хватит — завтра еще привезу, голодным не уйдешь.
Семен Жарких достал длинный список, продиктованный Семенычем. Составляя его накануне, он чувствовал себя отвратительно от запросов бандита и, записывая количество требуемых продуктов, думал, что его вполне хватило бы на коллектив завода средней руки, а уж об их отделе и говорить нечего.
— Масло сливочное — один ящик…
— Масло только топленое, мужик, а ящики по сорок килограммов. Брать будешь или подождешь?
— Буду, — недовольный сам собой ответил Семен Жарких. Вместо того чтобы всю банду к стенке поставить, он вынужден их откармливать лучшими продуктами, которые только можно найти в Сибири. Кормить для того, чтобы они набирали сил перед убийствами, грабежами и еще, чего доброго, оторвавшись от погони, увезли наше золото за границу.
— Сахар… Конфеты… — перечислял Семен и вспомнил, как Сан Саныч настойчиво просил его не забыть про конфеты.
— Знаете ли, сержант, — говорил он, — люблю сладенькое, знаю за собой такой грех, а ничего поделать не могу. Вы уж не забудьте, окажите милость. Глядишь, нам легче подружиться будет.
— Кофею в зернах у вас случайно нет?
— Да кто ж его у нас пьет, молодец? Впервые такое слышу. Вот чай зеленый, плиточный могу удружить, а так мужики больше спиртом увлекаются.
— Раз так, давайте десяток плиток чаю и канистру спирта.
— Тебе какую, на десять литров или большую?
— Давайте большую, чтоб они все спились, — вырвалось у Семена.
— Чего ты так зло о своих приятелях? Поди, на артель продукты берешь, а ругаешься. Наверное, обижают они тебя? А с виду такой здоровый…
Бойко двигая костяшками, она подсчитала общую цену, тут же, не заглядывая в прейскурант, перевела сумму на золото, и, когда сказала, сколько граммов с него требуется, Семен онемел.
— Ну вы и дерете, где же столько золота набрать?
— Так ты, милый, ешь затируху или суп из свиных кишок, если достать их сумеешь, тогда и песочек сэкономишь. А если в войну захотел масла, да конфет, да муки, так раскошеливайся, нечего скопидомничать.
Ты здесь сыт, здоров, да еще жируешь, молодец, а мой сыночек сейчас за меня и за тебя с фашистом воюет.
— Ладно, тетка, побереги слезу, я пока свое отвоевал, а там видно будет. Не одному твоему сыночку достается.
На ночлег Семен Жарких остановился на Рудничной, у приятеля деда Василия. Пристроив лошадь во дворе, он перетаскал продукты в сарай и, повесив мерину торбу с овсом на шею, отправился прогуляться. Пошмыгав по поселку и отметив, что никому он не нужен, прошелся мимо домишка, адрес которого запомнил несколько дней назад; увидев на окошке условный знак, без стука открыл калитку. Прошел через нее, но тотчас прижался к забору спиной. Молча, без привычного лая, туго натягивая цепь, к которой была привязана, на него бросилась большая серая собака. Что-то в ней показалось необычным Семену, приглядевшись, он понял, что это волк, и в страхе подумал, как бы открыть калитку и снова выбраться на безопасную улицу. Нащупав кольцо, постучал им. Потом подал голос:
— Хозяева, есть кто в доме?
На крыльце появился майор Квасов. Не спускаясь с крыльца, он крикнул в открытую дверь:
— Максим! Забери свою зверюгу, она когда-нибудь человека задерет, посадят тебя, попомни мое слово.
— Да она же на цепи, чего бояться? — лениво спустился во двор босой хозяин, со сна потиравший лицо. — Вы туточки сбоку пройдете, она и не достанет.
Да вы чего побледнели? Это и не волк вовсе, а помесь волка с лайкой. Только она в отца пошла, стерва, такая же безголосая и злая. Хоть бы гавкнула когда, порадовала хозяина, нет, все молчит, кидается как фриц, без объявления войны.
Он придержал зверя у будки, а Семен одним махом оказался на крыльце.
— Ничего, — успокоил Квасов, — я ее тоже боюсь, зато здесь поговорить можно спокойно. Ну, как дела? Чем порадуешь начальство?
— Магарыч с вас причитается, товарищ майор!
— Неужели Гошка объявился? Вот это сюрприз! Спасибо, родной, хоть ты удружил, а то я уже боюсь на радиосвязь с Якутском выходить. Это хорошо, что еще шифром пользуемся, так сказать, документально разговариваем, а чего бы я наслушался, если бы вот так, лицом к лицу с начальством! Но и их как не понять? Золото пропало, это не шутка, Москва требует ликвидации банды.
— Не только объявился, — торопился сказать главное Семен, — но и меня в банду ввел как своего приятеля. Я теперь, товарищ майор, несколько лет без зарплаты могу обойтись, они со мной золотишком вперед рассчитались. Понятно, как меня бывшие белогвардейские офицеры ценят? — пошутил Семен и потряс перед носом начальника кисетом, заполненным золотым песком.
— Ну и хорошо, сынок, — по-отечески ласково глядел на Семена майор Квасов, — значит, оправдался наш расчет, а я уж боялся, что проскочили они наши засады и надежда только на вторую цепь. Да ты садись, чайку хочешь? Заварки, правда, ни у меня, ни у хозяина нет, но брусничный лист с мятой нисколько не хуже. Попросить поставить? Потом, так потом. Как там бандиты живут, рассказывай по порядку. Когда Гошка объявился? Тебя не заподозрил? Я уж волновался, думаю, а что, если Гошка кого-нибудь из ваших знакомых уже встречал и они рассказали ему, где ты нынче работаешь? Сразу бы тебя ликвидировали. Собрали мы на них кое-какие сведения за тот период, пока они по нашей стране гуляют, и их прошлое Москва помогла приоткрыть.
Когда Семен Жарких закончил свой подробный рассказ, майор отложил карандаш, которым делал заметки в записной книжке.
— Хорошо, Семен, поработал; сегодня напишешь обо всем, о чем доложил. Такие новости, что, боюсь, в наркомате тебя захвалят, испортят мне оперативного уполномоченного. Мы ведь с тобой должны быть как ездовые собаки: чуть-чуть голодны, собранны, всегда готовые мчаться на любые расстояния и знать, что каюр к тебе относится хорошо, но чаще ругает, нежели хвалит, тогда и форму сохранять легче.
— Нет, товарищ майор, у меня другой характер. Когда ругают — замыкаюсь, рабочее настроение исчезает, а стоит сказать доброе слово, так я готов в три смены работать.
— Ну, коли так, скажу тебе, Семен, что ты молодец. Это ведь с твоей помощью они с двумя своими справились.
— Я тогда не столько их количество уменьшить собирался, сколько собственную жизнь сохранить, товарищ майор. Но получилось удачно.
— Не принижай, сынок, себя. Там тебе и сила духа нужна была, и собранность. Итак, кто же у них сейчас остался? По моим подсчетам, пять человек: Дигаев Георгий Семенович, Бреус Сан Саныч, Ефим Брюхатов, он же Сиплый; это гости заезжие, особенно опасные, сколько они уже крови по нашей республике пустили! И двое доморощенных: твой старый знакомец Гошка Налимов и Аркадий. Фамилию так и не удалось установить? Ничего, выясним.
— Этот Аркадий, товарищ майор, вообще какой-то незаметный, затюканный. Я его пока не понял, вот только кличка у него примечательная: Тюх-тюх.
— Верно, редкая кличка, поищем, может быть, кто-нибудь и вспомнит такого. Завтра ты им доставишь продукты. А еще через день они у тебя потребуют лодку. Итого, в моем распоряжении два дня. — Квасов задумался. — Нет, Семен, за такое время я не успею перебросить группы и организовать плотную засаду. Якутск мне полуглиссер обещает, но когда он будет, ума не приложу. Покажи-ка мне на карте, где они устроились?
Они внимательно рассматривали карту, а когда ее оказалось недостаточно, Семен нарисовал свою схему, объясняя каждую закорючку.
— Если я правильно понимаю, взять их там с нашими теперешними силами невозможно. Кольцо мы сожмем, но даже прочесать трущобы не сумеем. Хорошо устроились, ничего не скажешь. Погуляй, сынок, завтра в поселке, отдохни, выспись, двинешься в путь послезавтра, вот мы и выгадаем денек. Причину придумать нетрудно.
— Есть у меня причина, товарищ майор, вы ведь знаете, я в Чертовом Улове печником числюсь. И сюда приехал по своим ремонтно-строительным делам. Нужны мне чугунные дверки, полудверки, вьюшки, дымовые задвижки, короче — печные приборы. Чугунных не найдем, так хотя бы стальных, слесарной работы. Помогите, пожалуйста.
— Задал ты задачку, сынок, да это не проще, чем бандитов найти. Если бы у нас время было, в Якутске кое-что нашли бы, а здесь… Попробую, Семен, с руководством прииска поговорить. Но мне им даже объяснять что-либо трудно будет. Ну понятно, вчера я у них овес просил, так это для лошадей. А твои печные приборы для кого? Как людям растолкуешь? Кроме того, бесплатно нам здесь ничего не дадут. Они с меня даже за овес деньги взяли, вот и говори потом о шефских связях, а за твои вьюшки слупят и не поморщатся.
— Ничего, товарищ майор, мои деревенские заказчики деньги собрали, мы не даром.
В высокое, запахнутое занавеской окно кто-то трижды, с определенными интервалами, постучал.
— Перейди, Семен, в соседнюю комнату, это ко мне. Видно, приспичило.
Семен Жарких вышел. За стеной скрипели двери, передвигались табуретки, слышались взволнованные голоса. На минуту там стало тихо. В комнату вошел майор Квасов и на ухо прошептал:
— Я сейчас выйду, но дверь оставлю приоткрытой. Присядь у двери, послушай, о чем речь, это и тебя касается.
Семен прислонился к косяку и застыл.
— Повторите мне все, о чем сейчас рассказывали, гражданочка, только со всеми подробностями.
— Я и говорю, — послышался вроде бы знакомый Семену голос, — пришла к нашему участковому, потому что он просил предупредить, если что похожее произойдет, а он меня сюда привел, верно, Андрей Иванович?
— Верно, Сима, ты этому человеку рассказывай все как на духу. Ему все положено знать.
— Сегодня, — продолжала женщина, — явился к нам молодой мужчина, лет так тридцати, лицо чистое, безбородое, глаза серые, на лбу здоровенный шрам. Закупил большое количество продуктов, а расплатился золотом. Сказал, что он из артели Кубасова, но, по-моему, сбрехал. В той артели конфет требовать не станут, а он еще удивился, что в магазине кофею нет. Взял тушенки два ящика, сорокакилограммовый ящик топленого масла. Понятно? Кто же у Кубасова такое масло жрать станет? Они там все экономные, за копеечку держатся, чтобы семьям послать. И песок, которым он расплатился, не похож на тот, который артель Кубасова моет, я уж точно знаю, насмотрелась за десяток лет на металл, по цвету и по фактуре сразу определю, откуда золото.
— Откуда же, по-вашему, этот песок? — поинтересовался майор.
— С «Огонька» мне такой несколько раз носили. Вот, взгляните, я несколько граммов захватила, чтобы вам показать. Но если будете забирать, то мне акт об изъятии нужен, чтобы все честь по чести, я лицо материально ответственное, граммулька пропадет, так вы же сами и затаскаете по милициям.
— Не переживайте, за актом дело не станет. Вы не заметили, куда этот мужчина уехал?
— Как это не заметила? Попросила рабочего приглядеть за ним, гот его до Рудничной улицы проводил. Там старатель разгрузился в доме номер три, видно, заночует.
— Спасибо вам, большую помощь вы нам оказали. Если еще кто-нибудь такое же золото принесет или незнакомый старатель появится, который будет закупать много продовольствия, так вы уж предупредите участкового, договорились?
— Я всегда помогу, вот Андрей Иванович не даст соврать.
Женщина распрощалась и ушла. Следом за ней, получив несколько поручений, вышел и участковый.
— Ну что, Семен, — громко спросил майор Квасов, — все слышал? Теперь понял, что, если они еще кого-нибудь за продуктами пошлют, так мы сразу и узнаем? Сам понимаешь, в таком деле без подстраховки не обойтись. А как же ты упустил, что за тобой хвоста пустили?
— Я, товарищ майор, страховался только тогда, когда к вам шел, а до этого не считал нужным это делать.
— И все-таки сегодняшний урок, старший лейтенант, учти. Знаешь, как слово «чекист» расшифровать можно? Всегда начеку! Сегодня ты свободен, а завтра подойди к заместителю начальника прииска Пивоварову, скажи, что Квасов прислал по поводу печных материалов. Хоть немного, но я из него их выбью. К вечеру будь здесь, обговорим детали предстоящей операции.
На другой день Семен Жарких был у Пивоварова. Поздоровавшись, сослался на Квасова и изложил суть просьбы.
— Вот люди, как вы не поймете, что мне для своих рабочих не хватает металлоизделий? Знаешь, сколько труда нужно для того, чтобы сварить металлическую нетеплоемкую печь-времянку? Листовую или кровельную сталь достань, сварщика найди, оборудованием его снабди.
— Мне ведь не печь нужна, а кое-что по мелочи: дверки, вьюшки, может быть, пару чугунных плит, а если и колосников дадите, так век благодарен буду.
— Плиту одну, колосников двадцать штук и одну решетку, а остального по паре. Согласен? Если бы не твой ходатай, ни черта бы ты не получил. Деньги внесешь в кассу, а потом с требованием и моим автографом — на склад. Да грузи так, чтобы наши рабочие не видели, а то потом отбоя от желающих не будет, живо мой запас по миру пустят. Все, извини, мужик, мне некогда.
Рассыпаясь в благодарностях, Жарких вышел. Возвращаться в Чертово Улово теперь было не стыдно.
Кладовщик долго рассматривал накладную, перечитывал записку Пивоварова, а потом, все-таки не поверив Семену Жарких, сам отправился к начальству за разъяснением. Пришел он недовольный.
— Ишь, его и не спроси, зачем свое добро отдаем. А я вот на партийном собрании встану и расскажу о разбазаривании фондов. Запрыгает тогда. Забирай товар, вымогатель, — обратился он к Семену, — и как это ты к нашему Пивоварову ключик нашел? Очень интересно, ты с какого прииска?
Вечером, сидя у карты, Жарких с Квасовым уточняли последние мелочи.
— Назначишь им место у реки и передашь лодку, пускай грузятся, самому ехать не следует. А на другой стороне вот к этой избушке, — показал Квасов на схеме, — велишь им приплыть, дескать, здесь их лошаденка будет ожидать, которую ты достанешь, и еще кое-какие продукты. Пойдут они кустами к дому, а мы вокруг засаду подготовим. Если будут переправляться двумя группами, возьмем их живьем, а если сразу все, то откроем стрельбу и заставим сдаться. Ты, как только их в лодку посадишь, так отправляйся вниз по своему берегу к нашим, метрах в пятистах мы и здесь засаду организуем, ближе нельзя, волки они стреляные, все вокруг обшарят, а рельеф для схорона неудобный, лес на берегу жидкий, хорошо просматривается. Накануне операции в три часа дня встретимся с тобой возле того места, с которого они будут отчаливать, оглядимся. Возражения есть?
— Да откуда им быть? В общих чертах верно, а по ходу дела соображать будем, — неуверенно ответил Семен Жарких, — всего не предусмотришь, хотя и хотелось бы.
Они распрощались, и Семен Жарких ушел к себе, рано утром ему предстояло выезжать в Чертово Улово.
К середине следующего дня, объехав деревню стороной, Семен Жарких оставил продукты в условленном месте, а затем, прошагав изрядное расстояние пешком, сунул записку, как договаривались с Гошкой, в дупло приметного дерева. В ней он докладывал о том, что выполнил часть задания, и назначал Гошке встречу. Теперь можно было вздохнуть с облегчением — все сделал незаметно для постороннего взгляда.
Уже не торопясь, радуясь хорошей погоде и даже прислушиваясь к голосам птиц, он вернулся к подводе. Лето было знойным, солнце как будто не покидало небосвода, но из-за постоянного прохладного ветерка жара нынче была щадящей, вполне терпимой. Семен вернулся на основной тракт и, неторопливо понукая лошадь, едва шевеля вожжами, поехал к деревне.
У Стариковых его ждал сюрприз. Да такой, что, знай он о нем раньше, еще подумал, стоит ли возвращаться в Чертово Улово. Когда он подъехал к избе, старики не вышли навстречу, наверное, копались в огороде. Зато, мягко покачиваясь на ходу, в простом сарафане на крыльце появилась… Надежда Старикова.
— Здравствуйте, — растерянно произнес Семен Жарких, на секунду застыв с колосниками, которые он выгружал из телеги.
— И вам доброго здоровьичка! — пожелала девушка, лукаво улыбаясь. — А мне батя с мамой все уши прожужжали о печнике, на которого все деревня молится. И откуда он такой только взялся, говорят. Я, кажется, знаю, откуда такие бравые строители берутся. Вам помочь?
Семен молча пожал плечами, хотел было что-то ответить, объяснить, но потом махнул рукой и принялся разгружать привезенные материалы.
— Догадываюсь я, о чем ты сказать хочешь, — как в душу глядела Надежда, — раз ты здесь в печниках, значит, так надо. Верно? Теперь и я тебя в другой должности вспоминать не буду, чтобы часом не рассекретить. Только кого же ты здесь ищешь? — понизив голос, задумчиво сказала она. — Родители мои проштрафиться вроде бы не должны, остальной народ в деревне тоже честный, уж не сватать ли вы меня приехали, как обещали?
— Я бы не против, — улыбнулся наконец Семен Жарких, — только тебе ведь, красавица, тридцатилетние не нравятся, а живой воды я ни на «Огоньке», ни здесь не отыскал, поэтому омоложение не состоялось. Зато уж как мне нравятся такие догадливые, как ты, словами не передать. Ты верно подметила, лучше пока никому не говорить, кто я такой на самом деле. Печником тоже быть неплохо, да? Вон сколько пользы я вашей деревушке принес. Где родители-то?
— Батя баньку топит, я ведь только сегодня приехала. А мама на огороде. Да они как раз идут, — поглядев в сторону двора, улыбнулась Надежда, сияя глазами, — тебя уж на расстоянии чуют.
— Семушка приехал, — радостно всплеснула руками Анфиса, — а мы с дедом думаем, куда ты запропастился? Не в Якутск же за товаром поехал. Небось проголодался, сынок? А это наша доченька — Надюша, — погладила она по плечу девушку, — помнишь, рассказывали? Вы не познакомились?
— Как не познакомились, мама? Уже минут десять вас ждем. Только он что-то молчаливый. Не пойму, всегда такой или только сегодня?
— Ты, свиристелка, помоги матери на стол накрыть, а мы пока железяки в сарай переносымо, — распорядился отец, — вам, бабам, сразу хочется все балачки переговорить. Вижу, Семен, с пользой съездил? Тебе как будто кто-то ворожит, — с удивлением заметил старик, — и где тилькы достал такую кучу?
— Люди добрые помогли, — отмахнулся Семен и крикнул вдогонку хозяйке: — Вы бы, тетка Анфиса, не затевали больших обедов, я наскоро перекушу и за работу, наверное, заждались меня здесь!
Семену и впрямь хотелось скорее приступить к работе. Он понимал, что дни его пребывания в Чертовом Улове сочтены, после ликвидации банды ему будет уже не до ремонта печей. А оставлять дело незавершенным, обманывать надежды сельчан ему не хотелось. Но тут же он поймал себя и на другом стремлении — посидеть возле Надежды, поговорить с ней о чем-нибудь или даже просто поглядеть на нее. Раздираемый внутренними противоречивыми желаниями, он засиделся за столом, постепенно развеселился, старался казаться остроумнее, чтобы произвести впечатление на девушку. Уже недовольно поднялся из-за стола старик, Анфиса убрала посуду, а Семен все тянул.
— Ты, хлопче, сегодня на себя не похож, — не сдержался хозяин, — то, куска не доев, на работу бежал, а то вдруг разболтался. Если тебе Надюшка понравилась, то ты так и скажи, но опять-таки кадрили танцювать лучше к вечеру. Нас старухи и впрямь заждались.
— Какой же ты, отец, неспокойный, все бы тебе конфузить кого, — упрекнула его Анфиса, довольная, что дочка приглянулась хорошему парню.
— Ничего, мать, всему свое время.
Работали в тот день быстро и сноровисто, время пролетело незаметно. По дороге домой Семен, уже не находя оправдания, а потому и не объясняясь, коротко бросил:
— Ты уж иди, дед Василий, я немного погодя приду, дело у меня есть.
— Яки это у тебя все дела, Семен? — не выдержал старик. — Боюсь я за тебя, хлопче, як бы ты во что-то нехорошее не ввязался, не одобряю.
— Ты, дед Василий, несколько дней назад рассказывал мне о том, как от белогвардейцев динамит увозил. И вспоминал фамилию Квасова, было дело?
— Рассказывал, так шо с того?
— Видел я вчера в поселке майора Квасова. Он тебе привет передавал. Сказал, что в случае необходимости я могу обратиться к тебе, дед Василий, с просьбой от его имени. Высокого он о тебе мнения, говорит, цены нет этому мужику.
— Ну-ну, — недоверчиво протянул старик. — Вдруг ты этот привет сам придумал, тогда как? А меня подхваливаешь, шоб польстить?
— Скоро Квасов сам должен в Чертовом Улове объявиться, а чтобы у тебя и капли недоверия не оставалось, спроси свою Надежду потихонечку, чтобы никто не слышал, где мы с ней раньше встречались.
— Спытаю, непременно спытаю, — согласился старик, — вот стрекоза, и тут успела. А от меня ты якой помощи ждешь?
— Тебя, дед, попрошу разыскать мне к завтрашнему дню лодку побольше, чтобы человек пять вместить могла и скарб разный.
— Попробую, хлопче, найти. Только ответь мне на последний вопрос: Гошка, приятель твой, тоже секретное задание выполняет или нет?
— Почему ты спрашиваешь об этом, дед Василий?
— Не лежит у меня к нему сердце, хлопче. Этот мать родную продаст и не зажмурится.
— Раз не веришь ему, так и не верь, а мы с ним друзья поневоле. Как ты, батя, понимаешь, ему о моем знакомстве с майором Квасовым знать необязательно, оно ему очень не понравится.
— Хочу, Семен, предупредить тебя на всякий случай. В тот день, когда ты в поселок уехал, Гошка снова тут ошивался, кого шукав — непонятно, но и по бережку прогуливался, и за околицу выходил, вроде как бы осматривался.
Через полчаса Семен Жарких встретился на болотце с Гошкой.
— Давай отойдем в кусты, — предложил Гошка, — там нас Семеныч ждет.
Семеныч и впрямь появился, но только не оттуда, откуда они его ждали, а за их спинами.
— Чего испугались? — улыбнулся он. — Это я огляделся, нет ли за вами чужого глаза. Ну ты, сержант, молодец, оправдываешь мое доверие, — обратился он к Жарких. — Все точно привез, как заказывали. Теперь дело за лодкой; когда думаешь достать ее?
— Дня два нужно, Семеныч, ведь я только-только вернулся.
— Никаких двух дней тебе не будет, сержант. Лодка нужна завтра вечером. Я здесь зимовать не собираюсь. Пошли поглядим место, куда ты лодку подгонишь.
— Мы же его смотрели с Гошкой!
— А теперь со мной посмотрим, — тоном, не допускающим возражений, ответил Дигаев.
Уже смеркалось, когда они, побродив по зарослям, вышли на пологий берег, который Семен наметил для погрузки. Дигаев, внимательно оглядываясь, обошел окрестности.
— Вроде бы удобное место, сержант. Если даже пронюхает НКВД о наших планах, то засады им здесь устраивать негде, обзор для нас отличный. А вот противоположный берег, на который будем перебираться, мне совсем не нравится. Ты погляди, сержант, сам: бережок высокий, обрывистый, хоть и недалеко, но пока будем преодолевать реку, окажемся как на ладошке.
— Поэтому, Семеныч, я предлагаю сразу же юркнуть в тот распадок, откуда ручей бежит, и через кусты к баньке. Там я для вас пару лошадок приготовлю, уже договорился, и куль муки, который сегодня передать не смог.
— Поглядим, — недовольно сплюнув, ответил Семеныч.
— Чего потом глядеть, мне нужно заранее определяться, я ведь целый день на виду у деревни, а тут и лошадей отвести, и муку притащить, и лодку подогнать. Народ здесь неглупый, сразу поймут, что дело нечистое. Хотя мне все равно, что обещал, сделаю, а потом вы сами по себе. И я сам себе хозяин.
— Ты не заводись, сержант, я ведь обо всех нас думаю. Банька так банька. Завтра в десять часов ждем тебя, если какие-то изменения будут, так оставь днем записку, чтобы мы зря барахло не тягали, чай, неблизкий свет.
Они расстались. Но и на этом трудовой день у Семена Жарких не окончился. Не имея сведений о подходе опергруппы, он было собрался отправить с утра деда Василия к Квасову с запиской о намерениях бандитов. Но не успел войти в дом, как старик сам перехватил его.
— Тебя, Семен, приятель ждет у председателя поссовета. В дом не заходи, а огородами напрямки в баньку, он там уже часа два дожидается. Ты спать, як всегда, на сеновале будешь? Тогда велю Анфисе поставить внизу на табуретке кваску да картошки, изголодался ж за день.
— Не беспокойся, дед Василий.
— Осторожнее будь, Сема, — похлопал дед Семена по плечу, — гляди под ноги: ничего не найдешь, так хоть ноги не зашибешь. Я, может, тебе чем помогу?
— Дойдет и до вас черед, дед Василий.
В баньке у председателя поссовета Семена Жарких ожидал капитан Богачук. Встрече оба обрадовались.
— Ну, как ты тут, разведчик? Квасов тебя хвалил, нам, говорит, с этим парнем повезло, он уже у бандитов своим стал.
— Это, Витя, конечно, не совсем так, но близко к истине. Вроде бы они мне доверяют. Ты с группой? Я уж волнуюсь, не дай бог, опоздаете, а переправу бандиты требуют организовать не позже завтрашнего дня.
— Группа моя здесь, и даже усилена. В ней теперь, кроме меня, Молодцова и Афонского, четыре бойца войск НКВД и восемь гражданских, ты их по «Огоньку» должен помнить; всего пятнадцать человек, один пулемет.
— Маловато, Витя, людей. Квасов предлагал на обоих берегах засады устроить и по реке несколько пикетов, о тайге уж и не говорю.
— Я, Семен, распоряжаюсь только своими. Если Квасов тебе еще людей обещал, значит, слово сдержит. Как в банде настрой? Ты у них когда в последний раз был?
— С двумя только что встречался. С атаманом Семенычем и со своим давним знакомым, зубным техником. Гошка рад и не скрывает этого. Вчера выбрал минутку, когда атаман Семеныч местность осматривал, и аж захлебывается от восторга: поделили они наконец-то золото, и теперь каждый будет носить свою долю. Собирайся, говорит он мне, с нами, мы с тобой еще чей-нибудь пай урвем.
— Э, — усмехнулся капитан Богачук, — так они уже друг за другом охотятся?
— Отношения между ними пока терпимые. Но мне кажется, это до первой неудачи. Думаю, Гошка переоценивает свои силы. Белогвардейцы между собой сплочены, они ведь, наверное, за кордон хотят уйти, Гошка им золото на себе потаскает, а потом они его успокоят на веки вечные, если мы банду арестовать не успеем.
— Когда на месте сориентируемся, Семен?
— Хорошо бы сегодня, но идти далеко и осмотреться в темноте толком не сможем. Давай завтра к рассвету уже в путь.
— А чего так рано?
— Они, Витя, очень осторожные. И Семеныч, и Сан Саныч. Как бы завтра с утра наблюдение за рекой не выставили. Что ты хочешь — ведь профессионалы, а если что-нибудь неладное почувствуют, сразу же в тайгу уйдут. Где тогда их искать будем?
— Хорошо, уговорил. Завтра встану с петухами, только где этих петухов взять?
— Вы где расположились?
— В распадке между сопками, по дороге в поселок. Место тихое, вокруг ни одной живой души не сыщешь.
— Ты через деревню, Витя, больше не ходи, здесь люди все замечают. Обойди по тайге и сразу за кладбищем к реке выходи, там я тебя ждать буду. Найдешь дорогу?
— Я, Семен, лучше здесь заночую. Ты мне утром стукни, и вместе пойдем, а то всю ночь проплутаю черт знает где.
Рано утром, до рассвета, они были уже в дороге. Виктор Богачук с еще большей тщательностью, чем есаул Дигаев, осмотрел местность, заглянув за каждую ложбинку и под каждый куст.
— Место отвратительное, — сетовал он, — где же я здесь своих мужиков спрячу? Нет, на эту сторону надежды мало. Заброшу тут один секрет метров на триста-четыреста вниз. И вверху по течению пристрою своих орлов.
— Нет, — не согласился Семен, — так близко устраивать секреты нельзя. Я вчера поглядел, как Семеныч место осматривает, на триста метров он сам пробежится, не поленится.
Сошлись на пятистах метрах. По поводу противоположной стороны споров не было. Оба понимали, что именно там нужно брать банду, благо там и лес погуще, и обрыв дает немалые преимущества, и распадок можно пристрелять в два счета. Обговорили места контрольных засад и собрались в обратный путь.
— Если все будет благополучно, вечером увидимся. Проинструктируй людей, Виктор, чтобы ни веточки не оборвали, ни камешка не сдвинули. Я бандюг в лодку посажу, а сам потихонечку вниз по реке двинусь, если обстановка изменится, лодку все равно по течению понесет. Если вести будут, найдешь меня через моего хозяина, давнего дружка Квасова, тот, считает, что деду доверять можно. А если ты понадобишься, Виктор, где тебя искать?
Капитан Богачук задумался:
— Черт знает, что придумать. Лишних людей нет, чтобы возле тебя держать; сам буду между пикетами мотаться. Давай-ка, старший лейтенант, расположим наш штаб в баньке у председателя поссовета. Если Квасов приедет и мы к реке уйдем, тогда там связного оставим. Хорошо?
В тот день Семен работал только до обеда. Потом он осматривал лодку, которую раздобыл для него дед Василий, вычерпывал из нее воду, готовил запасные весла. Потом на берег павой приплыла Надюшка и позвала квартиранта ужинать.
— Я бы тебя, Семен, сегодня не кормила, не заработал, но мать все боится, что ты похудеешь. Пойдем к дому вдвоем, если не стесняешься. Старухи соседки все уши моей матери прожужжали: чего это твоя Надежда среди мужиков работает, а замуж все не выходит, может, те в ней порок какой отыскали? Вот я с тобой пройду, помозолю им глаза: есть, дескать, кавалер, который ко мне нежные чувства испытывает.
— Бойкая ты, Надюшка, за словом в карман не лезешь, вся в батю.
— Это понимать как критику или комплимент?
— Я уж столько комплиментов наговорил, что боюсь испортить тебя, зазнаешься, нос задерешь.
— А мне, может быть, очень даже приятно слушать их, — потупилась Надежда, — так что не экономь. Каждому любо, когда его по шерстке гладят.
В доме дед, улучив момент, передал Семену записку.
— От начальника твово, а мово дружка Квасова, — шепнул он.
Записка была короткой:
«Семен, я здесь. Приятеля твоего, Виктора, усилили. Береги себя. Все без изменений».
Семен дважды перечитал записку. Подумал, что Квасов волнуется не только за исход операции, но и за него, и ему стало чуточку грустно. За ужином, во время которого они с Надеждой сидели рядом, она рассказывала о прииске, о рабочих своей бригады.
— В других бригадах мамки все в возрасте, только я молодая. Кому ни скажу, никто не верит, что мамкой работаю, странно.
— Чего ж тут дивного, дочка, — рассудил дед Василий, — ты подумай, мамка — это значит и постирать, и приготовить, и за больным поухаживать. Поэтому на такое место женщины в возрасте идут, они за свою жизнь всему научились. Ты еще и половины того не знаешь, шо воны забыть успели. Тебя Денис по-родственному взял и мается с тобой, наверное, от мужиков укоры слушает.
— Нет, батя, тут ты ошибаешься. Старателям в бригаде очень даже нравится, как я готовлю. И постирать — долго ли? Помогают они мне все по очереди.
— Ничего, пока жениха найдешь, а муженек не позволит тебе там работать, правда, Семен?
— Я по семейному вопросу небольшой специалист, но думаю, батя, что ты прав, нечего ей в мужском обществе делать.
— Да ты, Семен, оказывается, ревнивый, — рассмеялась Надежда. — Тебе к расставаниям привыкать нужно, ты печник, а значит, часто разъезжать будешь, как суженую одну оставишь? — Она лукаво поглядела на него.
— Ты чего человека дразнишь, — вступился за Семена дед Василий, — люб он тебе, мабуть, да? От ты и раскривлялась.
— Отец, — укоризненно стукнула кулачком по столу Анфиса, — ты что такое говоришь? Не стыдно? Погляди, дочка покраснела от твоих слов. Тысячу раз тебе говорила, чтобы сдерживался. Что на уме, то и на языке. Верно, что простота хуже воровства. И ты, Сема, не обращай на деда внимания. Понравился ты ему, вот он и хочет тебя любыми путями возле себя оставить, и дочки родной не пожалел, в смущение ввел. Вот анчутка чертов.
— Я уже вашей Надежде делал предложение, но она мне отказала, старый, мол, я для нее.
— Да вы что меня сегодня до слез довести хотите? — рассердилась Надежда. — Какие такие предложения, если мы и знаем друг дружку всего несколько дней! Вон батя рассказывал, что он за мамой три года ходил, верно, батя?
— У, трепач старый, — покачала головой Анфиса, — чего это ты наговорил? А ты верь ему больше, дочка. Он ведь, как цыган, околдовал меня, в три дня окрутил и увез из дому. Отец мой так и не простил ему этого до смерти.
— Я ж тебя, Анфиска, в глазах детей хотел повыше поднять, вот, мол, какой она неприступной была. А ты все наши секреты расторохтела, ну так нехай тебе и хуже будет.
Посмеялись, а потом Семен начал собираться. Вышли с дедом на крыльцо.
— Если мне, батя, придется уехать, так ты остальные наши заказы сам выполни. Там дел немного, справишься.
— Надолго, Семен, уезжаешь? Хотя шо тебя спрашивать, все равно правды не скажешь.
— Скоро сам все узнаешь. Если не увидимся, так не поминай лихом, извини, если что не так.
— Ты это брось, хлопче, у меня и так с ночи сердце ноет, то ли к перемене погоды, то ли к неприятностям, господи, пронеси! Хочешь, я Квасова попрошу, шоб вин после всех ваших дел дозволил тебе у нас денек погостевать?
— Там, батя, видно будет. Однако мне в дорожку пора.
— Что, уже выходить время? — спохватился старик. — А я еще ружье не почистил.
— Да ты куда собрался? — удивился Семен.
— Меня, сынок, Квасов по старой памяти на фазанов поохотиться позвал. А я всегда готов старому другу помочь. Ты як же думал, Семка, если я старый, значит, и доверие утерял?
Семен, стараясь не привлекать к себе внимания, не прощаясь с женщинами, потихоньку выскользнул из избы и пошел к берегу. А на крыльце стоял старик Василий и провожал его добрым участливым взглядом.
На причале, как всегда в последние военные годы, было пусто. Старший лейтенант Семен Жарких отомкнул цепь, столкнул лодку в воду, стал загребать одним веслом, выбираясь по узенькому коридорчику между берегом и речным уловом, медленными, вкрадчивыми кругами гонявшим речную пену по взбугрившейся водной поверхности. Выйдя на речной простор, Семен опустил весла в лодку, и ее поволокло вниз по течению. Постепенно темнело, и уже труднее было рассмотреть отдельные деревья, росшие на крохотных лесистых островках близ берегов. За излучиной послышался всплеск — играл потайник — большой подводный камень возле берега, опасный для рыбаков, не знавших реки. Семен взял в руки весла. И вовремя, вдоль его стороны показался зеленец — берег с гладкой травяной поверхностью, иногда перемежавшейся россыпями речной гальки. Он затабанил правым веслом и тут же нажал на оба, заплескал короткими резкими гребками и ткнулся носом в песок, не торопясь вытянул лодку на берег. До встречи еще оставалось минут двадцать, и он, разминая ноги, прошел вдоль реки, внимательно оглядывая каждое деревце на фоне густеющего неба. Ветерок затих, и ни одна веточка не трепетала. Тихонько журчала вода. Замер и противоположный берег. Если бы Семен Жарких не знал, что сейчас на нем затаилось не меньше десятка людей и с минуту на минуту вечерняя тишина может разорваться грохотом выстрелов, свистом ракет и криками, он бы ничего не заподозрил в этом благостном спокойствии.
— Пора, — беззвучно прошептал он и негромко свистнул раз, потом еще дважды. И тут же затаил дыхание. Крона одного деревца дрогнула, и на берегу послышались чмокающие от влаги шаги.
— Кто идет? — тихим голосом спросил Семен.
— Это я, Ефим, не узнаешь, что ли? Здорово! Все забываю тебе сказать, Семен, с меня причитается за то, что ты нож у Виташева выбил. Если бы не ты, продырявил бы он мне мою шкуру, а она мне дорога как память о ее создателях: папе и маме. Все в порядке? Тихо?
— В деревне тихо, здесь вроде бы тоже.
— Вот и я думаю, кому мы в этот час нужны. А Сан Санычу неймется. Он и Семенычу покоя не дает, и всем нам. Пока мы с тобой болтаем, они небось уже весь берег облазили, все энкэвэдэшников ищут. Чего их искать, те по времени уже почивать должны. Темнота — это наше время, верно?
— Осторожность нам не помешает.
— Если бы осторожность, а то страх. Я тебе, Семен, честно скажу, что в жизни боюсь только одного старичка подколодного — Гришаней его кличут, ну, так тот с нечистой силой связан. А в НКВД берут простых людей, не стоит их пугаться. Гришаня предсказал, что перед смертью у меня на теле обязательно язвы появятся. Я сегодня к вечеру специально оглядел себя — и прыщика не нашел, слава богу, значит, мне еще долго жить. Ну, пойду Семенычу доложу.
Через несколько минут на берег вышла цепочка людей с грузом. Свалив его на землю, поспешили за остатками.
— Семен, — послышался голос Дигаева, — иди помоги нам, а по берегу пока Сан Саныч походит, прислушается, принюхается.
Потом укладывали в лодку продовольствие, рассаживались.
— Семеныч, — докладывал Жарких Дигаеву, — я, как и обещал, лошадок оставил возле баньки. Там же и куль с мукой. Но я смотрю, груза у вас так много, что вас и самих нужно будет запрягать. Во запаслись!
— Ладно, сержант, потом разберемся, кому из нас вьючной лошадкой работать, залезай побыстрее в лодку.
— Да вы что, Семеныч, мне ведь в деревню нужно. И так целый день от людей таился, все тишком да молчком, а мне ведь тут оставаться надо чистеньким. Я сейчас бережком, бережком и к себе. А вы лодку, как доедете, из воды вытащите немного, я за ней хозяина пришлю завтра.
— Сержант, не тяни время, сказано — без тебя не поедем, значит, так и будет. Ефим, Гошка, — позвал Дигаев, — помогите нашему снабженцу в лодку забраться.
Положение было безнадежным. Скрыться Семен Жарких теперь никак бы не успел, стреляли в банде неплохо. Ехать — значит, подставлять себя под пули своих же. Того, что бандиты заставят его переправляться с ними, он просто-напросто не предусмотрел.
Семен нехотя полез в лодку и присел на корме.
— Нет, сержант, на носу тебе будет удобнее, — услышал он ехидный голос Сан Саныча, и ему показалось, что тот злорадно улыбается, — так ты точнее нас к цели приведешь, не увидишь, так рукой нащупаешь.
— Ефим, Гошка, — снова позвал Дигаев, — ну-ка толкните наш корабль.
Бандиты нехотя выбрались на берег и, столкнув лодку в воду, полезли обратно.
Откуда-то нанесло туман, и он, вначале незаметный, легкий, начал сгущаться, размывая контур противоположного берега. Лодку сильно сносило, но Семена это не беспокоило, так как течение он учитывал в своих расчетах. До берега оставалось не больше десяти метров, и Жарких уже видел темный провал ложбины, по которой им предстояло подниматься к избушке. И в этот момент послышался раздраженный голос Семеныча:
— Эй, на веслах, притормозите маленько. Тише, орлы, вот так, а теперь пару рывков и поплыли вниз по реке.
Семен понял, что его план, согласованный с Квасовым и Богачуком, рушится, что атаман вносит в него непредсказуемые коррективы.
— Семеныч, — довольно громко, так что его было слышно и на берегу, сказал он, — нам здесь высаживаться нужно. Вон там в ложбинке наша банька.
— Потом попаримся, — спокойно ответил тот, — а сейчас плывем вниз.
Лодка, медленно разворачиваясь, стала отдаляться от берега.
Как потом оказалось, Дигаев о засаде не догадывался. Но удивительно подозрительный, он не верил никому и ничему, поэтому решил спуститься вниз километра на два, потом за лошадьми отправить кого-нибудь из бандитов, а то и вовсе отказаться от них. Эта предосторожность и спасла его.
Опергруппа, затаившаяся на берегу, услышала эти разговоры; ни для кого из ее участников не было секретом, что внизу по течению есть еще по пикету на обоих сторонах реки, но видимость из-за тумана ухудшалась, и потому надеяться на них было невозможно. И капитан Богачук, не сумевший различить голос друга, который на речном просторе утратил свою индивидуальную тональность, отдал единственно правильный приказ:
— Огонь!..
И сразу по реке стеганул стальной дождь выстрелов. Виктор Богачук, торопясь, рванул чеку гранаты и, мгновение выдержав ее в руках, швырнул в сторону лодки. Уже летели вверх осветительные ракеты, тут же исчезая в молочных клубах тумана. Грохотал с обрыва ручной пулемет, не имея перед собой точного прицела, стрелял по площадям. А лодку уже не видно было с берега, она исчезла в тумане, унося с собой банду.
Едва берег скрылся из виду, бандиты прекратили стрелять.
— Ну, падла, — тихо сказал Семеныч, — продать нас хотел! Я тебе сейчас шомпол в пасть воткну.
— Успокойся, Семеныч! — одернул его Сан Саныч. — Лодку осколками пробило, вода!
Фуражками, котелками они лихорадочно вычерпывали из лодки воду, но ее становилось все больше, и было понятно, что далеко им не уплыть.
— Давай к берегу, станичники… — шепнул Семеныч, — только тихо, чтобы ни вздоха, ни всплеска не слышал.
Неуправляемая лодка ткнулась кормой в берег в какой-то сотне метров от засады, но здесь шум и выстрелы казались далекими и неопасными.
— Быстрее, станичники, быстрее, пока они сюда не прибежали. Тащите этого мильтона, сейчас свежевать его будем.
Где-то неподалеку раздались выстрелы.
— Какого мильтона, Семеныч! — выскочив из лодки, на бегу негромко сказал Сан Саныч. — Бежим к тайге, а то нас сейчас самих свежевать будут.
Задыхаясь от быстрого бега, они карабкались на крутой берег. Наверху на секунду остановились.
— Чего ждем? Мать-перемать! — поправляя сапог, поинтересовался Ефим. — Все мы тут, Семеныч, в наличии. Семку-печника и Тюх-тюха убило, сам видел.
— Ну вот, Семеныч, — укорил Гошка атамана, — а ты хорошего человека в измене подозревал. Мильтон бы с нами на выстрелы не пошел. Вечная Семке память. Жаль только, что мы ему золотишко за услуги поторопились дать. — Он как будто вспомнил что-то, остановился и медленно, нехотя, словно его кто-то силой заставлял, пошел обратно.
— Ты куда, Гошка? — остановившись, с удивлением спросил Семеныч. — Уж не сдаваться ли пошел?
— Мы же долю Тюх-тюха в лодке забыли, пропадет золотишко, — со стоном ответил Гошка. — Надо забрать, атаман!
Где-то совсем рядом послышались голоса, враз отрезвившие Гошку, и он большими скачками, волоча следом за собой винтовку, побежал за Семенычем, и если бы кто-нибудь в этот момент смог взглянуть ему в лицо, то был бы поражен горестным, скорбным его выражением, Гошка страдал.
Глава IX ВДОВА
Майор Квасов стоял в аппаратной и неторопливо, не дожидаясь точки, обрывал куски медленно движущейся ленты.
«Д-о-л-о-ж-и-т-е о-б-с-т-а-н-о-в-к-у», — по буквам читал он запрос руководства из Якутска.
Рассказать Квасову было о чем, за последние дни события завертелись в бешеном темпе, принеся и первые радости, и новые огорчения.
Банде снова удалось оторваться от преследования. Операция удалась только частично. Но вместо семи человек, что были в банде до появления в ней старшего лейтенанта Семена Жарких, теперь там осталось только четверо. Четверо озлобленных волков, которые снова лишились провизии и средств передвижения и почувствовали, как сжимается вокруг них тревожная бечева с красными флажками.
«…Бандиты ушли в тайгу, — завершал сообщение Квасов, — бросив все продукты и вещи, за исключением золота и оружия. По тайге сейчас след человека виден плохо, а во многих местах уже ничего не заметно. Однако поиски продолжаем. На убитом бандите по кличке Тюх-тюх, оставшемся в лодке, обнаружен широкий брезентовый пояс, в котором он хранил свою долю золота. В нем пятнадцать килограммов шестьсот шестьдесят пять граммов золота. Кроме того, внедрившись в банду, старший лейтенант Жарких получил от них один килограмм четыреста семьдесят три грамма. Всего золота семнадцать килограммов сто тридцать восемь граммов. Прошу дать указание о передаче металла. Нахождение банды неизвестно. Старший лейтенант Жарких тяжело ранен и нетранспортабелен, после оказания первой помощи оставлен на попечение местного жителя Василия Старикова, оказавшего нам помощь в операции. Жду дальнейших указаний. Квасов.
Капитан Молодцов просит вашего разрешения выехать в Якутск на три дня по личному вопросу».
Указания последовали незамедлительно:
«Вследствие вашей непредусмотрительности операция по задержанию банды выполнена на низком уровне. Передайте всем участникам ликвидации банды, что виновные в поспешности и недисциплинированные будут сурово наказаны, невзирая на лица и должности. Приказываю принять все меры к поимке бандитов в районе Усть-Аллах, поселке Горелая Гряда. В местах возможного появления их организуйте засады. В агентурную разведку пошлите маршрутников. Учтите возможность попытки ухода банды в сторону Усть-Маи через тайгу. Амгинскому районному отделу предложено направить опергруппу, маршрутную агентуру в верховья Ноторы. Речкалов принимает меры в районе Охотского перевоза. Заместитель наркома Скирдин.
Дано указание по передаче золота в Джугджурзолото по соответствующим документам о сдаче. Молодцову в Якутске делать нечего».
Последней, в нарушение инструкций, была личная строчка: «Дима! Едрит твою за ногу, ты что же, не понимаешь обстановки? Золото нужно для победы. Вспомни молодость, старик, такие дела делали, а тут щепотка белых хунхузов…»
Прочитав последние слова, Дмитрий Квасов механически улыбнулся, и тут же его лицо снова осунулось. Он уже давно чувствовал, что работает на последнем дыхании, нужно найти в себе силы и сказать об этом вслух; сдать руководство операцией кому-нибудь помоложе, поэнергичнее, тому же капитану Богачуку. А самому бы в госпиталь, подлечиться, пока не опоздал совсем. Сколько же лет можно терпеть эту гонку, это нечеловеческое напряжение! Работа без отпусков, без выходных, и все в темпе, скорее, срочно. Это сколько же лет прошло с тех пор, как они все втроем начинали работать в милиции: он, Василий Скирдин и Виктор Богачук. Виктор тогда был совсем сопливым восемнадцатилетним мальчишкой, а ом — уже немолодым тридцатисемилетним человеком, который работу в милиции воспринимал не как сплошную романтику, а как суровую необходимость — нужно ведь кому-то и уголовным миром заниматься.
Перед войной майора Квасова часто направляли для встречи с молодыми сотрудниками, только что пришедшими в органы. Ходил он на такие беседы неохотно. Говорил поначалу медленно, часто задумываясь, а потом приловчился, даже какие-то небольшие документы непроизвольно заучил на память и цитировал из них исторические факты. Он и сейчас еще помнил обязательства поступающего на службу в советскую милицию, которое заполнял в октябре двадцатого года вместе со Скирдиным и Богачуком. Теперь оно казалось удивительно простым и даже наивным, но был в словах обязательства отзвук героического времени: «…Я, нижеподписавшийся, сын трудового народа Дмитрий Данилович Квасов, происходящий из поселка Судкинских копий, что под Анжеркой, тридцати семи лет, имея право, согласно изданной Народным комиссариатом внутренних дел и юстиции инструкции по организации советской рабоче-крестьянской милиции на вступление в ряды милиции, даю настоящую подписку в том, что буду стоять на страже революционного порядка и защищать интересы рабочего класса и крестьянской бедноты.
На службе в советской рабоче-крестьянской милиции обязуюсь:
Прослужить в советской рабоче-крестьянской милиции не менее шести месяцев, то есть до мая месяца тысяча девятьсот двадцать первого года.
Беспрекословно исполнять все приказы и распоряжения своих начальников, как представителей Советской власти.
Соблюдать строгую дисциплину и порядок.
Неуклонно следить за исполнением гражданами декретов, постановлений и распоряжений рабоче-крестьянской Советской власти.
Беспощадно подавлять все выступления против Советского правительства.
Быть честным, трезвым, исполнительным и вежливым со всеми, а в особенности с городской беднотой и крестьянством, как на службе, так и вне.
В случае опасности, угрожающей Советской России от нашествия внешних врагов, приду на помощь Красной Армии.
Ни в коем случае не принимать от кого бы то ни было вознаграждения за исполнение служебного долга.
За нарушение с моей стороны хотя бы одного из перечисленных пунктов, а также законов и декретов рабоче-крестьянской власти я, как лицо, специально поставленное для наблюдения за революционным порядком и соблюдением воли этих законов и декретов, подлежу законной ответственности и высшей мере наказания».
И кто бы посмел сказать, что эти обязательства — не честный, не благородный свод законов рыцарей революции?! Нередко голодных, плохо одетых, но положивших всю жизнь свою на алтарь социалистической законности.
Первые шесть месяцев служил Дмитрий Квасов в Якутском губернском управлении советской рабоче-крестьянской милиции в должности старшего милиционера. Название было звучным, а месячная зарплата тысяча восемьсот рублей, бывало, налоги высчитают, и жить до следующей получки не на что…
Подлечившись после побега от Дигаева, уговорил руководство направить его на ту же должность в Булунский окружной отдел. Никого это не удивило, в то время в глухом районе прожить было куда легче, чем в Якутске, а у Квасова в семье двое пострелят, непоседливых, в отца. Семью в Булун планировал перевезти весной. И каким же счастьем ему показалось через некоторое время, что жил он в неспокойном районе один. Одному всегда проще, ему только о себе нужно заботиться и о своем деле, он и для врагов не так уязвим.
В двадцатые годы неспокойно было по всей Сибири, но Булунский округ выделялся даже и здесь. Бывало, не успеют мятеж белобандитов подавить, а уже новый заговор зреет, и вновь носятся по селам озверелые недобитки, расстреливая местных партийных и советских работников с семьями, не щадят ни активистов, ни сочувствующих. Сколько ласки, родительского тепла, внимания окружающих, сколько сил и здоровья нужно, чтобы родить, воспитать и вырастить только одного человека! Но урвут бандиты власть хотя бы на часок-другой, и уже никакой ценности для них не представляет человеческая жизнь, смахнут ее, не задумываясь, как былинку. Представители местной власти, получая ключи от кабинетов и печати, уже заранее прощались с родными, не было для активистов худшего испытания, чем занять руководящее место, за которое предстояло платить кровью.
С приездом Дмитрия Квасова в селе Слюдянка вроде бы поутихло.
— Ты, товарищ, как будто талисман какой-то имеешь, — ласково глядел на него председатель сельсовета, — уже три месяца живешь, а мы в селе еще ни одного беляка не видели. Часом, не ворожишь?
— Жена моя ворожит, — отвечал Квасов, — она со мной столько горя нахлебалась, что иначе и быть не может.
Однако и заклинания жены не помогли. Бандиты, половина из которых были выходцами из местных кулацких семейств, ночью легко и без выстрела обезоружили всю партячейку — человек десять. Добрались и до избы Квасова. Квартирант спокойно спал, когда в дверь тихонько постучали.
— Кого на ночь глядя черт принес? — недовольно спросила хозяйка.
— Ой, тетка Глаша, ты уж не гневись. Выручи по-соседски, в доме ни спички, а трут с кресалом мальчишки куда-то забросили, не время искать.
Хозяйка, ворча, открыла дверь, но вместо соседки и избу ворвалось несколько бандитов.
— Да ты что ж это, Гриппа, обманываешь, — завелась было старуха.
— Цыц, старая, а то худо будет! — пригрозили налетчики. — Показывай, где твой милиционер таится.
Испуганная женщина молча показала на дверь во вторую комнату.
Дмитрий Квасов спал крепко, как это бывало у него после особенно утомительных дней. Бандиты потихонечку вошли в комнату и в ожидании потехи уже едва сдерживали смех. Один из них прихватил винтовку, стоящую возле изголовья, другой с интересом разглядывал длинную саблю, оценивая трофей. Третий, осторожно просунув руку под подушку, пошарил там.
— Встать! Руки вверх! — громко скомандовал предводитель спящему.
Дмитрий Квасов испуганно дернулся, а бандиты, уже не сдерживая восторга, содрогались от хохота. Но рука милиционера метнулась под матрац и, выхватив оттуда кольт, на лету взвела курок.
В то время как часть бандитов не могла еще справиться с истерическим смехом, другая уже вылетала из комнаты с криками боли и страха. Ситуация действительно была необычной: с одной стороны, расслабившиеся, никак не ожидавшие сопротивления враги, а потому поторопившиеся отступить, а с другой — не сразу пришедший в себя после сна Квасов, благодаря чему налетчики отделались в тот момент только двумя ранеными.
До рассвета бандиты обстреливали дом, не давая Квасову возможности уйти ни через дверь, ни через окно. Они, пожалуй, спалили бы его, но против поджога выступила та самая соседка, которая помогла им проникнуть в дом.
— Да ты что, — ругала она своего мужа, примкнувшего к ватаге. — Сегодня вы его дом сожжете, а завтра нам красного петуха пустят. И не думай, гад такой. Хватит того, что ты меня втянул в свои делишки. Соседка теперь мне век не простит.
Когда патроны у Квасова кончились, он прекратил отстреливаться. Били сначала в его же собственной комнате, потом повели в здание сельсовета, где обосновался их штаб. Никаких сведений от него им не требовалось, и ничего они от Квасова не хотели. Изуверствовали, хвалясь друг перед другом тем, кто сумеет сшибить его с ног одним ударом или выбить зуб, не поранив руки. И конца-края этой муке Квасов не видел, проклиная тот день, когда мать родила его на белый свет. Страшно было и то, что даже особой ненависти к нему никто из палачей не испытывал. К вечеру эта забава им надоела.
— Вставай, рабочая милиция! — велел предводитель. — Хватит выбитыми зубами плеваться. Покоптил белый свет, хорошего помаленьку, сейчас будем тебя убивать.
Дмитрию хотелось крикнуть им, что нельзя его убивать, что он еще не прожил своего и как же на земле будет без него, без Дмитрия Квасова? Но это говорили в нем чувства, извечная человеческая боязнь смерти. Умом он понимал, что никакие слова до них не дойдут, что ощущение власти ослепило их, наполнило сердца пьянящим всесилием. На улице, увидев, что расстреливать его ведут только двое пьяных бандитов, рванулся в сторону и побежал от них, петляя. Сзади забухали винтовочные выстрелы, раздались крики. Дмитрий Квасов залетел за угол ближайшей юрты, чуть было не упал, запнувшись за стоявшие нарты, и помчался дальше, уже веря, веря, что уйдет от них и будет жить вечно! Задыхаясь, он мчался между юртами, прятался за поленницами дров, отбиваясь от собак, увязавшихся за ним. Пришел в себя только километрах в трех от села, на крутом лесистом островке реки Яны, укутанном глубокими сугробами. Но тут он почувствовал, что до спасения еще очень далеко, так как мороз был никак не меньше тридцати градусов. Дмитрий Квасов попытался согреться, забившись в глубокий сугроб. Мороз ощущался меньше, но Дмитрия потянуло в сон, а он уже знал цену такому сну после побега от Дигаева, за глубоким покойным сном его караулила смерть. Тогда Квасов вылез из своей берлоги и стал замысловатыми узорами утаптывать тропинки, коридорчики и целые улицы на островке между озябшими кустарниками и равнодушными деревьями. Он бегал по ним марафонские дистанции, гонял елочные шишки, забивая их в ворота из воткнутых в снег веток. Совсем изнемогая, он присаживался на пенек, а отдышавшись, придя в себя, тотчас чувствовал, как мороз шарит по всему телу, не оставляя живого теплого места. Только потом, несколько лет спустя, почувствовав первые признаки надвигающейся старости и болезней, он понял, каким богатырским здоровьем обладал в те годы. Здоровьем, которое выдерживало непомерные нервные напряжения, дикие побои и физическое изнурение. В село он вернулся только утром следующего дня, когда, к его счастью, бандитов уже вышиб отряд красноармейцев. На колченогих от мороза ногах дошел до сельсовета, а вот чтобы подняться на крыльцо, у него уже не было сил.
Месяца два Квасов лежал в больнице. Отмороженные участки тела зажили, обошлось без ампутации конечностей, которой боялся врач. Но вот с зубами ему тогда ничем помочь не смогли, специалистов по протезам не было, да и если бы они нашлись, то где было взять материалы для их изготовления. Пришлось Дмитрию Квасову осваивать немудреную и невеселую науку стариков, потерявших зубы. Он сосал хлеб, размачивая слюной и перетирая деснами, глотал жидкую кашу или мелко нарубленные кусочки мяса. Через три года за самоотверженную работу в органах милиции, за успехи в борьбе с контрреволюцией и уголовным элементом, за проявленную при исключительно трудных местных условиях храбрость он был награжден поездкой в Москву для изготовления зубных протезов. Постановление об этом зачитали в дни празднования юбилея милиции в зале облотдела. Ему шумно и долго аплодировали, так же, как и тем, кому в тот день вручили именное оружие, ткань для обмундирования или часы-«кукушку», как, к примеру, Виктору Богачуку, или символичный портфель, как нынешнему заместителю наркома Василию Скирдину.
«Да, то были дела!» — покачал головой майор Квасов. А теперь, когда судьба свела его с одним из врагов, воскресших из глубины двадцатых годов, белогвардейским есаулом Дигаевым, ныне атаманом уголовной шайки, неудача преследует его за неудачей. И здесь уже не поправить дела личным мужеством. Давно ушли те времена, когда он мог храбростью выиграть бой, повести за собой молодых бойцов. Теперь он должен быть талантливым шахматистом, знающим на память расстановку сил и предугадывающим дальнейшие ходы противника. Итак, банда снова затерялась в тайге. Но если профессиональный охотник-промысловик может месяцами не выходить из тайги, не боясь умереть с голоду, то бандитам сложнее. Охотнички из них неважнецкие. Брюхо есть просит, значит, опять начнут по деревенькам и заимкам шалить: где лошадь с жеребенком украдут, где избу ограбят. Если такое случится, НКВД в первую очередь узнает. Но ведь и они уже битые, понимают, что в таком случае сразу же откроют свой маршрут, следовательно, снова попадут в облаву. «Воровать побоятся», — уверенно подумал майор Квасов.
Тогда могут подкупить кого-нибудь из старателей или местных старожилов и отправить за продуктами в золотоскупку. Значит, нужно не полениться, еще раз напомнить участковым и начальнику районного отдела милиции, чтобы следили за золотоскупками, благо золото прииска «Огонек» заметно отличается от того, что намыто в других местах.
И третий путь банды — это их связи. У белогвардейцев таких связей нет. Остается Гошка, зубной техник, со своими обширными знакомствами, заведенными за период легального и нелегального бизнеса. Вот здесь и нужно искать подельников, заводить фигурантов. От реки без лошадей и провизии банда отойти побоится, весьма вероятно, что она отправится к поселку Усть-Аллах. Игра судьбы! Там банда сформировалась, оттуда отправилась на грабеж прииска и туда же возвращается с золотом, но основательно потрепанная, меньше чем в половинном составе. «Стоп, стоп, стоп, — задумался майор Квасов, — кажется, какая-то мысль мелькнула… Вероятно, туда, откуда начали. Но начали они в доме непутевого Шишкина, а того уже в живых нет… Что же из этого следует? Будем рассуждать логически: Шишкина нет, но остался дом, где всегда гостеприимно принимали Гошку Налимова и где никто, кроме покойного хозяина, не знал, что это рецидивист, сбежавший из мест заключения. По оперативным данным, знакомых у Гошки в Усть-Аллахе много, но в те дни, когда он бывал там, всегда останавливался у Шишкина».
Настроение у майора Квасова постепенно улучшалось, он уже чувствовал, что на верном пути, что вот-вот нащупает ниточку, которая укажет ему выход. И точно, как же он, битый и беззубый сыщик, забыл о том, что жена Шишкина — Раиса — после окончания финансового техникума работает кассиром в золотоскупке! Ну и что с того, что она в декретном отпуске? По нынешним материально-скудным временам женщины после родов не засиживаются дома, а стараются поскорее вернуться на работу. Есть!
В тот день майор Квасов отдал все нужные распоряжения капитану Богачуку, связался по рации с командирами опергрупп, разбросанных на путях возможного маршрута банды, а сам на полуглиссере, наконец-то полученном из Якутска, отправился в Усть-Аллах.
Пролетая на вершине крутой волны где-то в районе Нонкиного поселка, он не знал, что из зарослей на него завистливо смотрят бандиты.
— Вот если бы была, станичники, на свете высшая справедливость, — мечтательно сказал Семеныч, — так вот эта быстрая шумная лайба остановилась бы поблизости от нас, а моторист с пассажирами изволили бы пообедать на свежем воздухе, полюбоваться красотами природы.
— Правильно, — поддержал Ефим Брюхатов, — мы бы их по башке и в омут, а с обедом бы и сами справились.
— Ты, конечно, Ефим, прав, — улыбнулся Сан Саныч, — от обеда бы мы не отказались, но главное, как я понимаю нашего предводителя, — воспользоваться транспортом.
— У тебя, Ефим, как в том анекдоте получается, — вмешался Гошка, — про бабника и хулигана. Сидят они как-то на бережку. Вечер, гнуса нет, ветерок, рядом кусты багульника. Бабник говорит: «Сейчас бы в эти кусты да с бабенкой молодой, красивой». А шпаненок вскочил, разъяренный, и кричит: «И по морде ее, и по морде ее!»
— А ты сам по морде получить не хочешь? — не понял юмора Ефим. — Так за мной не заржавеет.
— Захлопни пасть, пока сам не схлопотал, я тебе не такой сазан, как Афонька.
— Станичники, станичники, — забеспокоился Сан Саныч, — вы чего ж это оба, как огонь с соломой, никак рядом находиться не можете.
— А ты им, Сан Саныч, не мешай, — одернул Семеныч, — пусть, если хотят, выясняют отношения, — и он подмигнул ротмистру, — я сейчас, как древний римлянин, хлеба и зрелищ хочу.
— Пока я среди вас, такого не будет, — непривычно резко возразил Сан Саныч, — вот уйдем за Камень, на восток от Яблонового хребта, там хоть дуэли устраивайте; понадобится, могу и секундантом послужить. А здесь каждая наша ссора — шаг в лапы красным. Мне, конечно, Ефим друг, люблю его, но и Гошка уже как родной стал. Не серчай, Гоша, стоит ли обижаться друг на друга из-за мелочей? Если мы еще разок в переделку попадем, так и я разучусь юмор понимать. Ты лучше, Гоша, подумай, как дальше жить будем. Сегодня-завтра еще протянем, а потом связи нужно искать. Нам бы еще толкового пособника найти, который отовариться сумел бы, хатку бы подыскал, чтобы мы отсиделись.
— Я вам нашел Семена, так что вы про него наговорили? Продал, дескать, вас с молотка? А он с вашей же помощью жизни лишился. Парню цены не было. Жалко как своего.
— Извини, Гоша, — не стерпел обиды Сан Саныч, — но я его ни в чем не обвинял. Был грех, подумал о нем нехорошо, но это длилось только мгновение, пока не увидел, что укокошили нашего сержанта. А ты еще человечка найди, Гоша. Сам ведь хвалился, что тебя здесь каждое деревце знает.
— Полуглиссер уже сегодня в Усть-Аллахе будет, — завистливо сказал Семеныч, — а нам не меньше двух дней туда топать. Эх, сюда бы сейчас моего арабского жеребца.
— Кто же вам велел его в зимовьюшке оставлять, — укорил атамана Ефим. — Я ведь говорил: в нынешней России табуны в частном пользовании держать не позволяют, отберут все у охотника. Так и вышло. Теперь ищи-свищи: ни охотника нет, ни лошадей. Хорошо еще, что оружие никому не доверили, закопать догадались.
— Не переживай, Ефимушка, — послышался мягкий, вкрадчивый голос Сан Саныча, — в то время нам лошади мешали, не мог же ты в Якутск верхом на белом коне въехать, не те нынче времена. Так что скажешь, Гоша, — повернулся он, — припомнил стоящего человечка?
— Нужно к Усть-Аллаху торопиться, Сан Саныч. Конечно, мудрее бы всего сейчас в тайгу уйти и там переждать погоню, но в таких случаях не голова, а брюхо командует. Есть у меня одна мыслишка, Сан Саныч, я пока еще помозгую, а потом расскажу вам.
А полуглиссер с майором Квасовым на борту, не снижая скорости, мчался по широкой просторной реке к Усть-Аллаху, и Дмитрий Данилович ломал голову над тем, с чего начать такой нелегкий разговор с Раисой Шишкиной, дети которой уже никогда не увидят отца, как пережить ее крики и вопли и осторожно, не перегибая до надругательства над горем и правом оплакать близкого человека, попытаться пробудить в ней чувство гражданского самосознания.
Через несколько часов он был уже в поселке. Не скрываясь, отправился к дому участкового уполномоченного. Калитка была заперта, и ему пришлось изрядно поколотить в нее сапогом.
— Кто это еще расшумелся! — послышался рассерженный голос. — Потише нельзя? — Калитка отворилась. — Товарищ майор, так это вы! Чего же без предупреждения, как снег на голову.
— Если бы я тебя предупредил, так ты бы сейчас сидел за чернильницей и изображал для меня делового человека, а так мне все понятно: спишь днем, значит, недавно вернулся с маршрутной разведки, а может быть, и в опергруппе на пикете был. Верно?
— Точно угадали, Дмитрий Данилович, хорошо с вами работать, дай бог вам здоровья. Вы сотрудников ни в чем плохом не подозреваете. Был бы на вашем месте сейчас Молодцов, так тот и спрашивать меня не стал бы, такого шороху навел, пугал бы без меры.
— Ладно, не осуждай за глаза. Вот приедет он сюда вскорости, ты ему в лицо все и выскажи в моем присутствии.
— Не обращайте внимания, товарищ майор, это у меня вырвалось. Знаете, как у детишек бывает: нежданчик — ляпнешь сдуру, а потом неделю переживаешь. С чего начнем, Дмитрий Данилович, перекусим, а потом вам о делах доложить или сначала доложить, а потом перекусим?
— Все по-другому будет, Прокопий Иванович. Я без тебя чайку попью. А ты сейчас оденешься по всей форме и отправишься к Шишкиным, знаешь таких?
— Шутите, товарищ майор? Чего же не знать, Афанасий у меня еще до банды на примете был. Он, знаете ли, из тех, кто одержим мечтой разбогатеть. Как — ему все равно. Я как-то дал совет — нужны деньги, так отправляйся старательские шурфы бить, если фарт поймаешь, гроши заведутся. Нет, он кайлом трудиться не желал, тяжело, дескать. Мне бы, говорит, желательно по Государственному займу выиграть или по дороге на собственный огород самородочен найти килограммов на десять.
— Раиса из Якутска уже приехала?
— Уже с неделю здесь, второго мальчонка родила. По хозяйству возится — уже на работу думает идти. Но ей теперь в кассе работать нельзя, утеряла из-за мужа доверие. Верно?
— Она знает, что Афанасия убили?
— Откуда она может знать? Я сам об этом только на оперативном совещании услышал, а указаний о том, чтобы ей рассказать, не было.
— Вот я тебе такое указание и даю. Отправляйся сейчас прямо к ней и скажи, что ее муж Афанасий вступил в банду и участвовал в ограблении прииска «Огонек». Потом налетчики разругались, золото не поделили и убили Афанасия. Труп похоронили, это место ей позже укажем. Все понял?
— Товарищ майор, может быть, вы сами ей скажете? Как начнутся бабьи вопли и сопли, она мне потом неделю сниться будет. Все-таки кормящая мать, а ну если молоко пропадет, товарищ майор?.. Не могу я…
— Знаешь, младший лейтенант, что я тебе скажу? В настоящий момент меня не интересует, можешь ты или нет, обязан! Ясно? Рано или поздно мы ей обязаны сообщить об этом, горя ей не миновать. Конечно, я тебя, Прокопий, понимаю, кому охота быть вестником несчастья, но нам, сотрудникам милиции, это приходится делать чаще, чем кому-либо другому. А мне с ней еще немало придется говорить. Но к тому времени ты вторую мою задачу выполнишь. Нужно мне о ней узнать все, что можно: где крестилась, как училась, с кем любилась, на что способна. Даю тебе для всего этого завтрашний день. Доложишь обо всем, что узнаешь, а послезавтра я к ней отправлюсь.
— Второе задание проще, товарищ майор, но вот слез ее я боюсь.
— Ты не бойся, говори все как есть. Мы ведь с тобой не врем, не таимся. И не наша с тобой вина, Прокопий, что он там свою смерть нашел. Шишкин, когда сдружился с ними, когда Гошку в доме принимал и клиентов ему для протезирования искал, уже тогда должен был понимать, что дело добром не кончится. Не тяни время, младший лейтенант, отправляйся к Шишкиным. Могу тебе только один совет дать. Расскажи сначала обо всем этом какой-нибудь ее соседке, с которой Раиса дружна, ведь есть у нее такая. Бабы — народ сердечный, жалостливый, она помягче постарается все это преподнести, да и потом утешит. Через часок ты иди, и чтобы все было, как договаривались, слово в слово.
— Ну и хитры вы, товарищ майор.
— Это от нужды, Прокопий, я ведь не меньше твоего женского горя не люблю. Куда приятнее сообщать о рождении сына, например, а еще лучше — внука. Любой дед тебя за такую новость расцелует.
Участковый ушел. Майор Квасов попил в его отсутствие чайку и сел составлять шифровку в Якутск, делясь своими соображениями и испрашивая разрешения на начало новой операции.
Часа через два вернулся хозяин.
— Ну, товарищ майор, после таких заданий нужно прямо в баньку топать и париться до седьмого пота, и свой пот смывая, и чужие слезы. Вроде бы и не кричала она, а это, оказывается, еще страшнее.
— Так ты сам ей говорил илы как я советовал?
— Сначала напустил на нее соседку. Та, узнав о смерти Афанасия, расхлюпалась. Вся в слезах к Раисе ушла. Где-то через часок я расхрабрился и следом за ней. Постучался, все чин чинарем, никто не отвечает. Захожу, а они обе сидят в обнимку, слезами заливаются. Я тогда соседке мигаю, уйди, мол, дай поговорить. У нас с ней договоренность была такая; я ей о причине смерти не рассказал, несчастный случай, и все. Ушла она. Я тогда вдове все по порядку, как вы советовали. Выслушала, осунулась еще больше. Слезы вытерла, спрашивает, кто Афанасия убил. Не знаю этого, отвечаю, но если хотите, через денек-другой отведу вас к человеку хорошему, тот все до деталей расскажет. Велел ей даже родным не говорить пока, как Афонька свою смерть нашел. Но об этом ее можно было не предупреждать, кому хочется на себя такой позор навлекать. Ей ведь придется и это еще испытать.
К концу второго дня, как и договаривались, участковый докладывал майору Квасову все, что узнал о Шишкиной.
— Родилась Раиса в Якутске, там и прожинала с матерью. В наше село попала после третьего курса техникума на практику в приисковую бухгалтерию.
— Нашел, Прокопий, кого-нибудь из тех, кто с ней в то время работал?
— А как же, товарищ майор. О Раисе рассказывают только хорошее, дескать, работник аккуратный, каждую цифру десять раз проверит, прежде чем в ведомость вписать. Доверяли ей.
— Может, транжирка Раиса? Деньги любит и подтолкнула этим мужа в банду?
— Одевается всегда скромно, но чистенько, за нарядами особенно не гоняется. Питаются как и все, скудно, а в мирное время предпочитали якутскую кухню: сытно и просто, без особых затей.
— Как же они с Афанасием подружились? Что-то в твоем рассказе не вяжется. Она вся из себя положительная, а клюнула, понимаешь, на ленивого малого. Да и не из красавцев он.
— Так ведь любят, как моя жена говорит, не за что, а вопреки…
— А как жили?
— Вроде нормально, товарищ майор. Правда, характер свой она ему не раз показывала. Бывало, и в дом не пускала, и друзей с бутылками со двора выгоняла. Потом ей надоело его воспитывать, знаете, как в семьях иной раз бывает: не гляжу, так и не вижу, не хочу, так и не слышу. Бабы иной раз нашего брата пытаются перелицевать, так себе дороже обходится.
— Это все, что узнал, или еще что-то в заначке держишь?
— Вроде все, товарищ майор. Могу добавить, что к своему сынку Афанасий очень хорошо относился. С рук не спускал, баловал, игрушек гору наделал из меха и из дерева. Не появись у него в доме Гошка, перебесился бы мужик и стал бы таким, как все: и работал бы нормально, и в бутылочку поменьше заглядывал.
— Да редко ли так бывает, Прокопий? Тлеет, тлеет, ум пропивает, а там ушлый дядя бересты подбросил, и запылало. Ну, спасибо за помощь, сегодня нанесу Раисе визит.
— Мне с вами идти?
— Не стоит, Прокопий, у тебя своих дел много, а скоро еще больше будет.
Через полчаса майор Квасов стучался в дом Шишкиных. Открыла ему молодая якутка в глухом длинном и просторном темном платье. Голова ее низко повязана косынкой; худощавое лицо с выдающимися широкими скулами и слегка раскосые большие печальные глаза. Квасов сразу же отметил красоту, нередкую для молодых якуток. Особое своеобразие, кроме глаз, ей придавали широкие, полные, четко очерченные губы и, конечно, брови: черные, летящие. Ему подумалось, что такой женщине можно верить и лучше сразу же говорить с ней начистоту, чтобы не посеять сомнения.
— Вы к кому? — поинтересовалась хозяйка.
— К вам, Раиса, — ответил майор Квасов и протянул ей служебное удостоверение.
Она внимательно прочитала.
— Я уже все знаю, — сказала, не глядя на Квасова, — мне участковый рассказал.
— Нет, не все, мне, к сожалению, эта история лучше известна.
Она провела его в комнату. Но в это время за перегородкой расплакался грудной ребенок, и она вышла. Майор Квасов огляделся. Комната ничем не отличалась от тех якутских жилищ, в которых ему доводилось бывать. Середину занимал стол на четырех толстых фигурных ножках, с нависающей четырехугольной доской в широком подстолье. Несколько табуреток из гнутого тальника с удобным сиденьем из дощечек. Квасов знал, что такие табуретки якутские мастера умудряются делать без единого гвоздя. В углу буфет, тоже изготовленный местными умельцами, о чем свидетельствовал национальный орнамент из лировидных фигурок, окруженных завитушками, спиралями и розетками на дверцах.
Раиса Шишкина вернулась:
— Я слушаю вас!
— В то время когда вы находились в Якутске, — начал майор Квасов, — в этой самой комнате, в которой мы сейчас сидим, всю ночь пьянствовала банда перед выходом для налета на прииск «Огонек».
— Афанасий знал, куда они пойдут?
— Не только знал, но и сам попросился с ними.
— Он был слишком осторожен и не мог пойти с чужими, незнакомыми людьми.
— Среди них был его дружок, которого и вы должны хорошо знать. Гошка Налимов, помните такого?
— Гошка, зубной техник? Конечно, я его знаю. Он, когда приезжал в Усть-Аллах, останавливался у нас на день-два. Он никогда не нравился мне, знаете, говорит с вами, а у самого в глазах мелькают зеленые огоньки — какие-то мертвые, равнодушные. Родственники Афанасия несколько лет назад молодого волка поймали, я его у них видела в клетке. Вот у того так же: глядеть на тебя не хочет, но все замечает, а как взгляд случайно поймаешь, так те же огоньки.
— Зачем вы пускали его, если он вам был не по душе?
— А разве мы всегда делаем то, что нам нравится? — грустно усмехнувшись, вопросом на вопрос ответила женщина. — Это только в мечтах хорошо получается, а в жизни все иначе. Мы Гошке были обязаны. Он Афанасию зубы вставлял. Знаете, у нас в поселке больницы нет, нужно ехать в район или в Якутск. Но и там очереди, делают наспех. А Гошка ему все сделал прямо дома, конечно, больно, зато хорошо. Он и моей маме протезировал. Поэтому я вынуждена была его терпеть, нельзя же показывать свою неприязнь человеку, который вам добро делает.
— Афанасий вам рассказывал, что за нелегальный бизнес и махинации с золотом Гошка был осужден, а потом бежал из мест лишения свободы?
— Не-е-ет, — удивилась женщина. Она минутку помолчала. — Теперь понятно, почему в последний год, бывая у нас, он выходил из дому только в темноте и очень не любил, когда к нам заглядывали соседи. Почему же Афанасий скрыл это от меня? Странно.
— Наверное, потому, что если бы вы знали правду, то не пустили бы Гошку в дом, я верно думаю?
— Да, — не колеблясь, сказала женщина, — я прогнала бы его, хоть это и жестоко. У нас есть фотография Гошки, хотите взглянуть? Это еще довоенный снимок.
Она полезла в буфет, заставленный кухонной утварью; разыскивая то, что ей было нужно, она передвигала кумысную посуду: деревянный чорон, напоминавший бокал на короткой узкой ножке, чаши кытый-ялар, черпаки и что-то еще, потом достала из глубины круглую берестяную коробку, искусно оплетенную темно-коричневым конским волосом и украшенную подвесками из бисера, бус и мелких металлических бляшек. Сняв крышку, покопалась в старых квитанциях, пожелтевших конвертах и наконец нашла небольшую любительскую фотокарточку: на фоне их дома стоял Гошка, обняв Афанасия Шишкина за плечи.
— Сначала обнимал, а потом убил человека, — разглядывая фотоснимок, буркнул майор Квасов.
— Что? Что вы сказали? — схватилась за краешек стола Раиса. — Это Гошка убил Афанасия? Я не верю. Я не верю вам!
Майор Квасов негромким голосом рассказал о кровавом ручье, который оставляла за собой банда, о разжигаемых алчностью разногласиях, возникавших между бандитами. Не побоялся описать Раисе и те трудности, с которыми столкнулась милиция, преследуя убийц в тайге.
— Рано или поздно мы все равно уничтожим банду, но они очень опасны, и каждый день, проведенный на свободе, может еще кому-нибудь стоить жизни. Понимаете теперь, как нам важно знать о каждом их шаге? Быть в курсе их намерений, найти на этих зверей снасть получше. И если бы вы захотели, Раиса, вы могли бы нам помочь.
— Но я не работаю в милиции и не собираюсь туда идти, чем же я могу быть для вас полезной? — удивилась женщина.
— У Гошки в Усть-Аллахе нет больше таких хороших знакомых, как вы, а у его дружков тем более, они приехали в Сибирь издалека. Если банда доберется до поселка, то очень возможно, что Гошка попытается встретиться с вами.
— Как же он посмеет это сделать, если помогал убивать Афанасия? Вы неудачно шутите, товарищ майор, или же сказали мне неправду… Я все-таки не вполне верю, что Гошка мог убить Афанасия, ведь они были такими хорошими друзьями! Кто может подтвердить ваши слова? Ведь вас самого не было при этом.
— Со временем я познакомлю вас с тем, кто это видел собственными глазами. Потерпите немного.
— Но я не хочу терпеть! Почему бы вам сразу не привести ко мне этого человека? — женщина заплакала.
— Да потому, что он серьезно ранен, — повысил голос майор Квасов, — и в тяжелом состоянии лежит в Чертовом Улове. Я понимаю ваше горе, но если вы не поможете нам, то еще не одной женщине придется оплакивать своего мужа, подумайте о них.
— Кто теперь обо мне думать будет? — горько усмехнулась Раиса. — Мы с ним хоть и не очень хорошо жили, а все-таки у меня был муж, а у детей отец, теперь же я вдова, а они сироты.
— Если из-за вашего бездействия сироты появятся в других семьях, вас замучает совесть.
— Да что я могу сделать? Тут мужиков убивают, а я слабая женщина, расправятся со мной и с моими мальчишками.
— Не беспокойтесь, мы будем следить за каждым вашим шагом, я гарантирую вам безопасность.
— И что я должна делать? — поинтересовалась женщина, постепенно вникая в слова майора.
— Гошка будет просить вас купить ему за золото продуктов, когда он станет забирать их, мы арестуем его и других. Возможно, он у вас и приюта на некоторое время попросит.
— Нет-нет-нет! Об этом даже разговора не может быть! Я не позволю ему остаться здесь ни на один день, что хотите со мной делайте, не позволю.
— Речь не об этом, вы пообещайте ему найти кров на стороне, мы подыщем им ночлег. Важно знать, что они замышляют, о чем вас попросят. Ни в чем им не отказывайте, а решать все вопросы будем мы. Понятно?
— Нет… Не знаю. Не хочу… и боюсь. — Раиса задумалась. Потом нерешительно повернулась к майору Квасову: — Вы сказали, что Афанасия убили где-то возле Чертова Улова. Это верно?
— Конечно, чего мне придумывать. После того как банда ушла, мы нашли его тело и похоронили на сельском кладбище.
— И человек, который видел его смерть, находится сейчас в этом селе?
— Да… — нерешительно ответил майор Квасов, начиная понимать, к чему клонит Раиса.
— Я хочу увидеть того человека. И побывать на могиле мужа. Вы можете мне помочь? Если все окажется так, как вы мне рассказали, я соглашусь встретиться с Гошкой Налимовым и буду делать все, что вы мне велите. Хорошо?
— Чего же хорошего? До Чертова Улова шестьдесят километров туда и столько же обратно. А времени у нас в обрез.
— Как хотите, — настойчиво продолжала Раиса, — но это мое окончательное решение. Мне надо все увидеть своими глазами.
Майор Квасов чертыхнулся, подумав о том, сколько горючего придется спалить на полуглиссере, если проделать такой путь. И это в то время, когда наркомат требует отчета о каждом литре топлива. За такие прогулки его по головке не погладят. Но если Раиса Шишкина удостоверится, то будет помогать им с полным доверием, плохо ли? Она окончательно поймет, что помогает найти убийц своего непутевого мужа. К тому же в Чертовом Улове он заодно сходил бы проведать Семёна Жарких, а то оставили старшего лейтенанта у деда Василия и как будто забыли. Очевидно, ему какие-то лекарства нужны или вдруг его нужно везти из таежной, богом забытой деревушки в Якутск, показать специалистам. Он еще сомневался, но был уже близок к согласию…
— С кем же вы детей оставите? Грудному сейчас без вас не обойтись, а с собой не возьмешь, на реке сыро, опасно.
— С моей мамой останутся. Она с детишками лучше меня обращается. А малышу все равно теперь придется без меня обходиться, у меня вчера молоко пропало. Сколько времени понадобится на эту поездку?
— Если мотор не подведет, то завтра с рассветом выедем, а к вечеру дома будем.
— Так быстро? Тогда, конечно же, нужно ехать! Вы уже уходите? Завтра утром я буду ждать вас на пристани, хорошо? Сегодня с соседкой договорюсь о молоке, у нее коза дойная…
— Ладно, но предупреждаю, я доложу ситуацию своему руководству. Если мне разрешат ехать с вами в Чертово Улово — я поеду, а если нет, то не обессудьте.
— Я уверена, что вам разрешат. А нельзя ли и родителей Афанасия заодно захватить? Они здесь неподалеку, километрах в двадцати от поселка у брата живут.
— Вы что, Раиса, меня до сердечного приступа довести хотите? Я и с вами не знаю, как поступить, а вы неведомо что придумываете. Нет, этого я вам организовать не могу. Когда-нибудь сами с ними поедете.
— Ну хорошо, — согласилась женщина.
Вечером состоялась связь с Якутском. Квасов доложил о том, что оперативная группа капитана Богачука продвигается по долине реки Аллах-Юнь, обследуя протоки. Обнаружить бандгруппу пока не удалось, никому они не попадались на глаза. Местное население охотно рассказывает обо всех подозрительных лицах. Опергруппой обнаружены отдельные следы движения бандитов и места ночевок. Очевидно, направляются к Усть-Аллаху, как и предполагалось. Далее он раскрыл свой план, рассказал о разговоре с Раисой Шишкиной.
Из Якутска заместитель наркома подполковник Скирдин напомнил, что Шишкина является вольной или невольной пособницей Гошки Налимова, так как после побега принимала его у себя дома. И с ней можно было бы поступить по всей строгости закона, но, принимая во внимание ее малолетних детей и ту роль, которую ей отводит Квасов в своих планах, наркомат разрешает в порядке исключения отвезти ее в Чертово Улово. В конце передачи Василий Скирдин уже от своего лица ругал Дмитрия Квасова за благотворительность и слюнтяйство и в случае срыва операции грозил высчитать стоимость горючего из его зарплаты. «Семену Жарких кланяйся, скажи, что наркомат высоко оценил его работу, молодец, фронтовик, не подвел».
Глава X ЗАСАДА У РАЗВИЛКИ
К середине следующего дня полуглиссер был уже в Чертовом Улове. От берега майор Квасов сразу же повел Раису Шишкину на сельское кладбище и указал на свежий холмик, в который дед Василий — добрая душа — уже поставил простой деревянный крест. На гладко отесанной дощечке стояли фамилии Виташева и Шишкина и дата их смерти. Майор Квасов оставил женщину у могилы. Когда минут через двадцать он вернулся за ней, Раиса сидела возле бугорка и, как ему показалось, что-то тихо говорила.
— Пора, Раиса, нам еще нужно с Семеном Жарких встретиться.
Вдова поднялась с земли, вытирая заплаканные глаза, шмыгая носом, согласилась:
— Пойдемте, коли надо.
Они подошли к дому деда Василия, и тот, еще со двора увидев их, кинулся к майору с радостным возгласом. Но, заметив осунувшуюся молодую якутку в траурном платье, как будто понял, что для восторгов не время, и сдержанно поздоровался, но потом все-таки не стерпел и облапал невысокого худенького майора, прижал его к себе, не жалея сил.
— Да ты чего, как будто век не виделись, — удивился майор Квасов.
— Так я уже и не гадал тебя тут когда-нибудь встретить, Данилыч! В какие веки ты у нас появился, та и то не стилькы гостевал, сколько с нехристями воевал. А в наши годы, друже мой сердечный, каждый денек важен, каждая встреча дорога, потому что не ты смерти ищешь, она сторожит.
— О нас потом поговорим, — мягко остановил его майор Квасов, — лучше расскажи, как тут Семен?
— Да теперь, Данилыч, уже хорошо, тьфу, тьфу, тьфу три раза, чтоб не сглазить. — Дед еще и по крыльцу постучал. — Через сутки после твоего отъезда очнулся. Анфиса с Надюшкой в доме настоящий лазарет устроили. Дежурят возле него, понимаешь, то со стаканом, то с ложкой к нему спешат. Вчера из поселка снова доктор приезжал, швы проверил. Хорошо, говорит, шо из внутренних органов осколки ничего серьезно не зачэпылы, а то бы отпевать пришлось. Шутка ли — почти в десяти местах если не продырявлен, то задет, вот як.
— Значит, надежда есть?
— А як же? Анфиса меня уже два дня по тайге ганяе. То ей корень валерианы неси, он, оказывается, микробов бьет, то веронику вынь да положь, она як ранозаживлящее хороша. А сегодня еще один бабкин рецепт вспомнила: отыщи мне, говорит, кровохлебку, есть такое растение с коричнево-красными цветками, да не вздумай, кричит, корень повредить или листик какой. Так моей старухе недолго и в ведьму превратиться, как думаешь?
— Долго ты нас, Василий, на крыльце будешь держать? Мне уж и перед Раисой неудобно.
— И то верно, простите старого балакуна, свежих людей увидел и остановиться не могу. Пошли в хату.
Вошли в дом, поздоровались.
— Вот, хозяйки, приехали Семена проведать, как он жив-здоров? И у вас спросить — не нужно ли чем помочь?
— Вы бы и о своей спутнице хоть словечко сказали, — ревниво стрельнула глазами Надежда, демонстративно поправляя под головой Семена подушку.
— Не переживай, Надя, она ему даже не знакома, но потолковать им малость нужно, общий интерес есть.
— Вот еще, — вскинулась Надежда, — нужно мне переживать! Коли он хочет, пусть говорят.
Семен заулыбался, увидев начальника, но заметно было, что ему еще не до радости. Лицо его побледнело, словно выцвело; глаза, окаймленные потемневшими впадинами, казалось, провалились. Надежда ловким движением вытерла ему влажной тряпочкой закисшие уголки глаз.
— Что, Аника-воин, разболелся? Не время, Сема, на постели лежать, скорее выздоравливай, брат, да мы с тобой на рыбалку куда-нибудь закатимся. Все наши тебе приветы передают, а подполковник Скирдин от имени наркомата такую кучу хороших слов наговорил, что я столько за всю свою службу не слыхал, правда.
— Спасибо, Дмитрий Данилович, — тихо сказал Семен Жарких.
— Я, Сема, с собой жену Афанасия Шишкина привез. Она нам кое в чем помочь хочет. Ты бы ей рассказал, хотя бы коротко, как ее муж смерть принял. Хватит сил? Кто его бил, кто резал — все расскажи, а то ей не верится, что Гошка мог к этому делу руку приложить. Как же, дружками когда-то были!
Он отошел вместе с дедом Василием к двери, где уже стояла Анфиса, и возле раненого остались только Надежда и Раиса.
Семен Жарких слабым, тусклым голосом с частыми паузами рассказал об убийстве, которому он был свидетелем, подробно объяснил причину двурушничества Гошки, предавшего приятеля. Потом он надолго замолчал.
— Хватит, видите ведь, что человеку говорить еще трудно. Ему доктор молчать велел и побольше спать, — забеспокоилась Надежда.
— И верно, — поддержала дочку Анфиса, — такие страсти вспоминать легко ли изувеченному? Пойдемте-ка все на улицу, а то ему и дышать нечем, сколько народу в горнице набилось.
— Все теперь ясно, Раиса? — спросил майор Квасов. — Или еще о чем-нибудь спросить хотите? Как умирал Афанасий? Слышишь, Семен, на последний вопрос ответь. Легко умер? Нет, но быстро. Слышали? Он быстро умер, тоже немалое везение.
Все вышли на крыльцо. Дед Василий заботливо вынес Раисе табуретку.
— Садись, милая, посиди, погорюй. Ты не волнуйся, Семку на ноги поставымо, так я твоему мужику побольше крест сделаю, дэ пока на скору руку. Хоть он у тебя и в бандиты сдуру подався, а все живая душа была, сгинул ни за понюшку табаку, едрена вошь.
— Василий, — перебил его майор Квасов, — как думаешь, можно ли сейчас Семена Жарких везти? Полуглиссер просторный, на пять человек, а нас с ним вместе только трое будет. Там и в больницу положим.
— Це ты не со мной, а с сиделками обсуждай. Они на Семку монополию захватили. — И, нагнувшись к уху майора Квасова, прошептал: — Надюшка как сдурела, кудахтает над ним, будто квочка. Чую, как бы родниться с постояльцем не пришлось. — И уже нормальным голосом добавил: — Только мне его милицейская профессия не нравится. Самому покою не будет и моей дочке тоже. Нема черта в хате — прыймы такого зятя. Вот!
— Ой, ну ты и разговорился, Василий! И все не по делу, человек пластом лежит, разве его сейчас везти можно? Никак нельзя, — твердо заявила Анфиса. — Я его травками подниму быстрее, чем в больнице. Здесь тебе и воздух, как в заварном чайнике, и покой, в наших местах испокон живая кость мясом обрастала.
— Убедили меня, — решительно сказал майор Квасов. — Коли так, оставим его до полного выздоровления, назначаю тебя, Анфиса, главным врачом. Пойду попрощаюсь с Семеном. Нам пора.
— Вы что это — и не перекусите? — удивилась Анфиса. — Особых разносолов у нас нет, но покормим на дорожку как положено.
— Никак нельзя, — с сожалением ответил майор Квасов, — пора возвращаться. Сейчас каждая минута на счету.
Через полчаса они уже летели по реке обратно в поселок Усть-Аллах.
В это время банда сидела на утоптанной лужайке в десяти километрах от Усть-Аллаха. Настроение у ее членов снова было приподнятое, они были полны самых радужных надежд. Утром они наотрез отказались прислушаться к совету осторожного Сан Саныча и вопреки его доводам украли возле сенокоса лошадь. Заметая следы, брели то по воде, то по сухой, выжженной, потрескавшейся земле, на которой не оставалось ни одного отпечатка. Потом неумело резали кобылу, уже раненная, она утащила застрявший между шейных позвонков нож и скакала метров двадцать, пока не свалилась на самом видном месте на берегу реки. Чтобы кто не заметил часом, им всем пришлось впрягаться и тащить ее в ложбинку, в которой устроили привал. После всех этих мытарств и суточного поста, который им пришлось выдержать, жаренная на палках-шампурах конина показалась неведанной ранее пищей богов. Долго пили чай с остатками зеленого плиточного чая, завалявшимися в сидоре у Гошки. Разделав половину туши, поняли, что на первое время им и этого за глаза хватит, остальное тащить на себе нет сил, да в жару испортится мясо, куда его столько! Гошка с Ефимом не поленились, дошли до следующего сенокоса и, выдав себя плутоватому десятнику за старателей с ключа Вольного, собирающихся идти по призыву в армию, предложили ему половину лошадиной туши.
— Кажись, сперли ее где-то, ребята? — с пониманием спросил тот.
— Да ты что, — обиделся Гошка, — это вот его батя, — показал он на Ефима, — лошаденку под топор пустил, она у него ногу сломала.
— Не оправдывайся, паря, я не прокурор, я всего лишь Илья-десятник. Ты предложил, я готов купить, потому что верю тебе без слов.
— Продавать ее нам нет резона, у самих и деньжата водятся, и золотишко найдется, мы как-никак со старания. Ты нам вместо мяса отвалил бы муки, крупы, масла.
— Веселые из вас солдаты получатся, парни! Да мои косцы уже забыли, каково масло на вид. Мучицы подброшу чуток. Крупы дам, соли, чтобы оставшееся мясо у вас не протухло. И только потому, что вы мне очень нравитесь, еще отрежу вам шмат свиного сала, килограмма на три. И в расчете, устраивает?
— Жлоб ты, Илья, куда как скуп!
— Так скуп не глуп, себе добра хочет. Я ведь и вас не обижаю, делюсь поровну чем богат.
Ефим ушел вперед предупредить остальных, чтобы с оружием на глаза купцу не попадались. Вскоре за кониной подъехали на подводе десятник с Гошкой.
— Что ж это твой батя бросил мясо в таком глухом месте, — подмигнул Илья Гошке и, не требуя ответа, принялся деловито разрубать тушу на большие куски. Заметив выжженное на коже тавро, он аккуратно срубил его и забросил в кусты.
Потом они вернулись на сенокос, и десятник на глазок отсыпал в наволочку крупы, дал четверть мешка муки, не пожалел и соли.
— Вот и рассчитались, — довольно отметил он. — Толстейте на моих харчах, не жалко.
— У нас к тебе еще просьба будет, Илья.
— Какой вопрос? Любая просьба, был бы навар!
— Навар будет, — успокоил Гошка. — Записку нужно передать в Усть-Аллах, сможешь?
— Самому не успеть, но отправлю сынка, Мишу, ему уже четырнадцать, пускай на вашей почте копейку-другую заработает. Когда это нужно?
— Завтра с утра записка будет у тебя. Тогда же скажу, и куда нести.
— Заметано. Еще поручения есть? В рамках, дозволенных Уголовным кодексом, готов оказать любую услугу.
— Через день-другой вручу тебе золотишко и попрошу кое-что через золотоскупку купить, ну, к примеру, спирта и все другое, что полагается.
Договорились встретиться с Ильей утром следующего дня. Пиршество в банде в тот день продолжалось. От реки ушли вверх по глухому таежному ключу, развели костер, на котором снова жарили конину, и, отгребая раскаленные угли, прямо на золе пекли лепешки.
Потом Гошка предложил установить контакт с женой убитого Афанасия Шишкина.
— Она баба умная, сама в золотоскупке работает. Всегда нас и продуктами снабдить сможет, и о транспорте договорится. Пускай и о документиках подумает, а то мы ведь сейчас как беспашпортные бродяги. Золотоскупка — это такое место, куда все живое липнет, поэтому у нее и связи и возможности.
— А о том, что мы ее Афанасия ухайдакали, как ты ей объяснять будешь? — спросил Ефим.
— Зачем же ей об этом знать? Скажем, что Афоня по-прежнему сидит в тайге возле Чертова Улова, ждет от нее продуктов и документов. Если мы на него не сошлемся, она для нас палец о палец не ударит. Настырная баба, я ее знаю, все по-своему старается сделать. А тут мы ее и Афонькой поманим, и золотишка отсыплем не жалея.
— Светлая у тебя голова, Гошка, — одобрительно заметил Сан Саныч, — я так к тебе привык, что и расставаться не захочется.
Перед сном Гошка долго составлял записку, которую внимательно перечитал Семеныч, но править ее не стал, в таком виде она показалась ему естественнее.
На следующий день Раиса Шишкина, неожиданно для многих, вышла из декретного отпуска и приступила к своей работе — в кассе золотоскупки. Когда она прибежала домой на обед, мать передала ей записку:
«Рая, надо тебя увидеть. Рая, обязательно, если можешь, то приди в избушку на сенокосе приискового управления, где десятником Зубровский Илья. Просит Гошка. Прошу обязательно прийти, нам нужно с тобой поговорить. И приди завтра обязательно. Привет от Афоньки, от него имею поручение».
Мать объяснила, что записку передал какой-то мальчишка, пообещав вечером прибежать за ответом. Пришлось Раисе вместо того, чтобы посидеть часок с детьми, бежать в условленное место к майору Квасову.
— Быстро работают, — прочитав записку, отметил Квасов, — посиди немножко, Раиса, я ответ составлю, а ты его своей рукой перепишешь.
Вскоре, старательно взбалтывая стеклянную чернильницу-неразливайку, женщина выводила:
«Гоша! Хотела бы я тебя увидеть, но беда в том, что ты далеко отсюда, а я не в состоянии выбрать время и возможность приехать. Сам понимаешь: дети, работа — разрываюсь. Живу я по-старому, нового ничего нет, так и Афанасию передай. Я догадываюсь, где он, в поселке много об этом говорят. Приезжай к нам, время выбирай сам. Я тоже постараюсь как-нибудь вырваться к вам. Рая».
К вечеру мальчишка пришел за ответом и попутно сообщил, что сегодня его батя — десятник Илья — принесет ей в скупку золото. И верно: перед закрытием кассы Зубровский сдал восемьдесят граммов золота. На половину вырученной суммы он закупил дефицитных продуктов и спирта.
Рассказала Раиса об этом майору Квасову в тот же день поздно вечером, когда он нагрянул к ней с молоденьким, крепким якутом.
— Ты мне, Раиса, говорила, что в Иркутске у тебя братишка учится, верно? Так вот — это Петр, знакомься, тезка твоего брата. С сегодняшнего дня он для всех соседей будет твоим братишкой, который приехал на каникулы недельки на две.
— А как же мама, Дмитрий Данилович?
— Мама у тебя человек умный, поговорим с ней, она все поймет. Это, Раиса, для вашей же безопасности. Ты не смотри, что Петр молодой, он у нас такой шустрый, что и с тремя верзилами справится. Брат твой ведь в Усть-Аллахе никогда не был? В Якутске Гошка с ним не встречался, видишь, все получается так, что лучше и не придумаешь. По соседству и другие наши люди будут, это на тот случай, если Гошка сам к тебе вздумает наведаться. Чтобы ты не беспокоилась, обещаю, что без твоего согласия мы его в дом не пустим, раньше перехватим. Но он может что-нибудь заподозрить и не прийти. Что тогда делать? Есть у меня хорошая мысль, только бы ты не побоялась.
— Согласна я, Дмитрий Данилович, я когда у могилы Афанасия сидела, так дала ему слово, что обязательно его компанию до суда доведу, пускай они не только за грабежи отвечают, но и за его смерть.
— Ну и правильно, Раиса. Ты ведь, помимо приема золота, выдаешь рабочим техснаба зарплату и продовольственные карточки?
— Да, раньше так было заведено. Но, может быть, за то время, пока я в декрете была, что-нибудь изменили.
— Не беспокойся, это не изменят. В число рабочих техснаба входят и сенокосчики, верно? Работают они километрах в пяти от угодий Ильи-десятника. Понимаешь, к чему я клоню? Не боишься?
— Боюсь.
— Ну и правильно, бояться — дело естественное, главное, виду не показывай, пускай бандиты думают, что тебе море по колено. Через два дня поедешь на покосы техснаба для выдачи зарплаты и продкарточек на вторую половину месяца. А на обратной дороге сделаешь крюк и заедешь к Илье. Как я придумал?
— Хорошо придумали, но вдруг они и меня убьют?
— Ты им, Раечка, только живая нужна. А возчиком на подводе с тобой поедет наш офицер. Он завтра в поселке появится.
Через два дня Раиса Шишкина отправилась в путь.
В телеге на побелевшей от древности кожаной подушке с вожжами в руках покачивался капитан Богачук. В латаных брезентовых штанах, в выпущенной поверх них рубашке и чувяках на босу ногу, он ничем не отличался от рабочих поселка, которым дела нет до внешней красоты или моды, лишь бы было удобно. На пышном ворохе соломы пристроилась Раиса Шишкина, обхватив пухлый портфель с деньгами и продовольственными карточками.
До сенокоса добрались быстро, еще быстрее обмяк портфель кассира, и, сложив ведомости с подписями, Раиса с облегчением вздохнула.
— Ты чего? — поинтересовался Богачук.
— Хорошо, что все выплатила, а то еще чего доброго отобрал бы Гошка портфель, как тогда быть?
— Они столько награбили, что сами тебе могут тысячи дать и не ойкнут.
Свернув на узенькую таежную дорогу, они поехали в сторону реки и вскоре уже были на сенокосных угодьях Ильи Зубровского. Десятник понял Раису с полуслова.
— Ты, девка, подожди здесь, травки летние понюхай, на солнышке погрейся, а я схожу позову кого надо.
Вернулся он минут через сорок и, отозвав Раису в сторонку, сказал:
— Пройдешь по этой тропинке, на опушке тебя приятель ждет.
Увидев стоящего в тени деревьев Гошку, Раиса негромко, но с возмущением сказала ему:
— Что ж ты, Гошка, вместе с моим муженьком наделал? Зачем вы в эту проклятую банду подались?
— Здравствуй, Рая! А ты откуда это знаешь?
— А чего не знать, Афанасий записку оставил: «Уезжаю на „Огонек“, вернусь через неделю с большими деньгами». А бабы по поселку давным-давно языками чешут, что на «Огонек» банда налет сделала. Что ж я, глупая, сообразить не смогу? Вдруг милиция о вас узнает? Затаскают ведь и меня по судам и следствиям.
— Попутал нас черт, Раюша, это верно, но возврату уже нет. Вы теперь с Афонькой богатеи! Ни в чем нужды знать не будешь, Раюша.
— А сколько моих нервов, сколько слез стоит это ваше богатство, вы не подумали?
— Афонька всем привет передает. Велел сказать, что скучает по тебе и хочет скорее увидеть маленького, — честно глядя в глаза, врал Гошка. — Мы отряд на две части пока разделили. Одни, вместе с твоим Афонькой, в тайге возле Чертова Улова ждут, а нам нужно на всех продуктов побольше запастись и документиков раздобыть. Твой мужик велел сразу же к тебе обратиться. У нее, говорит, продуктов за золото можно сколько угодно купить, был бы песочек.
— Купить можно, да кто золото сдавать будет? Кто продукты увезет? Сколько вас, много ли понадобится?
— Здесь четверо да в тайге ждет шесть человек.
— Сколько же вы прятаться собираетесь? Если оставшуюся жизнь в зимовьюшках просидеть, так и золоту не обрадуешься.
— Афанасий сказал, что как только подходящие документы раздобудешь, так он уедет куда-нибудь в Хабаровский край, а потом и тебя следом вызовет. Да чего это мы на бегу с тобой говорим? Давай метров двести с тобой пройдем, там нас ребята ждут. Перекусим, по сто граммов выпьем и обсудим все. Илья сказывал, что с тобой возчик, кто таков?
— Из новеньких он, откуда-то с Колымы к нам забрел. Я ему сказала, что Илья меня отведет к бабке-знахарке, после родов будто бы оклематься не могу.
Они сошли с тропинки и, пройдя немного по подлеску, оказались возле заросшего оврага, по дну которого тек слабенький ручеек, извиваясь между густыми зелеными зарослями мха. Потом из-за куста поднялся Ефим, махнул рукой — проходите, а сам снова исчез, присматриваясь, нет ли за ними нежелательного глаза. Когда вышли к костру, Семеныч и Сан Саныч уже приготовились к встрече гостьи. На куске брезента была выложена нехитрая снедь, пенясь и фыркая, поджаривалась на углях конина.
— Какая очаровательная гостья к нам пожаловала, — вскочил Сан Саныч, и окружающим показалось даже, что он пытался шаркнуть ножкой. — В кои веки увидеть миленькую женщину, — не унимался он, как будто был где-то на балу или офицерской вечеринке с дамами.
— Погоди, Сан Саныч, — успокоил его Дигаев, — дай человеку сесть, толком оглядеться.
Они галантно представились ей, Раиса слушала и боялась поднять глаза, чтобы они не увидели в них той ненависти, которая одолевала ее. Страх постепенно исчезал, по тому, как они лебезили перед ней, она поняла, что очень нужна им, и это сделало ее спокойнее, увереннее в своих силах. Вот только улыбаться она так им и не смогла, держась вежливо, но довольно отчужденно.
Бандиты, быстро уверовав в то, что Раиса будет помогать им не за страх, а за совесть, на радостях выпили и стали не в меру болтливы, хвастаясь благополучным налетом на прииск, своей смелостью и удачливостью. Изредка они припоминали поведение Афанасия, и сейчас он всем им казался милым компанейским товарищем. Им уже и самим не верилось, что они могли убить его.
Они наперебой принялись расспрашивать ее о положении в Усть-Аллахе, выпытывая, как много там милиции и солдат, что говорят о них и их нынешнем местонахождении.
Пробыла она у бандитов около двух часов. Затем получила около пятисот граммов золота для приобретения продуктов. Договорились, что в воскресенье она еще раз приедет к ним и привезет продукты и спирт сама.
Возле избушки десятника ее ждал капитан Богачук.
— Что так долго? — поинтересовался он. — Я уж беспокоюсь, хотел было за тобой пройти, да гляжу, они там секрет выставили, кажется, и меня из-за кустов разглядывали, рисковать не стал.
— Ну и правильно, — согласилась Раиса. — Они все осторожные. Один все время на карауле был, а остальные по очереди вокруг полянки шныряли.
Прошло несколько дней, и Раиса с тем же возницей отправилась в воскресенье к банде в лес. И снова все повторилось: уходил Илья, поджидал на опушке Гошка, и она сидела на полянке у костра, брезгливо морща носик, отказывалась от спирта, стаканчик которого уговаривали выпить ее новые знакомые.
Опьянев, они делились с нею своими планами на будущее.
— Для начала, прекрасная Дульсинея, раздобыв с вашей помощью документы, — разглагольствовал Сан Саныч, — мы доберемся до Якутска и поживем немного в человеческих условиях. Знаете, иной раз хочется и в баньке попариться, и в трактире музыку послушать, и за дамой поухаживать. Купим где-нибудь на окраине домишко. Если пожелаете, на вас его оформим, будете полноправной хозяйкой мужского пансионата, а это, так сказать, деньги, власть и всеобщее поклонение. Передохнем, подождем, пока НКВД успокоится, и поищем еще более уютные квартиры. Меня, знаете ли, сейчас влекут края, где живут похожие на вас восточные красавицы, с необычным для русских разрезом глаз.
— Это вы, наверное, на Японию намекаете или на Китай, — погрозила пальчиком Раиса, — так они вас там и ждут.
— Кто знает, может быть, и ждут.
Потом, вернувшись с караула, Ефим Брюхатов в два счета напился и начал развязно приставать к ней, уверенный в своей мужской неотразимости.
Раисе не нужно было изображать по отношению к нему чувство гадливости, оно никогда не покидало ее. Вскочив, она рванула валявшуюся рядом винтовку:
— Да я тебя, гада… — задыхаясь от ненависти, кричала она, вся дрожа, — сейчас пристрелю. Я тебе покажу, как потные лапы распускать. — И она решительно передернула затвор.
Ефим перекатился от нее за спину Дигаева, не понимая, отчего его грубоватое ухаживание вызвало такой взрыв гнева.
— Успокойтесь, милая, — вскочил Сан Саныч, силой забирая из рук Раисы ружье. — Успокойтесь, это он грубо, по-солдатски пошутил.
— Если вы еще посмеете ко мне приставать, — сердито говорила Раиса, — я больше не приеду к вам и палец о палец не ударю для того, чтобы помочь вам, жеребцам чертовым.
Приняв ее угрозу близко к сердцу, Семеныч и Гошка накинулись на Ефима с руганью, а тот, простуженно дыша и сморкаясь в рукав, отмалчивался, чему-то криво улыбаясь. Когда мир был восстановлен, Гошка принялся просить Раису, чтобы она попыталась достать для них чистые бланки военных билетов.
— Где же их можно раздобыть, Гоша, что с тобой? Не могу же я взломать сейф военкомата. Вот документы мужиков, которых демобилизуют на фронт, мне еще попадаются, иногда по неделе у меня в кассе валяются. Считается, что вместе с золотом и деньгами они в кассе в большей безопасности.
Гошке и Семенычу эта мысль понравилась, и они пообещали за каждое удостоверение личности расплачиваться с Раисой золотом.
— Сначала Афанасию достану, — заявила она категорично, — а потом уж вам.
На том и договорились. На прощание Раиса предупредила бандитов, что в дальнейшем она скорее всего перестанет бывать у них:
— Вы, мужики, поймите: транспорт доставать трудно, по работе загружена, дома детишки минуты свободной не дают. Поэтому теперь вы в гости приходите. Вечерком, как стемнеет, так и навещайте, никто вас не увидит.
Доводы были убедительными, и бандитам пришлось согласиться с ними. Пообещали они появиться у нее через недельку глубокой ночью, с тем чтобы сразу забрать документы, которые она сумеет раздобыть.
В квартире у Раисы уже несколько ночей подряд, кроме Петра Афонского, дежурили по три человека. Мать ее вместе с детишками отвезли к родителям Афанасия. Все было готово к приему гостей, хотя до их визита было еще далеко.
Но свои коррективы в план операции снова внесли бандиты.
В среду, в обеденный перерыв, когда Раиса торопилась домой, возле конторы ее перехватил Гошка.
— Да ты что, Гошка, взбесился? Среди бела дня по улице разгуливаешь, а вдруг тебя кто-нибудь узнает? Потом и на меня пальцами будут указывать.
— Не беспокойся, Раиса, у меня, как в разведке, все продумано. Ты погляди, сколько у вас на улицах чужих людей, я между ними пройду незамеченным.
И правда, с окружающих поселок приисков и ключей собрались рабочие, которых по очередному призыву должны были отправлять на фронт. Уже несколько дней они ожидали парохода и бродили по селу как неприкаянные, оторванные от своих дел и еще не привыкшие к мысли, что не сегодня завтра станут военными людьми.
— А у меня на голове волосы еще толком не отросли, — хвалился Гошка, — гимнастерка как взаправдашняя, чем я не демобилизованный? Пошли-ка к тебе в дом, меня ребята осмотреться прислали, завтра к тебе в гости собираемся.
Они подошли к дому, и Раиса изо всех сил хлопнула калиткой и громко спросила о чем-то Гошку, назвав его по имени. Она не хотела, чтобы Петр Афонский лишний раз попался на глаза Гошке, чтобы тот накануне визита бандитов не заподозрил неладное.
Вошли в дом. Гошка, держа руку в кармане, прошмыгнул по комнатам, заглянул в сенцы, прошелся по двору, оглядывая забор и калитку на огород. Кивнул головой в сторону чердака:
— Там что у тебя, Раиса?
— Пыль, да и только, — улыбнулась она.
И верно, чердак был таким пыльным, что, когда после ухода Гошки Петр Афонский спустился оттуда, его было не узнать: весь грязный, в саже и длинных липких обрывках паутины. Едва успев отряхнуться, он тотчас же убежал. Минут через тридцать он вернулся с майором Квасовым и капитаном Богачуком.
Майор показался Раисе усталым, измученным.
— Что, Раиса, — участливо поглядел он на нее, — конец твоим мукам приближается? Во сколько они должны завтра прийти, не сказал? Без тебя не могут нагрянуть?
— Так не договаривались, но Гошка знает, куда я ключ прячу, может и без меня наведаться. Раз уж он осмелел и по поселку днем ходит, то всего надо ожидать.
С вечера в доме, во дворе и даже на огороде затаилась тщательно проинструктированная засада. Люди напрасно промучились всю ночь, не появились бандиты и утром. Только в полдень, едва Раиса успела войти в дом, как во дворе звякнула щеколда: прибыли гости.
— Раиса! — донесся голос Гошки.
— Проходи, Гоша, чего кричишь? Вас только двое или остальные еще подойдут?
— Нет, двое, Сан Саныч с Семенычем не захотели днем идти, опасно, говорят. Ефим, обойди двор, в сарай загляни, в огород, нет ли чего подозрительного.
Ефим вышел во двор, а Раиса отправилась на кухню поставить чайник и почти сразу позвала Гошку:
— Гоша, пойди сюда на минутку.
Ничего не подозревавший Гошка вышел из комнаты и в тот же миг был схвачен оперативными работниками.
С Ефимом пришлось повозиться дольше. Он уже во дворе достал из кармана револьвер и взвел курок. Когда он, тараща глаза, не привыкшие со свету к темноте, осторожно вошел в сарай, капитан Богачук, не задумываясь, с размаху ударил резко по его руке с револьвером. Ефим взвыл от боли и выронил оружие. Богачук велел ему поднять руки вверх и выходить во двор, однако бандит сильно пнул его в живот и, выскочив во двор, кинулся к огороду. Под ноги ему бросился Петр Афонский, сверху уже прыгал капитан Молодцов, но очумевший от страха Ефим ничего не понимал и инстинктивно отбивался, сипло воя. Тогда капитану Богачуку пришлось успокоить его ударом рукоятки пистолета по затылку. Очнулся Брюхатов уже связанным.
К великому огорчению майора Квасова, золота при себе бандиты не имели. Оставив Ефима в прохладном сарае, чтобы он скорее пришел в себя, Квасов с Богачуком приступили к допросу Гошки.
— Ну, расскажи, Налимов, как ты оказался товарищем белобандитов? На что ты теперь рассчитываешь? Это они могли нашего Уголовного кодекса не читать, а тебе он хорошо знаком, сколько ты уже отсидел?
— Два года, — буркнул Гошка.
— Этого времени достаточно, чтобы узнать, что полагается и тебе и им за налет на прииск, за убийства, за пытки кассира, да мало ли вы художеств натворили! Сан Саныч и Дигаев все еще на сенокосе?
Гошка промолчал, опустив глаза.
— Я спрашиваю, — требовательно повысил голос Квасов, — есаул Дигаев и ротмистр Бреус еще на сенокосе?
— Откуда мне знать их чины и звания? Они мне не представлялись. Вы мне, гражданин начальник, политику не шейте. — И тут же смиренно добавил: — На сенокосе они, где же им еще быть.
— А золото где? Твоя доля золота где? Неужели ты им ее на сохранение оставил? Ни за что не поверю. Сам отдашь или искать придется?
— На хрена оно теперь мне нужно? Второй раз мне от вас все равно не сбежать. А если вышку не дадите, так на столько лет упрячете, что мне тогда вместо золота старческая грелка нужна будет.
— Это ты правильно рассудил, значит, не растерял еще весь здравый смысл. Так где же оно?
— По дороге к поселку в лесу закопал, это рядом с сенокосом.
— А хайларский трактирщик Ефим Брюхатов, замаравший руки кровью еще в гражданскую войну, тоже припрятал золотишко или доверил его своим белым командирам?
— Кто же свою долю другому доверять будет? Дураков нет. Тоже неподалеку от меня копался, наверное, там же где-то заховал. Не скажет, так найдете, я покажу, в какую сторону он «по большому» ходил.
Ефим Брюхатов ни на один вопрос майора Квасова не ответил.
— Напрасно молчите, гражданин Брюхатов. Когда есаул Дигаев или ротмистр Бреус заговорят, то вам уже поздно будет откровенные показания давать. Они вас обязательно утопят, поторопятся не только о ваших преступлениях сказать, но и часть своих на вас переложить.
Но и этот довод не убедил Брюхатова.
— Хорошо, тогда расскажите, где вы спрятали свое золото?
Ефим зло усмехнулся:
— Вы же, гражданин комиссар, сами сказали «свое золото», а раз оно мое, зачем же я вам о нем говорить стану? Вот если вы его найдете без меня, тогда поговорим. Извиняйте, но сейчас мне хочется посидеть молча. Распустили вы своих работничков: то чуть руку не сломали, то по затылку огрели за здорово живешь, до сих пор круги перед глазами плывут.
В тот же день, не теряя времени, майор Квасов разделил оперативную группу на три части. Вместе с партийным активом поселка получились отряды человек по десять. Одна группа пошла со стороны реки, другая должна была отсечь бандитов от тайги, а майор Квасов повел свою пятерку той дорогой, которую хорошо изучила Раиса Шишкина.
Десятника Ильи на месте не оказалось По тропинке дошли до рощицы и углубились в лес. Вот тут майор оценил предусмотрительность бандитов, отыскавших место для своего стана. Лес был очень густым, а ветви деревьев, прихваченные зимой сильным морозом, высохли и легко ломались при небольшом нажиме. И каждое движение сопровождалось таким шумом, который был слышен издалека. Когда все три группы, сжав кольцо, собрались возле стана, на нем уже никого из бандитов не было. Горел костер, в котелках булькало пахнущее лавровым листом варево, стояла открытая банка с мясными консервами, валялись вещи, продукты. Но ни Дигаева, ни Бреуса, ни их оружия или золота уже не было. Хорошо изучив окрестности, они незаметно выскользнули из облавы и скрылись, не оставив следов.
— Богачук! Молодцов! Берите людей и продвигайтесь обратным путем, осмотрите каждое дерево, ищите хотя бы направление, в котором они исчезли. Нам сейчас никак нельзя упустить их, двоим в районе раствориться будет легче.
На обратной дороге Гошка Налимов указал Квасову место, где он зарыл свое золото.
— Вот здесь, гражданин начальник, видите, кусок дерма подрезан? Так под ним металл.
Подняли пласт дерна и действительно увидели небольшой, но чрезвычайно тяжелый мешочек золота.
— Больше иуда, — прибросил в руке майор Квасов.
— Килограммов двадцать, — уточнил Гошка, — отметьте, гражданин начальник, что Налимов сам вручил вам золото, собственными руками, не припрятав для себя в заначке ни одного грамма.
— А куда ты землю из-под дерна дел? — оглянулся по сторонам майор.
— Я ее подальше за тропинку отнес, чтобы в глаза не бросалась.
— Если и Ефим Брюхатов так же предусмотрителен, то без собаки нам его золото не найти.
— Найдем! — усмехнулся Гошка. — Я одним глазком видел, где он вошкался. Думаю, если вдруг с Ефимом в поселке что-нибудь приключится, так не пропадать же добру? Жаль, что вы нас арестовать поторопились. Хотя бы на денек позже хватились. Чуял я, что Ефиму из Усть-Аллаха до стана все равно не добраться…
Золото Ефима действительно нашли довольно просто. Было оно зарыто под кустом, а сверху земляной холмик был засыпан пожелтевшей от зноя травой и ворохом веток.
Гошка с сожалением протянул майору большой брезентовый пояс, сшитый по типу патронташа. В каждом его отделении лежало по мешочку с золотом.
— Ефим без этого патронташа, гражданин начальник, очень скучать станет. Он его каждый вечер перед сном перебирал, каждый мешочек погладит, на руке взвесит, видно, боялся, а не отсыпал ли кто из его поросят.
Ефим, увидев на столе перед Квасовым свой патронташ с золотом, и впрямь был убит. Он с жалостью уставился на него и, кажется, даже не слышал вопросов майора.
— Так вы будете отвечать на мои вопросы, Брюхатов?
— Какие, в задницу, теперь вопросы, гражданин комиссар, коли золото у вас. Скажите лучше, как нашли? Наверное, Гошка сказал? Выследил, черт лысый? Эх, предлагал ведь я Семенычу прибить его еще в Чертовом Улове, так нет же, не позволил. Мне бы с Гошенькой сейчас где-нибудь минут на пять вместе оказаться. А? Гражданин начальник, устройте мне с ним такую встречу? А после этого спрашивайте меня о чем угодно, много интересного расскажу. Но только сначала Гошеньку мне подарите, Гошеньку…
— Я вам уже пояснил, гражданин Брюхатов, что мы в понятие «комиссар» вкладываем другой смысл, называйте меня гражданином майором, ясно? А с Налимовым вы встретитесь или на очной ставке, или уже на суде.
Вечером после возвращения из тайги с облавы в Усть-Аллахе Квасов узнал новость: к Раисе приходил сынишка Ильи-десятника. Он уже слышал об аресте бандитов, молва о том, что бандиты сидят в КПЗ, быстро облетела поселок; новые знакомые через мальчишку просили Раису узнать подробности.
— Я передала Семенычу, что Гошку с Ефимом поймали из-за их собственной неосторожности и глупости, — рассказывала она майору Квасову. — Будто бы случилось это так: они напились и ходили по поселку без всякой опаски, их опознали и схватили прямо на улице. Сказала, что документы у меня будут на руках через два дня. А за это время я постараюсь узнать, что с Гошкой и нельзя ли установить с ним связь, у меня в милиции завхозом работает хороший знакомый.
— А где они сейчас, мальчишка не говорил?
— Сказал, что в тайге, на новое место перешли, часах в двух ходу от стана.
— Небогато информации, но все же зацепка. Ты, Рая, только не спугни их. С мальчишкой поласковей будь, конфет ему дай или посули в будущем подарок. Когда мальчишка еще придет?
— Обещал завтра быть, продукты им снова понадобились, сапоги просят, видно, уходить скоро собираются. Они ведь понимают, что по лезвию ножа ходят, теперь их очередь настала с вами встречаться, Дмитрий Данилович.
На следующий день сын десятника Миша Зубровский забрал продукты. Унес он и записку, написанную Раисой под диктовку майора Квасова. В ней Шишкина сообщала, что поговорила со своим знакомым, работающим вольнонаемным завхозом в милиции, и тот согласился организовать побег одному из арестованных. «Двум он помочь не может, — писала Раиса, — так как они сидят в разных камерах и сделать это очень трудно». Раиса просила решить, кто из них нужнее Семенычу, и требовала прислать килограмм золота за освобождение.
Майор Квасов думал, что задал бандитам непосильную задачу — а ну-ка решите, кого из своих друзей оставите в тюремной камере, а кого захотите увидеть рядом на свободе.
— Ефима нужно выкупать, — задумчиво сказал Семеныч, — мы с ним вместе из самого Хайлара пробирались. Сколько пережили, сколько раз смерти в глаза глядели. Тут даже думать не о чем, давай-ка полкилограмма своего золота, и я пять порций отсыплю. Да не переживай, мы потом это золото с него с процентами возьмем.
— Так раз возьмем, чего же ради я должен по своим мешкам рыться? Отсыпай, Семеныч, а там сквитаетесь.
— Вот ты, Сан Саныч, зараза какая худая, у тебя этого металла столько, что скоро во вьючного осла превратишься, а от пятисот граммов избавиться не торопишься. Будь по-твоему, я за Ефима свои отдаю.
— А почему, собственно, Семеныч, ты Ефима освобождать собираешься?
— Я ведь уже объяснял, потому что он наш товарищ. Нам вместе и в Хайлар возвращаться нужно.
— Пустое это. Твоему Ефиму сейчас цена — гнутая полушка. Местной тайги он не знает, с людьми сходится плохо, чуть что — сразу за нож хватается или винтовку, а здесь народ обидчивый. Какой от него прок, скажи, Семеныч? Кобылу в последний раз и то толком зарезать не смог, вырвалась она у него, как петух из-под топора.
— По-твоему, я друга должен на растерзание оставлять?
— Какой он тебе друг, побойся бога? Он тебе не доверяет, а ты ему. Нам Гошку вызволять нужно. Тот и места эти вдоль и поперек облазил, и в каждом селе у него по товарищу, и в Якутске знакомых полно. Вот с ним действительно не пропадем. И служить ом нам будет верно, ему ведь за убийства смерть полагается, а мы его выручили, собственного золота не пожалели. Раз жизнь подарили — значит, мы ему вместо мамы и папы будем.
— Все правильно говоришь, ротмистр, но для меня узы братства важнее: этот здесь, а Ефим нам немало услуг в Хайларе окажет. У него ведь там и связи и деньги.
— Если ты думаешь, что я не знаю, почему Ефим пошел с нами в поход, то ты глубоко ошибаешься. Если бы его хайларская полиция не разыскивала за то смертоубийство, которое он в своем трактире учинил, никакие японцы не смогли бы его выпихнуть в Сибирь. Он ведь и в Хайларе как сыр в масле катался. Ему сейчас даже с золотом туда нельзя возвращаться, о каких же ты связях говоришь? Гошка для нас с тобой сейчас как палочка-выручалочка, давай на жизнь трезво смотреть. Но коли ты на Ефима ставишь, сделай милость, я потом посмеюсь. Только ответь-ка, а как ты с ним свое золото делить будешь?
— Почему это я с ним должен свое золото делить?
— Ну как же, здесь он песок не оставил перед тем, как идти в поселок, потому что, как я уже говорил, тебе он не доверяет. А если милиция схватила его вместе с золотым патронташем? Значит, он нынче на мели. Придет и потребует новой дележки.
— Этот номер, Сан Саныч, у него не пройдет. Взаймы я ему на обратную дорогу могу дать маленько, да и то подумаю. Но тогда чем лучше твой Гошка? Его, верно, тоже выпотрошили, и он захочет у нас урвать.
— А мы ему пообещаем. И даже можем доверить поносить песочек какое-то время, ну, к примеру, до тех пор, пока до Якутска не доберемся. А дальше лично мне и Гошка не нужен. Тут мы можем, понимаешь… — Сан Саныч сделал паузу, — можем его следом за дружком Афонькой отправить. Ну, чье предложение лучше?
— Уговорил, давай освобождать Гошку. Он и впрямь ничего малый, пускай посуетится пока. Только мучает меня, Сан Саныч, одна закавыка. А вдруг этот завхоз по заданию НКВД нас в сети завлекает? И Райку дурит? Тогда как?
— Тогда потеряем этот килограмм золотого песка и будем уносить ноги. Только думаю, что, если бы это НКВД, оно бы пообещало обоих вытащить из камеры. И потребовало бы не один килограммишко, а два, а то и три заломило бы. Ну, согласись, если бы за двух человек два килограмма попросили, мы ведь отдали бы их? Отдали. А завхоз просит только кг и обещает немного.
— Верю, логика в этом есть, давай рискнем. Но главное, чтобы Райка не только побег организовывала, но и документы быстрее доставала.
Миша Зубровский отнес Раисе Шишкиной килограмм золота, зашел и на следующий день. Раиса отправила с ним немного продуктов и, чтобы оправдать оттяжку с освобождением Гошки, передала записку следующего содержания:
«Семеныч! Почему вы не цените Гошку? Вместо одного килограмма послали девятьсот граммов, неужели вы не знаете лягавых? Они народ дошлый, из-за этих ста грамм большая задержка. Гошка для вас шел на все, а вы для него жалеете песку. Ну что ж, буду сама как-нибудь стараться, если вы откажетесь. Думаю, что Афанасий из-за этого не будет на меня в обиде. Сама я отдаю все, чтобы спасти друга своего мужа, и вас очень прошу — помощь нужна материальная. Семеныч, хочу с вами переговорить, где? Пошлите мальчишку. Жду недоданного. Рая».
Вечером Миша Зубровский заглянул снова и сказал, что золото ей отдаст сам Семеныч, который хочет ее увидеть и просит встретиться с ним на бывшем кирпичном заводе в пяти километрах от поселка.
Поздно вечером на квартиру, где остановился майор Квасов, пришли начальник опергруппы капитан Богачук и капитан Молодцов.
— Раиса искала вас, товарищ майор, но вы были на связи с Якутском. Бандиты приглашают Раису Шишкину на свидание к кирпичному заводу, — доложил Богачук.
— Как она настроена?
— По-боевому, хоть сегодня готова идти.
— А ты что по этому поводу думаешь, Богачук? — внимательно посмотрел на капитана Квасов.
— А мне это, откровенно говоря, не нравится, товарищ майор. От сельских жителей не удалось скрыть, что брали мы бандитов на квартире у Шишкиной, об этом сейчас много говорят. А вдруг Семеныч и Сан Саныч тоже узнали об этом? Тогда мы ее на верную гибель посылаем. Так?
— При чем тут гибель или не гибель? — вмешался Молодцов. — Она пускай идет на свидание, а мы кирпичный завод окружим и возьмем их там.
— А ты, Молодцов, был хоть раз на этом кирпичном заводе? — перебил Квасов. — Там остатки навесов в чистом поле. Все просматривается великолепно, и подойти нам незаметно не удастся.
— Тогда пускай она идет к ним и договаривается о новых встречах, — не успокаивался капитан Молодцов. — Не только Шишкина рискует, но и мы все каждый день рядом с опасностью ходим. А ей, как никому, постараться нужно, ведь это ее муж в банде был, в ее доме они встречались, ели-пили. Да ей теперь век не замолить такой вины.
— Бессердечный ты парень, Молодцов, — удивленно посмотрел на него Квасов, — женщина сама, по собственной воле согласилась нам помочь и уже сделала все, что могла. Но раньше мы страховали каждый ее шаг, и жизнь ее была в полной безопасности, а теперь нужно ли толкать ее на явный риск? Нет, капитан Богачук прав, к кирпичному заводу ей самой идти не стоит. И вообще, Раису пора выводить из этой игры. Никаких встреч я больше не допущу. Самое большое, что она теперь может для нас сделать, это написать записку или поговорить с Мишей.
Майор Квасов отправил Петра Афонского за Раисой и, когда та пришла, укоризненно сказал:
— Ты, Раиса, совсем страх потеряла, снова хочешь с бандитами встретиться? А вдруг они тебя пристрелят?
— В одно место пуля два раза не попадает, Дмитрий Данилович. Афанасия моего они убили, вот и хватит, а мне жить нужно, детей растить. Меня убить нельзя.
— Еще как можно, милая. Нет, с такими настроениями, что теперь тебя пуля побоится, я тебя никуда не пущу. Мишка вроде бы у тебя ночевать остался, вер но? Завтра с утра ему скажешь, что пойти к кирпичному заводу не можешь, так как занемогла, а идти далеко. Но заверь, что документы уже достала, осталось только завтра сапоги взять. Отдадут они тебе недостающие сто граммов золота, а через два дня, положим, в девять часов вечера ты и Гошка будете ждать их на развилке дороги, которая ведет от поселка в Усть-Маю. Пускай приходят, забирают своего бандитского дружка, платят за документы и идут от тебя на все четыре стороны. Если они поверят в эту сказку и явятся, мы с ними сами повстречаемся, без тебя. Если побоятся, не придут, тогда тебе придется им написать еще одну записку. Только я думаю, что они поверят, потому что у них попросту нет другого выхода. Здесь задерживаться им не хочется, а без документов они далеко не уйдут. Согласна?
— Воля ваша, Дмитрий Данилович.
— Тогда иди. И прошу тебя, Раиса, никуда в эти дни не ходи: ни в гости, ни на прогулки. Из дома на работу и снова домой. Потерпи, дня через два, думаю, за детьми поедешь.
На следующий день половина оперативной группы, переодевшись в брезентовые робы, вышла на развилку по дороге на Усть-Маю. Дорога была разбитая, давно нуждалась в ремонте, и поэтому никого не удивляло, что рабочие старательно выравнивают ее, засыпают гравием и утрамбовывают.
Раза два на дороге появился Миша Зубровский, покрутился возле строителей, попросил закурить, а когда его решили приобщить к работе и наполовину всерьез вручили лопату, быстро ретировался. К концу второго дня бригада, закончив рабочую смену, незаметно рассредоточилась вокруг развилки, в заранее приготовленных местах, и когда за час до встречи по дороге прошел майор Квасов, придирчиво оглядываясь вокруг, даже он, зная, что поблизости затаились люди, никого не заметил. На его осторожный свист отозвался капитан Богачук. Они залегли рядышком.
За полчаса до назначенного срока на дороге появился Семеныч. Он неторопливо прогуливался, внимательно оглядывая окрестности, и, не заметив ничего подозрительного, так же медленно пошел обратно к лесу. Ровно в девять вечера они появились на дороге уже с Сан Санычем. Дошли до самой развилки и остановились. В это время капитан Богачук, не поднимаясь из-за кучи песка, лежавшей на обочине, крикнул:
— Вы окружены! Сдавайтесь!
Реакция бандитов была незамедлительной: отстреливаясь, они попытались отойти к лесу, но огонь был настолько плотным, что отступить им удалось лишь немного дальше обочины. Патронов у них было немного, и они стреляли прицельно и точно. Уже несколько раз вскрикивали от боли бойцы опергруппы.
— Если сейчас же не сдадитесь, уничтожим гранатами! — раздался голос Квасова.
Бандиты о чем-то переговорили, и из укрытия послышался голос Сан Саныча:
— Не стреляйте! Сдаюсь! — И следом за этими словами на дорогу полетел его револьвер.
Подняв руки, озираясь, Сан Саныч вышел на гравий. Навстречу ему поднялся майор Квасов. Все глаза опергруппы были устремлены на них. В это время Семеныч метнулся из своего укрытия и попытался прорваться через кольцо, но тут же понял безнадежность своего плана. Его глаза нащупали стоявшего возле Сан Саныча майора Квасова, и он дважды выстрелил в него, почти не целясь.
Квасов схватился за ворот гимнастерки, как будто пытался разорвать его, и, ни слова не сказав, упал навзничь. В тот же момент по Дигаеву хлестнуло несколько выстрелов, и он, бросив револьвер, медленно осел. К нему уже бежали бойцы опергруппы.
Глава XI ПОБЕГ
«Якутск. НКВД. Скирдину.
Сегодня ночью бежавший подходил к квартире Хмелева. Бойцы из засады стреляли в него, но промазали. Я организовал еще четыре засады в местах возможного появления бандита. Не исключено, что он будет пробираться в Якутск, где может остановиться у Галины Нахабиной, проживающей за Кружалом. Они друг друга хорошо знают.
Продолжаем изъятие розданного золота. Весь основной состав опергруппы хочу пароходом отправить в Якутск.
Трех человек полагаю послать на Юр, чтобы они провели ряд допросов.
Сколько времени я сам буду находиться в районе?
Богачук».
«Богачуку.
С направлением на Юр трех работников согласен. Тщательно проинструктируйте их, дайте точные сроки командировки. Подлежащих суду арестованных пособников этапируйте в Якутск. Подозреваемых аресту подвергайте только при наличии прямых уликовых данных в связи с бандитами, с последующим сообщением нам кратких установочных данных для получения санкций. От арестов женщин по косвенным уликам воздержитесь, при необходимости производства арестов по косвенным уликам шлите нам обоснованные данные с краткими установочными данными. Примите дополнительные меры по изъятию розданного золота до единого грамма. Розыск бандита в Якутске организуем. Однако со своей стороны не ослабляйте его поиски. Разрешение на ваше возвращение в Якутск дадим только после поимки бандита. Скирдин».
Капитану Богачуку уже доводилось сообщать в Якутск о гибели своих товарищей, бойцов оперативной группы. Но докладывать о смерти майора Квасова было особенно тяжело. Будто о собственной смерти сообщал. Несмотря на разницу в возрасте, все трое: он, Квасов и Скирдин — начинали когда-то вместе. Начинали с рядовых милиционеров, не нюхавших толком пороха, не знавших, насколько серьезной, опасной и поистине универсальной была профессия, которую они выбрали на всю свою жизнь. И пусть на людях они всегда придерживались служебной субординации, и пусть с тем же Семеном Жарких ему было проще, так как возраст их сближал, Виктор Богачук всегда знал, что может надеяться на помощь друзей. Это был как раз тот случай, когда тылы его были обеспечены.
После того как в Якутске приняли радиограмму, заместитель наркома подполковник Скирдин, словно надеясь на ошибку в шифровке, потребовал подтвердить сообщение.
И полетела в эфир все та же горестная весть: устроенной засадой задержаны бандиты: Сан Саныч, он же Александр Александрович Бреус, и атаман шайки Семеныч, он же Георгий Семенович Дигаев, последний тяжело ранен. На их стане, обнаруженном с помощью пособника бандитов Ильи Зубровского, изъято семнадцать килограммов сто тридцать пять граммов золота.
В бою погиб заместитель начальника ОББ майор Квасов.
А в ответ только одна короткая, но емкая фраза, направленная в нарушение всех инструкций:
«Как же ты, Витя, не уберег его?»
Родственников у майора Квасова в Якутске уже не было. Двое сыновей погибли на фронте, недолго прожила, узнав об этом, и его жена. Один был на свете майор Квасов, один, если не считать друзей, если забыть о конторе, как шутливо называл отдел по борьбе с бандитизмом Дмитрий Данилович, отдававший этому отделу и все свое личное время, и все свои физические силы. Вывезти тело в Якутск в течение одного-двух дней не представлялось возможным. Поэтому руководство наркомата решило похоронить майора там, где он погиб. В той же радиограмме Якутск настойчиво требовал отыскать и вернуть государству оставшиеся двадцать килограммов золота. Вот так и пришлось капитану Богачуку, принявшему по приказу свыше завершение операции на свои плечи, разрываться на части: между скорбью, отданием последних почестей другу, своему командиру, и службой.
Капитан Богачук только один раз был в больнице у Дигаева. Тот был в сознании, благополучно прошла операция на простреленном правом легком, проведенная хирургом из районного центра. Однако узнав, с какой целью к нему пришел капитан, раненый отвернул лицо к стене и не сказал ни слова.
Идти в больницу вторично Богачук не рискнул. Он не ручался за себя: вновь столкнувшись с наглым упорством убийцы, он, пожалуй, мог бы не сдержаться…
С Сан Санычем Бреусом говорить было просто. Опережая вопросы со стороны капитана, он сам торопился выложить как можно больше и о себе, и о своих товарищах. Едва только его привели на допрос, как он тут же попытался выразить соболезнование по поводу смерти майора.
— Поверьте, я не знаю, что произошло с Семенычем в тот момент. Наше положение было безнадежным, он согласился на сдачу и вдруг выкинул такой фортель. Зачем ему это понадобилось? Не пойму. Дураку ясно, что этим он резко ухудшил свое и мое положение. Он ведь тоже теперь может умереть?
— Теперь уже до суда не умрет ваш атаман, — ответил капитан Богачук; не сдержавшись, добавил: — А жаль, такой сволочи жизнь продлили.
Сан Саныч Бреус неловко пожал плечами и спросил:
— Почему вы так думаете, он ведь был серьезно ранен?
— Ранение в ногу — пустяк, в мякоть попали, а операция на легком завершилась благополучно, и ваш приятель изволит с охотой пить морс. Впрочем, меня сейчас больше интересует не столько его здоровье, сколько золото. Куда вы его спрятали?
— Оно находится на стане, гражданин капитан, и я с удовольствием покажу вам, где расположено наше убежище.
— Спасибо, стан ваш мы сумели отыскать сами, без вашей помощи. Но там было только семнадцать килограммов. А где остальное?
— Остальное? А вы спрашивали уже Семеныча? Что он сказал?
— Вы излишне любопытны, гражданин Бреус, я предпочитаю задавать вопросы сам. Так где же остальной песок? Учтите, что вам не удастся умолчать. Речь ведь, как вы сами понимаете, идет не о пустяке. Золото нужно фронту, оно нужно для защиты нашего Отечества. Мы найдем возможность выяснить это и без вас, будьте уверены! Но только мне бы не хотелось тянуть время понапрасну.
— Хорошо, я все скажу, господин капитан.
— С господами мы покончили еще в гражданскую войну, Бреус, старайтесь не забывать об этом. А я для вас гражданин.
— Слушаюсь, гражданин капитан. Я смогу вам помочь, надеюсь, вы это оцените должным образом? И скажете за меня доброе слово.
— Попробовали бы вы мне не помочь, Бреус. А индульгенций я не даю, я не папа римский. Так где золото? Хватит вам торговаться.
— Золото я припрятал в тайге. Видите ли, на стане его было оставлять небезопасно, все-таки место открытое. Вы же сами знаете, атаман зарыл свою долю возле костра, а вы копнули и очень быстро нашли.
— В каком месте вы его храните? Объяснить сможете?
— Пожалуйста, за чем дело стало, гражданин начальник. И нарисую, и объясню, и даже, если понадобится, покажу.
Бреус еще долго корпел над схемой, пытаясь привязать место своего тайника к карте, но капитану Богачуку было понятно, что, ориентируясь только по карте, отыскать золото будет очень трудно.
Богачук отправил Бреуса в КПЗ, а сам пошел на поселковую площадь, где возле сельсовета рыли могилу майору Квасову. Затем в мастерских он придирчиво проверил, как рабочие варили четырехугольную пирамидку и выбивали из стального листа зубилом пятигранную звездочку. Отыскал младшего лейтенанта Петра Афонского.
— Петро! Возьмешь с собой трех бойцов из оперотряда и отправишься в тайгу.
— Товарищ капитан, как можно в такое время уходить? Ведь похороны, старшего товарища провожаем. Стыдно мне.
— Нам обоим будет стыдно, если мы срочно не разыщем золото и не доложим об этом в Якутск. Для нас это важнее всего. И ты знаешь, младший лейтенант, что, если бы майор Квасов был жив, он рассуждал бы точно так же. Вот мы и помянем Дмитрия Даниловича делом. Еще вопросы есть?
— Теперь вопрос только один, товарищ капитан, куда идти?
— Возьмете из камеры предварительного заключения бандита Бреуса, которого все они Сан Санычем кличут. Он и поведет вас к своему тайнику. Быть предельно внимательными. Золото выгрести все до грамма, до крупинки. Это последнее золото банды. Понимаете важность задания?
— Все понятно, когда идти?
— Прямо сейчас, не теряя ни минуты. Я бы, может, сам пошел, но полковник Скирдин велел мне быть на похоронах, да по-другому мне и нельзя — друзья столько лет, как же не проститься.
Группа младшего лейтенанта Петра Афонского ушла.
День был воскресный, и народу на похоронах собралось много. Первым о самоотверженной жизни майора Квасова говорил он, капитан Богачук. Говорил коротко, запинаясь и побаиваясь, как бы кто-нибудь из окружающих не заметил влаги на его глазах — не положено вроде такое капитану ОББ. Потом долго и красиво выступал капитан Молодцов, поднаторевший на всяких митингах. Его охотно слушали, одобрительно покачивая головами. А Богачук, глядя на мраморно-бледное лицо Дмитрия Квасова, почему-то подумал о себе, о том, что и он мог оказаться сейчас на месте майора, но судьба опять уберегла его.
…После окончания второго курса учительской семинарии в Якутске Богачуку пришлось забыть о дальнейшей учебе. В декабре девятнадцатого года Виктор участвовал в вооруженном восстании против колчаковцев. Тогда же поступил на службу в милицию. И потекли служебные будни: милиционер, помощник уполномоченного и так до нынешней должности.
И все эти годы, начиная с двадцать первого, рядом был бывший старатель Дмитрий Квасов. Их вдвоем посылали даже на девятимесячные курсы при коммунистическом университете имени Свердлова. Виктор учился легко, он схватывал суть уже на лекциях, но так же просто и забывал. Квасов к учебе подошел по-мужицки, серьезно. Он усердно ходил на занятия и на консультации, до самого закрытия сидел в читальном зале, а потом допоздна сидел в коридоре общежития возле трехлинейной керосиновой лампы. То, что он не спеша прочитал на курсах, осталось в памяти до последнего часа.
— Дима, — тормошил его Виктор Богачук, — побежали в Политехнический музей, там Маяковский выступает.
— Никак не могу, Витек, ты уж иди один, потом расскажешь.
— Имей совесть, Дима, какой прок от твоего одностороннего развития, бубнишь и бубнишь в углу над книжками. В Сибирь вернемся, мужики в отделе тебя спросят: в театрах был? С Маяковским встречался? Есенина слушал? Что станешь отвечать им?
— Правильно ты говоришь, все правильно, но что делать, если мне в жизни толком поучиться не пришлось? А тут такая возможность: и профессоров послушать, и вволю книг почитать, и со знающими людьми поговорить. Я ведь домой вернусь и не беседы о современной поэзии буду проводить, а с бандами бороться. Поэтому мне и законность знать нужно, и в марксизме разобраться. А то как же я его защищать буду, если сути не пойму. Вот мы с тобой уголовный элемент в наших краях прижмем, а там и о росте своей культуры подумаем. Языки изучать начнем, я вот еще нотной грамотой овладеть хочу.
— Параллельно постигать все это нужно, Квасов, — не соглашался Виктор Богачук, — а то молодые нас обскачут и на обочину столкнут, вы, дескать, деды, отслужили свое, а для новых дел всесторонняя образованность нужна.
— Мне параллельно не потянуть, потому что задела нет. Я, Витек, после первых лекций понял, что для милиции четырех лет моей церковноприходской школы маловато. Я зарок себе дал: пройти самостоятельно курс гимназии, а по-нынешнему — средней школы.
И он действительно на пятом десятке экстерном сдал экзамены за курс десятилетки, сдал даже без особых натяжек.
Так же настойчиво, до занудливости, он усваивал и оперативные задачи: в то время когда Виктору Богачуку все казалось уже понятным, он мог задавать десятки вопросов. Но каждый вопрос Дмитрия Квасова, несмотря на кажущуюся простоту, помогал учитывать, казалось бы, непредвиденные случайности.
В тридцать седьмом году их пути разошлись. Виктор Богачук по настоянию жены уволился в запас с назначением ему пенсии в двести восемьдесят рублей, суммы, по тем временам смехотворной. Проработал два года директором нефтебазы, вытаскивая ее из хозяйственной неразберихи. Душевное равновесие нарушал Дмитрий Квасов. Встречаясь с Виктором, он с таким запалом и любовью рассказывал об отделе, о завершении дел, которые начинал Богачук, что тот пришел к своему прежнему руководству и, повинившись, попросился в милицию. Беглецов в органах не терпели, и исключение сделали только по настойчивым просьбам Скирдина и Квасова. Обрадованный Богачук помчался к своему руководству просить характеристику. Управляющий за полдня написал ее и лично отнес Скирдину, который в то время возглавлял отдел. Характеристика эта запомнилась в отделе навсегда:
«…Тов. Богачук, несмотря на продолжительный срок работы, слабо освоил работу нефтебазы. Недооценивал значение техники безопасности, промсанитарии и пожарной охраны, в силу чего им допускалась крайняя неисполнительность. Должного значения борьбе с естественными тратами не придавалось. Тов. Богачуком до сих пор не освоена техника приемки нефтепродуктов во всякого рода нефтехранилища.
Эти недостатки зародились вследствие допущенной тов. Богачуком ошибки — он разменялся на мелочи, вроде критических выступлений на совещаниях вышестоящих инстанций и непомерной требовательности к кадрам базы. А основную работу директора считал делом второстепенной важности. Политическое лицо Богачука зыбко. Считаю, что органы НКВД совершенно справедливо занялись его персоной. Управляющий главнефтесбыта Захарцев В. П.».
— Извините, товарищ Захарцев, — ознакомившись с характеристикой, поинтересовался Скирдин, — каким же образом за последнее время база вырвалась в число передовых в городе? За что Богачуку вручены часы, объявлена благодарность?
— Виноват, товарищ Скирдин, мы не учли, что Богачук — это опасный тип.
— С чего это вы взяли?
— Как с чего? Но ведь вы интересуетесь им? Просите на него характеристику? Значит, моя обязанность помочь вам.
— Мы предполагаем взять его на работу в органы НКВД, в связи с этим и поинтересовались вашим мнением.
— На работу? Товарища Богачука? Так чего же об этом мне раньше не сказали? Весьма достойный руководитель. Честный, принципиальный большевик, режет правду-матку в глаза. Дисциплинку на базе наладил, там теперь о разгильдяйстве и прогулах забыли.
Эта история с характеристикой Богачука потом упоминалась на городском партийном активе как пример угодливости и политической незрелости.
Так Виктор Богачук снова пришел служить в милицию, правда, он немного отстал от товарищей и в звании и в должности, но это могло исправить только время…
Отгремел прощальный залп, засыпали землей прах товарища, все разошлись, а капитан Богачук никак не мог отделаться от воспоминаний. На площади его и нашел младший лейтенант Петр Афонский. Он еще только подходил, а Богачуку было понятно: что-то случилось.
— Все живы? — начал Богачук с основного.
Петр закивал головой.
— Бреус сбежал!
Богачук отвернулся, про себя посчитал до десяти, как ему когда-то советовал Дмитрий Квасов, чтобы не вспылить, не наговорить лишнего, пока не разобрался в деле:
— Пошли в кабинет, там поговорим.
Через несколько минут Петр Афонский рассказывал об истории, которая так хорошо начиналась…
Изрядно поводив сопровождающих по тайге, Сан Саныч все-таки вывел их к золоту. Находилось оно километрах в пяти от последнего бандитского стана, и нужно признать, что без Бреуса разыскать это золото не удалось бы. Оно было закопано на берегу аяна — небольшого высохшего староречья, обильно заросшего бескильницей, суедой и полынью. Бреус без чьей-либо помощи откопал сидор с упакованным в него песком. Когда Петр Афонский еще и сам принялся рыться в яме, Сан Саныч успокоил его:
— Здесь все до грамма, как только взвесим, убедитесь в этом тотчас же. — Он развязал вещевой мешок, достал из него мешочки с золотом и хотел было развязать один из них, но Афонский не позволил. Тогда Сан Саныч аккуратно сложил все обратно, затянул бечеву и уверенно бросил мешок себе за спину.
— Нет, нет, — остановил его Афонский, — золото понесу я.
— Пожалуйста, гражданин начальник, — согласился Бреус, — я ведь вам помочь хотел. — И он с сожалением поглядел на обвисший за плечами Афонского тяжелый сидор.
Найденное золото притупило бдительность младшего лейтенанта и бойцов опергруппы. Справедливо решив, что главное сделано, они расслабились и тихонечко шли обратно, о чем-то разговаривая. При переходе через полноводный ручеек им пришлось воспользоваться неудобным мостиком: двумя скрепленными бревнами, переброшенными с берега на берег. Первым мостки перебежал Афонский, за ним следом друг за другом шли боец опергруппы и Бреус, а далее остальные. Бреус ногой ударил конвоира по руке, в которой тот держал винтовку, и тут же спрыгнул с бревен далеко в воду по течению.
Пока замешкавшиеся бойцы что-то кричали и передергивали затворы, он забежал за толстое дерево, нависшее над ручьем, и вскарабкался на берег. Ни выстрелы, ни сами преследователи не догнали его в густом лесу.
— Что же ты со мной, Афонский, сделал? — удрученно спросил капитан Богачук. — Где теперь его искать прикажешь? Ладно, иди думай. Через час с Якутском говорить будем, посоветуемся.
Разговор с Якутском, который проходил с длинными паузами по вине радиотехники, был для Богачука не из приятных.
— Сегодня, — информировал капитан Богачук полковника Скирдина, — я послал в тайгу за золотом Бреуса младшего лейтенанта Афонского и с ним трех бойцов конвоя, которые сопровождали арестованного. На обратном пути, не доходя двух километров до поселка, когда переходили небольшой мостик, Бреус спрыгнул в ручей и скрылся в тайге. Поиски никаких результатов не дали. Принимаю меры к розыску.
— Золото нашли? — поинтересовался Якутск. — Если нет, то почему?
— В тайге Бреусом было спрятано и нами взято не двадцать килограммов, как он говорил, а девятнадцать килограммов сто восемьдесят три грамма.
— Руководство очень недовольно случившимся. Отмечая достигнутое вами, нарком сообщил в Москву, что последние бандиты задержаны, а после этого, буквально в тот же день, поступает сообщение о побеге. Надеюсь, вы понимаете, что это означает? Считаю, что Бреуса нужно изловить немедленно, повторяю, немедленно. Этого требует создавшееся положение. Лично примите все зависящие меры, поднимите все силы районного отдела милиции, актив, установите засады, прочешите окрестности, бандит далеко еще не ушел. Заставьте ротозеев поймать Бреуса живым или мертвым. Предупредите их, что они провалили дело и теперь пускай выправляют положение. Теперь сомневаемся, достаточно ли хорошо у вас налажена охрана других арестованных. Не сбежали бы и они, тогда все труды пойдут насмарку. Выполняйте. Заместитель наркома Скирдин.
Вот теперь Виктор Богачук куда лучше понимал майора Квасова, который нес на своих плечах непомерный груз ответственности за всю операцию на месте. Богачук рассылал своих людей на окрестные прииски, выступал перед активом и перед рабочими. Немало времени он провел и с арестованными бандитами, выпытывая у них сведения о привычках Бреуса, о его связях и редких знакомых.
После этих допросов полетело сообщение подполковнику Скирдину о том, что Бреус имел намерение пробраться в Якутск и отсидеться у своей знакомой, у которой часть банды квартировала весной нынешнего года.
Розыск Бреуса в Якутске организовали. Однако от капитана Богачука потребовали не ослаблять поиски бандита в своем районе. Какое там ослаблять! Богачук поставил на ноги весь район, и не было в те дни человека, который бы не знал, что по тайге бродит бандит без денег, без запаса продовольствия, без документов — а потому опасный вдвойне.
Дошла очередь и до бывшего десятника Ильи Зубровского. Богачук пригласил его на допрос и начал с откровенного вопроса:
— Вы не хотите, Зубровский, хотя бы немного замолить свои грехи и помочь нам?
— Дайте Зубровскому задание, гражданин капитан, и вы убедитесь, что в случае необходимости он даже реку Лену заставит течь вспять. Только не забудьте сказать об этом на заседании суда.
— И этот торгуется, — удрученно сказал вслух Богачук.
— Снимаю свое неуместное мелкоиждивенческое заявление, гражданин капитан. Я был-таки не прав. Если я хорошо выполню задание, вы и сами найдете возможность отметить мое старание, мне ли не знать вашего благородного сердца! Ведь это вы не стали сажать под стражу моего глупого сына Мишку, который, боясь мести со стороны преступников, оказывал им мелкие услуги. Когда сегодня я услышал от своего соседа по камере несправедливые слова осуждения в ваш адрес, я счел-таки своим долгом не согласиться с ним.
Богачук, удивленный его велеречивостью, дал ему выговориться, а затем спросил:
— Что вы станете делать, Зубровский, если встретитесь, к примеру, с бандитом, известным вам как Сан Саныч?
— Я бы не хотел с ним встречаться: он потребует от меня каких-нибудь услуг, а достойно оплатить не сумеет.
— Предлагаю вам, Зубровский, временно вернуться в свою избушку. Вместе с вами там будут жить наши товарищи. Не исключаю возможности, что в гости к вам нагрянет Сан Саныч, он ведь не знает, что нам известно о ваших связях с бандитами и что вы арестованы.
— Я тоже надеюсь на это, гражданин начальник, иначе он может неправильно понять мое поведение. Вы хотите, чтобы я вступил с ним в схватку?
Капитан Богачук улыбнулся:
— Вам нужно будет только заниматься своим хозяйством, почаще ходить по двору. А если он придет ночью, подать голос. Открывать двери и задерживать его будут уже наши сотрудники.
— Когда я смогу приступить к исполнению служебных обязанностей?
— Сегодня вечером.
— Превосходно, гражданин начальник, сегодня я смогу поужинать в уютной домашней обстановке, разделив хлеб-соль с вашими товарищами. Но обратите внимание, почему эти бандиты так льнут ко мне? Ведь это не я к ним приходил, а они ко мне. И вот снова собираются! Понимаю, сейчас я выполняю ваше секретное поручение, а вот раньше закон должен был оберегать меня от встречи с ними.
С того времени десятник Зубровский вернулся в свой домик, в котором вместе с ним поселились бойцы опергруппы. Зубровский оказался человеком покладистым, веселым, но совершенно непредсказуемым, что он и подтвердил дней через пять.
Поздно вечером, когда в избе уже был погашен свет, в двери громко постучали. Бойцы мигом заняли заранее продуманные места возле дверей и у окон.
— Кто там? — скованным от страха голосом спросил Зубровский.
— Это я, Сан Саныч, открой мне, Илья!
И тут испуганный Зубровский через закрытую дверь заорал Бреусу:
— Стой, бандитская морда! Руки вверх! Ловите его быстрее, граждане бойцы.
Младший лейтенант Афонский рванулся к дверям, лихорадочно отодвигая многочисленные засовы, аккуратно запертые хозяином на ночь. Когда он открыл дверь и выскочил на крыльцо, в стороне тропы слышался топот ног и звук раздвигаемых кустов; ночь была темной, и несколько десятков выстрелов в сторону убегавшего не достигли цели. Преследование тоже оказалось безрезультатным.
После этого засаду из избы десятника капитана Богачук убрал, о неудаче пришлось доложить в Якутск.
Через два дня в поселок приполз тяжело раненный несколькими ударами ножа старатель с ключа Дагор. После операции врач разрешил Петру Афонскому поговорить с ним несколько минут.
— Как ваша фамилия?
— Никишев я, Володька, на Дагоре работаю, на лотошном старании.
— Кто вас поранил, вы помните? Видели его?
— Чего ж не видеть, парень, я ему как человеку подхарчиться предложил, банку мы с ним на двоих раздавили… — больной хрипел, и видно было, что он не жилец на этом свете, — по голове меня чем-то оприходовал, а потом добить решил. Гад… Котомку увел, с одежонкой и документами…
Больше Владимир Никишев ничего в тот день не сказал.
Капитан Богачук тут же отправил Афонского на Дагор:
— Узнай, что он за человек, почему не на работе, куда собирался. Кто знает, вдруг он с нашим приятелем встречался?
Вернулся Петр Афонский с Дагора глубокой ночью и тут же пошел будить капитана.
— Что, до утра не терпело? — недовольно ворчал тот. — Я часа два, как прилег. Ну, выкладывай свои спешные новости.
Новости и впрямь были срочными. Старатель Владимир Никишев был призван в ряды Красной Армии и, получив на прииске полный расчет, отбыл в Усть-Маю, откуда на пароходе «Коминтерн» в составе группы мобилизованных должен был отправиться прошедшим вечером в Якутск.
Капитан Богачук взглянул на часы, «Коминтерн» уже пять часов был в пути. До Якутска ему предстояло плыть не менее трех суток.
— Ладно, Петро, спасибо. Если это Сан Саныч Бреус плывет на пароходе под фамилией Никишев, то ты свою ошибку исправил. Завтра утром дадим в Якутск шифровку, пускай встречают.
Через три дня в Москву, в Наркомат внутренних дел полетела шифрованная телеграмма следующего содержания:
«В дополнение к нашей 7251: несмотря на предпринятые меры, бандит Бреус ушел. Таким образом, из десяти человек, находившихся в составе банды, нами на сегодня задержано четверо. Убито трое, из них два участника убиты самими же бандитами. Двое от банды откололись, но по нашей ориентировке задержаны в Хабаровском крае. Итого девять. Бреус в розыске. Всего из похищенных восьмидесяти девяти килограммов семисот пятидесяти граммов нами у бандитов изъято восемьдесят семь килограммов девятьсот тридцать три грамма золота, сто тридцать тысяч рублей, из них тридцать тысяч в бонах, пятнадцать экземпляров нарезного оружия и прочее имущество.
Недостающие один килограмм восемьсот семнадцать граммов, по имеющимся сведениям, бандиты роздали своим пособникам. Дальнейший розыск ведем, следствие выявляет пособников, принимаются меры по изъятию у них остального золота. Более подробно о проведении ликвидации банды сообщим позже…».
Эпилог
Все похищенное золото, до единого грамма, разыскали тогда сотрудники ОББ — отдела по борьбе с бандитизмом (иногда они в шутку величали себя «бобами»).
Обогащенный на фабриках, переплавленный в аккуратные тусклые слитки, драгоценный металл через год, в сорок четвертом, был подготовлен для отправки в зарубежные банки в оплату оружия, которое страна покупала для фронта.
…В пасмурный осенний день золото в условиях строгой секретности и повышенной безопасности грузили в трюмы транспорта, подготовленного для дальнего рейса. И причал, и весь Владивостокский морской торговый порт на полуострове Эгершельд были окружены.
Около двенадцати часов ночи, когда в порт со стороны железнодорожного вокзала торопились после увольнения последние моряки, одинокого прохожего в наглухо застегнутом бушлате и с вещевым мешком за плечами окликнул молодой якут в гражданском:
— Семен! Жарких! Ты ли это?
Моряк, не замедляя шага, повернулся, и была в его движении мгновенная кошачья настороженность. Он глянул в лицо окликнувшему и сразу будто расслабился:
— Петр Афонский, что ли? Ты гляди, браток, где довелось встретиться!
Они неловко обнялись на узкой стежке, бегущей к проходной порта.
— Так ты в моря подался? — удивленно протянул Петр. — А говорили, что ты теперь в Москве, в центральном аппарате ОББ…
— Тш-ш-ш, Петро! Сколько раз я тебя учил не задавать дурацких вопросов, да еще вслух. Я ведь не спрашиваю, как ты ни с того ни с сего во Владивостоке оказался, за две с лишком тысячи верст от Якутска. И какого ты черта перед оцеплением крутишься, лейтенант, так сказать, в передовом дозоре.
— А ты откуда знаешь?.. А! Так это я и тебя здесь сегодня прикрываю?!
— Нас, Петро, нас прикрываешь! Ну ладно, свиделись, и хорошо, времени-то в обрез, приятель. Ничего, после войны наговоримся всласть. На всякий случай запомни: ты меня не видел, понял? А теперь пора хлеб зарабатывать.
— Видел не видел, сам я не понимаю, что ли? Ну что же, прощай!
— Не прощай, боб, а до свидания!
Через минуту они разошлись.
…Хлеб «бобов» не был легким.



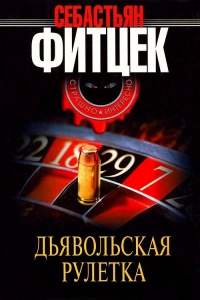


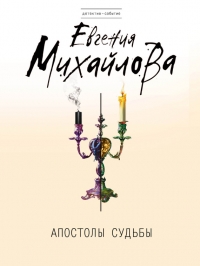






Комментарии к книге «Живой смерти не ищет», Олег Александрович Финько
Всего 0 комментариев