Ольга Чайковская БОЛОТНЫЕ ОГНИ Роман
Берегитесь! Болотные огни в городе!
Ганс-Христиан АндерсенЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава I
В нашем поселке было всего четыре улицы. Жили здесь железнодорожные рабочие и служащие, к которым впоследствии присоединилось несколько домовладельцев, бежавших из соседнего города в дни революции.
Здесь было тихо. Гражданская война, промчавшись по стране, не задела нашего поселка, но она заставила жителей его теснее прижаться к земле. Эти недавние горожане начали сажать картошку, сеять просо и разводить кур. По утренней росе к оградам застекленных дачек, играя на рожке, подходил пастух, и бледные инженерши, качаясь со сна, выгоняли коров на поросшую травой улицу.
После революции мы выбрали поссовет во главе с добрейшим человеком дядей Сеней, местным столяром, — вот, собственно, и все изменения, которые здесь произошли.
У нас не было земли, которую нужно было делить, заводов, которые нужно было отнимать, помещиков и капиталистов, которых следовало уничтожать как класс. В поселке было двенадцать коров и одна лошадь, старая кобыла Розалия, принадлежащая Нестерову, бывшему жокею. В этом да еще в некотором количестве кур и коз заключалось все наше достояние. Была еще у тети Паши знаменитая кошка Люська.
Это была необыкновенная кошка.
О ней слагались легенды. И в самом деле — когда однажды, завалив ветхий забор, к ним в сад забрела корова, Люська пошла ей навстречу и, став на задние лапы, передними надавала корове по морде. Та долго и глупо водила рогатой головой, а потом умчалась, раскидывая ноги. Кошка пошла домой.
Она часами сидела на стуле, не лежала, свернувшись клубочком, а сидела, опираясь на передние лапы, и дымным взглядом своим глядела в окно. Она не терпела фамильярности и коротко кусала всякого, кто самовольно пытался почесать ей за ушком. Но а уж если она подходила сама потереться и помурлыкать, этот редкий знак доверия надобно было ценить. Никто, разумеется, и не посмел бы требовать от нее, чтобы она ловила мышей. Впрочем, она их ловила, но как-то странно: хватала мышей-полевок, тащила в дом и тут благосклонно отпускала, отчего мыши в дому разводились очень быстро. Она была гордостью тети Паши, женщины суровой, смуглолицей, в зеленых, бутылочного стекла, серьгах.
И вот случилось происшествие, взволновавшее весь поселок.
У тети Паши появились новые жильцы, два здоровых парня, привлекших, конечно, всеобщее внимание.
Они ходили в щегольских галифе и сапогах, которые подолгу чистили на крыльце. Говорили, что они где-то работают, однако их часто видели днем во дворе, когда они доставали воду из колодца, кололи дрова или занимались каким-нибудь другим хозяйственным делом. Как-то раз один из них вышел с косою и стал срезать высокую садовую траву.
— Прасковья-то, — сказали по этому поводу поселковые дамы, — ничего себе жильцов нашла, и воду ей носят, и траву косят, только что суп не варят.
В это время все и произошло. Видно было, как высокий парень, прыгая в траве, погнался за кем-то, время от времени всаживая в землю острую косу, и в тот же миг на тропинку вырвалась Люська. Из последних сил мелась она по земле, оставляя кровавый след.
— Ты что, охломон, делаешь?! — крикнула через забор соседка.
— Ах, это кошка, — холодно глядя на нее, сказал парень, — а я думал, это крыса.
Разумеется, то была ложь: спутать сибирскую кошку с крысой было невозможно. Но самое странное заключалось в том, что тетя Паша, которая стояла тут же, на крыльце, и, словно онемев, смотрела на происходящее, молча повернулась и пошла в дом. И это тетя Паша, первая ругательница во всем поселке, никому еще отроду не спустившая ни одного поперечного слова!
Так эта история началась в поселке — казалось бы, событием совершенно незначительным. Еще незаметнее вторглась она в жизнь небольшого городка, расположенного верстах в семи по железной дороге.
Это был обычный уездный городок. Из его улиц только две были мощены булыжником, остальные представляли собой просто широкие дороги, устланные, как водится, толстым слоем пыли; в этой горячей пыли тут и там, еле шевелясь, блаженствовали полузасыпанные куры. Из-за заборов и палисадников, высушенных солнцем, тянулись широколицые подсолнухи. Изредка по улице, крутя хвостиком, брела свинья.
Город был плоским и низкорослым, только церковь и водокачка возвышались над ним. Церковь, тяжелая и приземистая, построенная местными купцами, была теперь лишена крестов и отдана под клуб. У водокачки была мрачная слава: в гражданскую войну белые банды у стены ее во дворе расстреливали красноармейцев.
На краю города стояла ткацкая фабрика. Раньше она мало влияла на общий облик города, теперь определяла его жизнь и была его центром. Отсюда, распахнув узорные ворота, выходила в праздник демонстрация — все больше женщины в алых платочках; здесь происходили городские митинги. Из ткачих были члены городского Совета, ткачихи заседали в суде и в качестве фининспекторов наводили ужас на нескольких более или менее крупных и множество мелких частников, расплодившихся со времен введения нэпа.
Вдоль улиц тянулись низкие лабазы, ныне превращенные в фабричный склад, а за ними шли городские учреждения и магазины, в убогий ряд которых недавно вторгся великолепный по здешним масштабам частный магазин готового платья с витриной и даже манекеном — их город до сих пор не видал — улыбающейся красоткой в узкой юбочке до колен. Местные старухи всегда плевали, проходя мимо нее. Она же с улыбкой глядела на пыль, на кур, на косматые сонные возы, что ползли по улице, роняя хлопья сена.
Анна Федоровна вышла из дому рано, пока еще не было жары, и привольно, как рыба, попавшая в родной пруд, пустилась по улицам. Все свои шестьдесят лет она прожила в этом городе и на этих самых улицах, однако сегодня они казались ей необычными. Впрочем, она, как всегда, плюнула, увидев улыбающийся манекен, и перешла на другую сторону.
— Где брали? — не сбавляя хода, спросила она у старухи, шедшей навстречу с миской капусты в руках. — В потребилке?
Спросила она по привычке, так как капуста ее сегодня очень мало беспокоила.
— Как же! В потребилке! — желчно ответила старуха. — Она там синяя, хуже мертвеца.
Но Анна Федоровна уже увидела то, что ей было нужно. У овощного ларька таскала ящики коротконогая Нюрка. Она была грязна, как картофелина, вынутая из земли в осеннюю слякоть.
Анна Федоровна и виду не подала, что обрадовалась. Она подошла к Нюрке очень близко и сказала, безучастно глядя в сторону:
— Левка вернулся.
И вдруг зорко глянула в побледневшее Нюркино лицо.
— Нет, — сказала Нюрка, напряженно глядя на Анну Федоровну.
— Не нет, а да.
Разговор шел шепотом.
— Впору уезжать, — сказала Нюрка.
Анна Федоровна только кивала головой.
— Тёть Нюш! — умоляюще прошептала Нюрка. — У вас же начальник на квартире стоит. Шепнули бы ему словечко. Ведь вы же знаете…
— Мне что, жить надоело?! — зашептала в ответ Анна Федоровна. — В чужие дела лезть? Нет уж, жизнь прожила, никогда этого не делала и делать не буду. И тебе не советую.
— Я ничего не говорю, только если бы начальник знал заранее…
— Пусть уж без нас узнаёт.
— Чего там узнавать, когда скоро весь город узнает. Он один или со своими?
— А когда он один бывал? Ничего, авось нас с тобой не зарежут. Да что ты, да оборони меня господь болтать, страх какой!
— Сейчас в потребилке постное масло давать будут, — мрачно и теперь уже громко сказала Нюрка, принимаясь за свои ящики, и Анна Федоровна тотчас же пустилась в путь.
— Женщины! — крикнула она, проносясь мимо хлебной очереди. — В потребилке постное масло дают!
Она сказала это с точным расчетом, когда была уже далеко и никто из очереди не мог бы ее обогнать. С несравненно большим удовольствием крикнула бы она: «Женщины! Левка вернулся», но она этого, конечно, никогда не стала бы делать.
Парня, убившего кошку, поселковые ребята прозвали «Люськин убийца», а затем весь поселок стал называть его просто Люськин, словно это была его собственная фамилия. Люськин по-прежнему жил у тети Паши со своим приятелем Николаем, крупным молчаливым парнем. Иногда у них, должно быть, собирались гости, окна тети Пашиного дома ярко светились, слышалось дребезжание стекла и гитары, громкие голоса; однако откуда приходили и куда уходили эти гости, никто не знал. Может быть, только один Нестеров, владелец кобылы Розалии.
Этот Нестеров, немолодой уже человек, с великолепной фигурой и потасканной цинической физиономией, давно уже, как было известно всему поселку, пленил сердце тети Паши. Старая Розалия подолгу стояла у тети Пашиного крыльца, оставаясь здесь иногда до самых утренних сумерек. Теперь Нестеров приезжал сюда особенно часто — единственный, кто был принят в компанию новоприезжих.
Между тем по поселку пошли тревожные слухи. Говорили, что на дороге, которая вела к станции, останавливали людей, били, требовали денег. Говорили, что с кого-то сняли костюм, что в самом поселке напали на Костю, сына машиниста Молодцова, ударили ножом в спину. Говорили, наконец, что в поселке появился известный бандит Левка, при имени которого еще недавно дрожал соседний уездный город. Все это только говорили, никто из потерпевших ничего не подтверждал, милиционер Васильков, невзрачный мужичок в сатиновой рубахе (в здешней глуши еще не видали тогда милицейской формы), ходил как ни в чем не бывало. Только вот Костя Молодцов действительно лежал в постели и никого к нему не допускали.
Осторожные люди перестали ездить последним поездом, но многие не сдавались, утверждая, что все эти страшные рассказы возникли в головах женщин, напуганных смертью кошки Люськи. Однако вскоре случилось еще одно происшествие, куда более серьезное.
Недалеко от поселка на горельнике — большом пустыре, где пять лет назад выгорел лес, оставив черную землю да несколько опаленных сосенок, — стоял клуб, большой щелявый сарай, уставленный скамейками.
На стенах его висели кумачовые, писанные мелом плакаты и портреты вождей. Сюда привозили потрепанные фильмы, и тогда народу набивалось столько, что нечем было дышать, а зрители первого ряда сидели прямо на полу. Картины привозили очень редко, но молодежь собиралась здесь почти каждый вечер, рассаживаясь обычно на бревнах, оставшихся после постройки клуба. Верховодила здесь Милка Ведерникова, веселая девушка, недавно вернувшаяся из губернского города.
В иные вечера бесшумно и всегда со стороны леса появлялось несколько парней, в их числе тети Пашины жильцы Люськин и Николай. Они садились на бревно поодаль, молча курили, плевали меж расставленных колен, порою тихо перебрасывались словом.
С их появлением разговор становился натянутым, шутки неловкими, смех настороженным. Парни поднимались разом, словно по неслышной команде, и уходили в темноту. Никто не смотрел им вслед — никто, кроме Милки Ведерниковой.
Как-то в клуб привезли картину, называлась она «В пламени», ее афиши, выставленные на щитах в клубе и на станции, изображали искаженное от ужаса женское лицо, наполовину скрытое языками огня. Клуб был набит, народ прибывал, задние напирали на передних, началась давка. Между тем одна из скамеек оставалась пустой, и все делали вид, что ее не замечают: на ней мелом было написано: «Не занимать». Неизвестно откуда пошел слух, что эта скамья предназначена для Левки и его парней.
И вот самый веселый из поселковых мальчишек, белобрысый Васёк (у которого вечно сползали с живота, еще по-детски толстого, его латаные штаны), один-одинешенек занял пустую скамейку. Он сидел и победоносно подпрыгивал, подкидывая локти и вертя головой. Трудно сказать, что он думал и знал ли о зловещих слухах, однако он был, очевидно, горд отвагой и обращенными на него взглядами. Погас свет, затрещал аппарат, и Васёк, наверное, забыл обо всем на свете, поглощенный мерцающим рябым экраном. Здесь на столе горела свеча, а подле вздымалась занавеска, все ближе и ближе к пляшущему язычку огня — еще минута, и занавеска вспыхнет! Так начиналась картина. В это время послышалась какая-то возня, кто-то вскрикнул, кто-то продирался к выходу, раздалось: «Свет, свет, дайте свет!»
Когда зажгли свет, Васёк был еще жив, но через минуту он вздохнул и умер.
Его убили ножом в спину. Убийцу, если верить присутствующим, никто не разглядел, говорили, что это был невысокий и, кажется, никому не известный парень, который вырвался из клуба и скрылся раньше, чем успели что-нибудь сообразить.
Васька хоронили всем поселком. И с тех пор не осталось здесь ни одного человека, который не верил бы в существование Левки и его банды.
Страшно стало в поселке, особенно по ночам. С наступлением темноты на улицу не выходили, с последним поездом больше не ездили, в домах ждали ночных налетов. Оружия ни у кого не было, если не считать милиционера Василькова, который ходил тише воды ниже травы. К нему никто не обращался — это было бесполезно, да кроме того прошел слух, что всякий, кто обратится к властям, будет немедля зарезан со всей своею семьей. Кто защитит? Милиционер Васильков? Или те представители чего-то, которые приезжали в связи со смертью Васька? Поселок молчал.
Возвращаясь домой в поселок, Борис Федоров мечтал о тихих вечерах, о знакомых с детства лесах с густым подлеском и полянами, о холодном, с погреба молоке и заросшей осокою речке Хрипанке, где так славно ловить плотву. Он соскучился по родным местам, и теперь не только свидание с матерью или другом Костей, но встреча с любым поселковым жителем, будь то хоть Семка Петухов, была бы ему приятна.
Первым человеком, которого он встретил в поселке, была приятельница его матери тетя Паша — она стояла на крыльце своего дома.
— Эй, тетя Паша! — весело крикнул Борис, проходя. — Здравствуй!
Он ждал, что она вскрикнет «Батюшки, Борька!» и всплеснет руками, однако тетя Паша отвернулась равнодушно и, как ему показалось, нарочно. Навстречу Борису бежала мать. Не говоря ни слова, она схватила сына за руку и потащила в дом.
— Не разговаривай с ней, — сказала она вполголоса и нервно.
«Поссорились? — думал Борис, пока его тащили в дом. — Так сильно поссорились?»
Заперев дверь на засов, мать разрыдалась, уткнувшись лицом в Борисову куртку.
— Боже, какое счастье, что ты приехал днем!
— Ну что такое? Ну что случилось?
Прерываясь и всхлипывая, мать старалась ему что-то объяснить, но Борис ничего не понимал. Получалось, что все кругом бандиты, включая тетю Пашу.
— Ничего, ничего, успокойся, — сказал он, — все образуется. Как Коська?
— Так я же тебе говорю, его ножом в спину ударили. Умирает твой Костя.
«Черт знает, что такое», — думал Борис, выходя из дому.
По дороге ему встретился Семка Петухов. Он был очень молод, моложе Бориса, еще совсем недавно бегал босиком, в вылинявших трусах, и все почему-то охотно «давали ему леща», однако теперь он ходил в толстовке, как пожилой бухгалтер, и носил очки.
Ладно, пусть хоть Семка, это лучше, чем ничего.
— Семка, друг! — крикнул Борис еще издали. — Как дела?
Семка шел к нему не спеша.
— Здравствуй, — сказал он с достоинством. — Надолго в наши Палестины?
— На каникулы. Слушай, что это у вас здесь происходит?
Взгляд Семки стал, как показалось Борису, нарочито непонимающим.
— А что, собственно, происходит?
— Да, говорят, у вас здесь людей стали резать?
— Вредные слухи, — сказал Семка, движением бровей и носа поправляя очки.
— Разве Васёк — тоже слухи?
— Есть несознательные, — неохотно ответил Петухов.
— Ну а что Костя?
— Костя? — так же непонимающе повторил Семка. — Я, правда, давно его не встречал, но не вижу оснований беспокоиться.
— А я вижу, — ответил Борис и теперь уже почти побежал.
Пройдя знакомым палисадником, он постучал в низкую дверь.
— Кто там? — послышался голос старика Молодцова.
— Откройте, дядя Коля. Я к Косте.
— Болен Константин, нельзя к нему.
— Это я, Борис. Я на минуту.
Дверь отворилась.
— Входи, — сказал старик Молодцов.
— Дядя Коля, неужели это правда?
Костя лежал в постели. Он был бледен и встретил Бориса недвижным взором темных глаз. Одна рука его, худая и оттого казавшаяся какой-то граненой, лежала на одеяле. Борис присел на кончик стула. О чем говорить, он не знал. Наступила долгая пауза.
— Как же это случилось, Коська? — спросил он наконец шепотом и тут же увидел, как старик Молодцов, ставший за изголовьем, делает ему знаки. Но было уже поздно.
— Они ударили меня в спину, ударили ни за что, — голосом одновременно и монотонным и дрожащим сказал Костя.
Старик Молодцов опять предостерегающе покачал головой.
— Ну ничего, пес с ними, ихняя песенка теперь спета, — сказал Борис, — поправляйся.
— Они приходили сегодня ночью, — тем же монотонным голосом продолжал Костя, — пришли во двор, схватили Дружка и повесили на колодце. Все слышали, как Дружок визжал, но никто не вышел.
— Ничего, ничего, — бессмысленно повторял Борис, — мы с ними быстро покончим.
Старик, мигнув Борису, пошел прочь из комнаты. Костя, казалось, остался равнодушен к их уходу.
— Сильно ослаб, — шепотом сказал старик, когда они вышли в сени, — потерял много крови. Ведь он тогда добег до палисадника, да здесь и свалился. Дружок лаял, да нам как-то ни к чему сперва было. А кровь-то, между прочим, все льется. Наконец слышу — надрывается пес. Вышел посмотреть — гляжу…
Старик развел руками.
— А про собаку это он правду сказал?
— Правду. Это, значит, вроде как напоминание было. Помните, так вашу эдак, в чьей вы власти состоите.
— Но надо же что-то делать! — воскликнул Борис.
— Сурьезно? — спросил старик не то с интересом, не то с насмешкой.
Борис не ответил.
— Ну так слушай, — сказал Молодцов, — прежде всего ты должен куда-нибудь отправить мать.
— Отправить мать?..
— Без этого ничего не начинай, даже ни с кем и не говори. И сам уезжай. Действовать нужно не отсюда, а из города. Я сейчас ничего сделать не могу, у меня на руках старуха и Коська, а ты мог бы попробовать.
— Что ж, дядя Коля, мать я попытаюсь отправить.
— А после этого езжай в город, в розыск. Что за человек их начальник, я хорошенько не знаю, но есть там у них замечательный мужчина, Водовозов ему фамилия. Расскажи ему, что и как. Может, станешь у них работать. Веселые будут у тебя каникулы.
Был жаркий день, вилась горькая пыль. Борис шагал по городу в поисках угрозыска. Это учреждение его очень занимало, да и вообще настроение у него было прекрасное: мать согласилась уехать к сестре на Волгу. Правда, она никак не могла понять, почему бы и Борису не отправиться вместе с нею. Пришлось врать. «А ты не ввяжешься здесь во что- нибудь?» — спрашивала она. «Нет, нет», — отвечал Борис.
«Этого еще не хватало, — думал он, сворачивая с мощеной улицы на песчаную дорожку переулка, — сидеть сложа руки да еще за семью запорами. Ничего, сейчас наведем порядок! Ничего».
Раньше, когда Борис бывал в городе, он старался идти так, чтобы не видеть водокачки, где четыре года назад бандиты расстреляли отца. Однако отовсюду ее было видно, оставалось выбирать переулки таким образом, чтобы она по возможности оказывалась за спиною.
Розыск был расположен в ветхом домике самого мирного вида. Когда Борис подходил к воротам, в них въезжала телега, доверху груженная бряцавшими ведрами и бидонами — словно здесь был не розыск, а лавка скобяных товаров. Рядом с телегой шел белокурый паренек.
Водовозова, о котором говорил старик Молодцов, на месте не было, Борис пошел в кабинет начальника розыска Берестова.
— Ну что ж, — сказал тот, когда Борис назвал себя и объяснил, зачем явился, — хорошо, что пришел. Спасибо, хоть кто-то пришел. Кстати, я о тебе слыхал.
Он посмотрел в окно.
Борис во все глаза разглядывал этого человека, от которого зависела теперь судьба поселка. Не молод. Лицо не сильно побито оспой. В общем, простой человек в кепке, сдвинутой далеко на затылок. Однако не такая у него работа, чтобы быть ему простым. Как знать, что видят эти глаза по ночам?
— Что же, выходит, — продолжал Берестов, — выходит, что поселок за бандитов горой… Постой, знаю, все знаю, но посуди сам: к нам сюда, если не считать одного человека, никто до сих пор не обращался. Кого, ни спросишь — ничего не видали, ничего не слыхали. Мальчонку убили при всем честном народе, а свидетеля ни одного не нашлось. Васильков! Милиционер! Он напуган так, что ни одной улики представить не может, ни одной фамилии назвать не решается. «Неизвестный скрылся» — и всё.
Он свернул козью ножку, закурил и опять взглянул в окно.
— А народу у нас мало, городишко, сам знаешь, небольшой, фабрика ткацкая, одни женщины, а наше дело не женское. А хуже всего… Ну да ладно.
Борис с почтением и страхом слушал речи начальника, ему и в голову не приходило, что значит это «хуже всего». «А хуже всего, — думал Берестов, — что я такой же начальник розыска, как и ты, и дело это знаю немногим лучше тебя». Однако Борис, разумеется, не умел читать чужие мысли.
— Вот вы сказали про поселок, — неуверенно начал он, — так ведь у нас все в одиночку живут, даже комсомольской организации нет…
— А вы что же смотрите… — начал было Берестов, но тут же вскочил и подошел к окну. — Приехали, — желчно сказал он.
Во двор въезжала еще одна подвода, с которой бойко соскочил милиционер Васильков.
«Уж не покойника ли опять?» — с беспокойством подумал Борис.
Нет, Васильков с возницей волокли в дом какой- то столб. Они прогромыхали им по лестнице и, зацепив за наличник, ввалились в комнату. Здесь они стали, держа столб перед собой и всем своим видом показывая, что ждут эффекта необыкновенного.
Это был толстый свежеотесанный столб, нижний конец которого был темен и влажен — его, очевидно, только что вытащили из земли; к верхнему же был прибит кусок фанеры с надписью, сделанной красной и черной краской.
После одиннадцати часов вечера проход по дороге воспрещен.
За нарушение — Смерть.
значилось на фанере.
— Левка, — проговорил Берестов.
В это время в комнату вошел высокий красивый человек. Он молча остановился у столба, глубоко, чуть не по локти засунул руки в карманы и стал читать. Читал он очень долго, словно был не в ладах с грамотой.
— Шутники, — сказал он наконец.
Он глянул на Берестова горячим взглядом, странно не вязавшимся с ленивыми движениями его большого тела. Борис сразу догадался, кто это такой. «Так вот он, гроза бандитов, Павел Водовозов».
— Зачем же вы столб-то волокли? — спросил Водовозов у милиционера.
— Вещественное доказательство, — лихо ответил тот.
В комнате стали появляться всё новые и новые лица — сотрудники розыска и милиции заходили посмотреть на диковинный столб. Среди них была женщина.
Она была в гимнастерке, сапогах и мужской кепке. Щурясь и скалясь от едкого дыма папироски, которую зажала в зубах, она стояла и слушала, что говорит ей какой-то паренек, а потом произнесла очень громко и отчеканивая слова:
— Полагаю, что мы, в Петророзыске, этого бы не допустили. Думаю, что так.
«От этой пощады не жди», — подумал Борис и стал искать глазами Водовозова. Тот стоял, окруженный толпой сотрудников, и рассказывал что-то веселое — во всяком случае, его рассказу все смеялись. Лицо его в этот миг было простым и мальчишеским.
— Ну, коли мы в сборе, садитесь, товарищи, — сказал Берестов, и все стали рассаживаться на столы, на стулья, на подоконники — кто куда.
Это начиналось совещание.
— У нас на повестке дня два основных вопроса, — начал Берестов. — Банда Сычова — это раз. Поселковое дело — это два.
— Вы забыли еще одно главное, — как бы невзначай бросил сидевший на подоконнике паренек, тот самый, что привез во двор бидоны. Борис удивился и позавидовал свободе, с которой он себя держал.
— Ладно, ладно, — ответил Берестов, видно прекрасно понимавший, о чем идет речь, — на фабрике уже уплатили — значит, и нам скоро заплатят.
— Так три же месяца.
Речь шла о жаловании, которое в те времена нередко задерживалось месяцами.
— Вы как хотите, — продолжал паренек, поеживаясь и постреливая глазами на присутствующих, — а я без жалования скоро разложусь. Акурат попаду в когтистые лапы нэпа.
Все заулыбались (только женщина вскинула брови, а потом прищурилась).
— Я т-те разложусь, — также улыбаясь, сказал Берестов, — шефскую муку получил? Махорку получил? Ну и не ори. Итак — дело Сычова.
Встал Водовозов. Он просил подождать несколько дней: вожаки кулацкой банды перессорились, перестрелялись и смертельно надоели местному населению — даже тем, кто их раньше поддерживал.
— Словом, — сказал Водовозов, — через неделю, самое большее — десять дней, доставлю вам Сычова не живого, так мертвого.
Никто, казалось, не удивился уверенности Водовозова, все перешли к дальнейшим делам, словно судьба Сычова была уже решена.
Неожиданно слово взяла женщина в кепке.
— Я хочу сказать о нарследах, — начала она и долго потом говорила о том, что народные следователи работают не так, как нужно, часто произнося при этом «Петророзыск, Петрогубсуд».
К ее речи отнеслись как-то странно: выслушали в молчании и сейчас же перешли к другим делам. Никто не стал обсуждать работу нарследов, никого не заинтересовал Петрогубсуд.
— Итак, поселок, — сказал Берестов, как только она кончила, — сейчас все силы на поселок. Как вы знаете, в поселке произошло убийство, один тяжело ранен, бесчисленные грабежи. Надо думать, там обосновалась банда. Подозрения падают на двоих новоприезжих, остановившихся у некоей тети Паши. Мы навели о них справки — что же, оба демобилизованы из армии и работают у нас в городе в ремонтных мастерских. Работают не очень хорошо, но и ничего плохого за ними не замечено. Теперь — сегодняшний столб. Никак пока не соображу, зачем он им понадобился..
— Жителей пугают, — предположил белокурый паренек.
— Да они и так уже напугали. Нет, этот столб для нас.
— Дразнят? — спросил Водовозов.
— Может, и так. А может, и еще какие дели. Словом, все силы сейчас на поселок. Васильков, я прошу тебя разузнать, откуда они взяли столб. Рябчиков, — обратился он к белокурому пареньку, — займись домом этой самой тети Паши (парень откозырял, не вставая с подоконника). Ты, Павел (это к Водовозову), как только освободишься от Сычова, пойдешь в засаду на дорогу. Пока всё.
— Постойте, товарищи, так нельзя, — вмешалась женщина в кепке, — у нас есть еще один вопрос — это кружки. Есть решение организовать кружок «Безбожник» и всем коллективом вступить в общество «Друг детей».
— Да, товарищи, — устало промолвил Берестов, — записывайтесь в кружки.
Никто теперь в поселке не сомневался, что парни, поселившиеся у тети Паши, из Левкиной банды. Не верила этому одна только Милка Ведерникова.
— Никакие они не убийцы, — говорила она.
— Откуда ты знаешь? — спрашивали ее.
— Знаю, — отвечала она уклончиво.
О, Милка могла бы им ответить. Она знала от тети Паши, что один из ее жильцов, Николай, был на фронте и совсем недавно демобилизовался. Тогда многие возвращались из армии. Милка всей душой понимала этих людей: в их глазах еще видения недавних кавалерийских атак, на их лицах еще отсвет ночных костров, им трудно привыкнуть к серым будням. Голодные, в пыли и крови, они спасали страну и отстояли революцию. Они смертельно устали, а вы встречаете их смешками и грязными сплетнями. Впрочем, это неважно: они вас не видят.
Примерно так думала Милка. Ей совсем не нравился Люськин с его толстым носом и срезанным подбородком, но зато Николай произвел на нее большое впечатление.
Николай был молчаливым парнем с правильным, спокойным лицом и падавшими на глаза густыми светлыми волосами. Он всегда ходил, задумчиво опустив голову, а когда в своей неизменной компании сидел на бревне около клуба, казался одиноким.
Однажды ей даже удалось поговорить с ним. Он возился около калитки тети Пашиного дома — что- то пилил там небольшой ручной пилой. Милка как раз проходила мимо, когда он бросил пилу и быстро поднес руку к губам.
— Порезались? — сейчас же спросила Милка.
— Да нет, ничего.
Но Милка все-таки сбегала домой за бинтом и сделала перевязку по всем правилам искусства, ибо кончила курсы сестер милосердия. Он стоял и, опустив ресницы, смотрел, как ложится бинт. Зубья пилы довольно сильно разорвали кожу на этой большой руке с толстыми корявыми ногтями.
Милка работала ловко, быстро перекатывая и перехватывая бинт.
— Так не туго?
— Ничего.
Он не поблагодарил ее, и ей это было приятно, словно он признал ее право заботиться о нем.
Домой она шла как во сне.
— Ты с ума сошла! — сказала ей соседка. — Это же бандит.
Милка не удостоила ее ответом. Теперь она была готова выступить в защиту Николая против целого поселка.
Если Милка и отказывалась считать новоприезжих бандитами, то поселковые ребятишки в этом не сомневались. О доме тети Паши рассказывались кошмарные истории: кто-то в полночь (а в поселке полночь была действительно полночью, а не началом ночи, как в городах) слышал страшные стенания, раздававшиеся там, кто-то видел белую фигуру (непременно белую!), безмолвно тянувшую из окна свои руки. Говорили про какие-то пятна, вовремя не отмытые с крыльца. Словом, говорили все то, что и полагается говорить ребятишкам, собравшимся в сумерках на сеновале.
Сережа Дохтуров… Но прежде всего скажем несколько слов о семье Дохтуровых, которой предстоит сыграть немалую роль в этом рассказе.
Инженера Дохтурова в поселке знали сравнительно мало (он много работал, рано уезжал и поздно возвращался), хотя и очень им интересовались — особенно женщины. Он был хорош собой и походил на морского офицера. Зато тещу его, Софью Николаевну, знал весь поселок.
Она была на редкость бестолковая женщина. Так, например, она могла остановить на улице дядю Сеню, председателя поссовета.
— Нет, вы скажите, — говорила она, — какое право имели они отнимать у людей землю?
«Они» — это были большевики, а люди, очевидно, помещики. Впрочем, ни сама Софья Николаевна, ни родня ее никогда землей не владели.
— Что уж тут поделаешь, — отвечал дядя Сеня и разводил руками.
— Нет, скажите, по какому праву?
Дядя Сеня снова, улыбаясь, разводил руками. Одна бровь его была выше другой.
Кроме того, Софья Николаевна вырвала себе все зубы. Когда-то передние зубы у нее были такие длинные, что верхняя губа никак не могла их прикрыть. Софья Николаевна мужественно вырвала их и заменила вставными. Произошло это много лет назад, однако в поселке помнили об этом событии, и всякий, кто разговаривал с ней, смотрел ей в рот и думал о вырванных зубах. А когда она говорила, кончик ее бледного носа мерно двигался вверх и вниз. И у нее росли усы.
Жена инженера умерла от тифа несколько лет назад, оставив единственного сына Сережу. Теперь это был тонкий и бледный тринадцатилетний мальчик с большими жалобными ушами.
Жизнь Сережи была сложна. Больше всего на свете он любил отца и больше всего на свете ненавидел бабку Софью Николаевну; он гордился отцом и страдал от бабкиной глупости. Однако неприятности в его жизни не ограничивались бабкой. Мальчик был общителен, ему хотелось бегать с ребятами, ходить в клуб и сидеть на бревнах вместе со всеми, а он приходил сюда очень редко, потому что боялся Семки Петухова, который всегда попрекал Сережу непролетарским происхождением.
— Вас, интеллигенция, как ни корми, вы все к капиталу смотрите, — говорил он, движением носа и бровей поправляя очки.
— Отец строит мост, — дрожащим голосом говорил Сережа.
— Смотри, как бы он его не взорвал, — говорил Семка Петухов.
Сережа пуще огня боялся таких разговоров. Оскорбительные для отца, они ранили мальчика очень глубоко. Но Семка был активист и говорил: «шамовка», а Сереже почему-то стыдно было говорить «шамовка», он чувствовал себя отсталым.
Когда в поселке заговорили о бандитах, Сережа этому даже обрадовался: настала пора показать, кто чего стоит. А потом убили Васька. До сих пор он нисколько не интересовал Сережу, но теперь, убитый, не выходил из головы. Да и все ребята говорили о нем непрерывно: и чижа он бил лучше всех, и плавал дальше всех, а перед смертью сказал какие-то странные слова. Встречая на улице маленькую тихую женщину — мать Васька, Сережа забегал в первые попавшиеся ворота. Впрочем, она все равно никого не видела.
И тогда Сережа дал себе клятву бороться с бандитами не на жизнь, а на смерть. Уже не раз виделось ему, как они с отцом вдвоем отбиваются от банды или сам он спокойно выходит из темноты и направляет в растерявшихся бандитов свой револьвер. Револьвера у него, правда, пока еще не было, зато были глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать.
Дорога, которая шла в поселок со станции, вилась по полю, потом по мосту переползала речку Хрипанку и входила в еловый лес. Речка разлилась широким прудом, куда в жаркие дни собирались ребятишки не только из поселка, но и из ближайших деревень. Нередко здесь шла борьба — за удобные места, где к берегу подходил плотный песок, в особенности же за обладание корягой, величественно и равнодушно плававшей по водной глади. Это был низко срезанный и выкорчеванный пень, корни которого распластались по воде. На ней могло плыть сразу несколько человек, с нее можно было прыгать — пусть с опасностью распороть живот о ее сучья. Словом, те, кому удавалось захватить корягу, старались уже не выпускать ее из рук, хотя бы им грозила гибель в холодной воде.
Однажды Сережа пришел на пруд. Был очень теплый вечер, солнце уже село, народу никого, вода в пруду была недвижна, и по этому розово-голубому зеркалу, как черный цветок, плыла коряга. Удача была редкая. Сбросив сандалии, Сережа по уже остывшему песку подошел к воде. «Как бульон», — подумал он и через минуту, мокрый, уже восседал на коряге.
Он сидел и думал о Борисе Федорове. Все последнее время он только и думал, что о Борисе Федорове. Ему нравилось простое Борисово лицо, нравилось, что тот ходит в сапогах, вообще все в нем нравилось.
Не сказав с ним еще ни единого слова, Сережа почему-то наделил его умом, бесстрашием и благородством. И не сомневался, что с приездом этого человека дела в поселке пойдут по-другому. Однако, пробыв здесь всего несколько дней, Федоров уехал, увезя с собой мать и совершенно не заботясь о судьбе поселковых обитателей; Сережа не мог этого ни понять, ни простить.
Только когда в воздухе заныли комары, мальчик решил, что пора на берег. Когда он, немного уже дрожа, натягивал липнущие штаны, он неожиданно услышал голоса, причем чуть ли не первое слово, которое до него донеслось, было «Левка».
— Ничего, не бойся, — говорил один, — Левка ему покажет.
— Хотел бы я посмотреть, — откликнулся другой, нагибаясь и что-то делая на земле, — как он будет отвечать перед Левкой.
Эти двое просто проходили мимо и мирно разговаривали. Сережа замер. Даже перестал дышать. Подхватив сандалии и майку, накалывая ноги о сосновые шишки, стараясь идти совершенно бесшумно, двинулся он за этими людьми.
Все произошло очень просто: бандиты дошли до заброшенных корпусов, пустых кирпичных коробок, стоявших в лесу, — здесь когда-то начали строить больницу — и скрылись в черном проломе стены. Как в горячке шел Сережа домой. «Нашел, нашел», — думал он.
Недалеко от дома ему повстречался его товарищ Витька, как всегда снедаемый любопытством.
— Что так поздно? Откуда?
Сережа только пожал плечами и хотел было пройти мимо, но не удержался и сказал мрачно:
— Было дело под Полтавой.
— Серега, — умоляюще протянул Витька, — ну скажи…
Сережа ничего не ответил.
— Жадина-говядина, кривое колесо, — в сердцах сказал Витька и пошел домой.
Глава II
Прежний начальник розыска прославился тем, что, зайдя однажды в единственный городской кинематограф, срезал с экрана полотно и продал его на толкучке. Потом оказалось, что на дворе угрозыска каждую неделю устраивается нечто вроде аукциона по распродаже отнятых самогонных аппаратов мрачной толпе их бывших владельцев. Конфискованный самогон бесследно исчезал в недрах розыска. Сотрудники его вечно рыскали по частным столовым, магазинам и чайным в поисках съестного. Частники кормили их и посмеивались. Их это не удивляло. Да и никого не удивляло. В те годы в милицию и розыск нередко проникали не только непригодные люди, но и просто уголовники. Вот почему по всей стране тогда была объявлена чистка. Специальная комиссия обращалась к населению с воззваниями, убеждавшими сообщать о всех нарушениях законности.
«На дороге к лучшему будущему, — писала местная „Красная искра“, — лежат камни преткновения в виде позорных привычек проклятого прошлого. С ними мужественно борется наша красная милиция. Так пусть же она будет чиста, как кристалл. Товарищ! Помоги своей красной власти выявить недостойных! Не бойся! Приходи со всем, только не с пустыми разговорами!»
Начальник розыска был арестован, сотрудники его разогнаны и заменены другими. Тогда же по партийной мобилизации пришел в розыск и Денис Петрович Берестов.
Ему пришлось трудно, это вообще было трудное время для розыска — время банд и кулацких восстаний. Посоветоваться было не с кем. Водовозов, друг и заместитель Берестова, пришел сюда немногим позже и знал немногим больше своего начальника. Денис Петрович сел за литературу, какую только мог достать. Она не принесла ему утешения.
«Без регистрации и идентификации, — читал он, — по единому методу Гальтона и Рашера, без дактилоскопии и сингалетической фотографии, без словесного портрета по системе Бертильона и справочников судимости — без всего этого борьба с преступностью это кустарничество, напрасная потеря сил, времени и средств».
«Дактилоскопия»! — думал он, вспоминая, что у них нет даже фотоаппарата. — Справочники судимости! Хорошо вам, у вас цивилизованные преступники, их пальцы отпечатаны во всех регистрационных бюро, их фотографии и словесные портреты разосланы по всем розыскам, их клички, почерки, шрамы — господи! — родинки, татуировки — все содержится в специальных реестрах, а привычки, профессиональные склонности и даже суеверия описаны в служебных справочниках.
А наши! За болотами, за буреломом, в кулацких селах многочисленные озверелые банды — сегодня они здесь, завтра рассыпались по деревням. Старые криминалисты и те ловят их годами. Что против таких руководства по уголовной технике! И все-таки Денис Петрович читал.
Каждое утро он чем-нибудь поражал Водовозова.
— Что такое система Бертильона?
— Про пальцы, — лениво отвечал Водовозов.
— Это всякий знает. А знаешь, что такое словесный. портрет?
— Не, — еще более лениво отвечал Водовозов.
На следующий день разговор возобновлялся.
— Вот про пальцы ты знаешь. А про зубы ты знаешь? Смотри, что один старикан пишет: по следам зубов, оказывается, можно сделать слепок, а по слепку установить преступника.
— Если он кусается…
— А мундштук, а трубка, а хлеб? Ученье, брат, свет, а неученье, знаешь, тьма.
Водовозов снисходительно улыбался.
После того как Борис побывал в розыске, видел Водовозова и Берестова, всех этих озабоченных людей, занятых важным делом и, казалось, отгороженных от остального мира каким-то магическим кругом, ему особенно захотелось вступить в этот круг. Но Берестов ничего ему толком не обещал, а только сказал: «Посмотрим», и Борис понял, что его станут проверять. Что же, правильно. И все-таки почему-то было обидно. По-видимому, Берестов понял его состояние.
— Чист как кристалл, — шутливо промолвил он на следующий день, — в укоме тебя даже похвалили. — И он внимательно посмотрел на Бориса.
Борис сейчас же понял и покраснел. Да нет, секретарь укома не хвалил, он просто сказал: «Сын такого отца…» Да и не проверял его, наверно, никто.
И вот вместо того, чтобы ловить плотву в заросшей осокой речке Хрипанке и пить холодное, с погреба молоко, Борис стал работать в угрозыске. В клубе под лестницей ему отвели комнатушку, две стены которой были дощатые, две — каменные, оштукатуренные, сохранившие еще следы церковной живописи. По крайней мере, над тем местом, где прислонялась Борисова подушка, была ясно видна босая нога какого-то угодника.
Собственно, жить здесь было невозможно, потому что все спектакли и собрания происходили в клубе. И уж менее всего можно было здесь спать. До поздней ночи пол дрожал от чечетки (как у них не ломило ноги от этой чечетки?!), синеблузники выкрикивали свою программу («Мы нашей синей блузою, нисколько не спеша, паршивых ваших Гамлетов задавим, как мышат»), произносил речь обвинитель на процессе частников, незаконно увеличивших рабочий день в своих мастерских, неслись какие-нибудь частушки:
Не фуганит мой фуганок, Не пилит моя пила. Расскажу я, между прочим, Про поповские дела.Борис получил старый «смит и вессон», которым безмерно гордился и который чистил каждый день, без всякой, впрочем, надобности, так как патронов к нему не было, и завел в розыске дружбу с веселым Рябчиковым. Этого белокурого паренька звали здесь то Рябчиком, то Курочкой Рябой, а не то и просто Рябой. От него Борис узнал, что Водовозов — это красота, что лучше Берестова людей на свете вообще не бывает, а женщина, работающая в розыске, не стоит ровным счетом ничего.
Оказалось, что она вообще не — пользовалась здесь никаким авторитетом, несмотря на строгий вид, военную гимнастерку и чеканную речь. Фамилия ее была Романовская, но в розыске ее почему-то, для обиды наверно, называли Кукушкиной, иногда с сомнительной торжественностью величая Кукушкиной-Романовской. До этого она работала в Петрограде (о чем все время старалась напомнить), а теперь была переведена сюда в розыск, по мнению Рябы, за ненадобностью. «Она влюблена в Водовозова, это всем известно», — сообщил Ряба.
Ряба был мастером на все руки, но настоящей его специальностью был самогон. В те годы это было настоящим бедствием. Пуды драгоценного зерна превращались в зловонную жидкость, которой деревня травила город и в которой захлебывалась сама. Чуть ли не каждый день к розыску подъезжала телега, доверху груженная ведрами, бидонами и аппаратами всех систем, — их Ряба тут же во дворе крушил колуном.
Кроме того, Ряба любил задавать вопросы.
— Вот представь себе, — говорил он, — представь себе, что ты — стрелочник, перевел ты однажды стрелку и видишь: в нее ногою твой друг попал, самый лучший, замечательный парень и герой. Ты видишь, как он старается вырвать ногу и не может. А поезд — вот он! Ну, что делать! Обратно перевести стрелку — поезд погиб, оставить так — налетит он, и от твоего друга… Что бы ты сделал? Ты бы перевел? Нет, ты скажи.
Или:
— Вот у одного писателя, говорили мне, такая постановка вопроса: если, говорит, для счастья всего человечества нужно пролить кровь трехлетнего ребенка, маленького, но одного, — ты бы пролил?
— Ряба, — молили его товарищи, — Курочка, не терзай душу! Никто не предлагает тебе ради спасения человечества убивать младенцев.
Однако Ряба серьезно тревожился:
— Но ведь могут быть такие случаи в жизни?
Борису он покровительствовал, а однажды даже взял с собою в губернский город, в губрозыск. Ряба был здесь своим человеком.
— Куда тебя? — спросил он. — На барахолку или в оружейную палату?
Барахолкой называлась кладовая различных вещей, а оружейной палатой — склад отобранного у бандитов оружия. Здесь были тяжелые зловещие колуны и изящные стилеты, кавказские ножи в узорных мерцающих ножнах и голые мясные ножи, вызывающие дрожь (эти колуны и мясные ножи впервые заставили Бориса подумать, достаточно ли он подготовлен для такой работы, как розыск). Безобразные обрезы лежали здесь рядом с последним словом военной техники — кольтом и браунингом. Были и никогда не виданные еще Борисом орудия взлома — разные «фомки», от огромных кустарных до маленьких, точных и только что не никелированных.
— А хозяйку здешнюю ты видал?
Хозяйка — гордость угрозыска, огромная служебная овчарка, привезенная из далекого подмосковного питомника, — лежала на лавке в комнате дежурного. Она была породиста и равнодушна.
— Хороша?
— Страшна.
— Ты не ее бойся, — сказал Ряба, кося глазом на какого-то человека в очках, — ты вот этого дядю бойся.
В дяде не было ничего страшного, скорее унылое что-то. Впалая грудь, очки, усы.
— Сволочь?
Ряба только поднял брови.
— Морковин, — сказал он, понизив голос, — следователь транспортного трибунала.
— Подумаешь, какой-то транспортный трибунал!
— Ребенок.
Борис собрался было еще расспросить про следователя, но тут Ряба объявил, что ему, Борису, если он не хочет опоздать на поезд, — пора отправляться на вокзал. Рябе предстояли еще дела в городе. «Какие?» — спросил Борис. «Тайна», — ответил Ряба.
Поезд был переполнен. Люди, груженные мешками, после неудачных попыток сесть в вагон бежали вдоль поезда на подогнутых ногах. Состав вот-вот должен был отойти. Какая-то старушка топталась на перроне и, конечно, осталась бы, если бы не Борис, который молча подхватил ее и внес в первый вагон, где было несколько посвободней.
Вагон был маленький, с разбитыми стеклами, — пропахший острым запахом влажной грязи. В проходе сидели на вещах, с полок свешивались ноги. Борис вместе с бабушкой протиснулся к окну.
— А ну, — обратился он к какому-то парию, белобровому и губошлепому, — уступи место.
— Что ты, что ты, господь с тобой, — зашептала бабушка.
— С каких это радостей, — ответил парень и отвернулся к окну.
По составу прошел стук и скрежет, наконец толчком сдвинулся с места их вагон.
— Поехали, — объявил кто-то.
— Ты что, оглох? — тихо спросил Борис, чувствуя, что звереет.
Парень смотрел в окно, но по напряженному и невидящему взору его было ясно, что он весь поглощен столкновением.
— Не встанешь, — подыму.
— Да что ты, мне недалеко, — шептала старушка, дергая его за рукав.
Но Борис ее не слушал. В такой тесноте нелегко было поднять парня и толкнуть на его место старушку, — Борис сам чуть не упал на нее. Все ждали скандала и драки, но парень драться не полез, а сказал желчно:
— Небось был бы здесь комиссар, ты бы его за ворот не хватал.
— Еще бы. Комиссар сам бы уступил, — ответил Борис и прибавил примирительно: — Не видишь, человек пожилой, устал.
— Я, может, больше ее устал.
Усевшись, бабушка тотчас же стала домовито усаживаться; подтянула, подняв подбородок, концы белого платка и обратилась к Борису:
— Давай, батюшка, свой чемоданчик-то, — она похлопала себя по коленкам, — давай, чего зря держать.
— Да что вы, бабушка, не надо, у вас и так узелок.
— Положь, положь, — сказала она, покойно закрывая глаза, — положь, узелок сверху пойдет.
Борису пришлось отдать свой чемоданчик. Бабушка положила его себе на колени, сверху поставила узелок и совершенно исчезла за этим сооружением.
— Ты куда, стара беда, собралась? — спросил с полки какой-то мужик.
— К своим, — охотно ответила бабка, поднимая к нему лицо, — к невестке со внуком. Невестка у меня заболела, некому даже и обед сварить.
— Смелая ты, бабка, что в такое время одна на поездах ездишь.
— Что ж поделаешь. Надоть ехать, я и еду. Вот гостинца везу.
— Отчаянная ты, бабка, — продолжал мужик. — А сама-то ты откуда?
«Вот привязался к бабушке», — подумал Борис, однако она была, видно, довольна разговором.
— Сейчас-то я из города. А так-то мы из Рязанской губернии, деревня Ежи. Наша деревня в лесу, мы ежи и есть, в самый лес забрались.
Она засмеялась тихонько, от этого вся засветившись, как зажегшийся во мху огонек, и снова спряталась за чемодан.
Поезд шел с многочисленными остановками, законными и незаконными. Правда, по сравнению с зимними поездками это была благодать: зимою то и дело приходилось выходить, чтобы отыскать дрова для топки или скалывать лед с обледеневшего за время стоянки паровоза.
— А у тебя, бабка, ноги-то ходят?
— У меня правая нога очень хорошо ходит.
— Этого мало, бабушка, если левая не ходит.
— Нет, левая не ходит.
Кругом все засмеялись, засветилась и бабушка. Она явно становилась душой общества. Только губошлепый парень, тая обиду, отвернулся к окну. Вагончик качало, стучали колеса.
— Интересно, в вашей деревне все ежи такие веселые?
— Все, сынок, все.
Она собралась выходить перед самым поселком.
— Постойте, бабушка, я вас сажал, я и высажу, — сказал Борис. — Далеко ли вам до дому?
— Да версты четыре.
Как только Борис поставил бабушку на землю, она тотчас же бойко пошла — делала шаг правой, а потом к ней приставляла левую.
— Как же вы этак четыре версты пройдете?
Она посмотрела на него серьезно и сосредоточенно, сделала шаг и приставила ногу.
— Буду иттить.
И снова сделала шаг и приставила ногу.
Поезд тронулся. «Ничего себе иттить», — подумал Борис, вскакивая на проезжающую мимо ступеньку и оглядываясь, чтобы посмотреть, как она идет. Она, казалось, совсем не двигалась с места, хотя и шагала очень энергично.
«А куда это она идет, — впервые подумал Борис, — в четырех верстах отсюда никакой деревни вроде нет. Неужели в поселок?»
У бабушки был такой замшелый вид, что Борису и в голову не пришло подозревать в ней поселковую жительницу. Он еще раз оглянулся, но уже нельзя было разглядеть не только людей, но и самого станционного здания.
Берестова в розыске не было, и никто не знал, где он. Зато все говорили о Водовозове, который вторые сутки шел за знаменитым бандитом и кулаком Тимофеем Сычовым. С Водовозовым был только один работник розыска.
— Сычов может к своим их завести, крышка тогда начальнику, — сказал кто-то.
— Ты что, Водовозова не знаешь, — отвечали ему, — будь спокоен, приведет твоего Сычова на веревочке.
— Я бы такими людьми зря не рисковал, — заметил бывший тут же Васильков. — Такие люди на дороге не валяются. Если поглядеть на него в масштабе, он есть мировой герой из его биографии.
— Незаменимых людей нет, — с отчаянной четкостью вдруг произнесла Кукушкина, и все сразу вспомнили, что она влюблена в Водовозова. — Если падет один, — продолжала она, — на его место станут десять.
— Один! Десять! — закричал Ряба. — «Незаменимых людей нет»! Каждый человек незаменим, если хотите знать. Если он как машинист заменим, так он, может, песни петь незаменим, а если он как столяр заменим, так для матери своей он незаменим. И для жены.
— Я не о том, — недовольно сказала Кукушкина.
— Зато я о том самом, — ответил Ряба.
А Борис не находил себе места: кто заговорен от пули или удара ножа? Да и легко сказать — вдвоем взять таких молодцов, как Сычов и его банда!
Зазвонил телефон. Это Берестов просил Бориса прийти к нему домой. Борис удивился неожиданному приглашению и, конечно, тотчас же пошел.
Берестов жил в небольшом доме — у той самой Анны Федоровны, которая первой узнала о появлении Левки. Анна Федоровна и открыла Борису, окинув его быстрым взглядом.
В комнате Дениса Петровича сидела какая-то девица самого независимого вида.
— Знакомься, Борис, — не глядя на него, сказал Берестов. Он был мрачнее тучи.
Девица сидела, нога на ногу, в единственном кресле Анны Федоровны. Из глубины этого кресла она царственно кивнула Борису головой.
— Опять у нас с тобой, Боря, беда, — начал Берестов, — и опять на той же самой дороге.
«Господи! — подумал Борис. — Кто же на этот раз?!»
— Старушку они убили, — покачав головой, сказал Денис Петрович.
Ну конечно, Борис знал, что это будет она. Не успел еще Денис Петрович сказать и слова, как Борис представил себе ночь и лесную дорогу, по которой, приставляя левую ногу к правой, ползет бабушка. Двигаясь таким образом, она конечно же шла весь вечер и оказалась на дороге, когда ударил «Левкин комендантский час».
— Не знаю, что у нее было брать. Узелок при ней нашли, в нем четыре яйца и пять пряников.
— Ничего у нее, кроме этого узелка, не было, — хмуро сказал Борис, — ничего у нее не взяли.
«Буду иттить», — вспомнилось ему. Почему он не проводил ее?! Где она сейчас? В мертвецкой?
Вдруг он заметил, что девица внимательно и насмешливо изучает его лицо, видно совершенно равнодушная к судьбе бабушки. Ему стало неприятно. Он не любил своей предательски подвижной физиономии — ему нравились лица мужественные и суровые, бесстрастные северные лица — и поэтому принял сейчас же самый холодный и равнодушный вид. Девчонка от этого, кажется, еще больше повеселела.
— Видишь, как дело пошло, — продолжал Берестов, — я, мол, сказал, что по дороге никто не пройдет, значит, всё — никто не пройдет.
— Ну что ж, — мрачно заметил Борис, — он свое слово держит.
— Он-то держит. Я тебе сказал, что Елена Павловна будет у нас работать?
Борис позволил себе взглянуть на Елену Павловну.
Ей на вид было не более двадцати лет. Насмешливое лицо ее с длинными и узкими глазами казалось освещенным солнцем, а короткие светлые волосы волною, как вода, бежали ото лба.
Не успел он ответить Берестову, как раздался стук во входную дверь, послышались шаркающие и какие-то подобострастные шаги хозяйки, грохот засова и голоса. С величайшим облегчением Борис узнал голос Водовозова. Он быстро взглянул на Берестова, который ничего не сказал, а только весело подмигнул: знай, мол, наших, — Борису показалось, что он знаком с обоими много лет.
Водовозов был весь в засохшей болотной грязи.
— Ты вызывал меня, Денис Петрович?
— Да что ты, Паша, в самом деле. Послать ко мне не мог?
Все замолчали, ожидая, что расскажет Водовозов, но он ничего рассказывать не стал.
— Всё в порядке? — опросил Берестов.
— А как же, — лениво ответил Водовозов, — только этого дядю надо в губернию отправлять с большим конвоем. Ну зверь.
Он покачал головой и тяжело опустился на стул.
— Устал?
— Есть немного около того.
— Пошел бы спать.
— Да нет, посижу маленько.
Он слегка щурил воспаленные глаза. Борис искоса взглянул на Елену Павловну: «Может быть, вам угодно и над Водовозовым посмеяться — прошу вас, попробуйте».
— Ну, раз ты не хочешь спать, — сказал Берестов, — то давайте хоть закусим.
Он достал из шкафа бутылку водки и газетный сверток, на всю комнату запахший чесноком, когда его развернули: там лежал кусок колбасы. Это было невиданное угощение.
— Пир по случаю победы, — сказал Денис Петрович. — Пьете? — спросил он у Елены Павловны.
— Пью, — холодно сказала она.
Тут уж Борис чуть заметно, но все-таки заметно, улыбнулся. «Врешь ты, мать моя, — подумал он, — боишься ты ее, этой водки». Но Елена Павловна никакого внимания на его усмешку не обратила. Она решительно взяла рюмку и опрокинула в рот. Борис мог бы поклясться, что дух у нее захватило, а по позвоночнику прошла дрожь, однако лицо ее осталось бесстрастным, ничего не скажешь. «Вот идол», — подумал он.
— А ты? — спросил Денис Петрович Водовозова.
— Да нет, — ответил тот.
— Что так?
— Во хмелю я нехорош, — усмехнувшись, сказал Павел Михайлович.
— Что ж, давайте тогда обсудим план действий.
Однако с обсуждением им пришлось подождать — послышались шаги хозяйки.
— Спрячь колбасу, — лениво заметил Водовозов, — она на запах ползет.
Елена Павловна немедля повернула свое кресло так, что оказалась совершенно скрытой за его высокой спинкой. В дверь просунулась голова Анны Федоровны.
— Приятно кушать, — пожелала она, улыбаясь (ну и челюсть!). — Самоварчика не нужно?
— Спасибо, — ответил Берестов, выжидая томительную паузу, не допускавшую Анну Федоровну продвинуться дальше. — Нам ничего не нужно.
Анна Федоровна скрылась, шаги ее затихли.
— А, ч-ч-чертова баба! — сказал Водовозов. — Брось ты, Денис Петрович, эту квартиру. Точно тебе говорю.
— Что она может знать? Здесь ничего не слышно, я сам проверял. Итак, план действий… Положение в поселке стало нетерпимым. Бандиты держат его в руках, словно никакой советской власти и на свете нет.
Они не оставили улик. Конечно, рано или поздно они их оставят, однако это может произойти не рано, а поздно. Словом: у нас нет пока ни единой нити. Столб был украден со двора у дяди Сени, председателя поссовета. Эта самая тетя Паша держится — не подступись. Наездник Нестеров — таинственная личность, оказывается, работает спецом-кавалеристом. Осторожен и хитер. Наблюдения за ними не дали пока ничего. А главное — ничего не дала наша засада на дороге.
И вдруг заговорила Елена Павловна:
— Но ведь ваших ребят в поселке каждая собака знает. Эдак можно целый месяц сидеть.
— А как им было знать, когда они приходят, а когда нет.
— Да их хотя бы на станции узнают.
— Они не мальчики — со станции приходить, — хмуро заметил Борис и взглянул на Водовозова.
Тот кивнул.
«Видите, Елена Павловна, мне, а не вам кивнул Водовозов, со мной он, а не с вами».
— Я знаю ваш план, Елена Павловна, — вступил Берестов, — и сейчас расскажу о нем товарищам. Елена Павловна предлагает…
— Это не я предлагаю, — быстро сказала Елена Павловна, — это губрозыск предлагает.
Положительно, эта девушка нравилась Борису все меньше и меньше.
— Губрозыск или нет, — улыбаясь заговорил Берестов, — только я хорошо вижу, что этот план вам очень хочется осуществить. Вот, товарищи, этот план. Леночка сама хочет пройти ночью по дороге с узлами-чемоданами, переодетая и, конечно, вооруженная. Бандиты ее, конечно, остановят, и она сможет их задержать. Леночка считает это самым разумным, поскольку ее никто не знает не только в поселке, но и во всем городе. Расчет ее построен на том, что бандиты ночью никогда не стреляют, но действуют ножом. Следовательно, на ее стороне преимущество неожиданности и огнестрельного оружия. Одинокая девушка на дороге, приезжая, не вызовет подозрений. Таков план Леночки.
— Только условие, — так же быстро сказала Леночка, — никаких засад в мою пользу. Я должна пройти одна.
У Бориса этот план вызвал раздражение.
— Что же вы собираетесь делать?
— Уж что-нибудь, наверно, сделаю. Если их будет немного, один-двое, — задержу. Если побольше — во всяком случае, увижу в лицо. Если надо — буду стрелять. В тот раз у Камышовки мне стрелять не пришлось.
«Ого», — подумал Борис. Ему, конечно, очень бы хотелось знать, что произошло «в тот раз у Камышовки», но он не спросил, чтобы не терять достоинства.
— А если их будет трое?
— А по трое они не ходят. Особенно теперь, когда им нечего бояться.
Это было уже прямое оскорбление.
— Они убьют вас.
— Как-нибудь!
— Ну, Денис Петрович, я пошел, — сказал вдруг Водовозов.
Он поднялся, и все невольно загляделись на то, как красиво и статно выпрямляется его фигура, как отходят назад плечи, как ровно становятся ноги в грязных сапогах.
Борис покосился на Леночку. Та тоже смотрела на Водовозова с явным одобрением.
— А что касаемо ваших планов, — продолжал Водовозов, озираясь в поисках кепки, — то ты не серчай, Денис Петрович, только все это детские игрушки.
— А бабушка, убитая на дороге, — это тоже детские игрушки? — весело спросила Леночка.
Водовозов взглянул на нее с высоты своего саженного роста.
— Что — бабушка. Бабушке все одно помирать пора была, а вот вы, наверно, и двадцати годов не прожили.
— С вашего разрешения, — холодно ответила Леночка, — мне двадцать три года. Да вы не волнуйтесь: вашей славы у вас никто не отнимет.
— Моей славы? — усмехнувшись, переспросил Водовозов. — Ну, Денис Петрович, я пошел. Может, я чего здесь в ваших планах и не понял — может быть. Я сегодня что-то плохо соображаю, да и глаза не глядят.
— Ты ошибаешься, Пашка, — улыбаясь, ответил Берестов, — Леночкин план — это не мой план. Я против него возражал и возражаю сейчас. На нем настаивает губерния, а не я.
— Гляди, — проговорил Водовозов и вышел.
Елена Павловна повернулась к Берестову.
— Посмотрим, — отвечая ее движению, сказал Денис Петрович. — Я надеюсь, что мы обойдемся без таких крайних мер. А пока прошу Бориса самым подробным образом познакомить вас с положением дел, с местностью и все прочее. Это, во всяком случае, пригодится. Борис, пойдем, выведем Леночку, ее никто не должен видеть с нами, поэтому проследи хорошенько, чтобы ни во дворе, ни на улице никого не было, а я пойду к хозяйке. Вам, ребята, в связи с этим делом придется видеться очень часто. Не фыркайте друг на друга. И смотрите, чтобы вместе вас никто и никогда не видал.
«Нет, этого я вам не прощу, — думал Борис, возвращаясь от Берестова, — бабки я вам не прощу». Он шел домой — в свою комнатушку в клубе.
Здесь только что кончилась репетиция драмкружка, бегали розовые девчонки в галифе и с нарисованными усами.
По сцене двигалось какое-то странное существо — девушка, почти девочка, босоногая, одетая в какую- то разноцветную хламиду, с голыми по плечи тонкими руками. Она путалась в хламиде, наступала на края, чуть не падала, смеялась, сама с собою разговаривала и, казалось, была счастлива, как бывает счастлив ребенок от праздничного переодевания.
Покорный судьбе, Борис запер дверь и начал было стаскивать гимнастерку, когда к нему постучали.
В дверях стоял незнакомый ему высокий человек самого странного вида: узкое оливковое лицо, длинные седые волосы, глухое пальто и трость, богато украшенная серебром.
— Гм. Благолепие, — произнес он, ткнув тростью в босую ногу на стене. — Остались от козлика рожки да ножки. Впрочем, это вполне в духе эпохи. У вас есть хлеб?
— Полбулки, — кратко ответил Борис.
— А у меня… — незнакомец бережно вынул и стал осторожно разворачивать тряпичный узелок, в котором, весь в полосах и складках, лежал комочек творогу, — вот…
Он поднял на Бориса приветливый взгляд. Творог— это была вещь. Старик разделил его поровну, подумал немного, отбавил от Борисовой части и прибавил себе — немножко.
— Мой юный друг, — продолжал он, пока они, сидя на Борисовой койке, закусывали хлебом и творогом, — позвольте называть вас так — несколько старомодно, но ведь и сам я достаточно старомоден, да и порядком стар (он сделал паузу, видно, чтобы дать Борису возможность возразить, но Борис упустил эту возможность). Так вот, мой юный друг, монахи некогда думали, что плоть — это зло, и что ее нужно умерщвлять, дабы побороть. Как они заблуждались! Уверяю вас, с плотью можно бороться, только удовлетворяя ее, иначе она вас сожрет. Вот, возьмите — еда. Ежели вы поели, вы о ней совершенно не думаете, и дух ваш готов воспарить. Ежели вы голодны… Я глубоко убежден, что святые отшельники в своих кельях думали только о шипящих отбивных, об утках, вспухших, истекающих жиром, о салатах и о сардинах в нежном золотом масле. Быть может, просто о яичнице с салом. Да, просто о яичнице с салом, только чтобы на всю сковороду.
— Пожалуй, творогу было мало, — заметил Борис.
— Мало, — улыбаясь согласился гость. — Не буду вам мешать. Просто кончилась репетиция пьесы, которую я (помогаю ставить. Кстати, вы не можете найти мне Афину Палладу?
«Это же, наверно, Асмодей! — подумал Борис. — Конечно же это он».
Асмодей был театральным обозревателем «Красной искры». Его обозрения, помещаемые между списком задержанных самогонщиков (под рубрикой «Знайте, это враги народа!») и корреспонденцией селькоров («В деревне Горловке распоясался поп») были исполнены чувства, эрудиции и воспоминаний об актерах императорских театров. Асмодей! Еще недавно в розыске зашел разговор о том, что значит это слово, и Ряба сказал: «Я знаю, это жук».
— Понимаете, — продолжал Асмодей, — по рекомендации Пролеткульта мы ставим одну из драм Эсхила (вот никогда не думал, что буду ставить Эсхила с прядильщицами и ткачихами!), все роли у нас заняты, а богиню Афину найти не можем. Пожалуйста, если у вас кто-нибудь найдется, не откажите в любезности.
Оставшись один, Борис разделся и лег. Как только он закрыл глаза, перед ним появились сразу все: и Леночка, царственно сидящая в кресле, и Водовозов в грязных сапогах, и диковинный Асмодей с серебряной тростью. Они сменяли друг друга, и каждого Борис подолгу рассматривал, пока не понял, что цепляется за них, лишь бы не видеть глухого леса и пустынной дороги, по которой идет бабушка.
Но пришло утро, а с ним и радостная весть: Борис идет в засаду, да еще вдвоем с самим Водовозовым. Это было первое дело, порученное Борису, и он весь день разбирал и чистил свой «смит и вессон», из которого по-прежнему не сделал ни одного выстрела. Однако сегодня он получил четыре патрона.
Они соскочили на ходу с поезда (Борис был рад, что прыгнул ловко, не хуже, чем Павел Михайлович), пошли вдоль насыпи. Уже смеркалось, когда они перешли вброд речку Хрипанку, весело выбегавшую по камешкам из-под арки железнодорожного моста, а когда добрались до плотины, стало совсем темно.
Плотина шумела угрюмо и глухо. В детстве Борис не раз лазил с мальчишками вниз, в темноту и сырость, где меж осклизлых камней толстая струя, крутая и стеклянная, падала в бешено взбитую белую пену. Уже и тогда плотина казалась ему зловещей.
Потом они шли вдоль пруда. Водовозов молчал; конечно, молчал и Борис. Проходя мимо прибрежного ивняка, Павел Михайлович вдруг приостановился, тихо положил руку на Борисово плечо и сказал едва слышно:
— Здесь он вошел в воду.
Значит, в эту самую черную воду вчера вошел убийца. Наверно, он брел по пояс, — может быть плыл: проводник, ведший на сворке собаку, долго бежал вдоль реки, но собака нигде не взяла следа — ни на том, ни на другом берегу. Борис стоял, взволнованный этой близостью врага, да и рукой Водовозова на своем плече. «Ну берегитесь, сволочи, сейчас мы вам покажем», — радостно подумал он.
В лесу было совсем темно, и все-таки овраг, по краю которого они пробирались, был еще темнее.
В него, волоча по земле тяжелые ветви, одна за другою спускались ели, а внизу, в глубокой черноте рассыпаны были огни светляков, и их было так много, что казалось, настоящее небо — в зеленых звездах — было там, внизу, а не над деревьями. Лес остывал.
Они были у дороги точно в назначенный час, незадолго до последнего поезда: по расчетам Водовозова, именно в это время должны были выходить на дорогу и бандиты. Долго стоял Борис рядом с Павлом Михайловичем, напряженно прислушиваясь. Трудно сказать, к чему он больше прислушивался — к тишине или Водовозову. Он слышал рядом дыхание Павла Михайловича и дорого бы дал, чтобы знать, о чем тот думает, стоя в темноте.
Слышно было, как прошел поезд. Где-то очень далеко лаяла собака, но и она умолкла. Время от времени Борис закрывал глаза, чтобы не видеть этой слепящей темноты, и только вслушивался. Наконец начался шум, быстро нарастающий, томительный и странный. Впрочем, это оказался комар, первый из многих, почуявших добычу. Борис и Водовозов осторожно давили их на себе.
Наконец послышались шаги — со стороны станции кто-то шел. Борис не столько увидел, сколько почувствовал, как Водовозов предостерегающе поднял руку. Ох, как томительно долго звучали эти шаги, хотя человек шел как будто довольно быстро. Наконец он поравнялся с деревом, за которым они стояли. Борис вглядывался до боли в глазах, но не мог разглядеть едва черневшую фигуру.
Неожиданно незнакомец остановился и закурил. Спичка осветила руки, слегка дрожащие, и спокойное строгое лицо, а вслед за этим наступила такая темнота, что совершенно уже не видно было человека, который, судя по шагам, двинулся дальше.
Едва тронув Бориса за плечо, Водовозов пошел следом. По осторожному шороху Борис понял, что тот достает пистолет, и понял также, что они сейчас охраняют этого одинокого путника. Потом спохватился и вынул собственный «смит и вессон».
Однако стрелять им не пришлось, так как больше уже в эту ночь никаких событий не произошло. Путник, держась боковой затененной дорожки, беспрепятственно дошел до поселка, а Борис с Водовозовым, проторчав на дороге еще часа три, к утру вернулись домой.
— Ты знаешь, кто это такой? — спросил Павел Михайлович дорогой. — Он из поселка?
— Конечно. Это инженер Дохтуров.
— Смелый парень, — заметил Водовозов.
Больше они не разговаривали до самого города.
— Ничего, — сказал Водовозов, когда показались первые городские дома. — Пойдем еще раз.
Однако ни во вторую ночь, ни в третью, ни в шестую они не встретили на дороге никого. А вот в пятую ночь на этой дороге ограбили человека, шедшего мимо поселка в одну из деревень.
Глава III
Утром в розыске было шумно — Ряба задавал вопросы:
— Вот, предположим, попал ты в плен, и там отпустили тебя под честное слово. Должен ты его потом держать?
— Боже мой, конечно нет, — сказала Кукушкина.
— Дали вы слово, — не обращая на нее внимания, продолжал Ряба, — ну, например, прекратить борьбу. Сложить оружие. И вас по этому слову отпустили. Должны вы его держать?
— Должен, — сказал Водовозов.
— Так они же палачи! — горячо возразил Ряба (он не любил простых ответов). — Они же зверье. Твоя святая обязанность бороться с ними, ну, скажем, для счастья человечества.
— Пусть они негодяи, но слово-то ведь не они давали, а ты. Слово-то твое. Иначе чего оно тогда вообще стоит?
— Что же, выходит, бросать борьбу? А если человек не может этого сделать, если он, как комсомолец, как партиец, должен ее продолжать? Что ему делать?
— Тогда уж лучше стреляйся, — возразил Водовозов, — сделай все, что мог для революции, для партии, для товарищей — и стреляйся!
— Больно вы хитренький, — обиженно сказал Ряба, — стреляться.
— Ну как хочешь, — улыбнувшись, ответил Водовозов.
Борису сегодня предстояло встретиться с Леночкой. Он не очень стремился к этой встрече, но все- таки было интересно.
— Идешь на свидание, жених? — спросил его Водовозов, когда они остались одни.
— Приходится.
— Занозистая девица, — непроницаемо глядя на него, продолжал Водовозов, — деловая. Это тебе не Кукушкина-Романовская.
— Да, это не Кукушкина, — ответил Борис, не спуская с него глаз.
— Вот возьми ты эту Кукушкину, — продолжал Павел Михайлович, лениво заваливаясь на стол, за которым сидел, и подпирая голову рукою, — вот ведь пройдет время, и станет она всем рассказывать: в героические годы революции и гражданской войны я, мол, работала в розыске. И даже документы представит. И не будет в тех документах сказано, что тот самый розыск не чаял, как бы ему избавиться от того самого товарища Кукушкиной-Романовской. Ну, не буду тебя задерживать, ступай.
«Ох, что-то здесь не так, — думал Борис, уходя, — ох, сдается, что вам, Павел Михайлович, куда больше, чем мне, охота пойти на это свидание».
Убедившись, что за ним никто не следит, Борис направился к старому заброшенному парку, где у него было назначено свидание, однако не успел он выйти из города, как хлынул дождь.
Это был веселый летний ливень. Тугие светлые струи, как прутья, врезались в землю и здесь взбухали пеною. И кругом все сразу оделось в пену, стало серым и туманным, серые кусты метались и бились под ветром. Вода быстро наполнила колеи и колдобины, в которых весело толкались струи, разлилась широкими лужами, казалось плясавшими под дождем. Все было в его власти, беззаботного, доброго седого дождя. И тут сбоку, одним глазом выглянуло солнце. Ух, как все вспыхнуло, задрожало, заискрилось! Какими огнями зажглась водяная пыль!
Дождь перестал так же внезапно, как и начался. От него все кругом устало, — Борису показалось, что он и сам устал.
В пустынном парке, куда, как в святилище, заглядывало вечернее солнце, трава стояла по горло в воде, листья на деревьях переливались мокрым глянцем, земля на дорожках была темной и плотной.
«Интересно, придет она или нет?»
Ну конечно, не такой человек была Елена Павловна, чтобы не прийти из-за дождя. Она сидела на черной сырой скамейке, подложив под себя свернутую куртку.
— Вот это да! — еще издали крикнул ей Борис. — Что же, вы так и сидели под дождиком?
Она смотрела на него, не отвечая.
— Ты уже знаешь? — спросила она. — Не знаешь, нет? Восстали рабочие Гамбурга.
Так началось их знакомство. Забыв обо всем на свете, они обсуждали гамбургское восстание, в котором без тени сомнений видели начало мировой революции. Мировой революции! Ах, теперь держись, покатится по всему земному шару!
Прошло не менее часу, пока они перешли к поселковым делам.
Пробежал ветерок, и бузина, под которой они сидели, сбросила на них свои капли. Леночка не обратила на это никакого внимания. Она курила, затягиваясь и щуря без того узкие глаза, так что ресницы их смыкались. Держалась она по-прежнему в высшей степени независимо, но была уже чем-то не та, какой он увидел ее у Берестова.
— Знакомилась я с этим вашим делом, — начала она, — странное это дело. Ну хорошо: в поселке все молчат, люди запуганы, понятно. Наблюдения за домом тети Паши не дали ничего. Собака никого не нашла, следы привели к пруду. Пускай. Вы выходите в засаду — все тихо. И это ладно. Но почему все это так совпадает?
— Ну уж мы с Водовозовым сидели в засадах на совесть.
— И всякий раз преступление совершалось в ту ночь, когда вас не было. Тебе не приходило это в голову?
— Как ты думаешь!
— Впрочем, может, это и совпадение. Да и Левка, надо отдать ему справедливость, парень хитрый. Давай лучше займемся делом.
Борис стал подробно рассказывать план поселка, расположение пруда, повороты дороги, места, где, по рассказам жителей, обычно нападали бандиты.
— А ты не боишься, что тебя убьют? — серьезно спросил он.
— Слушай, — вдруг с яростью сказала Ленка, — ты вчерашнюю газету видал, вашу обыкновенную «Красную искру»? Список «погибших от рук буржуазии» там видал? Сколько там нашего брата, комсомолок? А ведь они на пулеметный огонь шли, это тебе не лесная прогулочка! Или ты думаешь, на продналоге в кулацких селах было веселее? Или, может, в Гамбурге сейчас безопаснее? Так что же вы, прах вас побери! (до чего же замечательно получилось у нее это «прах вас побери!») клохчете надо мной, как куры! Мне, может, и опасности не грозит никакой. Стыдно, честное слово!
— Так то был фронт…
— Ах, фронт! А это вам не фронт! Ты можешь ходить по земле, где убивают детей? Ну и прекрасно! А я не могу! Нет, — продолжала она, успокаиваясь, — я не боюсь, что меня убьют. Гораздо больше я боюсь, что не встречу на дороге никого, кроме милиционера Василькова.
— Ну, милиционера Василькова на этой дороге ты и среди бела дня не увидишь. Мы с тобой еще встретимся?
— Да. На той же скамейке и в то же время.
Ох, она отчеканила это, как товарищ Кукушкина-Романовская!
Много раз встречались они в старом парке и говорили совсем не о поселковых делах. Ленка рассказала, что у нее беда: отец, узнав, что она вступила в комсомол, отказался считать ее дочерью, а когда она переехала к тетке, чуть с ума не сошел от горя. А уж когда она пошла на работу в розыск…
— В общем, карусель, — сказала Ленка грустно. — Ну как ему объяснить, что такого, как в нашей стране, никогда еще не было в мире и что я не могу — ну что хотите, не могу — стоять в стороне.
Доводилось им и яростно спорить, пришло время и оплакивать восстание в Гамбурге.
К лишениям Ленка относилась равнодушно.
— Успеем, как говорится, наесться при коммунизме. Хочешь семечек?
— А тебе?
— У меня полон карман. Хозяин угостил.
Они подолгу засиживались теперь в старом парке. В тот вечер они были уже у выхода, когда Борис вдруг остановился.
— А тебе тогда здорово противно было водку пить?
— О, будь она проклята, я думала — умру.
— Ты ужасная хвальбушка, между прочим.
— Есть немного, — ответила Ленка.
Борис рассмеялся, взял ее под руку и повел обратно, к скамейке под бузиной.
— Терпеть не могу бузины, — сказала она, садясь, — с детства.
— Это еще почему?
— Во-первых, ее нельзя есть.
— А во-вторых?
— А во-вторых, как только ее ягоды покраснеют, кажется, что уже наступила осень, когда на самом деле еще лето.
— А эту бузину?
— Это другое дело.
Борис так обрадовался ее ответу, что на радостях задал ей тот вопрос, который тревожил его все последнее время.
— Леночка, тебе нравится Водовозов?
— Водовозов? — Ленка подняла брови. — Он был у меня вчера.
— Где?!
— У меня дома. Там, где я обосновалась.
— Но ведь это неосторожно! Нам не разрешается к тебе приходить.
— Он человек опытный.
— Но зачем же он приходил?
— Уговаривать, чтобы отказалась от своего плана. Да еще как уговаривал!
— И что ты ему ответила?
— Сказала, что подумаю.
— И ты в самом деле хочешь подумать?
— Нет.
Борис задумался.
— А ты знаешь, Ленка, он в тебя влюблен, — сказал он, поднимая голову.
— Не знаю, — ответила она. — Просто он не хочет, чтобы я шла.
— Денис разрешит тебе, как ты думаешь?
— Если он не разрешит, это будет преступление. Ты же сам видишь: дело сложилось так, что нужно рискнуть, тем более что и риск-то не очень велик, по правде сказать. Подумай, если мы задержим кого-нибудь из них на месте — ведь это всё.
— Ты не ответила на мой вопрос — нравится тебе Водовозов?
— Водовозов? — повторила она беспечно и пожала плечами.
— Он ведь красавец, правда? — с горячностью (и тревогой в душе) продолжал Борис. — И потом, видела бы ты его на деле, он весь как стальной.
— А кто тебе сказал, что я люблю стальных?
— Что ты ни говори, — неизвестно зачем настаивал Борис, — а Денис ему сильно уступает. Вечно он колеблется, вечно сомневается.
— А кто тебе сказал, что я люблю людей, которые не сомневаются? — еще суше сказала она. — Денис очень хороший человек.
— Только вот воля у него не та.
— Воля? — она встала. — Знаешь, я думаю, что самый волевой из нас это Левка. Пошли по домам.
Нехотя поплелся за нею Борис, не понимая, почему все стало так плохо.
— Впрочем, он и в самом деле красивый, твой Водовозов, — сказала Ленка, когда они прощались. — И даже очень.
Правда, они встретились на следующий день, но опять поссорились, на этот раз из-за нэпа. Борис не мог с ним примириться, а Ленка его приветствовала.
— Конечно, не так это просто, — говорила она. — Иду я вчера мимо вашего магазина, купца Кутакова, или как там его, и вижу: здоровенные молодцы, краснорожие и потные, таскают мешки и ящики. Так бы и крикнула: «Эй, бабы голодные с ребятишками, давай налетай, кому сколько нужно!» Но этого нельзя.
— А по-моему, так лучше лапти жрать, — сказал Борис, — только бы не идти на уступки буржуазии.
— Кто как считает. Другие говорят — обрастут буржуи жирком, а мы с них этот жирок и срежем.
Борис почему-то насторожился, хотя сама по себе эта мысль была не нова и возражений у него не вызывала.
— Кто это так говорит?
— Ну хотя бы Водовозов.
— Ты что же, опять с ним виделась?
— Это к делу не относится.
В тоске Борис вернулся домой в тот вечер. «Что же здесь удивительного, — думал он, — Водовозов. Мимо такого не пройдешь. Надо забыть все, пока не поздно. Дали тебе поручение — выполняй. Недаром говорят, что любовь мешает выполнять долг». Но забыть он уже не мог.
Наутро настроение его немного улучшил Берестов.
— Ну, Борис, — сказал он, — пойдешь в родные леса. В поселке выследили бандитов — может быть, они обосновались в одном из старых корпусов. Знаешь такие? Поведешь наших сегодня ночью. Пойдете с Водовозовым.
В ту ночь Сережа не спал. Отец сообщил в розыск о корпусах — значит, сотрудники розыска будут сегодня ночью в лесу, а может быть, уже идут там один за другим в темноте. Сережа быстро оделся и вылез в окно. «Пойду без дороги, — подумал он, — все равно они меня не увидят — ни те, ни эти».
Он гордился собой, пока шел лесом: весь поселок дрожит перед бандитами; Борис Федоров, большой мужчина в сапогах, бежал из поселка; он, один только он выслеживает их ночью по лесам. Но стоило Сереже подойти к оврагу, как все эти бодрые мысли исчезли неизвестно куда — овраг был замогильно черен, из-под кустов кто-то смотрел, сыростью дышала глубина. Не повернуть ли назад? Ведь никто его сюда не посылал, никто не узнает об его отступлении. Однако, держась за кусты, он спустился в сырую темноту.
Пожалуй, это было и не так страшно, гораздо страшнее стало наверху, на освещенной луною просеке: впереди, близ тропинки, поджидал его человек.
Сомнений быть не могло: он стоял и ждал Сережу.
«Что делать? — думал Сережа, продвигаясь вперед только потому, что боялся бежать назад. — Отступить в лес? Нет, теперь уже поздно. И почему он так недвижен?»
Страшная мысль пришла ему в голову — такая страшная, что от нее ослабели ноги: живой так недвижно стоять не может.
Однако это был всего-навсего столб, невысокий и полусгнивший. Теперь Сережа ясно видел, что это столб, и все-таки ему страшно, было проходить мимо и позволить этому столбу оказаться у него за спиной. Он не удивился бы, если бы столб этот двинулся следом.
Словом, он был почти рад, когда подошел к корпусам, хотя именно здесь и была настоящая опасность. Вот они, корпуса. Черные коробки. Тишина. «Может быть, все уже кончено, — подумал Сережа, — а может быть, ничего сегодня и не будет?» Он сел по-турецки в кустах на колючие ветки и стал ждать. «Уж обратно я мимо этого столба не пойду», — думал он.
Шагов он не услышал, а просто почувствовал людей. Потом увидел нескольких человек, которые бесшумно подходили к тому самому корпусу, где укрывались бандиты. Забыв собственные тревоги, Сережа замер от страха за них, от гордости, что идут они по указанному им следу, и от счастья: впереди с револьвером в руке, очень серьезный шел Борис Федоров. Светила ярко луна, и Сережа хорошо все разглядел.
«Только бы не его, — молил Сережа, — если убьют, только бы не его!» Однако первым, шагнув вперед и загородив собою Бориса, вошел саженного роста человек, и Сережа был ему за это благодарен.
Он знал: ночь сейчас взорвется выстрелами, криками, проклятиями, быть может, предсмертными стонами.
Шло время. Он ждал очень долго. Быть может, час. В окнах корпуса заметался луч фонарика, однако все было тихо.
Наконец послышались негромкие голоса, и из черной дверной дырки один за другим стали выходить работники розыска. Они действительно нашли следы жилья — консервные банки, обрывки газеты (одна из них была даже позавчерашней), но только следы. Жилье было брошено.
На следующий день они снова собрались у Берестова.
— Чего, собственно, мы ждем? — спросила Ленка.
— Я, к примеру, жду, когда вы одумаетесь, — сказал Водовозов.
— Я бы, может, и одумалась бы, — быстро ответила Ленка, — если бы вы удосужились тех бандитов поймать. Мне никакой радости нет таскаться ночами по бандитским дорогам.
— А без вас, видать, ну никак не поймают?
— Да, видно, никак.
Павел Михайлович начал буро краснеть.
— Ничего, — примирительно продолжала Ленка, — вы пойдите, посидите в засаде. Недельку-другую. От этого куда как много бывает пользы. Только уж безвыходно. А то как вы куда отлучитесь, так они сейчас кого-нибудь и убьют.
— Да что вы из него душу вынимаете, Леночка, — посмеиваясь, вмешался Денис Петрович, — можно подумать, что у вас у самой только одни удачи и бывали.
Борис не спускал с них глаз — с Ленки и Водовозова. «Что здесь происходит? — думал он. — Почему она так на него взъелась? Почему он, всегда такой спокойный, поддается и сердится? Видно, не меньше моего боится, что Денис сегодня назначит день».
Однако Денис Петрович дня не назначил. Ему вся эта затея была неприятна, он тянул. А когда позвонили из губрозыска и спросили, как идут дела, он всячески старался доказать рискованность и даже невыполнимость этого плана.
— Э, Денис Петрович, — ответили ему, — не понимаешь ты, с кем дело имеешь. Это же, можно сказать, восходящая звезда. Если бы ты видел этого сотрудника в деле, если бы ты знал стиль его работы… У нас здесь все влюблены в него.
«Этому я охотно верю, — подумал Берестов, — у нас, кажется, скоро будет та же самая ситуация».
— Слышишь, — обратился он к сидящему тут же Водовозову, мигнув на трубку, — восходящая звезда, говорит.
Павел Михайлович ничего не ответил, только нахмурился.
— Кстати, Денис Петрович, — сказал он, помолчав, — очень тебя прошу, брось свою квартиру. Я последнее время присматриваю за твоей хозяйкой — дрянь баба, с каким-то сбродом якшается. Ряба говорит, что у него брат уехал, комната освободилась. Переезжай к нему.
«Восходящая звезда» снимала комнату в маленьком домике на окраине города и в самом городе старалась не показываться. Эти дни редкого при ее профессии отдыха доставляли ей большое удовольствие. Прихватив с собой ветхое хозяйское одеяльце и книгу, она отправлялась за огород, пахнущий укропом и звенящий шмелями, располагалась на полянке под деревом и валялась здесь почти целый день. Никто к ней (если не считать Водовозова) не приходил, никто, кроме Берестова, Бориса и Водовозова, не знал о ее присутствии в городе. Она не читала, а просто валялась в траве на краю огорода у огуречной грядки. Ей были видны маленькие мохнатые огурцы, лежащие на земле под широкими листьями; разогретые солнцем, они остро пахли. Ленка закрывала глаза, в них плыли яркие пятна, а мысли шли лениво и легко растекались вместе с этими пятнами. Кругом все жужжало и звенело, словно это был не огород, а полная жуков нагретая стеклянная банка.
Ленка не думала о предстоящей операции: что о ней думать, — придет время, и она сделает все, что будет надобно. Она вспомнила о Берестове, Водовозове, Борисе. «Волнуются», — она улыбнулась, перекатилась на спину и сквозь цветные радужные ресницы стала смотреть в небо. Пожалуй, ей было приятно, что за нее волнуются. Потом вспомнила, как «вынимала душу» из Водовозова, и рассмеялась. «Как они меня еще терпят, — подумала она. — Конечно же им, мужчинам, трудно решиться на эту операцию, много труднее, чем мне. Ведь я-то пойду, а они-то останутся… Какие все трое разные и какие славные — эти не подведут. Ничего, мы тоже не подведем, мы тоже неплохие люди».
Ей вдруг захотелось немедля приняться за дело.
И очень захотелось есть. Почему-то так всегда с ней бывало: когда предстояло какое-нибудь интересное дело, на нее нападал волчий аппетит. А с едой как раз было неважно: в городскую столовую она являться не решалась, в титовскую чайную и подавно, да на нее и не хватило бы денег; запасы провизии из «губернии» кончились, хотя Берестову она наврала, сказав, что их еще на неделю. Выходить не стоило.
Но, впрочем, и голодать тоже не стоило.
Ленка все-таки вышла. На улице было жарко — казалось, идешь по южному городу с его зеленью и слепящей белой пылью. Народу было мало, только какие-то допотопные дамы выползли под зонтиками, сборчатыми, как юбки.
Зато на площади было почему-то людно, слышался какой-то одинокий митинговый голос. Ленка остановилась. На большом ящике, заменявшем трибуну, стояла женщина в очень красном, как на плакате, платочке.
— Ведь там маленькие, бабы, ведь мал мала меньше, — кричала она, показывая ладонью от земли, до чего маленькие, — а какие страсти терпят, что переживают. Бабы! Неужели не поможем? Я вот про себя скажу: у меня у самой дома трое пищат, не одеты, не обуты, но у них мамка да тятька есть и крыша над головой есть, на них стены не рушатся, земля под ними не качается. В каком аду живут люди! Ведь это ад!
— О чем это? — спросила Ленка.
— Землетрясение в Японии, — ответили ей.
На площади стояли почти одни женщины, работницы с фабрики, на многих были платья из одной и той же материи — неопределенного цвета ситец, по которому разбросаны маленькие черные заводы с трубою и дымом из трубы. Такой идеологически выдержанный ситец недавно выпустила местная фабрика, и другой материи в городе не было (даже Ленка купила себе кусок на кофту, старая ее дышала на ладан).
Женщины слушали очень внимательно. Казалось, они видят в этот миг ужасную катастрофу и вместе с тем напряженно соображают, как бы такому делу помочь. Каждая из них была матерью и хозяйкой дома, сколь бы ни был мал этот дом.
Ленка стояла, прислонясь к дощатому забору. «Вы ведь и не знаете, где она, эта Япония, — думала она, — но бы знаете, что такое беда. А то, что сами вы не одеты и не сыты, это для вас большого значения не имеет. Я не могу вас накормить, это вы меня кормите, но я должна сделать так, чтобы с наступлением темноты вы не запирали двери, не загоняли ребятишек домой, не боялись выйти на улицу. Чтоб жизнь ваша была покойна, иначе грош мне цена».
Жаль, что она не может быть вместе с этими бабами, выступить с ящика, как та, что в красном платочке, замешаться в толпу, которая ее слушает. Нет, ее место не здесь, ее дело толкаться на барахолке, среди синих опухших физиономий, обросших свиной щетиной; на рынке, где снуют базарные воровки, что носят на себе две юбки, сшитые по краю подола; на рынке, где самые светлые личности — это какие-нибудь дамы из бывших, одетые в потертый бархат и торгующие зелеными и черными страусовыми перьями. Ее дело — это ночные облавы на чердаках.
Ленка оглянулась, сама не зная почему. На нее смотрел беспризорник, и это было странно.
Не лицо поразило ее — в этом бескровном и грязном, как у всякого беспризорника, лице не было ничего особенного. Ленку поразил его взгляд. Именно потому, что мальчик был черно-грязен, взор его сверкал белым блеском, как у древних статуй с серебряными глазами. И смотрел он очень внимательно.
А потом отвернулся. Все это продолжалось одно только мгновение, но казалось исполненным большого смысла. Ленка пошла вдоль палисадников с самым беспечным видом: что-что, а делать вид — это она умела. «Мне показалось, — думала она. — Мало ли кто на кого и почему посмотрел».
Однако эта встреча оставила у нее очень неприятное впечатление, что, впрочем, не помешало ей купить у бабы на углу алой редиски с мокрыми хвостами и белыми носиками. Все-таки летом легче было жить.
Кроме таинственной Левкиной банды у Дениса Петровича были и другие дела — к сожалению, не менее важные. Одно из них было настолько безотлагательно, что ради него пришлось отложить все другие. В деревню Горловку должен был явиться — можно сказать, совершить торжественный въезд — Колька Пасконников, к которому розыск мог предъявить не один счет. Особенно гордился Колька убийством председателя Горловского сельсовета и его семьи — от старой бабки до малых детей. После того как было решено брать Пасконникова именно в этом селе, на операцию выехал сам Берестов с Рябой и двумя другими сотрудниками.
Обязанности Рябы — грозы местных самогонщиков — были на эти дни переданы Борису.
Фабричный гудок, возвещавший конец дневной смены, уже ревел, когда Борис возвращался домой с окраины, где в маленьком ветхом домишке баба-вдова варила самогон. Вдову было жаль, осталась от мужа с двумя ребятишками, а жить надо.
— Он же на чистом пшене, товарищ красный начальник, — говорила она, взволнованно заглядывая Борису в глаза.
Борис старался отвести взгляд, но невольно глядел на дрожащие губы, которые она с усилием сводила, пытаясь произнести еще какие-то слова. Он много бы дал, чтобы не слышать этих слов, но все- таки наклонился и скорее догадался, чем расслышал:
— Я за этот аппарат… козу отдала…
Достаточно взглянуть на дом, на двор, на ребятишек, чтобы понять: коза была последняя в хозяйстве. Что толку было упрекать сейчас эту женщину?
— Какой молоденький, — сказала она, силясь улыбнуться, — а какой строгий.
Это было хуже всего. Единственно, что он мог для нее сделать, — это разбить аппарат за углом, чтоб она не видала. Словом, невеселый выдался день, и Борис шел к себе в самом скверном настроении. Путь его лежал через железнодорожное полотно. Когда он уже шел по шпалам, сзади послышались шаги. Его окликнул какой-то высокий усатый человек.
— Послушай, — сказал он, крупными шагами догоняя Бориса, — ты не сын ли комиссара Федорова? — и кивнул на водокачку, видневшуюся вдали над городом.
— Так точно, — брякнул Борис и покраснел, понимая всю неуместность этого разудалого «так точно». Уж очень он был зол после посещения вдовы.
Человек посмотрел на него внимательно.
— Пойдем, — сказал он, — я тебе кое-что покажу.
Они пошли вдоль путей к вокзалу, как всегда полному людей, по нескольку суток ожидавших своего поезда, грязных, несчастных, и полубольных. Дальние поезда приходили, стояли, уходили, но даже на крыше вагона уже нельзя было найти мест. В этот раз на дощатой платформе было оживленно: окруженный толпой, плясал беспризорник, ловко выстукивая на деревянных лакированных ложках. Плясали лохмотья, выбивали дробь маленькие черные ножки, сверкали белые глаза. Спутник Бориса остановился и долго смотрел на эту сцену, а потом, словно очнувшись, сказал:
— Пошли.
Они прошли служебным ходом, поднялись по грязной вокзальной лестнице и остановились перед дверью, на которой было написано: «Следователь транспортного трибунала Морковин».
Итак, это был тот самый Морковин, на которого указал ему в губрозыске Ряба. По-видимому, на лице Бориса выразилась тревога, потому что следователь улыбнулся.
— Входи, — сказал он.
В комнате кроме двух канцелярских шкафов и еще более канцелярского столика стояло роскошное кресло в черных деревянных завитках, обитое светлым, в алых розочках репсом. Морковин указал на него ладонью, как бы особо представляя Борису эту диковину, и сказал:
— Прошу.
При этом он снова улыбнулся. Улыбка его сухого лица была странной, но, пожалуй, приятной. Борис осторожно сел в кресло, а Морковин занял свое место за столом. Некоторое время он молча и внимательно смотрел на Бориса, а потом достал из ящика фотографию и протянул ее через стол.
Среди деревьев на траве стояло четверо. Первый слева широко расставил ноги, заложил руки за спину и, вскинув голову, щурился на солнце. Борис разглядел всё: и не то полуулыбку, не то гримасу, слегка приоткрывшую ровные зубы (впрочем, это только здесь, на фотографии, они казались такими ровными, на самом деле передний зуб у отца чуть-чуть заходил на другой), и перекрест ремней на груди, и кобуру на боку, и расстегнутый ворот рубахи. Дома у них не было ни одной отцовской фотографии.
Стоявших рядом с отцом двоих людей Борис не знал. Четвертым был тогда еще безусый Морковин. Борис посмотрел на следователя, тот кивнул головой и сказал:
— Так-то.
Часа два рассказывал он об отряде, в котором почти всю гражданскую провел комиссар Федоров.
Не ожидая просьб, следователь вспоминал все новые и новые подробности.
— А про горох вы помните? — спросил Борис.
— Нет, не помню.
— Отец рассказывал. Пришел ваш отряд в деревню, а рядом гороховое поле. Голодные все, с жратвой-то плохо. Побежали бойцы, особенно же девчонки из лазарета, за горохом, а отец их под арест посадил. Сидят они, арестанты, в избе, а бабы деревенские им, тайком от отца, еду носят. Очень любил он эту историю вспоминать.
— Нет, такого случая я не помню, — повторил Морковин. — А что ты сейчас делаешь?
Стоило Борису назвать розыск, как следователь сразу помрачнел.
— Розыск, говоришь? — медленно повторил он.
Борис смотрел на него с удивлением. Морковин встал и прошелся по комнате (Борис заметил, что он сильно сутулится), постоял, потом подошел к одному из шкафов и достал папку.
— Вот, — сказал он резко, — сводка по уезду за один лишь последний месяц.
И начал читать ровным голосом:
— «Демичевская волость. В овраге близ деревни Малые Огороды обнаружен труп мужчины без головы. Опознать не удалось. На дороге у села Софьина найдена мертвая женщина. Опознанная местными жителями, оказалась крестьянкой этого села. Ключицкая волость. К берегу у деревни Лыски прибило труп мужчины…»
Морковин читал все тем же ровным голосом, и только нога его подрагивала, выдавая ярость.
— Всего по Ключицкой волости четыре убийства. «Микулинская волость…» Можно продолжать? Сводка в шесть страниц.
Борис знал, что не только в их уезде — по всей губернии действуют многочисленные банды, мелкие и покрупнее. Он знал, что борьба еще не кончена. Погибают селькоры, под угрозой жизнь работников местных Советов, сельских коммунистов и комсомольцев, наконец, любого человека, пустившегося в путь по лесным дорогам уезда. В некоторых местах до сих пор не ликвидированы логова бывших дезертиров, не говоря уже о «рассыпчатых» бандах, которые бесследно исчезают по деревням. Все это Борис знал, однако месячную сводку видел впервые.
— Ну? — спросил Морковин, с той же яростью подрагивая ногой.
Что мог Борис ему ответить?
— Да понимают ли, наконец, работники вашего розыска, — продолжал следователь, — что они в ответе перед народом, что революция поручила им защищать жизнь людей?! А что они делают? Защитники! Там. в овраге труп без головы, а здесь по речке покойник плывет!..
— Разве же у нас одних такое положение? — робко вставил Борис.
— За объективные причины прячетесь? Что же у вас в розыске, коммунистов нет?
— У нас все либо комсомольцы, либо коммунисты. И Денис Петрович…
— Это Берестов, что ли? Да какой же он к черту коммунист? Жизнь свою отдай, а дело сделай — вот что такое коммунист. Для большевика нет ничего невозможного — ты про это слыхал? Впрочем, ты все это, наверное, еще от отца слыхал, — продолжал Морковин уже более мирно, усаживаясь за стол. — Его бы сюда начальником розыска, он бы показал, что могут сделать большевики.
Морковин взял карандаш и стал им постукивать по столу — то носиком, а то, быстро перевернув, другим концом — видно, стараясь успокоиться. Взгляд его перебегал из стороны в сторону.
— Отдать тебе фотографию?
— Если…
Морковин поднял брови, а потом встал и отошел к окну. Борису теперь видна была только сутулая спина.
— Если у тебя что-нибудь случится, — услышал он вдруг голос следователя, — если беда какая-нибудь или просто станет трудно, приходи ко мне. Ты мне не чужой.
Когда он повернулся к Борису, лицо его было почти ласковым.
— А что касается твоего Берестова, — весело продолжал Морковин, — то я тебе вот что скажу: я транспортник, и он мне не подчинен, но пусть что случится в полосе отчуждения, тогда… Тогда будет у нас разговор.
Борис был недоволен собой. Почему не нашлось у него слов, чтобы рассказать Морковину о ежечасной трудной работе розыска? Разве Сычова было взять легко? Или сладко придется Берестову сегодня, когда он столкнется с Колькой Пасконниковым? Да, наконец, сколько часов в сутки спит каждый из работников розыска?
Он шел по темным и совсем уже пустынным улицам. Сразу видно, что в городе неладно. Раньше, бывало, ребята допоздна заигрывались в лапту или горелки, а потом начинались бесконечные провожания. Долго слышалось тогда по городу: «Завтра придешь?» — «Не знаю». — «Приходи!»
Теперь все было мертво. Все наглухо заперто. Даже собаки не лаяли.
«Да, служба, — думал Борис, — одни покойники. Только и слышишь — там убили, там ограбили. Как в больнице начинает казаться, что все люди на свете больны, так и сейчас кажется, что в мире никого нет, кроме преступников. Да, списочек».
Он вспомнил, что Берестов со своими теперь уже в Горловке; вместе с сельскими комсомольцами и волостным милиционером они будут брать бандитов сегодня ночью, когда те перепьются. Что же — пьяные бандиты не лучше трезвых.
Борису было обидно, что его не взяли на эту операцию, все-таки настоящих дел ему не…
Вдруг грянул выстрел. Послышался топот, крик, все враз по городу залились собаки. Он кинулся в ту сторону, откуда слышен был выстрел, но попал в тупик, перелез через забор в чей-то огород и побежал по мягким грядкам; опять перелез через забор и потерял направление, однако сейчас же свернул на голоса.
Город был переполнен разноголосым лаем, но то, что увидел Борис на улице, казалось, происходило в глубокой тишине.
На земле лежала женщина, рядом на коленях стояла другая. Какой-то человек, как оказалось, знакомый Борису милиционер Чубарь, еле светил на них фонариком, в котором явно кончалась батарейка.
— Ну что, что, что? — в тоске говорила та, что стояла на коленях. — Куда они тебя?
Лежавшая на земле отвечала голосом детским и сонным:
— …Я тянула… не отдавала… Все тянула…
Это была совсем молоденькая девушка, коротко стриженная, с тонкой шеей, нарядная и на высоких каблучках. Она, видно, старалась рассказать, как у нее отнимали сумочку. У ворота ее кофты расплывалось темное пятно. Стоявшая на коленях стала расстегивать ворот, еле справляясь с набухшими от крови петлями.
— В больницу, быстро, — сказала она шепотом милиционеру. — Фонарик, — бросила она Борису.
И тут он увидел, что это Ленка.
Милиционер побежал, тяжело бухая сапогами. Город утихал, собаки успокаивались. Ни одно окно не открылось, не скрипнула ни одна дверь.
Когда Ленка расстегнула наконец воротник, они не увидели раны: в глубокой ямке над ключицей стояла кровь, быстро наплывавшая. Скомкав платок, Ленка придавила им рану, силясь остановить кровотечение, однако ткань быстро намокала.
— Сейчас, сейчас, дорогая, хорошая, — говорила Ленка, — сейчас придет доктор…
Сквозь пальцы ее уже проступала кровь. Даже при свете фонарика было видно, как быстро белеет лицо раненой. Вдруг она повернулась немного набок, прислонилась щекой к земле и начала тихо подтягивать коленки, устраиваясь — очень медленно и бережно — поудобней, как ребенок, который собирается заснуть. Губы ее были раскрыты и вздрагивали.
— Подожди, подожди, — с отчаянием говорила над ней Ленка, — девочка, подожди!
Но та не могла уже ждать. Борис вдруг заметил, что рот ее, только что детски раскрытый, теперь странно скалился, а во всей позе появилась какая- то костяная жесткость.
Ленка встала. Испачканную в крови руку она отвела и держала на весу, лицо ее было залито слезами.
Послышались голоса, топот ног. Очень торопясь и еле перебирая ногами, к ним бежал старый доктор, любимец города Африкан Иванович. За ним рысцой следовали санитары и милиционер.
Долго стояли они вокруг, не произнося ни слова. Лицо мертвой было теперь совершенно спокойно.
— Я ее знаю… знал уже теперь, — сказал милиционер Чубарь, — она в исполкоме работала. Видно, засиделась допоздна, и вот тебе…
— Ах, беда, беда! — сказал доктор.
Санитары закурили, дали прикурить и милиционеру.
— Сегодня в исполкоме жалованье давали, — сказал один из санитаров, кивнув на убитую.
Потом Чубарь рассказал, как он, стоя на посту, услышал выстрел, крик… ах ты, мать честная!
— А кто же стрелял? — спросил Африкан Иванович. — Рана-то ведь ножевая?
— Действительно, кто же стрелял?
— Наверно, все-таки милиционер, — холодно сказала Ленка.
— Я не стрелял.
— Интересно, — сказал один из санитаров.
Борис посмотрел на Ленку. По-видимому, она уже обрела спокойствие.
— А ты не видела, кто стрелял? — спросил у нее Чубарь.
— Нет, я живу неподалеку, шла домой, услышала выстрел и прибежала сюда почти вместе с вами.
— Я ее знаю, — поспешно вмешался Борис, — утром она придет к нам дать показания.
А на земле смиренно лежала убитая, словно понимая, что жизнь пошла дальше без нее.
Борис почувствовал, что Ленка дрожит.
— Тебе холодно, — сказал он, стараясь изо всех сил, чтобы она не слышала, какую нежность он вкладывает в эти слова, — пойдем.
И взял ее за локоть. Ленка отпрянула, словно ее ударили, прошипела что-то и разом исчезла в темноте.
На следующий день весь город говорил об убийстве. Имя Левки называли повсюду. Рассказывали даже, что где-то расклеены объявления: «После двенадцати ночи хозяин города я. Левка», однако это была, должно быть, видоизмененная версия поселкового столба. Во всяком случае, никто этих объявлений не видал.
Берестов вернулся, но весть о том, что банды Кольки и самого Кольки уже не существует, никого не обрадовала.
— С меня хватит, — говорила Ленка, когда они снова все вместе собрались у Берестова. — Понимаете? Хватит.
«Да, с меня, пожалуй, тоже хватит», — подумал Борис.
Все они сидели за столом вокруг лампы мрачнее мрачного. Водовозов, опустив темные веки, смотрел в стол, блики играли на его лице, казавшемся бронзовым. Берестов глядел на язычок огня и, видно, что- то соображал.
— Они могли вас видеть, — сказал он наконец, — когда вы стреляли на улице.
— Они не могли меня видеть, — ответила Ленка, — было темно, я стреляла из переулка. — Она повелительно обернулась к Борису.
— Да, было очень темно, — помолчав, сказал Борис, — они не могли ее видеть.
— Но ее могли разглядеть потом, когда светил фонарь. Они могли спрятаться неподалеку.
— Вряд ли. Но и в этом случае они, конечно, подумали, что стрелял милиционер.
— Вы попали? — спросил Водовозов, не поднимая глаз.
Он только что вернулся и не знал подробностей.
— Не думаю. Я боялась попасть в девушку.
— Что дала облава?
— Ничего.
Все опять замолчали.
— Я не понимаю, — начала Ленка голосом мерным и дрожащим, — почему вы бережете меня, умеющую стрелять, а не бережете…
Голос ее стал хриплым, она откашлялась и замолчала.
И снова Борис с ней согласился:
— Так все-таки, чего же мы ждем?
— По правде сказать, я надеялся, что мы сможем обойтись с вами и без таких крайних мер, — ответил Берестов.
— И обошлись? — резко спросила Ленка.
— Вы сами знаете.
— Значит?
— Значит, хоть виляй, хоть ковыляй — приходится решаться на ваш план.
Ленка откинулась в кресле. Все видели, что она порозовела, что ее глаза стали блестеть, — словом, все поняли, что она очень обрадовалась. Но никто не знал и не мог знать, как сжалось ее сердце, когда она вспомнила мгновенную встречу на улице и мысленно вновь увидела бледное, грязное и внимательное личико беспризорника. «Вздор, — подумала она, — ведь не отказываться мне от этого плана, исполнения которого я так добивалась (и по поводу которого так много нахвастала — могла бы она прибавить), только потому, что какой-то беспризорник как-то на кого- то посмотрел. Во всяком случае, после той ночи над девочкой из исполкома это уже не имеет значения».
— Только я хочу предупредить, — сказала она, — ни один человек в розыске не должен знать об этой операции. Ни один. Я предсказываю вам: если об этом будет знать хоть один человек, я на дороге тоже никого не встречу:
— Вы хотите сказать…
— Да, хочу.
Наступило тягостное молчание.
— И у вас есть основания? — резко спросил Берестов.
— Ваши знаменитые засады достаточное основание.
«А комната в корпусах, опустевшая к нашему приходу, — мысленно поддержал ее Борис, — разве это не основание? Да что там говорить, все мы понимаем, что с этим делом неблагополучно».
Тут он увидел, что Водовозов смотрит на Леночку, и на потемневшем лице его глаза кажутся больными. По-видимому, он хотел что-то сказать, но раздумал, Ленка заметила это движение. «Ну, сейчас что-нибудь брякнет», — подумал Борис, но и она промолчала.
— Хорошо, — сказал Берестов, — не будем спорить. Давно решено: кроме нас троих, об этой операции ни один человек не знает. Пойдете послезавтра, в ночь на субботу. Согласны?
Ленка кивнула, и все поднялись. На Бориса она, как и весь вечер, впрочем, не обращала внимания.
Только когда она ушла, Борис понял, что произошло непоправимое: Ленка пойдет по дороге. Там, у Берестова, ему казалось, что все средства хороши, лишь бы ни >в городе, ни в поселке не произошло больше ни одного убийства, но теперь… Неужели среди ребят может быть предатель? Однако последний раз они с Водовозовым выходили в засаду, не сказав об этом никому, кроме Берестова. Правда, их знают в лицо, за ними могли следить, а Ленку никто не знает. Расчет ее верен. Но примириться с этим нельзя.
Завтра. Завтра пойдет она по проклятой дороге. Это завтра казалось чертой, разделившей жизнь надвое, бедой, что сторожит из-за угла, порогом, который не переступить. Борис бродил и по городу и за городом — несколько часов. Бывали минуты, когда он готов был пойти прямо к Ленке в тот окраинный домишко, где она жила, однако он не имел права этого делать. Сколько ни твердил он себе, что каждую минуту нужно уметь перенести или хотя бы переждать, ничто не помогало ему в тот вечер.
«Интересно, увидится ли она сегодня с Водовозовым или нет?» — вдруг подумал он и сейчас же пошел в розыск. Водовозова не было. «Ну конечно, они сейчас вместе. Это только мне нельзя к ней приходить. Он приходит».
В жажде горьких воспоминаний побрел он в старый парк, где так недавно и так расточительно, не понимая своего счастья, виделся с Леночкой. На ту самую скамейку под бузиной.
Скамейка была занята. На ней сидела Ленка.
— А позже прийти ты не мог? — сварливо спросила она. — Второй час здесь торчу.
— Ты только не волнуйся, — говорила она. — Брось. Все будет в порядке. Впрочем, это всегда так, — добавила она задумчиво, — мне идти — ты волнуешься, тебе придется идти — я себе места не найду. Уж такое наше дело.
Борис не узнавал ее. Это была новая Ленка.
— Тебе тогда здорово жаль было бабушку? — спросила она.
— Очень жаль. Был такой добрый гриб-боровик, смешливый старый гриб.
— Вот видишь, как же мне не идти?
— Неужели завтра пойдешь? — спросил он, за плечи привлекая ее к себе.
Она кивнула, глядя ему в глаза.
— Неужели завтра действительно пойдешь?
Она снова кивнула.
— А поцеловать тебя можно?
И она кивнула в третий раз.
С силой он сжал ее в объятиях и слышал, как она что-то шепчет, уткнувшись лицом в его куртку. Ему даже показалось, что она плачет.
— Что ты, что, хорошая моя?
— Ты расплющил мне нос о пуговицу, — внятно сказала она, поднимая к нему лицо. А глаза ее были туманны.
— Я не волнуюсь, — сказал он. — Только бы скорее прошла эта ночь. Вот и всё.
— Перешагнем, — весело ответила прежняя Ленка. — Только не убирай руку, — прибавила новая.
Он и не думал убирать руку, которой прижал к груди ее стриженую голову.
— Какие волосы у тебя странные. Даже ночью видно, что полосатые, светлые и темные.
— Это они летом так странно выгорают. Милка так и называет их продольно-полосатыми.
— Что это за Милка?
— Ведерникова Милка, мой лучший друг. Вот, наверно, ждет меня, не дождется.
— Постой, она знает о том, что ты поедешь в поселок?
— Конечно, я ей написала.
— Ленка, какая неосторожность.
Ленка засмеялась.
— Ничего ты не понимаешь, — сказала она. — Мальчик.
— Как светло. Ну и ночь.
Вдали пробежал состав, унося далеко на север крик паровоза.
— Когда поезд вот так убегает куда-то, — продолжала Ленка, — сразу представляется, какая у нас огромная страна, и начинаешь чувствовать себя очень маленькой. А когда я шла — вот как пойду завтра — ночью по дороге, мне казалось, что я одна иду, огромная, по пустынному земному шару. Это неприятно. Лучше чувствовать себя маленькой в большой стране. Ты напрасно ревновал меня к Водовозову, — добавила она вдруг, но Борису этот переход не показался странным. — Ты знаешь, что они никогда не расстаются, — продолжала она. — Куда бы Дениса Петровича ни назначили, Павел Михайлович, как говорится, пройдет огонь и воду, а окажется рядом с ним. Я не знаю, как тебе объяснить, только когда я разговариваю с кем-нибудь из них, я всегда думаю о том. Даже не думаю, а знаю… какая у нас большая страна, как огромна революция и сколько еще всего нужно сделать. Я, наверно, плохо объясняю.
— Ты объясняешь плохо, но я почему-то все-таки понимаю. Ты хочешь сказать, что они молодцы.
— Я вернусь, — шептала она, когда была уже поздняя ночь, — я вернусь, хотя бы потому, что жить без тебя уже больше не могу.
Смел ли он мечтать, что Ленка, сама Ленка скажет ему когда-нибудь эти слова! Да Ленка ли это?
Вдруг она выпрямилась. В лунном свете ее лицо казалось белым и твердым.
— Я вернусь и буду штопать тебе носки, — сказала она напряженным голосом.
Борис сейчас же понял и рассмеялся. Для девушек их поколения носки были символом домашнего рабства и олицетворением домостроя. Недаром недавно в клубе у них исключили из комсомола одного парня «за взгляд на женщину как на рабыню». Большей жертвы Ленка принести не могла.
— Можешь не беспокоиться, — сухо повторила она, — я вернусь, чтобы штопать тебе носки.
— А я и не беспокоюсь, — ответил он, — у меня нет носков, я хожу в портянках.
— Нам пора, смотри, как посветлело на востоке, — сказал Борис.
— Ну подождем еще немного.
— Тебе нужно выспаться.
— У меня на это весь завтрашний день, до вечера.
— Ну тогда иди ко мне.
Берестов и Водовозов долго еще сидели в розыске. Денис Петрович зашивал гимнастерку.
— Никак не удается нам с тобой, Пашка, дом завести, — говорил он, — где бы нас с тобой ждали и пуговицы пришивали бы. Впрочем, тебя, ты говоришь, невеста ждет. Удивительно, как оно все лезет.
— Брось врать, — кратко ответил Водовозов.
— Разве я вру?
— А что же ты делаешь?
— Конечно, мне тоже тяжело. Но я думаю так: наш долг любыми средствами остановить убийства.
Ты этой бабки не видал, когда она на дороге лежала, а я видал. И если теперь мне предлагают сотрудника, который такие дела делал и может сделать, я не имею права отказываться. Тем более, что всех нас знают в лицо, а ее никто не знает.
— Да ведь девчушка же. Случись с ней что- нибудь, мы же со стыда сгорим.
— А так не горим?
Водовозов ходил из угла в угол, по привычке засунув руки в карманы галифе.
— Что же, она пойдет по лесу, а нам дома сидеть? — спросил он, остановившись.
Берестов не ответил.
— Денис Петрович, — вдруг с мольбой сказал Водовозов, — позволь мне за ней пойти. Я как змий проползу.
— А что же ты думаешь, мы и в самом деле дома сидеть будем? — ответил Денис Петрович. — Конечно, мы за нею пойдем.
Он говорил медленно и раздельно.
— Отказаться от этой операции мы сейчас не можем, это единственный способ покончить с бандой — взять ее с поличным. Бандиты действуют только ножом, стрелять они боятся. Одинокую девушку на дороге они, конечно, сперва остановят, потребуют, как всегда, денег. Мы с тобою пойдем за ней вдвоем, но пойдем не со стороны железной дороги. На рассвете мы поедем в Новое село, оставим там лошадь, пройдем лесами и будем к ночи у дороги. Леночка пойдет с последнего поезда. Мы вполне успеем. Куда ты?
— Так лошадь же добывать, — весело откликнулся Водовозов, исчезая за дверью, — наша-то подвода в отъезде, Денис Петрович!
Глава IV
В свои тридцать шесть лет Александр Сергеевич считал себя стариком, смерть жены, большой сын, огромная и ответственная работа по строительству моста — словом, он считал себя стариком. Поэтому, когда Милочка Ведерникова стала попадаться ему на всех перекрестках, краснеть при виде его и шарахаться в сторону, все это показалось ему очень странным, а потом забавным. А скорее всего было грустно. Однако он привык, что первый, кого он, сходя с поезда, встречает на платформе, это Милочка, которая вдруг осипшим голосом говорит ему: «Здравствуйте» — и смотрит долгим взглядом.
Они были соседями. Утром, стоило инженеру подойти к окну, как в соседнем дворе тотчас же появлялась Милка. Она с размаху выплескивала воду из ведра, гонялась за летящим по ветру бельем, гнала кур, вытряхивала какие-то салфетки. И все это был настоящий балет. Инженер не мог отказать себе в этом утреннем удовольствии. Несколько минут он стоял в окне и, улыбаясь, смотрел на Милочкины ухищрения. В эти минуты он чувствовал себя молодым и красивым.
Потом он завтракал, потом шел на станцию. И уж конечно, когда он проходил мимо Милочкиного сада, она вертелась неподалеку и косила на него испуганным взглядом.
И вот она исчезла. Никто не встречал его больше на станции, никто не вертелся во дворе, когда он утром подходил к окну.
«Нет так нет», — усмехнувшись, решил он и перестал о ней думать.
Однажды утром теща Софья Николаевна сказала, подавая ему завтрак:
— Бедная Евдокия Ивановна.
Некоторое время больным от ненависти взглядом он смотрел на шевелящийся кончик ее носа, привычно подавляя чувство раздражения, и молчал. Он знал, что она ждет от него слов: «Ну и что же Евдокия Ивановна?», но никак не мог заставить себя произнести их.
— Ну что же Евдокия Ивановна? — спросил он наконец.
— Как, вы не знаете?
— Откуда мне знать?
— Но вам мог сказать Сережа. Вам он решительно все говорит.
— Слава богу, пока говорит, — ответил он. — Так что же все-таки с Евдокией Ивановной?
— Не с ней, а с ее дочерью.
Инженер насторожился. Речь шла о Милке.
— Ее дочь связалась с бандитами и вошла в шайку так называемого Левы.
— Бывает же такое, — с облегчением сказал Александр Сергеевич.
Софья Николаевна могла и не то сообщить.
Однако через несколько дней он услышал в поезде разговор, отчасти подтвердивший тещины сведения. Видно, с Милкой в самом деле происходило что-то странное. Тут только инженер понял, что ее судьба тревожит его всерьез. «Глупая ты девчонка, — думал он, — что ты делаешь?»
А Милка совсем не чувствовала себя несчастной.
В то утро она встала очень рано и что бы ни делала, все получалось превосходно. Стала стирать — мыло, довольно скверное мыло из потребилки, вдруг сбилось в огромную пену, белым облаком ставшую над черной водой. Пока ветер трепал на веревке чистое белье, Милка успела вымыть пол, да так чисто и сухо, что хоть обедай на нем. И самое удивительное было в том, что она ни минуты не думала ни о белье, ни о поле, ни о грязной воде, которую выплескивала прямо в траву, в лопухи, ни о прекрасном солнечном утре. Она думала совсем о другом.
— Приляг хоть после завтрака, — сказала ей мать, — после еды жир как раз и завязывается.
Но Милка не дала вывести себя из этого царства бездумной деятельности и мечтаний, для нее теперь более реальных, чем жизнь, потому что ей было что вспомнить, было о чем мечтать. Как странно, что раньше всего этого не было. Зачем она жила?
— Только о жире я и мечтала, мамочка, — отозвалась она, — только о нем.
И пошла на крыльцо — раздувать утюг и вспоминать. А потом вышла на террасу — гладить белье и вспоминать.
Здесь пахло деревом и смолою, а по стеклам сплошным потоком неслись тени стоявших кругом деревьев. Повсюду плясали солнечные блики, окружая Милку и отгораживая.
Вчера произошло свидание, которого она так сознательно и настойчиво добивалась. После кино они пошли с Николаем не в поселок, как раньше, а в лес.
Они оказались в неслыханной тишине. Над черным лесом взошла луна, большая и чистая, от нее дорога казалась меловой. Было очень тепло.
Николай шагал медленно, в накинутой на плечи куртке, как всегда склонив голову, словно раздумывая о чем-то. А Милка шла рядом, в состоянии того высокого напряжения, которое позволяет, не глядя, видеть все — и луну, и меловую дорогу, и его лицо. Он молчал, а ей и не нужно было, чтобы он говорил. Один только раз он поднял голову и медленно взглянул на луну (Милка подумала при этом, что не было у нее в жизни большего счастья, чем этот его взор, обращенный вверх). Лицо его казалось ей бледным и более серьезным, чем обычно. Быть может, оно даже стало печальным, когда он снова опустил голову и, ступив шаг вперед, поддал ногою какой-то камешек, видно нисколько о нем не думая.
Ей хотелось прислониться к его плечу, но она не решалась. Раз только, качнувшись в сторону — нечаянно или нарочно, Милка не могла бы сказать, — она на мгновение прижалась к его твердой руке, однако испугалась и сразу же отошла. Он же продолжал шагать так же медленно, с курткой на плечах. Она уже стала подумывать, не забыл ли он о ее существовании, как вдруг он сказал, не оборачиваясь:
— Тебе не холодно, девочка?
Боже, как хорошо сразу стало на душе. Даже и теперь, стоило ей вспомнить это его «тебе не холодно, девочка», и ее заливало горячее чувство счастья.
Как жаль, что в поселке не любят Николая, что никто не понимает и не поймет их отношений. Сегодня утром она получила письмо от Ленки, удалой своей подружки, и письмо это было полно упреков.
«Слышала я, — писала Ленка, — что связалась ты с неподходящей публикой и сама лезешь в петлю. Ничего, в субботу прибуду самолично и наведу порядок».
«Приезжай, — думала Милочка, — приезжай, дорогой мой атаман, только порядок наводить уже поздно».
Тени от листвы сплошным потоком летели по террасным стеклам, а солнечные пятна так переливались на пестром платье, по которому Милка водила утюгом, что невозможно было отличить, где блики, а где цветы узора, и казалось, что утюг идет по текучей воде, от которой рябит в глазах. Сквозняк вздымал занавески.
«Уже поздно, — думала Милка, — теперь уже поздно, к счастью».
Так шли они тогда довольно долго по белой дороге, прорезанной корнями деревьев. Николай больше не сказал ни слова. Он вдруг повернулся к ней весь, притянул ее к себе и вместе с нею отступил в темноту.
Что же, она его любила. И он это знал.
«Сегодня как раз суббота, — с насмешкой и нежностью думала она, — сегодня Ленка приедет наводить порядок».
Было жарко от солнца, от утюга, светившего раскаленными углями, а больше всего от воспоминаний. С этой минуты они не говорили ни о чем, и она вновь и вновь вспоминала единственные сказанные им слова и все не могла им надивиться. Если бы Ленка слышала, как он их сказал!
«Индюшка ты, — писала Ленка, — о чем ты думаешь? Я понимала тебя, когда ты была влюблена в инженера, в него и влюбиться не стыдно, но связаться со шпаной…» Милка снова улыбнулась и покачала головой: шпана! Он за нас с тобой воевал, он в боях прошел полстраны до самого моря!
— Милочка, — окликнула ее мать, — выйди на улицу, посмотри, что там за шум.
А Милке было лень. Ей до смерти не хотелось выходить из своего солнечного убежища. Однако мать она уважала и всегда ее слушалась, да и на улицу выйти, кажется, действительно было нужно, потому что по ней двигался какой-то гул, совершенно необычный для их поселка.
Милка выбежала на улицу босая, обжигая ноги о горячий песок. Больше всего в ту минуту, как она вспоминала потом, ее беспокоил горячий песок, о который она обжигала ноги.
По улице в толпе народа двигалась телега, в которой везли Ленку. Милка не сразу узнала ее, белые Ленкины губы были раздвинуты какой-то незнакомой гримасой над стиснутыми зубами. Но светлые волосы, «продольно-полосатые», разметанные сейчас по дощатому дну телеги, чистый лоб, высокие коричневые брови — все это была Ленка. Толчки телеги не тревожили ее, она была неподвижна; только когда телега кренилась в глубокой колее, тихо сползала к борту. Залитая кровью голова ее была далеко запрокинута.
«В субботу прибуду самолично и наведу порядок», — вспомнила Милка, шагая рядом с телегой (на нее все время наезжало заднее колесо). Ей хотелось подложить руку под Ленкину голову, лежащую на досках, но она не решалась.
Ленка лежала в клубе на сдвинутых скамьях. Берестов, Водовозов и Борис были тут.
Втроем сидели они неподалеку, стараясь друг на друга не смотреть. Вставали все трое, как только слышали стон. Врач не скрыл от них, что, по его мнению, она в сознание не придет, однако никто из них врачу не поверил. Им казалось, что не может ничего случиться, пока они так вот, все трое, неотлучно сидят около нее. Время от времени Ленка с трудом поворачивала голову и тихим голосом начинала что-то невнятно тянуть. Тогда они вставали и стояли, напряженные и беспомощные. «Не пущу тебя, не пущу», — твердил Борис, закрывая глаза, и, кажется, повторял вслух.
Но она уходила все дальше и дальше, пока не ушла — навсегда.
Как это было? Был клуб, полный народу, казалось снова превратившийся сейчас в церковь, только мрачную, грязную и захламленную, с полуобсыпавшимися угодниками на стенах. Он слышал, как стоявшая рядом с ним женщина сказала другой: «Все-таки странно, что не открывают гроб». Они были любопытны, им хотелось взглянуть. Гроб, обтянутый красной и черной материей, действительно стоял закрытый— так велел Берестов. Слишком сильно разбита голова.
А он все время забывал, что в гробу лежит Ленка, ему казалось, что она ждет его где-то в другом месте, куда он должен прийти и рассказать о похоронах — ей это будет интересно. Усилием воли он заставлял себя вырваться из этого странного забытья, и тогда сразу понимал, кто лежит в гробу. Так снова и снова мысль о Ленкиной смерти приходила к нему каждый раз заново — невыносимой болью. Но только на мгновение— потом он опять забывал.
Процессия растянулась на весь город. Впереди лошадка везла телегу с гробом, затем шел розыск, потом милиция, за нею пожарная часть. Берестов и Водовозов шли рядом, опустив голову и заложив руки за спину. «А где мать-то, — говорили в толпе, — мать-то у ей есть?» — «Нет, вроде сирота».
Он идет рядом с Рябой или с кем-то другим, кто несет Ленкин портрет, наклеенный на картон и прибитый гвоздем к палке. Портрет чем-то похож, особенно волосы, только кажется, что на Ленкином лице кто-то толстыми линиями нарисовал другое. А вместо глаз — черные точки.
Перед ним гроб. «Я выбыла, я выбыла, — говорит он, качаясь, — идите дальше». — «Как же я дальше? — спрашивает он. — Как же я без тебя?» Гроб тяжело ворочается на ухабах, он занят этим и не отвечает.
Уже давно засыпали узкую могилу, куда — глубоко вниз — опустили Ленку, уже давно все они разошлись с кладбища, а он все еще видел, как старательно и покорно ворочается на ухабах гроб.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава I
— Ну чего ты хочешь? — спросил Берестов.
— То же, что и тогда, — ответил Водовозов, — то же, что и всегда.
Прошло три дня с субботней ночи, но заговорили они об этом в первый раз.
— Ты это уже сказал, — на лице Берестова играли желваки, — но мы не могли этого предвидеть.
— Обязаны были! — крикнул Водовозов.
Борису начало казаться, словно оба они говорят в каком-то холодном бреду или тяжелом сне. И вдруг он заметил, что Денис Петрович смотрит на них обоих, то на того, то на другого, странным взвешивающим взглядом. По-видимому, и Водовозов заметил этот взгляд. Наступила пауза.
— Ну давай, — сказал Водовозов, — выкладывай.
Берестов подумал еще немного, а потом вдруг решительно выдвинул ящик стола и вынул из него клочок бумаги.
— Читайте, — сказал он глухо.
Уже подходя к столу, Борис понимал, что еще раз сейчас случится несчастье. Он не мог, он не хотел читать этой записки, он вовсе не желал знать о ней.
Это был мятый клочок линованной бумаги из ученической тетради. «Пусть ваши куропаточки сидят в своем угрозыске (здесь следовала матерная брань). Дураков у нас нет». Все это было написано печатными буквами. Борис понял сразу, что это значит, а Водовозов читал долго, листок дрожал в его руке.
— Не понимаю, — сказал он.
— Это было у нее на груди, — ответил Берестов, — они бросили это ей на грудь, когда пробегали. Ты тогда не заметил.
«Тяжело же тебе было умирать на дороге, когда мимо громыхали бандитские сапоги», — подумал Борис.
Вдруг Водовозов не то застонал, не то зарычал. Было видно, как белеет от бешенства его лицо, губы и даже глаза. Таким никогда не видели они Павла Михайловича. Сжимая кулаки, весь набрякший гневом, стоял он перед ними и своими помертвевшими губами не мог выговорить того, что хотел, и казалось, он не мог жить, пока не скажет. Затем круто повернулся и пошел к двери.
— Постой, Павел, — сказал Денис Петрович, — погоди. Наше дело сейчас думать. Ты же понимаешь…
Да, Борис тоже не сразу подумал об этом: записка была заранее и специально заготовлена, ее спокойно и четко выводили химическим карандашом.
Водовозов опять подошел к Берестову.
— Я жить теперь не могу, — негромко сказал он, — понимаешь, Денис Петрович, жить теперь не могу.
Борис шел по городу, не замечая, куда идет.
Она была заранее заготовлена, кто-то вырвал лист из тетради, оторвал клочок и стал выводить печатные буквы. Их было несколько; наверно, они смотрели через плечо тому, кто писал, подсказывали, конечно, смеялись. Лес и ночь — все это была огромная ловушка, куда мы послали тебя.
У дверей клуба, на паперти, мирно сидел Костя Молодцов.
— Привет от батьки, — весело сказал он, поднимаясь, — прислал тебе на помощь.
Постой, постой, мне нужно подумать. Нас было трое, только трое знали об этой операции. Берестов, Водовозов и я.
— Дедка, говорит, за репку, — продолжал Костя, — бабка за дедку и так далее до мышки. Так вот, может, ты, говорит, будешь у меня мышкой.
Борис мельком взглянул на него. Да, теперь это был прежний Костя, несмотря на свои семнадцать лет, — мастеровой с головы до ног. Засаленная кепка его всегда была до отказа сдвинута на затылок, брюки еле держались на бедрах (он лихо подтягивал их локтями), а за ухом обязательно торчал папиросный окурок.
Подожди. Нас было только трое. Друг друга они знают много лет, друг в друге они уверены. А я… Нет, в тот миг, когда мы читали записку, они еще ничего не подумали. Но сейчас вот, сию минуту, они уже подумали…
— Что было у нас в поселке, что было… — оживленно продолжал Костя.
Он в первый раз вышел из дому после болезни и не мог нарадоваться всему — и вечернему солнцу, и Борису, и ощущению крепости в мускулах.
— Ну здорово, Константин, — сказал Борис, — рад видеть тебя, друг.
И сейчас же забыл о нем.
Интересно, сказали они об этом друг другу или только подумали? Может быть, сказать и не сказали, но подумали и не могли не подумать: ведь нас было только трое…
— Ты чего? — испуганно спросил Костя.
Сейчас, погоди. Кто же это сделал на самом деле? Все это ерунда, — кто же это сделал на самом деле?
— В поселке? — переспросил он. — Что же было в поселке?
В самом деле — поселок. Он забыл одно, быть может самое важное. В поселке живет Милка Ведерникова, которая заранее знала о Ленкином приезде. Искать нужно здесь.
Он не слышал, что рассказывал ему Костя. Он вспоминал. Милка была славной девчушкой с толстыми ногами. Они с ней вместе собирали по вечерам шишки для самовара. С тех пор прошло много лет.
— Что ты мне можешь рассказать про Милку Ведерникову?
— Так я же тебе рассказываю, — Костя смотрел на него с изумлением, — с ней в поселке теперь никто не разговаривает, все зовут бандиткой — ужас что делается!
Так вот оно что. Вот что может вырасти из доброй девочки с толстыми ножками. Однажды к ним в розыск привели бандитскую «маруху». Она была развязной и жалкой, подведенные глаза казались запавшими. Очень возможно, что и она была доброй девочкой с толстыми ножками. Зачем же я теряю время, нужно сейчас бежать к ним и рассказать, они ведь не знают.
Он кинулся было к двери, но остановился.
— Да что с тобой? — спросил Костя.
Нет, он упустил время. Они уже подумали, а может быть, и сказали. Да у него сейчас и не хватит сил в чем-то убеждать их, в чем-то оправдываться. Они могут не поверить и уж обязательно спросят, почему он не рассказал им об этом раньше, до того, как узнал о записке. Действительно, как объяснить, почему он не вспомнил раньше? Нет, у него один-единственный выход — прийти к ним с доказательствами. Он расследует это дело и тогда к ним придет.
— Очнись, — сказал Костя.
В своем овощном ларьке коротконогая Нюрка работала не только из необходимости зарабатывать себе на хлеб, но и по соображениям самого возвышенного порядка.
Мать Нюрки, такая же коротконогая и едва ли не более забитая, всю жизнь работала на купца Кутакова, и Нюрка с детства привыкла бояться всех, кто принадлежал к купеческому званию. Она так бы их всю жизнь и боялась, если бы не революция, которая научила ее ненавидеть их и презирать ото всей души. Она готова была бы есть одну картофельную шелуху, лишь бы знать, что Иван Ильич никогда больше не откроет своей лавки.
И вот случилось ужасное. Как-то на улице повстречалась ей Анна Федоровна — Нюрка уже смирилась с тем, что все неприятные известия в жизни она получает от Анны Федоровны, — и сказала, не скрывая торжества:
— Что, пришлось снова Ивану Ильичу поклониться?
И как всегда, то, что говорила Анна Федоровна, оказалось правдой: в городе открылся частный магазин Кутакова.
— Вот тебе и революция, — назидательно сказала Анна Федоровна, — вот тебе и мировой пролетариат.
Нюрка пришла в отчаяние. Она не в силах была пройти по той улице, где открылся этот магазин.
Неожиданное облегчение принес ей небольшой листок бумаги с занозами, на которой печаталась газета «Красная искра». Здесь была изображена огромная вздувшаяся рука, сжимающая толстопузого бородача в поддевке. На руке было написано: «Красная кооперация», а под картинкой стояла подпись: «Рукой красной кооперации задушим торгашей и обирал». Нюрка не сразу поняла смысл этой картинки. Ей разъяснили. С тех пор темный ларек, в котором она доселе работала без всяких особых чувств, стал для нее частью великого целого. Слова, которые раньше не имели для нее смысла: «пайщик», «взнос», «правление», «оборотный капитал», — все это теперь вызывало огромный интерес. «Мощные реки создаются из ручейков, — читала она с волнением, — а сильные кооперативы притоком средств от членских взносов» — и представляла себе действительно полноводную реку, от которой всем становилось очень хорошо. Впрочем, ее мечты были совершенно конкретными: ей хотелось, чтобы собралось вместе как можно больше людей, каждый внес бы свой рубль (таков был членский взнос — рубль золотом), и за эти деньги можно было бы кроме столовой, потребилки, булочной и ларька, в котором работала сама Нюрка, открыть еще и чайную (в городе была только частная чайная купца Титова). Может быть, потому, что у нее не было семьи, она могла часами мысленно расставлять столы в этой, пока не существующей чайной, покупать расписные чайники и подносы, мыть полы и развешивать занавески, которые в мечтах ее были всегда расшиты петухами.
Действительность была далека от ее мечты. Кооперация еле ковыляла следом за частными магазинами, доставать продукты было очень трудно, приходилось покупать самое дешевое, иногда на том же рынке, у того же частника; членских взносов было гораздо меньше, чем того хотелось бы Нюрке, — напрасно бегала она на каждое собрание, в надежде узнать, не возрос ли оборотный капитал. А главное, весь этот капитал за месяц мог сократиться вдвое, втрое, вчетверо, просто ничего не стоить из-за падения рубля, и тогда в ларьке у Нюрки не было даже кислой капусты.
Ей хотелось выйти на площадь и крикнуть: «Люди! Все люди! Многоводные реки создаются из ручейков, а сильная кооперация — от членских взносов!», но она никогда не смогла бы этого сделать. С какой завистью смотрела она на делегаток и выдвиженок, которым ничего не стоило выступить на собрании, бросать в толпу лозунги, шутки и соленые словца. Нет, она не могла обращаться к людям. Над нею бы только смеялись. Над ней, коротконогой, и в самом деле смеялись очень много. Да что там, даже разговаривая с заведующим потребилкой, она так дрожала, покрывалась такими пятнами, так плела и путала, что потом самой мучительно было вспомнить.
И все-таки, как ни бедна была их кооперация, как бы ни были неумелы и порой бесхозяйственны члены правления, она все-таки ползла вперед, правда отчаянно сотрясаясь под ударами конкурентов- частников, но все-таки ползла. И не давала частникам вздуть цены.
В тот день, когда произошло несчастье, у Нюркиного ларька как раз стояла очередь за огурцами, каких кооперация еще не видела. Нюрка с особым удовольствием погружала руки в рассол и наваливала на чашки весов мокрые глянцевые груды. И вот тут-то в очереди раздался крик:
— Женщины! Кооперацию ограбили!
Это оказалось правдой. Ночью какие-то люди вошли в контору правления, ударом по голове свалили сторожа, взломали деревянный сундук, заменявший несгораемый шкаф, и ушли, унося с собой все его содержимое. Даже документацию.
Берестов и Ряба первыми вошли в ограбленное помещение.
Денис Петрович был уверен, что это дело опять тех же самых рук. Ему казалось, до конца дней своих обречен он, как в кошмаре, бороться с невидимым врагом.
Ничего. Бестелесных врагов не бывает. Нужно собраться с силами и с мыслями.
Все здесь было сделано по правилам. Милиционеры не пустили никого не только в дом, но и во двор. Это уже достижение.
Денис Петрович остановился в дверях и попытался окинуть помещение «взором опытным и зорким», как это и полагается начальнику розыска.
В комнате — стол, стул, сундук и шкаф. Сундук взломан, шкаф открыт. Сундук пуст, из шкафа вывалено все его содержимое.
Отпечатки? Ни одного отпечатка. Чем и как взломан замок? (Настоящий криминалист по характеру взлома определяет иногда не только орудие взлома, но и профессию преступника.) А черт его знает, чем он взломан!
«Постой, сделаем всё по правилам, ведь это только на первый взгляд нет следов, — подумал Берестов. — Концентрическими кругами от периферии к центру».
— Пошли, — сказал он Рябе.
Они стали медленно обходить вокруг дома, когда милиционер показал им на свежий след, обнаруженный им утром на влажной дорожке. «Эх, собаку бы сюда», — подумал Денис Петрович. Однако Хозяйка из губрозыска по таким пустякам не выезжала, им же, как всякому уездному розыску, и во сне не снилась такая роскошь, как ищейка. Денис Петрович решительно пошел к воротам, где толпился народ.
— Бабы! — крикнул было он, но в этот миг его внимание привлекла странная короткая женщина, которая смотрела на него с глубокой верой и вместе с тем с какой-то просьбой, только что не с мольбой. — Ну хотя бы ты, — продолжал он, — не можешь ли раздобыть мне утюг с горячими углями?
В толпе раздался удивленный ропот, но Нюрка тотчас повернулась и побежала.
— Будем снимать след, — тихо на ходу бросил Берестов Рябе, словно они каждый день только и делали, что снимали отпечатки со следа.
На самом деле они должны были произвести эту операцию первый раз в жизни. Впрочем, это было не такое уж и сложное дело: в сухой след (утюг нужен был для того, чтобы высушить сырой песок) выливали гипсовый раствор, а через некоторое время, когда гипс начинал схватываться, в него, для прочности, клали кусочки проволоки.
Осмотр двора не дал результатов — на траве не было видно следов. Берестов собирался уже входить в дом, когда со всех ног прибежала Нюрка, настолько озабоченная, что не слышала смеха, которым была встречена ее нелепая фигура с утюгом в руке. Понимая всю значимость своей особы, она, не глянув, пробежала мимо милиционера и направилась прямо к Берестову.
Послюнив палец, Нюрка приложила его к утюгу. Тот коротко зашипел.
Берестов оглянулся. Милиционеры были заняты тем, что сдерживали толпу у ворот и следили за мальчишками, пытавшимися проникнуть через изгородь; Ряба был нужен при осмотре.
— Пойдем, — сказал он Нюрке и повел ее за дом, где был след. — Держи утюг вот над этим следом, только не дотрагивайся до него. Поняла?
Нюрка кивнула, сейчас же присела на корточки и замерла, держа утюг вершка на три над землей. Берестов посмотрел на нее, усмехнулся и пошел в дом. Он послал Рябу за проволокой, а сам сел разбирать бумаги, выброшенные из шкафа и разбросанные по полу. В окно ему была видна Нюрка, по-прежнему сидевшая на корточках с утюгом в руках.
Он возился довольно долго, когда вспомнил про нее. «Окостенела, должно быть, от усердия», — подумал он и вышел во двор. Она действительно так же сидела на корточках и так же держала утюг, но по щекам текли слезы.
— Ты чего?
— Девушку жалко… — шепнула Нюрка и поджала дрожащие губы.
— Вот оно что! — Берестов с интересом посмотрел на нее и оказал: — Давай утюг, спасибо, что помогла. Пойди, отдохни.
Нюрка с трудом выпрямилась и побрела к воротам. Какая веселая бежала она тогда с утюгом и как тихо брела сейчас!
— Послушай, — вполголоса окликнул ее Берестов, — не говори никому, что ты здесь делала. Просто мне помогала — и все.
Нюрка кивнула головой, лицо ее просияло. «Немного же тебе нужно, простая ты душа», — подумал Берестов.
— Не забудь утюг… — сказал Ряба.
Он уже ждал Дениса Петровича с проволокой и плоскогубцами. Они начали снимать след.
Не без важности вынул Денис Петрович из своей сумки пакет с гипсом, — теперь, начитавшись литературы, он, невзирая на смешки Водовозова, брал особой на задание разные вещи; воск, бумагу, краску, порошок алебастрового гипса — и, видно, не зря. Оставив Рябу сидеть около следа — слепок нельзя было вынимать по крайней мере до вечера, — Берестов отправился в больницу, куда увезли сторожа.
К его удивлению, старик не только пришел в себя, но и был весьма словоохотлив. Он с готовностью рассказал Берестову то, что успел уже по нескольку раз рассказать врачу, нянькам и соседям по палате.
Он собирался как раз попить чайку, когда услышал за спиной шум, однако оглянуться не успел, потому что кто-то схватил его за шею. Он, должно быть инстинктивно, втянул голову в плечи, рука бандита соскользнула, после чего старик изо всей силы ее укусил, кажется, выше кисти. Потом в голове его «возник гром и блеск», и больше он ничего не помнит.
— Так укусил, говоришь? — спросил Берестов.
— Цапнул, тудыть его! — восторженно крикнул старик, ерзая по постели. «Что-то мне сегодня везет», — подумал Денис Петрович, усмехнувшись, и достал из сумки кусок воска.
— А ну покажи, как цапнул, — сказал он, протягивая воск, — и до крови, как ты думаешь?
— Да уж на совесть, — хвастливо подтвердил старик.
В розыске Берестова ждали напуганные члены правления — им нельзя было показаться на улице: в городе бушевали слухи, повсюду говорили, что правление ограбили сами кооперативщики, дабы скрыть следы собственных хищений. В лавках «красных купцов» стояло сплошное ржание. Бабы на фабрике плакали.
— Был в магазине у Кутакова, — рассказывал один из сотрудников, — мука в полтора раза, сахар в полтора, чай вдвое. «Не хотите, говорит, — берите в своей кооперации. Там у вас народ честный. Бессребреники». А кругом приказчики — ха- ха-ха.
Городские старухи неистовствовали.
Они собирались обычно около церкви. Правда, церковь была закрыта, утварь ее продана в двадцать втором году в пользу помгола (помощи голодающим), колокола отосланы на завод, а помещение, как мы знаем, отдано под клуб, однако это не мешало старухам собираться, только не в самом здании, а во дворе. Здесь они шипели вслед «совбарышням» сих стрижеными головами и юбочками до колен, ругали священников-«обновленцев» и все вместе ждали дня страшного суда и прихода антихриста — такие старухи во все времена ждут конца света и прихода антихриста.
В беседах с ними Анна Федоровна омывалась душою и теперь шла с церковного двора в самом покойном состоянии духа. Нюрка сделала было попытку укрыться в ближайших воротах, но Анна Федоровна сама ее окликнула.
— Ну что, — сказала она, даже не поздоровавшись, — Левка-то, выходит, парень не простой.
Нюрка не выдержала.
— Теть Нюш, господи! — взмолилась она. — Ты же знаешь, ты все знаешь!
Анна Федоровна смотрела на нее со снисходительной улыбкой.
— Знать — не знаю, а догадываться — догадываюсь.
— И про кооперацию знаешь? И про девушку?
— Все может быть.
— Теть Нюш, миленькая, вы же с начальником знакомы, вам же ничего не стоит — зашли как бы в гости, а сами как бы невзначай и сказали бы, вроде и оказали, вроде и нет…
— О как, о как, — насмешливо сказала Анна Федоровна. — Больно хорошо.
— Ну а мне бы сказали?
Анна Федоровна посмотрела на нее хитро и стала медленно грозить пальцем, темным и сухим.
Однако Нюрке уже было не до нее: она увидела самого Кутакова. Здоровенный купец-старообрядец в дремучей бороде стоял перед церковными воротами. Он стоял, широко расставив кривые ноги в сапожищах и навалившись грудью на палку и на скрещенные руки: он читал клубную афишу. С ним было трое его приказчиков.
— Спектакля в субботу, — доложил он своим, — сбор в пользу красной кооперации.
Кругом рассмеялись.
— Может, пойдем? — услужливо подыграл один из приказчиков.
— Рад бы, да некогда: в субботу мы сперва-наперва в баню пойдем, потом, подзакусимши, лошадок заложим и отправимся в Новое село обедню стоять. А там, глядишь, и за стол пора. У нас, Слава Христу, есть чем закусить и без кооперации.
Купец говорил нарочито громко, Нюрка слышала каждое слово.
— «Спектакля», — сказал рядом с ней тихий голос, — ну погоди.
Нюрка оглянулась. Около нее стоял начальник розыска Берестов.
Теперь весь розыск искал человека, на руке у которого остался шрам от дедовых зубов. Рябу и Бориса послали в титовскую чайную, где обычно собирались самые подозрительные личности и где бывали оба парня из поселка.
После солнечной улицы титовский «шалман» казался иным миром, — в кухонном чаду, в густой табачной мгле за большими, длинными, как в деревенских избах, столами сидели люди. Сильно пахло жареной печенкой. Чей-то нарочито глупый голос выкрикивал:
Лейся, песня моя, Комсомольская, Буль-буль-буль-буль бутылочка, Советское вино.Люськин и Николай, которых они искали, были здесь.
— Пошли, — решительно сказал Ряба.
— Прямо к ним?
— А что же?
Николай, против обыкновения, был разгорячен или чем-то взволнован и выглядел настоящим красавцем. От него пахло водкой и луком. Люськин был невозмутим, как всегда.
— Нет, ты скажи, где мне их взять! — с тоской говорил Николай.
— Съезди в Петроград, — насмешливо советовал Люськин.
— Разве что Петроград, — сказал Николай и уронил голову на руки.
— Настоящий клеш — сзади не ходи! — поблескивая глазами, продолжал Люськин. — Помнишь, анархия приезжала? Вот это был клеш! Надел бы такой, прошелся — чем тебе не Гарри Пиль?
— Перед кем?! — вдруг взревел Николай. — Перед кем, говорю? Перед кутаковским манекеном?
— А Милка твоя?
Николай ничего не ответил.
— Да, мил друг, пройтись нам с тобой здесь не перед кем. Женщин нет, красоты нет. Сидим в титовской конюшне. А ведь где-то люди, между прочим, на автомобилях ездят.
— А как здесь можно быть одетым — ботиночки «джимми» надеть или костюмчик, — вмешался небольшой толстоватый парень, — сейчас за пылищей ничего не видать, а дожди пойдут, глину здешнюю развезет — сапоги болотные и те не помогут. Какая тут может быть одежда.
— Будет нам простор, — сказал Люськин, — поживем здесь… хозяйством обзаведемся, а там — прощай, папа, прощай, мама, прощай, новая деревня! Так ли я говорю, работнички всемирной? — он неожиданно повернулся к Рябе и Борису, глянув на них внимательным и трезвым взглядом.
Борис не нашелся, что сказать, но Ряба ответил самым невинным образом:
— Зачем же хозяйство наживать, если ты уезжать собираешься?
— Наше хозяйство и с собой взять недолго. Чемоданчик — и пошел.
Ряба толкнул Бориса локтем: вихляя между столами, к ним продвигался половой — одутловатый мужик в грязном фартуке и с тряпкой в руке.
— Ну, мы пошли, — сказал Ряба, вставая.
— Что так? — насмешливо спросил Люськин.
Конечно, если им нечем будет расплатиться, их не выкинут, как выкидывают — страшно, с хрустом костей — у Титова несостоятельных клиентов; наоборот, с них, наверно, даже и денег не спросят — какие счеты! (А от гуляша с луком шел такой горячий запах, — Борис старался не глотнуть — это был бы позор!)
Они вышли на улицу. Был до странности яркий день.
— Черт те что, — говорил Ряба дорогой. — Были бы у нас деньги, посидели бы мы, поговорили, послушали. Николай совсем готов был. Хана нам без денег.
— О чем же он тосковал?
— Разве ты не слышал? О клеше, чтобы улицы мести. Вот чего просит Николаева душа. Впрочем, самое главное мы с тобой видели: ни у Люськина, ни у Николая никаких шрамов на руке нет.
У них не было шрамов, однако это не значило, что они не принимали участия в ограблении. Денис Петрович решил, что пора ему самому взглянуть на этих парней.
Мастерские, где работали Люськин и Николай, располагались в большом сарае. Здесь стояло несколько старых французских станков, «времен первоначального накопления», — подумал Денис Петрович. На стене висела надпись: «За каждый матюг пятьдесят рублей в пользу воздушного флота!» По случаю обеденного перерыва было пусто, только у одного из станков стояли двое парней — один молодой, с неподвижным и неприятным лицом, другой постарше, со скошенным подбородком. Они о чем-то говорили. Денис Петрович сразу узнал их: ему неоднократно их описывали. Он зашел за перегородку и стал их рассматривать сквозь щель.
Парни дрянь, это видно невооруженным глазом. Тот, со скошенным подбородком, он если и храбр, то наверняка только с беззащитными, а придави его немножко… «И все-таки арестовать их я не могу. Это значило бы потерять голову. Да и не имею права».
Страна с трудом отходит сейчас от потрясений гражданской войны. Не меньше, чем хлеб, людям нужно сейчас спокойствие. Каждый должен твердо знать, что ему, если он не сделал ничего худого, не грозит никакая беда.
«Все это так, но что худого сделала бабка, убитая на дороге, или девочка из исполкома? Разве их советская власть не должна была защитить от бандитов? Должна была, и защитила бы, если бы не поручила этого делать такому растяпе, как я».
В который раз возвращался он к этой мысли, и всякий раз она обжигала его горячим чувством стыда. Не смог, ничего не смог! Ведь у людей нет оружия, им даже запрещено его иметь, оружие дали ему, Берестову, чтобы он защищал своих сограждан. А он ничего не смог! Позорное, унизительное бессилие!
Когда он ездил в Горловку, где брали Кольку, в другом конце уезда какие-то бандиты обобрали деревню, и будь он семи пядей во лбу, он не смог бы. этого ни предугадать, ни предотвратить. Если бы им, сотрудникам розыска, не помогали бы местные коммунисты и комсомольцы, они и вообще ничего не смогли бы сделать.
Да, но чем виновата Ленка, едва прожившая двадцати лет?!
В сотый раз продумывал он это поселковое дело. Левкина банда отличалась от всех остальных, действовавших в уезде. Те хоть и прячутся, а все-таки на виду. Знаешь, что за люди, сколько их, кто помогает, хоть приблизительно, а знаешь. А эта — бестелесна. Существует ли на самом деле этот Левка?
И все-таки взять сейчас этих двоих парней значило бы потерять голову. Может быть, даже те облавы и повальные обыски в поселке ночью, когда убили Ленку, может быть, и они были ошибкой. Разве облавами чего-нибудь добьешься?
Самое страшное в том, что за спиной, за самой спиной твоей стоит еще один невидимый враг!
Дело с ограблением кооперации тоже не двигалось с места. Гипсовый след, снятый во дворе правления, ни к какому следу не подошел. Работники розыска (в том числе и сам Денис Петрович) без разбору рассматривали все встречающиеся руки — это просто стало какой-то манией, — но все было напрасно. Гипсовый слепок с дедовых зубов, страшно оскалясь, валялся в столе у Дениса Петровича. Один только Ряба не унывал и старался всех утешить.
— Что вы хотите? В наше время даже центророзыск — с какими криминалистами! — годами ловит банды. Что же с нас спрашивать, у нас же кругом кулачье…
Имя Ленки в розыске, словно сговорясь, никогда не поминали.
— Сдается мне, — сказал как-то Денис Петрович Водовозову, — что весь этот шум в поселке — убийства, собственно бессмысленные, столб, дорога и все прочее — они подняли для того, чтобы отвлечь наши силы и свободно орудовать в других местах.
Он был прав. В уезде усилился разбой. Волостные милиционеры рассказывали, что Левка со своими парнями обирает окрестные деревни. «Прямо данью обложил, Денис Петрович. Наезжает, грузит муку, окорока на подводы, забирает, что получше, — и прощай. А спроси ты в такой деревне: кто был, куда уехал? Никто ни слова. Но по деревням его не поймаешь. Гнездо его нужно искать, Денис Петрович».
И вот недалеко от города был нагло ограблен поезд, а обер-кондуктор, пытавшийся, видно, оказать сопротивление, сброшен на ходу под колеса. Берестова вызвали в транспортный трибунал.
Денис Петрович давно понимал, что неприятностей с этим делом ему не избежать, что рано или поздно поднимет крик прокурор (унылый человек с вечно больными почками), что потеряет терпение уисполком, завопит губерния, — и все они будут правы. Но меньше всего хотелось ему иметь дело с трибунальским следователем.
К тому времени революционные трибуналы отжили свой век и были повсюду уже упразднены — только армия и транспорт сохранили еще эти суровые суды со всеми их атрибутами. И нужно же было, чтобы именно Морковин оказался трибунальским следователем!
Впервые они столкнулись этой зимой из-за беспризорников.
Как-то раз Берестову повстречался старик Молодцов, машинист.
— Что же это вы, товарищи партейные, — сказал он с насмешкой, — ребятишек в холодную сажаете? Этого даже и сам царь-батюшка не делал.
— Вы про что?
— Сходи на вокзал, посмотри.
На вокзале в нетопленной комнате на каменном полу сидели беспризорники, грязные, синие, со сведенными от холода ногами. Их вытащили из подвагонных ящиков, в которых они думали добраться до юга, и посадили сюда по распоряжению Морковина. Один из них был совсем мал.
Денис Петрович отменил морковинский приказ (чего делать не имел права), а затем весь розыск доставал какую-то обувь, талоны в заводскую столовую, койки в общежитие, чтобы как-то пристроить окостеневших от холода пацанов. Через три дня их отправили в колонию.
— А знаете ли вы, что они все по дороге разбежались? — зловеще спросил потом Морковин Дениса Петровича.
— Так живые же разбежались! — весело ответил тот. — У вас бы они не разбежались.
Таково было его знакомство с Морковиным.
Следователь не поднял головы, когда вошел Денис Петрович, и продолжал писать. «Ну, этим нас не возьмешь, — сказал себе Берестов, сел в кресло и закурил. — Работай, работай, — говорил его взгляд, — мы люди свои». Морковин поднял глаза.
— Куришь? — спросил он.
Денис Петрович молча потянулся к пепельнице на столе и стряхнул пепел.
— Покуриваешь? — повторил Морковин. — А бандиты на свободе погуливают? Я бы на твоем месте не курил.
В другое время и другому человеку Берестов рассказал бы, как трудно ему приходится, и попросил бы совета, но тут он ответил только:
— Почему бы мне, собственно, не курить?
— Докуришься, — бросил Морковин и принялся снова писать.
Денис Петрович стал его разглядывать. «Что же ты за человек?» — думал он.
— Кто ограбил кооперацию? — вдруг опросил следователь, не переставая писать.
— Не знаю.
— Кто совершил убийство в поселке?
— Не знаю.
Морковин поднял голову.
— Меня не раз уже спрашивали, — сказал он, — кто и сколько тебе дал, чтобы ты бандитов найти не мог.
Денис Петрович встал и вышел из кабинета. Ничего другого делать он не стал — не ругаться же с Морковиным. Но того чувства стыда, с каким он отвечал «нет» на морковинские вопросы, он забыть не мог.
Денис Петрович знал, что столкновение с Морковиным повлечет за собою множество неприятностей, что следователь обязательно взвинтит прокурора, натравит губернию, к этому он был готов. Но что против него поднимется собственный его розыск — этого он не ожидал никак. Первая начала Кукушкина, но ее, как это ни странно, поддержали остальные. Они требовали внеочередного собрания.
— Зачем внеочередное, пора уже очередное, — спокойно сказал Берестов, — необходимо обсудить вопрос о сборе на Воздушный флот.
— Вы смеетесь, Денис Петрович! — воскликнул Ряба. — Жалованья же нам не платили! Откуда же нам взять?
— Три месяца назад, когда нам еще платили, — так же спокойно продолжал Денис Петрович, — мы купили немного облигаций хлебного займа. Не знаю, как вы, а я свои отдаю на Воздушный флот. Он стране необходим. А тебе, Ряба, я вот что окажу: работницы на нашей фабрике не лучше нас живут, да еще и нас с тобой кормят три раза в день, и притом бесплатно.
Это была правда. Работницы фабрики порешили на собрании бесплатно кормить милицию и розыск в кооперативной столовой. Столовая эта была ужасна. Дежурным блюдом здесь был не то суп, не то каша из пшена с сильным запахом рыбы. Правда, однажды по городу пронесся слух, что повар собирается изготовить сырники, однако сырники эти, как писала потом «Красная искра», «были без сметаны, без масла, а с одними только тараканами». И все- таки это была столовая.
— Конечно, — продолжал Берестов, — Титов кормит лучше. Можешь пойти к нему.
— Денис Петрович! — взревел Ряба и почему-то схватился за бок, где у сотрудников под пиджаком скрывалось оружие.
— Ладно, ладно, — рассмеялся Берестов, — потом объяснишь. У меня все дела. Давайте ваши.
Первая заговорила Кукушкина:
— Прошу прощения, но медлительность начальника розыска мне непонятна. Происходят убийства, все знают, кто убийцы, а мы оставляем их на свободе.
— А кто знает, что они убийцы?
— Весь поселок говорит, весь город знает! — крикнул кто-то из угла.
Тут Берестов встал. Он выждал паузу, а потом поднял голову и сказал:
— Советская власть говорит нам: революционная законность. Понимаете, законность. Наш советский закон. Никому не интересно, какие там у нас соображения, важно только то, что мы можем доказать. Это в революцию, в войну у нас подчас не было времени разбираться, а теперь у нас война кончилась. Вы знаете закон, недавно мы все впервые его читали, знаете, в каких случаях мы вправе арестовать человека, сами знаете, что ни один из них не подходит к нашему, случаю. Мой предшественник мог схватить человека, и держать его два, три, четыре месяца, никому не говоря. А есть закон — в течение двадцати четырех часов мы обязаны сообщить судье или прокурору, и мы будем делать так, как велит закон, он правилен. А если бы мне по знакомству удалось убедить судью дать свою санкцию, то я бы все равно делать бы этого не стал. Что мы знаем об этих парнях? Они в поселке убили кошку? Это законом не наказуется. Правда, все мы чуем в них бандитов, но это наше личное дело. Мало ли кто что чует. Вот один с-сукин сын, — тут Берестов покраснел, — сказал мне вчера, что я от бандитов взятки беру, он это чует. Значит, расстрелять меня надо — и все.
— Кто сказал?! — опять вскакивая, крикнул Ряба. — И вы ему в морду не дали?
Все зашумели. Даже Водовозов подался вперед и тревожно взглянул на Дениса Петровича («Не так еще плохо жить на свете», — подумал тот).
— А! — Берестов махнул рукой. — Сволочь одна. Неважно. Важно другое. Есть еще один закон: взяв человека по подозрению, мы можем держать его только два месяца. А дальше что? Вот возьмем мы этих парней, с ними, кстати сказать, оборвется наша последняя нить, если они действительно в банде. Два месяца пройдут очень быстро, придется нам их выпускать. Вот и все.
— А пока убийство за убийством?
— Значит, мы с вами шляпы и дерьмо. Значит, мы ничего не сумели найти и ничего не могли доказать. А хватать людей — это самое простое дело. Нет, мы должны взять их с поличным, доказать их вину, отдать под суд. И мы возьмем их с поличным и отдадим под суд.
— Твоими бы устами да мед пить, Денис Петрович, — сказал Водовозов, когда они остались одни.
— Извелись ребята, — ответил Берестов, — это хуже всего. Эх, как нам нужна сейчас удача!
Удивительно, до чего же ты заполнила мою жизнь с тех пор, как переселилась сюда, на кладбище. Мне казалось раньше, что я только о тебе и думал, а на самом деле я, кажется, всегда только думал. Теперь не то, теперь я совсем о тебе не думаю, просто ты живешь во мне и во всем. Каждую минуту встречаю я тебя на улице, ты выходишь из-за каждого угла. И что бы ни случилось — ну, просто солнце заходит, или дождик идет, или воз едет по улице, — решительно все это имеет к тебе прямое отношение. Если бы я верил в бога, я бы сказал, что ты стала чем-то вроде божества, которому молится все на свете, и что лес склоняется над твоей могилой. Но только и этого мне мало. Я совершенно в твоей власти, Ленка.
Была ты бешеной, радостной, и маузер на боку, — а кончилось все здесь, за маленькой оградкой, которую мы с Рябой сделали три дня назад. Вон на могиле Зубковой стоит безносый ангел, у него чешуйчатые крылья, куда въелась многолетняя грязь. Это была, кажется, генеральша. Ну да все равно…
Тогда утром Хозяйка сразу же взяла след. Мы ломили с ней через чащу и опять до той же самой реки — ты помнишь этот обычный их ход. Каждый день я в этом лесу. Сперва (подхожу к тому месту, где, говорят, ты лежала — между корнями сосен, что растут у дороги. Потом иду по лесу. Все надеюсь, что увижу что-нибудь, чего не заметили сразу, — ведь это бывает? Вчера встретил там Дениса. Было очень рано и роса. Мы не заговорили и даже не поздоровались. Ты была с нами, дорогая.
Денис не сразу рассказал мне, как это произошло, ему очень не хотелось рассказывать, но все-таки он рассказал. Луна светила очень ярко, все было бело и хорошо видно. Ты шла не оглядываясь и высоко держа голову. Легко несла перекинутые через плечо узлы. Слишком уж независимо, говорит Денис. Еще бы.
В такой тишине, должно быть, выстрел прозвучал очень страшно. Мы все думали, что они остановят тебя, как останавливали до сих пор всех, а они стреляли в спину. Потом кто-то из них подбежал посмотреть, как ты умираешь. Первым выстрелил Водовозов, за ним Денис Петрович. Парни бежали в лес.
Ты шла, высоко подняв голову. А кончилось все здесь, недалеко от ангела «бывшей Зубковой». Как это говорили на твоей могиле: «Она умерла, но дело, за которое она отдала жизнь…» Все это так, все так, но они не должны были говорить этого при мне. «Она умерла, но…» Я не могу этого слышать.
Сейчас я встану с земли и пойду, я зашел к тебе ненадолго, мне нужно к Денису. До сих пор мы не можем смотреть друг другу в глаза, мы все время помним, что нет нам прощения. И все-таки, наверно, никто никогда не был так тесно связан, как мы трое сейчас связаны тобой. Знаешь, это я вот сейчас так сижу и говорю с тобой, а тогда хотел стреляться, благо он при мне. И только одна мысль останавливала тогда — не для того мне его дали, чтобы я стрелял в себя. Ну, я пойду, дорогая моя земля, дорогая моя трава, маленькая и редкая, что успела уже прорасти.
Глава II
Денис Петрович соскочил с поезда и, зарываясь сапогами в песок насыпи, сбежал вниз. Было почти совсем темно, однако строительство моста, которое он разыскивал, было видно и слышно издалека. Долина реки была полна костров — настоящих и отраженных в воде, слышались удары металла о металл.
Пока Денис Петрович в поисках Дохтурова бродил меж костров, ему казалось, он снова на фронте: ночной привал, запах горящего валежника, люди у огня, река, лошади, лес, небо над головой. Только платформы, стоящие на подведенной к строительству узкоколейке, груды металла да грохот показывали, что это был не военный, а рабочий лагерь. Мост, уже забрел далеко в воду своими устоями, там горели фонари, ползали люди, оттуда и слышался грохот.
Дохтурова он встретил у костра, где сидели рабочие-кашевары.
— На послезавтра уже не хватит? — озабоченно спрашивал инженер.
— Самое большое на полдня, Александр Сергеевич.
— Хорошо, — сказал Дохтуров и тут увидел Дениса Петровича. — А, приехали все-таки? — радостно сказал он. — Пошли.
Они шли истоптанным берегом, то и дело попадая в полосу жара, что шел от огня.
— Комар закусал, Александр Сергеевич! — крикнул им; от костра какой-то мужичонка, яростно расчесывая спину.
— И ты его кусай, — сказал сидящий рядом с ним парнишка.
Инженер рассмеялся. Этот парнишка, по имени Тимофей, был его любимцем, и он (кажется, тщетно) старался, чтобы это было не очень заметно окружающим. Заваленные хвоей, костры щедро дымили.
— Сегодня в одном американском журнале, — говорил дорогой Дохтуров, — увы, нашел свою конструкцию. А я-то думал, что до меня никто таких мостов не строил. Зато в одном деле я их перехитрил.
Дохтуров был в сапогах и свитере, отчего тело его казалось особенно гибким и сильным, лицо легко оживлялось улыбкой, глаза поблескивали в свете костра. Денис Петрович с интересом Смотрел на него — он никогда до сих пор не видал своего друга на строительстве.
Инженер глядел вверх, где четкие, словно проведенные рейсфедером, шли по ночному небу провода.
— Скоро ток будет, — сказал он. — Вот если бы нам сварку, мы бы показали, на что мы способны. Да аппаратов не достать. Петроградский «Электрик» выпустил первые в этом году, но пока только две штуки. Может, удастся старые раздобыть— вот тогда пошло бы дело, не то, что молоточками клепать. Степан Егорыч! — окликнул он старого рабочего. — Ты когда-нибудь на сварке работал?
— Нет, Лександр Сергеич, не стану те врать, — ответил тот. — Я ее в глаза не видал.
Они отошли далеко от реки.
— Где-то здесь мой Сережка бегает, — заметил инженер, оглядываясь, там сухостой для костров валят. Теперь его до рассвета в шалаш не загонишь. Пошли повыше, где комаров нет.
Они вышли на пригорок, сели на поваленное дерево и закурили. Было тихо, грохот строительства долетал сюда далеким звоном. Медленно завладела ими лесная тишина.
Над черной массой деревьев стояла одна очень яркая звезда. Пел соловей. Его чистый щелк и посвист и тоже чистые, словно водяные, трели далеко разносились бы по лесу, если бы не желудочные голоса идиоток-лягушек, блаженствующих в болоте внизу.
— Хоть бы постыдились, — шепотом сказал Берестов.
— Что вы! Разве вы не слышите, как у них удалась жизнь, как им тепло и мокро в их тине, а болотные пузырьки, наверное, так приятно бегут по брюшку.
Они посмеялись и снова стали слушать. Теперь пели уже два соловья, их чистую песню не могло заглушить лягушечье урчание.
— Люблю такие лягушечьи ночи, — сказал Денис Петрович шепотом.
— А вы знаете, их жрут совы.
— Лягушек?
— Нет, соловьев. Соловей — единственная птица, которая поет ночью, и сова вылетает ночью.
Берестов ничего не ответил.
— Ну, отдохнули и хватит — зло сказал он вдруг, — больше нам не положено. Зачем вы меня звали?
— Хотел рассказать вам одну историю и никак не мог сам к вам выбраться. Была у меня встреча с Левкиными парнями. Да, представьте себе. Мы возвращались ко мне домой, я и Митька Макарьев. Вы не знаете его? Это давний мой друг, работает здесь десятником. Утром вы его увидите. Нас было двое, и пошли мы прямо по дороге. Шли, разговаривали. Прошли мост у пруда, вошли в лес. Видим: впереди темнеют две фигуры — ждут. «Отступления не будет?»— опрашивает Митька. «Не будет», — говорю. «Начнем?» Нет, я решил подождать: ведь вполне могло быть, что это ваши ребята из розыска охраняют дорогу. Увы, это не были ребята из розыска… Потухла. Дайте прикурить. Один из них, — продолжал Дохтуров, — сказал, не считая даже нужным понизить голос: «Возьми на себя папашу (это Митька), мне оставь долговязого» (это я). Бедные парни, они не знали, с кем имеют дело. Митька на вид эдакий куль с мякиной; кажется, пни его — он ляжет и никогда не встанет. Но это только так кажется. Первым ударил я, как у нас было условлено, ударил несильно в челюсть, и именно так, как хотел: парень полетел под Митькину правую руку. А Митькина правая рука это все равно что паровой молот. Парня только что не расплющило о дерево. А в это время под Митькину правую уже летел второй — мое дело было маленькое. Словом, сопляки они, ваши знаменитые Левкины парни.
— Тем хуже для нас, — мрачно сказал Берестов.
— Вы думаете, Денис, что боретесь с этим десятком парней? О нет, совсем нет. У вас куда более серьезный враг. Вы боретесь с разрухой и белогвардейщиной, с кулачьем и дезертирами. И с мещанством.
— Кабы иметь дело с одним только мещанством! Мы бы, пожалуй, справились. Мещанство не стреляет, это тишина, болото…
— …чай из блюдечка, герань на окне, канарейка, — все это ерунда. Мещанство очень даже стреляет. Вы не были в Германии накануне войны и не видели, как жаждал крови немецкий мещанин. А вот еврейские погромы вы уже наверняка видели. Уверяю вас, и это, и наши банды — все это мещанство, ставшее на дыбы, мещанство с оружием в руках. Оно страшно не тем, что сонное и благодушное, оно страшно ненавистью, подозрительностью и- низменностью своих страстей. Я его видал.
Дохтуров замолчал, быть может вспоминая. Лягушки почему-то разом затихли.
— И его хлебом не корми, — продолжал инженер, — только дай полюбоваться на какую-нибудь «сильную личность».
— О, тут вы правы. Недавно выезжали мы брать Кольку Пасконникова, о котором вы, вероятно, слышали. Кровавый бандит, мразь последней степени, а видели бы вы, как его встречали в деревне «высшие слои»! Ехал он в небольшой тележке, кони разубраны, краснорожий от самогона. А девицы, затянутые в ситцевые кофты, в башмаках с подковами и в сережках, цветы ему бросали. Как лицо императорской фамилии!
Они опять помолчали. Каждый вернулся к своим мыслям.
— Плохи у вас дела, друг? — спросил инженер.
— Хуже не бывает. А самое страшное — подозрение и недоверие. Можете вы себе представить мое положение: даешь задание собственному своему сотруднику, на самом же деле это не задание, а ловушка. Такие сети плету, самому тошно. Плету и молюсь, чтобы никто из наших в них не попался. Есть у нас такой милейший парень Ряба, — так я думал, со стыда сгорю…
— Всех проверяете?
— Всех.
— А этот ваш Водовозов?
— Павлу я верю, как самому себе, — резко сказал Берестов, — его бы я не стал проверять, как не стал бы проверять вас.
Они замолчали, на этот раз надолго.
— Вернемся к вашей встрече с бандитами, — сказал Берестов.
— Да, я очень хотел вам помочь тогда и задержать хоть одного из парней, но в лесу раздался свист, а мы были безоружны. Поэтому, когда парни побежали, я остановил Митьку, который рвался в бой, и затолкал его в овраг, что недалеко от дороги; лесною тропкой мы вернулись домой. Не знаю, разглядели ли они меня, но на всякий случай я держу Сережу при себе. Бабку, я думаю, они не тронут (кто же мстит через тещу!), а относительно Сережи меры принять не мешает. Да и за него страшновато — мальчишку в последнее время не узнать. После того как на дороге убили эту девушку, его словно подменили, по ночам бормочет и вскрикивает. Денис Петрович…
— Что? — глухо ответил Берестов.
— Я хотел спросить…
— Лучше… не спрашивайте.
— Хорошо, — поспешно сказал инженер.
— Сейчас я еще не могу.
И они снова молчали.
— Опять же вернемся к поселку, — сказал наконец Дохтуров.
— Вот что, для начала я постараюсь достать вам разрешение на право носить оружие. Вы бы в лицо их узнали?
— Конечно. Да если бы они к вам на следующее утро пришли, вы бы их тоже узнали.
Берестов рассмеялся.
— А кто вас драться научил, вы помните?
— Еще бы не помнить. Начальник здешнего угрозыска.
— Вам пора спать, наверно. Вы прошлую-то ночь спали?
— Что-то не припомню, — ответил инженер, и было по голосу слышно, что он улыбается. — Пошли, хорошо здесь.
Берестов уехал на рассвете, так и не повидав знаменитого Митьки Макарьева.
В розыске читали «Красную искру», где появилась статья Берестова. «Говорит начальник розыска» — называлась она.
«Ограблена кооперация, — писал Денис Петрович, — деньги, которые с таким трудом собрали наши работницы, захвачены врагами советской власти. Пошли слухи, что кооперацию ограбили сами кооператоры, дабы скрыть следы якобы хищений. Не верьте этим слухам. Все документы на месте, в порядке и будут завтра представлены на собрании пайщиков. Но интересно другое: кому понадобилось тащить из сундука кооперации ненужные бумаги? Ответ может быть только один: грабители, ничего не понимая в документации, унесли их, думая, что уносят важные документы. Вряд ли нужно доказывать, что это сделали не кооператоры, а какие-то люди, которые хотели бросить на них тень. Чего же лучше? — двойной удар: и без денег и с запятнанным именем. Нет, так просто мы нашу кооперацию врагу не отдадим. Мы, работники розыска, сделаем все, чтобы вернуть похищенное, схватить и обезоружить врага».
Рябе статья Берестова очень понравилась. «Просто как Некрасов пишет», — говорил он.
Нюрка затаскала до дыр газету, которую ей прочитал сосед. В самой подписи «Берестов», казалось ей, кроется какая-то магическая сила. А последние слова были приговором для преступников и вызывали чувство гордости за всемогущего начальника розыска. Если бы она знала, каким беспомощным чувствовал он себя!
Вскоре после этого встретила она Дениса Петровича на улице.
— Эй, помощница! — окликнул он. — Ты, кажется, за кооперацию болеешь. Пошли со мной.
Нюрка побежала за ним, не помня себя от волнения и даже не спросив, куда они идут. А шли они к самому большому дому в городе, дворянскому особняку, который все еще назывался «дом бывшей Зубковой». Берестов и Нюрка поднимались по широкой мраморной лестнице, такой слепяще белой, словно она была сделана из сахара-рафинада. Казалось, она начнет крошиться под сапогом Дениса Петровича. Нюрка, робея, ступала но ней своими веревочными тапочками — такие тапочки из грубой веревки во множестве плели тогда женщины.
В небольшом зале, куда они вошли, было довольно много народу, к Нюркиному удивлению, здесь были не только депутатки из исполкома, но и все крупные и мелкие торговцы города, каких она знала. Был здесь и Кутаков. Нюрка ничего не могла понять: торговцы поднимались один за другим и жаловались на невыносимо трудную жизнь. А Берестов смотрел на все это светлым взглядом, каким глядят в бесконечную даль, куда-нибудь за реку.
— Красные купцы самооблагаются, — объяснил Денис Петрович, не отводя взгляда.
Это он добился в исполкоме «самообложения» нэпманов налогом в пользу кооперации.
— Как хотите, граждане, — говорил высокий старик, владелец чайной Титов, — деньги с нас все одно взыщут. Так давайте же добровольно поможем нашей красной власти.
Денис Петрович пришел сюда потому, что ему хотелось поближе взглянуть на этих «красных купцов». Именно среди них, казалось ему, нужно искать виновников ограбления. Их он и имел в виду в своей статье.
Борису статья тоже очень понравилась, но сказать об этом Берестову он не решился. Он вообще сейчас не осмелился бы заговорить ни с ним, ни с Водовозовым и старался возможно реже попадаться им на глаза. Но чем меньше он их видел, тем острее чувствовал и переживал все, что имело к ним отношение. Когда Денис Петрович помянул о выдвинутых против него обвинениях («Говорят, я от бандитов взятку беру»), Борис воспринял это как тяжкое личное оскорбление.
В глубине души он допускал, что подобное сказать мог Морковин, но ему не хотелось бы так думать про человека, который был соратником отца.
Однако, к удивлению Бориса, когда он осторожно заговорил об этом с Морковиным, тот и не думал отпираться. Напротив, лицо его посветлело, и под усами мелькнула улыбка.
— Задело, значит? — спросил он. — Хорошо! Ты не думай, я сам не верю, что твой Берестов взятки берет; если бы верил, был бы у нас другой разговор. Но так он бездеятелен, так неповоротлив, что захотелось мне его, понимаешь, подхлестнуть.
Борис думал было возразить, но следователь прервал его:
— Знаю, знаю. Пасконников, Сычов и другие подвиги. Да это ли нам нужно?! Ведь кругом-то все огнем горит, здесь нужен человек, который бы сам как огонь был! И хочешь обижайся на меня, сынок, хочешь нет, а я бы твоего Берестова расстрелял.
Борис вскочил, а Морковин рассмеялся:
— Ты молод еще и не знаешь суровых законов революции. Если для спасения сотен и тысяч людей нужно расстрелять одного — расстреляй, и ты будешь прав. Это простая арифметика революции; не зная ее, мы бы не победили. Если бы мы сейчас твоего Берестова расстреляли, на его место первый встречный бы уже не пошел: э, нет, здесь горячо, место жжется. А уж кто пришел — работал бы на совесть. И жизнь сотен людей была бы спасена.
Морковин подмигнул ему, как бы говоря: «Так- то», и перевел разговор.
Борис долго думал потом над его словами. Морковинская арифметика казалась правильной, и что- то в ней было недопустимо. «Ведь это почти тот самый вопрос, который задавал Ряба, — вспомнил он, — если для счастья человечества нужно пролить кровь трехлетнего ребенка…»
— Чего раздумывать! — воскликнул Ряба, когда он поведал ему о своих сомнениях. — Пошли, спросим у Дениса Петровича.
Борис медлил, ему не хотелось идти к Берестову, однако Ряба самым решительным образом направился к кабинету начальника.
Берестов разговаривал с Водовозовым, который, как обычно, стоял у окна. Борису казалось, что он не видел обоих несколько лет.
— Денис Петрович, — сказал Ряба, беря быка за рога, — можно для блага тысячи людей расстрелять одного?
Борис покраснел. Ведь никому из них и в голову не могло прийти, что поводом для этого разговора был предполагаемый расстрел самого Дениса Петровича. Он чувствовал себя так, словно действительно совершил какое-то предательство.
— Для блага тысячи расстрелять одного? — повторил Берестов. — Одного невиновного?
— Ну пусть даже и так.
— Так вообще и вопрос поставить нельзя.
— Но ведь у Горького Данко вырвал свое сердце, чтобы осветить путь людям! — пылко воскликнул Ряба.
— Так свое же, а не чужое, — откликнулся от окна Водовозов.
— Ну со своим сердцем тоже следует быть осторожнее, — искоса взглянув на него, промолвил Денис Петрович, — а в общем Павел прав: странно было бы, если бы Данко осветил дорогу с помощью сердца, вырванного у соседа.
Но Ряба, как всегда, остался недоволен:
— Вы вот шутите, Денис Петрович…
— Вовсе нет, — серьезно ответил Берестов, — и вопрос этот не шуточный. Но он конкретный, понимаешь, а не общий. Я не могу тебе дать такой, ну, что ли, арифметический рецепт. Дело это страшное, и оно заключается в том, кого и ради чего. Бывали случаи — не дай бог вам этого видеть, — приходилось, но тогда мы знали, кого и ради чего. Но были у нас такие резвые мальчики — во имя революции, ради счастья человечества, ура! И «получалось, что человечество-то вообще, а пуля попадает в живого.
Берестов и Водовозов остались одни.
— Ради счастья человечества, — одного невиновного, — задумчиво качая головой, повторял Денис Петрович. — Неважное же это человечество, которое согласилось бы получить счастье на этих условиях. Но вернемся к нашим делам. У меня такой план. Я решил искать грабителей среди тех, кому выгодно уничтожить кооперацию.
— Быть посему, — ответил Водовозов.
Он сидел напротив Берестова, положив руки на стол, и Денис Петрович по привычке сейчас же уставился на эти руки.
И замер.
На правой руке чуть повыше кисти были видны следы зубов — два ясных полукружия, светлые на темном фоне.
Этот след, который он так часто мечтал увидеть, теперь словно заворожил Дениса Петровича, он не мог от него оторваться, а когда с трудом поднял глаза на Водовозова, тот тоже смотрел на свои неподвижные руки. Потом стал медленно розоветь, вскинул взгляд на Берестова, и взгляд этот разгорался каким-то странным огнем.
— Ну, — сказал он, — может быть, наложим слепок?
— Может быть, — неестественно веселым, самому себе противным голосом ответил Денис Петрович и открыл стол. В голове его как-то все сдвинулось, ему хотелось сказать: „Пашка, проследи, чтобы этот мерзавец со шрамом от нас не ушел“.
— Давай, — не спуская с него все так же нестерпимо сияющего взгляда, Водовозов слегка придвинул свою большую руку.
Как ненавидел Денис Петрович в этот миг свой проклятый слепок! Он вынул его дрожащей рукой и ничего сказать, хотя бы для приличия, уже не мог.
— Давай, — повторил Водовозов и ближе подвинул руку.
Однако не нужно было даже и прикладывать этот слепок, чтобы убедиться, что он совершенно не подходит. Просто не имеет ничего общего.
— Да, это кусали совсем не те зубы, — медленно сказал Павел Михайлович.
Берестов швырнул слепок об пол и быстро вышел из комнаты.
Он не мог заснуть всю ночь. „Помрачение! — думал он. — Как я мог! По первому же дурацкому стечению обстоятельств… Как мне ему теперь в глаза глядеть!“
Утром, чтобы не идти в розыск, не встречаться с Водовозовым, Денис Петрович пошел в уком, а потом в Совет, однако рано или поздно им все равно нужно было встретиться, поэтому во второй половине дня он — решительно направился к розыску.
В кабинете у него сидел Водовозов.
— А я уже заждался, даже вздремнул, — сказал он, — однако у меня к тебе два дела.
— Какие? — спросил Берестов, не глядя на него.
— Одно вчера пришло, я не успел тебе его передать. В монастыре за рекой Ершей праздновали престол, а у них там в пасху, в рождество Христово, в духов день, да вот еще в престол из старой мортиры палят.
Берестов взглянул ему в лицо. Павел Михайлович смотрел на него насмешливо и весело и еще как- то, отчего у Дениса Петровича сразу стало легко на душе. „Друг ты мой дорогой“, — подумал он и сказал улыбаясь:
— Ну и что же мортира?
— Дак разнесло же ее к чертовой матери, — так же смеясь глазами, сказал Водовозов, — и одному послушнику грехом ступню отхватило.
— Тут и разбирать нечего. Отдай милиции.
— Ладно, — охотно согласился Водовозов, — это одно. А второе… — он встал и слегка расправил плечи, — … второе это то, что слепок твой со следа подошел.
— Кому?! — заорал Берестов, вскакивая.
— Титовскому приказчику, или как он там, половому из чайной.
— Но как же ты до него допер?
— Сам же ты велел за ними следить. Я взял сперва самого Титова, потом его челядь. Знаешь, Прохоров — паскудный такой парень. А кроме того…. — Водовозов искоса посмотрел на него, — …на руке у него следы зубов… более похожие… и красивее… Правда, еле заметные.
Некоторое время они смотрели друг на друга, а потом расхохотались.
— Пиши ордер на арест, — сказал Берестов, — и уведомление в суд: арестован такой-то. Чем мы не красные детективы?
Теперь они снова были неразлучны. Дурацкий эпизод с „зубами“, как ни странно, уничтожил ту напряженность, которая возникла в их отношениях после несчастья с Ленкой. Теперь они снова могли разговаривать друг с другом, как прежде, или часами, каждый за своим делом, сидеть вместе, не произнося ни слова. Только о Ленке они никогда не говорили — это была запретная зона.
— Ну как тебе у Рябы? — опросил как-то Водовозов.
— Лучше не надо. Клавдия Степановна — сама доброта. Только все стесняется своей необразованности и спрашивает все: „А это по вашим законам можно, а это дозволено?“ Робкая женщина. А в общем хорошо, никто не шмыгает кругом, все надежно — Рябин дом.
— То-то, — назидательно сказал Водовозов. Он сидел за столом, разбирая папку со старыми делами. Денис Петрович сидел, курил и присматривался к своему сапогу, который требовал починки.
— Что-то Бориса не видать, — сказал Павел Михайлович, — мелькнет, доложится — и нет его. Мрачный, в глаза не глядит.
— Зато ты веселый, — насмешливо заметил Денис Петрович.
Они замолчали: это была запретная тема. И все- таки спустя некоторое время Водовозов продолжил разговор.
— Я — это немного другое дело.
— Почему это?
Вдруг Водовозов поднялся, подошел сзади к Денису Петровичу, обнял его за плечи и сказал с нежностью и весело:
— Потому что помру я скоро.
Берестов хотел было вскочить, но Водовозов крепко держал его за плечи.
— Сиди, сиди, — сказал он смеясь. — Сиди.
— Ты что, — испуганно опросил у него Берестов, наконец поворачиваясь, — предчувствие у тебя такое, что ли?
Водовозов вернулся на свое место. Лицо его было каким-то особенно светлым. Берестов испугался еще больше.
— Пашка!
Водовозов с удовольствием потянулся, прищурился и сказал:
— Да не принимай ты всерьез всего, что я сбрехну. Поживем еще, старый друг. А за руку меня тогда, между прочим, пьяная самогонщица укусила, когда я у нее аппарат отнимал.
Берестов буро покраснел.
— Ничего, — сказал Водовозов, — все мы немного здесь рехнулись. Постой, еще и не то будет.
Титовский приказчик оказался парнем неразговорчивым и не пожелал даже сказать, откуда он родом.
Скоро обнаружилось, что он имел все основания скрывать место своего рождения. Он был из Дроздовки — его опознал волостной милиционер. Берестову это название не говорило ничего, зато Водовозову оно говорило многое. Два года назад здесь восстали дезертиры. Они разгромили волостные учреждения, в том числе и военкомат, захватили оружие и расстреляли всех местных советских работников. Водовозов с отрядом комсомольцев, вооруженных берданками „времен турецкой кампании“, ездил тогда в Дроздовку, вступил в бой с бандитами, в результате которого потерял двоих ребят, сам едва не погиб, но советскую власть восстановил. Банда бежала в лес. Часть из них позже перешла к Сычову, а часть… Возможно, что истоки Левкиной банды следовало искать в Дроздовке.
Нужно было отправлять туда кого-то из розыска, однако денег на это решительно не было. Стали собирать кто что может: кто по рублю, кто облигации; напекли булок из шефской муки и снарядили Рябу в путь.
Результаты были неожиданно удачны. Ряба узнал, что из Дроздовки несколько месяцев тому назад скрылось трое парней — сразу же после ограбления сельской кооперации. Все они оказались в этом уездном городе, одним из них и был Прохоров, титовский приказчик. Остальных решено было пока не брать.
Это и была та удача, о которой мечтал Берестов: он начал вплотную подходить к банде.
Ты знаешь, дорогая, я думал, они меня уволят, просто выгонят из розыска — так уж все сложилось. Но они этого не сделали. И все-таки я чувствую стену, которая нас разделяет. И пока не явлюсь к ним с точными доказательствами, я не успокоюсь. Я их тоже понимаю: после всего, что случилось, они не могут мне полностью доверять.
Из-за этого всего получается как-то странно — я веду „частный сыск“. Прямо с ног сбиваюсь, нужно поспеть и тут и там. Не знаю почему, ко мне обратилась одна женщина. Обратилась — это не то слово.
Она подбежала ко мне в сумерках, когда я шел из розыска, и сказала дрожащим голосом: „Скажи начальнику, чтобы проследил за своей хозяйкой“. Речь идет, конечно, об этой лошадиной челюсти, у которой Денис Петрович недавно жил. Я решил проверить это дело сам и кое-что уже понял.
Сегодня шел по улице, луна светила, та самая, большая, белая, скользящая за деревьями. Я шел и думал: теперь это ко мне не относится. Это больше не имеет ко мне никакого отношения. Она светит не только в парке на старую скамейку, она светит и на кладбище.
Я все думал: неужто так несчастливо сложилась твоя судьба, что лучший друг твой предал тебя на смерть. Ты писала девочке, а письмо попало к злой и жестокой бабе, низкой бандитской марухе. Ты прости меня, но здесь я буду беспощаден: я не знаю, быть может, ты бы и простила — я не прощу никогда. Я до нее доберусь. Не сердись.
Ты знаешь, все последнее время я чувствую себя в розыске чужим, да и не только в розыске, мне кажется порою, что я теперь чужой во всем мире. Ведь никто, даже Ряба, даже друг мой Костя — никто не знает, как мне худо.
Вообще неладное со мной творится. Я не могу слышать имени Левки. Стоит мне услышать это слово— а его повсюду произносят теперь довольно часто, — как словно бы ток проходит через мое сердце, мгновенный удар. И ночью, не успею я заснуть, какой-то голос, всегда один и тот же, говорит вдруг: „Левка!“, за этим следует толчок, удар, взрыв, черт знает что — и я вскакиваю. Это так неприятно, что порою я боюсь засыпать, иначе проклятое слово может застать меня врасплох.
Левка! Мы встретимся, мы непременно встретимся, иначе и быть не может. Говорят, он силен, безумно храбр и осторожен, как лесной зверь. Ничего.
Когда Борис приехал в поселок, он не подозревал, конечно, какое волнение вызовет его приезд в душе одного из поселковых ребят.
Сережа не знал, что ему предпринять. Ему необходимо было поговорить с Федоровым, и притом немедленно, но вчера он встретил на улице Семку Петухова, и тот назвал его „сыном спеца недорезанного“. Сережа не мог этого забыть. А вдруг и Федоров откажется с ним разговаривать и назовет его „сыном спеца недорезанного“? Ведь Борис комсомолец, и Семка говорит, что он комсомолец, только слышно: „Мы, комса, то, мы, комса, это“. Однако Сережа не очень-то ему верил.
Словом, поговорить с Федоровым ему было необходимо. Да и очень хотелось.
Как-то утром Борис вышел во двор за водой. Был он босиком я оттого показался Сереже милее и проще. Вот он остановился, рассматривая что-то на земле, а потом потрогал это что-то большим пальцем ноги. Жука, что ли. Сережа решился и вошел. Борис доставал воду из колодца, а Сережа стоял, раздумывая, как его назвать. Отчества он не знал, сказать „товарищ Федоров“ ему очень хотелось, но он не отважился. Борис сам почувствовал его взгляд и повернул голову.
Перед ним стоял ушастый паренек и смотрел на него живыми темными глазами.
— Чего тебе?
— Мне… — Сережа судорожно глотнул, — мне необходимо с вами поговорить.
Борис удивленно поднял брови, поставил ведро на землю и сказал:
— Ну давай.
Сережа давно приготовил свою речь.
— Вчера вечером я пробрался к тети Пашиной даче, в самые кусты под окном, и подслушал разговор Люськина с Николаем. Сегодня ночью у них свидание с кем-то в сторожке лесника.
— А кто ты такой?
— Я Сережа Дохтуров.
— Сын инженера Дохтурова?
Сережа помолчал.
— Да.
— О, так это ты так вырос? Ты же недавно совсем пацаном был. В котором часу будет это свидание?
— В час ночи.
— Кто-нибудь знает об этом?
— Что вы!
— А почему ты говоришь об этом мне?
— Потому, что я знаю… Потому, что я не в первый раз… Помните, корпуса…
— Вот оно что, — Борис с уважением присвистнул.
Сереже вдруг стало очень весело.
— Елки-палки, — сказал он (тогда среди ребят принято было говорить „елки-палки“), — я побежал. Меня ждут ребята.
— Какие ребята?
— О, у меня здесь организация. Целый детский сад.
Никто Сережу не ждал. Он убежал только из страха испортить чем-нибудь замечательный разговор. „Как я ему остроумно сказал про организацию: целый детский сад, — думал он. — Надо же такой удаче“.
Однако на улице он действительно встретил свою „организацию“ — снедаемого любопытством Витьку со стаей ребятишек. Теперь они часто бегали по поселку вместе, все выглядывая и ко всему прислушиваясь.
— Зачем ходил к Федорову? — быстро спросил Витька.
— Бабка за спичками посылала, — ответил Сережа без всяких угрызений совести.
— А почему ты тогда улыбаешься? — подозрительно спросил Витька.
В эту ночь били молнии, все розовое небо дрожало и билось, как в час страшного суда.
Скользя по хвое и палым листьям, курткой смазывая с деревьев размокшую кору, проваливаясь в колдобины с лесной водой, Борис шел к сторожке. Деревья градом сбрасывали на него воду, но это было неприятно только в первый раз, когда капли поползли по спине, — от этого он почему-то почувствовал себя одиноким, — а потом он очень скоро промок, и вода согрелась около его разгорячённого ходьбой тела.
„Как было бы хорошо, — думал он, — подслушать какой-нибудь важный разговор или проследить бандитского связного“. Что Сережа Дохтуров не соврал, в этом он был уверен, единственно что — это ом мог напутать.
Во время дождя лес всегда переполняется запахами. Сейчас в нем пахло водой и лимоном.
Борис хорошо знал этот лес, много лет они ходили сюда за грибами и ягодами. Здесь были темные сухие еловые чащи, заваленные ржавой хвоей, в которой сидели боровики; лужайки, где в высокой траве — отсиживались рыжики, пережидая, когда уйдут опасные мальчишки; через лес шел заброшенный проселок, усыпанный по колеям маслятами, большими и маленькими, похожими на мокрые пуговицы. Борис знал все земляничные пни и поляны, знал, где в густой кустарник вплетаются кусты малины, — да и мудрено ему было не знать.
Однако теперь, когда молнии вспыхивали и гасли, а лес с его пнями, кустами и кочками вставал весь белый и исчезал в слепую тьму, он был незнаком, в течение короткой вспышки трудно было понять, где находишься, и Борис боялся сбиться с пути. Шел он довольно долго, а маслятной дороги все еще не было.
Да, теперь этот лес был не только незнаком, но и враждебен. Здесь вились тропки, по которым бандиты сходились в сторожку, здесь нужно было быть осторожным, а ему, Борису, особенно: бандиты могли знать, что он работает в розыске.
Вспышки молнии не успокаивали, они показывали какой-то призрачный лес. А дождь повсюду тихо шумел в листве.
Вдруг Борис поскользнулся, раздавив целую семью поганок, и еле устоял на ногах, обнявшись с мокрым березовым стволом.
И в то же время при вспышке молнии увидел человека.
Это был высокий человек в кожаном и блестящем от дождя пальто.
Наступила слепая тьма, в которой ясно были слышны хлюпающие шаги. Человек шел той самой дорогой, где росли маслята. Не дыша, осторожно, как воду, разводя кусты, Борис шел следом. Лес снова осветился.
Человек шагал, засунув руки в карманы пальто. Что-то в нем было знакомое. Они шли довольно долго, пока не вышли на просеку.
Как это ни странно, вид человека подействовал успокаивающе, несмотря на то что человек этот, по всей вероятности, был врагом. Реальная опасность, требующая действия, всегда лучше неопределенных страхов.
Внезапно незнакомец повернулся весь и выстрелил в сторону Бориса лучом фонарика. Ослепленный, беззащитный в ярком свете, Борис кинулся бежать во тьму, которая, казалось, одна могла его спасти. Мокрые ветки хлестали его по лицу, ноги вкривь и вкось попадали на кочки, пни и в колдобины, однако он не падал, сохраняя полуобморочное, порожденное страхом и быстротой равновесие. По следу ломился противник.
Потом оказалось, что это не так. Ничего не слышно было в лесу. Но Борису он казался страшным.
Как ни мгновенно было все происшедшее, молния сверкнула раньше, чем фонарик, и Борис узнал этого человека. Это был Водовозов.
А жизнь в поселке „под бандитами“ как-то нормализовалась. Убийства и грабежи прекратились, в доме у тети Паши было тихо. Молодежь стала снова собираться в клубе на бревнах. Люськин и Николай начали входить понемногу в поселковую жизнь. В немалой степени тому способствовал старый „харлей-давидсон“, мотоцикл, с которым они подолгу возились на улице, окруженные тучей ребятишек (Сережа с его „организацией“ никогда не подходил к ним, хотя и ему мотоцикл снился по ночам).
Как-то желтым закатным вечером у клуба собралась большая компания. Пришла и Милка Ведерникова.
Она не любила теперь сюда ходить. В поселке к ней относилась совсем не так, как прежде, ее сторонились, около нее образовался какой-то мертвый круг.
Тяжело давалась Милке ее любовь. Встречи с Николаем были по-прежнему безмолвны. Вскоре после несчастья с Ленкой они снова встретились в лесу, снова лежали в темноте на Николаевой куртке. Поднявшись на локте, Милка старалась разглядеть его лицо. В слабом ночном свете оно было незнакомо, и страх, что это лежит кто-то другой, мгновенно охватил ее.
— Холодно что-то стало, — сказала она.
Он придвинулся ближе, но ничего не ответил. Теперь виден был один глаз да странно искаженный рисунок рта. Это был не он.
— Я все думаю и думаю, — сказала она.
— Брось ты.
О, какое облегчение почувствовала она. Слава богу, это был его голос!
— Вот ты не поверишь, я не забываю ее ни на минуту, ни днем, ни ночью, никогда. Все представляю себе, как она идет одна в лесу.
— Брось ты, что теперь расстраиваться.
— Говорят, это Левкина банда.
— Эти могут. Постой.
Он приподнялся и стал из-под пиджака, на котором лежал, тянуть какой-то сучок.
— Всю спину исколол, проклятый.
— А ты их знаешь?
— Кого это?
— Левкиных парней.
— Сказала тоже.
Он снова лежал на спине, подложив одну руку под голову. Ленивый спокойный голос его не оставил в ней сомнений, с величайшим облегчением упала она к нему на грудь, и он прижал ее к себе свободной рукой.
— Жалко Ленку, подружку мою, ох жалко, — рыдала она.
Он молчал.
— Неужели тебе не жалко?
— Все равно все помрем, чего там расстраиваться и переживать.
А сильная рука его теснее прижимала ее к груди, как бы говоря; „Не бойся, я все понимаю, только говорить не хочу об этом“. И Милка верила этой руке.
— Ты знаешь, как мы с ней познакомились, — сказала она, чувствуя, что не стоило бы говорить с ним о Ленке, и вместе с тем не в силах преодолеть своего желания говорить о ней. — Года три тому назад случилось со мной, что заболела я в поезде, да так заболела, что потеряла сознание и меня сгрузили на какой-то станции. Как все это было, я не помню, мне рассказывали потом, что валялась я на вокзале на полу, — представляешь, одна, на вокзале, в те годы. Очнулась я, — продолжала она с тем же чувством недовольства собой и неуместности своего рассказа, — очнулась я, гляжу… нет, не гляжу, а слышу — стучат колеса, едем. Потом чувствую — тепло, и вижу — в темноте горит огонь. Потом вижу — сапоги. Так странно все. Колеса стучат, тени ходят, рядом сапоги, ничего понять не могу. Вижу, что словно топится печка и сидит против нее солдат в шинели — это его сапоги. Оказывается, я в теплушке агитпоезда, посередине ее буржуйка, знаешь, местами прямо даже прозрачная, так сильно она раскалилась. От нее шел жар, а спине— как сейчас помню — было холодно, потому что стены вагона были в инее. А солдат этот и была Ленка.
Он ничего не сказал, и молчание длилось довольно долго.
Тогда, испугавшись, что надоела ему своими слезами и воспоминаниями, она заговорила о том, что, по ее мнению, должно было бы его заинтересовать.
— Был сегодня в своих мастерских?
— А как же.
— Ну как там?
Больше она не знала, что сказать. Он не ответил, а только лениво отвернул от нее лицо.
В таких случаях она заставляла себя думать: „Я не ценю своего счастья. Смотри, какая прекрасная ночь, какие звезды, как хорошо, что он рядом, вот я слышу его сердце. Да я с ума сойду завтра, когда буду вспоминать об этом!“
Но на душе у нее была тоска.
И вот Милка пришла в клуб, чтобы встретить здесь Николая, которого не видела несколько дней. Они вообще виделись редко.
Народу собралось много, щелкали семечки, разговаривали. На самом верхнем бревне водрузился Семка Петухов.
— Скоро у нас электричество будет, — сказал кто- то, — электростанция, говорят, почти уже готова.
— Она будет введена через месяц, — живо сказал Сережа Дохтуров, радуясь, что может так хорошо использовать полученные от отца сведения, — и даст пятьсот киловатт.
И тут же понял, что совершил ошибку, привлекши к себе внимание Петухова.
— Тебе бы надо сперва в рабочем котле повариться, — заметил тот сейчас же, — а потом уже разговаривать. И тем более разглашать государственные тайны.
— Он не хочет вариться, — быстро проговорила Милка, и все рассмеялись.
— Да и какая же это тайна, — вставил кто-то.
— А я, например, знаю, — явно раздражаясь, ответил Петухов, — что если бы не саботаж спецов, ее бы давно построили. И что к ней приставлен усиленный наряд, потому что ее могут взорвать не сегодня- завтра.
Вот тут-то и раздался голос, на который не обратили тогда достаточного внимания:
— Умные речи приятно и послушать.
Только тут все заметили, что бревно, на котором раньше сидели „Левкины парни“ и которое долгое время оставалось пустым, было вновь занято. Все они были здесь и по обыкновению молча курили. Странные эти слова — впрочем, странными были не сами слова, а тон, каким они были сказаны, — так вот, слова эти произнес тщедушный паренек, спокойно обращаясь к своим товарищам. Те молча повернули к нему носы, потом один за другим загасили цигарки, поднялись и ушли. Тщедушный паренек ушел вместе со всеми. Николай тоже.
Этот тщедушный паренек был Левка.
— Так вот, поселковый петух навел меня на мысль, — сказал он своим, когда все они собрались в деревенской избе, неподалеку от поселка. — Я, конечно, давно ее обдумываю, но сегодня она приняла конкретные формы.
— Чего он сказал? — шепотом спросил один из парней у другого.
— Не понял, — так же шепотом ответил тот.
Все сидели, ходил один Левка.
— Вообще дела оборачиваются довольно серьезно, дети мои, Берестов оказался совсем не таким простачком, каким мы его представляли. Он добрался до Прохора, и добрался крепка. Я не боюсь, что Прохор слегавит, не такой он дурак, я боюсь, что через него Берестов доберется и до остальных дроздовцев.
А это уже трое, это уже худо. Нет, видно, от советской власти, дети мои, никуда не денешься, она явно победила, и с этим ничего не поделаешь. Наши надежды на заваруху, будем говорить правду, не оправдались. Придется нам идти навстречу советской власти.
— Вот прирежем еще парочку советских граждан и пойдем, — вставил Люськин.
— Самое большее, пристрелим одного и пойдем» — серьезно ответил Левка.
— И Берестов встретит нас с распростертыми объятиями.
— Берестова мы сметем со своего пути.
Теперь уже все с величайшим-вниманием смотрели на узенькую верткую фигурку, мотавшуюся из угла в угол лесниковой избы. Левка был одет в старую куртку, потертые бриджи и краги. Только белье он — как полагается «истинному джентльмену» — носил ослепительно белое. Широкий ремень опоясывал его под самой впалой грудью. Лицо его было бы заурядным, если бы не странные туманные глаза.
В банде при Левке всегда было двенадцать человек, не больше и не меньше: Левка любил символику чисел (двенадцать апостолов, двенадцать знаков зодиака, двенадцать наполеоновских маршалов), — но после ареста Прохорова их было одиннадцать, и теперь все одиннадцать не отрываясь глядели на своего главаря, понимая всю важность начатого разговора.
— Наши успехи, мальчики, временны, они основаны на случайном стечении обстоятельств. Да что говорить, мы и теперь не осмеливаемся перенести базу даже в такой задрипанный городишко, как наш. И самое большее, что мы можем сделать, это резать ребятишек и бабушек в поселке энской губернии да порхать по деревням. Если советская власть займется нами всерьез, от нас перышки полетят. А мне, например, терять свои перышки не хотелось бы. Значит, мы должны примириться с советской властью, и мы сделаем это торжественно, под звуки «Интернационала», и уж конечно принесем на алтарь отечества, нашего советского отечества, жирную жертву.
— А кто будет жертвой? — быстро спросил Люськин.
Левка, казалось, не слыхал этого вопроса, он задумался.
— Все как будто так, — медленно сказал он, глядя в потолок, — впрочем, я еще не советовался с мамой.
Никто не удивился. Все знали эти Левкины штучки, все сотни раз уже слышали о Левкиной матери, а некоторые удостоились чести ее лицезреть. Это была красивая интеллигентная дама в антикварных серьгах. Если верить Левке, он не только посвящал ее во все дела, но и не предпринимал без ее совета ни единого шага.
— Я еще не посоветовался с мамой, — так же задумчиво продолжал он, — однако, помнится, нечто подобное мы с нею уже обсуждали. Думаю, она не станет возражать. Я поеду к ней сегодня же, поскольку дело не терпит отлагательств. Вам я пока могу изложить его в общих чертах. На железной дороге у меня есть, ну, скажем, доверенное лицо. Кто это такой, значения не имеет. Это доверенное лицо…
— А ну, ребятки, по одному, — сказал, входя, хозяин избы.
Горница мгновенно опустела. Левкины парни разбредались по кустам.
— Ты успел что-нибудь понять? — спросил один из парней, Васька Баян, когда они с Люськиным пробирались в темноте по знакомым тропинкам.
— Кажется, — задумчиво ответил Люськин.
— А я так ничего не понял. Ох у Левки же и голова! С ним не пропадешь, верно?
— Не пропадешь? — насмешливо повторил Люськин. — Пока он не захочет, чтобы мы пропадали. Этот мальчик…
— Что-то я тебя не пойму, — тревожно проговорил Васька.
— Значит, ты его сегодня не слушал, а я слушал. Он чует, что в наше время деньги — вещь ненадежная, всякий может спросить, откуда они у тебя. На людей с большими деньгами смотрят косо, того и гляди к ногтю возьмут. Нет, Левке не одни деньги — власть нужна Левке. А вот когда он до власти дорвется, мы с тобой… А, ч-черт, чуть глаз не выколол!..
Они продирались кустами.
— …мы с тобой ни на черта ему не будем нужны, и тогда…
— Мы можем и раньше от него уйти.
— Уйти? — злобно переспросил Люськин. — Думаешь, зря он нас посылал ребятишек в поселке резать? Э-э, нет, браток, мы с ним крепко этой кровью связаны, никуда от него не уйдешь. Да и торопиться нам некуда, не только мы с ним, но и он с нами связан, потому и властью своею он с нами поделится. Но когда он до власти дорвется, за ним тогда глаз да глаз…
Глава III
Надо же было ему встретить в лесу Водовозова! И как раз в то время, когда в розыске перестали ему доверять. Будь это не Павел Михайлович, Борис не испугался бы — так ему, по крайней мере, хотелось думать. Но здесь, ночью, в лесу, встретить кого-либо из своих товарищей по розыску он не мог. Кто поверит, что он шел выслеживать бандитов, а не передавать им очередные сведения?
Вот если бы он первый сообщил им о сторожке, это было бы другое дело, но он опоздал: раз Водовозов был здесь, в лесу, — значит, в розыске уже знают об этом бандитском гнезде. Да, Павел Михайлович тоже не сидит сложа руки, ему, должно быть, известно много больше, чем Борису, и он, так же как и Борис, жаждет отомстить за Ленку.
Все как-то странно и опасно запутывалось. Водовозов, дружбу которого он мечтал завоевать, Водовозов, которому подражал (как, впрочем, почти все ребята в розыске), мог теперь заподозрить его в измене и уличить. Надежда была лишь на то, что Павел Михайлович его не узнал в темноте. А если узнал? Что он сделает? Соберет сотрудников, скажет Берестову, будет требовать расследования? То, что в их отношениях было лишь трещиной, грозило превратиться в пропасть.
Он почувствовал, что не может более оставаться в неизвестности. Нужно было ехать в розыск. Нужно было немедленно увидеть Водовозова. «Кто знает, — думал он, — может быть, там уже всё узнали, всё порешили и ждут только меня, чтобы…»
Словом, Борис немедленно поехал в город, так и не увидев в этот день Милку Ведерникову.
Первый, кого он встретил в розыске, была Кукушкина.
— Павел Михайлович? — переспросила она. — Павел Михайлович в семь часов утра вернулся с задания. На час ходил домой — наверно, едва успел позавтракать и умыться, пришел с еще мокрыми волосами.
Кукушкина, видно, гордилась своей точностью и наблюдательностью.
— В восемь пятнадцать привели двоих спекулянтов, ему пришлось самому их допрашивать…
«Вот знание дела, — с содроганием подумал Борис. — Чует ли Водовозов, что каждый шаг его учли и запомнили?»
Он решительно направился к кабинету Водовозова, Кукушкина двинулась за ним. Видно, не могла упустить случая лишний раз взглянуть на Павла Михайловича.
— Что тебе, Борис? — спросил Водовозов, спокойно поднимая на него глаза. Казалось, он только что был за тридевять земель отсюда.
— Пришел спросить, не будет ли каких распоряжений.
Вопрос был не очень удачен, так как задания на день получали у дежурного и обращаться за ними к начальству не имело никакого смысла.
— Да нет, — очевидно думая о чем-то своем, ответил Павел Михайлович, — сейчас, в общем, ты мне не нужен.
У Бориса отлегло от сердца.
Не успел он выйти от Водовозова, как его позвал к себе Берестов.
— Сядь, Борис, — сказал он мягко, — рассказывай, что у тебя. Давно мы толком не видались.
— Есть у меня к вам дело, Денис Петрович.
— Ты мне лучше скажи, — блеснув глазами, прервал его Берестов, — зачем ты около моей старой квартиры ошивался?
— А вы откуда знаете? — смущенно спросил Борис.
— Да мне по должности моей вроде положено, как говорится.
Борис осмелел. Да и вообще после разговора с Водовозовым у него стало весело на душе.
— А знаете ли вы, кто такая слепая Кира? — спросил он.
— Конечно. Огромная такая баба, похожая на тряпичную куклу.
— А знаете ли вы…
— Что у нее собираются наши дружки? Знаю. Только ты, пожалуйста, за ними не очень-то следи, не то они переполошатся. И вообще прекратил бы ты эту самодеятельность, от нее гораздо меньше проку, чем ты думаешь.
— Значит, и про Анну Федоровну знаете?
— Знаю, конечно. Это вредная, но, в конце концов, просто до смерти любопытная старуха. Ну а что ты еще знаешь? — Берестов улыбался.
«Я и про сторожку знаю», — хотел было похвастаться Борис, но в кабинет ворвалась Кукушкина.
— Товарищ начальник розыска, — рявкнула она, — считаю долгом вам доложить, что во вверенном вам розыске имеет место саботаж относительно кружков.
Денис Петрович покорно вздохнул.
Во дворе Бориса поджидал Водовозов.
— Ты ему рассказал? — озабоченно спросил он.
Борис молчал, не понимая.
— Ну, Денису Петровичу про вчерашнюю нашу встречу, — нетерпеливо продолжал Водовозов. Он смотрел Борису в глаза, взгляд его был странен и настойчив.
Сперва Борис опять ничего не понял. Потом понял, что происходит нечто немыслимое. И наконец понял, что Берестову ничего не известно про лесную сторожку и что Водовозов почему-то не хочет, чтобы стало известно.
А Павел Михайлович все смотрел ему в глаза своими прекрасными сумрачными глазами, и Борис ничего не видел, кроме этих глаз.
Больше они не сказали ни слова. Борис отрицательно покачал головой: нет, мол, ничего не сказал, — а Водовозов кивнул, повернулся и пошел в дом.
«Что же это могло значить? — в который раз уже спрашивал себя Борис. — Чего он хотел от меня? Что скрывает от Берестова? Почему взвалил на меня такую тяжесть?»
Вот, оказывается, где начинается настоящее испытание, когда не помогут ни искусство стрельбы, ни стальные мускулы. Недоверие…
Прямо посмотрел тогда Водовозов ему в глаза, неужели он навязывал Борису измену? В это трудно было поверить. Но если совесть его чиста, почему о сторожке нельзя говорить Берестову?
И все-таки он посмотрел Борису прямо в глаза.
Вновь и вновь вспоминал он этот взгляд, который говорил: «Я знаю, ты меня любишь, ты сделаешь так, как я прошу». Кто же не любил Водовозова! Да, Борис всегда сделал бы так, как хотел Павел Михайлович, но имел ли он право это делать? Имел ли он, комсомолец, право скрывать от начальника, от товарищей все то, что произошло в лесу, не сообщить о бандитской «квартире», которую сейчас так легко было бы взять. Быть может, молчанием своим он спасает Левку, и Водовозов не разрешает ему…
Ох, непосильную тяжесть взвалил на него Павел Михайлович. Еще не так давно он мучался оттого, что Водовозов перестал ему верить, а теперь, как это ни странно, стал несчастлив потому, что Водовозов оказал ему доверие. Оно словно стеной отгородило Бориса от товарищей и, кто знает, может быть, сделало его изменником.
Нет, он обязан выполнить свой долг. На первом же собрании он потребует, чтобы Павел Михайлович объяснил коллективу, каким образом он оказался ночью в лесу и что ему там было нужно. Коллективу… Но ведь и Кукушкина тоже «коллектив» — кто допустит, чтобы Кукушкина судила Водовозова, кто поверит, что Кукушкина более права, чем Водовозов?! «Нет, как бы вы ни старались представить дело, — с внезапным раздражением подумал Борис, словно кто-то другой, а не сам он, подозревал Водовозова, — для меня Водовозов будет в тысячу раз более прав, чем Кукушкина».
До самого вечера бродил он по городу, не в силах вернуться в свое одинокое жилище. «Если бы ты только знала, — думал он, — как тяжело мне приходится и как трудно жить без тебя».
И куда бы он ни шел, темная водокачка, высившаяся над домами, отовсюду смотрела на него.
«Да что же я, в самом деле, — подумал он, — нужно просто пойти и рассказать все Берестову. Ему можно рассказать все». И Борис решительно направился к розыску.
Еще издали разглядел он небольшую фигурку Рябы, который шел по улице, поддавая ногою камешки, казалось, весьма беспечно. Однако, подойдя к нему, Борис увидел, что он и задумчив и взволнован одновременно. Несколько раз с тревогой и вопросительно взглядывал он на Бориса — и у того сжалось сердце.
— Ладно, — начал вдруг Ряба. — Скажу.
Борис молчал.
— Сказать?
— Ну давай.
— Я влюблен, — в голосе Рябы были вместе и отчаяние и гордость. — Влюблен, и всё. И представь себе, в актрису. Ты меня презираешь?
— Зачем же?
— Первый раз я увидел ее на сцене — она играла Свободу, ее красные бойцы — все девчонки — несли на плечах, и знаешь, что меня поразило? Глаза…
— Обязательно глаза, — раздался сзади них насмешливый голос.
Они обернулись — это был Водовозов.
— Не влюбляйся, Ряба, в актрис, — продолжал он, — актрисы — женщины коварные.
Борис посмотрел ему в лицо. «На что ты меня толкаешь? — мысленно спросил он. — Что мне теперь делать?»
«Делай как знаешь», — ответил высокомерный взгляд Водовозова.
И Борис ничего не сказал в тот день Берестову. Он долго стоял тогда задумавшись, пока не заметил, что Павел Михайлович уже ушел, а Ряба встревожен и удивлен его молчанием. Борис стал поспешно вспоминать, о чем они говорили.
— Так это и есть твоя тайна? — спросил он.
— Не вся. Есть еще одна, — весело ответил Ряба.
Вторая тайна была раскрыта через два дня, когда Ряба привез из «губернии» удивительную машину — древний «ундервуд», огромный и черный, как катафалк. Если ткнуть желтую клавишу, машина приходит в движение, лязгает всеми частями и оглушительно выбивает букву.
— Ну вот, — удовлетворенно сказал Ряба, — теперь можно добиваться штатной единицы.
— Какой единицы?
— Секретаря-машинистки-делопроизводителя. А как же? У нас все дела позорно запущены, папки перепутаны, тесемок нет…
Ряба вел атаку планомерно. Оказывается, у него и секретарь был подыскан — девушка из клубной самодеятельности, замечательная актриса, которая будет, конечно, замечательным секретарем. В этом не может быть сомнения.
Вообще Ряба был прав: дела копились и путались, попытка приспособить к ним Кукушкину успехов не имела. Да и диковинный «ундервуд» просто требовал секретаря-машинистку. Однако против всех этих планов вдруг выступил Водовозов.
— Обходились без секретарей — как-нибудь проживем без них и дальше.
— Правда, обходились мы неважно, — ответил Берестов.
— Да и о человеке нужно подумать, — вступил Ряба, — кругом безработица, а ей, наверно, и есть нечего. Золотой же человек!
— Ты этого золотого человека давно знаешь?! — с неожиданным бешенством спросил Павел Михайлович.
— Порядочно, — нерешительно ответил Ряба.
— Ну сколько?! — с тем же бешенством продолжал Водовозов. — Пять лет, десять?
Ряба промолчал.
— Что же ты… тащишь к нам эту актрисочку… да еще в такое время, когда…
В общем и Водовозов был прав: если уж брать нового человека, то проверенного и опытного. Только вот на Рябу жалко было смотреть: он так давно и так хорошо все это придумал!
В тот самый день, когда Ряба принес «ундервуд», в городе с поезда сошла дама. В руках ее был старинный ридикюль, под мышкой маленькая дрожащая собачка.
Колеблясь как стебель, дама постояла некоторое время на перроне, а потом пошла и села на лавочку, видно отдохнуть. Собачку она, низко склонившись, поставила на пол.
Молочницы, сидевшие в ожидании поезда среди мешков и бидонов, единодушно уставились на необычную гостью. Дама сидела выпрямившись, как примерная девочка. Маленькая головка на длинной шее, перевязанной черной бархатной ленточкой, многоярусные серьги. Она сидела недвижно, только моргала редко и нервно, словно даже и не моргала, а вся вздрагивала, отчего серьги качались. Между тем собака ее подошла к молочницам. Деревенские женщины, загорелые, в белых платочках до бровей, с интересом рассматривали хлипкого зверька. Собачка постояла, потряслась, оставила непомерно большую лужу и пошла прочь. Дама поспешно подобрала ее, повернулась к молочницам и сказала вежливо:
— Пардон.
Женщины напрасно пытались удержаться от смеха, они прыснули одна за другой и долго еще смеялись вслед уходящей даме.
Она же направилась в город, долго здесь блуждала, пока не нашла домика слепой Киры. Постучала.
— Кто ета? — спросили за дверью.
— Свои, свои, — ответила дама страдальческим голосом.
— Ктой-то свои, мы что-то таких своих не знаем.
— От Льва Кирилловича, — так же страдальчески и нетерпеливо ответила дама.
— От Левки, что ли?
— Да, да.
Дверь открыла сама хозяйка — огромная баба без глаз.
— От Льва Кириллыча, — ворчала она. — Сказали бы — от Левки, так от Левки, а то от Льва Кириллыча какого-то.
Дама присела на табурет, моргая и вздрагивая больше обычного. Видно, ее все раздражало, особенно же гостья хозяйки, старуха с лошадиной челюстью.
Дама вынула золотой карандашик и написала:
«Дорогой мальчик, сроки неожиданно изменились, все будет гораздо раньше, чем мы предполагали. Завтра тебя известят. Будь наготове. Мама».
Когда «мама» ушла, слепая Кира сказала Анне Федоровне:
— Может, хоть раз сослужишь нам службу — снесешь записочку? Мы бы тебя не забыли.
— Э, нет, уволь, — отвечала Анна Федоровна, — я вас под пыткой не выдам, но и в ваши дела не мешаюсь. Уволь.
— Пошлем с парнишкой, — сказала слепая Кира.
Борис все еще не решил, как ему поступить, когда Берестов сам пришел к нему на помощь.
— Что это с тобой делается, Борис? — спросил он.
И тогда, заперев дверь кабинета и перейдя на шепот, Борис рассказал ему все.
— Значит, у них в сторожке назначено было свидание, — спросил он, — и в это же время туда пришел Водовозов.
Они посмотрели друг на друга. Да, получалось так. И тут Денис Петрович медленно опустил голову на руки. Как жалел его Борис в эту минуту и как понимал: следить за другом значило вычеркнуть его из числа друзей. Но мог ли начальник розыска не проверить, если возникли такие подозрения?!
— Этого не может быть, — сказал Денис Петрович, решительно поднимая голову, — и все-таки я проверю— а там пусть судит меня судом нашей дружбы.
— Может, это сделаю я?
— Ты ли, я ли — какая разница, — устало сказал Берестов. — Важно, что мы это сделаем, раз не можем не сделать. Но лучше действительно тебе, мне… невмоготу.
Впервые в жизни Борис чувствовал себя таким взрослым.
— Конечно, это сделаю я.
Вечером Денис Петрович вызвал к себе Водовозова.
— Кстати, — сказал он как бы между прочим, усиленно роясь в столе, — сегодня ночью я думал нагрянуть к слепой Кире.
— Зачем?!
— Последнее время я снял слежку с их квартиры. Думаю рискнуть. Устал я, понимаешь, сидеть сложа руки.
Напрасно Павел Михайлович убеждал его в неразумности этого плана. Берестов стоял на своем.
— Когда пойдем? — мрачно спросил Водовозов.
— Ладно, иди уж, братец, спать (о, как противно это «братец»!). Я сам пойду с хлопцами, вот посплю на диване часов до двух, а в два пойду. Здесь недалеко.
Следом за Водовозовым из розыска вышел Борис. Темнело, на краю неба в желтых и синих полосах потухала заря. Город засыпал рано и, заснув, походил на деревню. Где-то, как всегда, лаяли собаки. Борис шел и старался не думать о том, что делает. Он вообще старался ни о чем не думать.
Водовозов шел посредине улицы и был хорошо виден — широкие плечи, галифе, ноги, затянутые в сапоги. Он шел спокойным и точным шагом военного. «Иди, иди, — думал Борис, — только прошу тебя: ни с кем не встречайся и ни с кем не говори». Водовозов беспрепятственно дошел до дому.
«Господи, пронеси, — думал Борис, стоя в темной щели между сараем и чьим-то курятником. — О, если бы все было в порядке!» Наступила глубокая тишина. Он стоял и слушал, как кряхтят и сонно шевелятся на своем насесте куры. «Хорошо, по крайней мере, здесь собак нет», — думал он. Небо начало светлеть, на его фоне дома и деревья стали обозначаться плоскими черными тенями, а потом выступили вперед, окрашенные в легкие и дымчатые утренние цвета. Потянул ветерок.
Внезапно страшный крик прорезал тишину. Это заорал петух в курятнике. Идиот.
Ничего. Светает, а со светом рассеивается и весь этот кошмар, теперь уже каждая минута, уходя, приносит надежду, нет, не надежду — уверенность. «Всё в порядке, дорогой Денис Петрович. Никого я не видал и не слыхал, кроме петуха».
«Ленка, Ленка, ох и выдала бы ты нам за эту проверочку. Ох и шипела бы — страшно подумать. Конечно, ты права, родная. Мы виноваты».
И тут в доме открылась дверь.
Из дома вышла невысокая женщина и сейчас же пошла прочь. Дверь за нею захлопнулась. Было около четырех часов ночи.
Женщина. Борису стало неприятно, что он оказался свидетелем каких-то личных дел Водовозова. И все- таки он пошел за нею следом.
Женщина шла долго, прошла почти весь город, пока не остановилась около хорошо известного Борису домика слепой Киры.
Ах, пропади все пропадом!
Свет маленькой керосиновой лампы не мог справиться с мраком и сизым табачным дымом. Денис Петрович сидел, по-прежнему опустив голову на руки, но, видно, не спал, потому что поднял ее, как только Борис вошел.
Лицо Дениса Петровича было рябым и белым, следы оспы, обычно мало заметные, проступали теперь на нем очень ясно, темно глядели глаза.
«Он пьян», — вдруг подумал Борис.
Берестов неподвижно смотрел на него. «Пережди, перетерпи эту минуту, — думал Борис, подходя и садясь против Дениса Петровича. — Впрочем, ты все уже понял».
Конечно, Денис Петрович все уже понял.
— Давай, — сказал он, — как это было.
Борис рассказал. Берестов молча слушал.
— Да ведь ты тоже любил его, — сказал Денис Петрович, качая головой, — все его любили.
Он неожиданно вытянул руку. Борис почувствовал, как пальцы грубо охватили его запястье. «Конечно, пьян», — снова подумал он.
— Когда эта женщина вышла из дому? — Глаза Дениса Петровича блестели.
— В четыре.
— Когда вы подошли к домику слепой Киры?
— Без чего-то пять.
— Облава была назначена в два. Кого же она могла предупредить? Не-е-ет, здесь что-то не так.
Борис возвращался в клуб с единственной мыслью — завалиться спать, однако спать ему не пришлось, потому что здесь его ждал Костя Молодцов, засаленный и закопченный, прямо с паровоза.
— Эй, Борис, неладно у нас в поселке, — сказал он. — Милку Ведерникову помнишь?
— Как же, она теперь с бандитами путается.
— Ох, ох, уж больно ты грозен, как я посмотрю. Она мировая дивчина, если хочешь знать, своя в доску. Прямо не знаю, что с нею и делать, я уж и с батькой советовался и с ребятами в мастерских, — понимаешь, не оглядываясь, сама на гибель идет.
— Туда ей и дорога, по правде сказать.
Костя вспылил:
— Речь идет о жизни, а ты болтаешь! Сережа Дохтуров подслушал какой-то разговор о ней, будто бы Николай хочет ее Левке продать — надоела, говорит, она мне своими слезами да разговорами, а Левке она очень понравилась. Словом, они что-то готовят.
Борис задумался.
— Может быть, это тебе она не нужна… — сердито начал Костя.
— Почему же, — жестко ответил Борис, — очень нужна. Именно она-то нам и нужна. Пошли обратно к Денису.
Они вышли в клубный двор.
У остатков церковной ограды, на пеньках и просто на земле сидели старухи. В этот раз их было очень много. Среди них, как памятник, возвышалась темная фигура проповедника, они же — как цветы вокруг памятника. Проповедник говорил. Ветерок тихо поднимал его длинные волосы.
— И сказал пророк: «Взглянул я, и вот конь бледный, и на коне том всадник, имя которому — Смерть. И дана ему власть над одной шестой частью света». Все предсказано, сестры.
Он сделал паузу, видно проверяя, поняли ли его слушательницы, что это за одна шестая.
— Шел за ним, сестры, огонь, голод и мор. И солнце стало мрачно, как власяница, и луна стала как кровь.
— Святые угодники, помогайте не все разом, — прошептал Костя. — Это что еще за поп?
— Это не поп, к сожалению, — ответил Борис, — это Асмодей. Вот старый плут, никогда бы не подумал. У самого клуба! Нужно сказать в укоме.
«Ах, вы про это, — говорил потом Асмодей. — Это же сказка. Разве она не красивая? „И солнце стало мрачно, как власяница, и луна стала как кровь“».
«Но вы рассказывали ее совсем не как сказку».
«Ах, мой юный друг, мои… м-м-м… сестры потеряны для коммунизма. Что же касается меня, то я не потерян, меня лучше сохранить. Для этого же мне нужно, как это… шамовка. Не хотите?»
И он бережно вынул из кармана завернутое в тряпочку крутое яйцо в раздавленной скорлупе.
«Вам коммунизм — это шуточки?! — багровея, заорал Борис. — А нам это не шуточки! У нас отцы погибали в борьбе за этот самый коммунизм! Вы небось не погибнете!»
Часа в три ночи Борис с Костей перелезли через забор и подошли к террасе Милкиного дома. Постучали. На стук никто не отозвался. Черный и бесшумный стоял кругом сад. Постучали еще раз. Послышались легкие шаги босых ног, и Милкин испуганный голос спросил напряженно и с радостью:
— Кто тут?
— Милка, открой, — сказал Костя.
— Ты что? — спросила Милка, открывая. Она была в майке и юбке и дрожала от предрассветного холода. — Чего тебе?
— Выйди к нам на минутку, — прошептал Костя.
Втроем они уселись на лавочку, что стояла в саду под липой. В сумерках белое Милкино лицо смотрело черными глазницами.
— Здесь никто нас не услышит?
— Никто. Что случилось?
Наступило молчание. До сих пор им казалось, что все произойдет очень просто. Они скажут: «Тебе грозит опасность, мы явились тебя спасти, давай обсудим вместе план действий». Но теперь они оба не знали, с чего начать: все было гораздо труднее, чем они предполагали.
— Ну что же вы? — сказала Милка, трясясь от холода и растирая плечи ладонями.
— Скверное дело, видишь ты… — начал Костя. — Не знаю, как бы это…
Он замолчал. Милка, все так же дрожа от холода, смотрела то на того, то на другого.
— Вы поскорее, не то я замерзла как собака.
— Вот что, Людмила, — веско сказал Борис, — ты прости, что нам придется вмешаться в твои личные дела…
— А вам не придется, — вдруг выпрямляясь, ответила Милка.
— Боюсь, что придется.
— Боюсь, что нет.
Милка встала и пошла к дому. Разговор был окончен.
— Милка! — отчаянно зашептал Костя, бросаясь за ней и хватая ее за плечо. — Ты же на свою гибель идешь!
— Это я слышу каждый день, — ответила Милка, вырывая плечо и не оборачиваясь.
«Да, от прежней Милки, — подумал Борис, — не осталось и следа. Что ж, все правильно; нужно действовать, и побыстрей».
В одно мгновение он оказался лицом к лицу с Милкой.
— Минутку, — проговорил он. — У меня к тебе вопрос. Ты одна знала о Ленкином приезде. Зачем ты ее выдала?
Даже в предрассветных сумерках было видно, как побледнело Милкино лицо.
— Что ты, что ты… — прошептала она, слабо протянув к нему руку.
Он отступил.
— А ну, говори…
— Борька, — шептал сзади Костя, — Борька…
Милку вновь стала бить дрожь. «Ну, постой, гадина», — подумал Борис.
— Умела воровать, умей ответ держать, — с тем же напором продолжал он, — не уйдешь, пока не скажешь.
Милка безуспешно пыталась обойти Бориса справа и слева, но каждый раз он ей преграждал дорогу, словно они играли в какую-то игру.
— Не слушай ты этого… — отчаянным шепотом говорил Костя, — слушай меня… Николай хочет тебя заманить, будет куда звать — не соглашайся…
Но Милка метнулась за кусты, и мгновение спустя дверь дома неслышно закрылась. Стояла глухая тишина.
Всю дорогу домой Борис с Костей тяжело ругались шепотом и укоряли друг друга.
Берестов тоже был очень недоволен таким оборотом дела.
— Боюсь, что оборвал ты эту нить, Борис, — сказал он. — Ну что бы тебе поосторожнее. — Он взглянул на Бориса очень серьезно, но не сердито, а скорее даже ласково.
Борис понял: «Если бы не вчерашняя ночь с Водовозовым, другой бы с тебя был спрос. Но все-таки давай подтягивайся — сейчас как никогда нам нужно держать себя в руках».
— Кстати, — продолжал Берестов, — посмотрите, что добыл Ряба.
И он передал Борису записку.
— «Дорогой мальчик, — прочел Борис, — сроки неожиданно изменились. Все будет гораздо раньше, чем мы предполагали».
— Это Левке от Левкиной мамы, — усмехнувшись, пояснил Берестов.
Ряба стоял тут же и скромно улыбался.
— Вот это да, — сказал Борис. — Как же это ты?
— Секрет мастерства, — ответил Ряба.
— Однако где будет Левка и что он будет делать, этого мы не знаем, — продолжал Берестов. — Поэтому проследить за девушкой нужно вдвойне, чтобы спасти ее и подойти поближе к банде. Словом, неотступно следите за Милкой и ее домом. Как бы здесь не было нового покойника, — прибавил он.
Костя добросовестно следил за Милкой и не мог понять, что с ней происходит. Она казалась более веселой, чем обычно, и держала себя еще более независимо. На Костю она не обращала внимания. Только раз подошла к нему и сказала вызывающе:
— Ты говорил, он заманить меня хочет. Что же не заманивает?
Костя обрадовался, полагая, что представился случай объясниться, но Милка исчезла за калиткой.
А придя домой, она бросилась на постель и заплакала.
Она чувствовала себя больной и совершенно разбитой после разговора с Борисом. «Что же это делается? — думала она. — Неужели нет на свете правды? Неужели же людям ничего не дорого, даже доброе имя? Да как вы смеете? Да кто же это вам позволил говорить, что я выдала кому-то мою Ленку? Кто позволил вам называть бандитом моего Николая? Вот она — вся цена вашей хваленой правды. Нет в вас сердца, вот что!»
Но так бунтовала она не часто. Ей была не под силу борьба со всем поселком. Робко, стараясь не поднимать глаз, перебегала она его улицами, зная, что из окон на нее смотрят. Тяжелее всего, пожалуй, было видеть Дохтурова. Правда, она старалась теперь не показываться ему на глаза, но подолгу смотрела вслед, когда по утрам он проходил мимо их дома. А ведь это случалось каждый день.
Обычно его провожал на станцию Сережа. Мальчик шел босиком, заложив за спину тонкие руки и высоко неся свою ушастую голову. В самой походке его были и гордость и вызов. «Глядите, — говорил его вид, — это мой отец. Мы идем с ним и разговариваем».
Милка смотрела на них из-за больших кожистых листьев фикуса, загораживавших окно. Когда говорил Сережа, отец немного наклонялся к нему. О чем они разговаривали? Дохтуров шел своей медленной походкой— эта походка да еще форменная фуражка ииженера-путейца и делали его похожим на моряка. «Хоть бы мне его не видеть», — думала Милка.
— Что ты там высматриваешь, словно кошка? — спрашивала мать.
«Не как кошка, а как узник из тюрьмы», — почему-то подумала Милка.
Она вообще не умела хранить про себя свои горести и радости, ей всегда необходимо было с кем-то ими поделиться, хотя в жизни ее до сих пор не происходило никаких особых потрясений. А вот теперь, когда пришла огромная, непоправимая беда, Милка осталась с нею один на один.
Кому расскажешь? Николаю? О нет, только не Николаю! Матери? Она тоже все время молчит. Правда, она будет до хрипоты ругаться с соседками, отстаивая свою дочку, но дома молчит и она.
Вы, Александр Сергеевич, вы, наверно, слушали бы внимательно, если бы я рассказывала вам о Ленке.
Я тогда лежала в теплушке на боку и смотрела. Мне было видно Ленкино лицо, освещенное огнем буржуйки. Ленка задумалась, глядя на пламя. Оказывается, там, на вокзале, она споткнулась об меня, когда я лежала на полу, заставила каких-то парней перенести в вагон и увезла. А потом я очнулась, когда вагон стоял. Ленка каким-то образом раздобыла капустных листьев и поила меня горячим капустным отваром, соленым, очень вкусным. Почему-то она решила меня выходить, а уж что она решила… Отвар лился мне на шею, но я боялась сказать. Впрочем, она была со мной очень ласкова, я думала, что мягче ее нет человека на свете. Но что потом было! Если бы вы знали, что было потом!
В наш вагон должны были грузить раненых. Я тогда еще лежала. Грузить должны были два парня, довольно сильных. И вот представьте, на нас напали мешочники, озверевшие, они брали вагон штурмом, они ломились. И вот Ленка должна была их задержать. Видели бы вы ее — тоненькая, в штанах. Пока парни несли раненого, она, держась одной рукой за поручни, отбивалась сапогом, бешеная, сверху вниз, оскалясь. Боже мой! Знаете ли вы, что это такое, толпа мешочников, когда приходит поезд, которого ждут несколько суток? Это звери. Как Ленка осталась жива — прямо и не знаю. Когда грузили последнего раненого, поезд тронулся; я думала, мою Ленку сорвут с подножки… А потом я видела, как она лежит на полке, закрыв глаза, стиснув зубы, и вся дрожит.
В клуб к ней тогда меня не пустили. Я сидела на бревнах всю ночь. Там горел огонь и ходили люди. Потом стало светать, а утром Ленку вынесли на носилках и увезли. На похоронах я только видела, как далеко за толпою какие-то мужчины выносят гроб. Мы с ней условились когда-то: если что случится, я буду около нее, ведь я и на медицинские курсы пошла для того, чтобы быть вместе с Ленкой, — с ней ведь только и жди беды. Хоть перевязки, думаю, буду делать, но беда пришла, а меня к ней даже не пустили. И вот теперь, где бы я ни была и что бы ни делала, я всегда вижу все одно и то же: лес, ночь, дорога, по которой идет Ленка. Голова ее прострелена, кровь течет по спине, и все-таки она идет. Куда мне деться от этого леса и от этой дороги? Каким сном заснуть, чтобы никогда их не видеть?! Если бы вы знали, какая тоска!
И потом — я боюсь. Мне бы посоветоваться с кем- нибудь, а посоветоваться не с кем. Хотя бы потому, что знаю наперед все, что мне скажут. А знаете, иногда я думаю: пусть уж разом все кончится. Я хочу сказать: пусть уж сразу кончатся мои сомнения. А вы идите своей дорогой, я совсем вам не нужна. Да и мне до вас нет дела. Я люблю Николая.
Она бросалась на постель и плакала. А наплакавшись, поднималась, полная любви к Николаю, чувства вины перед ним, решимости последовать за ним по первому его слову. Она лгала Косте: Николай уже несколько раз приглашал ее на вечеринку «к друзьям по фронту, тут недалеко». Когда он сказал об этом в первый раз, Милка подошла к нему совсем близко и заглянула в глаза. Ей хотелось знать наконец правду, скрытую от нее его непроницаемым взором. И вдруг глаза Николая посветлели и потеплели.
— Ну чего ты? — ласково спросил он.
Милка не ответила. Прижавшись головой к его груди, она отдыхала от пережитого напряжения. Николай заглянул ей в лицо. «Ты мне не веришь?» — спрашивал его взгляд. Она теперь верила ему всем сердцем.
И все-таки на днях он снова пригласил ее «к друзьям на вечеринку».
Вечером в клуб к Борису прибежал Костя.
— Ну слава богу, застал, — сказал он. — Спасибо, ребята на дрезине подвезли. Это тебе.
— Что это?
— Видишь, письмо. От той девушки, которую убили.
Чего только не бывает на свете! На какой-то миг, на какую-то долю секунды ему показалось, что это письмо к нему от Ленки и что Ленка жива. Робко протянул он руку. Сердце его стучало. Но это было старое письмо, полученное Милкой в роковую субботу. В первый раз в жизни видел он строки, написанные Ленкиной рукой.
«Индюшка ты, — улыбаясь знакомой интонации, читал он, — о чем ты думаешь?.. Ничего, в субботу прибуду самолично и наведу порядок».
— Я уйду? — вдруг робко спросил Костя.
Борис кивнул.
«А у меня такие дела, — читал он, — для тебя с твоей чувствительной душой это будет поразительная новость. Вижу безумное любопытство на твоей курносой физиономии, — уж так и быть: во-первых, он лучше всех на свете. У него замечательные умные глаза, и он ими все понимает. Вот так вот — смотрит и решительно все понимает. Для него человек никогда не „представитель“, понимаешь, а просто человек. Однако я разболталась и расхвасталась, а ведь я не знаю, как он ко мне относится. Впрочем, это я вру. Ах, Милка!..»
Край письма уже успел обтрепаться, однако слова можно было разобрать. У Ленки был круглый детский почерк.
Костя сидел, посвистывая, на паперти, а Борис все читал и перечитывал это письмо. «Значит, тебе все-таки хорошо было со мной, дорогая?» — думал он.
И тут он вспомнил о Милке. Зачем она вдруг прислала Ленкино письмо? Впрочем, это и так было ясно: на конверте стоит субботний штемпель — значит, получить письмо раньше субботы Милка не могла. Она посылала доказательства своей невиновности. Борис почувствовал, как краска заливает его лицо. «Ах, скотина, — думал он, — ну и скотина же я! Единственного Ленкиного друга, и не узнав, и не проверив..»
И вдруг он понял другую, тайную причину, которую, посылая письмо, быть может, не понимала и сама Милка: это была робкая просьба о помощи. «Ну нет, уж тебя-то я им не отдам, бедняга, тебя они не получат».
— Костя, — сказал он, выходя на паперть, — передай ей, скажи: я никогда не забуду, что она прислала мне это письмо. И скажи ей, чтобы не волновалась. И смотри, ни на шаг от нее. Предупреди в мастерской, что не явишься на работу, — это дело Денис уладит. Если надо — возьми себе в помощь Сережу Дохтурова, он свой парень. И чтобы ни на шаг.
Когда Костя ушел, Борис вернулся в клуб и запер за собою дверь — об этом просил его сторож, который, полагая, что ночью двоим все равно здесь делать нечего, нередко уходил домой. Борис против этого не возражал, тем более что в его распоряжение поступала тогда жестяная керосиновая лампа.
В клубе было полутемно. Низкие своды казались черными, слабо белели пустые ряды скамеек. Сегодня Борис рад был одиночеству, ему хотелось остаться наедине с письмом. Но минуту спустя он понял, что в клубе кроме него есть кто-то еще. Впрочем, ему не понадобилось вынимать свой «смит и вессон», как он собирался было сделать. На ступеньках у сцены сидела девушка.
Борис не удивился, увидев ее, скорее почувствовал раздражение. Последнее время девчонки из самодеятельности, проведав, что в комнатушке под лестницей живет молодой человек, повадились сюда бегать. Лежа на койке в часы своего недолгого отдыха, Борис не раз слышал, как они шепчутся и скребутся в дверь. Все это ему изрядно надоело.
Девушка на ступеньках была, конечно, из той же компании.
Он наклонился, чтобы лучше ее разглядеть. Подняв узкое белое личико, окруженное облаком кудрей, девушка молча смотрела на него. Во всей ее позе чувствовалась усталость. «Клуб давно закрыт, — хотел было сказать Борис, — уходите». Однако, приглядевшись к ней, он вдруг почему-то понял, что как только он произнесет эти слова, она тотчас покорно встанет и пойдет — пойдет куда глаза глядят, потому что идти ей некуда.
Нет, она не из тех, что скреблись к нему в дверь, ей не до шуток. Надо было что-то сказать, но ничего не приходило в голову.
— Постойте, — как можно веселее сказал он, — вы ведь в самодеятельности играли. На вас еще что-то вроде поповской ризы надето было.
Ему показалось, что она словно бы просыпается и готова улыбнуться.
— Не уходите, — прибавил он, прекрасно зная, что уйти через закрытую дверь она никуда не может, — я сейчас.
Он вернулся с лампой, зажег ее и поставил на ступеньку. Девушка была очень хорошенькая, а теперь, когда в глазах ее отражались огоньки, казалась уже не такой усталой. Ее бы сейчас горячим чаем напоить, но об этом не может быть и речи — в клубе нет ни печурки, ни таганка.
— Хотите есть?
Она с удивлением взглянула на него.
— У меня есть хлеб, мы его сейчас будем жарить на лампе. Это очень здорово.
Теперь она улыбнулась.
Дальше все пошло хорошо. Он резал хлеб ломтиками, натыкал на перочинный ножик и подносил к огню. Пламя трещало и чадило, хлеб трещал, чернел и распространял приятный сытный запах.
— Он немного отдает керосином, но это ничего — правда?
Она кивнула. Хлеб был горячий и вкусный.
— Я вас тоже знаю, — вдруг сказала она, — вас Борей зовут, и вы работаете в розыске.
— Откуда же вы это знаете?
— У вас Берестов начальник?
— Берестов.
Она вдруг посмотрела на него очень внимательно.
— Он хороший человек?
— Замечательный.
— Ах, нет, — вдруг промолвила она устало, — все они жестокие и неприступные, как отвесные скалы.
Борис рассмеялся:
— Но вот уж Денис Петрович не «отвесный».
Однако собеседница его так же устало пожала плечами, как бы говоря: «Много вы знаете». Борису показалось, что она погружается в прежнее оцепенение, ему захотелось ее развеселить.
— Уж не в вас ли это наш Ряба влюблен? — улыбаясь спросил он.
Она неожиданно пришла в страшное волнение:
— Пожалуйста, пожалуйста, скажите ему, чтобы он никогда, никогда этого не делал. Чтобы не ждал меня, не разговаривал, не смотрел…
— Уж и не смотрел.
— Пожалуйста, о пожалуйста…
Она дрожала. С весельем у них что-то не получалось.
— Вам холодно?
— Да, мне немного холодно.
Борис встал и пошел к себе за курткой. Он был в недоумении. «Странная девушка, — думал он, — и говорит что-то странно. Не знаешь, как и подступиться». Но когда он вернулся, она тотчас заговорила:
— Я вижу, вы не понимаете, я вам сейчас объясню. Нет, не объясню, а расскажу одну историю, одну сказку, — не помню, где я ее читала. Шел путник, и в горах повстречалась ему чума. Она взяла его за ворот и заставила идти с ней вместе. Он просил, умолял, ничего не помогало. С тех пор, куда бы он ни являлся, он всюду приводил с собою смерть. Вот точно так же и я.
«Да она с ума сошла!» — подумал Борис.
— Вы любите играть на сцене? — поспешно спросил он.
— Однако между мной и путником есть разница, — продолжала она. — Он почему-то должен был идти с места на место и не мог умереть. А я могу.
Она говорила все это очень просто — ни тени кокетства или наигрыша не было в ее тоне.
— Я даже пробовала однажды, — мягко и насмешливо улыбаясь, сказала она, — пошла бросаться под поезд. Да все только рядом шла, колеса большие, стучат об рельсы, никак не могу. А тут еще вижу — встречный летит. Показалось мне, что рано еще, что я еще чего-то не додумала, чего-то не доделала, что это я всегда успею. Сбежала я вниз с насыпи — вот и все. А уж он мимо летел — страшно смотреть.
Борис молча слушал. «Что же это может быть? — размышлял он. — Что за смерть ведет она с собою. Есть ли в этом смысл?»
— Да, я очень люблю играть на сцене, я ведь тогда исчезаю и становлюсь свободной, — сказала она, — я даже и не знаю, как все это у меня получается— и Катерина, и Лариса. Может быть, потому, что они обязательно должны умереть, а это я хорошо понимаю.
— Э, все это старые пьесы, мы напишем новые, где героини борются и не умирают.
— Сколько я видела мертвых! — продолжала она, не слушая. — Люди ужасно жестоки. Вы, наверно, даже и не знаете, какие они жестокие и неприступные.
— Не все.
— Для меня все. Или почти все, но это ведь значения не имеет, — все, что со мной, все равно погибают.
«Да что же это такое, — говорил себе Борис, чувствуя, что начинает поддаваться ее странной уверенности, — дурной сон какой-то».
— Неужели нет людей, которые могли бы помочь вам?
— Что вы! — ответила она с той беспечностью, с какой говорят люди о делах давно решенных.
Ничего подобного Борис в жизни не встречал.
— А теперь уж я расскажу вам одну историю, — решительно сказал он, — историю одной девушки.
И он начал рассказывать о Ленке. Он рассказывал все, что знал от Берестова и работников губрозыска. Фронт, агитпоезд, операция у Камышовки. Он говорил уже для себя, почти позабыв про свою собеседницу.
— Вы женаты, Боря? — вдруг спросила она.
— Был, — кратко ответил Борис.
Нет, рассказанная история не заинтересовала ее. Своим женским чутьем она поняла только одно: Борис говорит о девушке, которую любил, и это единственное, что показалось ей достойным внимания.
— Вы любите кого-нибудь? — спросил в свою очередь он и тотчас же раскаялся в этом вопросе.
Она побледнела. «Ах да, ведь все, кто с ней, обречены на смерть. Что за нелепость, в конце концов! Неужели никак нельзя к ней подступиться?»
— Как вас зовут?
— Маша.
— Слушайте, Маша, я не понимаю, о чем вы говорите, и не знаю, что за несчастье случилось с вами, но послушайте меня…
Он не знал, какие слова найти, чтобы убедить ее.
— Поверьте мне, ну просто поверьте на слово, что люди всегда могут друг другу помочь. Человек не может быть один. Ну есть у вас отец, мать, брат?
Этого тоже не следовало спрашивать. Маша бледнела все больше и опять стала дрожать.
— У нас осталось еще два ломтика, — поспешно сказал Борис, — прошу.
Она улыбнулась:
— Вы очень, очень добрый.
Как он заметил, она вообще легко приходила в волнение и легко успокаивалась.
— А знаете, я даже ее саму видела, — сказала она не без гордости.
— Кого?
— Да смерть же. Она даже и не такая страшная. Стояла ночью у переулка и меня поджидала. А потом ушла.
«Так вот все-таки что это такое…»
— В вашей самодеятельности, — сказал он, — работает такой смешной дядька с серебряной палкой…
— Смешной? — Маша смотрела на него широко открытыми глазами. — Это вы о Ростиславе Петровиче? Он же замечательный человек, лучший человек на земле! Я прошу вас, если вам случится, сделайте ему что-нибудь хорошее, самое хорошее, что только можете. Ах, какое счастье он дает нам в театре, если бы вы только знали!
Борис был удивлен пылкостью, с какой она говорила.
Перед тем как расстаться с ней, он попробовал предпринять последнюю попытку:
— Решитесь, расскажите кому-нибудь о своих тревогах, кому-нибудь, какому-нибудь хорошему человеку. И окажется, что все не так уж и страшно. Ну хотите, пойдем завтра к Денису Петровичу?
— Берестову? Так ведь это то же самое, что броситься под поезд, — убежденно сказала она, — совершенно то же самое, уверяю вас.
С Ростиславом Петровичем, иначе говоря — с Асмодеем, Борис встретился следующей ночью, когда шел домой.
Опять — будь они прокляты! — стояли лунные ночи.
По белой улице вдоль заборов тянулась черная полоса тени. По привычке Борис шел именно этой полосой, когда на противоположной, ярко освещенной стороне улицы заметил одинокую фигуру человека.
Асмодей стоял у витрины магазина. В лунном свете манекен казался мертвецом и был страшен здесь, на пустынной улице. От этого ли, или по какой другой причине на лице Асмодея, так же неестественно бледном, было написано что-то похожее на ужас.
Все это вызывало очень неприятное чувство, однако Борис не двигался с места.
Витрина выглядела освещенной сценой с мертвой актрисой на ней, да и единственный зритель ее также казался мертвым. И почему-то они не отрываясь смотрели друг другу в лицо.
Борису показалось, что его втягивают в какой-то дурной сон. Напряжением воли он заставил себя очнуться и тихо, двигаясь на носках, свернул в переулок, чувствуя спиною непонятный страх, изо всех сил желая, чтобы Асмодей его не заметил.
Глава IV
Он шел полем. Синие облака неслись по небу очень быстро, и казалось странным, почему они не шумят. Бесшумный бег их казался зловещим. Временами из-под туч светило солнце каким-то хмурым грозовым светом.
Но в лесу все было по-другому, ну словно бы по-домашнему. Под ветвями стояла полутьма и тишина, нарушаемая только доброжелательным пением птиц. Кругом обступали, качаясь, уже по-осеннему рябые кусты.
Берестов шел по лесу, привычно присматриваясь ко всему.
Под елью навален был муравейник. Он шевелился и, казалось, глядел во все стороны сквозь покрывавший его валежник сотнями подвижных зрачков. Как всегда, он навел Дениса Петровича на мысли о «суете сует» и настроил на иронический лад. Неподалеку с ветки снялась сойка с ее голубыми клетчатыми крыльями. Под кустом стоял красный подосиновик на высокой ноге, а немного дальше — вся в хвое плотная сыроежка. Лес, казалось, начал успокаивать его и овладевать им, но власть его была непрочной. В сущности, все эти пни, деревья и муравейники проходили сегодня мимо него, как декорация, за которой стояло все одно и то же — неотступная мысль о Водовозове.
Что же это делается? Что происходит с Павлом? Он здесь и как будто не здесь. Он словно наглухо застегнут.
Он идет каким-то своим — тайным — путем. На этом пути бандитская сторожка, о которой он ничего не сказал, и женщина, связанная со слепой Кирой (на следующее утро Денис Петрович послал к дому Киры сотрудников, однако им не удалось увидеть женщины, похожей по описанию на ту, которую видел Борис). Так, как ведет себя Водовозов, может вести себя только предатель. И если в розыске неблагополучно… то, логически рассуждая…
Нет, так дело не пойдет! Логически, не логически, как хотите — Павел не мог предать Леночку! Да к тому же и о готовящейся облаве он никого не предупредил. И все-таки — слепая Кира.
На днях у них был разговор. Собственно, и не разговор— всего две фразы.
— Где ты пропадаешь? — спросил Денис Петрович, глядя Водовозову прямо в глаза.
— Далеко, Денис Петрович, — ответил тот, не отводя взгляда, — за тридевять земель.
Что это было? Признание?
Берестову хотелось задать еще один вопрос, но что-то в глазах Водовозова его остановило. Какой-то приказ.
Как это случилось, что Павел ушел за тридевять земель и когда это началось? Со смерти Ленки? Или раньше? А это его «помру я скоро», что это было? Он не ребенок и не барышня, произошло что-то очень серьезное, если Павел сказал такую фразу.
Неожиданно брызнул дождь. Денис Петрович посмотрел вверх. Тем же грозовым светом светило солнце, и было видно, как сверкающие капли косо рассекают листву. Барабанная дробь дождя внезапно заполнила лес и так же внезапно смолкла.
Нет, нужно идти по другому пути. Мог ли Павел стать предателем? Он, человек редкой внутренней прочности, из всех, известных Денису Петровичу, самый надежный. Берестов стал вспоминать. Фронт, восстание дезертиров, продналог, — у них было время узнать друг друга. Отважный, неподкупный, независимый. Быть может, слишком горяч? Немного высокомерен? Да разве в этом дело!
Есть у дружбы свои законы, которые никто не вправе нарушать. Нужно пойти к нему, выложить все начистоту, пусть объяснит наконец, что с ним такое творится. Заболел он, что ли?
Нет, и так нельзя.
Будем честны с самими собою: что сделал бы он, Берестов, если бы речь шла не о Водовозове? Стал бы он, начальник розыска, разговаривать начистоту, рискуя разоблачить себя и вспугнуть изменника? Ясное дело, не стал бы. Что же делать ему сейчас? Установить слежку? Так ведь одному не уследить, нужно привлекать работников розыска: я, мол, подозреваю своего заместителя в измене…
Если бы он рассказал в губрозыске о своих подозрениях, Павла, конечно, уволили бы, а может быть, и арестовали. Наверняка даже арестовали бы, об этом позаботился бы Морковин. Неужели многолетняя дружба их ничего не значит, неужели ничего не значит внутренняя уверенность?
Для какой-нибудь Кукушкиной здесь не было бы вопроса. Денису Петровичу казалось, что он слышит ее скрипучий голос: «Товарищ Берестов, ваши личные отношения вы ставите выше общественных». Вы ошибаетесь, товарищ Кукушкина, отношения с Павлом, как и любым другим товарищем, это не личное, дружба людей — это не личное, это общественное!
Денис Петрович не замечал, что давно уже вскочил с пня, на котором сидел, и, прорываясь сквозь кусты, шагает по лесу.
Почему же все возвращаться к одному и тому же поселковому делу? А Сычов, а десятки других дел, доведенных до конца благодаря мужеству Водовозова? А разве про Кольку Пасконникова он не знал?
Все это рассуждения, а главное не в них. Главное в той тоске, которая, не отпуская, сжимает сердце. Друг ты мой дорогой, что с тобою делается?
Вдруг он остановился, пораженный. Перед ним неожиданно открылись поля.
За то время, что он бродил по лесу, тучи сильно поднялись и, казалось, поля распахнулись. Много всего было в небе — огромные светлые облака громоздились над темными тучами с совсем уже черными поддонами, и всю эту многоярусную громаду ветер, как флотилию, гнал к горизонту. Небо над Берестовым стало уже голубым, и так светло и широко было кругом, словно он вышел к морю.
«Ах ты, небо! — подумал он. — Почему мы взяла тебя в судьи? Быть может, потому, что ты не подведешь? Степь можно распахать, лес вырубить, а ты, как море, никогда не подведешь».
Денис Петрович видел море только раз в жизни, и оно поразило его суетностью прибоя и величием своих просторов. Великолепная волна поднималась гордо и с феодальным пушечным боем рушилась на берег, чтобы сейчас же влачиться обратно, смиренно и низменно вылизывая песок. Но в безбрежной широте его были те же величие и доброта, что и сейчас в широко раскинувшемся небе.
«Почему море и небо настраивают на самый возвышенный лад? — подумал он. — Наверно, потому, что для нас они вечны, а из наших чувств вечными становятся только самые возвышенные».
Ему казалось странным, что полчаса тому назад он мог заниматься такой ерундой, как все эти рассуждения «за» и «против» Водовозова. «Был он в сторожке— не был он в сторожке»! Да разве в этом дело? Неужели же, если он был в сторожке, это один человек, а если не был — уже другой? Нет, это все один и тот же человек — Павел Водовозов.
Он глубоко — чувствуя грудную клетку — вздохнул, запрокинул голову и долго смотрел в небо. Высокие чувства! Да если уж говорить о высоких чувствах..
Да, если уж говорить о высоких чувствах, то не было у него в жизни чувств выше любви его к Пашке Водовозову.
Стало почему-то легко на душе, и он начал весело спорить с кем-то. «Да, это мне и друг, и брат, и сын. Что поделаешь!» Предполагаемый противник его опять обернулся Кукушкиной. «Как! — сказала она. — Неужели ваша любовь к революции…» — «А это для меня одно и то же. Нельзя любить человека вообще, можно любить только тех людей, которые с тобою, а уже через них любить остальных». Он вспомнил, как его парни, Борис и Ряба, пришли к нему задавать вопросы. «Можно ли ради счастья человечества…» Ох, опасная это вещь — любовь к безличному человечеству, подчас она означает любовь ни к чему, равнодушие, а может означать и ненависть. Бойтесь людей, которые, кроме человечества в делом, никого не любят!
Нет, вот так, как я хочу, чтобы Пашка был счастлив, я хочу, чтобы счастливы были другие люди. Вот что она такое — революция.
«Я пойду к нему, — думал Денис Петрович, — и скажу: мне известно то-то и то-то— говори. И он скажет мне правду».
Вернувшись в город, Берестов тотчас же отправился к Водовозову. В окне горел свет — Павел был дома. «Ну, была не была, — подумал Денис Петрович, — не уйду, пока не получу ответа», — и толкнул дверь, которая оказалась незапертой.
В небольшой комнатке, где жил Водовозов, было почти пусто. Дощатый стол, табуретки, у стены скамья, на ней ведро с плавающим в нем ковшиком. В углу на гвозде водовозовское пальто. В домике была еще одна клетушка, где Павел спал.
На дощатом столе горела коптилка.
Водовозов сидел без гимнастерки, в одной рубахе с засученными рукавами и, казалось, был очень весел. Напротив него поместился Морковин. Кого угодно ожидал увидеть в этом доме Денис Петрович, только не Морковина.
— А, мой друг и брат! — воскликнул Павел очень громко и, как показалось Берестову, развязно. — Как всегда, кстати! Заходи!
Денис Петрович присел к столу и взглянул на Водовозова. Лицо Павла было нежно-розовым и воспаленным. Он был совершенно пьян.
Денис Петрович видел его пьяным один-единственный раз в жизни. Случилось это несколько лет назад на фронте, в тот день, когда они, выехав на лесную поляну, нашли на ней свой санотряд, вернее — то, что от него осталось. Отряд попал в руки Булах-Булаховича, и никого из них узнать было нельзя — ни санитаров, ни врачиху. В тот день Водовозов напился, и Денису Петровичу пришлось прятать его в клети от комбрига, человека строгого, которому в пьяном виде лучше было не попадаться.
«Однако сейчас, — подумал Берестов, — положение, кажется, куда более опасное. Зачем бы это быть здесь Морковину? И откуда водка?» Бутылка, стоявшая на столе, была только начата. Видно, не первая.
— А мы здесь с Павлом Михайловичем толкуем про разные дела, — сказал Морковин. Глаза следователя светились. Он был чем-то доволен.
Денис Петрович хотел было спросить, какие это дела, но раздумал и начал рассказывать про очередные «номера» Кукушкиной-Романовской. Однако Водовозов прервал его.
— Ты неправ, Денис Петрович, — горячо сказал он, — а вот он прав.
— А в чем он неправ? — сейчас же спросил Морковин.
— Потому что он меня выгораживает, — обиженно сказал Водовозов. — Ведь ты меня подозреваешь, Денис Петрович, говори правду: подозреваешь, Денис Петрович?
— В чем же подозревает? — опять спросил Морковин.
— Раньше только подозревал, а теперь убедился, — спокойно ответил Берестов, закуривая, — водку ты стал пить, друг мой.
— Не крути! — строго крикнул Водовозов. — И не выгораживай. Водка ни при чем! Ты сам знаешь, что подозреваешь, и Бориса посылал за мной следить. И правильно делал…
— Ну как же за тобой не следить, — усмехнулся Денис Петрович, — вот не уследил, и пожалуйста…
— Не может быть, чтобы он вас подозревал, Павел Михайлович, — улыбаясь заговорил Морковин, откидываясь на спинку стула. — В чем же можно вас подозревать?
— Шел бы ты, друг, спать, — неторопливо сказал Денис Петрович, чувствуя, что у него пересыхает во рту, — завтра вставать рано.
— Ну, зачем же спать, время еще детское, — все так же благодушно возразил Морковин. — И кого же посылали следить за вами? И как это можно следить за вами, ведь вы же ни в чем не виноваты.
— Не-е-ет, — вдруг шепотом заговорил Водовозов и наклонился к столу, — за товарищем? Не-е-ет! За товарищем… товарищей… никак нельзя. Я не Ряба… Я не Ряба, который любит актрис.
«Ну слава богу, — подумал Берестов, — кажется, засыпает». Однако Водовозов внезапно вновь разгорячился.
— Нет, виноват, смертельно виноват! — закричал он. — Почему не даешь мне все рассказать?
Лицо его дышало жаром.
— Я вот при нем, — он опять указал на Морковина, — при нем, может, все хочу рассказать! Он судья, пусть он строгий судья, и я при нем все сейчас расскажу.
— Вот что, дорогой, — Денис Петрович встал, — давай-ка…
— Оставьте его, Берестов, — повелительно сказал следователь, — пусть скажет. Говорите, Павел Михайлович, мы вас…
«Ну нет, — подумал Берестов, — так дешево я тебе Пашку не отдам». Он зачерпнул ковшиком из ведра, стоявшего на лавке, и вылил его Водовозову прямо на черные кудри. Павел долго тер лицо ладонями, словно умывался.
— Ах, хорошо, — сказал он своим обычным голосом, — хороша водичка. А не выпить ли нам еще по одной?..
— Ну конечно! — Морковин потянулся за бутылкой. — Конечно, мы сейчас нальем еще по одной. И выпьем за то, чтобы никто из нас ни за кем не следил.
Денис Петрович подумал мгновение, взвешивая все «за» и «против». Что же, кажется, все правильно.
— Вот что, дорогие друзья, — сказал он, перехватив у Морковина бутылку и опрокидывая ее над ведром, — время позднее, все мы немножко выпили, это не вредно, но пора и честь знать. Товарищ Морковин, нам с вами по дороге…
— Да нет, товарищ Берестов, — насмешливо ответил следователь, — вы идите, а я…
Пока он говорил, Денис Петрович покрепче ухватился за край стола, а потом одним движением опрокинул его на бок. Затем ударом сапога сбил ведро с водой.
— Безобразие! — заорал он. — Перепились, передрались! Марш отсюда, сукин кот!
Водовозов хохотал, отряхивая воду с галифе, и был похож на мальчишку. Морковин отскочил в сторону. Он был бледен.
— Всю свою жизнь, — сказал он медленно, — всю свою жизнь будешь ты помнить эту минуту, предатель.
— До свидания, — сказал Денис Петрович, так же ударом сапога открывая входную дверь.
Как только следователь ушел, Денис Петрович сел на табурет. Он устал. «Пока пронесло, — подумал он, — вопрос теперь в том, что успел наплести ему Пашка до моего прихода».
Только сейчас сообразил он, что, явившись сюда, чтобы узнать тайну Водовозова, он весь вечер выбивался из сил, чтобы тот не выдал своей тайны. Он взглянул на Павла, который стоял у окна, прислонившись виском к наличнику. Взгляд его блуждал из стороны в сторону, и в нем была тоска. «Нет, — подумал Денис Петрович, — сейчас я у тебя ничего не стану спрашивать. А на случай, если Морковин вернется, останусь-ка я здесь ночевать».
Когда он утром проснулся, Павла уже не было — он ушел в розыск.
Увиделись они только вечером.
— Слушай, — сказал Водовозов, — что у меня вчера произошло? Почему ты подрался с Морковиным?
— Уж кто там с кем подрался, я не помню. Ты мне лучше скажи, откуда у тебя вообще эта водка?
— Морковин принес.
— А зачем же ты пил?
На этот вопрос Павел Михайлович не ответил.
— Мне нужно поговорить с тобой, — сказал он, не глядя на Дениса Петровича.
— Давай.
Берестов испугался предстоящего разговора и очень обрадовался ему. Что бы то ни было, сейчас он узнает правду.
— Для тебя, Денис Петрович, это будет нелегкий разговор, — сказал Водовозов, поднимая на него глаза.
— У меня теперь все разговоры нелегкие. Легких что-то не бывает. Давай.
— Я знаю, невеселое дело — терять друга.
— А может быть, я не потеряю.
— Потеряешь, Денис Петрович.
— Ну… не томи.
Водовозову трудно было говорить, это было видно по мрачному выражению глаз, по желвакам, играющим на лице.
— Речь пойдет об инженере Дохтурове. Он был твоим другом, ты ему, конечно, доверял. Но наших дел ты ему, конечно, не доверял.
Сказано это было утвердительно, на самом деле это был вопрос. Берестов не ответил на него.
— Знаю, Денис Петрович, невеселое это дело, — повторил Водовозов, — только Дохтурову верить нельзя.
Теперь он смотрел на Берестова очень серьезно.
— Понимаешь, Денис Петрович, я не мальчик и коли говорю, то знаю, что говорю. Этим не шутят. Твой инженер не только строит мосты, но занимается и другими делами.
— Откуда ты все это узнал? — устало спросил Берестов.
— Есть у меня такая тайная агентура, — усмехнувшись, ответил Водовозов. — Узнал в общем. Пока придется поверить мне на слово. И пока я тебе ничего больше сказать не могу.
«Пропади вы все пропадом, — подумал Денис Петрович, — уйти бы от вас куда-нибудь».
— Не серчай на меня, Денис Петрович, — сказал Водовозов. — Может быть, и здесь ошибка. Во всяком случае, это надо проверить.
Берестов ничего ему не ответил, Водовозов потоптался и ушел. Денис Петрович остался один.
С какой гордостью еще так недавно он сказал инженеру: «Павла я не стал бы проверять, как не стал бы проверять вас». Быстро бегут события.
Вечеринка, о которой говорил Николай, предполагалась, оказывается, на даче у тети Паши — всего только перейти через улицу. Милка даже засмеялась, когда узнала об этом. Еще девчонкой играла она в доме у тети Паши и знала его не хуже, чем сама хозяйка; а кроме того, здесь теперь живет Николай.
— Вот в этом сарайчике, — сказала она Николаю, когда они подходили к крыльцу, — здорово было прятаться, когда мы играли в палочку-выручалочку.
В доме было тепло, пахло пирогами, слышались голоса. Николай пошел в комнаты, а Милка отправилась в кухню к хозяйке.
— А, и ты, — сказала тетя Паша, глянув на нее своими черно-зелеными глазами.
В кухне кроме тети Паши хозяйничали три девицы. Впрочем, хозяйничали только две, третья, очень молоденькая и тоненькая, с личиком чистым и белым, как голубиное яичко, — она Милке очень понравилась— курила и ничего не делала. Ее звали Муркой. Две другие поразили Милку своими короткими сверкающими платьями, лаковыми туфлями и длинными жемчужными ожерельями, низко, ниже пояса, завязанными узлом. Такой роскоши она никогда еще не видала. Правда, девицы красотой не отличались. Одна была плотная, с пышными губами, черной челкой и смоляным завитком на красной щеке (как у Кармен на обертке из-под мыла), который, как было известно Милке, приклеивался к лицу сахарной водой. Другая девица была темна лицом и костлява.
— Мурка, ты бы хоть колбасу порезала, — сказала плотная девица, и Мурка, ни слова не возразив, придвинула к себе тарелку с колбасой.
Милка бурно принялась хозяйничать.
— Маслица, маслица постного в винегрет не пожалейте, — просовываясь в дверь, сказал какой-то паренек и подмигнул Милке.
В конце концов, все шло очень хорошо. Девицы, казалось, были в высшей степени расположены к Милке и с готовностью смеялись ее шуткам. Парень, сразу видно — простой и хороший парень, такой вполне мог быть на фронте при Николае. А Мурка (которая так и не нарезала колбасы) — просто прелесть. Милке очень бы хотелось с ней дружить.
Одно только беспокоило ее: как она выйдет туда, к Николаевым друзьям, мужчинам, чьи голоса слышались за стеной.
— Ну пора, девочки, пошли, — сказала плотная девица и, подхватив тарелки со снедью, направилась в комнаты.
Все вышло просто и естественно: их шествие с тарелками было встречено радостными возгласами и шутками, поднялась суматоха, а паренек, которого звали Васькой, называл ее Милочкой и усердно помогал расставлять стаканы и рюмки. Народу было много, одних мужчин человек десять.
Только Николая почему-то не было. Наверно, ушел переодеться в свою комнату.
— Тетя Паша, а где же твой Петрович? — спросил кто-то.
— У него, наверно, Розалия захромала, — ответил Васька, и все захохотали.
Тетя Паша ничего не ответила.
Милка робела и боялась рассматривать гостей. Кроме того, ее все больше беспокоило отсутствие Николая. Она обратилась к сидевшему с ней невзрачному пареньку.
— Вы не знаете…
— Где Николай? — сейчас же ответил тот. — Он скоро вернется.
— Ох и хитер же ты, Левка! — восторженно воскликнул Васька, но Милкин сосед только искоса глянул на него и слегка усмехнулся.
Милка не поняла, кто сидит с нею рядом, — очень уж сосед ее не походил на того Левку, о ком вечерами рассказывали в поселке.
Было шумно и душно. От девушек пахло нагретыми духами. Стол был уже разгромлен, когда, в комнату вошел Нестеров. Поднялся невообразимый шум, кто-то свистел, кто-то даже залаял собакой.
— Петрович! — орала компания. — Где же ты, сукин сын, пропадал? Место Петровичу! Рюмку Петровичу! Слава русской кавалерии!
Высокий, стройный Нестеров неподвижно стоял посередине комнаты один против всего этого шума и визга, весело переводил взгляд с одного лица на другое. Внезапно он увидел Милку, с минуту смотрел на нее очень внимательно, потом поднял брови и отвернулся.
— Подвиньтесь, черти, дайте сесть, — сказал он, криво усмехнувшись, отчего на одной стороне его лица собрались крупные складки.
Когда сели за стол, Левка некоторое время не обращал на свою соседку никакого внимания, но потом внезапно повернулся к ней.
— Вот как нам довелось познакомиться, — сказал он, мельком взглянув ей в лицо. — Что прикажете? Рыбки? Икры?
И он оглядел стол.
— Я не могу, — продолжал он, — предложить вам мороженое из сирени или ананасы в шампанском, однако положить вам селедки — это вполне в моей власти.
При чем тут мороженое из сирени, Милка не знала, а потому молча кивнула головой.
— В первый раз я вас увидел неделю назад на бревнах, — сказал он, наливая ей вина, — вот почему я сегодня услал Николая.
Милке стало неловко и тоскливо. Не стоило сюда приходить. И Николай не должен был оставлять ее одну. Она не верила ни в какую опасность: слишком близко ее дом, сидит она в знакомой комнате под знаменитым на весь поселок бисерным абажуром, который тетя Паша, как это всем известно, выменяла на меру картошки. Вот стул у окна, на котором любила сидеть кошка Люська.
Милка посмотрела на Люськина — противная рожа, толстый нос и скошенный подбородок, про него говорят, что он из Левкиных парней. А что это значит — «услал Николая» и что это за Левка?
С внезапным беспокойством стала она прислушиваться к тому, что рассказывает ей сосед.
А Левка между тем рассказывал ей про свою маму.
— Странное дело, — говорил он, — где бы какая опасность ни грозила, пусть за сто верст, мать всегда о ней знает. Если это ночь (а в нашем деле это большей частью ночь — как бы вскользь заметил он), она просыпается в тот же час и в ту же минуту, встает, подходит к окну и стоит около него, пока опасность не минует. Она говорит, что стоит и сторожит, чтобы не случилось несчастья. Много странного на свете, вы не находите? У меня был друг, — продолжал Левка, глядя куда-то вверх своими туманными глазами, — да, был дружок… Как-то мы дали клятву: если кого из нас убьют, другой должен отомстить. Это было не здесь — далеко, на юге. Его расстрелял комиссар. И верите: каждую ночь кто-то стучал мне в окно. Все стучал, пока я того комиссара не нашел. Почему вы не пьете?
Бывает так: человек не может осознать, казалось бы, самых очевидных вещей, словно что-то в нем не хочет их понимать. Но затем в сознании его утвердится какая-то часть истины, и вдруг все остальные части ее начинают, словно детские кубики, складываться в единственно достоверную картину. Милка делала открытие за открытием, одно ужаснее другого — она вдруг поняла, что перед ней тот самый Левка, что Николай привел ее сюда, договорившись с Левкой, и не случайно уехал, и, наконец, что он никогда не был в Красной Армии, а воевал на стороне ее врагов. Она не знала, что делать, да и не собиралась: что можно было сделать, если рухнула самая жизнь?
А кругом становилось все пьянее.
— Левка, — орал через стол Васька Баян, — Левушка, выпьем за твою новую симпатию!
— Давайте, давайте! — закричали девицы. Они вообще восторженно принимали любое предложение.
Все повскакали с мест, чокаясь и падая.
Милка почувствовала, что Левка подвигается к ней.
— Не обращайте на них внимания, дорогая, они глупы, — промурлыкал он и обнял ее одной рукой, очень сильно.
В ответ на это Милка отклонилась назад, сколько могла, и ударила его ладонью по лицу. Наступила тишина. Все видели эту сцену, а удар был настолько звонок, что его нельзя было не слышать.
Левка прищурил глаза, в которых, казалось, что-то таяло, выпрямился и словно бы потянулся немного.
— А что, водка у нас еще есть? — спросил он, как будто ничего не случилось. К нему протянулось сразу несколько бутылок.
— Левка! — опять крикнул Васька Баян. — Пока мы не стали правоверными, можно напоследок нашу любимую, а?
— Давайте, давайте! — подхватили было девицы, но сразу же замолкли. Они были пьяны, но не настолько, чтобы не понять случившегося.
— Ты поосторожней, — сказал Люськин Ваське, указывая глазами на Милку.
— Если ты имеешь в виду мою соседку, — как бы невзначай бросил ему Левка, — то при ней можно говорить все, что угодно.
И отвернулся.
Услыхав это, Нестеров перестал жевать, поставил на стол обе руки с зажатыми в них ножом и вилкой и некоторое время молча смотрел на Левку. Лоб его собрался волнами складок.
Милка была настолько потрясена своей отвагой и так напугана, что не заметила этой маленькой сценки и не поняла смысла Левкиной реплики.
— А что, про инженера при ней тоже можно? — не унимался Васька. Он был изрядно пьян.
И опять Левка только глянул, но ничего не сказал. И опять Нестеров напряженно смотрел на Левку, и на этот раз Милка не поняла смысла происходящего, но заметила взгляд Нестерова, и томительная тоска стала сжимать ее грудь. Она чувствовала, что на нее надвигается несчастье. Между тем Васька взял гитару и стал играть на ней, поводя плечами и работая лопатками.
— Эх, на последях! — сказал он и запел. Он пел чистейшую контрреволюцию.
«Друзья-фронтовики», — вспомнилось Милке.
— Кстати об инженере, — сказал Левка, как только Васька кончил. — Знаете, что сказала мать, когда я рассказал ей про инженера? Она сказала только два слова: «Красив он?» Какова?
— Вот это женщина! — с восхищением воскликнул Васька.
— «Красив он»… — задумчиво повторил Левка, качая головой, — и только.
«Какой это инженер? — с тревогой подумала Милка. — Неужели Дохтуров? Что они хотят ему сделать?»
— А что инженер? Инженер хорош, — заметил Люськин.
— Хорош… пока, — ответил Левка. — Скоро будет нехорош.
Милка с ужасом слушала этот зловещий разговор.
— Возьмем, значит, инженера за хобот, — весело сказал Васька. — Вот странное дело: живет человек, пьет, ест, на работу ходит, и не знает он, сердешный, того, какая роль ему в пьесе приготовлена.
— Жизнь — это пьеса, — вставила плотная девица.
— Ладно, Васька, прекрати, — сказал Люськин и вдруг заорал: — Чего тебе нужно?!
У порога стояла тетя Паша. Казалось, она смотрит одними глазницами, так огромно черны были ее глаза.
— Мне их нужно, — жалко улыбнувшись, сказала она и указала на Милку, — пирог вынать.
— Э, нет, — ответил Люськин, — этой мадам придется посидеть.
— И подождать… — задумчиво вставил Васька. Кажется, он совсем не так уж и пьян.
И Милка все поняла: и почему «при ней можно говорить все, что угодно», и почему ее не выпускают. После того как она ударила Левку, живой ее отсюда не выпустят никогда. Они были страшны ей теперь, как волки, и почему-то особенно Васька Баян с его гитарой и задумчивым, почти нежным взором.
— Тебе вот эти помогут, — сказал тете Паше Люськин, — давайте, барышни.
«Он хочет, чтобы ушли девушки», — подумала Милка, чувствуя, как холодеет спина.
Девицы засуетились, но встать из-за стола не смогли. Правда, «Кармен» удалось приподняться, но только для того, чтобы, упершись руками в тарелку с винегретом, плюхнуться обратно на стул.
— Сама вынешь, — обратился Люськин к хозяйке. — Не велико дело.
— Да пусть ее идет, — пренебрежительно бросил Левка, откидываясь к стене и поправляя ремень.
Со своего места в углу Милка с трудом выбралась к двери и вышла на кухню. Здесь было до странности тихо; наклонясь над ведром, стоял и пил воду Нестеров. Хозяйки не было. У кухонного стола сидела Мурка. Она куталась в толстый тети Пашин платок и дрожала, несмотря на жару. Лаковые туфли ее были в грязи.
Отодвинув печную заслонку, Милка стала вынимать пирог. Из темной печи, подрагивая неровным противнем, жирный, золотой, в теплом душистом облаке полз пирог с капустой, такой добродушный и простосердечный, что, казалось, стоит внести его в соседнюю комнату, где слышался шум и визг, и там сразу же наступит благоговейная тишина и все тоже станут добрыми и простодушными.
— Беги отсюда, Милка, — сказал негромко Нестеров, — они убьют тебя.
Мурка не шелохнулась. Да и слышала ли она этот разговор?
Милка знала, что ее убьют, но стоило ей услышать об этом из чужих уст, как необыкновенная слабость охватила ее. Ей захотелось сесть.
— Беги через улицу, быстро, — продолжал Нестеров, по-прежнему не оборачиваясь, — щеколда поднята.
Они с Нестеровым стояли друг к другу спиной. Каждую минуту сюда могли войти (или Мурка могла понять, в чем дело, и поднять крик). Нужно было немедленно принимать решение, от которого зависела жизнь, а Милке хотелось сесть на пол. Сесть на пол и проснуться от этого кошмара. Однако она собрала все свои силы.
Так. Значит, нужно пройти через кухню, бесшумно открыть дверь, пройти по двору, открыть калитку, а там уже можно бежать.
Милка оглянулась на Мурку, и вдруг та несколько раз задумчиво кивнула головой.
Осторожно, не дыша, Милка оставила пирог и сделала шаг назад. Потом так же, не оборачиваясь, сделала еще один шаг.
— Это что еще за балет?! — сказал, входя, Люськин. — Пожалте в комнату.
Теперь она вернулась почти под конвоем и должна была снова протискиваться в свой угол. В свой безнадежный угол.
— Застал с Петровичем, — громогласно заявил Люськин.
За ним, ухмыляясь, шел Нестеров.
— Как же, Николая-то нет, — проговорила полная черная девица.
— Сбежал, — вставила другая.
Настроение компании явно изменилось. По-видимому, до сих пор Милка была под Левкиным покровительством, которое теперь было демонстративно снято. Более того, в ее отсутствие, казалось, был дан сигнал, по которому все с тупой, пьяной злобой устремились к ней. Реплики перелетали над столом из конца в конец.
— «Сил не стало — это Николай говорит, — продолжала „Кармен“, — только и слышно: „Бе-е-едная Ле-е-е-ночка…“».
— А теперь была Леночка, да вся вышла.
— И что, между прочим, интересно: этот же самый Николай да эту же самую Леночку очень замечательно пришил.
— Чего же замечательного, если она полчаса верещала, как заяц.
— А Васильков-то, Васильков… — вмешался Люськин, и все захохотали.
— В двух шагах на посту стоял, ничего не слышал. Хоть убей.
Васька мечтательно перебирал струны, отрешенно глядя перед собой. Левка тоже участия в разговоре не принимал, а. только с живым любопытством поглядывал на свою соседку.
«Хорошо, что Борис этого не слышал и никогда не узнает», — думала Милка, становясь спокойнее.
Компания перестаралась. Они не понимали, что своими издевательствами только облегчают Милке ее последние часы.
— Теперь мы так не работаем, — сказал кто-то, — теперь у нас чистота и порядок. На два аршина под землей — и как не бывало.
Они могли бы этого и не говорить. Она и так знала, что с ней покончено. А что на два аршина под землей, так это даже и лучше — мама не увидит. Может быть, даже и не узнает — пропала и пропала. Останется у нее на всю жизнь какая-то надежда, с нею будет легче. А ведь дом ее стоит напротив, подумать только.
Ей казалось странным и невозможным, что могут совмещаться эти два мира, эти две жизни: жизнь на тихой улочке среди добрых людей и этот ее смертный час в жаре, пьяной злобе и перегаре. Какая-то из них должна оказаться сном.
Она попробовала представить себе жизнь без самой себя. Вот ее убили (как — об этом ей не хотелось думать), закопали, но и лежа «на два аршина под землей» она продолжала наблюдать жизнь. Своего полного отсутствия ей понять не удалось. Зато воспоминания о матери и о доме захватили ее целиком. Ей вспомнилось, как она с вечера ставила будильник, чтобы не проспать того, лучшего во всем дне мгновения, когда он распахивал окно, — и все-таки просыпалась до будильника и выходила в сад. Это были ясные прохладные утра. Роса лежала в плоских листьях настурции такими сверкающими шариками, что казалось, тряхни их — и они, гремя, покатятся на землю.
Дохтуров стоял у окна в белой рубашке с закатанными по локоть рукавами, подбоченясь, смотрел и, кажется, чуть усмехался, а потом поворачивался и уходил. Теперь ей казалось, что эти минуты были лучшими в ее жизни, такой недолгой.
Девицы стали уже откровенно похабничать под гоготание парней, но Милка их не слышала. Как ни странно, ей удалось уйти от них, пройти по улице поселка и даже встретить Александра Сергеевича у самого его дома. Раньше, когда они встречались на улице, он искоса и живо взглядывал на нее и здоровался— очень почтительно. Ни с кем он так не здоровался. Как могла она забыть! Конечно, она была для него всего-навсего глупой девчонкой, не больше, однако ни с кем он не здоровался так весело и так почтительно. Это было, было, она помнит.
Вдруг что-то страшное ударило ей в лицо, захлестнуло рот и глаза. Она задохнулась. Это один из парней, раздраженный ее отсутствующим видом, хлестнул ей в лицо из миски, куда сливали остатки вина и где плавали окурки.
Нет, реальной была только одна жизнь, и в нее нужно было возвращаться, чтобы умереть.
На миг ее оглушило то, что она услышала и увидела. Все сливалось, и шевелилось, и плыло перед глазами. Казалось, в комнате груды парного мяса, странно ожившего. Неужели сейчас до нее дотронутся? Неужели сделают ей больно?
И вот произошло нечто столь необыкновенное, что она окончательно потеряла способность отличать, где явь, а где сон.
Во-первых, потянуло свежим ветром, поразительным в этой комнате. Оказалось, что это открылось окно. А в окне стоял Борис, положив локти на подоконник.
— Привет честной компании, — сказал он без улыбки. — Вы без нас не скучаете?
Милка с ужасом ждала, что сделает Левка, но оказалось, что Левки, по-видимому, уже давно нет в комнате. Никто Борису не ответил. Вообще стало очень тихо.
— Мы, собственно, за нашей сестренкой пришли, — продолжал Борис. — Пошли домой, погуляла и хватит.
— Пожалуйста, — с готовностью согласился Люськин, — ваша сестрица немножко того… выпила, а так-то в полном порядке.
Милка прямо из окна вывалилась в объятия Бориса. Костя, тоже очень серьезный, стоял тут же. Они вышли на улицу. Было совсем темно, земля дышала тяжелой сыростью. Милка не могла унять дрожь.
— Хорошее изобретение телефон, — сказал Костя, — но проку в нем мало. Два часа крутил ручку, два часа орал в трубку — не слышит телефонистка, и все! Я думал, и совсем до тебя не дозвонюсь.
— Хорошо герою из кино, — подхватил Борис, — он в таких случаях падает в седло прямо из окна, или летит машина, мелькая на поворотах. У меня, увы, не было ни коня, ни машины. Ближайший поезд шел через полтора часа.
— Перестаньте, пожалуйста, — все так же дрожа, сказала Милка, — вы сами волнуетесь не меньше моего.
Борис рассмеялся:
— Ничего, сестренка, вое будет в порядке.
— А ты понимаешь, почему они так легко уступили? — спросил Костя.
— Нет.
— И я тоже нет.
— Что-то здесь не ладно, — сказал Борис. — Ты не боишься остаться одна? Мы сейчас придем.
Проводив Милку, они вернулись к дому тети Паши. Все было тихо и темно. Дверь оказалась незапертой. Когда они вошли, им послышался не то стон, не то плач. В кухне при едва видном свете коптилки они разглядели женщину, сидящую за столом. Уронив голову на руки, она тихо подвывала. Это была тетя Паша.
— Тетя Паша, — негромко окликнул Борис, — куда же все подевались?
Тетя Паша подняла голову.
— Ты меня спроси, — с силой сказала она своим низким голосом, — что я пережила и какой крест несу. Ведь это крест.
— Ну, тетя Паша, дорогая, расскажи, что здесь произошло?
Тетя Паша пристально посмотрела на него.
— Сопляк ты, — сказала она и отвернулась.
Она не желала разговаривать.
— Все это очень странно, — сказал Борис, когда они вернулись к Милке, — подозрительная уступчивость.
— И вот еще, — рассказывала Милка, — они… ну… эти несколько раз заговаривали об инженере Дохтурове, да так как-то нехорошо, с такими странными недомолвками, прямо не знаю. Всё что-то с угрозою. Как ты думаешь, не предупредить ли нам его?
— Их разговор относился к сегодняшнему дню?
— Этого я не поняла.
— Знаешь что, давай зайдем к нему сейчас же.
— Не знаю, удобно ли так поздно.
— А, удобно-неудобно, наплевать. Пошли. Кто знает, что еще может случиться.
— Лучше бы ему уехать отсюда. Да и нам бы всем уехать, — сказала Милка.
— Э, нет, — отозвался Борис, — мы еще можем пригодиться.
— Товарищ Романовская, — монотонно и с безнадежностью говорил Денис Петрович, — поймите, так дела не делаются.
Это был один из тех бесконечных и безрезультатных разговоров, которые раза два в неделю приходилось вести с проклятой Кукушкиной.
— Мы должны работать неслышно, — продолжал Берестов. — Люди, если они не преступники, не должны чувствовать от нас никакого беспокойства. А вы что делаете? Вызвали сразу пять человек, сели против них, таращились, как идол, чадили им в рожу махоркой, говорили какие-то зловещие слова. Зачем все это? И кто это позволил вам их вызывать?
— Мы в Петророзыске…
— Ничего такого не было в Петророзыске. Нам нужно доверие людей и их уважение. А вот протокол вашего допроса — это же целая папка. Передопросы! Очные ставки! И все это по поводу того, что один у другого украл кролика.
Кукушкина смотрела на него недвижным взором, который по обыкновению ничего не выражал. Разговор предстоял более нудный и безнадежный, чем обычно.
Однако ой был прерван — дверь неожиданно с шумом распахнулась, и на пороге стал мальчик. Он был бледен, очень бледен, так что не видно было губ.
Это был Сережа Дохтуров. Он стремительно подошел к столу и сказал то единственное, чего Берестов (хотя он сразу понял, что случилось несчастье, и притом именно с инженером) никак не ждал от него услышать:
— Арестуйте немедленно моего отца. Он предатель и хочет взорвать поезд с людьми.
— Прошу прощения, — сказала Кукушкина, — это очень интересно.
Грубо выругавшись, Берестов вышел из кабинета. Куда-то унесло и Кукушкину. Сережа остался один. Он сел на клеенчатый диван, стараясь вспомнить все, что произошло с ним в последние часы, однако это ему не удавалось. Он дрожал, поджимал босые ноги и никак не мог согреться на холодной клеенке.
Сегодня в сумерках он шел домой. Был тихий вечер, в поселке стоял приятный запах жженого валежника: ребятишки жгли костры, отгоняя комаров. Сережа, сам любил сидеть у этих, заваленных раскаленной хвоей, почти без пламени костров и коптиться в горячем и густом их дыму. Но было поздно, отец мог уже вернуться, и поэтому Сережа торопился домой.
Он бежал по дорожке своего большого заросшего сада, когда неподалеку в кустах сирени послышались голоса. Сережа сейчас же присел за садовой скамейкой и стал слушать. Сирень росла в запущенной части сада, вокруг нее было много крапивы — из жителей дома сюда никто не заходил. Люди в сирени, должно быть, не слышали его шагов, потому что продолжали разговор.
— Сына, кажется, нет дома? — спросил один из них шепотом.
— Кажется, нет, — ответил другой.
— Ты уверен, что сына нет дома?
— Кажется, что нет.
— Он мог бы нам помешать.
Наступила тишина. Кусты сирени качались. Сережа сидел не дыша и не решаясь подползти ближе. Сердце опасно стучало, во рту стало древесно сухо. Жизнь отца находилась в большой опасности, в этом не могло быть сомнения. Однако дальнейшие слова незнакомцев были непонятны.
— Разве инженер ничего не сказал сыну?
— Нет, мальчик ничего не знает, инженер считает, что он мог бы проболтаться.
Этого Сережа понять не мог. Нужно было воспользоваться наступившей паузой и поскорее сообразить, а он был не в состоянии. Сейчас они окажут еще что- нибудь, и это во что бы то ни стало нужно будет понять и запомнить, а он… Так и есть!
Однако то, что они говорили дальше, уже нельзя было не понять. Они говорили о том, что инженер согласен взорвать поезд сегодня ночью, что для этого все готово, взрывчатка и прочее, и что все будет в порядке, если не узнают в городе, в розыске.
И вот тут Сережа представил себе лицо Семки Петухова. Он рос, он наваливался на Сережу.
А разговор в кустах продолжался.
— Деньги ты ему уже передал?
— Отдадим ночью. Только бы в городе, в розыске ничего не узнали. Тогда будет все в порядке. Взлетят в воздух большевички!
Через минуту Сережа мчался на станцию задами поселка по мокрым остывшим лопухам. До поезда, по его расчетам, было минут сорок. Пустой, лживый, проклятый мир лежал кругом. Лучше было не видеть, не слышать, не чувствовать. Лучше было умереть.
В темноте он ударялся босыми ногами о корни деревьев и шипел от боли, но не задерживался ни на минуту. Раз меж пальцев попала шишка, он на ходу вытащил ее, зажал в руке и побежал дальше.
В вагон он войти не смог, а остался в тамбуре, который почему-то оказался пустым. Сережа смотрел в стеклянную часть двери.
За поездом, цепляясь друг за дружку, гнались придорожные елки, а потом все разом — хлоп! — остановились и кинулись назад. Потянулся лес.
Только теперь Сережа заметил, что вдоль насыпи бредет туман, ему стало страшно, и он, чтобы не видеть ни леса, ни тумана, сел на пол.
Он изо всех сил старался не поддаваться, чувствуя, что это на него надвигается, что еще минута — и он не совладает с собой.
Оказалось, в руке его по-прежнему зажата зеленая шишка, еще не распустившаяся, тяжелая, литая, такие можно далеко бросать. Но и шишка не помогла, все уже случилось, они бежали за поездом. «Папа, кто строил железную дорогу?» — «Инженеры, душенька». И вот сразу вдоль насыпи побежали они. «Кто там?» — «Толпа мертвецов…» Против воли Сережа уже вспоминал слово за словом.
Под ним крупно стучали колеса, и так близко, что казалось, они не отделены от него настилом пола. Да и сам тамбур стал прозрачен и тем, кто бежал за поездом, Сережа был хорошо виден.
Он уронил голову на колени и закрыл глаза — несчастный, одинокий босой мальчишка.
Поезд шел, темный среди темной ночи. А вдоль насыпи по бокам ее брел туман.
Когда дежурный зашел в кабинет Берестова, он увидел, что лампа сильно коптит, а на диване, собравшись в комок, сидит мальчик.
— Ты что же, не видишь, что коптит! — сердито крикнул дежурный и подвернул фитиль.
Мальчик ничего не ответил. Он только смотрел на дежурного и сильно дрожал. Достаточно было взглянуть на его багровое лицо, чтобы понять, что у него жар и что он уже ничего не соображает.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава I
Поля были полны тумана, он нежно наседал на стога, вился, цепляясь, у кустов, превратил луну в багровое, с трудом проступающее пятно. Мерно отбивая копытами по кремнистой дороге, старая Розалия несла своего старого хозяина.
— Давай, давай, старушка, покажем им, на что мы с тобой способны.
Туман полз вдоль дороги. Розалия отмахивала во всю свою длину, всадник поднимался в седле мерно, легко и привычно.
— Давай, давай, старая, и помни, времени у нас немного.
Он прошел полпути, когда услышал за собой шум и увидел вдали туманное пятно света. Сзади, пока еще далеко, шел мотоцикл.
— Веселое дело, — сказал всадник.
Кобыла наддала. Ветер свистал навстречу. «Ого как! Давно мы не показывали таких результатов!» Однако пятно стало яснее.
Теперь Розалия шла в сплошном тумане, только мутное пятно в небе да пятно от фары сзади. Положение было скверное. Остановиться? Нет ничего проще, как остановиться и завести Розалию в лес, но тогда он не успеет. Может, добраться до проселка?
Он припал к лошадиной шее, чувствуя лицом гриву и вдыхая привычный запах лошади. Скосил глаза через плечо. Догоняет. Нестеров уже спиной чувствовал приближение врага, — а может быть, это туман полз за ворот? Не хочется помирать. Да и Паша будет плакать. И погода, как назло, паскудная — в такую погоду разве остановишь поезд? Нет, не успею. Всё.
Нестеров свернул в лес и соскочил на землю. Треск и пальба на дороге усилились. Налетел мотоцикл, — впрочем, самого его не было видно, только сидячая, словно каменная, фигура мотоциклиста пронеслась в мутном воздухе.
В поселке по ночам всегда закрывали окна. Инженер Дохтуров был, наверное, здесь единственным, чье окно оставалось открытым.
Оно выходило в сад, прямо в плотные кусты, мокрые в эту ночь от тумана. Кусты разрослись настолько, что затянули собой половину окна и защищали кабинет инженера от посторонних взглядов лучше всяких занавесок.
Однако сегодня инженера почему-то тревожило это окно. Он сидел за письменным столом, отгороженный от полумрака комнаты светлым кругом лампы. Был поздний час. В доме все спали. Во всяком случае, Александр Сергеевич был уверен, что Сережа спит в своей комнате. Мог ли он знать, что сын его в это время едет в уездный город со своей странной вестью.
Итак, Дохтуров сидел один поздно ночью в уснувшем доме, работал и старался не думать об окне: ему показалось, будто недавно в него кто-то заглянул. Он, правда, не мог бы сказать, было ли это на самом деле, однако ему все сильнее хотелось встать, закрыть окно и запереть его на все задвижки.
Он отложил расчеты и нарочно стал думать о сварке, зная по опыту, что мысль о сварке может отогнать все другие. Что, если бы действительно они получили аппаратуру — ведь бывают же удачи в жизни? На подобную удачу трудно было рассчитывать, однако Александр Сергеевич сделал все для того, чтобы ее добиться: писал друзьям на заводы, посылал Митьку Макарьева скандалить в различные учреждения, заранее готовил новые расчеты, присматривался к парням, кто посмышленее, и даже начал — правда, уже для собственного удовольствия — объяснять принцип электросварки своему любимцу Тимофею.
Теперь ему предстояло заново рассчитать конструкцию центральной фермы. «Не стоит терять даром времени!» — подумал он и вновь принялся за работу.
Он уже с головой ушел в свои расчеты, когда что- то томительно и властно стало бить в нем тревогу. «Вздор», — с раздражением сказал он себе и в тот же миг краем глаза увидел на подоконнике руку.
Рука эта, небольшая мужская рука, опоясанная часами, нащупывала выступ подоконника, чтобы получше за него ухватиться, потом прочно утвердилась, побелела от напряжения, и сразу же окно заполнилось темной массой. В комнату спрыгнул человек, за ним тотчас же другой. Все это заняло одно мгновение.
— Спокойно, — сказал Левка, — без шума, инженер. Будет разговор.
Теперь, когда они оба были в комнате, Дохтуров почему-то успокоился.
— С таким предметом вы знакомы? — на Левкиной ладони плоско лежал браунинг.
Инженер поднял на него глаза и ничего не ответил.
— Ценю, — небрежно сказал Левка. — Вы будете сидеть так же тихо, в противном случае…
Он взглянул на Николая и рассмеялся.
«Ну и позер же ты, братец», — подумал инженер и вдруг пришел в бешенство от своего бессилия перед этим мозгляком.
Он оглянулся. Стул? Чернильный прибор? Керосиновая лампа с тяжелой чугунной подставкой? Бесполезно: их двое, они вооружены, и притом отнюдь не чернильными приборами. А главное, рядом спит Сережа.
— Вы пойдете с нами. Одевайтесь, — сказал Левка, и Дохтуров почувствовал нечто вроде облегчения: по крайней мере, бандиты уйдут из его дома.
Инженер встал — очень медленно, чтобы бандиты не заметили, как он торопится уйти, — насмешливо и выразительно взглянув на парней и на окно.
— Нет, через дверь, — ответил Левка, пряча в карман браунинг.
В передней Александр Сергеевич остановился, надевая плащ. На вешалке висело старое Сережино пальтишко.
Послышались шаги. Парни подняли воротники и приспустили кепки.
В переднюю безмятежно вошла Софья Николаевна. Она была в атласном халате, правда давно полопавшемся, зато усыпанном крупными японскими цаплями, в туфлях с помпонами на высоких, правда несколько съехавших, каблуках, и в папильотках, целым лесом рогов стоявших на ее голове. Личико ее было вспухшим и помятым, а усы придавали ему какой-то странно пропойный вид.
— Простите, — изящно и не без игривости сказала она парням, — простите меня, я в таком виде. Никак не думала, что у нас гости.
Александр Сергеевич вздохнул. Парни что-то пробурчали.
— Александр, — милостиво и со снисходительной важностью упрекнула она, — нужно было меня предупредить, что у нас гости, я бы напоила вас чаем. Вы уже уходите? Так скоро?
— Да, я ухожу, — медленно сказал Дохтуров.
Левка кашлянул.
— Я ухожу. И скоро вернусь, — он смотрел ей в глаза. — Вероятно.
Левка снова кашлянул. Николай переступил с ноги на ногу.
— Вероятно, — повторил инженер так же медленно. — Поцелуйте Сережу.
— Ах, все Сережа и Сережа, — утомленно и беспечно проговорила Софья Николаевна. — Право, вы нежный отец. Ступайте уже, я запру за вами, — эти слова она произнесла тоном добродушной ворчливости.
Мужчины вышли на крыльцо, а Софья Николаевна, заперев за ними дверь, отправилась спать. Впрочем, выспаться ей в ту ночь не удалось: часа через полтора ее разбудил стук. На этот раз она летела открывать в страшном раздражении на зятя, который ходит взад и вперед по ночам. Однако за дверью стояли Милка, Борис и Костя.
— Простите, пожалуйста, за беспокойство, — начал Борис, — нам по очень важному делу нужен Александр Сергеевич. Разбудите его, пожалуйста.
— Я не могу разбудить человека, если этого человека нет дома, — в раздражении ответила Софья Николаевна, — он ушел.
— Как ушел?! Ночью?!
— Да, ночью, — нерешительно ответила бабка Софа, — он ушел час назад.
— Один?
— Нет, у него были гости, потом они все вместе ушли, а куда ушли, я не знаю, зять никогда ничего мне не говорит.
Описать их наружность Софья Николаевна не могла. Она только помнила, что это были вполне приличные молодые люди.
— Он был спокоен? — спросила Милка.
— Совершенно, — ответила Софья Николаевна. — Совершенно спокоен. Он всегда совершенно спокоен.
Они распрощались.
— Странно, — сказал Костя.
— Странно и нехорошо, — прибавил Борис.
— Что же делать? — твердила Милка. — Что же делать?!
Когда-то Берестов уже видел крушение: накренившийся набок паровоз, развороченные вагоны, над всем этим утробный вой человека, которого раздавило между буферами. От удара вагоны вздулись и полопались в своих металлических швах, из этих щелей выползали люди или то, что от них осталось. Кто- то носил мертвых, тащились раненые. Неужели ему предстоит увидеть все это еще раз?
Берестов и Водовозов давно уже выехали со станции, но не сделали еще и половины пути. Им дали старенький маневровый «ЧН», который при максимальном напряжении делал не более двадцати верст в час.
В эту странную ночь, когда поезд летел к гибели, Нестеров гнал по кремнистой дороге свою старую Розалию, инженер шел под дулом бандитского пистолета, а Берестов с Водовозовым катили по путям на маленьком «ЧН», — в эту странную ночь в домике на окраине города сидела высокая дама. Она была одна, если не считать собачки, которая дрожала у ее ног. Дама сидела так же неподвижно, как и тогда на станции, только изредка моргала своими черными глазами, даже и не моргала, а вся как-то вздрагивала.
В два часа ночи она встала, узкой ногой отшвырнула собачонку, попавшуюся ей на пути, и подошла к окну. Долго стояла она и смотрела в непроглядную тьму, в то время как собачка ее тоскливо тряслась в углу.
Инженер прошел лес и теперь шагал краем болота. Над болотом поднимался туман. «Болотная ведьма пиво варит», — подумал он, вспомнив детскую сказку, и усмехнулся. Сзади, отстав на два шага, шли бандиты. Сперва он думал, что они сразу выстрелят ему в спину, потом решил, что они отведут его для этого подальше от поселка, где могли услышать выстрел. Потом понял, что зачем-то им нужен.
Правильно ли поступал он до сих пор? Увел бандитов из дому — это, конечно, правильно. Мог ли он бежать в лесу? Нет, дуло пистолета все время смотрело ему в спину, да и погибать в мокром лесу не хотелось — все казалось, что упадешь лицом в холодную воду. Нет, до сих пор он ничего не мог сделать. А здесь, на болоте?
Он опередил своих спутников уже на несколько шагов.
Спасти его могла только, какая-нибудь неожиданная встреча, но на нее трудно было рассчитывать в этом пустынном месте, да еще в такую сырую туманную ночь. «Где вы, Денис Петрович, — думал он, — как были бы вы сейчас уместны с вашими молодыми людьми».
Теперь он мог определить, что они идут к железной дороге, и это подняло в нем неясные подозрения. Если бы не туман, вдали можно было бы различить прямую стрелку насыпи и палки телеграфных столбов. Зачем же им железная дорога?
И вдруг все это представилось ему со стороны. Он подумал, что никогда не простит себе этого пути и что воспоминание о нем будет преследовать его всю жизнь.
«Им нужен я, — думал он, — я что-то должен буду сделать, и, вероятно, на железной дороге. Разобрать путь? Взорвать поезд? Вы ошиблись адресом, друзья мои. Так у нас не выйдет».
Он повернулся и пошел им навстречу. Он шел выпрямившись, надменно подняв голову и глядя вверх (чтобы не видеть направленного на него дула, самой, этой дырки). Он не слыхал, как сказал Левка: «Теперь уже можно», не слыхал он и выстрела. Земля кинулась на него со всеми своими кочками и жесткими болотными травами. «Ты один остался, один…» — подумал он о Сереже, уже лежа на земле и, как вспомнил он потом, много дней спустя, — изо всех сил стараясь не умереть.
Поезд, сказали мы, летел к своей гибели, однако он не летел, он еле полз. Старик Молодцов медленно вел его вне всякого графика — путь был виден плохо. С унылым воем состав шел в тумане.
Николай Степанович высунулся далеко из окна, стараясь разглядеть полотно и огни семафоров, но свет двух паровозных фонарей упирался в дрожащую мглу, куда убегали рельсы и откуда неожиданно выползали придорожные огни. В седом тумане, в молоке шел паровоз. Машинист тихо ругался. Глаза ломило, ничего не было видно. «И надо же, чтобы именно сегодня! — с досадой думал старик. — В такую ночь недолго до беды».
Иногда туман, свиваясь пеленами и нестойкими привидениями, расступался, и путь был виден немного дальше. Несколько раз старику чудилось, что на рельсах кто-то стоит, но всякий раз это оказывалось ошибкой.
Старый машинист хорошо знал этот путь и обычно, не глядя, угадывал каждый его участок, однако теперь даже он не понимал, сколько времени они едут и где находятся, словно состав ползет наугад в мире, где нет ничего, один только туман.
— Дядя Коль!.. — прокричал помощник.
Да, Николай Степанович видел и сам, только не мог разобрать, что это такое.
— Будто человек на коне. Откуда здесь взяться человеку на коне?
Долгое время старик не мог рассмотреть этот мечущийся и расплывающийся призрак. Похоже было на то, что это действительно всадник. Поставив поперек полотна пляшущего своего коня, он одной рукой сдерживал его, а другой, повернувшись вполоборота, сильно и отчаянно чертил в воздухе над головой. «Нельзя! Дальше нельзя!» — говорила эта рука. Он мелькнул видением нечетким и мгновенным, потому что лошадь сейчас же метнулась в сторону, а через некоторое время паровоз выполз на то место, где она стояла. Николай Степанович остановил состав. Внизу под насыпью вертелся всадник. Старик узнал Нестерова.
— Дядя Коля! — орал тот, еле удерживая на месте взбешенную Розалию. — Дальше нельзя! Путь минирован!
Николай Степанович соскочил на шпалы, надеясь расспросить; к паровозу бежала сопровождавшая состав охрана; сошло несколько пассажиров. Однако то ли Нестеров не мог удержать взбесившуюся со страху Розалию, то ли не хотел объяснений, только он скрылся в туманном море. Еще раз послышалось: «Нельзя, дальше нельзя!» — и всё.
Поездная бригада вместе с охранниками медленно двинулась вперед по путям.
Когда Берестов и Водовозов прибыли на место происшествия, они застали здесь уже множество народу. В расползшейся по насыпи толпе стоял Левка. Тут же были Николай, старик Молодцов. На рельсах лежал инженер.
— Мы что сделали, — видно, во второй уже раз рассказывал Левка самым простецким и азартным тоном, — мы, как подозрение у нас появилось, послали Петровича, это Нестерова значит, на лошади и вот этого на мотоцикле — кто уж успеет! — остановить поезд, а сами сюда. Смотрим: работают трое на путях. Одного подлеца мы стукнули, — он кивнул головой на инженера, — остальные убежали. В двух местах минировали, гады, наверняка работали.
Александр Сергеевич лежал на спине. Лицо его хранило страдальческое ребячье выражение. Берестов взял его холодную руку. Пульса не было. Не впервой было держать человеческую руку, в которой нет пульса, однако теперь это казалось ему невозможным. Стал на колени, чтобы послушать сердце, и не услышал стука.
Он поднял голову и встретился взглядом с Водовозовым. Долго и неотрывно смотрели они в глаза друг другу.
Глава II
Нюрка сидела на корточках меж бочек с желтыми солеными огурцами и что-то разгребала на земляном полу. При виде Анны Федоровны она не поднялась, а только взглянула на нее снизу вверх с видом покорным и безнадежным.
— Слыхала? — удовлетворенно спросила Анна Федоровна, усаживаясь на ящик, и прибавила: — Ну и вонища у тебя здесь.
— Ничего не слыхала, — уныло отвечала Нюрка.
— Плохи дела у твоего начальника.
— Какого такого начальника?
— Товарища Дениса, вот какого. Из доверия, говорят, вышел.
Нюрка по-прежнему разгребала на полу какие-то черные коренья.
— Теперь не он Левку, а Левка его судить будет, — с торжеством продолжала Анна Федоровна, — вот как дело-то обернулось.
— Как это — бандит и вдруг начальника судить будет? — не поднимая головы, ответила Нюрка.
— А это ты уж у Левки спроси, как он такого дела достиг. Хороша бы я была, кабы твоего совета послушалась и на Левку тогда донесла. Интересно, где бы теперь меня искали, где бы нашли? Вот, понадейся так на людей… Нет, милка моя, своим умом только живи, никого не слушай.
Нюрка молчала, переваливаясь и переступая на корточках с места на место, всецело, казалось, занятая своим делом.
— Нет, вот это парень! — с восхищением говорила Анна Федоровна. — Нет, что устроил! Теперь, поди, сам в начальники выйдет, еще твоего Берестова в рог согнет. А ведь мальчишка, нет тридцати! Вот как умные люди-то поступают!
— А почем ты знаешь, — может быть, вранье все это.
— А ты у своей начальницы спроси, — насмешливо сказала Анна Федоровна, — теперь ведь у тебя, не у меня начальство на квартире стоит. Ты у нее спроси, правда или нет.
Нюрка безнадежно махнула рукой. У нее с недавних пор действительно сняла комнату Кукушкина- Романовская, однако Нюрка ее за начальника не считала.
— Да знаю я, поверь, что знаю, — продолжала Анна Федоровна, — разве я тебя когда обманывала? Прогадала ты, Анюта, со своими комсомолами, не за них нужно было тебе держаться. А то — как только какая-нибудь богохульная «комсомольская пасха» или «красная коляда», так она тут как тут, кругом вертится, все глаза выглядит. Ты не очень-то на свою советскую власть полагайся.
— А вот я пойду, — сказала Нюрка, вставая, — и расскажу все как есть.
— Куда ты, кочерыжка, пойдешь, — с величайшим презрением ответила Анна Федоровна, — и что ты скажешь? И что ты знаешь? Только то, что я тебе говорила? Да я ведь отопрусь. Я-то отопрусь, а тебе не сегодня-завтра кирпичом голову проломят. Вот и всё. Больше ничего не будет. Ну, мне пора.
Нюрка осталась стоять, а собеседница ее ушла, по дороге долго еще ухмыляясь и крутя головой, словно она услышала что-то очень смешное.
Нюрка знала, что ноги ее кончаются там, где у прочих людей начинаются коленки. Она это знала, когда была еще маленькой, и страстно мечтала о том, как вырастет, а вместе с ней вырастут и ее ноги. Однако тело ее тянулось вверх, ноги же только толстели. Чтобы скрыть их, Нюрка носила какие-то длинные балахоны, в то время как нэп укоротил женские юбки до колен, открыв на зависть Нюрке множество стройных женских ног.
Она давно мечтала о высоких каблуках. Ей казалось, что стоит надеть ботинки с высокой шнуровкой и длинными каблуками, как сама она станет высокой и стройной. Однако на ногах ее все время, за исключением зимы, когда она носила валенки, были самодельные тапочки, сплетенные из грубой веревки, а в них Нюркины ноги выглядели уже совершенными обрубками. Ботинки же с высокой шнуровкой были дороги.
В кооперации Нюрка почти не получала денег, ей платили мукой, постным маслом и овощами. Ради исполнения своей мечты она уже давно работала на огородах, которых было очень много на окраине города, да и в самом городе. Времени у нее было достаточно, а после ограбления кооперации ее овощной ларек часто и вовсе бывал закрыт. Ей уже виделось, как она, стройная и высокая, идет по улице, встречает Берестова и рассказывает ему все. Что это «все» — она представляла себе неясно.
И вот наступил день, когда Нюрка, отглаженная и причесанная, вышла на улицу, сверкая новыми башмаками. Шла она с трудом, потому что каблуки оказались не таким уж простым делом, но это не доставляло ей ни малейшего огорчения. Шла она, конечно, в сторону розыска.
Все силы она потратила на то, чтобы пересечь булыжную мостовую городской площади, где каблуки попадали на камни вкривь и вкось. Дальше дело пошло лучше: сперва деревянный тротуар, а потом и вовсе земля. Нюрка не удивлялась тому, что встречные женщины оборачиваются и смотрят ей вслед. Еще бы! Однако она уже обливалась потом.
Встретив того, кого надеялась встретить, Нюрка испугалась. Берестов шел быстро, а лицо его было злым (его вызывал к себе Морковин). Нюрка издали, улыбаясь, закивала головой. Он приостановился.
Перемена в Нюркином облике сразу кинулась ему в глаза, однако эта перемена заставила его впервые приглядеться к ее фигуре и увидеть всю ее несуразность — только и всего.
— А, это ты, — сказал он, как ему казалось, очень добродушно и прибавил, невольно отвечая торжественности, сиявшей на ее лице: — Смотри, совсем была бы ничего, только бы росточку немного побольше.
Денис Петрович совсем не хотел ее обидеть, ему и в голову не приходило, что рост может играть столь важную роль в жизни человека — немногим выше, немногим ниже девушка, какое это имеет значение?! А может быть, то смутное раздражение, с каким он шел к Морковину, помешало Денису Петровичу понять Нюркино настроение. Словом, он сказал именно так, как сказал. При этом он улыбнулся, чтобы показать, что шутит, и пошел дальше, так как очень торопился.
Нюрка побледнела. В другое время она бросилась бы бежать, как это делала обычно, спасаясь от насмешек, но теперь она не могла сдвинуться с места из-за каблуков. Силы покинули ее. Она стояла, опустив голову и держась за колья ограды.
Морковин встретил Дениса Петровича как ни в чем не бывало.
— Садитесь, — предложил он.
Берестов сел. Следователь долго развязывал тесемки своей желтой папки.
— Так вот, — сказал он голосом столь простым и даже домашним, что Берестов удивился, — поступило ко мне дело инженера Дохтурова. Сейчас, подождите, пожалуйста, минуточку.
Он подошел к шкафу и достал там какую-то бумагу, потом выглянул в дверь кабинета и крикнул:
— Василь Николаич!
Вошел высокий тощий человек.
— Ты делом Дохтурова интересовался, — сказал Морковин, — мы как раз о нем сейчас и говорим. Посиди, если у тебя есть время. Садись в помещичье кресло. Товарищ из губернии, — объяснил он Берестову.
— Так вот, — продолжал Морковин, снова садясь за стол, — знакомился я с этим делом.
Лицо его, осветившееся было улыбкой, когда он сказал про помещичье кресло, стало серьезным. Он перебирал бумаги.
— Вот показания машиниста Молодцова, который вел поезд. Вот показания Льва Курковского и Николая Латышева, которые задержали Дохтурова. Показания пассажиров. Всё так. Теперь вот — следы. Это уже по вашей части.
Он взглянул на Берестова.
— Как показывают Курковский и Латышев, с Дохтуровым были еще двое неизвестных, которые после выстрела бежали в лес. Эти показания подтверждаются следами, оставленными на насыпи. Вы тогда снимали с них след. Я прошу вас заняться этим делом.
— Что же заниматься, — спокойно ответил Берестов, — сапоги, оставившие след, лежат у нас в розыске. Все четыре штуки. Они были любезно оставлены нам на дне Хрипанки.
— А диверсанты босыми ушли по реке?
— Если они вообще существовали.
Морковин и тот, кого он называл Василием Николаевичем, переглянулись.
— Что вы хотите сказать? — спросил Василий Николаевич.
— Я хочу сказать, что вся эта история с диверсией мне более чем подозрительна.
— Почему же?
Они снова переглянулись, на этот раз долгим взглядом.
— Дохтуров один из самых талантливых инженеров губернии, один из тех, кто стал сразу же на сторону советской власти и доказал свою преданность ей. Что же касается парней, выступивших с обвинением, то у нас в розыске есть все основания предполагать, что это руководители крупной банды.
Морковин постукивал карандашом по столу — сперва носиком, а потом, быстро перевернув, обратной стороной.
— А какие тому доказательства?
— Одно доказательство сидит у нас за решеткой. Это человек, служащий в титовской чайной.
— И он признался, что принадлежит к… «банде» Курковского? Или у вас есть доказательства этому?
Берестов дорого бы дал, чтобы ответить утвердительно, но что поделаешь!
— Нет, прямых доказательств у нас нет, и он не признался, однако он связан с двумя другими парнями, они вместе ограбили кооперацию в деревне Дроздовке. А эти двое принадлежат к компании Курковского.
— Да, доказательства, — Морковин усмехнулся. — Боюсь, что это называется — вилами по воде.
Вдруг он поднял голову и пристально посмотрел на Берестова:
— Дохтуров, кажется, приходится вам родственником?
— Нет, — ответил Денис Петрович, — хуже: он мне друг.
Наступило молчание. Они нарочно тянули его, это было видно.
— Да-а-а-а, — сказал Василий Николаевич, — дела. Ну, что же, пожалуй, я пойду, Анатолий Назарович.
Морковин опять посмотрел на него долгим взглядом, как бы желая сказать: «Вот видите, я вам говорил».
Когда «товарищ из губернии» вышел, аккуратно прикрыв за собою дверь, Морковин сказал жестко:
— Странное представление создается у нас о вашей деятельности, Берестов. До сих пор мне казалось, ее вообще нет, этой деятельности, есть одна бездеятельность. Однако я ошибся. Вы, оказывается, действуете весьма энергично.
— Иногда даже столы опрокидываю.
— Ну… к опрокинутым столам мы еще вернемся, это дело от нас не уйдет.
«Что же он все-таки знает? Неужели знает о Павле что-то такое, чего не знаю я?»
— А пока вернемся к диверсии. Оказывается, оставляя на воле бандитов, вы запутываете честных, преданных нам людей.
— Кого это?
— Льва Курковского, Николая Латышева, тех, кто, рискуя собой, захватили диверсантов и предотвратили крушение. Встает вопрос: почему, с какой целью вы это сделали? И ответ напрашивается неприятный для вас, Берестов.
— Мне нужно время, и я докажу, кто они такие.
— У вас было достаточно времени, — так же презрительно ответил Морковин. — А теперь, когда дело веду я, вам придется уже выполнять мои поручения. И придется вам разыскивать не улики против Курковского, а тех двоих диверсантов, которые ушли в лес. Я очень советовал бы вам их найти. Не скрою, что сама судьба ваша зависит от того, как скоро вы их найдете.
«Что же, формально ты прав: уж если дело попало в трибунал, я, как начальник розыска, обязан выполнять твои поручения. Однако это значит идти по ложному следу, сознательно оставленному нам преступниками».
— Я буду искать правду, — медленно сказал он, вставая.
— А я буду ставить вопрос о том, что ты покрываешь контрреволюцию, — прошипел Морковин.
«Плохо дело, — думал Берестов, шагая обратно в розыск, — этот проведет следствие. В таком виде представит трибуналу, что и судить будет нечего. И так все ясно. Ну посмотрим».
В ту ночь у железной дороги они с Водовозовым кинулись осматривать местность. Берестов — по следу, приведшему к Хрипанке, Водовозов — по другую сторону полотна.
Встретились они через несколько часов в розыске. У Берестова на столе лежали разбухшие в воде сапоги. Водовозов положил на стол плоский бумажный пакет. В нем оказался тонко срезанный слой влажной и плотной, как пластинка, земли.
— Кровь, — сказал Водовозов. — Довольно далеко от путей, на тропинке у болота большое пятно крови.
Берестов присвистнул:
— Вот это да.
Они с Водовозовым молча стояли тогда у окна и смотрели на улицу, где шел дождь. Он шел уже несколько часов и, конечно, смыл все те следы, которые им и ребятам из розыска, прибывшим вслед за ними, не удалось найти.
— Может, бросим в прятки играть? — спросил Денис Петрович.
Водовозов покачал головой.
— А если я догадался? — продолжал Берестов.
— Этого не может быть, — спокойно ответил Водовозов.
— А вдруг?
Павел Михайлович снова покачал головой.
— Еще одно только слово, — торопливо сказал Денис Петрович, — ты веришь этой диверсии?
— Нет, — ответил Водовозов.
И быстро вышел из комнаты, не желая, видно, продолжать этот разговор.
О кровавом пятне, найденном у болота, Денис Петрович ничего не сказал Морковину.
А Прохоров из титовской чайной молчал на допросах. Просто ничего не говорил. Передавать его дело в суд, не установив его связи с Левкой, не имело смысла. А он молчал, вызывая тяжелую ненависть всего розыска. Это было издевательство.
— Ну как? — спросил Денис Петрович у Рябы, только что вернувшегося с допроса Прохорова.
— Да все то же. Молчит. Играет пальцами. Поглядывает в окно, задрыга жизни.
Берестов встал и прошелся по комнате. Эх, как ему было нужно, чтобы Прохоров заговорил!
— Так молчит?
— Молчит, — вздохнул Ряба. — Грешный я человек, не удержался, дал ему по загривку, прости меня матушка, царица небесная.
Ряба поднял глаза к небу и начал было шутливо креститься, когда бешеный удар в челюсть сбил его с ног и шмякнул об стенку.
Медленно поднимаясь и дрожа, с ужасом и яростью смотрел он на Берестова.
— За что?! — крикнул он и бросился на Дениса Петровича.
И тотчас же снова отлетел к стене. Берестов тяжело стоял над ним, сжав кулаки.
— Не нравится, — констатировал он.
Ряба вытирал рукой кровь и рассматривал свою окровавленную руку.
— Что же ты меня не бьешь? — продолжал Денис Петрович. — А-а-а, я, оказывается, сдачи даю. А у того… руки были связаны. Удобно. Да бандит Прохоров, подлец и громила, он лучше тебя был в тысячу раз, когда ты его ударил. У тебя вон пушка на боку, за тобой Красная Армия стоит, а у него… — с отвращением повторил Денис Петрович, — руки были связаны.
— Так я же для дела, — дрожащим голосом сказал Ряба, опять вытер лицо и посмотрел на руку.
— Не погань нашего дела, не позорь советскую власть. Меня, связанного, тоже били, только били царские жандармы. Пока жив, я не позволю этого и не допущу.
— Ты пойми, — говорил ему потом Берестов, — я бы сам ему по морде дал, и, поверь, сильнее, чем ты.
— При условии, что он сможет сдачи дать, — вставил стоявший рядом с ним Водовозов.
Ряба сидел хмурый, не глядя на Дениса Петровича. Лицо его довольно сильно распухло и потемнело.
— Это обязательно, — ответил Берестов. — Но ты, Ряба, помни, любой другой может ему морду набить, а вот мы не можем. Именно мы. Понимаешь? Мы при оружии, и мы советская власть. Болит?
Ряба обиженно кивнул, по-прежнему не поднимая глаз.
— А ты попробуй чаем, — безжалостно посоветовал Берестов, — говорят, спитой чай прикладывать, очень помогает.
— У нас и морковного-то нет, — так же хмуро ответил Ряба.
Морковный чай у Клавдии Степановны, Рябиной матери, все-таки нашелся, и Денис Петрович вечером его с удовольствием пил, сидя без ремня и сапог, в одних носках. Он привык к этому дому, к тихой и кроткой Клавдии Степановне, к низким потолкам и натопленной печке. Это было единственное место, где он спокойно мог отдохнуть хотя бы несколько часов. Это был дом, куда он с удовольствием нес свой нехитрый паек, которому так тихо радовалась Клавдия Степановна. Сегодня он принес фунт постного сахару, а потому у них был парадный чай.
Вернулся Ряба. Увидев его, Клавдия Степановна всплеснула руками.
— Кто же это тебя! — горестно воскликнула она.
И правда, Ряба был полон лицом и крив на один глаз, почти совсем затянутый блестящей багровой кожей.
— Говорила я ему, бестолочи моей, — обратилась она к Берестову, — не связывайся ты с этими хулиганами. Хоть бы вы за ним присмотрели, Денис Петрович!
— Да разве усмотришь, — ответил тот, усмехнувшись.
Весть о смерти Дохтурова просто взорвала поселок. Мнения бурно разделились. Одни беспрекословно поверили в диверсию. Просто удивительно, как легко поверили люди в эту невероятную историю.
Они с ужасом вспоминали те минуты, когда встречались или разговаривали с диверсантом, готовившим гибель людей. Они проклинали инженера, вспоминали, что он всегда был им подозрителен, рассказывали, что неподалеку от лесной опушки нашли яму, где Дохтуров прятал оружие, и даже показывали при этом какую-то проплешину у дороги, где ребятишки брали дерн для клумб.
— А твои-то жильцы, — говорили тете Паше, однако та сейчас же делала каменное лицо и уходила. Парни по-прежнему собирались у нее.
— Я же вам говорил: бросьте им спеца, они его на части разорвут, — поучал в эти дни своих Левка. — Конечно, опасность есть, при крутых поворотах в штормовую погоду всегда есть опасность, ну а когда в нашем деле ее не бывало? Надо прямо сказать, с девчонкой этой мы связались не вовремя, во мне тогда, как говорится, младая кровь играла, но это, впрочем, не такая уж и беда. Ну, кто и что знает? Что-то знает тетя Паша, что-то Николаева девчонка.
— Ты забыл о Петровиче.
— Я не забыл о Петровиче, — холодно ответил Левка, — и Петрович это отлично знает, недаром он драпанул. Итак, никто не знает истины целиком. И все-таки, когда начнется следствие, показания этих людей могут произвести неприятное впечатление. Значит? Значит, наша задача — не дать им объединиться и выступить против нас совместно. Понятно?
— Понятно.
— Надо сделать так, чтобы все эти люди молчали, по крайней мере до суда и на суде. И это понятно?
Да, им и это было понятно.
— Ну, что же, тогда всё… товарищи, — сказал Левка, — и молите бога за следователя Морковина, за его светлый ум.
— Левка, — крикнул из сеней Васька Баян, который на всякий случай был поставлен караульным, — тебя здесь спрашивают!
Левка вышел на крыльцо. Перед ним стоял парень, очкастый и невзрачный.
— Семен Петухов, — представился он.
Левка стоял и ждал.
— Я пришел, — сказал Семка, движением бровей и носа поправляя очки, — сказать, что давно предвидел. И вот именно на инженера предвидел.
— Вот как?
— Я и все мы вам очень благодарны, — продолжал Семка, — и в населении. Прошу рассчитывать на меня.
— Не премину, — ответил Левка. — Очень, очень рад тебе, дорогой товарищ.
Для Милки началась новая странная жизнь.
Подолгу сидела она, глядя на окно соседней дачи, и так ясно представляла себе Дохтурова, что казалось, нисколько не была бы удивлена, если бы он, как всегда, встал в нем — в белой рубашке, с волосами, еще влажными после ванны.
«Пусть откроется окно, — молила она, — пусть он мне только привидится, лишь бы на него посмотреть!»
В доме у них стало очень тихо. С матерью они почти не разговаривали. На улицу она не выходила, да это теперь для нее было и небезопасно.
«Чего я стою? — думала она. — Какая мне цена? Можно ошибиться в человеке, но не разглядеть убийцу? Это даже странно. Казалось бы, на убийце должно лежать такое клеймо, что каждый за сто перст увидит его и содрогнется, а этот был обыкновенный парень, задумчивый. Впрочем, все видели. Почему же я не видела? И только одно, одно-единственное могла я сделать — предупредить Александра Сергеевича, — и того не сделала!»
Так шли дни. Она жила в странном мире воспоминаний. «Это произошло, когда еще жива была Ленка, — думала она, — а это было еще при Александре Сергеевиче». Только о встречах своих с Николаем она больше не вспоминала никогда, словно кто-то запер на ключ ее память. А иногда она начинала безудержно мечтать. Ей виделось, как она успевает предупредить Дохтурова и все оборачивается необыкновенным счастьем. Как ни старалась она удержать себя от подобных мечтаний, это ей не всегда удавалось и потом приходилось тяжело расплачиваться.
Так шли дни.
Однажды, когда она мыла на террасе голову, в дверь очень некстати постучали. Подняв от таза лицо, залитое мыльной водой, прихватив полотенцем волосы, чтобы не очень текло, Милка подошла к двери. Она думала, что это кто-нибудь из соседок, которые нередко забегали друг к другу. Однако в дверях стоял Николай.
— Не помешаю? — спросил он.
Милка не нашлась, что ответить, пропустила его в комнату, а сама осталась на террасе, чтобы собраться с мыслями.
Когда она вошла, Николай чинно сидел за столом, прямо поставив ноги в огромных башмаках и выложив на скатерть большую руку. За то время, что они не видались, она, оказывается, совсем забыла его лицо. В знакомой комнате, где стоял с детства привычный буфет с башенками и шершавым зеленым стеклом в окошке; где на столе была клеенка, на которую Милка, когда еще учила уроки, опрокинула чернильницу; где на стене висела картина, изображающая воздушную даму, розовую и голубую, которая так нравилась матери, — в этой комнате Николай казался неправдоподобным.
— Не ждала? — голос его был ласков.
Она молча села против него.
— Видишь, как нехорошо тогда получилось, — начал он, — только я тебя привел, послал меня Левка с поручением. Рассказывали мне потом, что перепились все, передрались. Нехорошо получилось. Ты уж на меня не сердись.
Милка молчала. Опустив голову так, что светлый чуб его загораживал половину лица, он водил корявым пальцем по скатерти.
— А тут все эти дела… Не успел я забежать к тебе и спросить: не сердишься ли?
«Почему же на этом лице кровь не проступает?» — думала Милка.
Ну, коротко говоря, — вдруг быстро сказал Николай, — в компании, бывает, мало ли что болтают, да еще спьяну.
(«Ах вот оно что!»)
— Наши, ты сама, может, заметила, народ горячий (да, она это заметила)… могут, не разобравшись… Ты же мне все-таки не чужая. Вот я и пришел тебя предупредить: никому ничего об этой нашей вечеринке и тамошних разговорах.
Милка по-прежнему молчала.
— Может, ты кому со страху и рассказала, — продолжал он, — это ничего. Лишь бы ты где-нибудь, ну, на суде там или где… — он внимательно глянул на нее из-под чуба, сбоку, одним глазом, — а не то наши народ горячий, еще и пришить могут… тебя… или мать…
— Хорошо, — поспешно сказала она, — я понимаю. Мы завтра все равно уезжаем.
— А, вот это дело! — обрадованно сказал Николай и встал, чтобы извиниться за беспокойство и уйти.
Она ничего не рассказала матери, не сказала ничего. и Борису, когда он пришел к ней вечером. Ни одному человеку на свете она не могла бы этого рассказать.
Между тем Борис приехал в поселок именно к Милке сказать, что ее вызывает к себе Берестов.
Странно и неожиданно обернулись дела. Бандиты удивительным образом вывернулись и стали чуть ли не хозяевами положения.
Диверсия была сработана на совесть. Инженера нашли около пути, в кармане его обнаружили мокрые, вымазанные в земле перчатки, в которых, очевидно, только что работали, а также наган и кусок бикфордова шнура. Рассказ Левки и Николая звучал в общем правдоподобно, а кроме того, его подтверждали следы двоих неизвестных, ясно видные на рыхлом песке насыпи. В городе по этому поводу рассказывали невероятные вещи.
Странные слухи шли теперь и о самом Денисе Петровиче. Говорили, что на него пало подозрение в связи с делом Дохтурова, шли какие-то разговоры о его «попытке скрыть правду». Говорили, что им «заинтересовались в губернии, а может быть, и выше», что он доживает последние дни, что на его место назначат Водовозова или какую-то женщину, также работавшую в угрозыске и проявившую будто бы чудеса бдительности. Словом, стало еще более тревожно.
Когда эти слухи впервые дошли до Бориса, он страшно обеспокоился и побежал искать Дениса Петровича. В розыске Берестова не было. Оказалось, что он сидит у клуба на скамеечке и мирно беседует с каким-то человеком. К величайшему удивлению Бориса, это оказался величественный Асмодей, беседа с которым, по-видимому, чрезвычайно занимала Дениса Петровича. Менее всего он походил на гонимого и приговоренного.
А дела действительно шли неважно. Левка оказался на коне, и Берестову было трудней, чем когда- либо, доказать его виновность.
— Вот ты шипишь на Морковина, — говорили Берестову в укоме, — но посуди сам, все улики против инженера. Почему мы не должны им верить?
— Такие улики и подобрать нетрудно.
— Как же он очутился около пути?
— Его могли привести под револьвером.
— Да, конечно, это могло быть.
Это, конечно, вполне могло быть, однако подобную версию решительно отвергла бабка Софья Николаевна.
Ее вызывали в розыск. Она смертельно волновалась, а узнав, что за каждое слово отвечает перед законом, стала бела как бумага и заявила, что будет говорить только правду. Допрос вел Водовозов. Берестов стоял поодаль у окна.
Ночью, рассказала она, к ее зятю пришли какие- то люди, которых она не разглядела, зять ее был совершенно спокоен и ушел с ними по доброй воле.
— Может быть, он все-таки шел по принуждению? Подумайте хорошенько, — говорил Водовозов, — может, ему грозили? Или в его поведении и в поведении его спутников было что-нибудь странное?
— Ничего странного, — с достоинством отвечала бабка, — решительно ничего странного. Наоборот, мне сразу стало ясно, что он с ними в наилучших отношениях.
То же, слово в слово, повторила она на допросе у Морковина.
«Ох, проклятая Софа!» — в бессильной ярости думал Денис Петрович, понимая, что показания даны и с этим ничего не поделаешь.
— Что же ее, курицу, слушать? — говорил он.
— А сын? — возражали ему.
Самое странное заключалось в том, что против инженера свидетельствовали ближайшие его родственники. Что могло заставить сына, и притом сына любящего, бежать с ложным доносом на отца?
Впрочем, его заявлению, быть может, и не придали такого значения, если бы при обыске в кабинете инженера не нашли очень крупной суммы денег в новеньких купюрах — такой крупной, какой не могло быть у инженера с его скромным заработком.
Сережа болел тяжело. А потом, выздоравливая, лежал у Берестова, под присмотром Рябиной матери.
— Господи, что же это такое! — с ужасом говорила Клавдия Степановна. — Хоть бы слово сказал.
Сережа действительно молчал целыми днями. Попытки Берестова — очень осторожные — навести разговор на события знаменитой ночи успеха не имели. Сережа не отвечал.
Он и не думал ни о чем особенном, он просто вспоминал. Он вспоминал так много, словно уже прожил долгую жизнь.
Ему вспомнился один случай. Он был тогда мал и находился в полном подчинении у бабки Софьи Николаевны— она его поила, кормила и воспитывала.
С утра до ночи. И потому Сережа старался все время куда-нибудь спрятаться, чтобы немного отдохнуть.
Так, одно время он убегал в коровник. Около коровы Зорьки было хорошо.
Зорька родилась зимней ночью в этом же коровнике. В клубах морозного пара большеголовый и мокрый теленок стоял, как показалось Сереже, на складных ногах. Его все сразу как-то особенно полюбили и разрешали потом разгуливать по комнатам.
А год спустя приходилось не раз выгонять из столовой здоровую телку. Потом Зорька стала большой коровой и уже никак не могла развернуться на крыльце и в сенях, а только бродила вокруг дома, стараясь заглянуть в окна.
Однако скоро укрываться у Зорьки в коровнике не стало никакого смысла: бабка догадалась и теперь, разыскивая Сережу, шла уже прямо сюда. Обычно она звала Сережу, чтобы продолжать совместные чтения.
Это были часы пытки. Бабушка Софа читала Сереже сочинения графини де Сегюр, про некую Соню, которую считала ужасной шалуньей.
Сережа смотрел, как движется и белеет кончик бабушкиного носа, и старался ничего не понимать. Однажды бабушка читала очень долго. Смотреть на картинку, где была нарисована коротконогая девочка в кружевных панталончиках, было противно. А главное, было горько сознавать, что в это самое время ребята играют на горельнике в казаки-разбойники.
Сережу редко звали тогда в какую-нибудь игру, а тут как раз пришли и позвали. Он был безмерно горд и счастлив и побежал одеваться, но бабка не пустила его на горельник.
И вот теперь она читала ему графиню де Сегюр. Наверно, ни в поселке, ни в городе и нигде на свете не было мальчиков, которым читали бы графиню де Сегюр. Как всегда, у Сережи болела спина и ныли ноги. И более обычного хотелось плакать.
За окном послышалась глухая и мерная поступь— шла Зорька. Она просунула в окно рогатую голову и долго водила ею над подоконником. Как Сережа был ей рад!
Бабка читала. Зорька с шумами, шорохами и сипением втянула в себя воздух, набираясь с силами. Бабка читала. Глуховата она стала, что ли? И вот комната наполнилась могучим, великолепным, всепоглощающим ревом. Сережа соскочил со стула, присел на пол и визжал что есть силы, но и тогда не слышал собственного голоса. Приятно было смотреть, как подпрыгнула бабка.
И вдруг Сережа увидел отца: он стоял, засунув руки в карманы, привалившись плечом к косяку, и хохотал так, что глаза его стали светлыми от слез. Через минуту Сережа бежал на горельник. «Какая остроумная корова», — сказал ему на прощание отец, глядя на него все еще мокрыми глазами. Как его любил тогда Сережа!
С тех пор графиня исчезла, а бабка каким-то неуловимым образом потеряла над Сережей власть. Началась полоса сплошного счастья. Он ждал вечера, когда они садились читать с отцом. Особенно хорошо это было зимними вечерами. Сережа почему-то любил тогда залезать на лесенку — она стояла у печки, чтобы можно было достать до вьюшек, и, сидя на верхней ступеньке, сверху смотреть на огонь. Отец лежал и читал вслух. И про веселого Тома Сойера, и про грустного Гека Финна, и про то, как черт на немецких ножках, обжигаясь и дуя на пальцы, украл с неба месяц.
Как же могло случиться?! Как же все-таки могло это случиться?! Как можно было все это забыть?!
А впереди предстоял разговор с Берестовым.
— А не кажется ли тебе, — сказал ему Денис Петрович, — что не только весь поселок видел, как ты всюду подсматриваешь и подслушиваешь, но что всё это видели и бандиты? И не кажется ли тебе, что они могли этим воспользоваться, рассказав всю историю специально для тебя?
Сережа молчал. Он и сам не раз уже думал об этом и вспомнил потом, что голоса говоривших звучали действительно как-то нарочито и назойливо. «Сына, кажется, нет дома?» И потом опять: «Сына, кажется, нет дома?» Зачем им было это повторять? Может быть, именно для того, чтобы он не пробежал мимо, не заметив?
— Да и сам разговор, — продолжал Берестов, — уж слишком сжато и точно передавал он суть дела. Неужели уж так-таки и нужно им было кратко рассказать друг другу в саду и про взрыв, и про срок его, и про деньги? И уж слишком явно толкали они тебя на поездку в город.
Да, это было так, теперь Сережа и сам ясно видел, что это так.
— Как же ты мог первым попавшимся людям, — говорил Берестов, — поверить больше, чем родному отцу, которого ты так хорошо знал?
Сережа молчал.
— Эх ты, — тяжело сказал Денис Петрович.
— Все равно я покончу с собою, — тихо сказал мальчик.
— Вот как?! — заорал Берестов. — Сделал, что мог, и в кусты? Попробуй только, с-сукин сын!
И тотчас пожалел об этом. Сережа все сильнее дрожал и все больше бледнел.
— Ну ничего, друг, — сказал Денис Петрович, — все на свете бывает и все проходит. Все-таки про корпуса и про Милку сообщил нам ты. Не горюй. Я тебе сейчас Бориса пришлю.
Когда Денис Петрович пришел домой, Борис и Сережа о чем-то тихо разговаривали.
— Послушайте, ребята, — сказал Денис Петрович, — не можете ли вы говорить погромче, все равно о чем, про цеппелин например, только погромче.
— Зачем это, Денис Петрович?
— Так, мне нужно. Я сейчас вернусь, но все время, пока меня не будет, прошу вас громко разговаривать.
Когда Берестов ушел, оказалось, что громко разговаривать по заказу не так-то просто.
— А что Цеппелин был граф? — крикнул Сережа.
— Граф, — ответил Борис.
Однако через некоторое время они вполне освоились и громко выкрикивали первое, что приходило в голову. В другое время Сережу очень развеселила бы эта игра.
— А потише немного вы не можете? — спросил, входя, Берестов.
— Ничего не понимаю, — сказал Борис.
— Это пока не обязательно, — ответил Денис Петрович.
Глава III
Милка ожидала увидеть Берестова совсем не таким, а гораздо более высоким, статным и грозным. Он, видно, устал и долго протирал глаза ладонями, прежде чем взглянуть на нее. А посмотрел он почему- то довольно весело.
— Что, товарищ Людмила Ведерникова, досталось вам?
Милка была сбита с толку. Как-то странно ссутулившись и чуть ли не собравшись в комок, сидела она против Берестова и смотрела на него во все глаза.
— Не горюйте, — сказал он, — все это в прошлом.
«Вот именно, что все», — подумала она.
— Ну а теперь расскажите мне о вечеринке на даче.
Милка, конечно, тотчас же вспомнила вчерашнее посещение Николая и его недвусмысленное предупреждение. Она подняла глаза на Берестова и сразу же их опустила.
— Вы хотите сказать, что к вам вчера уже приходили и предложили помалкивать. — Он встал, подошел к двери и широко распахнул ее. — Вы видите, нас никто не подслушивает, в комнате, — он развел руками, — никого нет, я здесь один. Разговор с глазу на глаз ни к чему не обязывает вас. Валяйте.
— Да, у меня вчера был этот… Николай и сказал, что если я…
— Что он сказал, я приблизительно представляю.
Вы, наверно, заметили, что провели вас сюда со всевозможными предосторожностями, что никто, кроме Бориса, вас не видал, никто, значит, и не будет знать о нашем разговоре. Давайте. Все сначала, по порядку.
Милка стала рассказывать. Денис Петрович внимательно слушал.
— Когда ушел Левка, вы помните?
— Я точно не заметила.
— Часов в десять?
— Наверное.
— Какое впечатление произвел на вас Нестеров?
— Нестеров? Он вел себя как-то странно. Ну, во-первых, он меня предупредил. Потом… Он, конечно, там у них свой человек, только у него такой вид, словно он слушает и мотает на ус.
— Да, видно, не простой он человек. Интересно, что все, принимавшие участие в этом деле, оказались тогда у полотна, он один исчез. Теперь об убийстве. Они говорили, что в Леночку стрелял Николай?
— Да, и хвастались убийствами.
— И грозили вам?
— Просто они говорили об этом как о деле решенном.
— Что-нибудь из этого их разговора вы помните?
— Они говорили, что теперь уже так не работают, что теперь «на два аршина под землей — и всё».
— Понятно.
— Кроме того, они пели какую-то контрреволюционную песню. Кто-то из них сказал: «Споем, пока мы не стали правоверными».
— Ах вот как. И тут же заговорили про инженера?
— Да, помнится, разговор шел так.
— Это очень интересно.
Вспоминая и стараясь ничего не пропустить и передать все возможно точнее, Милка сидела выпрямившись и старательно моргала.
— А теперь о самом главном. Сейчас вы повторите все, что говорили об инженере.
— Это был отрывистый разговор, и все с угрозою, — медленно говорила Милка. — Левка сказал, что разговаривал о нем со своей мамой. Он, кажется, страшно носится со своей мамой, знаете.
— Я ее даже видал. Дальше.
— Потом кто-то сказал, что инженер красив, а потом кто-то, знаете, с такой издевкой, кажется сам Левка, сказал: «Пока красив». А потом еще кто-то: «Возьмем, значит, инженера за хобот». А потом: «Вот живет человек, никого не трогает и не подозревает, какая роль ему в пьесе приготовлена».
— Даже так. И больше ничего?
— Кажется, ничего.
Правда, у Милки все время было такое чувство, что она забыла что-то очень важное, но она не могла вспомнить — что.
— Последний вопрос, Людмила. Если бы я вас попросил повторить этот ваш разговор для протокола или, скажем, на суде, вы бы повторили?
Милка ничего не ответила. Она даже и не думала в этот миг. Просто она видела, как мать ее, одна, совсем одна, идет по улице поселка. Не сидеть же ей дома, да и дом сейчас ни для кого не спасение, придут и домой.
— Я понимаю, что это дело нелегкое, — сказал Берестов. — Подумайте — я не тороплю вас. Только помните — решать придется вам самой, никто здесь вам помочь не сможет. Суток на размышления вам хватит?
Милка машинально кивнула головой.
Легко сказать — сутки на размышление. Что можно решить за сутки, если ничего не изменилось и сам вопрос остался таким же неразрешимым, каким был?
Милка ходила по комнате — она остановилась в городе у родственницы — от окна к столу и обратно.
Они думают, что мне страшно умереть. Вот уж неправда. Как покойно, как тихо, как славно было бы теперь ничего не видеть, не слышать и не помнить. Главное — не помнить. Ни леса, ни этих позорных встреч, от которых теперь жжет душу. Если можно было бы уснуть и не просыпаться! Только не хочется, чтобы было больно. А если снова встретить убийц с глазу на глаз и ждать, и знать, что эти не пожалеют?
Нет, страшно, страшно! Лучше не думать.
Обратиться за помощью в розыск? Так ведь там даже Ленку не уберегли. Да не все ли теперь равно, Александр Сергеевич мертв, его не воскресишь.
Сцепив пальцы, ходила она по комнате.
Да, он погиб. И не только погиб, но опозорен и оклеветан, и скоро Левка, который его убил, будет выступать на суде. А она, Милка, не скажет ни слова. Сходи на кладбище, спроси у Ленки, что бы она сделала на твоем месте? Неужели она стала бы молчать? Да ни за что на свете!
Но самого главного опять она себе не сказала. Она только по-прежнему видела все одно и то же: как мать, одна, идет по поселку. Идет медленно и ничего не знает. Когда она устала или несет что-нибудь тяжелое, она всегда немного косолапит.
Нет, нет, никогда ни на каком суде выступать она не будет! У нее один-единственный долг: сберечь и защитить мать — кроме нее, никто этого не сделает, никому в целом свете ее мать больше не нужна, только ей. Пусть все летит к черту!
Ах, до чего же нехорошо на сердце! Да, Берестов оказался прав: решать придется самой, никто за нее этого не сделает. Если бы ей нужно было решать одну лишь собственную судьбу!
Настал день, а Милка была так же далека от решения, как и накануне вечером.
— Что же вы надумали? — спросил ее Денис Петрович.
— Я решила, — неожиданно для себя и с ужасом в душе сказала она.
— И что же вы решили?
Она ответила со всей торжественностью, какую подсказывала ей молодость, чувство опасности и сознание ответственности минуты.
— В память Александра Сергеевича я это сделаю.
— В память? — удивленно повторил Берестов. — Ах, да, вы ведь не знаете: Александр Сергеевич жив.
— Ну что вы смотрите на меня, словно это я встал из гроба? — улыбаясь говорил Денис Петрович. — Да, да, Дохтуров жив. Не так чтобы очень здоров, но жив вполне.
Милка ничего не могла сказать. Ей хотелось плакать, слезы копились в глазах, и она старалась изо всех сил не моргать, чтобы они не полились разом.
— Ладно. Не старайтесь, — сказал Денис Петрович. — Я на вас смотреть не стану. Лучше послушайте, как все это произошло. Он лежал тогда совсем как мертвый около рельсов. Я сам думал, что он мертв. Вообще же никто ничего не мог тогда понять. Видели только, что путь минирован в двух местах и что тут же лежит убитый диверсант. Пока мы с нашими ребятами исследовали все это дело, к толпе приковылял старый доктор, который тоже ехал в этом поезде. Не обращая на нас никакого внимания, он стал слушать сердце убитого, и, представьте себе, мохнатое его ухо расслышало слабое биение. Ничего нам не сказав, он приказал перенести Сашу в поезд, в санитарное купе. Здесь часа через четыре он добился каких-то признаков жизни. Сейчас Дохтуров в городской больнице. Я знаю, разнесся слух о его смерти, мы не опровергали его, он нас даже устраивал.
— Кто бы мог поверить такому счастью? — воскликнула Милка.
— Он в городской больнице только потому, — продолжал Берестов, пристально глядя на Милку, — что у нас в городе нет тюремной.
Она совсем забыла, что инженер, оставшись жить, должен был еще отстоять эту свою жизнь.
— Что ему грозит, если не удастся доказать его невиновности?
— Расстрел, — твердо сказал Денис Петрович. — Где вы сейчас работаете?
— Пока нигде.
— Вот те раз! Кругом нехватка в сестрах милосердия, каждая на вес золота, а она… переживает. Может быть…
Он не без лукавства посмотрел на нее.
— …устроить вас в больницу?
— Нет, — сухо ответила Милка.
— Нет так нет. Тогда идите в уздрав, берите первую попавшуюся работу и перестаньте переживать.
Все будет хорошо.
— Вы уверены?
— Ну… постараемся сделать так, чтобы все было хорошо. А теперь нам нужно обсудить главное: нужно сделать так, чтобы эта история не коснулась вашей матери. Мы ее увезем и спрячем так, что ее никакие бандиты не отыщут. Бедные мамы, рассовываем мы их, кого куда придется. А пока отправляйтесь, Борис вас проводит.
Опять повели ее в темноте по пустынным улицам со множеством всяческих предосторожностей — ей казалось, что она участвует в какой-то игре. Проводив Милку, Борис вернулся в розыск.
— Было в больнице странное происшествие, — сказал ему Берестов, — какой-то человек сделал попытку прорваться к инженеру. Его не пустили, он, кажется, кого-то ударил, или что-то в этом роде. Задержать его не успели или побоялись.
— Запомнили хоть, как он выглядит?
— Все говорят: большой, толстый, лысый. Молоденькая сестрица, так она говорит: нахальный и грязный. А старушка нянечка: представительный такой мужчина.
— Ну что же, возьмем на заметку всех толстых и лысых.
— И грязных.
Когда Борис вернулся домой, в клубе еще не было убрано после молодежного вечера. На стене висел плакат: «Долой флирт! Позор тем, кто разбивается на парочки!»
Как далек он был сейчас — усталый, порядком голодный и более одинокий, чем всегда, — как далек он был сейчас от мысли «разбиваться на парочки!». Темнело. Он зажег керосиновую лампу и сел просматривать бумаги, накопившиеся за неделю.
Однако мысли его, как это почти всегда случалось с ним теперь, оказались далеко.
Сегодня я был в парке и смотрел, как хлещет дождь на нашу с тобой скамейку. Пожалуй, я даже рад был этому, не знаю — почему. Впрочем, забежал я на одну только минуту и то по дороге. Нет времени совсем. Странно мы живем. Борьба теперь идет лицом к лицу, враг вот он тут, но его не возьмешь, он под защитой. Никогда мы еще так не работали. Банду нужно держать под присмотром, это отнимает массу времени и сил. Потом твоя Милка, в тот раз мы ее уберегли, но все равно никак нельзя считать, что она в безопасности. За ней неотступно следует кто-нибудь из наших парней. Потом — допросы Прохорова. Это дело длинное и нелегкое. Я, например, совершенно еще не умею ставить вопросы. Наконец — Нестеров, его во что бы то ни стало нужно найти, а он как сгинул со своей проклятой кобылой. На работу давно уже не являлся, тетя Паша, разумеется, «ничего не знает». Найти Нестерова должен я — это мое задание.
Но самое главное не в этом. Здесь все очень трудно, но зато ясно и знаешь, кто враг. Есть еще что-то такое, что делает нашу жизнь словно бы двойной и призрачной, — Водовозов. Я ничего не могу здесь понять. Еще совсем недавно я следил за ним — и выследил! Не может быть сомнений, он скрывает от нас что-то. И вот все удивительным образом осталось по- прежнему. Я не раз видел, как они с Денисом сидят рядышком и разговаривают — и я не знаю, что происходит между ними. Доверие ли это, или лицемерие? Если доверие, то странное это доверие, основанное на незнании. Если бы ты только могла себе представить, как страшно запутались мы все в этом деле.
Он сидел и ничего не делал и заметил это только тогда, когда за дверью послышался какой-то шум. Дверь приоткрылась, и в нее просунулась серебряная трость, на конце которой качался узелок. Асмодей. Они не разговаривали с того самого дня, когда рассорились из-за «коня бледного».
— Вы сердитесь, мой высокопринципиальный друг, — произнес бархатный голос. — Видите, я принес искупительную жертву.
— Полученную от сестер ваших во Христе?
— Не сердитесь, — повторил, входя, Асмодей. — Я хотел уподобиться апостолу Павлу, который проповедовал среди язычников, ибо сестры мои это настоящие языческие ведьмы.
— Чего же вы с ними якшаетесь?
— У вас в розыске есть такая решительная дама — разве она лучше? — с улыбкой возразил Асмодей. — Вот видите, в каждом человеке есть и хорошее, и дурное, причем обычно дурного больше, чем хорошего. Будем же терпимы.
— Это равнодушие, пожалуй.
— Может статься. Поживите с мое, и вы узнаете, что людей на свете утомительно много, и все они на редкость одинаковы, и переживания их поразительно похожи. И тогда вы, подобно мне, начнете искать все яркое, все, что из ряда вон, — словом, всякий талант. И будете ценить в жизни смешное. Вот, например: нам из губернии предложили рассматривать Эсхила через призму современности и решать постановку средствами конструктивизма. Я готов — пожалуйста, можно и «через призму», но как, скажите мне, это сделать? Им там хорошо, они разломали старый трамвай, вот тебе и конструкция, а у нас трамваев нет, в моем распоряжении только тачка об одном колесе. Не могу же я вывезти мою Клитемнестру на тачке… Нет, умом России не понять!
А вот кого жаль, так это Дохтурова, — продолжал Асмодей, — такой обаятельный человек, и такая чудовищная история. Шпионы! Диверсанты! Вы знаете, я пришел к выводу, что с тех пор как исчезли ведьмы, домовые, тролли и прочая нежить, людям стало скучно. Прежде всего, каждый человек любит, чтобы им занимались. Людям лестно знать, что за их душу борются злые и добрые силы. И даже какой-нибудь хозяйке, которая до смерти боится домового, все-таки приятно, что он, грязный, нечесаный, шатается по чердаку, обдумывая на ее счет какую-нибудь пакость: ведь как-никак, а он занят ею. И вдруг оказалось, что все пусто: в лесу нет лешего, а в воде водяного. Никто не интересуется человеком и его душою, некого заклинать, некому противопоставить свою волю, и, главное, нет ничего таинственного. Вот тогда-то и выдумали их, шпионов и диверсантов, которые охотятся за душами и тайно сыплют яд. Все мы без памяти любим шпионов. Разве вы не хватаете книги про них, пренебрегая графом Львом Николаевичем Толстым? Дохтурова, конечно, жаль, но сознайтесь, что все это вместе с тем очень смешно.
— Мне не смешно, — сказал Борис.
— Если говорить правду, и мне не очень, — с неожиданной серьезностью ответил старик, — мне тоже не всегда бывает смешно.
Борис подумал немного и сказал:
— Да, я видел однажды вас на улице у кутаковской витрины. Мне тоже показалось, что вам не смешно.
— О да! Еще бы! — живо откликнулся Асмодей. — Какой там смешно, это было ужасно! О, если бы вы только знали, как ужасно! Светила луна, и эта витрина! Понимаете, это был кусок города, осколок большого города, освещенного уже не луною, а сотней голубых фонарей. И эта тишина, и эта кукла, похожая на мертвую девушку, ведь последнее время у нас так много мертвых. И знаете: мне казалось, что там я увидел самого себя. Впрочем, этого вы не поймете, вы не жили в старом Петербурге и не знаете, что там на углу можно столкнуться с самим собою…
Борис не знал другого: как отнестись к столь странным речам. Однако слушал очень внимательно. Асмодей говорил теперь размеренно и задумчиво.
— Да, двойника можно встретить только в большом городе. В поле, в лесу, у речки его не встретишь. Это принадлежность одних только больших туманных городов, таких многолюдных, что людей уж и нет в них, они становятся ничем, призраками, легко исчезающими в тумане. Как я люблю эти города!
Бориса удивил не только этот странный вывод, но и глубокая печаль, прозвучавшая в словах старика.
— А теперь вот вы здесь, — сказал он.
— Да, а теперь вот я здесь.
— И у вас есть ученицы, которые в вас души не чают.
Асмодей насторожился и стал похож на петуха, готового клюнуть.
— Одна из них, Маша, — продолжал Борис, — недавно говорила со мной о вас.
— Машенька?! Боже мой! Это прекрасная девушка, святая девушка, одна из тех, в которых взгляд, движение, слово — все талант! Боже праведный! Если взять ее за руку и осторожно повести по тропе искусства, из нее будет вторая Вера Федоровна Комиссаржевская. Поверьте, я не преувеличиваю. И вы с ней разговаривали обо мне?
— Разговаривал.
Ах, как старику хотелось знать, что про него говорила будущая Вера Федоровна Комиссаржевская! Он налился краской и растерянно смотрел на Бориса, а потом стал суетливо развертывать свой узелок. Но Борис был добрым человеком и разговор с Машей передал старику безвозмездно.
Асмодей страшно развеселился и начал хохотать. Оказалось, что на этот раз в узелке его лежат два коржика.
— Нет уж, коржиков ваших я есть не стану, — сказал Борис, — отдайте их обратно вашим паршивым старухам.
— Вот видите, видите! — заливаясь смехом, кричал Асмодей. — Сразу и паршивые, уже сразу и на гильотину, господа якобинцы! Если бы вы, подобно мне, изучали бы историю, вы бы знали, что все на свете повторяется, и не тратили бы столько сил на пустяки.
— Это какие же пустяки? — настороженно спросил Борис. — И что повторяется?
— Ах, ничего, ничего! Жизнь вечно нова, вы правы, она неповторима, и следует прожить ее возможно ярче и… если хотите, горячей! Вы не думайте, я тоже живу не бесцветной жизнью, у меня тоже есть свои радости… и свои тайны, может быть.
«Зато царя в голове у тебя нету», — сердито подумал Борис. Ему уже давно хотелось остаться одному.
— Да, и тайны. Причем за некоторые из них вы дорого бы дали.
— Вот как? — удивленно откликнулся Борис. — Не может быть, чтобы у вас были уж такие великие тайны.
— Ну, мой юный Пинкертон, я стар, но еще не впал в детство и на такие приемы не ловлюсь. Да, я владею тайной, и, может случиться — если вы будете хорошо себя вести, — открою вам ее… или одну из них. Но только, когда будет на то моя воля. Насилия я не терплю.
«Представляю себе, что это за тайны», — подумал Борис, оставшись один, и занялся более важными мыслями.
«Хорошо, что дело Дохтурова попало к Морковину. Пусть Анатолий Назарович строг и жестковат, — думал он, — здесь как раз и не нужно никакой мягкости, нужны только ум и справедливость». Когда на следующий день он поделился своими соображениями с Рябой, тот только раскрыл глаза.
— Да знаешь ли ты, что это за человек? Да знаешь ли ты, что он смертельный враг Дениса Петровича?
— Уж и смертельный. И что значит враг, когда речь идет о нашем общем деле.
— А вот увидишь, что значит.
Борис рассердился:
— А знаешь ли ты, что Морковин был на фронте… словом, был на фронте и замечательно сражался.
— Вместе с кем? — спросил чуткий Ряба.
— С отцом моим вместе.
— О, тогда другое дело, — сказал Ряба и замолк, однако ненадолго. — Слушай, — воскликнул он радостно, — от него же теперь все зависит! Это же прекрасно! Пойди и расскажи ему, что ты знаешь об этом деле. Уж тебя-то, раз с отцом, он обязательно послушает!
Морковин был очень занят и не мог с ним поговорить. Борис даже испугался того сухого тона, каким разговаривал с ним следователь, однако тот, видно, действительно был занят, потому что попросил Бориса прийти к нему вечером домой и быстро настрочил на бумажке адрес.
Вечером Борис пошел по этому адресу. Морковин жил в маленьком, крепком как орешек домике с красивыми белыми наличниками. Вокруг был небольшой огород с образцово разделанными грядками, где во влажной и рыхлой земле правильными рядами сидели морковь, огурцы и другие овощи — все упитанное, коренастое и зеленое. «У кого же он живет? — подумал Борис. — Что за хозяева?»
Отворила Борису дверь маленькая женщина, гладко причесанная, с большими жилистыми руками.
— Мужа нет, — сказала она, — еще не пришел с работы. Посидите.
Они разговорились. Женщина жаловалась на жизнь. Как ни крутись, как ни гнись, никак с хозяйством не управишься.
Скоро пришел Морковин. Он сел на диван, закрыл глаза и сказал словно бы с облегчением:
— Устал.
Потом они обедали неслыханным борщом на постном масле и вареной картошкой. Морковин понемногу развеселился и подшучивал над женой.
— Скопидомка ты у меня стала. Все тебе мало. Скоро кулачкой заделаешься. Смотри, я пойду на тебя в союзе с беднейшим крестьянством при нейтрализации середняка.
Словом, он был в самом благодушном настроении, когда Борис решился наконец заговорить о деле Дохтурова.
Пока Борис рассказывал, Морковин смотрел на него как-то особенно умно и весело. Борису показалось, что он что-то взвешивает, обдумывает и собирается принять решение.
— Все, что ты рассказываешь, это очень интересно, — задумчиво сказал он, выслушав Бориса, — и важно. Кто знает…
Борис с надеждой смотрел на него.
— …кто знает, может быть, действительно нам раскинули ловкую ловушку.
Борис не помнил себя от радости.
— Что ж! — весело воскликнул. Морковин, хлопнув себя обеими руками по коленкам. — Будем разбираться! И если это ловушка, мы ее раскроем. Пусть они с нами шуток не шутят.
Ряба несказанно был рад.
— Ну вот видишь, как прекрасно все получилось! — воскликнул он. — Бывает так: Дениса Петровича он не послушал, а тебя послушал!
— Он так и сказал, — говорил Борис, — «пусть они с нами шуток не шутят».
Он был счастлив в тот день. Ему казалось, что это не только Морковин помогает ему, что сам отец его приходит к ним на помощь.
На следующий день к Борису вечером в клуб прибежала Милка. Она была белее мела и не могла сказать ни слова.
— Подожди, подожди, — твердила она, — не могу.
Потом уронила голову на руки и некоторое время сидела неподвижно.
— Господи, будет ли этому конец! — воскликнула она с такой тоскою, что Борис испугался.
С трудом удалось ему узнать, что же все-таки произошло.
Милка дала показания в розыске и подписала протокол. Когда она подписывала, душа у нее была в пятках, но все-таки она подписала. С мольбой смотрела она на Берестова. «Ничего? Ничего не случится? Вы уверены?» — говорил ее взгляд. Денис Петрович ей улыбнулся.
— Ты здорово мне помогла, — сказал он.
Но и у него на душе было неспокойно: протокол должен был пойти к Морковину.
Через несколько дней Милку вызвал к себе следователь. По ее рассказам, разговор их был таков.
— Кто заставил вас подписать эту бумажку?! — заорал он, швырнув на стол протокол, еще недавно стоивший ей таких героических усилий.
— Денис Петрович, — прошептала эта правдивая душа.
— Я так и знал, — бросил Морковин и начал что- то быстро писать. — Подпишите здесь и здесь, и побыстрее.
Со страху Милка не могла понять, что там написано, да и вообще готова была подписать все, что угодно, только бы уйти от этого человека. В руке ее оказалась ручка с пером.
— Быстро, быстро, — с каким-то бешенством говорил Морковин.
Милка дрожала.
— Где? — спросила она.
— Тут и тут. Быстрее!
Она наклонилась и собралась было подписывать, но в это время ей бросилось в глаза имя Берестова, и она стала читать. «Свидетельствую, — значилось там, — что протокол по делу Дохтурова был подписан мною под нажимом и угрозами…»
— Чего еще нужно?! — опять заорал следователь. — Здесь написано только то, что вы сказали.
От его крика Милка сбилась и опять ничего не могла понять. Но она знала со слов Бориса, да и сама это чувствовала, что Берестов очень хороший человек, поэтому она собралась с силами и прочла.
— Ах ты, господи, — сказал Морковин, — что здесь думать!
— Не могу, — сказала она и положила перо.
Следователь мгновенно успокоился.
— Вот что, Ведерникова, — сказал он, — с такой репутацией, как у тебя, лучше вести себя иначе. Советую подумать.
Удар попал в цель. Милка сжалась и даже закрыла лицо руками.
— Нет и нет, — глухо сказала она, трясясь, — делайте что хотите.
На этом, однако, ее несчастья не кончились. Первый, кого она встретила, выходя от Морковина, был Николай. Сделав вид, что не узнает, она с бешено бьющимся сердцем чуть не бегом пустилась по улице. Он догнал ее у ворот рынка.
— Зачем так торопиться? — сказал он.
Милка шла не оборачиваясь.
— Сюда, — коротко и повелительно, как собаке, приказал он.
Обычно такой тесный и шумный, рынок сейчас был совершенно пуст. Ларьки задвинуты глухими щитами. Николай свернул в коридор между палатками.
— Куда дела мать? — грубо спросил он.
— Мама уехала.
— Ты помни, от нас не уедешь. Если придешь на суд или скажешь хоть слово… сердце вырежу. Можешь идти.
Получив это разрешение, она пустилась бегом. А сердце ее ныло так, словно хотело напомнить, как ему будет больно, если его станут вырезать.
— Не реви, — сказал Борис.
— Ну почему, почему, — еле выговаривала она, рыдая, — почему все это на меня одну? Где взять силы, Боря, где же взять силы?
Да, нужно было принимать срочные меры. На следующий день он пошел к Берестову (который уже от своего сотрудника знал о встрече Милки с Николаем), потом в уздрав. А еще через день Милка в составе эпидемиологической тройки поехала по деревням, где обнаружился сыпняк. Это дело на время было улажено. Оставался Морковин.
«Что же это такое? — с недоумением думал Борис. — Только вчера он обещал мне раскрыть ловушку, а сегодня… Здесь какая-то ошибка. Может быть, Милка что-нибудь напутала? Или у него какой-то свой следовательский расчет?»
Он подумал, что речь идет о слишком серьезных вещах, чтобы допустить здесь какую-нибудь путаницу, и решил еще раз пойти к Морковину домой. Конечно, было неловко являться без приглашения к столь занятому человеку, однако Морковин — такой непреклонный и жесткий — бывал неизменно добр к Борису; наверно, он не откажет ему в разговоре и на этот раз. Морковин в самом деле встретил его приветливо.
— А, Боря! Заходи, заходи, у меня гости, с которыми тебе полезно познакомиться.
На диване у Морковина сидели два молодых человека и, по-видимому, довольно давно:. в комнате было сильно накурено.
— Садись, Борис, — сказал Морковин, — послушай, что наши герои рассказывают.
Борис разглядывал героев. Одного он знал, это был Николай, другой, невзрачный и невысокий, был незнаком.
— Да что там, — смутившись, сказал невысокий и, опустив голову, посмотрел на свои сапоги, — это мы рассказываем, как Марусю брали.
Марусю? Знаменитую атаманшу, натворившую со своей бандой столько бед на Украине? Посчастливилось же этим парням!
— Ну, «брали» — это слишком сильно сказано, — продолжал тот же парень, — она от нас раненая ушла. Однако банду ее мы разбили навсегда, это правда. Я помню, со мной в этом бою конфуз приключился. Я тогда совсем пацаном был и с коня упал. И верите ли: я не столько боялся, что меня потопчут, сколько боялся, что меня в эскадроне засмеют.
— А кто у вас начальником был? — спросил Морковин.
— О, начальником у нас был горячий человек; может быть, слыхали — Хаджи Мурат.
— Ну как же, — Морковин поднял брови, — начальник эскадрона при Первой конной.
«Ах, парни, неужели же вы были в Первой конной?!»
— Да, — сказал Морковин и насмешливо посмотрел на Бориса, — я забыл вас познакомить. Это Борис Федоров, это Николай Латышев, а это Лев Курковский, известный в городе под именем Левки.
Неужели? Неужели это тот Левка?! Да, фамилия того была Курковский… Но здесь, у Морковина…
Первая конная, Хаджи Мурат…
По-видимому, на лице его, по обыкновению, было написано все, что он думал, потому что они весело рассмеялись. Николай Латышев очень похорошел при этом, и Борис вспомнил Милку. Морковин еще раз указал ладонью на Левку и торжественно сказал:
— Знаменитый бандит.
И все трое опять рассмеялись. Усилием воли Борис овладел собою и улыбнулся. «Что ж, посмотрим», — сказал он себе и обратился к Левке:
— О вас в городе невесть что рассказывают.
— И вы, сознайтесь, не раз меня ловили? — насмешливо спросил Левка.
— Ну нет, мы ловили только бандитов, — добродушно ответил Борис.
Он откинулся на спинку стула и положил ногу на ногу. «Больше вы не увидите, о чем я думаю. Жаль, что я не курю, стало бы полегче. Ну ничего».
— Вы расскажите, герои, как вы диверсантов ловили, — сказал Морковин, — а не то Борис не верит.
— Не верит? — удивленно спросил Левка. — Так ведь…
Он рассказывал всем уже знакомую историю так просто, с таким увлечением смотрел Борису в глаза, что…
«А может быть, это все-таки не тот Левка? — думал Борис. — Ведь никто из нас его не видел. А Милка не видела этого…».
Парни держали себя свободно, а главное — Морковин был с ними запросто. «Если это действительно не тот, то и разговаривать нам с Морковиным сегодня не о чем, нужно подумать. Ах, Милка уехала…»
Странное дело — все последнее время он мечтал о встрече с Левкой, о схватке не на жизнь, а на смерть. И вот в уютной комнате с абажуром сидит перед ним Левка. А может быть, совсем и не Левка.
— Ну, мне пора, — сказал Борис и поднялся.
— И нам, — ответил Левка, и парни тоже поднялись.
Когда они шли по городу, Борис на всякий случай держал руку в кармане.
— Итак, ты работаешь в розыске, — сказал неизвестно какой Левка, — и у вас здесь неспокойно?
Внезапно он остановился и сказал:
— Говорят, недавно в поселке ночью девушку на дороге убили.
Остановился и Борис. Ему показалось, что сейчас что-то должно произойти.
— Сознайся, — медленно сказал Левка, — записка, приколотая к кофточке, — помнишь, «дураков нет»? — это было остроумно.
Ты не бойся, к тебе это не имеет отношения — к тебе и твоей кофточке, в которой тебя похоронили. Я хорошо ее помню — заводы с трубами и дымом из трубы. Ты не можешь себе представить, до чего это не имеет к тебе никакого отношения. Он думал, что сразит меня насмерть, а на самом деле даже не задел. Я что-то сказал ему, самое простое, попрощался и ушел. И это было не самообладание, нет, просто мы с ним в разных плоскостях. Зато теперь я знаю, кто это такой. Только потом, когда я ушел, какая-то слабость охватила меня, такой я раньше не знал, пришлось посидеть немного на чужом крылечке. И потом вот еще: я не могу передать тебе своего изумления от того, что у Левки есть лицо с глазами, губами и бровями. Оказывается, до сих пор я представлял себе что-то темное, потайное, звериное, а вот просто человека с руками и ногами никогда себе не представлял. И волосы он себе зачесывает на пробор. Значит, стоит перед зеркалом и зачесывает. С таким, оказывается, вести борьбу гораздо труднее.
Поздно ночью он опять стучался в дверь к Морковину.
— Анатолий Назарович, откройте, очень важно. На этот раз Морковин был раздражен.
— Ну, что такое? — Он быстро надевал гимнастерку.
— Анатолий Назарович, это он, — торопясь говорил Борис и стал рассказывать историю с запиской.
— Понимаете, — говорил он, — кроме нас троих и бандитов, которые ее писали, об этой записке не знает ни один человек. Это он, тот самый Левка.
Морковин пристально смотрел на него.
— Только трое? Да вы, поди, по секрету всему свету рассказали уже про эту записку.
— Мы?! Могу поклясться вам…
— Поклясться! — насмешливо бросил Морковин. — Шел бы ты лучше спать, чем ерундой заниматься. Мне завтра вставать в шесть. Спокойной ночи, — и захлопнул дверь.
«Неужели именно на это и рассчитывал Левка? — вдруг подумал Борис, возвращаясь домой. — Именно на то, что Морковин захлопнет дверь?»
— Подведем итоги, дети мои, — говорил Левка. — Пока, надо сказать, все идет благополучно. Инженерова теща сработала на нас, да так хорошо, что лучше и не придумаешь. Вот не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Сережа, милый мальчик, тоже не подвел. Сказать правду, я совсем забыл о нем и придумал весь этот разговор, когда увидел, что он бежит по дорожке. Впрочем, он свое дело сделал и больше интереса не представляет. Теперь посмотрим, как остальные. Тетя Паша волком воет, она и сама не пойдет и Петровича не пустит. Да он и смылся, надо сказать, весьма предусмотрительно. Осталась Милка.
— А почему бы ее тогда было не убрать? — спросил один из парней.
— Голова! — презрительно сказал Левка. — Да разве можно было нам, идя на такое сложное и опасное дело, связывать себя еще и покойником. Эта пигалица в мертвом виде нам была бы куда опасней, чем живая. Как она, Николай?
— Дрожит, — усмехнувшись, ответил Николай, — еле жива.
— Ну вот видите? А без показаний Милки никакие показания других, бывших у тети Паши, не играют роли. Ну собрались, ну выпили, ну и что? Так Милка на суд не придет?
— Ручаюсь.
— Итак, всё в порядке, кажется. Следователь нам верит вполне. С Берестовым они на ножах, наша записка Морковину тогда, насчет Водовозова, только подлила масла в огонь. У Берестова нет как будто никаких улик, у нас же их полны карманы. Согласны поделиться, если попросит. При таких условиях еще можно жить, не так ли? Конечно, это только в том случае, если Прохор не проговорился. Эх, как бы это узнать, сказал он что-нибудь или не сказал, совсем другая жизнь была бы! И потом помните: никаких мокрых дел — мы теперь добродетельные советские граждане. Скучновато, конечно, но ничего не поделаешь. Потом наверстаем.
— А теперь, — продолжал Левка, — нам с Николаем пора к следователю. Он без нас уже жить не может.
Однако, против их ожиданий, Морковин встретил их весьма холодно.
— Что это вы плели Федорову про записки и про кофточки? — раздраженно спросил он.
— Ну, это я его подразнил маленько, — добродушно ответил Левка, — про эту записку весь город говорит. Да я сам от соседа узнал. Честное слово. Могу и вам этого соседа привести.
— В следующий раз лучше не дразните, — так же холодно сказал Морковин.
— У нас к вам просьба, — вмешался Николай.
— Да, большая просьба, Анатолий Назарович, — подхватил Левка, — мы только не знаем, удобно ли. Понимаете, эти пентюхи из розыска сдуру схватили одного нашего парня, хорошего, понимаете, парня. И вот получается, что и доказать на него они ничего не могут, и отпустить не отпускают…
— Вы говорите о Прохорове?
О нем, о нем. Ведь это такой тихий парень, мухи не обидит, смешно даже.
Левка подождал минуту, а потом осторожно сказал:
— А с другой стороны, парень он робкий, может со страху что-нибудь наболтать…
Он испытующе посмотрел на Морковина. Тот ответил ему непроницаемым взглядом. Николай напряженно смотрел то на того, то на другого.
— Что он может наболтать? — сказал Морковин, пожимая плечами.
Левка слегка подался вперед. Глаза его блестели.
— Думаете, не может?
Морковин не ответил.
— А что это за парни, — начал он, помолчав, — которые приехали из Дроздовки?
— А что — парни?
— Прохоров ведь тоже из Дроздовки?
— Да. Я что-то не пойму вас, Анатолий Назарович.
И опять Морковин ничего не ответил.
— Меня интересует вот какой вопрос, — сказал он, — почему у болота на опушке леса обнаружили кровь?
— Кровь? — Левка поднял брови. — Откуда нам знать, что и когда нашли на каком-то болоте. Может быть, там свинью резали. Да и потом хорошо известно, что когда привезли собаку, уже давно шел дождь, и никакой крови…
— Вам, Курковский, следовало бы меньше рассуждать, — прервал его Морковин. — Берестов обследовал всю местность задолго до дождя и нашел на земле пятно крови. Он уже послал ее в губернскую лабораторию, откуда я все это и узнал. Там без труда определят, свиная она или человеческая, более того, там определят группу крови. Знаете вы, что это такое?
Николай с тревогой смотрел на Левку. Тот закусил губу и, прищурившись, что-то соображал.
— Знаете или нет?
— Догадываюсь. Это что-то новое?
Морковин встал.
— Если эта кровь и кровь инженера совпадет по группе… Может это быть?
Видно было, что Николай испуган и растерян, однако Левка ответил, холодно глядя на Морковина:
— В принципе все может быть. Откуда нам знать?
— Так вот, — сказал Морковин, — если это будет так, ваше дело сильно… проиграет. Можете идти.
Парни поднялись.
— Еще один вопрос, — сказал Морковин. — Это вы написали мне записку относительно Водовозова?
— Что греха таить, — ответил Левка.
— Что же вы можете о нем рассказать?
— Да, собственно, ничего, кроме того, что мы написали. Сказали нам, что он связан с бандитами, мы и решили: пусть знающие люди проверят. Правильно?
— А кто сказал?
— Я уж и не помню.
— Хорошо бы вспомнить, — сухо заметил Морковин.
Левка был задумчив, когда они шли от следователя. Николай не решался начать разговор.
— Что-то следователь заговорил по-другому, — сказал он наконец.
— А, ничего подобного, — небрежно ответил Левка, — говорит он на том же самом языке. Во-первых, он нам сказал, что Прохоров еще не проболтался. Во-вторых, что парней из Дроздовки нужно куда-нибудь сплавить, и, наконец, он дает нам знать об опасности. С ним все в порядке. Гораздо больше меня беспокоит это проклятое пятно.
Глава IV
Морковин торопился. Он написал в губернию, что незачем ждать, когда поймают исчезнувших диверсантов, а нужно судить того, кто есть — главного виновника диверсии Дохтурова. Болезнь арестованного его не смущала, он пошел в больницу.
Городская больница была переполнена — сюда во множестве привозили людей в сыпняке, снятых с поезда. В небольших комнатках один к одному были приставлены топчаны, которые, наверно, стояли бы голыми, если бы уком не созвал молодежь города для того, чтобы не столько просить у населения, сколько отнимать у него тюфяки, одеяла и подушки. Только благодаря этому больные были кое-как устроены.
В дверях больницы стоял человек в лохмотьях с нежно-розовым ярким лицом и очень красивыми, блиставшими, как звезды, глазами. Он рвался к выходу, а толстая нянька, налегая на него всем телом, старалась его удержать.
— Я только схожу домой, — глядя мимо нее, быстро говорил человек, — мне бы только сказать им…
— Да где он, дом-то твой, — смеясь и толкая его, отвечала нянька, — за тридевять земель, чай. Сам небось не знаешь, где он, дом-то твой.
— Я должен ей сказать… — твердил больной.
Морковин отошел в сторону — он боялся заразы и ждал, пока нянька, всем своим грузным телом наступая на больного, загонит его в палату. Да, здесь не было знаменитой больничной тишины: бормотанье, стоны, выкрики слышались изо всех дверей.
Приход Морковина вызвал панику, которая, по-видимому, была ему приятна. Сестры попрятались, няньки, щелкая шлепанцами, побежали звать Африкана Ивановича.
— Из военно-транспортного трибунала, — коротко сказал Морковин, глядя ему под ноги, — к арестованному.
Старик развел руками:
— Никак нельзя. Он не может еще отвечать на вопросы.
— Сможет. Где он лежит?
— Я же вам говорю, товарищ…
— Гусь свинье не товарищ, — буркнул Морковин и, отстранив старика, пошел по коридору — больной, по его сведениям, должен был находиться где-то в конце его. Врач едва поспевал следом, развевая полы халата, — со стороны казалось, что он пустился вплавь.
— Почему нет охраны? — рявкнул Морковин, остановившись около комнаты, где лежал инженер.
— Охраны? — просипел, подбегая, доктор. — Охраны? Да он еле дышит!
Но тут перед Морковиным выросло новое препятствие в виде толстой няньки, которая стала в дверях, упираясь руками в косяки.
— Куда это? — спросила она, словно ничего не понимая. — Ступай, ступай, батюшка, мы те покличем, когда можно будет.
Морковин внезапно и коротко ударил ее по руке и вошел в комнату.
— Вредитель! — крикнула нянька и заплакала.
— Прошу вас выйти, — сказал Морковин врачу, который вошел было за ним следом.
Инженер лежал высоко в подушках. Руки его, вытянутые вдоль тела, не шевелились, голова не двигалась, только глаза вопросительно взглянули на вошедшего. Морковин сел и развернул папку на своих худых коленях.
— У меня для начала, — сказал он, — несколько вопросов. Первый: при обыске в вашей комнате нашли крупную сумму денег в купюрах этого года. Откуда вы их взяли?
Инженер медленно прищурил глаза.
— Деньги? — повторил он.
— Да, деньги, — насмешливо подтвердил Морковин. — Откуда они, деньги?
— Какие деньги? — так же медленно сказал Дохтуров.
— Я думаю, вам следует изменить тактику, Дохтуров, — начал следователь и вдруг увидел, что глаза инженера как будто распахнулись, да так и остались распахнутыми, словно окна брошенного дома.
— Доктор! — закричал Морковин. — Что же вы смотрите!
В комнату ворвался врач, видно поджидавший у дверей, за ним сестра с готовым шприцем и та самая нянька, которая крикнула «вредитель». Не обращая внимания на следователя, они ринулись к больному. Минуты через две доктор сказал Морковину:
— Уходите отсюда, милостивый государь. Ваше счастье, что он жив.
«Ну погоди», — шагая по коридору, шептал следователь, и было неясно, к кому относятся эти слова — к инженеру Дохтурову или Берестову. Скорее всего к последнему, так как, вернувшись, Морковин приказал немедленно вызвать его к себе.
«Сейчас будет пытать меня насчет двоих несуществующих диверсантов, — думал Денис Петрович, шагая на вокзал. — Черт с ним».
Улицу, по которой он шел, развезло от дождя, сапоги скользили по глине. Шедший рядом с Берестовым человек тоже скользил и каждый раз, поскользнувшись, ругался.
— Ну и город у вас, — в сердцах сказал он, поскользнулся и опять выругался.
Занятый своими мыслями, Берестов сперва не обратил на него внимания, но потом взглянул с некоторым интересом — он привык теперь приглядываться к людям.
Это был очень большой человек, зеркально лысый, в брезентовом плаще, негнущемся как риза.
— Чем же плох наш город? — сейчас же откликнулся Денис Петрович.
— Что люди, что улицы, — с раздражением ответил незнакомец. — Я на вокзал-то хоть правильно иду?
— Правильно.
— И то хорошо.
«Большой, лысый, толстый, — вспомнил Денис Петрович, — нахальный. Такой пытался прорваться к инженеру».
— Чем же это люди наши провинились? — спросил он, но в этот миг ноги незнакомца разъехались и он ухватился за забор, отчаянно сквернословя. «Ну и ну, — подумал Берестов, — такой грохнется — лошадьми не подымешь». На вокзале оказалось, что обоим им нужен Морковин. Это становилось любопытным.
К Морковину Денис Петрович вошел следом за незнакомцем, брезентовый плащ и грязные сапоги которого сразу же загромоздили всю комнату.
— Вы следователь Морковин? — спросил он сердито и тотчас сел в помещичье кресло, тяжко застонавшее под ним.
— Да, — с недоумением и неудовольствием ответил Морковин.
— Я десятник со строительства. Моя фамилия Макарьев.
— Очень приятно, — насмешливо произнес следователь.
— Это мне не интересно, приятно вам или неприятно, — рявкнул Макарьев.
«Ну и встреча! Итак, это Митька Макарьев, чьи кулаки как паровой молот», — подумал Денис Петрович и уселся в углу на стул.
Ему стало вдруг очень тепло, приятно познабливало, комната, покачиваясь, стала уплывать куда-то вглубь, голоса говоривших, только что невыносимо громкие, внезапно ушли как в вату.
Ему казалось, что в жилах его вместо крови течет шипучее холодное вино, пузырьки его лопаются, и от этого по всему телу поднимается озноб. Хорошо бы лечь на диван, что стоит в его кабинете, и потеплее укрыться. Денис Петрович встает и ложится на диван, но холодная клеенка никак не дает согреться. Нет, это не клеенка, это какая-то беда не дает покоя, и до тех пор, пока он не догадается — какая, ему ни за что не согреться. Нужно бы встать, оторваться от этой проклятой клеенки, которая всегда так и останется холодной, во что бы то ни стало нужно оторваться от нее, от этого зависит жизнь — наконец-то он понял! — от этого зависит жизнь Павла.
Между тем далекие голоса со скоростью поезда несутся на него и налетают оглушительным ревом.
— Не верят! Понимаете? Не верят! — ревет Макарьев.
— А мне и не нужно, чтобы они верили, — раздается голос Морковина, стремительно удаляющийся и гаснущий вдали до шепота, — мне нужно…
«Нужно, конечно, нужно просыпаться, иначе выйдет черт знает что, и опасно, и Павел»…
С великим трудом выдирается он из сна.
Конечно, он совсем не у себя и не на диване, а по- прежнему сидит на стуле в углу морковинского кабинета.
— Рабочие послали, — прищурившись, говорил Морковин, — рабочие послали вас защищать врага? Рабочие выступили против своих классовых интересов? Мы еще проверим, кто это вас послал. Может случиться, что вас совсем не те послали.
— Игрушки со мной играть вздумал? — тяжело и сутуло поднимаясь, сказал Макарьев. — Я те не мальчик и в партии не первый день. Я на тебя управу найду.
— Ищи, — презрительно сказал Морковин.
— Товарищ Макарьев, — сказал Берестов, также поднимаясь, — если будет время, загляни, пожалуйста, ко мне. Я начальник здешнего розыска.
Начальник розыска? Он начал в этом сомневаться.
Многое теперь изменилось. Незримо и неслышно где-то шла работа, сводящая к нулю все его усилия.
Кукушкину просто нельзя было узнать. Она ходила теперь в кожанке, перекрещенной ремнями, и уж конечно с кобурой на боку и в лихой папахе до бровей («Братцы, Махно!» — тихо сказал Ряба, когда впервые увидел ее в этом одеянии). Однако дело было не в папахе — как-то неуловимо изменилось самое положение Кукушкиной. На ее имя из трибунала стали присылать пакеты. Если Морковин звонил в розыск, он просил не Берестова, а именно ее. К ней стали приходить какие-то люди, среди них нередко и Левкины парни. Однажды прошел слух, что в розыск идет сам Левка.
Денис Петрович был у себя, когда один из сотрудников доложил:
— Уже прошел Кутакова. Идет мимо водокачки.
Они шли с шиком, Левкины парни, плечом к плечу и очень быстро. В розыске они с веселым любопытством оглядывались по сторонам. «Так вот оно где происходит», — говорили их насмешливые взгляды.
Левка зашел в кабинет Дениса Петровича и представился:
— Лев Кириллович Курковский. До сих пор, кажется, мы не имели удовольствия встречаться.
В дверях толпились Левкины парни.
Как назло, Берестов тогда тоже отвратительно себя чувствовал. Его трясло. Он молчал, так как не собирался вступать в шутовской разговор, на который его вызывали.
— Впрочем, я не стану отнимать у вас времени, — продолжал Левка, — Екатерина Александровна уже пришла. Екатерина Александровна, я здесь!
Берестов остался один. Озноб все не проходил. Он слышал, как Левка прошел в дежурку, где его, должно быть, ждала Кукушкина.
— Прошу, — услышал он и сразу представил себе, как она коротким жестом указывает на дверь следовательского кабинета. Она войдет сейчас туда вслед за Левкой и захлопнет за собою дверь.
«Екатерина Александровна!»
Когда Борис рассказывал Берестову о своей встрече с Левкой и разговоре с Морковиным, Денис Петрович слушал молча, опустив глаза. Только желваки играли на его широком лице.
— Я ему говорю, а он не хочет понять, — закончил Борис.
— Малое ты дитя, — ответил Берестов, — эта старая судейская крыса таких мальчиков, как Левка, видит насквозь.
— Зачем же ему…
— Зачем? А вот зачем. Если сейчас в результате следствия окажется, что инженер не виноват, все сведется к простому уголовному делу. Никакой славы это Морковину не сулит. А вот если будет доказана диверсия, все может обернуться по-другому. Огромной важности дело! Политическое! Морковин всегда будет стараться уголовные дела превратить в политические. Он надеется, что, шагая по таким делам, высоко взойдет — в губернию, а там и дальше. А куда взойдет он со своими мешочниками, пьяными стрелочниками и вагонными ворами. Черновую работу ему делать неохота — куда лучше сразу поймать агента Антанты. Ну а если агентов Антанты в наших краях не водится, а бандитов хоть отбавляй, то лучше агентов выдумать, а бандитов не заметить. Но он не заметит и другого — он сам не заметит, как встанет на путь преступления.
Давно не слышал Борис, чтобы Денис Петрович говорил с таким раздражением.
— Денис Петрович, — нерешительно сказал он, — он ведь в гражданскую вместе с отцом воевал.
— Тебе отец про него когда-нибудь рассказывал?
— Нет.
— Так что же мы о нем знаем?
— Не верится как-то.
— Не верится? Вот если бы ты видел тогда пацанов — от горшка два вершка, зимою на каменном полу, ты бы понял сразу, что за человек Морковин. И не нужны были бы тебе никакие его послужные списки.
Вошел Водовозов. Он был румян от быстрой ходьбы, глаза его поблескивали. Борис поздоровался, стараясь не глядеть ни на Берестова, ни на Водовозова: слишком хорошо помнил он ту ночь, когда стоял у курятника.
— Я от Прохорова, — быстро сказал Водовозов, — похоже, он не сегодня-завтра возговорит.
— Думаешь, возговорит?
— Обязательно. Ему уже по ночам титовские харчи снятся. Вчера на допросе плакал, проклиная своих обидчиков.
Берестов давно уже принял меры к тому, чтобы Прохоров не узнал, как изменилось положение банды: одиночка, надежный часовой у дверей, запрещение передачи. По-видимому, это удалось, — во всяком случае, Прохоров раскис. Он уже не молчал, а произносил длинные и мутные фразы о людской неблагодарности. Берестов не торопил его и даже не задавал больше вопросов, но внимательно слушал и соболезновал.
— Ну, дай-то бог, — сказал он.
Борис стоял и дивился той легкости, с какой говорят эти двое.
— Я забежал на минутку, только сказать, — продолжал Водовозов, — у меня еще сегодня…
Они не расслышали, что предстояло еще ему сегодня. Берестов встал, подошел к двери и посмотрел ему вслед. Потом вернулся к столу и сказал негромко:
— Слушай, Борис, у меня к тебе дело, которое я могу поручить только тебе. До сих пор я старался не упускать Павла Михайловича из виду, даже ночевал у него эти дни, он был недоволен, но стерпел. А сегодня, как назло, меня вызывают в губернию, это тот старикан, что делает анализ крови. Очень прошу тебя — еще одну ночь у курятника.
— Есть — у курятника, — серьезно ответил Борис.
— И вот что: если он выйдет из дому, следуй за ним, куда бы он ни пошел. И на, держи мой револьвер, твоим только кур пугать.
Борис ушел от своего начальника с твердым намерением не упускать Водовозова из виду ни на минуту, однако это было легче сказать, чем сделать: Павла Михайловича нигде не было видно.
Борис пошел к его дому и стал на знакомое место. Водовозов, по-видимому, еще не приходил. Начался дождь. Некоторое время Борис стоял под навесом сарайчика, потихоньку любуясь берестовским браунингом, но потом вдруг испугался, что Водовозов может уйти куда-нибудь, не заходя домой, и побежал в розыск.
— Водовозова не видел? — спросил он у Рябы.
— Да вроде тут был.
Борис страшно обрадовался и кинулся к водовозовскому кабинету, однако он был пуст.
— Не видел Водовозова? — спросил он у дежурного.
— Да он оделся и куда-то ушел.
— Куда?!
— Это ты у Кукушкиной спроси, — насмешливо ответил дежурный.
Что ж, это была мысль. Однако и Кукушкиной, как назло, нигде не оказалось. «Ну ничего, он, наверно, пошел домой», — успокоил себя Борис и побежал обратно.
Водовозовский дом стоял глухой и темный, дождь хлестал на его крыльцо.
Время ползло убийственно медленно. Ничто не защищало Бориса ни от дождя, ни от холода, ни от мрачных предчувствий.
Так прошла ночь.
Когда утром Берестов вернулся из губернии, на него страшно было смотреть — так он устал. Впрочем, Борис, грязный, промокший до нитки и синий от холода, был немногим лучше.
— Денис Петрович, — сказал он сипло, — Водовозов сегодня домой не приходил.
— Как — не приходил? — спросил Берестов, бледнея. — Совсем?
— Совсем, Денис Петрович.
— А здесь?
Борис медленно покачал головой. Водовозова не было и в розыске.
— Боря, немедленно Хозяйку из губернии. Езжай на вокзал, бери паровоз, дрезину, что дадут, и отправляйся за собакой. Собирай наших, сегодня же делаем облаву у слепой Киры. Ах, беда, беда!
«Может быть, он куда-нибудь выехал и вернется, — думал Денис Петрович, — может быть, вернусь, а он уже сидит себе в своем кабинете. Так бывало».
Но Водовозов не пришел в этот день. Дом его стоял глухой и темный.
Весь розыск был на ногах. Сотрудники вместе с комсомольцами и агентом-проводником, ведущим на поводке Хозяйку, обшаривали все городские закоулки, а затем начали рейды в окрестные леса. Романовская, белая как смерть, металась вместе с другими.
К тому времени погоды в наших краях совершенно испортились. Начались дожди. Часто налетали грозы. После туманных ночей окрестный лес совсем раскис и отсырел настолько, что даже грибы отказывались расти в такой сырости, не говоря уже о сгнившей траве. В вязкой грязи стояли продрогшие деревья.
Денис Петрович никак не мог отвязаться от мысли, что где-то в этом лесу под дождем лежит Водовозов.
Они нашли его только на третий день. Он лежал под дождем, придавив своим большим телом молодую сосенку, лежал совсем так, как представлял это себе Денис Петрович.
Берестов опустился на колено и за плечо перевернул Водовозова на спину.
Павла Михайловича трудно было узнать. Лицо набрякло и стало бугристым. Глаза с каким-то странным бешенством глядели в небо, как минуту назад, наверно, с тем же бешенством глядели в землю. Он дышал прерывисто и, когда втягивал в себя воздух, казалось, что он собирается что-то сказать. Однако сил его хватало только на дыхание да на невнятную и бессвязную речь иногда. Он был в тяжелом бреду.
Отправив Водовозова в город и передав его Африкану Ивановичу, Берестов вернулся в лес один. Нужно было еще раз исследовать местность, искать следы. А он стоял у дерева, смотрел на все еще прижатую к земле сосенку и в бессильном отчаянии сжимал кулаки. Угрюмо глядел лес и глухо шумел. Какое-то дерево скрипело, словно вскрикивало. Может быть, от этого скрипа и сдали нервы Дениса Петровича, а может быть, это опять подбиралась болезнь. Все, о чем он запретил себе думать, нахлынуло на него, беззащитного сейчас, и едва не заставило стонать от боли.
Ленка! Давно ли вместе с Павлом они стояли у ее гроба, погибая от стыда и отчаяния, виноватые страшной виной. А теперь уходит Павел, и никого из них он не мог удержать. В первый раз в жизни он был бы рад ничего не чувствовать, не знать, ни за что не быть в ответе. «Почему это мне такая казнь, — думал он, — всех их пережить? Почему бы мне самому не помереть от тифа? Закрыть глаза и помереть. Как было бы хорошо».
Нюрка стояла у ворот своего дома, когда в город привезли Водовозова. Был сумрачный и дождливый день. За телегой молча шли ребята из розыска и комсомольцы. Водовозов был накрыт брезентом, по которому барабанил дождь. Нюрка побежала за телегой и видела, как она въехала в ворота больницы.
Странные дни наступили для Нюрки. Ей и раньше хотелось чем-то помочь розыску, мучило, правда, очень смутное сознание того, что она знает больше других и что-то обязана сделать. Но теперь… Теперь ей казалось, что в руках ее — и притом впервые без всякого участия Анны Федоровны — оказалась действительно какая-то тайна. Ах, как ей сейчас нужен был бы друг и советчик!
Будь это немного пораньше, она пошла бы к Берестову, но теперь, когда он смеялся над ней, подобно остальным людям, в то время как именно он и не должен был над нею смеяться, — теперь пойти к нему она была уже решительно не в состоянии. Просто не могла. Дела между тем обстояли очень странно.
Недавно жиличка ее, Романовская, не пришла ночевать. Нюрка всегда сама открывала ей вечером и потому точно знала, что Романовская ночью не приходила. Она явилась под утро — но в каком виде! Юбка ее стояла глиняным коробом, сапоги превратились в комья грязи, даже лицо было перепачкано.
Странная она пришла. Не сказав ни слова, сняла на крыльце сапоги; вцепившись в наличник, постояла немного в одних чулках, а затем спотыкаясь побрела в свою комнату. Нюрка могла бы поклясться, что Романовская ее не заметила.
А потом, проходя мимо двери, Нюрка услышала, что жиличка ее разговаривает сама с собой. «Как дурочка какая-то», — сказала себе Нюрка.
Она вышла на крыльцо, где стояли чудовищные сапоги. «Ну и работа у женщины, — подумала она, — всю ночь шел дождь, всю ночь она где-то была под дождем».
Рассвело, но от этого на улице не стало лучше. И земля и воздух были пропитаны водой. Нюрке стало холодно, и она вернулась в дом. Все было тихо. По-видимому, Романовская спала.
Часа через три она наконец появилась в дверях. Несмотря на то что Нюрка ждала и желала ее появления, она была поражена им. Кукушкина выглядела совсем больной, чтобы не сказать — безумной. Одета она была кое-как, обута в тапочки. Опять не заметив Нюрки, она сошла с крыльца и направилась к калитке.
Нюрка бросилась за нею: в таком состоянии и виде ее просто нельзя было оставлять одну.
Так шли они по городу, причем Романовская все время оглядывалась, хотя было утро, ясный свет и бояться было решительно нечего. «И чего она оглядывается, если все одно ничего не видит?» — думала Нюрка, следуя за ней уже не скрываясь. Они пришли прямо к водовозовскому дому, Кукушкина еще раз оглянулась и вошла во двор.
Взойдя на крыльцо, она вынула ключ (Нюрка оторопела от изумления), отперла дверь и вошла, очень нерешительно, но вошла. Пробыла она здесь с четверть часа и вышла, опять оглядываясь. Гимнастерка на животе ее теперь сильно оттопыривалась.
На обратном пути Нюрка переулочком пробежала вперед и встретила Романовскую в сенях, но та опять не обратила на нее никакого внимания. «Ну, дурочка и есть дурочка», — опять подумала Нюрка.
А потом началось самое интересное. Нюрка подглядела в замочную скважину — тут она уже не сомневалась в своем праве подглядывать, коли уже Романовская ходит по чужим домам, — как та вынула из-за пазухи какой-то сверток, развернула его и тут же села читать пачку бумаг, которая оказалась в этом свертке. Была она в большом волнении и несколько раз вскакивала с места. А потом долго сидела как неживая. Нюрка чуть с ума не сошла от любопытства.
А потом Кукушкина стала метаться по комнате в поисках чего-то и наконец вышла к Нюрке, чтобы попросить спичек.
Как бы не так! Если бы у Нюрки и была такая роскошь, как коробок спичек, она бы его все равно не дала. Ого! Так она и даст ей жечь бумаги. Вернувшись к себе, — тут уже Нюрка подсматривала не скрываясь, прямо через щель, — Кукушкина взяла один листок и разорвала, а потом стала беспомощно оглядываться, сообразив, что разорванную бумагу тоже нужно потом куда-то девать. Тут Нюрка нарочно скрипнула дверью, чтобы напугать, и Кукушкина, судорожно вздрогнув, стала прятать бумаги.
Это был довольно большой пакет, бумага была очень толстой, только что ни оберточной, поэтому, когда Кукушкина засунула ее за пазуху, там снова оттопырился большой пузырь. Тем не менее она сверху надела куртку — если ее не застегивать, то пузырь не так уже и виден, — и вышла из дому.
Нюрка отправилась за ней. Она шла за ней до самой окраины не таясь и крикнула «эй», когда Романовская начала рыть какой-то щепкой землю. Та оглянулась как затравленный зверь и пустилась домой так быстро, что Нюрка на своих коротких йогах еле поспевала за нею. Когда Романовская снова вышла из дому, как потом оказалось — в розыск, пакета при ней не было.
На следующий день они снова вышли вместе, и на этот раз Нюрка крикнула «эй», когда Кукушкина подошла к утиному пруду, расположенному недалеко от города.
Зайти к Романовской в комнату без нее — то есть сломать дверной замок — Нюрка боялась, да она все равно не смогла бы прочесть таинственные письма, так как была неграмотна. Пойти и рассказать кому- нибудь о случившемся она не смела, да теперь у нее не было и минуты свободной: она ходила за Кукушкиной.
Как-то раз, проводив Кукушкину до розыска, Нюрка расхрабрилась и заглянула к Берестову, но он был занят, и Нюрка поскорее захлопнула дверь.
Денис Петрович не заметил Нюрки. Он только что вернулся из больницы и теперь сидел над папкой и изучал дело Дохтурова. Покушение на Водовозова — Берестов не сомневался в этом — было одним из эпизодов той давней борьбы, которую розыск вел с Левкиной бандой.
Более суток пролежал Водовозов с ножевой раной в спине в раскисшем от дождя лесу. По счастью, сосенка, которую он подмял своим телом, держала его на себе и не дала упасть на мокрую землю.
Но рана загноилась, началось воспаление легких, тем более опасное, что Павел Михайлович потерял много крови. Берестова безмерно пугало то тяжелое забытье, в котором находился его друг, зато Африкан Иванович возлагал большую надежду на могучую силу водовозовского организма.
— Здесь бурый медведь и тот бы подох, — говорил он. — Раз в лесу не помер, у нас, даст бог, выживет.
Денис Петрович сидел над делом Дохтурова и ничего не понимал. Ему и в самом деле было худо. Кожа пылала от жара и в то же время, казалось ему, была рябой от холода. Тело ломило, и очень хотелось лечь, но он не ложился, боясь, что тогда болезнь одолеет его, а ему никак нельзя было болеть. Единственное, что мог он себе позволить — опустить на руки тяжкую как свинец голову. Голова тянула его глубоко вниз, в теплое и душное забытье, приятное и страшное своей темнотой. Чтобы из нее вырваться, он вышел в поле и сейчас же увидел далекие огни, которые то собирались вместе, то расходились. «Это наши едут с факелами», — успел догадаться Денис Петрович, и тотчас же на стене задребезжал телефон.
Это был комендант тюрьмы.
— Денис Петрович, ты? — сказал он. — Эти босяки, кажется, устроили мне веселую жизнь и доставили вагон удовольствия. Я тебя не спрашиваю, знаешь ли ты или не знаешь…
Денис Петрович решительно ничего не мог понять. Далекие огни все еще мелькали в глазах. Ему хотелось думать, что он опять бредит, но это отнюдь не было бредом. Он вскочил, уже не чувствуя ни озноба, ни слабости.
В тюрьму пришел приказ, подписанный Кукушкиной, где говорилось, что Прохоров должен быть выпущен за недостатком улик. Заместитель коменданта его немедля освободил.
— Без моего разрешения?! — взревел Денис Петрович. — О чем он думал?!
— Я знаю! — смущенно ответил комендант. — О чем может думать человек, у которого форшмак в голове?
Однако Берестов очень хорошо понимал, о чем думал помощник коменданта: он боялся Кукушкиной.
Себя не помня от бешенства ворвался он в дежурку, где сидела Кукушкина.
— Вы работаете последний день в этом учреждении! — крикнул он.
— Мы еще посмотрим, кто работает последний день, товарищ Берестов, — ответила Кукушкина и снова принялась что-то писать, явно подражая Морковину.
Да, болеть он не мог.
В тот же вечер Берестов отправил в губернию рапорт, где рассказывал случай с Прохоровым, требовал немедленного увольнения Кукушкиной и привлечения ее к суду.
В это время Милка в составе эпидемиологической тройки объезжала деревни, в которых начинался сыпняк. Они увязали в придорожной грязи, ругались с фельдшерами, заставляли жарко топить деревенские бани, где могли устраивали изоляторы для больных и сами мыли полы.
Во всех этих хлопотах Милка впервые обрела душевный покой. Мать уехала. Бандиты далеко, думать о них некогда. Наконец, даже дело инженера стало ей представляться не в таком уже мрачном свете.
Берестов знает, что Александр Сергеевич ни в чем не виноват, думала она, он не допустит беды. Да и не может этого быть, чтобы невинного человека взяли вдруг и расстреляли. Наконец, сама болезнь Дохтурова гарантировала длительную отсрочку.
Теперь, стоило ей хотя бы ненадолго остаться наедине с самой собой, она, как прежде, начинала мечтать, и мечты ее были всегда одни и те же. Она в больнице и ухаживает за Дохтуровым. Вот он в первый раз открывает глаза и узнаёт ее. «Это вы, — говорит он, — а я думал, что это опять сон». — «Спите, спите», — тихо отвечает она и меняет повязку на его горячем лбу. Как-то раз он даже поцеловал ее руку.
И все-таки, когда Берестов предложил ей работать в больнице, она отказалась. Во-первых, ее оскорбил лукавый взгляд Берестова. Но главное было, конечно, не в этом. Она бы самое жизнь отдала, лишь бы ухаживать за Дохтуровым, но для нее это было невозможно. Куда ей, «бандитке», как в сердцах назвала ее одна поселковая старуха (а Морковин, Морковин!), куда ей было думать всерьез о таком человеке, как Дохтуров. Так и будет кто-нибудь целовать ее руку, как же! Можно только помечтать немного — и все.
Однако Милка не знала, что инженер, на беду свою, поправляется очень быстро и что следствие идет полным ходом.
Морковин уже несколько раз был в больнице и знал теперь точно, что Дохтуров не может объяснить, каким образом у него в кабинете оказались деньги, что преступление свое он, разумеется, отрицает, сообщников не выдает, а вместо этого рассказывает какую-то плохо придуманную историю, как два незнакомых парня привели его к железной дороге.
Когда, вернувшись из поездки, Милка влетела в кабинет Берестова, в надежде узнать новости и рассказать о своих успехах, она была поражена видом Дениса Петровича. Он со злобой, как ей показалось, взглянул на нее и тяжело сказал:
— Всё. Через три дня трибунал.
— И ничего… — робко начала Милка («А вы-то говорили, что все будет хорошо», — хотела она сказать, но не сказала).
— Ничего.
Милка поняла: это конец. Никого не будет на этом суде, кроме трех судей, заранее настроенных следствием, ни защитников, ни заседателей, ни народа — никого! Суд военного времени.
— Можно его повидать? — спросила она.
— Нет, он уже в тюрьме.
«А ведь тогда это было так просто! — думала она. — И я сама отказалась. А теперь больше никогда. Никогда».
Она не помнила, как очутилась на улице (неужели просто повернулась и ушла, не сказав Берестову ни слова?!). Неподалеку от розыска ей повстречался Борис. Они остановились.
— Вот и все, — сказал он.
— Где Сережа?
— У Дениса Петровича.
— Он знает?
— Нет.
Милка задумалась, опустив голову. «Она стала совсем взрослая», — подумал Борис. И все-таки у него не хватило духа рассказать ей о том, что произошло на последнем собрании розыска. Кукушкина делала сообщение о ходе следствия по делу Дохтурова — именно Кукушкина, потому что Берестов необходимыми сведениями не располагал. Она стояла, расставив ноги, рука на кобуре, короткие волосы торчат как перья.
— Двоих диверсантов мы упустили, но у нас в руках главный гад, нужно заставить его заговорить и выдать сообщников. Я считаю этот путь самым простым и верным. Что для этого нужно сделать? Я считаю, что нужно в корне менять водный режим (при этих словах сидевший в углу Морковин поморщился и двинул стулом). Наукой установлено, что человек может прожить без воды только четыре дня. Следовательно, если не давать ему воды…
— И кормить селедкой, — дурашливо вставил кто-то.
— Да, быть может, и увеличить несколько количество соли в пище.
— Это называется пыткой, между прочим, — звонко сказал Ряба.
Наступила тишина. Все, казалось, ощущали, как комната медленно наливается ожиданием и ненавистью. Ряба оглянулся, отыскивая глазами Берестова, но того не было. Увидев в этом движении просьбу о помощи, Борис встал, за ним поднялось еще несколько человек.
— Мне все равно, как это называется, — ответила Кукушкина, — если это идет на пользу нашему делу.
— Не идет! — заорал Ряба и замахнулся рукой, как баба на базаре. — Пусть капиталисты устраивают застенки, а я заявляю от имени мировой революции— не позволим!
— Врага жалеешь, Рябчиков, — сказал из своего угла Морковин.
— Себя жалею! — так же махая руками, кричал Ряба. — Их вон жалею, советскую власть жалею!
Никто уже никого не слушал, все порывались говорить и что-то выкрикивали.
— Тихо! — проревел вдруг голос Берестова, и все смолкли, ожидая, что он скажет. Он ничего не сказал, а только кивнул на дверь.
Прислонившись к притолоке, стоял толстенький человек в австрийских башмаках с обмотками и в странном картузе гоголевских времен. Это был комендант тюрьмы. Он сделал шаг вперед, снял картуз, обнаружив лысину, и споткнулся (комендант всегда спотыкался, а споткнувшись, смеялся и говорил, что при его конструкции наврали в расчетах).
— Меня мама, между прочим, не на коменданта рожала, — негромко начал он, — моя мама, чтобы не соврать, имела в виду сапожное дело. Но уж коли я сюда сел, я та же советская власть, а не родимое пятно царского режима. Вы меня поняли: если кто еще скажет при мне про селедку, я тому, извиняюсь, дам в морду немножко, и согласен потом иметь неприятности от нашей красной милиции.
— Не верю! — орал Ряба. — Я вам теперь не верю! Комсомольские патрули в тюрьму, контроль со стороны укома партии!!
— За ради бога! — ответил комендант. — Пусть ваши мальчики сидят у меня на кухне, пусть на здоровье кушают тюремные щи. Пожалуйста.
Но розыск долго не мог еще успокоиться.
— Вот идиотка, — шептал Морковин.
Ряба хватал за рукав то того, то другого, стараясь что-то разъяснить, хотя все и так было ясно.
Этого Борис не рассказал Милке.
Не только он, но и все в розыске (если не считать, конечно, Кукушкиной) ходили как в воду опущенные, и вдруг…
Был пасмурный серый день, когда Морковин — в последний раз — торопился в тюрьму. В руках его была папка из мохнатого картона, горло обложено желтой ватой и обвязано тряпкой: он простудился из-за дождя и целых три дня сидел дома.
Городская тюрьма — старинное низкое здание, как водится, красного кирпича — расположилась на небольшом пригорке и была хорошо видна. Поэтому Морковин сразу разглядел человека, вышедшего из тюремных ворот. Это был Берестов.
Побежденный. Настолько побежденный, что Морковину в первый раз в жизни захотелось с ним немного поговорить. Однако он, конечно, ни минуты не думал, что у Берестова возникнет ответное желание. Они молча шли навстречу друг другу. И, как ни странно, Денис Петрович остановился.
— Горло? — спросил он, кивнув на желтую вату.
— Как видите.
— А куда это вы? Уж не в тюрьму ли?
— Вот именно что в тюрьму, — с готовностью ответил Морковин.
Берестов внимательно посмотрел на него. Потом они закурили.
— Зачем же? — спросил Берестов.
— Да так, — насмешливо ответил следователь, — дела. А вы, наверно, у своего друга были, советы ему давали и наставления? Ну, что же, каждый делает свое. Только мы его все равно расстреляем.
— Извините меня, как вас по отчеству…
— Назарович. Анатолий Назарович, — с той же поспешностью ответил Морковин.
— Анатолий Назарович, ответьте мне, за что вы его хотите расстрелять?
«Ишь как заговорил, — выражала морковинская улыбка. — Что-то раньше мы не вели с вами таких задушевных бесед».
— В самом деле, — продолжал Берестов, — вы верите, что Левка и его парни — это спасители отечества, а Дохтуров — диверсант?
Морковин, сегодня как-то особенно тонкий и легкий, стоял, прислонясь к забору, и благодушно курил.
— Знаете, — ответил он, — по правде сказать, мне это не так уж и важно. Главное, я считаю, что в основе это дело правильно. Ваш спец в душе все равно вредитель, и это понятно. Отними у человека поместье, завод, дом, выгодную должность — он, ясное дело, будет вредить. Этот инженер до семнадцатого небось рысаков держал.
— Скажите, — продолжал Берестов, — а если бы у вас отняли ваш огородик с грядочками…
Следователь бросил папиросу и затер ее каблуком.
— Мне пора, — сказал он, многозначительно взглянув на Берестова.
— Ну, что же…
Денис Петрович повернулся и пошел в тюрьму, следователь шагал за ним, испытывая раздражение и смутную тревогу. Странно, таким тоном побежденные не говорят. Делает вид? Ну что же, ничего другого ему и не остается!
— А что это вы возвращаетесь? Забыли что-нибудь? — все-таки не удержался и спросил Морковин.
И тут Берестов сказал загадочную фразу:
— Нехристь я. Нет во мне любви к врагам моим.
Когда они вошли в проходную, охранник почему-то спросил у Морковина пропуск («Новенький?» — с удивлением подумал Морковин, его в тюрьме хорошо знали), а посмотрев на пропуск, просил подождать.
— Чего ждать?! — закричал вдруг следователь и выругался.
— Спокойно, гражданин, — строго сказал охранник.
«Погоди, тебе начальство сейчас покажет „спокойно“», — злорадно подумал Морковин. Только вот присутствие Берестова смущало его. Появился комендант тюрьмы, почему-то очень веселый. Он семенил к Морковину, улыбался.
— Ай, как некрасиво вы поступаете, — сказал он, — такому лицу, как часовой, даете такой пропуск.
Морковин смотрел на них подозрительно. «Что же это может быть?» — думал он.
— Он же сидел себе дома, — продолжал комендант, — он лечил горло ромашкой. Денис Петрович, расскажи ему, что такое советская власть.
— Решением ВЦИКа, — наставительно начал Берестов, — военно-транспортные трибуналы уничтожены. Во время революции и гражданской войны, как вы знаете, нам некогда было думать о правовых нормах и писаных законах. Враги с нами ох как не церемонились, и мы с ними церемониться не могли. Наш суд был скор тогда, а нередко и жесток. Иначе и быть не могло. Ну а теперь, как вы опять-таки знаете, советская власть стоит крепко, у нее теперь есть время для того, чтобы разобрать спокойно, кто прав, кто виноват. Вот почему ликвидированы все губернские и транспортные трибуналы, вот почему вместо многочисленных судов — особых и чрезвычайных— вводится народный суд. Это называется революционной законностью. Видите, товарищ Морковин, против вас сама советская власть.
Через несколько дней Берестов привез из губернии новую весть: дело инженера решено было слушать в их городе, в выездной сессии губсуда и в присутствии всей общественности. Заседателями в этот раз предполагали вызвать двух ткачих с местной фабрики. Словом, готовился общественно-показательный процесс. «Пускай народ сам разберется, — будто бы сказали в губернии, — пусть политически растет. Пусть скажет свое слово».
— Хорошо это или плохо? — спрашивал Борис.
— Хорошо, хорошо, все хорошо, — раздраженно ответил Берестов, — одно только плохо: мы до сих пор ничего не знаем. Мы не знаем, кто предал Ленку, мы не знаем, кто ранил Павла, мы до сих пор не можем доказать, что Левка — это бандит.
— А кто будет защитником?
Да, среди десятка других вопросов этот был не последним. Кто будет защитником? Сам инженер не настолько еще окреп, чтобы выдержать ту жестокую битву, которой предстояло разыграться на суде. Кроме того, дело было так запутано, а он хоть и был главным действующим лицом, принимал в нем такое пассивное участие и знал о нем так мало, что не мог бы защитить себя. Защитник был необходим. Однако Берестову не хотелось обращаться в губернскую коллегию защитников. Он их не любил.
— Знаете ли вы пятьдесят седьмую статью УПК? — спросил он как-то Макарьева.
— Нет, разумеется.
— А эта статья гласит: защитником обвиняемого могут быть близкие родственники (это значит бабка Софа — не пойдет), уполномоченные представители госпредприятий и учреждений, профсоюзов и прочее. Согласятся ваши рабочие послать вас защитником на процесс?
— Еще бы.
— А не боитесь?
— Конечно, боюсь. Только вы тогда на что?
Тысячи дел требовали присутствия и участия самого Дениса Петровича. Да и у постели Водовозова он должен был дежурить сам, и в тюрьму к Дохтурову должен был сам прийти. «Славно я пристроил моих друзей», — думал он, невесело усмехаясь.
В больнице у Водовозова, где слышалось непрерывное воспаленное бормотание, было все-таки не так тоскливо, как у Дохтурова в тюрьме. Берестов не раз приходил сюда, пользуясь тем, что комендант смотрит сквозь пальцы на его визиты.
— Вы верите в то, что у вас сидит диверсант? — спросил его как-то Берестов.
— Такой приличный молодой человек, — ответил комендант и вздохнул. Денис Петрович понял: он верит в диверсию и стесняется.
С часовым, стоявшим у дверей камеры, дело обстояло хуже. Он смертельно боялся Дохтурова и потому ненавидел его.
— Отойди, гад! — истерически кричал он всякий раз, как Александр Сергеевич приближался к двери.
Денис Петрович, как всегда, переступил порог тюремной камеры с очень неприятным чувством — словно боялся, что и его тоже отсюда не выпустят. Дохтуров полулежал на жесткой койке, в руках его была книга, которую он из-за темноты читать не мог. На столе можно было различить миску из-под еды.
— Как харчи? — весело спросил Берестов. — Повар не пересаливает?
— Это в каком смысле?
— В буквальном. А не то у меня Клавдия Степановна влюбилась, что ли…
— Нет, скорее недосаливает.
По голосу было слышно, что Дохтуров улыбается. По-видимому, он считал, что Берестов занимает его беседою.
— Ничего, — сказал Денис Петрович, — Павел у меня тоже за решеткой. Да еще за какой толстой. И страж к нему тоже приставлен. И тоже с винтовкой.
— Боитесь вторичного покушения?
— Очень.
Они помолчали.
— Что Сергей? — спросил инженер напряженным голосом.
— Уже совсем здоров.
«Совсем здоров? — подумал Дохтуров. — И мне не написал?» «Да, вот записки я не принес, — подумал Денис Петрович, — но написать письмо — дело непосильное для мальчишки». — «Ну да это и понятно, я бы сам не мог ему написать…» — «Вот видите, вы ведь тоже ему не написали».
Так в большинстве случаев шли у них теперь разговоры— два-три слова вслух и длинные молчаливые диалоги.
«Пожалуй, действительно, будьте сейчас пока вы между нами». — «Давайте, лучше уж я».
В камере становилось все темнее.
— Читали сегодня?
— Читал, да как-то…
«Как-то странно читать, когда у тебя нет будущего». — «Ну понятно, читаешь всегда для своей будущей жизни. Но она будет!»
— Ну посмотрим, — ответил Дохтуров, — будем посмотреть, как говорил один наш знакомый немец. Катя его очень любила.
Катя это была жена, Сережина мать. «Хорошо, что ее уже нет в живых». — «Да, сейчас ей было бы трудно. Ну ничего, все будет хорошо, мы тоже без дела не сидим».
— От Митьки Макарьева пар валит, — сказал вслух Берестов, — изучает криминалистику.
— Группы крови, — инженер снова улыбнулся. — Никогда не думал, что кто-нибудь будет так интересоваться моей неблагородной кровью.
Они замолчали, но на этот раз их разделило глухое и неловкое молчание.
— Вы не очень огорчайтесь, если дело не выйдет, — сказал Дохтуров, — вы, кажется, сделали все, что могли.
— У меня было два друга… — глухо сказал Берестов.
«Обоих я чуть было не прозевал. И обоих спасу во что бы то ни стало».
— Я знаю. Но если только это будет в ваших силах, — ответил Александр Сергеевич.
«Во что бы то ни стало», — стиснув зубы, думал Денис Петрович.
В розыске все были в сборе. Макарьев с Борисом сидели в берестовском кабинете над делом Дохтурова. Тут же на диване Ряба чистил наган. Было сильно накурено. Денис Петрович почувствовал огромное облегчение, попав к своим.
— Борис, — сказал он почти весело, — немедленно разыщи своего театрального старикана. Ряба — в больницу за сводкой. А ты, — обратился он к Макарьеву, — садись за изучение этой самой крови. Вот тебе книга — выручай.
— Я и в этих-то бумагах ни хрена не понимаю, — мрачно сказал Макарьев.
«Эх, сюда бы сейчас Водовозова!» — подумал Денис Петрович.
— Давайте обсудим положение, — сказал он, — все зависит от того, какие доказательства представим мы на суд и в какой степени сможем опровергнуть доводы бандитов. Иначе говоря, сейчас все зависит от нас, и только от нас. Пока единственное уязвимое место у них — это выстрел. Бандиты утверждают, что выстрелили в инженера у путей. Поэтому важно на суде (и только на суде, до суда об этом ни слова) выяснить, когда был сделан выстрел, иначе говоря — сколько времени прошло с момента выстрела до появления поезда, машиниста и пассажиров. По показаниям бандитов, должно быть немного, между тем у нас есть медицинский акт, подписанный Африканом Ивановичем, — вот он, — что с момента выстрела прошло не менее полутора часов. Это подтверждает показания инженера о том, что его ранили на болоте, далеко от полотна…
— И вот тут-то, — торжествующе сказал Борис, — тут-то и нужно сказать про кровавое пятно, которое мы нашли. И согласно группе крови…
Берестов помолчал.
— Борис, — сказал он мягко, — такие были дни, я не хотел тебе говорить — больно уж много на нас свалилось всяких бед… Понимаешь, экспертиза показала, что это кровь совсем другой группы и, значит, принадлежит она совсем не инженеру.
— А кому же?!
— Я не знаю — кому.
— Но этого не может быть!
— Увы, это так. Старик, делавший анализ, мастер своего дела, я был у него тогда.
— А не мог он…
— Что ты, честнейший старик. Он сам в отчаянии, он понимает, что от этого зависит жизнь человека, но ничего не может поделать — что есть, то есть. Так что дела у нас обстоят пока не очень важно. А бой будет не на живот, а на смерть: прокурором в наш город назначен Морковин.
Они долго сидели в розыске, занятые каждый своим делом. Потом Борис привел Асмодея, разговор с которым, конечно, сильно затянулся, так как старик не умел разговаривать кратко.
Словом, рабочий день их кончился, когда на улице уже светало. Денис Петрович вышел из розыска и направился к Рябиному дому. Было то безукоризненно умытое утро, когда кажется, что жизнь готова начаться сначала.
Послышались шаги. Он обернулся. По улице шла Кукушкина. За ней на равном расстоянии — не приближаясь и не удаляясь — следовала Нюрка.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Глава I
И вот наступил день суда.
Суд должен был происходить в клубе. Судьи — ткачихи с городской фабрики и один паренек из губсуда — сидели на сцене за столом, где обычно помещался президиум; места сторон представляли собой простые канцелярские столики об одной тумбочке, а скамья подсудимых была действительно скамейкой, сколоченной из мохнатых досок и поставленной к стене.
Стоит ли говорить, что народу собралось очень много, он заполнил не только весь зал заседаний (как мы для простоты будем называть внутренность бывшей церкви), не только все здание, но и почти весь церковный двор. Да иначе и быть не могло. Еще бы: подсудимый был известный и до сих пор уважаемый человек, обвинение же представлено бандитами, которые оказались вовсе не бандитами. Словом, город бурлил.
Много толков было и по поводу судей. Что за человек был парень из губсуда, никто не знал. Зато заседателей знали очень хорошо.
Это были, как говорилось тогда, «выдвиженки», ткачихи с местной фабрики Василиса Степановна, или просто Васена, как называли ее в прядильном цехе, и Екатерина Ивановна, известная на весь город своим утиным носом и многодетностью. Именно потому, что их можно было встретить у колонки за водой или в очереди за постным маслом, особого почтения к ним не было.
— Эти рассудят, — говорили городские скептики.
Вообще казалось странным, что такое сложное дело не перенесли в более высокую инстанцию, а оставили в маленьком уездном городке.
Итак, зал был набит. Приехало губернское начальство, собрались «представители местной прессы». Некоторое время общее внимание привлекал небритый старик в очках, который сидел в первом ряду, подняв острые коленки. Оказалось, что это судебный эксперт. Он сидел и жевал губами.
Прошел взволновавший всех слух, что на процессе присутствует кто-то из центральной газеты. Зал гудел от напряжения.
Наконец вошли судьи. Ткачихи были встречены ироническим ропотом и страшно смутились. За один из столиков сел Морковин, за другой — Макарьев, заметно старавшийся делать вид, что все это ему не впервой. Лицо. Морковина было непроницаемо настолько, что усы его казались наклеенными.
Все заметили, что к Левке, который сидел в переднем углу, сбоку у окна, подошел Николай и что-то сказал, но что, этого никто не услышал. А разговор их был короток.
— Милка все-таки пришла, — сказал Николай.
— Учтем, — ответил Левка. Он был подтянут и весел.
Берестов сидел сзади, близко от прохода, чтобы в случае чего можно было выйти, — хотя при такой давке и это было делом нелегким. К нему протиснулся Борис.
— Как? — спросил Денис Петрович.
— Неважно, — тихо ответил Борис, — говорят, жар усилился.
Судья открыл заседание, и тогда из бывшей ризницы двое милиционеров вывели подсудимого. Все так и впились в него глазами. Милка не отрываясь смотрела на него.
Он был очень бледен, чисто выбрит, совершенно спокоен и — она поняла это, как только его увидела, — совершенно недоступен для нее. Пусть обвинен во всех смертных грехах, пусть судим, пусть даже осужден и проклят, все равно недоступен.
Сережа, зажатый между какими-то мужиками в самом последнем ряду, долго не смел поднять глаз. Наконец он собрался с силами и взглянул. Такой близкий и такой далекий, отец был прекрасен. Сережа боялся увидеть следы болезни и страданий на его лице, однако он изменился очень мало. А держался так непринужденно, словно был не на скамье подсудимых, а сидел на поваленном дереве в лесу около своего моста. «Я уеду, даю тебе слово, — думал Сережа, — ты меня никогда не увидишь. Только останься жив».
Две скамьи занимали жители поселка во главе с председателем поссовета дядей Сеней. Семка Петухов не сидел, а восседал. Софья Николаевна поместилась рядом с тетей Пашей.
— Представьте, — говорила она, — стоит мне дотронуться вот тут (она, пригнувшись, указывала на поясницу), как сейчас же по ногам бьет как будто током. От чего это может быть, как вы думаете?
Тетя Паша смотрела вперед неугасимыми и страшными глазами.
Судья спросил что-то Дохтурова, но зал все никак не мог успокоиться, и поэтому никто не расслышал— что. Инженер ответил. Затем судья вызвал свидетелей. Поднялся Левка со своими парнями, проплыла бабка Софа, вышли Борис с Костей, Кукушкина и другие. Дошла очередь и до Милки.
Не поднимая глаз, прошла она меж скамеек, ни жива ни мертва поднялась на сцену. Занятая мыслью об Александре Сергеевиче, который должен был сейчас ее видеть, она сперва даже и не заметила, что стоит между Левкой и Николаем, а сзади еще двое парней из банды. Конечно, здесь, на виду у людей, ей не грозила никакая опасность, однако она поняла, что кольцо это создалось вкруг нее неспроста, и сердце ее сжалось.
Судья сказал что-то об ответственности за ложные показания; на лицах Левки и его парней, как, усмехнувшись, отметил про себя Берестов, было написано в этот миг живейшее участие, — после чего все они были удалены из зала.
Судья встал (ткачихи остались сидеть. «Глядите, сидят, язык жуют», — явственно сказал кто-то в толпе) и прочел по бумажке, что Дохтуров Александр Сергеевич, тридцати шести лет, вдовый, беспартийный, обвиняется в злостной контрреволюции, выразившейся в том, что он пытался взорвать поезд с советскими гражданами. На вопрос, признает ли он себя виновным, Дохтуров ответил отрицательно, чем вызвал ропот в толпе.
Ему задавали вопросы, он отвечал очень кратко. История, которую он рассказал, звучала неправдоподобно, он, видно, и сам это понимал.
Потом вызвали свидетеля Льва Курковского.
— Имя, отчество и фамилия?
Левка ответил.
— Чем занимаетесь?
— В Москве в институте учусь. Вот справка.
И он протянул судье бумажку.
— Что делаете в городе?
— Приехал отдохнуть на лето.
— На что живете?
— Стипендию получаю. Мать немного зарабатывает.
Левка одет был в косоворотку и держался очень скромно.
— Ну, как было дело… — как бы в замешательстве начал он. — Дело было, значит, так. Была у нас компания парней, не очень чтобы хорошая мы были компания, но ничего плохого мы тоже не делали. Ну вино, конечно, пили, ну там барышни…
— Разлагались, значит? — спросил чей-то злой голос.
— Не то чтобы разлагались, а вообще… Ну, словом, я себя не защищаю, именно себя, потому что большинство наших парней — это рабочий люд. Многие из крестьян. Но веселились мы слишком много, вот что, и пошла о нас дурная слава. Я считаю, что только поэтому к нам враг и обратился.
В зале заволновались.
— Да, — повторил Левка, — я считаю, что в этом наша вина. Есть в нашей компании Василий Додонов, мы его Баяном зовем, очень хорошо на баяне играет. Вот как-то раз он и пришел ко мне — это было за неделю до диверсии, — взволнованный такой, и говорит: был у меня сегодня гад, уговаривал на контрреволюцию работать. Как, говорю, на контрреволюцию, что такое! И рассказал он мне, как пришел к нему инженер Дохтуров и предложил большую сумму денег — он сказал, что никаких денег не пожалеет, если Васька согласится сделать для него одно небольшое дело на железной дороге. Васька испугался, сперва не знал, как себя вести, и сказал, что подумает, а сам побежал ко мне. Однако то ли инженеру помощь была уже не нужна, то ли он кого другого нашел, а может, почуял что-то неладное, только больше он не явился. Стали мы тогда все совет держать: как быть! Думали сперва в розыск обратиться, но не решились: доказательств у нас не было, а так бы нам не поверили, да и слава о нас шла не очень-то… Словом, не решились. Но совесть свою пролетарскую мы не потеряли, нет. Пусть мы вино пили и с бабами путались, пусть мы там продали что-нибудь, что не полагается, но против рабочего класса пойти — этого мы не могли. И мы решили бдительно следить за этим гадом, чтобы он не навредил. Мы что сделали? Мы установили дежурство, так что каждую ночь обязательно кто-нибудь из нас дежурил около дома инженера или в его саду. И стали мы замечать, что вечером или глубокой ночью приходят к нему какие-то подозрительные типы, подойдут к окну — тут только мы поняли, почему инженер по ночам окна не закрывал, — подойдут очень близко, окликнут тихо, тогда их пускают в дом. Пробовали мы к окну подбираться, однако его тотчас же закрывали, и мы ничего расслышать не могли. Но вот наконец нам посчастливилось: в тот вечер, когда все это произошло, Николай Латышев — он потом вам все это сам расскажет — услышал вечером, в сумерках, разговор в саду у инженера и понял, что они готовят взрыв. В это время пробежал инженеров мальчонка — мы тогда думали, что он тоже замешан в отцовские дела, и не знали, что окажется таким замечательным нашим парнем. Словом, узнали мы о том, что инженер хочет взорвать поезд, а что за поезд, почему, этого мы не знали. Сережа поехал в город, а мы побоялись опоздать и потому решили действовать собственными силами. Мы — это вот я и Николай (остальные выпили сильно), а Карпова мы послали остановить поезд на мотоцикле к переезду, — так, значит, мы с Николаем стали в леске, у задней калитки инженерова дома, а когда он в сопровождении двоих каких-то типов вышел из дому, пошли за ними. Но, знаете, был туман, шли мы медленно, стараясь не шуметь, — словом, что греха таить, мы их просто потеряли. Представляете себе, как мы боялись, что опоздаем. Мы пошли по путям, а пока мы шли, они успели минировать в двух местах. Увидев нас, они побежали, мы выстрелили. Тут уж пусть извинят нас товарищи из розыска, только оружие у нас было, один пистолет на всю братию мы все-таки нашли. Конечно, мы понимаем, что это называется незаконное хранение оружия, только на этот раз оно сослужило хорошую службу. Правда, теперь мы его сдали. И вот, значит, Николай выстрелил, инженер упал, остальные двое побежали через насыпь. Николай выстрелил еще раз, но был туман, я уже говорил об этом, и преступникам удалось скрыться. В это время подоспели пассажиры, вот товарищи из розыска… Что еще сказать? Пожалуй, всё.
Левка кончил. Было видно, что его речь произвела большое впечатление, и притом самое благоприятное для него. Слышно было, как кто-то сказал ворчливо: «Видал? А ты говоришь — не виноват».
Ткачихи смотрели на Левку благосклонно, особенно Васена.
Даже Берестов подумал о том, насколько правдоподобно звучит эта история и как хорошо подогнаны в ней все подробности.
— У меня вопрос, — сказал Макарьев.
— Какие тут вопросы, все ясно, — проворчал кто- то в толпе.
— Расстрелять гада — и амба! — выкрикнул кто- то.
Судья встал и пригрозил закрыть заседание. Стало тихо. В толпе послышалось ворчание.
Еще совсем недавно, года три назад, суды походили на рабочие собрания, каждый присутствующий мог встать и произнести речь «за» или «против» подсудимого. Реплики и выкрики с места были делом обычным. К новым порядкам привыкали с трудом.
Теперь внимание всего зала обратилось на Макарьева. Он покраснел и, как медведь лапой, потер лысину. В зале засмеялись.
— Скажите, пожалуйста, — начал он, обращаясь к Левке.
— Пожалуйста, — поспешно сказал Левка, и в зале засмеялись сильней.
— Скажите, пожалуйста, — повторил Макарьев, — в котором часу все это произошло?
— Да минут за пятнадцать до того, как подошел поезд.
Потом он подумал и сказал:
— А может быть, это и раньше было, так — за полчаса. Я бы и тогда не мог времени определить, а сейчас и подавно не смогу.
«А хитрая бестия! — подумал Берестов. — Вывернулся».
— А все-таки, пятнадцать минут или больше?
— Затрудняюсь вам сказать.
Макарьев сел. Теперь заговорил судья.
— Что вы делали весь этот день? Расскажите все по порядку.
Левка замялся. Он явно замялся и подчеркнуто долго молчал.
— Да что делали, — сказал он наконец, — ничего хорошего мы не делали. Пили мы в поселке. Не так чтобы очень пили, а собрались компанией. Были и барышни. Правда, барышни наши…
Он почесал затылок и прищурился. В зале начался смех. Левка переждал его.
— По этой части мы, конечно, вели себя плохо. Я не скрываю. Вот, к примеру, есть у нас в поселке такая Людмила Ведерникова, ну, кто ее не знает, известная… Я ничего, конечно, говорить не хочу, только… Одно сказать…
Левка хладнокровно выждал паузу и добавил:
— …проезжая дорога.
В зале кто-то загоготал. «Понятно, — подумал Денис Петрович, — заранее обезвреживает. Вот бедняга Милка. Хорошо, что ее здесь нет».
Он ошибался. Милка была здесь. Она тихонько исчезла из комнаты, в которую ее провели, взобралась на хоры и оттуда слышала Левкину речь.
— С такими женщинами, как Ведерникова, — продолжал Левка, — нам, парням, конечно, лучше дела не иметь, но что тут сказать… Знаете, какой мы народ… Словом, мы к этой Милке ходили, была она с нами и в поселке на даче. Привел ее Николай Латышев, а поскольку его очередь была дежурить около дома инженера, он ушел тотчас же, а как услышал в саду разговор, пришел опять за мной. Остальное вы знаете.
Рассказ о барышнях и Милке, видно, произвел на ткачих неприятное впечатление, однако когда Левка сказал: «Знаете, мы, парни, какой народ», они оживились, а Васена даже заулыбалась, впрочем сейчас же спохватившись и сконфузившись.
Берестов взглянул на инженера. Тот сидел на своей скамейке. Уперев локоть в колено и покусывая палец, он сосредоточенно смотрел на Левку.
А Милка сжавшись сидела на хорах. В голове ее тяжело стучало. Она спрятала в ладони горячее лицо и не знала, осталась ли она незамеченной, или все уже обернулись и смотрят на нее. О Дохтурове она старалась не думать.
Потом вызвали Николая, рассказ которого, как, впрочем, все и ожидали, точно совпал с Левкиным.
— Скажите, Латышев, — спросил Макарьев, — где вы стояли в саду у Дохтурова, в каком месте?
Николай оживился. «Представилась возможность сказать правду», — подумал Денис Петрович.
— Да тут, справа от дорожки, в сиреневых кустах.
— А где стояли диверсанты?
— Да тут же, в общем.
— Я бы хотел поточнее, — сказал Макарьев. — В тех же кустах?
— Да вроде поодаль.
— Не в кустах? Разве они не прятались?
— Да нет, в кустах.
— В тех же, сиреневых?
— Да тут же в общем. Недалеко.
Макарьев сел с самым равнодушным видом, очень порадовавшим Дениса Петровича. Настойчивые вопросы о кустах были непонятны присутствующим в зале, и это вызвало нечто вроде уважения к защитнику.
— Да, — снова поднимаясь, сказал Макарьев, — скажите Латышев, когда произошла ваша встреча с диверсантами?
— Незадолго до того, как прошел поезд.
— Ну как незадолго? Минут пять?
— Да, около того.
«Заглатывает, дурень», — подумал Берестов, стараясь не смотреть в сторону Бориса, ловившего его взгляд.
Но тут заговорил Морковин:
— Вы точно помните, Латышев, что за десять минут?
Николай насторожился. По тону прокурора он почувствовал, что точно помнить ему не следует.
— Ну как тут можно помнить точно? Может быть, и больше.
Морковин откинулся на спинку стула.
— Ну а скажите, Латышев, — спросил он, — когда вы выстрелили и инженер упал, успели вы осмотреть его карманы?
— Ну что вы, какие карманы! Это потом сделал товарищ из розыска.
— И нашли в них… Прошу представить вещественные доказательства.
Милиционер принес и положил на стол грязные, смятые в комок перчатки, кусок бикфордова шнура и наган.
— Подсудимый, признаёте ли вы эти вещи своими?
Александр Сергеевич встал:
— Я впервые увидел их у следователя.
В зале начался шум.
— Обнаглел, гад! — крикнул кто-то.
Милка заметила, что в этой кричащей толпе, в самой ее середине, был какой-то остров сосредоточенного молчания. Что там за люди?
И вот тут случилось то, чего уже никто не ожидал. Заговорила Васена.
— А ну, батюшка, — сказала она, — примерь перчатки.
Инженер взглянул на нее весело и вопросительно.
— Примерь, примерь, — повторила она.
Не сказав ни слова, Дохтуров отлепил от комка одну из перчаток и начал ее натягивать. Она не лезла.
— Пожухли, — сказал он весело.
— А ты тяни, тяни, — настаивала она, — тяни хорошенько.
Инженер тянул изо всех сил, но перчатка даже и наполовину не лезла на его широкую ладонь. Все молчали.
— Ай да Васена! — сказал кто-то в толпе.
Васена совсем осмелела.
— Ну а теперь ты, батюшка, — обратилась она вдруг к Левке.
Левка взглянул на судью.
— Наденьте, — сказал тот.
Левка пожал плечами и надел перчатку, она была впору, — быть может, только немного жала.
— Так, — сказал судья, — можете снимать… Свидетель Додонов.
Вышел Васька Баян. Опросом парней из банды, говоривших одно и то же, окончилось это заседание. Только сейчас Берестов заметил, что среди парней нет Карпова — того, кого в поселке прозвали Люськиным.
— Нет, какова Васена, — говорили в толпе, — вот это дала!
Милка долго соображала, как ей лучше выйти из клуба — пораньше или, наоборот, позже, когда все уже пройдут. Однако решать ей не пришлось, ее вынесло вместе со всеми и вместе со всеми затерло у входа. Милиционеры, с трудом расталкивая толпу, прокладывали дорогу, по которой должен был пройти подсудимый, и Милка, как назло, оказалась в образовавшемся проходе.
— А ну, гражданка! — очевидно нервничая, крикнул ей милиционер.
Понимая, что сейчас проведут Дохтурова, Милка металась, стараясь втиснуться в толпу, но после бесплодных попыток просто стала сбоку. Когда инженер, конвоируемый двумя очень серьезными милиционерами, показался в проходе, она закрыла глаза, а когда открыла их, он уже прошел. Милка глядела ему вслед.
И вдруг он оглянулся. Он взглянул прямо на нее, просто окинул ее веселым взглядом и пошел дальше.
«Что он хотел этим сказать? — думала дорогой Милка. — Ну что, допрыгалась, это он хотел сказать? Прославилась на весь город?»
Однако она сама понимала, что не то выражал его веселый взгляд. «Не унывай, — говорил он. — Я знаю, ты такая же девица легкого поведения, какой я диверсант. Главнее — это верить». Да, это подходило. «Держи гордо глупую свою голову, равнение на меня» — да, это тоже подходило. На душе у Милки стало вдруг очень легко.
«Ну что же, поборемся», — с внезапной отвагой подумала она, забыв о всех горестях, забыв даже про бандитские угрозы, — и напрасно. Именно в эту минуту Левка устраивал Николаю скандал.
— Тебе было поручено, — шипел он, — тебе поручили сделать так, чтобы она не пришла. А ты что сделал?
— А что я мог сделать? Ведь пришить ее сейчас мы не можем? Я ей сказал, что…
— Сказал! Значит, не так сказал! Про сиреневые кусты ты тоже сказал!.. Ребятишек с вами резать можно, а дел делать нельзя! Да понимаешь ли ты, что сейчас, после этих проклятых перчаток, мы не можем допустить ее выступления, это тебе понятно?
Николаю это было очень хорошо понятно.
— Вот что, — сказал Левка, — сегодня же любым способом — слышишь ли? — любым, ты добьешься ее молчания. Но помни: концы в воду. Это в твоих интересах, не в моих. Можешь идти.
— А вообще, — продолжал Левка, когда Николай ушел, — ничего страшного пока не произошло. Единственное, что могло бы нас действительно погубить, это кровавое пятно, с которым по невежеству мы так идиотски попались. Однако они теперь и пискнуть побоятся об этом пятне. Наука — великая вещь! А в общем у нас нет оснований для паники. Как ты считаешь, мама?
Мама сидела тут же, держа на коленях дрожащую свою собачонку, которую мерно и, видно, машинально гладила узкой рукой. Кроме Васьки, у них никого не было.
— Так как ты считаешь, мама?
— Le vin est tiré, — резко произнесла мама, глядя в окно.
— Как вы сказали? — робко спросил Васька.
Мама не ответила.
— Мать говорит, ну; вроде, взялся за гуж, не говори, что не дюж, — пояснил Левка, — раз начали, нужно продолжать. А начали мы неплохо. А что потом, хотели бы вы знать? А потом пойдет совсем другая жизнь. Мы не для уездных городишек созданы. Не так ли, мама?
— А если вернется старая власть? — спросил Васька.
— Ну, что же, — ответил Левка, — у нас есть заслуги и перед этой властью.
Милка не знала о разговоре между Левкой и Николаем, а мимолетная встреча у ворот заставила ее позабыть о бандитах, и все-таки она была очень рада, когда по дороге встретила Бориса.
— Ты сегодня не мог бы побыть со мной, Боря? — попросила она.
— Понимаешь, не могу, — смутившись, ответил он, — мне до зарезу нужно быть в розыске — очень уж горячее время, и Костя в бегах.
— Может быть, мне пойти с тобой в розыск?
— Да нет, — еще более смутившись, ответил он, — если нужно будет, тебя вызовут.
Милка обиделась и пошла домой. Борис проводил ее до калитки.
В доме было пусто. Старая квартира, со множеством передних, коридорчиков и закутков, была темна и захламлена. Родственники, у которых она остановилась, еще не пришли с работы. Стало тоскливо.
«Что за несчастье такое, — думала она, — все одна да одна. Зачем они меня одну оставили?»
В это время в дверь постучали: какой-то мальчишка беспризорного вида принес ей записку — Борис, по счастью, все-таки звал ее в розыск.
Однако у самого дома ее встретил Николай.
— Пойдешь со мной, — сказал он торопливо, — отдай записку.
Милка не поняла, зачем ему записка, написанная Борисом, еще меньше поняла она все, что произошло дальше. Неизвестно откуда появился Костя.
— Графиня, — сказал он, изысканно кланяясь и почему-то вынимая из-за уха окурок, — позвольте вам напомнить, что вы свернули не туда, куда надо.
И он взял ее под руку. Милку поразила ярость, написанная на Николаевом лице.
— Нехорошо, гражданин, — сказал тоже неизвестно откуда возникший милиционер, — зачем пристаете к барышням.
Между тем Костя, оглядываясь, с улыбкой уводил Милку по улице.
— Если тебя спросят, кто самый умный мужик на свете, — говорил он, — отвечай не задумываясь: Денис Петрович.
А Денис Петрович в это время был у постели Водовозова. Здесь собрались все больничные врачи, в дверях стояла сестра со шприцем.
Водовозов задыхался. Воспаление заливало оба его легких. Африкан Иванович ни на минуту не отпускал тяжелую и влажную водовозовскую руку, и лицо его было отрешенным — он ловил перебои пульса.
Денис Петрович стоял и малодушно молился несуществующему богу: «Я никогда ничего не спрошу у него, когда он очнется, — обещал он, — пусть только не умирает». Он смотрел на Африкана Ивановича, лицо которого становилось все более непроницаемым.
Не станем скрывать от вас, что некоторые из наших героев пытались оказать прямое давление на бабку Софью Николаевну, умоляя ее одуматься и разъясняя всю пагубность ее показаний. Но бабка была тверда.
— Я не понимаю, господа, — говорила она, двигая кончиком носа, — каким образом правда может погубить человека и почему это Александр погибнет, если я скажу, что он был в прекрасных отношениях с этими людьми. Где здесь логика? Нет, я поклялась этому милому молодому человеку из Чека (она имела в виду Морковина) — он хотя и партийный, но по виду вполне приличный человек, наверно из хорошей семьи, — я поклялась ему говорить правду и сдержу свое слово.
Действительно, на втором заседании она с необыкновенным упорством стояла на своих показаниях. Сбить ее не удалось. После нее говорила Романовская.
Она выступала вполне в своей чеканной манере, поведала суду, как в розыск прибежал со своим рассказом Сережа (которого по несовершеннолетию на суд не вызывали) и как у нее, у Романовской, создалось впечатление, что «Берестов, Денис Петрович, хочет это дело зажать».
— Подозреваю, — говорила она, — что если бы я не присутствовала при этом разговоре, мы никогда бы о нем не узнали («Я тоже подозреваю», — сказал про себя Берестов. «Ах, если бы…» — в тоске подумал Сережа). — Видно, личные свои интересы Берестов ставит выше советских.
Так впервые на суде Берестову было брошено обвинение.
По этой ли, или по какой-либо иной причине Денис Петрович выглядел весьма озабоченным.
— Помни, — сказал он Борису, — Нестерова, во что бы то ни стало Нестерова, — и ушел, занятый какими-то своими мыслями.
Борис многое бы дал, чтобы узнать сейчас эти мысли.
В перерыв, который устраивали между заседаниями — обычно на полчаса, — никто не расходился, все с жадностью следили за действующими лицами, которые, в отличие от театральных, в большинстве своем оставались на глазах у публики. Правда, ткачихи в перерыв исчезали и, наверно, где-то отсиживались, да и инженера уводили. Зато Левкины парни были все время на виду, очевидно гордясь всеобщим вниманием. Многие из них были в новых сатиновых рубахах и напомажены. Большой интерес вызывал старик эксперт, чья седая стриженная ежиком голова все время виднелась в первом ряду. Откуда-то стало известно, что он свидетельствует против подсудимого.
Наконец дошла очередь и до Милки. Она начинала собой свидетелей защиты. Конечно, ей гораздо легче было бы говорить после Бориса или Кости, когда настроение, созданное Левкой, быть может, несколько и рассеялось бы, однако ее вызвали первой.
Когда она вошла, в зале пронесся гул. Многие мужчины улыбались. Ткачихи за судейским столом холодно смотрели на нее. Все это она скорее почувствовала, чем увидела.
Судья задал обычные вопросы. Милка отвечала.
— Расскажи, Ведерникова, как и когда познакомилась ты с компанией Курковского?
Милка ответила, но так тихо, что никто не услышал.
— Погромче, — сказал судья.
— Я их видела один раз, — повторила Милка.
По залу прошел шепот.
— Когда это было?
— Когда они хотели меня убить, — внятно сказала вдруг Милка и прямо взглянула на судью.
Этот ответ произвел впечатление. Все затихло.
— Расскажи.
— Вот они про меня говорят сейчас гадости, это потому, что они знают, что я знаю… И потому, что я все-таки пришла в суд, хоть они и грозились убить маму. Вот вы сейчас мне не поверили, когда я сказала, что видела их всего только один раз, а ведь это правда. Только Николая я видела часто, так часто, как только могла, но я не знала, что он в банде, он говорил мне, что работает в мастерских. Я знаю, это ужасно, что я связалась с Николаем, тем более что все — ну решительно все! — меня предупреждали, но я ведь не знала, что он убийца…
— Нельзя ли полегче, — бросил Левка.
— Осторожней в выражениях, Ведерникова, это еще нужно доказать, — сказал судья.
— А почему? — вдруг надменно спросила Милка. — Почему же вы не остановили его, когда он говорил про меня? Ведь то, что он говорил, тоже нужно доказать. Пусть я была десять раз дура, когда связалась с Николаем, но, кроме него, для меня никого не было.
— Что тоже нужно доказать, — усмехнувшись, вставил Левка.
— А ты чего суешься? — сердито спросила вдруг Васена.
Милка сейчас же повернулась к ней и стала рассказывать.
— Ведь предупреждали меня и мама и все, — доверительно говорила она, — ну не верилось мне, да и только! Наконец пришли ко мне наши ребята, Борис Федоров и Костя, и сказали, что Николай пригласит меня на вечеринку, а на самом деле заманит в банду. Так оно и было. Он действительно пригласил меня на вечеринку, но я ничего никому об этом не сказала, а взяла и пошла.
— Для чего ж ты пошла?! — горестно воскликнула тут многосемейная Екатерина Ивановна, наклонясь вперед и уставляя на Милку свой утиный нос, словно она им слушала.
Милка сейчас же обратилась к ней:
— Ну как вам объяснить? Ну любили бы вы человека, а вам пришли вдруг и сказали бы: он убийца, — вы поверили бы? А потом, знаете, я подумала: если он убийца, то и мне незачем жить на свете. Вы понимаете?
Екатерина Ивановна кивала головой. Это она понимала.
Опрос свидетельницы Ведерниковой шел как-то странно. Обе ткачихи теперь подались вперед с самым сосредоточенным видом, а Милка обращалась только к ним. Судья вообще не вмешивался в этот женский разговор. И всем присутствующим, хотя им отнюдь не все было понятно, казалось, что если Екатерина Ивановна кивает головой, то, значит, все правильно и в порядке.
— Привел меня Николай к тете Паше, а сам уехал. Сперва было ничего, все действительно только пили и ели. А потом Васька Баян стал петь контрреволюционные песни, а Левка вдруг полез ко мне, но, знаете, я его ударила по лицу. Он мне этого забыть не может, да и я, если правду говорить, вспоминаю об этом с удовольствием.
Милка совсем не думала острить, ей было не до этого. Но она действительно с удовольствием вспоминала о том, что в тот тяжелый час вела себя мужественно. Однако в зале рассмеялись. Это был уже другой, добродушный смех. Даже судья улыбнулся.
Милка осмелела и взглянула на Александра Сергеевича. Он, как и раньше, сидел, опираясь локтем в колено, покусывал палец и смотрел на нее исподлобья улыбающимися глазами.
— Но дело не в том, — горячо продолжала Милка, — они меня решили убить. — Она снова мельком взглянула на Дохтурова, тот уже не улыбался. — Это я не просто так говорю, меня предупредил один хороший человек, которого я не хочу здесь называть. А раз они решили меня убить, то они при мне не стеснялись, да что там, они хвастались тем, что убили Ленку, подружку мою. Наверно, убивали они и других людей, потому что говорили: «Теперь мы так не работаем, теперь уже на два аршина под землей — и всё». А вот что было главное: они говорили об Александре Сергеевиче, говорили с намеками, всё с угрозою, но главное вот что они говорили: «Живет человек спокойно, ест, пьет, на работу ходит, ничего не ведает, какая ему роль в пьесе приготовлена». Разве они говорили бы так, если бы знали, что он готовит взрыв, — пьет, ест, живет спокойно. И потом — серьезная роль в пьесе. Значит, они все это за пьесу считают, за пьесу, которую они же и поставили? Конечно, они при мне так откровенно не говорили бы, если бы не собирались меня убить. Левка так и сказал: «При этой теперь можно говорить все что угодно».
— Больше вы ни с кем из них не виделись? — спросил судья.
— Николай приходил ко мне после этого домой, — подхватила Милка, — и сказал, что если я расскажу обо всем этом в угрозыске или на суде, то они зарежут и меня и маму. И потом встречал меня в разных местах и грозил. Ну, что же, маму свою я спрятала, вам ее не найти, а меня можете убивать — я все рассказала.
Итак, конец ее речи был очень эффектен. Это понял и прокурор.
— У меня вопрос к Латышеву, — оказал он, — какие отношения были у вас с Ведерниковой?
Васена недовольно задвигалась на стуле и глянула на Екатерину Ивановну. Судья заявил, что вопрос к делу не относится, однако Николай уже отвечал:
— Известно. Какие у всех, такие и у меня.
На Милку это не произвело уже никакого впечатления, тем более что ее по-прежнему мучила мысль о чем-то самом главном и ею забытом. Встал Макарьев. «Ну подождите, голубчики, — подумал Денис Петрович, — сейчас вы получите».
— И у меня вопрос к Латышеву, — сказал Макарьев, — зачем вы вызывали вчера вечером Ведерникову?
— Нужно было поговорить.
— О чем?
— О чем с такими разговаривают?
— Зачем же это понадобилось накануне суда?
— А при чем здесь суд? К суду наш разговор не имел никакого отношения.
Парни из банды опять гоготнули.
— А она, как вы думаете, хотела вас видеть?
— А как же? Хвастать не хочу, только весь поселок знает…
— Почему же тогда вы вызывали ее запиской от имени Бориса Федорова?
— Я не писал никакой записки.
Николай говорил спокойно и даже с ленцой, однако никто не знал, как он боится, — и даже Левка, которому он не посмел рассказать историю с запиской. Собственно, Николай надеялся на чудо — на то, что записка, оставшаяся в руках Милки, не попадет к Берестову. Чуда не произошло.
— Вот как? — спросил защитник. — А между тем вчера вечером какой-то беспризорник передал Ведерниковой записку, в которой Борис Федоров звал ее в розыск. Записка подложная, Федоров ее не писал, в розыск Ведерникову не вызывали. Кто ждал вас, когда вы вышли из дому, Ведерникова?
— Латышев.
— Что он сказал?
— Сперва: «Пойдешь со мной». Потом сразу: «Отдай записку». Но в это время подошел Молодцов.
— Прошу суд вызвать Молодцова и милиционера Чубаря, — спокойно сказал Макарьев («Смотрите-ка», — опять отметил про себя Берестов).
Первым вызвали Костю.
— Вчера сразу после суда, — рассказал он, — вызвал меня вот Денис Петрович и сказал: «Теперь банда — уж я буду так говорить, как мы привыкли, „банда“, — с невинным видом добавил он, — будет охотиться за Ведерниковой, и, наверное, именно сегодня ночью, поэтому поручаю тебе вместе с милиционером Чубарем дежурить около ее дома. В эту ночь что- нибудь да будет». Это оказалось так, и даже не ночью, а вечером. Почему вечером? Очень просто, в это время родственников Ведерниковой не было дома. Поэтому очень скоро мы увидели, как в дом вбежал беспризорник— его в розыске тоже знают, — а через некоторое время вышла и Милка. Я сам слышал, как Николай ей сказал: «Отдай записку».
Милиционер Чубарь подтвердил его рассказ. В зале уже разволновались: дело обрастало все новыми подробностями.
— Вот она, эта записка, — сказал Макарьев и протянул судье бумажку, — прошу вызвать из губернии эксперта по почеркам.
Николай побледнел — это все заметили и приписали страху перед правосудием. Но Николай боялся не суда, не этого вихрастого парня и двух пожилых теть, что сидели за судейским столом. Он боялся Левки, лицо которого тоже побелело, но только от ярости.
Левка обернулся, как видно почувствовав на себе взгляд Берестова. «Что, не всегда бывают удачи? — говорил этот взгляд. — Случаются и неудачи». — «Борьба не кончена», — ответили прищуренные Левкины глаза. «Погоди, бандит, — подумал Денис Петрович, — тебе сейчас наподдадут еще разок».
Теперь говорил Борис. Он рассказал все, что знал о вечеринке у тети Паши.
— Я знаю Ведерникову с детства, — говорил он, — всегда она была хорошей дивчиной, нашей, об этом весь поселок знает, а тут из нее представили черт знает что — чуть ли не девицу легкого поведения. По-моему, это подлость так говорить про девушку, с которой был связан, как это делает Латышев. Настоящий мужчина себе этого не позволит.
Васена даже вздохнула с облегчением — наверно, оттого, что кто-то так хорошо выразил ее собственную мысль. Екатерина Ивановна опять кивнула головой.
И все-таки большего Борис не мог рассказать судьям. Правда, свидетельства Милки и Кости, равно как и его собственные, были очень важны, они влияли на настроение судей, показывали всю сложность этого дела, подрывали доверие к свидетелям обвинения, однако все эти показания били мимо цели. Это хорошо понимал прокурор Морковин, которому предстояло открывать следующее заседание. Это понимал и Левка.
Однако они никак не ожидали выступления еще одного свидетеля — обозревателя местной газеты Ростислава Петровича Коломийцева.
Асмодей вышел на сцену с такой величественной простотой, словно эта сцена действительно была сейчас театральной. Тряхнув волосами, он поднял пергаментное лицо, ожидая вопросов. Рассказ его всех очень заинтересовал.
— Как-то поздно ночью шел я по поселку, — начал он. — Не спрашивайте меня, куда я шел и откуда, на эти вопросы я все равно не отвечу. Да они и не будут иметь отношения к дальнейшим событиям. Словом, коротко говоря: шел я по поселку и вдруг услышал шаги. Не могу сказать, что заставило меня остановиться, — может быть, предчувствие, которое часто служило мне службу в жизни, не знаю. Я остановился и стал за дерево. Мимо меня прошли трое — один впереди, двое сзади. Они шли молча. Это было то совершенное молчание, которое мы обыкновенно называем гробовым, ибо оно несет в себе что-то от смерти…
Я не знаю, как вам это передать, но эти трое вели с собою свою смертельную зловещую атмосферу.
И вдруг…
Асмодей замолчал. В зале стояла та самая гробовая тишина, о которой он только что говорил (лишь какой-то голос спросил шепотом: «Кого они вели с собой?» На него зашикали). Насладившись ею, старик продолжал:
— И вдруг один из тех, кто шел позади, сказал повелительно: «Налево». И тот, одинокий, что шел первым, свернул налево. В этот момент, в какую-то долю секунды, я увидел его лицо и узнал инженера Дохтурова. Он свернул налево. Но вот что поразило меня, так это тон, каким было сказано это слово «налево». В нем было что-то бесчеловечное, что-то волчье, оно было как удар ножа, нанесенный убийцей. Все трое углубились в лес, и вскоре шаги их затихли, однако я не мог отделаться от мысли, что происходит что-то ужасное. И сейчас готов присягнуть, что инженер шел под конвоем, что его насильно куда-то вели.
Эта речь, к большому удовольствию Бориса, произвела огромное впечатление.
Затем Морковин попросил суд вызвать эксперта, производившего анализ крови, найденной у болота. Старый эксперт неохотно вышел на сцену. Он стоял сутулясь. Сквозь очки его смотрела на судей тоска.
— Прошу вас, — сказал судья, — доложите о результатах вашей экспертизы.
— В нашу лабораторию, — начал старик, — работниками розыска был доставлен кусок почвы, на которой содержалась кровь. Нашей задачей было определить, не принадлежит ли эта кровь подсудимому Дохтурову, раненному в эту ночь. С этой целью в больнице лично мною была взята кровь у подсудимого Дохтурова. Произведенный анализ показал, что кровь, содержавшаяся на куске почвы, не является кровью подсудимого.
Морковин сидел с каменным лицом. Судья задумчиво глядел на эксперта. Что же, оставалось только принять к сведению это свидетельство, которое опровергало рассказ подсудимого. Однако Васена не вытерпела.
— А ты, отец, хорошо ли глядел? — спросила она. — Уж больно странно. Человек говорит, что на этом месте его убили, здесь же и пятно крови нашли, а кровь, выходит, не его?
Неожиданно взорвался и эксперт.
— Вот! — закричал он, почему-то протягивая вперед обе ладони, как будто хотел, чтобы на них прочли доказательства его слов. — Вот так целые дни! Целые дни напролет меня уговаривают! Я наука, понимаете? Я наука! И могу говорить только о том, что доказано научно. Я не могу свидетельствовать о том, чего не было! Не могу!
В голосе его слышалось отчаяние. Стоявший напротив Макарьев некоторое время смотрел на него с высоты своего саженного роста.
— Товарищ эксперт, — мягко сказал он, — какой группы оказалась кровь Дохтурова?
— Первой.
— А кровь в пятне?
— Четвертой.
— По какому методу делали вы анализ?
— Ну если я вам скажу, что по методу покровного стекла, это вас успокоит?
— Конечно. Именно этому методу Латтес отдает предпочтение.
— Что?! — в ярости закричал эксперт. — Что вы знаете о Латтесе?
— Да больше ничего. Перейдем к самому методу исследования. Почему вы решили, что кровь обвиняемого и кровь в пятне принадлежит к разным группам?
— Нет, это замечательно! — улыбаясь бескровными губами и оглядываясь в поисках сочувствия, сказал эксперт. — Очевидно, я должен прочесть здесь лекцию о группах крови.
— Ну, хорошо, — так же спокойно продолжал Макарьев и переступил с ноги на ногу, — если вы не хотите, это сделаю я, только, наверно, у меня получится много хуже. Вы действовали на красные кровяные тельца различными сыворотками и ждали, не произойдет ли…
— Чего, ну чего не произойдет ли? — язвительно спросил старик.
— Агглютинации, — обычным голосом сказал Макарьев.
И тут Борис увидел, что Денис Петрович сидит, скрестив на груди руки, смотрит на него и сотрясается от смеха. Сколько времени все вместе они зубрили это слово, пока не научились непринужденно его произносить!
Эксперт несколько примолк.
— Это не так уж и сложно, — продолжал защитник. — Агглютинация — это когда красные кровяные тельца начинают склеиваться в кучки. Под воздействием сыворотки они могут склеиваться, а могут и нет — смотря какая группа. Вот красные шарики в крови первой группы, им на все сыворотки наплевать, с ними ровным счетом ничего не делается. Так ведь?
Старик молчал.
— А красные шарики четвертой группы как раз наоборот, какой сывороткой на них ни воздействуешь— первой, второй или третьей группы крови, — они тотчас склеиваются. И вот вы взяли…
— Да! Да! Прекрасно! Очень хорошо! Замечательно! — опять закричал старик. — Я подвергал красные кровяные тельца воздействию сыворотки и увидел, что в крови Дохтурова и в крови пятна они ведут себя по-разному. В крови Дохтурова они остались неизменны, а в крови пятна во всех случаях агглютинировали через пять минут. Что дальше?
— А дальше я буду задавать вопросы.
— Убедительно вас прошу.
Эксперт стоял злой и настороженный. Все притихли, ожидая вопросов защитника.
— Знаете ли вы, что такое ложная агглютинация?
Старик растерянно кивнул.
— И знаете ли вы, что под воздействием загрязнения, бактерий происходит такая ложная агглютинация?
Эксперт почему-то полез в карман за какими-то бумажками. Рука его дрожала.
— Викентий Викентьевич, — вдруг сказал Макарьев, — кровь-то была в земле! Да еще в болотной! Там же кишмя кишело!
— Панагглютинация! — тихо и горестно произнес старик.
— Не огорчайтесь, Викентий Викентьевич, — продолжал Макарьев, — я бы тоже, конечно, ни за что не догадался, если бы точно такая же ошибка не произошла два года назад на знаменитом лондонском процессе. Она описана в «Криминалисте».
— Ах, беда, — говорил старик, — ах, беда, беда.
Вечером он пришел в розыск.
— Опозорили старика, — горестно сказал он, — раньше никак не могли сказать.
— Никак, Викентий Викентьевич, — ответил Берестов, — здесь такая игра идет — никак нельзя.
В розыске ликовали.
— Понимаете! — кричал Ряба. — Рассказ Дохтурова получил неопровержимое доказательство! Это же замечательно! А театральный-то старикан какую речь сказал!
Макарьев был героем дня.
— Ну как? — скромно опросил он у Берестова.
— Ничего, — ответил Денис Петрович, — только не три ты все время лапой лысину. И не думай, что дело уже сделано.
— А что они, собственно, могут выставить против этого самого кровавого пятна?
— Еще не знаю. Однако я знаю, что мы уже выстрелили из одного главного ствола, а они еще не стреляли. Какую-нибудь штуку Левка нам приготовит, это как пить дать.
Денис Петрович стоял у окна. Он теперь часто, как Водовозов, стоял и смотрел в окно.
По улице шла Кукушкина, за ней — не отставая, но и не приближаясь, с видом даже несколько скучающим — следовала Нюрка.
— Сереженька, — говорила бабка Софа, — ну чего же ты нервничаешь, скажи на милость!
Сережа закрыл глаза. Во время процесса он так ненавидел Левку, так страдал за Милку и вместе с тем так гордился ею, так радовался истории с запиской, так боялся прокурора и, наконец, так счастлив был результатом экспертизы — словом, так яростно бросался от надежды к отчаянию, что у него больше не было сил. Не было сил даже на то, чтобы ненавидеть бабку Софью Николаевну.
— Скушай ватрушку, я тебя прошу, — говорила бабка.
Водовозову казалось, что он лежит на дне реки и вода всей своей тяжестью давит ему на грудь. Далеко наверху шла жизнь, был виден свет и слышался голос, который тянул что-то непрерывное и жалобное. Так звала кого-то на помощь умирающая Ленка. Водовозов рвался туда, наверх, но это было очень трудно и утомительно, и он, смирившись, сам добровольно уходил тогда в головокружение и темноту. Но ненадолго. Голос был слабый и жалобный, а может быть, это не голос, а само дрожащее пятно неотступно молило о помощи. И тогда он снова метался и делал попытки подняться.
— Свирепый больной, — говорил над ним Африкан Иванович, но Водовозов не слышал его.
По временам он приходил в себя и старался понять, где находится. Его удивляло, что кругом всегда ночь и безмолвие, никогда нет ни света, ни шума. В голове то и дело возникала короткая и острая боль, словно петух жестким клювом клевал его прямо в мозг. От этой боли он снова терял сознание. А когда приходил в себя, больше не делал попытки понять, где находится, он довольствовался тихим перезвоном воды и старался дышать осторожно, чтобы не слишком давило на грудь.
Так он лежал очень тихо, пока далеко наверху не возникал голос, монотонный и жалобный, непрестанно зовущий на помощь.
Под окном Водовозова сидел милиционер Чубарь. У дверей палаты стоял Борис Федоров.
А в другом конце больницы, на крыльце, Васька Баян угощал махоркой больничного сторожа.
— Уж очень я за его переживаю, — говорил Васька, — неужто в себя до сих пор не пришел?
— Вовсе без памяти, — сокрушенно отвечал старик, — никак в память не придет.
— А не пора ли нам смыться? — спросил один из парней у Левки.
— Смыться? — Левка был бледен. — Э, нет. Они меня еще плохо знают.
Васена привела Милку к себе домой.
— Сиди! — сердито крикнула она. — Ишь разбегалась, разохотилась!
Вечером они пили морковный чай и разговаривали.
— Василиса Степановна, а как судья, неужели он верит Морковину?
— Вихор его знает! Все молчит, не поймешь его, но, знаешь, кажется мне, что верит. Ведь поначалу все мы верили, а сейчас видишь какая карусель получается. Ведь если правду-то говорить, часом ничего не разберешь, голову ломит да круги перед глазами делаются. Екатерина Ивановна у меня все плачет, успокоиться не может. Ну хоть бы крошечку ночью глаза закрыла — нет.
В эту ночь, лежа в Васениной постели, Милка тоже не закрыла глаз. «Что-то он сейчас делает? — думала она. — Неужели спит? Вряд ли — завтра решается судьба».
Милка терялась в сомнениях. Она не могла понять, хорошо или плохо обстоят дела, а кроме того, так боялась Морковина, что готова была приписать ему нечеловеческое могущество. «Как будто с экспертизой все обошлось как нельзя лучше, — думала она, — но назавтра Морковин может все перевернуть».
Дохтуров в это время спал на жестких тюремных нарах.
В розыске в эту ночь не спал никто.
Глава II
И вот наступил день третьего заседания. Интерес к Дохтурову достиг высшего напряжения: ведь в равной степени он мог оказаться и мрачным злодеем и невинным страдальцем. Не без ревнивого чувства заметила Милка, что женщины смотрят на него какими-то особенными глазами. А он? Он не обращал на все это никакого внимания: он стоял и смотрел куда-то в середину толпы. Взгляд и все лицо его медленно светлели.
Милка оглянулась. В толпе, в том самом месте, где был замеченный ею «остров молчания», поднялось высоко вверх несколько кулаков.
— Александр Сергеич, аппараты прибыли! — вдруг прокричал чей-то ребячий голос и словно сам испугался собственной неуместности.
Инженер улыбался насмешливо и с нежностью. Тимофей!
«Аппараты прибыли!»
Да, далека сейчас эта жизнь — леса, полупостроенный мост через реку, старые рабочие, которых знаешь много лет, друзья, Митька Макарьев и Тимофей! Сын, дорогой мальчишка, бедняга! Все они отделены от него непроходимой чертой, густыми дебрями, все они недоступны и, может быть, никогда..
И все-таки эта далекая жизнь пробивалась к нему, рвалась к нему сквозь дебри — это и Берестов, и Митька, и ребята из розыска, и рабочие, пришедшие сюда. Пробьются ли? Он в этом сомневался.
В странном он оказался положении. Вокруг него — за него и против него — кипят страсти, идет борьба, один лишь он, виновник торжества, сидит да поглядывает. И ждет, что выпадет ему на долю — жизнь или смерть?
Как и все люди, он не представлял себе смерти, несмотря даже на то, что был недавно полумертв, однако чувствовал: уже сейчас что-то отделило его от остальных людей, делая страшно одиноким. А из будущего надвигалось на него новое, невиданное, еще более страшное одиночество, в котором никто не сможет ему помочь и которое, должно быть, и есть смерть.
Заседание начал Морковин.
— Прежде чем начать свое слово, — сказал он, — я хотел бы задать вопрос Латышеву. Николай Латышев, как вы объясните суду эту историю с запиской. Ее писали вы?
— Да, — тихо ответил Николай.
— Зачем? — строго спросил прокурор.
— Я хотел с нею поговорить и знал, что она со мной разговаривать не станет. Я хотел просить ее, чтобы не рассказывала на суде, что я с ней гулял.
— Почему?
— Я не хотел жениться.
— И боялись, что вас заставят по суду?
— Да.
Прокурор кивнул с таким видом, будто иных ответов и не ждал, а потом поднялся. Лицо его приняло ироническое выражение. Он начал свою речь.
— Товарищи, мы разбираем сегодня странное дело. Я бы сказал, чрезвычайно странное.
С этим все были согласны.
— В чем же его странность? — продолжал прокурор. — В том ли, что спец оказался вредителем, врагом советской власти? Нет. Не в этом его странность. Нет, товарищи, это явление закономерное. Охвостья эксплуататорских классов всеми силами пытаются вредить молодой Советской республике. Нет, не ново это для нас. Что же тогда странного в этом деле? Тот факт, что руку преступника остановили простые парни из народа? Нет, и это не ново, мы именно и сильны поддержкой парней из народа. И если рабоче- крестьянская молодежь задержала спеца-вредителя, в этом нет ничего удивительного. Но удивительно то…
Здесь прокурор гневно возвысил голос:
— …удивительно то, что нашлись люди, которые хотят запутать это ясное дело. Давайте проследим его от начала до конца. Что, собственно, произошло?
Путь, по которому должен был пройти поезд с диппочтой, этот путь был минирован ночью в двух местах. Около пути был задержан диверсант, задержан на месте преступления. В кармане его нашли грязные, совершенно мокрые перчатки, в которых, очевидно, только что работали, а также кусок запального шнура и наган. Может ли быть что-нибудь яснее этого? Но этого мало. К начальнику розыска прибегает мальчик, сын инженера. Он потрясен. Он говорит: «Арестуйте моего отца, это диверсант». Так говорит сын. Это не ребенок, это почти юноша, и, как рассказывают, он всегда был любящим сыном. Кажется, ясно? Нет, некоторым людям и это не ясно. При обыске у инженера нашли крупную сумму денег, наличие которых он не смог объяснить. Кажется, тоже ясно. Нет, оказывается, опять не ясно. Деньги могли подложить, говорят нам, а сам инженер показал на следствии, что его привели к дороге под дулом револьвера. Очевидно, они ждали, что диверсант сам придет к ним и скажет: «Хватайте меня, это я взорвал поезд!»
Морковин сделал паузу, давая возможность публике рассмеяться. В зале действительно рассмеялись.
— Ну что же, допустим, что к инженеру и вправду ворвались в дом и под угрозой пистолета заставили идти к железной дороге. Что же, это могло быть. Вся беда только в том, что подобную версию отверг тот единственный человек, который может ответить на этот вопрос, — родственница инженера, Софья Николаевна, почтенная женщина, которая была в тот день дома и не хочет скрывать правду. Инженер не только ушел сам, говорит она, но он был в хороших, дружественных отношениях с теми людьми, которые за ним пришли. А старого человека в таких делах не обманешь! Вот что говорит эта женщина. Кто может ей не верить?
— Видите, я вам говорила, — прошептала в этом месте Софья Николаевна, которая сидела рядом с Милкой и начала слушать только после того, как было названо ее имя.
«Вот ты и встал во весь свой рост», — думал Борис. Слушая Морковина, он вместе с тем не отрываясь смотрел на дверь, он ждал, не появится ли Костя.
— Ну что же дальше? — продолжал прокурор. — А дальше то, что некоторые люди — я буду прямо говорить здесь о работниках розыска, — они и на этом не остановились. Они решили пойти по другой линии, по линии дискредитации тех, кто задержал преступную руку. Да, это простые парни, они не скрывали здесь от нас, что они не ангелы, однако их сейчас без стеснения называли бандитами и убийцами, даже не давая себе труда это хоть как-нибудь обосновать, я не говорю уже — доказать. А какими, собственно, доказательствами располагаете вы, чтобы обвинять людей в таких страшных преступлениях?! В чем они виноваты, кроме того, что, рискуя жизнью, осмелились задержать диверсанта — вооруженного диверсанта! — и спасти жизнь сотням людей?!
Прокурор сделал паузу.
— Я не хочу ставить под сомнение, — продолжал он через некоторое время, — нравственные качества… — он не без язвительности отчеканил эти слова, — …нравственные качества этой девушки, Людмилы Ведерниковой. Правда, я считаю, что дыма без огня не бывает, но я никогда не взял бы на себя смелость сомневаться в ее нравственных качествах. Однако что же она здесь, в сущности, нам рассказала? Откуда взялись все эти ужасы? Ее заманили! Ее хотели убить! Боже, как страшно! А зачем им, собственно, было ее убивать? Быть может, это только плод фантазии сией неуравновешенной девицы? Давайте попробуем отбросить все эти ужасы — что останется? Останется вечеринка у так называемой тети Паши, куда, правда, уже к самому концу прибыли работники розыска. Вот и всё.
— Что можно сказать, — продолжал Морковин, — о прекрасной, красочной речи нашего уважаемого представителя искусства? Он говорил долго, не жалел мрачных красок и, кажется, нагнал немало страху на присутствующих. Но что же по существу — по существу-то — он рассказал? Шли трое, один другому сказал: «Налево», и тот свернул налево. Вот и всё. Это значит, что в этом месте тропинка сворачивала налево в лес. Где здесь ножи убийц, откуда они взялись? Один господь ведает.
Борис вопросительно взглянул на Берестова. «Все пока идет нормально, — ответили глаза Дениса Петровича. — Подождем, что будет дальше». Борис позавидовал этому спокойствию, ему-то казалось, что Морковин с легкостью разбивает доказательства, собранные ими с таким трудом.
Между тем речь прокурора все больше и больше овладевала залом.
— Другое дело, — говорил он, — что в уезде давно уже нагло и открыто действует какая-то банда, которую угрозыск не удосужился изловить. А раз вы этого не сделали, товарищи из розыска, не следует валить с больной головы на здоровую, не нужно выкручиваться за счет невинных людей. Вы говорите, компания Курковского — это банда преступников. Почему? Так говорит Ведерникова. А Курковский и его компания отвечают: Ведерникова девушка очень легких нравов. Кому верить? Я не верю ни тем, ни другим. Я верю только одному — фактам и вещественным доказательствам. Кстати о вещественных доказательствах…
Морковин медленно потянулся к графину с водой и так же медленно стал пить. Все терпеливо ждали.
— Так вот, о вещественных доказательствах, — продолжал он, вытирая губы платком. — Здесь почему-то большой переполох вызвали перчатки, которые не лезли на руку преступника. Напрасно некоторые люди возлагают надежды на эти перчатки. Не следует забывать, что они были мокрые, совершенно мокрые, что же удивительного в том, если они сели? Я прошу суд запросить по этому поводу в качестве справочного эксперта специалиста-кожевника, живущего в городе. Он скажет вам, в каких размерах сокращается кожа под воздействием воды…
Прокурор снова выпил из стакана, но теперь уже, очевидно, для важности.
— Да, кстати, что это за человек, который предупредил Ведерникову о том, что ее якобы… — он поднял указательный палец и замысловато завел его далеко за ухо, — …якобы собираются убить? Где он? Почему она его не называет? Почему мы все время должны верить на слово. Нет, граждане, так у нас не пойдет. Ну а теперь, — сказал он решительным и деловым тоном, — оставим все эти вздохи, перчатки, таинственных незнакомцев и перейдем к более серьезным вещам, — Морковин снова повысил голос, — и к более серьезным доказательствам. Я говорю о кровавом пятне.
Весь тон, весь вид Морковина показывал, что с пустяками покончено и теперь он уже разговаривает всерьез. Борис снова взглянул на Берестова. «Вот оно», — подумали оба. Зал затаил дыхание.
— В чем суть всей этой истории с пятном? — продолжал Морковин. — Суть в том, что на опушке леса у болота было обнаружено кровавое пятно и именно на том самом месте, где, по словам подсудимого, Курковский и Латышев в него стреляли. Как рассуждала здесь защита? Я имею в виду, конечно, наш розыск и прежде всего его начальника, потому что они не столько расследовали дело, сколько выгораживали преступника.
При этих словах все начали оглядываться на Берестова, кто-то даже встал, чтобы посмотреть на него. Денис Петрович глазом не моргнул.
— Так как же представила это дело защита? Они рассуждали так: вот видите, инженер показал, что в него стреляли здесь, в этом месте, и действительно, на этом самом месте найдено пятно крови. Это пятно, согласно экспертизе, сперва оказалось, не может принадлежать инженеру, потом оказалось, может принадлежать инженеру. Вернее, может принадлежать и инженеру. Вот доказательства защиты. Ну а теперь я вам расскажу, что произошло в ту ночь на болоте и чья там пролита кровь.
Борис был поражен, увидев, с каким напряжением Денис Петрович слушает прокурора.
— Да, инженер Дохтуров, — внезапно поворачиваясь к подсудимому, с яростью сказал Морковин, — вы знали, какое место указать, вы знали, что там осталась кровь, но не ваша подлая кровь была на этой земле!
Зал вздохнул единым вздохом — удивления и ужаса. Все почувствовали, как что-то темное и страшное надвигается на них. Даже Борису стало страшно. Милка, которую трясло с самого начала морковинской речи, готова была упасть в обморок.
— Это была кровь человека, — с тем же напором продолжал прокурор, — которого вы со своими сообщниками убили в ту ночь на болоте.
Внимание зала с Морковина тяжело перевалилось на инженера. Дохтуров очень медленно поднял голову и посмотрел на Морковина. Он знал, что в лицо его впились сейчас сотни глаз. Единственно, что мог он сделать в эту тяжелую минуту — пристально смотреть прокурору в глаза. Но не такой человек был Морковин, чтобы его мог смутить человеческий взгляд.
— Я знаю, вы будете сейчас лгать и изворачиваться, как делали до сих пор, поэтому я за вас расскажу эту страшную правду. Вы шли со своими сообщниками, не зная, что за вами следят. Был туман, Курковский и Латышев вас потеряли и побежали к железной дороге. Но был еще один их товарищ, который стал на вашем пути и пытался вас задержать. Мы не знаем, как он это сделал, мы не знаем, что предпринял этот герой, мы знаем только, что вас было трое, а он был один, что он погиб в борьбе с вами и что труп его вы оттащили в лес, завалив его сухими листьями.
Васена, недвижно сидевшая до сих пор, вдруг сжала виски обеими ладонями.
— Это был простой деревенский паренек, по фамилии Волков, — продолжал Морковин, — никто не предполагал в нем героя, но он стал им.
Казалось, еще минута, и зал взорвется ревом ненависти и гнева.
— Странно, что работники розыска, обшарившие тогда лес, не нашли этого трупа. Его нашли деревенские ребятишки, которые побежали к леснику, живущему в сторожке, расположенной довольно далеко. Было это позавчера ночью, ребята повели лесника, но не сразу нашли место. Словом, в то самое время, когда здесь, у нас на глазах, защитник уличил эксперта в том, что он не знает своего дела, лесник с ребятишками разыскивали труп Волкова, а разыскав, побежали к милиционеру Василькову. Василькова не было дома, он здесь, на процессе, поэтому только к вечеру все это стало известно милиции. В настоящее время труп лежит в городской больнице, а лесник Трофимов здесь и готов подтвердить все это на суде. Я не сомневаюсь, что наш эксперт с присущим ему умением станет определять группу крови и прочее, однако и без экспертизы я могу вам назвать преступника. Он перед нами. И на этот раз ему не отвертеться. Я не могу себе представить, чтобы здесь, среди нас, нашелся человек, который посмел бы оправдать этого… красавчика убийцу. Наш суд призван защищать народ от покушения врага. И он должен сказать свое слово.
Этот спец, еще недавно пресмыкавшийся перед своим хозяином, по указке того же хозяина пытался взорвать советский поезд. Напрасно пытались, господин инженер! Красный локомотив пролетарского государства неуклонно летит вперед, и не вам ему помешать! Он раздавит вас своими колесами!
Эти слова были произнесены с таким пафосом, что в зале невольно раздались аплодисменты.
— В наше время, когда рубежи нашей страны окружают враги, мы не можем щадить никого. Этот человек — убийца и диверсант, он не искупит своей вины перед народом! Я требую высшей меры.
Морковин сел, платком вытирая лоб.
Васена по-прежнему сжимала виски ладонями и с ужасом смотрела перед собой. Толпа молчала. Кто-то вскрикнул, кажется Милка. Сережа закрыл лицо руками. А Дохтуров?
Александр Сергеевич сидел опустив голову. Оказалось, однако, что он всецело занят какой-то бумажкой на полу — он даже наклонился немного, чтобы лучше ее разглядеть, а потом отвел ногой. И как ни странно, это едва заметное движение многих заставило опомниться. «Все, что здесь сейчас происходит, не имеет ко мне никакого отношения», — ясно говорило оно.
Никто, конечно, не верил этой безмятежности — какая уж тут безмятежность, коли дело идет о жизни, однако чувство собственного достоинства, как всегда, вызвало уважение. Впрочем, многим поведение подсудимого показалось наглостью закоренелого преступника, и в зале стал нарастать гул возмущения.
«Ну ты у меня молодец! — глядя на Дохтурова, думал Денис Петрович. — Потому что пришла беда». Мысль его лихорадочно работала. Как они успели сварганить это дело? Быстрота решения, мотоцикл? Одним словом, Левка. А Волков? Это, наверно, один из тех двух парней, что пропали недавно в Горловке. Ну на эту быстроту нужно отвечать только с такой же быстротой.
«Эх, Денис Петрович, неужели не спасем!» — думал Борис.
Милка понимала, что все кончено.
Как легко были отброшены все ее доводы. Ах, она что-то забыла, но что, что?..
Тут судья встал и объявил, что заседание переносится на следующий день. Все словно опомнились и разноголосо загалдели, но не расходились.
— Постойте! — вдруг завопила Милка, вскакивая и в отчаянии протягивая вперед руки. — Постойте, я вспомнила, дайте сказать!
— Э, она что-то вспомнила, — говорили в толпе, — дайте сказать.
— Пускай, — сказала вставшая было Васена, усаживаясь за стол и давая тем самым понять, что заседание продолжается.
— Я вспомнила, — торопливо говорила Милка, — Левка сам мне сказал, что где-то на юге он убил комиссара.
— Что вы скажете на это, Курковский? — спросил судья.
Левка встал и пожал плечами:
— Эдак она, пожалуй, вспомнит, что я родного отца убил. Нет, конечно.
Вот и все.
И снова встал судья, снова объявил он, что заседание переносится, и вновь его прервали. У дверей в давке кто-то протискивался, слышалось: «Пропустите свидетеля». Борис вскочил, чтобы рассмотреть, не Костя ли это. Да, это был Костя, и за ним, невозмутимый как всегда, протискивался Нестеров. Макарьев, наклонившись над столом, что-то говорил судье. Все, не ожидая разрешения стали снова рассаживаться.
— Послушаем, — с удовольствием сказал кто-то.
— Это нарушение процессуального кодекса! — кричал Морковин. — Это не процесс, а базар какой-то.
— Не кричи, — ответила Васена, плотнее усаживаясь на стуле, — нам бы только до правды доискаться.
— Правильно! — ревела толпа. — Так его Васена, давай!
У Васены пылали щеки.
— Горе ты мое! — низким цыганским голосом выла тетя Паша. — И что ты только делаешь, злосчастный ты мой!
Борис с нежностью смотрел на Нестерова — немало трудов ему и Косте стоило найти этого проклятого кавалериста; да им бы, наверно, никогда его и не найти, если бы не Розалия: исчезнуть одному — это еще возможно, пропасть вместе с конем значительно труднее.
Борис был так счастлив, увидев Нестерова, что совсем не думал о том, какие показания даст этот человек, который, конечно, не случайно исчез в самое тревожное время.
Опрос Нестерова вел судья.
— Что вы можете сказать о Курковском и его компании?
— Да что сказать, — Нестеров пожал плечами, — парни…
— Расскажите, как вы с ними познакомились.
Познакомился он с ними у тети Паши, где они часто потом встречались и вместе выпивали.
— Были вы с ними на вечеринке в поселке?
— А как же!
— Да не верьте вы ему, окаянному! — крикнула тут тетя Паша.
— Что произошло там с Ведерниковой?
— Да что… Была там Ведерникова.
— Что она там делала?
— Ну… вино пила. Винегрет ела, — глаза Нестерова блеснули, — Левке по морде дала.
— За что же?
— За дело.
Все рассмеялись. Ах как хохотал Сережа! Ему казалось, что все снова налаживается.
— Что же было дальше?
— Да испугался я, как бы ей чего дурного не сделали, и предупредил, чтобы удирала.
— А раньше она в этой компании бывала?
— Никогда не видал.
— А правда, что ее хотели убить?
— Кто их знает, пьяные же они были, черти, потом с них не спросишь.
— Так вы не можете сказать, собирались ли убить Ведерникову?
Нестеров снова пожал плечами и задумался. Все заметили, что Левка пристально смотрит на него. Нестеров поднял голову.
— А им недолго, — сказал он.
— Вы хотите сказать, что они вполне могли убить?
— А кто их знает. Пьяным ведь недолго.
— Но все-таки, хотели они ее убить?
— Я их не спрашивал.
«Ох, сволочь!» — подумал Борис.
— Значит, вы не знаете, — сказал судья. — Хорошо. Давайте о поезде. Когда Курковский послал вас остановить поезд?
Складки на лице Нестерова стали медленно собираться к левому уху — он улыбался. Потом почесал голову у виска и ухмыльнулся еще шире:
— Что-то я не помню, чтобы Левка посылал меня останавливать поезд.
— Однако поезд остановили вы?
— Вроде бы.
— А как же вы узнали о взрыве?
— Узнал я об этом случайно. Я вышел во двор, и получилось так, что Левка и Николай встретились при мне, но меня не видали. Я понял так, что к ним недавно приходил какой-то человек, с железной дороги, что ли, и сказал, что поезд с диппочтой пройдет сегодня…
При этих словах Берестов быстро поднял голову. «За эти слова, — подумал Борис, — прощаю тебе все грехи, лиса».
— Что поезд, значит, пройдет сегодня. «Вот те раз», — сказал Левка, и они заторопились. Левка кинулся в дом, что-то сказал Люськину, потом снова разговаривал с Николаем, разговор шел о взрыве и о взрывчатке. Я, признаться, думал, что они сами собираются взрывать поезд, — добавил он простодушно.
— Хорошего вы о них мнения, — заметил судья.
— Да что… Сел я тогда на свою лошадку и поехал потихоньку.
— И Люськин этот, как вы его называете, отправился туда же на мотоцикле?
— Не сразу.
— Почему?
— Потому что я проколол камеры.
— Значит, Карпов выехал для того, чтобы задержать вас, а совсем не для того, чтобы останавливать поезд?
— Я думал, что так, а как на самом деле было, кто его знает.
— Курковский, — оказал судья (Левка встал), — как же вы говорите, что послали Карпова остановить поезд?
— Да мне так Карпов сказал, я был уверен, что Нестеров в курсе дела и поскакал остановить поезд. За ним с той же целью мы решили послать Карпова, — если бы он не уехал, он бы все это здесь подтвердил. Кто мог подумать, что Михаилу Петровичу придет в голову такая глупость. Карпов за ним на помощь, а он от него, как от врага. Потеха!
— Что это за человек, который приходил к вам в тот вечер?
— Это Михаил Петрович что-то перепутал или не расслышал. Речь шла о людях, которые приходили к инженеру.
— Что вы скажете на это, Нестеров?
— Может быть.
Итак, все опять (расплывалось. Правда, уклончивые ответы Нестерова и его прямые намеки сгустили тень подозрения, падавшую на Левку, однако доказать они ничего не могли, да и явно не были на это рассчитаны.
«И все-таки не зря мальчишки его добывали, — подумал Берестов. — Хоть он и крутил порядком, но все-таки многое сказал. А главное, на нем, как на тормозах, процесс съехал к исходному положению, когда никто ничего опять не понимает. Хотя после речи Морковина дело обстоит хуже, чем вначале».
В розыске Денис Петрович отдал поспешные распоряжения Борису:
— Позвони в губрозыск, спроси, выехала ли Хозяйка, пусть доставят с темнотой по известному им адресу. Остаешься сегодня за главного — меня в эту ночь в городе не будет. Теперь слушай: очень многое зависит от того, сможем ли мы удержать Левку в городе всю сегодняшнюю ночь. Нужно приложить все силы, но удержать его. Понимаешь? Конечно, для этого дела нужен был бы Водовозов, не меньше, потому что, сам знаешь, Левка зверь опасный. Но Водовозов лежит в бреду — придется тебе. Даже Рябы тебе я дать не могу, он пойдет сегодня со мной, возьмешь Костю, милиционеров, комсомольцев. Всё. До свидания. Будь осторожен.
Только сейчас Борис заметил, что сапоги Берестова облеплены каменными комьями грязи. Берестов перехватил его взгляд.
— А, это еще со вчерашнего, — сказал он и ушел.
Во дворе розыска Ряба прощался с какой-то девушкой.
— Ну ничего, все будет в порядке, — сказал он и пошел в розыск.
Девушка, опустив голову, стояла у забора. Ряба вернулся:
— Эй, все будет в порядке. Слышишь? Не волнуйся.
Девушка повернулась и, не говоря ни слова, побежала прочь. Это была Нюрка.
Борису было некогда особенно раздумывать над тем, что собирается делать Берестов и почему Ряба так трогательно прощается с Нюркой. В его распоряжение должны были дать двух милиционеров, а Костя собирался привести из укома четверых комсомольцев. Борис сел «разрабатывать план действий».
По правде говоря, плана у него не было, и он смертельно боялся упустить Левку в эту ночь.
Ну каким образом можно его задержать? Устроить пьяную драку, арестовать и привести в розыск? Левка сейчас ни на какой скандал не пойдет, будет избегать любого конфликта, а если он возникнет, постарается исчезнуть. Это будет ему не так уж и трудно — его окружают вооруженные парни.
Расположение сил противника таково: Левка сейчас сидит у «мамы», парни в титовской чайной (все, кроме Карпова, которого по-прежнему нигде не видно). Однако в любую минуту положение может, конечно, измениться: и Левка может уйти, и парни могут прийти к нему домой, что сильно затруднит все дело. Следовательно, действовать нужно немедленно — это единственное, что ему вполне ясно. А как — вот это уже совершенно не ясно.
Мама смотрела на Левку широко раскрытыми глазами.
— Я это на всякий случай, — говорил Левка, — поскольку момент острый, нужно приготовить отступление. Нужно, чтобы, в случае чего, ты смогла бы взять деньги и прочее. Прочее, конечно, много важнее. Сегодня я сам буду там с ребятами. Через часок я выйду, они ждут меня у Титова. Сегодня во что бы то ни стало мне нужно быть там. Вся эта беготня последнего времени…
— У нашего дома все время кто-то ходит, — сказала мама.
— Ну конечно, ходит, — усмехнувшись, ответил Левка. — Неужели ты еще не привыкла к тому, что около нашего дома все время ходят мальчики из розыска. Ходят, щелкают зубами, а ухватить не могут.
Левка встал и слегка потянулся.
— Опасных разговоров кругом много, — продолжал он, — а пробоины в нашем корпусе как будто пока нет.
— Не знаю, — сказала мама. — Этот кавалерист…
— Ну и что же — кавалерист? Что он, в сущности, противопоставил нашей стройной системе доказательств и неопровержимых улик? Нет, пока идет только борьба нервов, а нервы у нас, слава богу, крепкие.
— Кто-то ходит, — сказала мама.
— И даже стучит в дверь, — ответил Левка и пошел открывать. — Странный гость, — сказал он, — входите. Как ты думаешь, мама, кто осчастливил нас своим присутствием? Познакомься, работник местного розыска Борис Федоров. Простите, не знаю отчества.
— Да зачем отчество, — серьезно и смущенно ответил Борис.
Мама застыла в надменном молчании и напоминала сейчас каменное надгробие древней восточной царицы. Одни только серьги, качаясь, выдавали в ней жизнь.
— Здравствуйте, — робко сказал ей Борис, озираясь, куда бы сесть, хотя мама не ответила на его приветствие и никто садиться его не приглашал.
И все-таки он сел на кончик стула, не спуская глаз с мамы, которая не обращала на него ни малейшего внимания. Пауза продолжалась бесконечно долго, становясь неприличной, что, видно, очень развлекало Левку.
— Как сегодня погода? — насмешливо спросил он наконец. — Дождик вас не намочил ли?
Борис ответил не сразу — он не мог оторвать глаз от мамы и маминых серег.
— Да, — сказал он, — то есть нет… погода… нет, не намочил, — и сам рассмеялся.
— Так, — отметил Левка.
— Вы извините, конечно, — продолжал Борис, — только я таких до сих пор не видал никогда. Это, наверно, старинные, еще царские какие-нибудь.
— Мама, — сказал Левка, — ты пользуешься успехом.
Мамины серьги действительно были хороши, огромные, сплетенные из камней и серебра, они дрожали и переливались. Мама повернула голову.
— Царские? — спросила она.
— Ну да, — робко повторил Борис, — наверное, какая-нибудь царица их носила.
Тут только Борис заметил, что серьги дрожат еще и потому, что у мамы еле заметно трясется голова.
Года два назад нечего было и думать о том, чтобы выйти на улицу в таких украшениях, но теперь, когда благодаря нэпу стали появляться роскошные дамы в брильянтах и мужчины в мехах, серьги стали вполне допустимы.
Мама взглянула на сына долгим взглядом, тот ответил ей не менее значительным.
— Охотно верю, — неожиданно быстро повернувшись к Борису, сказала мама, — что вы таких не видали.
— А знаете, видал! У нас в городе года четыре назад клад нашли, — наверно, это Зубкова, богачка такая была…
Борис все более оживлялся, застенчивость его стала проходить, с азартом рассказывал он о богатствах богачки Зубковой.
— Но таких, как ваши, там, конечно, не было, — закончил он.
— Полагаю, — усмехнулась мама. — Эти серьги из рода в род переходили в семье Шереметевых.
Борис широко открыл глаза. «Шереметевы! Вот это да!» — говорил его вид.
— Вы удостоили нас визитом для того, чтобы говорить о серьгах? — спросил Левка, смотря на него в упор. — Или о графах Шереметевых?
— Нет, — глядя на него значительно, ответил Борис, — мне нужно с вами поговорить, но… наедине.
— От своей матери я не имею тайн.
— Но у меня… для меня… В общем, мне нужно было бы поговорить наедине.
— Что-то странно мне ваше желание разговаривать со мною наедине.
Левка задумался. Мама, как прежде, была недвижна. Борис терпеливо ждал. Весь его вид говорил, что он никого не торопит и ни на чем не настаивает.
Как видно обдумав все и придя к решению, Левка сказал довольно резко:
— У меня сейчас нет времени, самое большее полчаса. Я тебя прошу, мама, зайди к Титову и передай Николаю эту записку. Я буду вслед за тобой.
— Ну давайте, — так же резко обратился к нему Левка.
«Все пока идет как по маслу, — думал Борис, — у Титова сейчас облава, милиционеры проверяют документы, и будут проверять до самого утра. Маме придется там посидеть. Да здравствуют серьги, на них ушло минут двенадцать! Теперь все зависит от того, удастся ли вызвать Левку на разговор настолько длинный, чтобы успел подойти Костя с обещанными комсомольцами».
Причины, заставившие Левку согласиться на разговор, были тоже более или менее ясны Борису. Во- первых, Левке было любопытно; во-вторых, должно быть, он полагал, что розыск посылает ему парламентера.
— Только поскорее, — бросил он.
Легко сказать — поскорее: Борис решительно не знал, о чем они будут разговаривать. Он старался обдумать предстоящий разговор, когда шел сюда, — другого времени у него не было, — однако ничего разумного ему в голову не пришло. Лучше всего было бы завести один из тех злых шутовских разговоров, до которых Левка был такой охотник. Он даже вспомнил их встречу v Морковина и Левкину фразу о кофточке и записке. Ну, здесь скажи только слово, Левка так и кинется в этот разговор. Все на свете позабудет. Однако и тогда, по дороге к Левке, и сейчас, глядя Левке в лицо, Борис понимал, что не сможет заговорить о Ленке или о чем бы то ни было, что имеет к ней отношение. Даже мысль о ней здесь, в Левкином логове, была невозможна. И опасна потому, что у Бориса от ярости начинала кружиться голова.
Представиться перебежчиком? Левка не поверит. А впрочем, поверит, особенно теперь, когда считает себя господином положения, — поверит. Но тут Борис не мог себя заставить. Ему казалось, что даже такая получасовая игра в измену сама по себе была уже изменой.
Есть еще одна тема, тоже очень острая, которая, конечно, заинтересует Левку, и даже очень, но ее касаться уже просто страшно.
— Извините, — сказал Левка, — вы… помолчать сюда пришли?
Борис неопределенно улыбнулся.
— Знаете, — сказал он, — есть разговоры, которые не так-то просто начинать…
Долее молчать было действительно невозможно.
Левка смотрел на него с любопытством. Выхода не было.
— Как вы знаете, — начал Борис, — заместителем начальника розыска у нас Павел Михайлович Водовозов, — и остановился.
Эта пауза была непритворной и нерассчитанной. Он со страхом увидел, что Левка улыбается. При улыбке Левкин рот как-то проваливался, отчего лицо становилось старушечьим и противным.
— Был такой Павел Михайлович, — слегка потягиваясь и по привычке поправляя ремень, сказал он.
Борис уже горько сожалел о начатом разговоре, однако отступать было поздно. Единственное утешение состояло в том, что Левку эта беседа действительно занимала, — сейчас весьма слабое, впрочем, утешение.
— Нет теперь Павла Михайловича, — весело продолжал Левка.
Борису показалось, что на том его силы и кончились. Сейчас он встанет, вынет свой «Смит и вессон»… Он заметил, что рука его, лежавшая на столе, дрожит мелкой дрожью, и тотчас убрал ее под стол. Ничего, главное — это протянуть время, любой ценой. Только не слишком ли велика цена?
— Странная была раз у меня встреча, — начал он, — шел я как-то по лесу — сказать правду, разыскивал я лесную сторожку, в которой, как мне сказали, должны собираться ваши ребята. Иду я…
Борис долго и с подробностями рассказывал о своей встрече с Водовозовым. Левка слушал очень внимательно.
Костя все не шел.
Борис с ходу стал придумывать и рассказал, что Водовозов встретился с кем-то в лесу, и начал даже передавать вымышленный разговор.
Наконец Борис замолчал и выжидательно посмотрел на Левку.
— Ну и что? — опросил тот.
— Не знаю, — ответил Борис и опустил глаза, чтобы не видеть его подлой улыбки.
Сейчас Левка ему скажет: «Не морочь мне голову», встанет и уйдет. Но Левка этого не сделал.
Он по-прежнему улыбался, просто сиял.
— Вот вы чего захотели, — сказал он. — Да, Водовозов все видел и понимал куда лучше, чем ваш болван Денис.
Борис поиграл пальцами по ручке револьвера, лежавшего в кармане, — это его немного успокоило.
«Может, с Коськой что-нибудь случилось?» Черное окно, в которое должны ему постучать, молчаливо смотрит ему в спину.
— Вы захотели знать, — продолжал Левка, — что сообщал мне Водовозов и сколько я за это плачу.
Борис вскочил и стал вытаскивать револьвер, который зацепился за подкладку кармана.
— Руки вверх! — крикнул он отчаянно, вырывая револьвер вместе с подкладкой и направляя его на Левку так, что плясавшая мушка была где-то около Левкиной переносицы.
Левка медленно встал и пошел на него, не вынимая даже рук из карманов.
— Стреляй, — сказал он презрительно, — стреляй в меня, болван, накануне суда.
В окно уже стучали, но Левка, кажется, не слыхал. Не отводя револьвера, из которого он действительно не мог стрелять, Борис стал отступать к двери.
— Ступай, ступай, — приговаривал Левка, надвигаясь на него, — великий мастер сыска, дерьмо собачье.
Борис уже был в передней и отпирал дверь. За дверью в темноте стоял беспризорник. Это был не Костя, а беспризорник.
— Левка, — быстро сказал он, — у Титова облава.
— Хорошо, — так же шепотом ответил Борис, — беги.
Когда Левка подошел, он уже захлопнул дверь. Теперь они стояли рядом в узкой передней.
— Отойди, — угрюмо сказал Левка.
Чтобы предотвратить удар, Борис кинулся вперед и, бросив револьвер, схватил Левку за горло, с отвращением чувствуя под пальцами сильно вздувшиеся жилы.
— Нет, не уйдешь, — хрипел он, — сегодня посидишь дома, гад, до завтрашнего суда.
В дверь и окно уже стучали ребята из укома.
Глава III
И вот наступил следующий — четвертый — день суда.
Как всегда, вышли из-за маленькой дверцы и заняли свои места судьи; как всегда, ввели подсудимого. Все заметили, что он был бледнее обыкновенного — видно, предыдущее заседание не прошло для него даром.
Борис, как всегда, искал глазами Берестова, которого в розыске до сих пор не было и которого он надеялся увидеть здесь, но не нашел. Это его беспокоило. Однако ему оставалось одно — выполнять поручение, данное ему Денисом Петровичем: не спускать глаз с Левки и находиться возможно ближе к нему во время процесса. Он не без злорадства смотрел на помятую Левкину физиономию. Сам он, впрочем, был не лучше, оба они, по одной и той же причине, не спали эту ночь.
Заседание началось в тишине, и тишина эта стала особенно напряженной, когда во весь свой рост, как- то особенно торжественно поднялся Макарьев.
— У меня вопрос к свидетельнице Романовской, — сказал он.
Когда он поднимался, то все ждали чего-то очень важного и значительного и были поэтому разочарованы.
— Хватит уже вопросов. Надоели вы с вашими вопросами, — проворчал кто-то в толпе, но защитник не обратил на это никакого внимания.
— Гражданка Романовская, — сказал Макарьев, — расскажите суду, что вы делали в ночь на двадцать первое августа и особенно двадцать первого.
Все насторожились. Не столько сам вопрос и даже не тон его заставил всех насторожиться, сколько неестественно побледневшее лицо Кукушкиной.
— Суд ждет.
Она продолжала молчать, а глаза ее остекленели настолько, что казалось, проползи по ним муха, они и тогда не сморгнут.
— Итак, можете вы вспомнить, что вы делали в это время?
— Нет!
— Окончательно нет?
— Нет!
— Ну нет так нет, — мирно сказал Макарьев, — очень хорошо.
Однако по лицу Кукушкиной было видно, что все это совсем не хорошо, а очень плохо.
В зале переглядывались. Васена опять задвигалась на стуле.
— А вот этот пакет, — защитник поднял над головой какой-то сверток, — вы видели когда-нибудь?
— Нет! — крикнула Кукушкина.
— Нет — не надо, — опять мирно сказал Макарьев и начал свою речь.
— Уважаемый прокурор, — сказал он, — представил нам здесь такую картину: вредитель-спец хотел совершить диверсию, но был остановлен рабочими парнями. И все получилось у него правдоподобно. И уж конечно здесь возможен только один приговор: смерть.
— Какие глупости он говорит, — сказала в этом месте бабка Софья Николаевна.
— Все правдоподобно, — продолжал Макарьев, — если предположить, что спец — это вредитель, а парни— наши рабочие парни. Но вот я пришел со строительства, там рабочие бунтуют, кричат: «Не верим». И. это они послали меня защищать. Известно нам и другое: до революции Дохтуров помогал большевистским организациям. Не «пресмыкался перед буржуем- хозяином», а помогал большевикам. Картина становится иной, не правда ли? Это с одной стороны. А с другой: что, если свидетели обвинения не наши рабочие парни? Пусть даже и не бандиты, которыми их считает весь город. Просто — рабочие ли они парни? Спросите в мастерских, где они работают — Латышев и Карпов, — спросите, как они работают, вам скажут: «Почти совсем не работают». Кто же больше дал нашему народу, Латышев или инженер?
Да, наш суд классовый, суд пролетарский, но это значит, что он самый справедливый суд на свете. И, видно, все сложнее, чем это думает прокурор. Я тоже могу просмотреть это дело с начала до конца и показать, что каждый факт может быть истолкован совершенно противоположным образом. Ну давайте. Вы говорите: пытался взорвать поезд с людьми, ранен на месте преступления. А я отвечаю: насильно под пистолетом приведен в поле, свален выстрелом и потом притащен к дороге. Какие у вас доказательства? Только то, что инженер был найден около путей, вот и всё, но сам ли он туда пришел, или его принесли, на этот вопрос вы ответить не можете. А мы можем представить медицинский акт, в котором сказано, что инженер был ранен не за пять — десять минут и даже не за двадцать, а за полтора часа, не меньше. Что же делали эти парни полтора часа около дороги, если они, по их словам, только и успели, что выстрелить, пробежать навстречу составу и убедиться, что он стоит. Поезд, между прочим, стоял очень близко от места происшествия, бежать до него нужно было минут пять, не больше, а увидеть можно было сразу, почти сразу, несмотря на туман. Значит, здесь у Курковского что-то не получается, в то время как все это подтверждает показания инженера, который говорит, что в него выстрелили довольно далеко от пути. Почему же прокурор верит компании Курковского, а инженеру не верит? Вы говорите: у инженера найдена крупная сумма денег, источник которых он не может объяснить. А как он мог бы объяснить, если ему эти деньги подложили? Вы говорите: даже сын инженера считает его диверсантом. Ну а что, если те же самые бандиты, которые устроили пьесу с диверсией, сами толкнули мальчика на донос. Вам не кажется ли, что это было бы им в высшей степени выгодно — убрать его из дому в тот вечер, а одновременно направить угрозыск по ложному следу.
Я недаром задавал тут вопросы про сиреневые кусты. Разговор, который слышал Сережа Дохтуров, происходил в сиреневых кустах, но ведь, по показаниям Латышева, в этих кустах стояли именно они, Курковский и Латышев. Где же были диверсанты? Латышев говорит, что тоже в кустах, однако в тех кустах, о которых идет речь, четверым никак не поместиться: они не только не могли бы стоять здесь, не видя друг друга, они толкались бы. Не проще ли предположить, что в кустах были всего два человека, Курковский и Латышев, а диверсантов и вовсе не было?
Вы говорите: вещественные доказательства. А не кажется ли вам, что в карманы инженера напихано слишком много вещественных доказательств: и оружие, и шнур, и перчатки, которые, кстати сказать, все равно на руку подсудимого не лезут. Ведь не лезут?
— Браво, Митька! — крикнул какой-то густой бас.
Вдруг Борис заметил, что у двери стоит Берестов.
Тщетно Борис всматривался в его лицо — оно ничего не выражало. Казалось, что Денис Петрович дремлет. Он даже качнулся, кажется, а потом с трудом открыл глаза и повел сильным плечом, словно его знобило.
— Видите, — продолжал Макарьев, — я вас бью вашим же оружием, прокурор. У меня получается все так же убедительно, как и у вас. Кому из нас верить? Только фактам, говорите вы. Очень хорошо. Но прежде чем обратиться к ним, нужно установить, факты ли они на самом деле. Вы говорите, все ясно, высшая мера — и точка. Э, нет, тут живой человек. И все совсем не ясно, а, наоборот, темно. Общего же у нас с вами только одно: ни вы, ни я ничего суду Не доказали. Вы не доказали виновности, я же не доказал невиновности.
— Ничего себе, — сказал кто-то в толпе.
— Уже по одному этому, — спокойно продолжал Макарьев, — есть все основания отложить это дело к доследованию. Тем более, что обнаружено еще одно преступление, уже совсем таинственное и требующее особого разбирательства. Однако мне хотелось бы прояснить это темное дело. Я не знаю, как полагается по кодексу, только лучше всего дать слово начальнику розыска. Он знает.
— Берестова! — крикнул кто-то.
— Берестова, Берестова! — выкрикивала толпа.
Денис Петрович поднялся на сцену. Он стоял и молчал довольно долго, собираясь с мыслями. Зал затих в ожидании.
— Меня здесь упрекали, — начал он, — что, дескать, я хотел защитить инженера. Правильно. Я хотел его защитить от бандитов. Кстати, это входит в мои обязанности начальника уголовного розыска. Упрекали нас и в том, что плохой мы розыск. Это может быть. А пока я расскажу вам об этом деле. Есть здесь в городе одна девушка, которой теперь, как говорится, я обязан по гроб жизни. Познакомились мы с ней случайно, встречались только на улице. Как-то раз приходит ко мне наш сотрудник Рябчиков и говорит мне — так, мол, и так, творится с нею что-то неладное, то и дело подходит к розыску, словно бы что-то ей нужно сказать. Поговорите, мол, с нею. И чего это она за Романовской ходит? А наш сотрудник Рябчиков, надо вам сказать, очень приметливый человек.
Можете себе представить, что случилось с Нюркой, когда Берестов — сам Берестов! — подошел к ее домишку.
— Как поживаешь?
В грязном халате, о который она поспешно вытирала руки — прямо ладонями о живот, — Нюрка стояла опустив голову, как преступница.
— Говорят, ты хотела со мной поговорить?
Она отчаянно глотнула и кивнула головой.
— Присесть у тебя здесь можно? — спросил он и сел прямо на крыльцо. — Ох и устал же я, Нюрка, когда бы ты знала! Ну давай, выкладывай, что там у тебя.
Дрожа и запинаясь, Нюрка стала рассказывать. И чем дальше она рассказывала, тем больше убеждалась, насколько важен ее рассказ. Лицо Берестова было очень серьезно.
— И теперь ты ходишь за ней, когда она выходит из дому с пакетом?
Нюрка кивнула. Глаза ее блеснули.
— И сидишь дома, караулишь, когда она выходит без пакета?
Нюрка опять кивнула.
— А как же при этом твой ларек?
Тут она вновь виновато опустила голову. Ларек был заброшен.
— Ну, словом, — продолжал Берестов, — мы с Анной Кузьминичной Парамоновой, о которой я вам только что говорил, и еще с одним работником розыска днем, когда Романовской не было дома, открыли ее комнату, нашли этот сверток и…
Тут произошло нечто неожиданное. С грохотом, все враз вскочили Левкины парни, сам Левка оказался на подоконнике. Страшно грохнул выстрел, в низких сводах показавшийся мощным взрывом, кто-то упал — как потом оказалось, это поскользнулся Борис; завизжали женщины. Все повскакали с мест, чуть было не началась паника. Потом стало видно, что работники розыска вместе с милиционерами скручивают Левкиных парней, что Морковин держится за ухо, из которого каплет кровь, а Левки в клубе нет. Ему удалось бежать через окно, настолько, впрочем, хлипкое, что вышибить его не представляло никакого труда.
С этой стороны клуба никого не было — толпа стояла у входа с другой стороны. И надо же было случиться, что только один милиционер Васильков видел, как со звоном вылетело стекло и на землю тяжело спрыгнул Левка с револьвером в руке. Он побежал к ограде, и — можете себе представить? — Васильков устремился наперерез. Васильков! Левка не выстрелил — выстрел привлек бы сюда всю толпу, стоявшую у входа, — а милиционер не успел вынуть свисток и не догадался крикнуть. Так молча бежали они под углом друг к другу — кто раньше добежит до ограды. Милиционер наддал, и они встретились шагах в десяти от нее.
Васильков был мал ростом, однако обладал большой головой. Сознательно ли он решил использовать это свое преимущество, или действовал по счастливому наитию, только он, разбежавшись, ударил Левку головой в живот. Когда Левка поднялся, около него был чуть ли не весь город.
Заседание возобновилось только через час, когда все приутихло, ухо прокурора было перевязано, а скрученные бандиты водворены на свои места. Впрочем, и после того, как суд начали снова, зал долго не мог успокоиться. Екатерина Ивановна все дрожала и куталась в старый платок, а Васена то и дело возбужденно оглядывала зал. Встал судья.
— Свидетельница Романовская, что вы можете сказать по поводу этого пакета? Это письмо, если не ошибаюсь?
Романовская молчала.
— Дура ты, Романовская, — вдруг с раздражением сказал Берестов, — неужели ты не понимаешь? Ведь плохо, плохо дело, совсем плохо. Подозрение на тебе.
Тогда Романовская медленно поднялась и покорно стала рассказывать, что произошло в ночь, когда исчез Водовозов.
— В ту ночь, — начала она, — Павел Михайлович взял меня с собою на задание…
— Ой врешь, собачья дочь! — крикнул кто-то.
— Нет, правда, — тихо сказала Кукушкина и опустила голову.
Странно было видеть, как эта женщина в военной гимнастерке, при ремнях и кобуре, потупила голову и что-то шепчет.
— Я могу разъяснить, — привставая, сказал Ряба, — никогда он ее на задания не брал и никогда бы не взял. Она пошла сама, как не раз, словно собака, за ним ходила. Правильно я говорю?
Кукушкина не отвечала.
Именно так это и было. Она пошла за Водовозовым без всякого разрешения. Был дождь, все хлюпало, гудело и свистело. Павел Михайлович не мог ее услышать. В эту ночь Кукушкина недаром двинулась следом за Водовозовым: она не верила, что он пошел на задание, ей казалось, что здесь замешана женщина, она была почти убеждена в этом, — почему, и сама не могла бы сказать. Просто она знала, что здесь замешана женщина и что она, облеченная властью Кукушкина, этого не допустит.
Дождь хлестал по кожаной куртке, за шиворот лило, волосы липли к лицу, юбка вязла в ногах. Впереди Павел Михайлович вышагивал навстречу дождю и ветру. Они прошли город, а затем, к удивлению и страху Кукушкиной, направились к лесу.
Она понимала, что нужно вернуться, что идти дальше и бессмысленно и опасно, однако двигалась вперед, каждую минуту надеясь, что повернет назад. Кроме того, ей стало страшно, и знакомая фигура впереди успокаивала ее: если что-нибудь случится, можно будет позвать на помощь. Он ее, конечно, страшно обругает, но не оставит одну.
Однако на лесной дороге, залитой водой, она попала ногою в глубокую колею и растянулась, чуть не плача от обиды, злобы и боли в ноге. Сразу встать ей не удалось, некоторое время она сидела, чувствуя, как намокает юбка и вода наполняет сапоги. Ей хотелось завыть. Водовозова уже давно не было слышно.
Наконец она встала, пошла, как она думала, назад к городу, для чего свернула на боковую тропинку и долго по ней брела. На самом деле она углублялась в лес.
Вернулась гроза, небо вновь забилось и затрепетало, пробиваемое молниями, и Кукушкина долго стояла, прижавшись к толстой ели с ее грубой и мокрой корой. А когда все поутихло, она услышала, как кто-то с шумом продирается сквозь кусты. Потом шум внезапно утих, и она услышала тяжелое дыхание. Кто-то стоял и дышал. Она чуть было не обеспамятела со страху.
Треснул гром, и в просвете вздрагивающего неба она увидела Водовозова. Он не шел, он все время падал, наваливаясь на деревья. Мокрое лицо его с налипшими волосами было искажено, зубы скалились. Даже Кукушкиной стало ясно, что дело плохо. Она преодолела страх и подошла ближе. Увидев ее, он стал хватать рукою кобуру, все время не попадая. Потом начал валиться на молодую сосенку, подминая ее под себя, огромный в своем кожаном пальто.
— Слушай, — сказал он вдруг, — мне не дойти.
Думала ли она когда-нибудь, что окажется с ним одна ночью в лесу и что единственным желанием ее будет бежать от него без оглядки? «Никогда мне не объяснить, как я здесь оказалась, — думала она, — а тут еще Берестов, он только и ждет, чтобы я оступилась. Все пропало, все пропало…»
— Он что-то говорил мне, — продолжала Кукушкина, — но что, я не могла понять. Все просил взять какое-то письмо у него дома; мне казалось, что он бредит. А потом он дал мне ключ. Долго плутала я по лесу и только к утру вышла на какой-то полустанок.
Кукушкина рассказывала, не замечая, как потемнели лица ткачих, какой грозный гул нарастал в зале. Лишь только она кончила, поднялась Васена, всем показавшаяся в этот раз величественной и толстой.
— Куда был ранен Водовозов? — спросила она.
— Я… не знаю. В грудь.
— Ты не знаешь? — зловеще повторила Васена. — Ты даже не подошла к нему. Ты, гадюка, оставила его одного в лесу помирать. В спину, в спину его ножом ударили, сучья ты дочь! Вот кого судить-то надо!
— Я думала, он умер, Василиса Степановна, — прошептала Кукушкина.
— Умер? Ну погоди.
Васена села. Наступила тишина.
— Кому адресовано письмо Водовозова? — спросил судья.
— Берестову.
— Почему же вы его утаили?
— Я это сделала ради Павла Михайловича, — прошептала Кукушкина.
— Так ли? — спросила Васена Берестова.
— Не совсем, — сказал тот. — Скорее из страха.
— Читай, Денис Петрович, — сказал судья.
Письмо это, написанное корявым почерком и переполненное грамматическими ошибками, приведено здесь в более или менее исправленном виде. Вот оно.
«Здравствуй, Денис Петрович, если ты получишь это письмо, то, значит, меня уже нет на белом свете. На этот случай его тебе и пишу.
Я начну издалека. Я долго молчал и теперь буду длинно рассказывать. Помнишь Дроздовку, где мы с ребятами восстанавливали советскую власть? Не стану рассказывать, как да что, только попал я на обратном пути в соседнюю с ней деревушку, к одной знакомой женщине, — та мне только что не в ноги: выручай, Паша. Что такое? Ведет она меня в клеть, и вижу: в полутьме — луч такой пыльный из окна — лежит на тулупе мальчишка в сапогах и спит. „Вот, — говорит она, — спасай эту девочку, смотри, как парня ее вожу, кругом солдатня“. — „Что же я могу сделать?“ Это я. „Да ты, говорит, начальство“. Посуди сам, какое я был тогда начальство. Но в одном она была права: девочке, без отца, без матери, в деревне, где час назад шла пальба, а завтра, может, будет втрое, делать было нечего. Словом, я взял ее с собою.
Отряд наш уже ушел, коней у нас не было, пошли мы с ней, рабы божие, через лес пешком. Смешно вспомнить. Идем. Молчим. Она делает вид, что ноль внимания, и я вида не даю. Каким же я молодым был тогда — всего три года назад. Но разглядеть ее, конечно, разглядел. Вышагивает в своих сапожонках, но видно, что слабенькая.
Так бы, может, и вообще ничего не было, если бы в сумерки в лесу не напоролись мы на дезертиров.
Было их всего человека четыре, и, как видно, они нас испугались больше, чем мы их, но один из них со страху стал палить и попал, дурак паршивый, мне выше локтя. Сказать правду, мы бы с тобой это и за рану не посчитали, но спутница моя отнеслась ко всему ужасно серьезно. Уж она и примачивала и прикладывала — все так важно, смешно было смотреть.
На ночь костра мы не разводили, просидели до свету под моей курткой. Девчушка, пока перевязывала, так ко мне попривыкла, что теперь привалилась к моему боку и уснула. Так и спала, уткнувшись лицом в карман моей гимнастерки. Помню, все вздрагивала.
И вот я поселил Машу в городе у дальней своей тетки, а сам сразу же уехал в армию. Вернулся через полгода. Жили они без меня плохо, меня, видно, ждали, только обо мне и говорили. Я для них стал вроде каким-то сказочным богатырем. Маша при виде меня и краснела и белела, а потом, гляжу, стала поплакивать. Помню, вывел я тогда ее для объяснения в сад: давай, мол, выкладывай, что с тобой такое. Никак не могла сказать, а потом вдруг взглянула да как брякнет: „Ведь вам на дворянках жениться нельзя?“ — „Почему же нельзя?“ — говорю. Она опустила голову, хочет сказать, губы дрожат, ну никак не может, несколько раз собиралась, пока сказала:
„А ведь я офицерская дочка“.
Потом, помнишь, была Украина, потом польский фронт, потом Булах-Булахович. Я тебе говорил тогда: „Меня невеста ждет“, полушутя, но и полусерьезно.
Я сам ее очень ждал. Почта тогда ходила плохо, писем от них не было, и я не имел от них никаких известий, пока не приехал следом за тобой в наш город уже твоим заместителем. Дело было зимой. С вокзала пошел я к тетке, — оказалось, что она умерла, а куда делась Маша, никто не знал. „Голодали они очень“, — сказали соседи. Я был в исполкоме, и всюду— нигде она не записана, карточки на нее не выданы. Я собирался ее через наш розыск искать — и встретил в сумерках на улице. Господи, как изменилась! Не выдержал я, сгреб ее, мою, мою собственную, и думаю: ну теперь не отпущу. А одета она была — на голове-то треух с ушами, зато ноги стоят в снегу все одно что босые, чувяки какие-то. Снял я свои рукавицы, хочу ей хоть ноги одеть, а она ничего не понимает, „ты, ты“, — говорит. „Ну пойдем, говорю, где живешь?“ А она как-то помолчала и отвечает: „Здесь, у одной слепой бабушки“.
Уж не мальчик я, а ничего похожего не переживал, как была эта весна. Мы встречались то в лесу, то в поле, только домой она меня к себе никогда не звала — неудобно, говорит, и, кроме того, почему-то требовала, чтобы вместе нас никогда не видели.
Оба мы были очень заняты — я в розыске, она работала где придется: то билетершей в кино, то еще где-то, — с работой у нас в городе, сам знаешь, плохо. А потом выступала в клубе, где в ней души не чаяли. Кабы ты знал, какая веселая она была недавно, всего несколько месяцев назад. И кабы ты знал, как ждал я встречи с нею.
Мы ничего не скрывали друг от друга. Она мне про свой кружок, как она там Катерину играет; я ей рассказывал, как мы Сычова брали или кого там. Ох и боялась она, и ужасалась-то, смешно было смотреть. На самом деле-то это было не смешно, но об этом я только потом догадался. А тогда подсмеивался над нею. Наконец появилась Левкина банда. Как я ей про старушку убитую рассказывал, она так побелела, я думал — упадет. Стал ее утешать, уговаривать. Ничего, говорю, назавтра мы в засаду на дорогу пойдем, этих голубчиков поймаем, все будет хорошо.
Ты помнишь, как сидели мы с Борисом в этих засадах и как ничего не высидели. Мне и в голову ничего не приходило. Только раз как-то она спрашивает: сегодня-де опять пойдешь? Я сказал, пойду. Стала она вдруг так упрашивать, чтобы не ходил.
Что ты, говорю, служба, улыбаюсь, да и ничего со мной не будет. „Ах, ты не знаешь их!“ — прямо не сказала, а словно бы простонала она. „Зато ты знаешь“, — засмеялся я и опять ничего не понял. Но все- таки, когда мы и на этот раз просидели зря…
Нет, и тогда я ничего не понял, но стало мне странно, и вот почему. Рассказываю я ей, говорю: „Понимаешь, как мы на дороге — все тихо, а нас не было, они человека ограбили“. Тут она как зальется! Как плакала! Сейчас вижу ее — как плакала!
Стал я задумываться: тоска ее, страх ее, слепая бабушка… Как она живет, моя любимая, ведь я ничего не знаю. Стал расспрашивать — только хуже.
А случилось так, что еще до этого я сказал ей про больничные корпуса, куда мы должны были идти ловить бандитов. Маша знала, что назавтра мы туда идем.
Ну, Денис Петрович, навалилась на меня тоска. Такая это была тоска, ну — камень на сердце. Так я и знал, хотя себе и не признавался, что никого в корпусах не будет.
Когда вернулся я домой, она была уже у меня. Конечно, я мог, ничего не говоря, проследить за нею и узнать все, что мне нужно. Но я не мог бы следить за ней. Я просто спросил у нее.
Мне не нужно было ответа — по лицу ее, по тому, как упала она на постель, по тоске своей понял я, что все пропало. Это значит, что так решила она меня спасать от бандитов.
Я, Денис Петрович, света белого невзвидел. Стоял я, помню, над ней и думал: „Пристрелить тебя мало“, а хотелось ее в одеяло закутать — дрожала она, как мокрый щенок. „Ты же погубила меня, говорю, теперь мне только одна дорога — смерть“. А и в самом деле — разве не так?
Я уже раньше замечал, что с нею неладно. Сперва я думал, тоска, что нападает на нее, это из-за моей работы, — каждый раз, что я уходил на задание, она начинала метаться; я потом даже стал маленько подвирать. Но потом пошло хуже: она сделалась странная какая-то, то веселая, а то просила меня ее оставить. Это стало прямо идея какая-то, что я должен ее оставить. Только потом понял я, что это была ее попытка меня спасти. Раз даже хотела уехать. А с летом какая-то тихая стала. Это только в письме получается так связно, а на самом деле виделись мы урывками, я целыми сутками пропадал.
Я и потом никогда не спрашивал у Маши, как она попала к ним в руки (они звали ее Муркой), — об этом с ней и заговаривать было нельзя. Она не говорила, и я не пытал, но подозреваю, что через отца: ее отец, белый офицер, был расстрелян нашими, и, наверно, Левка знал об этом. Не раз заводил я разговор, что у нас дети за отцов не в ответе, она мне не верила. Впрочем, дело делалось постепенно, мышеловка расставлялась загодя, а захлопнулась она, когда приехал Левка.
Как я потом понял, дело обстояло так: Левка требовал от нее — подумать страшно, что она, такая слабая и несчастная и, что греха таить, немного сумасшедшая уже, была в руках Левки, — чтобы она заставила меня работать на банду, грозя, что убьет меня. И вот глупым умишком своим она рассудила меня спасать и делала все, чтобы я с бандитами не встретился. Но очень скоро она убедилась, что меня- то она спасает, а другие люди от этого гибнут.
Это произвело на нее ужасное впечатление. По- моему, она свихнулась как раз на этом. „Я несу с собою смерть, говорит, теперь и ты должен умереть“. Чем, скажи, Денис Петрович, чем я мог ее утешить? Ведь дело было сделано? Хотел я того или не хотел, вас всех я предал и дело наше предал.
Как же я тогда работал! Думал, бандитов голыми руками брать буду, лишь бы замолить грехи. Да что уж там!
Не стану говорить тебе, как я жил, как встречался с тобою, как в глаза тебе глядел, как приходила ко мне Маша. Видел бы ты ее — махонькая, жалкая такая, как мышка. Я говорю ей: „Уедем, я тебя спрячу, сберегу“, — она в слезы: „Что ты, что ты, голубчик, отвечает, у Левки всюду рука, а под землей ты меня не спрячешь“. И дрожит, себя не помнит со страху. Насильно ее не увезешь, а если и увезешь, думаю, то совсем. безумную привезешь. А иногда ничего словно бы — забывает, молоденькая ведь. Особенно на сцене.
Третий день уже пишу я тебе это письмо. Очень длинно получается. А короче не объяснишь.
Почему я не рассказал тебе тогда? Потому что ты должен был бы, обязан был меня расстрелять или отдать под суд, а я еще не мог помирать. Во-первых, оставить ее одну. А потом — мне все казалось, что прежде, чем помру, я сослужу еще службу. Во всяком случае, погибать так, задарма, я не собирался. Ведь я мог еще и дело сделать, — правда, старый друг?
Может, тут и гордость моя была. Не хотелось мне, чтобы ребята наши от меня отвернулись, а чтобы Кукушкина, которая ходит за мной, как пес… лучше — после смерти… Ну да ладно. Словом — не сказал.
Пошли у нас невеселые дни. Прогнать ее я не мог, не собака ведь она, но и любить по-прежнему не мог.
Но только скажу тебе, Денис Петрович, — и не любить не мог. Однако охватил меня страх: боялся я лишнее слово при ней сказать, надежды на нее больше не было. Даже, веришь, во сне боялся проговориться, старался не спать. Это просто стала мания.
Наконец приехала Леночка. Ты помнишь, я просил тебя ее не посылать, и такая тоска меня взяла, что пошел к ней уговаривать, чтобы не ходила. Но одно ты знай и твердо помни: никогда и никому — ни Маше и никому — не сказал я ни слова о Леночке.
Нет, Денис Петрович, этого не было. Когда ее привезли, я думал, с ума сойду, все мне казалось, я виноват. Узнай, кто это, Денис Петрович, узнай, кто, я не смог узнать, хотя последнее время только и делал, что искал — кто?
Конечно, я мог бы у нее многое выпытать, ребенок ведь, да еще слабый, можно было сделать ее орудием и через нее подобраться к банде. Но я никогда ничего о банде у нее не выспрашивал. Если, думаю, они из нее жилы тянут, да еще я буду тянуть, эдак мы ее убьем. Она не выдержит. Можешь меня понять, что со мной сталось, когда Ряба хотел втянуть ее в розыск!
И все-таки я ее спросил, где собираются бандиты. „Мы с тобой, — сказал я, — натворили делов, давай хоть долги платить“. Тогда она сказала мне про сторожку. Чего это ей стоило и как она на это решилась, описать тебе не могу. Но рассказала. И при этом взяла слово — ничего тебе не говорить. „Если в розыске узнают про сторожку, Левка меня убьет“, — говорит. В этих словах ее был смысл. Поэтому я решил идти к сторожке один, разглядеть бандитов в лицо и проследить их дальше. Я пошел в лес, но на несчастье встретил там Бориса. Все могло открыться, и можно было погубить Машу — ведь спасти ее мог только полный разгром банды, а сторожка это только первый шаг, да и то неудачный, они ее тогда же бросили. И вот я решил просить Бориса молчать. Промолчал ли он, или сказал тебе (думаю, что сказал, — кажется мне, что так), только не знаю, какими словами благодарить мне вас обоих за то, что вы поверили мне и дали мне время, потому что теперь, с помощью Маши, я нашел, теперь я знаю, теперь они у нас в руках.
И потом вот еще что: я знаю тебя, ты не захочешь порочить мою память и, может, попытаешься скрыть это письмо, — не делай этого. Письмо — это документ, который поможет тебе в задержании банды, и это единственное, что облегчит мою вину, что я сделал. А все-таки логово их я, кажется, нашел: есть у них в лесу, недалеко от города, землянка, там у них оружие, туда они исчезают при опасности. Прилагаю план, как ее найти, если со мной что случится. Теперь об инженере. Это тогда Маша мне сказала, что инженер приходил к Ваське нанимать его на диверсию. И, представь, я поверил, а потом, когда увидел, как дело обернулось, так понял, что это на инженеровых костях хотят войти они в царство небесное. Этого я не допущу — буду живой, выступлю на суде, а если меня не будет, читай там это мое письмо.
Не серчай, Денис Петрович, и не проклинай меня, неладно я прожил жизнь, а ведь она одна».
Так кончалось это письмо.
Стояла такая тишина, словно в зале не было ни одного человека. Все молчали просто потому, что не могли осознать происшедшего и найти к нему своего отношения.
«Зачем, зачем же он так неосторожно прочел это письмо? — думал Борис. — Оно же погубит Водовозова!» И как будто в подтверждение этих его слов поднялся Морковин.
— Вот, дорогой товарищ Берестов, — сказал он как будто даже и с грустью, — вот кому вы доверяли.
— Вы ошибаетесь, — очень серьезно ответил Берестов, — дело не в том, что я слишком ему доверял, а в том, что он мне совсем не верил. Если бы он рассказал все сразу мне, нам, товарищам, неужели же мы стали бы махать наганами и тащить его в тюрьму? Неужели бы у нас не хватило бы сил выручить его из беды, всем-то вместе? Нет, если нам не верить друг другу, лучше закрыть нашу лавочку, иначе все пойдет к черту.
— Земля перестанет вертеться, — насмешливо вставил кто-то.
— Почему же, вертеться она будет, — спокойно ответил Берестов, — только в этом не будет уже никакого смысла.
— Верьте! — крикнул Морковин. — Верьте больше! Кто, как не он, выдал бандитам эту вашу девушку.
Начался страшный шум. Поднялся Асмодей и, вытянув вперед трость, сказал своим звучным голосом:
— Перед смертью не лгут.
Все теперь были в смятении. Ткачихи беспокойно переглядывались.
И вот Левка встал. Свои связанные руки он держал перед собой.
— Может быть, вы все-таки меня спросите на сей счет? — усмехнувшись, сказал он. — Я ведь тоже к этому делу слегка причастен.
— Говори, — сказала Васена, — да смотри не врать.
— Зачем же мне врать, Василиса Степановна., — ответил Левка, — мне нет смысла. Перед смертью не лгут, как сказал представитель красного искусства. Сию тайну открыл мне заместитель начальника уголовного розыска П. М. Водовозов собственной персоной.
Это был не день, а какая-то перемежающаяся лихорадка. Все ждали, что скажет Берестов.
— Послушайте, Курковский, — сказал тот, — у вашего друга Карпова началась гангрена, — как же это вы недоглядели? А кто бросает своих друзей помирать от гангрены в сырой землянке, не может рассчитывать на их привязанность.
Все в молчании смотрели на ставшие серыми лица Левкиных парней.
— Слушай, Денис Петрович, — в сердцах сказала Васена, — мы ведь тоже люди.
— Ладно, — ответил Берестов, — давайте по порядку. Получив в свое распоряжение это письмо, мы отправились ночью по плану Водовозова к лесной землянке. План был сильно попорчен, именно его и разорвала тогда Романовская. Целые сутки напролет прочесывали мы лес и ничего не могли найти. Только на следующую ночь, то бишь сегодня ночью, и то лишь с помощью Хозяйки нашли мы ее замаскированный ход, окружили и вошли. Лежал там один бандит Люськин с простреленной и уже начавшей гнить ногой, это Водовозов в него стрелял, когда пришел сюда в последний раз. Скажу вам прямо — не очень- то приятно допрашивать человека, которого нужно немедленно везти в больницу, а не допрашивать, — однако мы его допросили. Уверенный, что все известно, раз уж мы тут, он рассказал, как было дело. А дело было так. Увидев, что советская власть победила и против нее не пойдешь, Левка — а он парень смышленый — решил выступить в качестве «спасителя отечества» и таким образом проникнуть в органы советской власти. Зная, что многие старорежимные спецы стали вредить и саботировать, он решил устроить сцену диверсии. Остальное было все так, как мы и предполагали.
Борис, сидевший рядом с Левкой, вдруг увидел Левкины руки. Скрученные веревкой, они беспомощно висели меж слегка расставленных колен. Небольшие мальчишеские руки эти были обескровлены и онемели настолько, что Борис стал шевелить собственными пальцами, как бы желая убедиться, что хотя бы в них еще сохранилась кровь. Веревка, стягивавшая запястье, немного сдвинулась, и на том месте, где она только что проходила, осталась полоса, похожая на след, какой оставляет трактор на песчаной дороге. Борис поймал себя на желании развязать эти руки, чтобы они не мучились. Он усмехнулся. Развязать эти руки?
«Будь ты проклят за то, что и пожалеть-то тебя нельзя, — думал Борис, — будь ты проклят за то, что кому-то придется тебя расстрелять».
Между тем Берестов продолжал свою речь:
— Землянка оказалась очень интересным местом. Здесь мы нашли склад оружия, документы и письма — все это было довольно искусно спрятано, а также дневник (ведь Левка парень интеллигентный, он еще и дневник вел — такую жизнь приятно в воспоминаниях пережить еще раз!), который является, пожалуй, самым интересным. Оказывается, Курковский и кое-кто из его банды не здесь, не в нашем городе начали свою работу. И что правду сказала Ведерникова, когда говорила об убитом Левкой комиссаре. Курковский был в одной из банд, действовавших на Украине, а после разгрома бандитов приехал сюда. Понятно, почему ему понадобились такие сильные средства для того, чтобы «примириться» с советской властью. Материалы, найденные в землянке, сейчас изучаются для будущего процесса Курковского.
В общем шуме, разразившемся после этих слов, уже ничего нельзя было понять. В середине зала грянуло мощное «ура». Видно было, что и судья и Берестов одновременно шевелят губами, что Васена и Екатерина Ивановна, позабыв свое судейское достоинство, обнимаются за спиной судьи, что инженер почему-то встал и протянул руки, а к нему по проходу бежит обтрепанный парнишка. «Сын, сын», — прошло по толпе. Но это был Тимофей. А Сережа? Сережа не посмел двинуться с места!
Семка Петухов сидел встрепанный и нахохленный. «Все это не имеет ко мне решительно никакого отношения», — говорил его вид.
Васена что-то кричала прокурору, и всем почему- то очень интересно было узнать, что она кричит. Шум немного поутих.
— Ухо-то, ухо-то, — кричала она, — ухо-то твое!.. Господь покарал…
(«Василиса Степановна, — час спустя говорил взволнованным низким голосом Асмодей, — уверяю вас, замечательно получится. Лучшей актрисы я не знаю. Это же прекрасная роль, будете богиню играть!» — «Осподи! — блестя глазами, отвечала Васена. — Страмотища-то какая!»)
— Ну я же вам говорила, — промолвила Софья Николаевна, поднимаясь и поправляя платье, — чего было так волноваться, скажите на милость.
Глава IV
Они стояли друг против друга в водовозовском кабинете, и Милка смотрела на него глазами блестящими и заплаканными.
— Вот и все, — сказал Борис. — Чего же ты невеселая? Ты ведь теперь герой.
— Конечно, — улыбаясь ответила Милка, — мы с Васильковым теперь герои.
И все-таки она дрожала, а по лицу ее текли слезы.
— Отчего же ты невеселая?
«Что ты, я очень веселая, — думала Милка, — только мне хочется плакать, сама не знаю почему. Наверно, потому, что с нами сегодня нет Ленки».
— Просто гора с плеч, — сказала она.
— Это всего только одна гора, — возразил Борис, — другая еще на плечах.
— Водовозов.
В эту ночь температура вдруг сдала. Еще час назад Павел Михайлович, багровый, метался в бреду, и сестра, дежурившая около него, боялась, что он вывернется из рук и брякнется на пол. Теперь он лежал неподвижный, неестественно бледный, в холодном поту, и видно было, что пошевелить пальцами он не в состоянии. Трудно было понять, пришел ли он в себя. Борису казалось, что болезнь, прикинувшись тихой, стала еще страшней. Он стоял тогда и думал, что над этой больной головой собираются грозные тучи. «И зачем только Денис Петрович прочел это несчастное письмо», — снова и снова думал он.
— Я боюсь, что он не поправится, — сказала Милка.
— Почему?
— Он хочет умереть.
— Вот ерунда. Он ни в чем не виноват.
Об этом спорил весь город. И сейчас об этом говорили в розыске.
— Как же это так?! — кричал за стеной Ряба, отвечая кому-то. — За что его — налево? Кого он предал? Он на себя вину взял, вот и всё.
— Он покрывал преступника, — ответил ему кто-то.
— Видели бы вы этого преступника, — дрожащим голосом сказал Ряба, — у вас бы душа вся перевернулась.
— Слышишь? — сказал Борис.
К ним заглянул Берестов.
— Ребята, — сказал он, — зайдите ко мне на минутку. У меня гость.
В кабинете у стола, облокотись на трость, восседал Асмодей. Теперь он, по его собственному выражению, чувствовал себя в розыске «своим в доску».
— Ростислав Петрович! — воскликнула Милка. — Вы произнесли просто изумительную речь!
— Да, все говорят, — скромно ответил Асмодей. — Вот никак не ждал такого успеха!
— А как вам понравилась вся эта история? — спросил его Берестов. — С Левкой, дорогой и девушкой?
— Совсем не понравилась, — высокомерно ответил Асмодей.
— Не понравилась? Зачем же тогда летом вы выдали эту девушку Левке?
И Борис и Милка ждали, что Асмодей отпрянет, вскочит, крикнет: «Как вы смеете!», но тот посидел с минуту молча, а потом сказал:
— Это вышло так, совершенно случайно…
— Как это было, мне известно, я спрашиваю: зачем?
— Видите ли, — академическим тоном начал Асмодей, и Борису показалось, что его разыгрывают, — что сказать вам? Разбойники существовали всегда, и должен заметить, им всегда было присуще некоторое обаяние. Что касается Левки, то я познакомился с ним тоже совершенно случайно и, надо сказать вам, нашел его не лишенным своеобразия и, может быть… правоты. В общем, все спуталось в наше время — не поймешь, кто прав, кто виноват. Но этот маленький «джентльмен удачи» был забавен. Я не без удовольствия беседовал с ним как-то. Вот почему, узнав, тоже совершенно случайно…
— Как же, — подхватил Берестов, глядя на него исподлобья внимательным взглядом, — подвал, свекла, морковь, всё, чем платили вам старухи.
— Что же, — усмехнувшись, сказал Асмодей, — вы же сами говорите — бытие определяет сознание. Так вот, мое голодное бытие определило мое сознание. Когда я узнал, что розыск готовит Левке ловушку, мне — я даже, собственно, не знаю почему — захотелось его предупредить.
— Я скажу вам — почему. Вам казалось это очень забавным, очень романтическим и пикантным. И, наверно, хотелось поразить Левку. А потом всю жизнь рассказывать эту историю потрясенным слушателям.
— Может быть, — улыбаясь ответил Асмодей, — а потом просто было интересно, чья возьмет. Конечно, если бы я знал, что они убьют девушку, я бы этого не делал, но Левка обещал мне, что они просто не выйдут на дорогу в эту ночь. А потом мне стало страшно. О, как мне было страшно! Особенно ночью на улице. Отовсюду на меня смотрели глаза. Однажды…
— Мне хотелось бы, — холодно прервал его Берестов, и Асмодей покорно замолчал, — узнать еще кое- какие подробности. Насколько я понимаю, вы не случайно оказались в поселке и не случайно встретили Левку с инженером в лесу — вы следили за Левкой так же, как всюду подглядывали за нами.
— Ну…
— И вы, конечно, знали, что инженера вел именно Левка, и никто другой. Ведь знали?
Асмодей молчал.
— Конечно, знали. Но промолчали потому, что Левка мог рассказать, как вы выдали ему нашу сотрудницу. Вам бы и вообще лучше было молчать и не выступать на суде, вы это, конечно, понимали, но упустить такой случай были не в состоянии. Не так ли?
Асмодей опять ничего не ответил.
— И часто вы бывали в погребе моего дома? — продолжал Берестов.
— Всего несколько раз. Я же вам говорю: потом мне все это стало интересно.
— Что ты на это скажешь? — спросил Берестов, обращаясь к Борису.
Странное чувство охватило Бориса — чувство полной беспомощности.
— Неужели вы не знали, — с трудом проговорил он, — что они убивают людей?
— Не трудись, Боря, для него слова не имеют цены. Он знает, что на словах можно изобразить Левку эдаким Робин Гудом, а белогвардейщину — спасителями отечества и носителями культуры. Вот что, господин Коломийцев, вы все понимаете, просто у вас нет души. Уходите.
— Пойдем, дед, — мрачно сказал Ряба, — я всегда говорил, что ты жук.
— Постойте, — надменно возразил Асмодей, — прежде чем меня уведут, я хочу сказать несколько слов. У меня здесь, в городе, есть ученица, моя духовная дочь. Я не знаю, понятно ли вам, что это такое, но я прошу вас, когда меня не будет… здесь, пошлите ее в Москву, из нее выйдет великая актриса.
— Хорошо же вы берегли ее, вашу духовную дочь, — сказал Берестов, — Мурку, великую актрису.
На это Асмодей ничего не сказал. Он пожевал бескровными губами, повернулся и пошел.
— Это целая история, — говорил им потом Берестов. — Помнишь, Борис, ты рассказывал мне о старухах и проповедях. Я тогда большого значения этому не придал. Но как-то раз в сумерках я встретил его во дворе Рябиного дома с сумкой в руках. Сумка была полна грязной моркови, и вообще вид у великолепного Асмодея был неважный. Мы столкнулись недалеко от ворот, и пройти незамеченным он не мог, но, по-видимому, очень бы хотел. Сперва я подумал — это потому, что он, привыкший носить только серебряную палку, стыдится тащить грязную морковь. Но потом я стал раздумывать над этим делом. Помнишь, какое положение было у нас тогда: банда орудует безнаказанно, мы ничего не знаем, не можем и не умеем. В таких условиях Асмодеем с его морковью, казалось, заниматься не было смысла. Однако я уже знал, что в нашем деле неважное очень просто становится важным. Асмодей был взят на заметку — оказалось, что он, совсем как сельский пастух, обходит поочередно своих клиенток, получая с каждой полагающуюся ему мзду — плату за проповеди. А Клавдия Степановна, тайком от Рябы, конечно, бедняга, была одной из его верных поклонниц. Асмодей регулярно бывал в погребе Рябиного дома. Вот видишь, как все получается. В хибаре Анны Федоровны мы чувствовали себя как в осажденной крепости, всё проверяли и выстукивали. А опасность пришла, можно сказать, в родном доме, и притом самым обыденным путем. В грязном подвале сидел любопытный и болтливый старик, которому вздумалось изображать из себя частного детектива. И казалось ему при этом, что он всех держит в руках, что он владеет великими, ему одному открытыми тайнами и что вообще он владыка человечества. И при всем его уме и остроумии ему и в голову не приходило, что он, старый дуралей, играет вещами, которыми играть не следует.
Помнишь, я просил вас с Сережей погромче разговаривать. Я проверял, слышно ли что-нибудь в погребе из моей комнаты. Каждое слово. Я стал присматриваться к этому человеку: что за характер? И увидел, что он пустоцвет и пустобрех, что он не знает цены ни слову, ни делу, что жизнь — чужая, разумеется, — для него забава, что он, может быть, и не зол, но легкомыслен до крайности. Я не сомневался, что встреть он Левку, он непременно расскажет ему все, что знает, просто так, бескорыстно, ради красного словца и пикантности положения. Мне казалось, что я его понял. Важно было выяснить, знаком ли он с Левкой, — нам это удалось. И наконец Асмодей стал ясен до конца. Увы.
Дожди уже кончились, земля подсохла, выглянуло солнце, оказавшееся по-осеннему блистательным, и осветило уже совсем помятую и потрепанную природу. Деревья как-то незаметно потеряли листья, а трава побурела от сырости и свалялась, как собачья шерсть. И только тяжелые, как каменные бусы, гроздья рябины глянцево горели на солнце.
Водовозова перевезли на квартиру к Африкану Ивановичу. Здесь было тихо. Стояли бархатные разваливающиеся кресла, с потолка свешивалась лампа с дробью, на стене висел ковер, где на редкость спокойно и неподвижно скакал усатый всадник. Здесь было не только тихо, здесь было глухо.
— Вчера был на очной ставке Левки и Левкиной мамы, — рассказывал Берестов. — Речь шла о той записке, которая была написана мамой и которую тогда добыл Ряба. Представьте наше изумление, когда мама залилась слезами, хлюпала, сморкалась и от записки отперлась — самое глупое, что только можно было придумать в ее положении. Она, кажется, готова была отпереться от знакомства с родным сыном. Ох и смотрел же на нее Левка — ужасным взглядом; А я стоял и думал: «Вот она, твоя ясновидящая и потусторонняя мама, обыкновенная баба-мещанка, да к тому же еще и дура. Она была такая храбрая, пока вы резали детей и бабушек, а как только дело дошло до нее, она взвыла своим натуральным голосом».
Он расположился в старом кресле Африкана Ивановича. Борис стоял, прислонясь к дверному косяку. Водовозов лежал в постели.
— Лежишь? — спросил Денис Петрович. — А мне и поболеть не дал. Хватит симулировать, пора, друг мой, и ответ держать. Ну куда тебя понесло? Да еще в лес. Да еще ночью.
Водовозов улыбнулся своей мимолетной улыбкой.
На бледном лице его были видны только глаза да темно обведенные коричневые губы. Вкруг глаз залегли такие глубокие синие тени, что казалось, сами глаза его из черных стали синими, и было непонятно, видит ли он что-нибудь сквозь эти синие круги, «Икона, — улыбаясь про себя, подумал Борис, — святой Феофилакт». Рядом с этим нежным лицом странно шершавым и даже жарким, как растрескавшаяся земля, выглядело лицо Дениса Петровича.
«Вот мы и опять вместе», — думал Борис.
Он стоял и играл своим револьвером. Ему нравилось ощущать на ладони тяжесть металла, ему нравилось чувствовать себя равным в этом мужском союзе.
— Бедный мой «смит», — сказал он, — так и не удалось ему ни разу выстрелить.
— Ну и что же, — спокойно ответил Берестов, — эта штука очень мало что может.
— Положим, — отозвался Водовозов.
— Ну убить, — продолжал Денис Петрович, — конечно, да это невелика честь.
— Но как же: «Тише, товарищи, ваше слово, товарищ маузер», — сказал Борис.
— Я тебе прямо скажу, я предпочел бы маузером гвозди заколачивать.
Водовозов повернул к нему лицо.
— Сколько раз ты в человека стрелял? — спросил он. — И сколько раз будешь?
— Я стрелял на войне. Я стрелял, защищая. И, кстати, это не доставляло мне удовольствия. А уж воспевать это дело я бы и совсем не стал. Но ты мне все-таки скажи, какого черта понесло тебя в лес?
Водовозов откинулся на подушку и завел руки под голову. Он глядел в потолок и вспоминал.
Крупные капли косо летели в лицо, глухо били в кожанку, под сапогами расхлестывалась грязь. Он шел тогда с единственной целью — добраться до бандитского гнезда. Любой ценой. Самому. Пожалуй, была еще одна мысль: чем скорее все это кончится, тем лучше. Впрочем, где-то в глубине, быть может, была и еще одна — все-таки остаться в живых.
— Кто тебя?
— Не знаю. Я нарвался на них неожиданно в темноте. Стрелял я в Карпова, это я видел, а кто ударил в спину — не знаю.
Водовозов смотрел в окно. Оно было еще открыто, из сада пахло грецким орехом — это пахли палые и пригретые солнцем листья, запах осени. День был ясный, полный того осеннего солнечного блеска, в котором есть что-то предательское, — должно быть, потому, что понемногу уже тянет слоями холодный воздух и нет надежного тепла.
— Полезная в общем была операция, — насмешливо сказал Денис Петрович.
Павел Михайлович повернул голову. Берестов сидел и курил. Потом он нагнулся и посмотрел на ноги. Огромные, грубо покоробившиеся и разбитые сапоги его стояли на ковре. В трещины и впадины их кожи намертво въелась каменная грязь. Денис Петрович переставил сперва одну ногу, потом другую, и по лицу его было видно, что ему очень бы не хотелось наследить. Водовозов смотрел на него с улыбкой.
— Ты когда догадался-то? — спросил он.
Берестов потянулся к пепельнице — бронзовой ладони в бронзовом кружевном манжете — и стряхнул пепел.
— Если бы не Борис, — сказал он, — я бы и вовсе не догадался.
— При чем же здесь я? — вставил Борис.
— Ты рассказал мне про девочку, которая тащит за собою смерть. Помнишь?
Еще бы не помнить! Борис потом видел Машу раза два в клубе, в самые горячие дни, когда у него не было и минуты свободного времени. Девушка проходила мимо него очень быстро, не поднимая глаз, ему казалось, что она жалеет об их разговоре и хотела бы его забыть.
— Как же ты все-таки догадался?
— Видишь ли, Пашка, понять, что дело в женщине, было нетрудно. А вот какую роль она здесь играет и в чем тут суть, над этим пришлось поломать голову. А потом я сообразил…
— Что Водовозов сдрейфил.
— Знаешь, друг мой, бывают случаи, когда самый дорогой человек как раз и не может помочь… как бы тебе сказать, он стоит слишком близко для этого. Тебе казалось, что ее нельзя взять и увезти, и в самом деле, с тобою бы она не пошла, так как именно за тебя и боялась. А вот стоило появиться мне, человеку ей чужому, и я показался ей Георгием-Победоносцем. Встретиться с ней помог мне Ряба. Я сказал ей: «Все будет в порядке, сидите дома, никуда не выходите и не пугайтесь, когда в ваш дом придут с облавой и арестуют именно вас». Это было в день, когда ты пропал. Я понял, что нельзя медлить. Она сидела дома и ждала. И хотя я послал за нею Рябу, который, предъявляя ордер, наверно, прижимал руку к сердцу и улыбался, она от страха не смогла сказать, как ее зовут.
Водовозов по-прежнему смотрел в потолок.
— Бедняга, — сказал он.
— А кто же еще, — ответил Денис Петрович.
— Я думал было выпустить ее на суд, — продолжал Берестов, — но она была в таком состоянии, что об этом не могло быть и речи. Но это еще не все. Оказывается, она решила идти ко мне и все рассказать, а так как была уверена, что я непременно всех тотчас расстреляю, то приготовилась к смерти. В этом уж, Пашенька, твоя заслуга. Это ты ей так меня расписал. Ну да ладно. Правда, какая-то вера в меня у нее все-таки была, она надеялась, что, рассказав мне правду, тем самым спасет тебя. Зато уж в собственной смерти была уверена. А когда рассказывала, твердила через каждые пять слов: «Он ничего не знал. Все я, одна только я». И, чтобы я лучше понял, добавила: «Я офицерская дочь, и я это сделала».
— Вот бедняга, — повторил Водовозов.
— Когда вы читали на суде это письмо, — сказал Борис, — мне казалось, что вы делаете очень опасный шаг.
— Еще бы, — спокойно ответил Денис Петрович, — но я рассуждал так: во-первых, другого выхода у меня практически нет. Во-вторых, землянку нашел, в конце концов, Павел, без него и без Маши это дело, может быть, и вовсе не было бы распутано. Суд не мог этого не учесть.
— А Морковин? — спросил Борис.
— Да, это опасность, — так же невозмутимо ответил Денис Петрович, — это всегда опасность. Сейчас он, конечно, будет тише воды, ниже травы — некоторое время, но Морковин есть Морковин.
— Это вроде профвредности, — сказал Борис.
— Нет, — медленно сказал Водовозов, — я наше дело люблю. Я люблю, когда идешь ночью по чердаку, темень, и ты знаешь, что в ней может быть смерть. Идешь весь собранный, сам себя чувствуешь! Как в мороз. Хорошо!
— А, заговорил, — откликнулся Денис Петрович. — А помнишь конные атаки?
— Еще бы мне не помнить! Ветер! Конь под тобой… И ты в лавине, а впереди…
— Это впереди. А позади мясо наворочено и потроха.
— Денис Петрович, — приподнимаясь на локте, сказал Водовозов, — ты, часом, не в монахи ли собрался?
— Нет, — улыбаясь ответил Берестов, — просто я постарше. И поумней.
— Да как же нам было иначе?
— Да никак, конечно. Все было правильно. Но кроме «кони, ура, к победе!» хорошо бы помнить и о том, как выглядит поле боя после атаки. Помнишь, Борис, мы с тобою видели, как Кукушкина вела по улице спекулянтов. Вела и глядела по сторонам. И упивалась властью. Наше дело и необходимо, и благородно по целям, его нужно любить, но…
— Что «но»?
— Не следует слишком входить во вкус.
— Сложное положение, — усмехнувшись, сказал Водовозов.
— А ты думал, — ответил Берестов.
«Вот все и отошло, — говорил себе Борис, — вот все и отодвинулось куда-то. Осталась одна могила, заросшая косматой травой. Она-то на всю жизнь».
Они с Берестовым возвращались в розыск.
— Знаешь, — сказал Денис Петрович, — недавно один парень из губкома рассказал мне о ней целую историю. Он знал Леночку по фронту. Наши войска входили в один город, из которого белые уже драпанули, а госпиталь вывезти не поспели. Вернее, осталось в нем несколько солдат и два-три офицера. А Ленка была тогда при санитарном отряде, они прибыли в город первыми, чтобы подготовить место для лазарета. И вот узнаёт она, что какие-то субчики в папахах, называющие себя красноармейцами, собираются раненых кончать. Кажется, это были дезертиры, которые, в ожидании наших частей, собирались таким манером перед нами выслужиться. Примите, мол, нас в объятья, мы сами белых прикончили. Темное, пьяное зверье. Всякое бывало. А в лазарете, кроме одного врача и трех нянек, никого. И Ленка с ними — не то комиссар, не то квартирмейстер, не то охрана. Что делать?
«Ну, что же, запрет снят, — думал Борис, — теперь мы хоть поговорить о ней можем».
— И что же она удумала? — продолжал Берестов. — Собрала комсомольцев, прикинули они свои ресурсы, подсчитали и решили организовать оборону госпиталя. Все честь по чести, поставили в окно пулемет, расположились во дворе, а как те сунулись — вдарили, сперва поверх голов, а потом… Один из раненых офицеров, весь в бинтах, выполз на выстрелы, долго ничего не мог понять, а как увидел, что ребята госпиталь защищают, закричал своим: «Господа, это наши». А Ленка ему так спокойненько, так ровненько, — помнишь, как она умела, словно бы между делом: «Ваши? Нет, почему вы так подумали? Вон они — ваши — за кровью сюда лезут». Ты не думай, что ее так уж совсем больше и на свете нет.
«Память, только память, — думал Борис, — как мне этого мало!»
— Между прочим, — сказал Денис Петрович, — в Колычевском уезде стало беспокойно. Завтра на рассвете мы с тобой выезжаем туда.
Милка сидела на крыльце дома, где жил Берестов, она подставляла то ту, то другую щеку лучам осеннего солнца, и вид у нее был самый беспечный, но это был только вид. Она ждала Дохтурова.
Чтобы не слышать, как ноет сердце, она старалась себя развлекать. Рассматривала прохожих. Вот на улице рядышком идут Ряба с Нюркой и о чем-то оживленно разговаривают. Милка долго смотрела им вслед. Они теперь всегда ходят вместе, и Нюрка, как все заметили, им порядком командует и помыкает.
Подошел Сережа и сел рядом. Они часто виделись последнее время и почему-то часто ссорились. Так и теперь — некоторое время они беседовали мирно, но потом неожиданно поругались.
— Я бы уж не стал перед ними трястись и бегать на задних лапках! — запальчиво сказал Сережа.
— «Я бы уж, я бы уж», — насмешливо ответила Милка.
Это почему-то страшно возмутило Сережу.
— А что ты сделала? Ну скажи, что хорошего ты сделала? Вышла на суд: «Ах, судьи, я его любила!» Да?
Это уже взорвало Милку:
— Посмотрела бы я, как бы ты выступил, если бы тебе на улице каждый день во всех темных углах говорили, что зарежут. Если бы матери твоей грозили. Так-то все вы храбрые… Я! Я!.. Да ты и на суде-то не был, тебя по малолетству и на суд-то не пустили.
— Это подло! — закричал Сережа. — Укорять человека его физическими недостатками! Был я на суде!
Оба они вскочили.
— Не был.
— Был!
Покрасневшие, разъяренные, они не заметили, как кто-то вошел во двор и остановился, наблюдая их ссору.
Это был Дохтуров, возвращавшийся из тюрьмы. Он прислонился плечом к стене и стал ждать, что будет дальше.
— Был я на суде! — кричал Сережа. — И слышал все, что ты пищала. Много они дали, твои показания…
— Зато твои показания… — ехидно вставила Милка.
Сережа замер, потрясенный. Такого он не ждал. Слезами бессильного бешенства наполнились его глаза, и он, казалось, готов был закричать или броситься на землю, а Милка смотрела на него со страхом и раскаянием.
«Вы счастливы сейчас, — думал Дохтуров, — пока заняты своими ссорами. Но через минуту вы увидите меня, и придет конец вашей безмятежности. Жизнь, тяжелая, жестокая, с предательством и обманом, напомнит вам о себе. Вы станете вспоминать все ошибки свои и прегрешения, все, что довелось пережить нам в последние недели. Но ничего, пройдет время, все расставится по местам, и мы будем с удивлением вспоминать эту странную историю, когда каждого из нас заставили играть чью-то чужую роль».
Его уже заметили. Сережа с ужасом смотрел на него. Дохтуров оттолкнулся плечом от стены и пошел им навстречу.
В кабинете Берестова маялся милиционер Васильков.
— Денис Петрович, — жалобно говорил он, — Христом-богом тебя молю, помоги мне. Ну не могу я эту работу выполнять — не могу.
— Но ведь ты же теперь герой, — смеясь отвечал Берестов.
— Да, я теперь герой, — серьезно сказал Васильков, — я действительно совершил замечательный поступок. Я бросился на вооруженного бандита и ударил его головой в живот. Но есть не только день, товарищ Берестов, но и ночь, и вот когда я ночью вспоминаю, как он на меня бежит… Денис Петрович, вот овощной ларек сейчас освобождается — как хорошо! Ведь ты же сам знаешь, нам бросили лозунг — «учитесь торговать!».
— Ну хорошо, — улыбаясь сказал Берестов, — хорошо, Иван Кузьмич. Я поговорю. Наша работа действительно не для нервных.
Анна Федоровна осторожно заглянула в Нюркин ларек.
— Принимаете гостей? — спросила она любезно и игриво.
Никто ей не ответил. Нюрки не было в ларьке.
Она стояла на углу и прощалась с парнем из розыска. Долго прощалась, минут пятнадцать.
— А, Анна Федоровна, заходи, — сказала она, пропуская гостью вперед.
— Чтой-то как пусто у вас, — разочарованно сказала Анна Федоровна, — и товару вовсе нет.
— Закрываю свою торговлю, — ответила Нюрка. — Отторговалась.
— Это почему же?
— На другую работу перехожу.
Нюрка говорила все это с совершенно равнодушным видом, однако — Анну Федоровну не обманешь! — в судьбе ее происходили необыкновенные перемены. Анна Федоровна была заинтригована безмерно и огляделась в поисках кадки с огурцами, на которую можно было бы сесть, чтобы с комфортом послушать новости. Но кадки в ларьке уже не было — ни кадки, ни одного ящика не стояло уже на земляном полу. Пришлось вести переговоры стоя.
— На какую же это работу?
— Ты мне лучше скажи, теть Нюш, — зловеще молвила Нюрка, — где сейчас твой дружок Левка?
— Что я ему, сторож?
Однако голос Анны Федоровны дрогнул.
— Зачем сторож — друг и первый помощник.
— Это когда же я ему помогала?
— А что — не помогала? Ведь знала, все знала от Киры, подружки своей. Еще только приехал он к нам, а ты уже все знала, и кто он, и что, и где остановился. Одно бы твое слово, может, могло бы человека спасти. Как же не помогала?
— А вы знаете, Нюра, Титов-то, оказывается, нанял бандитов, чтобы они кооперацию ограбили. Самого-то его взяли, а чайную его — подумайте, какое счастье! — передали кооперации.
— Новости! — презрительно фыркнула Нюрка.
— Что это, Нюра, я вас не узнаю?
— А, не узнаёшь? Плохо, значит, знала. Всё молчите, всё в молчанку играете! Всё секретничаете! У вас хоть на глазах человека зарежь — всё молчать будете. Что тебе, что Пашке этой поселковой — всем одна цена. А меня ты бойся, я теперь в розыске работать буду.
— Уборщицей?
— Уборщицей! — фыркнула Нюрка.
— Сыщиком, — прошептала Анна Федоровна.
Нюрка важно кивнула головой.
Анна Федоровна опять поискала, на что бы сесть, но опять, конечно, не нашла.
— Пошли, — бросила Нюрка, — я запирать буду.
Они вышли на улицу. Здесь Нюрка посмотрела на старуху долгим взглядом.
— Ладно уж, иди, — сказала она с усмешкой, — в потребилке сейчас постное масло давать будут.
Анна Федоровна хотела сказать еще что-то, видно умоляющее, но при одном упоминании о постном масле какая-то невидимая сила стала уносить ее прочь, как уносит ветер клочок ядовитого городского тумана.
А Нюрка весело поглядела ей вслед и беспечно направилась по улице, сильно раскачиваясь на ходу. Она шла совсем не в розыск. Она шла мыть полы в свою кооперативную чайную.
В это время в поселке Софья Николаевна, встретив дядю Сеню, остановилась, чтобы спросить у него, по какому праву большевики отняли у людей землю. А дядя Сеня смотрел на кончик ее носа и думал о невинно вырванных зубах.
В доме у тети Паши на стуле сидела новая кошка — огромный ком черной шелковистой шерсти с прозрачными глазами. Однако всякому сразу стало бы ясно, что это обыкновенная кошка, трусливая и равнодушная, что никогда не заменить ей той, что таскала мышей в дом и надавала корове по морде, той, чье имя носил известный бандит. Видно, кошки и те не повторяются.
Розалия, как всегда, паслась во дворе, в то время как хозяин ее в домашних туфлях сидел на диване, просматривая одни и те же номера «Солнца России» за 1913 год.
— А, ч-ч-черт! — говорил он. — Всех порядочных парней извели, теперь и выпить не с кем.
— Отчаянный, отчаянный, — отвечала тетя Паша, направляя на него фосфорический свет своих зеленых глаз.



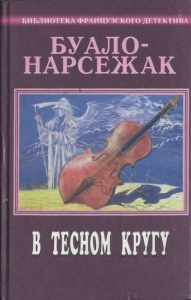

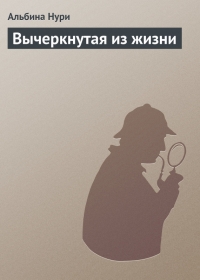




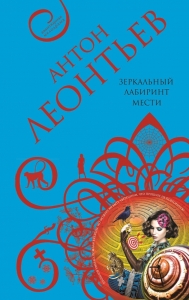
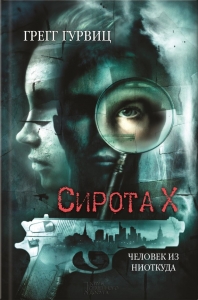

Комментарии к книге «Болотные огни», Ольга Георгиевна Чайковская
Всего 0 комментариев