Три судьбы Елена Богатырева
© Елена Богатырева, 2017
ISBN 978-5-4485-3812-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
© Елена Богатырева
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельца авторских прав.
Сайт автора [битая ссылка] /
Пролог
«Как будто это ложь, а это труд,
Как будто это жизнь, а это блуд,
Как будто это грязь, а это кровь…»
И. Бродский
Сибирь всегда была сама себе царством. Подумаешь, Москва! В Сибири на золотых приисках мошна и потолще водилась, чем у москвичей. А что от царей вдали, так ведь это только к лучшему. От власти подале – здоровее будешь. Сюда на ссылку справляли. Оттуда, из Москвы. Чахли они на сибирской земле. Не климат. А кто в этой «ссылке» родился, те понять никак не могли – чего люди чахнут.
Вот говорят – Ермак. А что Ермак? Пришел Ермак, ушел Ермак, а Сибирь все равно осталась сама по себе. И с Ермаком кто пришел, остались многие, осели, детей родили. Трудно жили, с местными на ножах поначалу. Потом потише стало. И отец Федора – из них был.
Сколько дорог Федор верных знал сквозь болото, в дремучем самом лесу никогда бы не заблудился, сколько раз мужиков своих уводил по нужным тропкам от врага, а вот тропки, по которой счастье свое находят, так и не угадал. Хотя как женился, поначалу ему казалось, что и здесь – удача полная, что и здесь угадал он, как всегда. Жену взял за красоту, за косу длинную, за брови собольи, за фигуру статную. И прожил несколько месяцев в угаре этой красоты и мужской своей к ней тяги. А потом – как пелена спала. И увидел он, что жена-то его не по любви замуж пошла, а только желая в богатстве жить, в собольи шубы кутаться. И хитрости в ней – тьма, и коварства – прорва. Но самое главное – жадности много, отчего вся его ласка к ней и кончилась. Претила ему жадность больше всего на свете.
Перестал Федор к жене своей в спальню наведываться, а ей и так хорошо. К тому же понесла она от его первой же бурной страсти и в положенный срок разродилась девочкой. Плюнул Федор и разделил дом на две половины, строгую границу провел и заказал жене ее переступать. Сам на охоте неделями-месяцами пропадал, на медведя с ножом ходил, коней загонял в летнюю пору. Мрачный стал, как бес, злой, как пес цепной. И все это в себе держит. Некуда выплеснуть. Нечем утолить.
Так и жил, пока однажды не нарушили его границу. Прибежала с другой половины со смехом девчонка и на пол бухнулась, запутавшись в длинном сарафане. Да не заплакала, а засмеялась пуще прежнего. И Федор засмеялся впервые за последние годы, до того потешно было смотреть на нее. Подошел, поднял, поставил на ноги.
– Кто такая? – нахмурил притворно брови.
– Настенька, – ответила девочка и потянула ручки к его бороде.
Так и познакомился Федор со своей дочкой. И вслед – со своим счастьем. Прибежала за девочкой с жениной половины кормилица Акулина, увидела Федора и залилась краской. Да и у него сердце огрубевшее вдруг встрепенулось. С этого и началась другая совсем жизнь.
Федор был человеком не то что бы не практичным, но уж больно порывистым. И говорил и думал цветисто, с воодушевлением. Сердце у него было большое, чувства много умещалось. И не каждый бы выдержал, вылей он все это на одного-то разом. А тут сразу две женщины вошли в его сердце, чувства разделили.
Пошла другая жизнь. Тайная, сладкая. Никто про Акулину не прознал. Прознали бы – со свету бы ее сжили. А так, вроде все тихо – приводит дочурку к батюшке, а вечером назад, через границу, да с подарками матушке: то золотой перстень принесет от мужа, то лисьи шкуры в охапке притащит, то мешочек с серебром. Жене и довольно того. И так долгие годы…
Дочка росла красавицей. И отец в ней души не чаял. Возьмет на руки и все рассказывает ей, какая она особенная да распрекрасная: «Тебя, Настя, ждет в жизни чудо необыкновенное», – обещал.
Настя выросла от этих отцовских воркований действительно на всех непохожей. В пятнадцать лет стала такой красавицей, какой второй несыщешь. Сваты наведывались уже к отцу не раз. Да разве отдаст он дочь за соседа? Тю! Разве отдаст хотя бы и ровне? Нет, его дочери удел княжеский на роду написан. А может – и царский. «Тебя чудо дивное ждет, – все повторял. – Ты на наших парней не смотри». А она и не смотрела. Она тоже чуда дивного ждала. Ей ведь отец его сызмальства обещал. Вот-вот уже случится.
Времена менялись. В Москве Никишка лютовал. Сказывали, сам царь-батюшка ему в ноги кланялся. Срам какой! А как взялся Никон за святыни отцовские, так и повалили ссыльные в Сибирь. Слова новые появились: «староверы», «раскольники». Говорят, самого Аввакума сюда сослали. Да только в Сибири двуперстное знамение так и не вытравили. Соловки все к столице ближе. Поэтому восемь лет их в осаде и держали. А Сибирь-матушку в осаду не возьмешь. Она же бескрайняя. Никакого войска не хватит. Здесь не только в скитах старую веру берегли. Здесь и в самых людных церквах двумя перстами лоб осеняли.
Никто в стороне не остался от раскола. Федор, несмотря на то что отец его москвич коренной, тоже к старым обрядам больше склонялся. Только у него с верой отношения были сложные. Бога он с Акулиной не мешал. Решил – пусть адское пекло, но потом, после счастья земного, до дна испитого. А на земле устраивать себе ад не желал.
Жена же Федора стала ратовать за веру старую, чистую. Да такое рвение в ней вдруг проснулось, все по скитам ездила: молилась, праздники справляла, продукты туда возила, даже золотишка не жалела. Неделю в одном ските проживет, неделю – в другом. Но в монахини не смогла, не решилась. Особенно когда пожары по тайге пошли. То с одной стороны, то с другой приносила людская молва весть о том, что староверы ссыльные запирались в избу всем скопом вместе со стариками и с детишками малыми и поджигали себя сами. Летом, особенно в засуху, в таких местах тайга еще долго горела потом. Приносило к их поселению дым едкий, страшный.
С дочерью мать почти не разговаривала и не виделась. Замуж бы выдать скорее, чего отец ждет? Смешно. Верно, самого цесаревича. Да не приедет никакой цесаревич в их земли суровые. Разве что какой ссыльный боярин объявится. Да и девка их не подарок – высоченная, кость широкая, нога – что у мужика. Сильная, как мужик, да и повадки отцовские, дурной характер сказывается. На охоту он ее всегда брал с собой, так она теперь по тайге и без него бродит. Дурочкой выросла, вот мать и чуралась.
А у дочки и вправду странностей – хоть отбавляй. Выйдет на берег крутой, сядет там, подобрав ноги, и смотрит часами, как вода бежит в реке. И не двигается. Разве девки такие у соседей?
Все ждет чего-то. Чуда дивного. Юродивая – одно слово. Хоть и лицом – чистый ангел…
Пришла Настя на утес как-то утром, посмотреть на солнышко восходящее. То ли томление какое ее гнало, то ли предчувствие. Только не успела она подняться на кручу, глядь, а у самого обрыва великан стоит, а вокруг него – сияние. Замерла Настя. Дышать перестала. Не от страха – от восторга непонятного. Стоит человек, а позади него встает солнце огромное и краешек его над головой, словно нимб. Только вот лица не видно. Кто же это? Таких здоровенных ребят в их округе и не знала она никого. Подошла без боязни, весело, в лицо взглянула. А человек – удивительный. Глаза черные, а разрез необыкновенный. Не татарский даже. Тех она хорошо знала. Лицо золотое. Никогда она таких людей не видела. И вдруг поняла – вот оно, ее диво дивное. Он с ней – говорить, а она смеется, ничегошеньки не понимает. Смешной у него язык, как птица щебечет. Дивный человек, ни на кого из местных не похож.
Заглянула в его глаза Настенька – и пропала. Об отце и матери позабыла, ушла с человеком чудесным. Отец ее года два искал. Всех на ноги поднял, все дорожки знакомые и незнакомые объехал. Говорили ему – зверь унес. А он не верил. «Не для моей дочки участь», – все твердил. Верил, что объявится его распрекрасная Настасья. Но через два года, видать, и он веру всякую потерял. А через три объявилась Настенька родителям. Да не одна, а с ребеночком. Девчушку двухлетнюю привела за собой.
Мать как внучку увидала, сплюнула и ну креститься: раз перекрестилась, другой, третий хотела, да не смогла. Повисла рука ее в воздухе, а внучка смотрит на нее и смеется. Да и отец Настю встретил неласково. Обида вдруг у него вылезла: почему родителю не объявилась? Почему убежала? А тут еще Акулина ему шепчет на ухо: «Ты посмотри, как детеныш этот женушку твою усмирил. Где ж это видано, чтобы хозяйка твоя вот так без крику удалилась? Ведовство…» Пригляделся Федор к девочке: волосы черные по плечам растрепались из косы, глаза раскосые, а кожа золотом светится. Что за чудеса?
А Настя к отцу на грудь бросилась, стала рассказывать:
– Встретила я свое диво дивное. Как во сне живу, не сказать. Это дочка моя Олюшка…
Как ни любил отец дочку свою единственную, как ни спорил и ни ссорился с Богом еженощно, но возроптало его сердце. Басурман увел дочку его, да не здешний какой-то, не кучуевский. Сарацин поганый. Силой держит – не иначе. Иначе давно бы прибежала к своему батюшке. Изничтожить проклятую гадину. Истребить!
А дочка все сказки рассказывает. Будто сарацин тот из знатного китайского княжеского роду-племени. Что пошел он по земле, потому что услышал зов ее. Она звала, а он шел к ней через горы и реки, по чужой земле. Она звала, а он закрывал глаза и видел ее как наяву, как отражение в озерной глади. Сказки. Может, он и вправду колдун какой, раз она всей этой нечисти верит и радуется.
К вечеру дочка прощаться стала, девчурка к ней прижалась полусонная.
– Да куда же ты пойдешь? Поздно уже! Оставайся, – просит отец.
– За меня не волнуйся. – И во двор выскочила.
А отец слезу напускную утер, дверь запер, а сам через заднее крыльцо – и за ней. Он давно приказал оседлать коня самого быстрого да выносливого. Сел и вслед за пешей своей дочерью медленным шагом едет. Отошла дочка от отцовского дома с полверсты, а тут как из-под земли человек на коне вынырнул. Огромный такой, плечи – как у богатыря. Подхватил Настю с Олюшкой и поскакал. Отец поодаль ехал, дорогу запоминал, прикидывал в уме, куда они путь держат. Через четыре часа остановились, показалась изба. Да только избой ее назвать никак невозможно. Чудная. Хоть и из дерева, а таких здесь никто никогда не строил.
Стали они входить в дом, а сарацин-то на пороге обернулся и прямо в глаза Федору посмотрел. У Федора в тот же час память отшибло: ничего не помнил, как домой добрался, как с коня сошел. Только когда жена его толкать да трясти начала, он и очнулся. Стал вспоминать, что и как, да так и охнул – точно ведовство. И впервые за долгие годы стал он слушать свою жену да головой кивать. А она не столько говорила, сколько крестилась да на иконы показывала. В эту ночь замышляли они спасение дочери, только невдомек им было, что никакое спасение ей не нужно, что жизни своей она не нарадуется, на своего суженого не наглядится…
Федор долго потом не мог прийти в себя. Ничего понять не мог. Говорил как-то бессвязно, плакать начинал, как ребенок. Жена все взяла в свои руки. Акулину прогнали со двора. А сама дни напролет все сидела около мужа да то шепотом, то криком, то со смешком, то с патокой в голосе сказывала о том, какой бес нынче всех попутал. Страшное говорила. Как люди все с ума посходили. Как веру святую предали.
– Антихрист грядет! Прямо из самой Москвы! А уж у нас здесь есть ему где разгуляться. Сорок мучеников на той неделе за нас смерть приняли. За чистоту веры нашей. Как же ты хочешь от мировой напасти в стороне остаться?
Федор мало что из ее речей понимал. Даже и представить себе не мог, что его жена такая говорунья. Слов-то связных от нее никогда не слыхивал. А тут – как по маслу ведет, как по писаному говорит.
Значит, правда в ее словах. Значит, нужно истребить ведьмака-злодея.
– И отродье его.
– И отродье.
– А Настьку – в скиты. Отмолит грех свой, Бог даст.
– Отмолит.
Через неделю Федор, полыхая праведным гневом, с мужиками местными двинулся искать дочку. Долго плутали, но все-таки отыскали то, зачем пришли. Отыскали и стали ждать. Олюшка из дома выбегала разика два. Настя раз показалась. Воду черпала из бадьи дождевую. А под вечер и сам ведьмак воротился. Посмотрел на него Федор, когда солнышком закатным его осветило, и последние сомнения его отпали. Никогда таких людей не видел. Громадный, как скала. Желтый, как масло. В Сибири люди всякие водятся, но таких отродясь не встречал.
А дальше, как выскочила из дома Настя за какой-то надобностью, так схватили ее под руки два мужика. А другие к дверям и к окнам кинулись. За Настасьей-то девочка выбежала. Стоит и глазенками хлопает. Мужики двери и окна заколачивают, ружья готовят, поджигают. Настя кричит не своим голосом, да не по-русски, а на языке неслыханном, поганом. Ведьмак из дома тоже кричать стал. В дверь колотится. А огонь знает свое дело, побежал по стенам, на крышу забрался. Полыхнуло пламя жаркое.
Увидав это, Настя рухнула как подкошенная, а Федор про девчонку вспомнил, стал искать ее среди людей. Стоит она в самом центре, а мужики мимо нее бегают, словно не видят, но и не натыкаются на нее, однако. Глянула она на Федора, у него сердце упало. Отродье. Глаза как у отца – раскосые, разве что голубые, Настины. Ведьма. Хоть и малолетняя, а все одно. Подошел к ней Федор решительно, посмотрел в последний раз перед тем, как в пекло кинуть. А она глаз с него не спускает…
Снял Федор кафтан, накинул на девочку.
– Застынешь, чай не лето, – сказал почти ласково.
Мужики к нему бегут, хотят девочку оттащить, а Федор встал грудью.
– Не тронь внучку. Башку расшибу.
Они и отстали.
Из горящего дома больше не доносились ни крики, ни удары. Только пламя полыхало жарко. Олюшка плакать перестала, на огонь засмотрелась. Сначала искры пошли от пламени во все стороны, мужики подальше разбежались. Потом стало пламя спадать, хотя половины еще дома не выгорело. Замерли все как вкопанные, страх одолел. А пламя станцевало разок-другой на последней дощечке, вспыхнуло напоследок белым светом и пропало. Мужики стоят крестятся, кто-то от страха начал в воздух палить. Все ждут, что сейчас ведьмак покажется живехонький.
Но никто не появился. Самый смелый полез через обгоревшие доски в дом заглянуть. И кричит радостно:
– Сгорел! Весь сгорел! Обуглился!
Только прокричал – и кубарем скатился со стенки. А вслед за ним, весь черный, окровавленный, полез сам дьявол. Ох, что тут сделалось! Даже Федор оцепенел от испуга. Кто кричит, кто бежит, кто палит… А Федор только крепче Олюшкину ручку сжимает.
Черт-сатана на них надвигается и как будто говорить что-то хочет. Булькает в горле воздух, а слова ни одного не разобрать. Хорошо, Никитка выручил. Опомнился от страха да пальнул в чародея пару раз. Тот и пал замертво.
Олюшка подошла к нему, нагнулась, затараторила что-то на тарабарском языке, гладит по голове обгоревшее чудище. Увел ее Федор от греха. Мужики коситься стали, перешептываться. Уж больно ребенок-то странный уродился. Никак в родителя! Ехали домой и все глаз с Олюшки не спускали. А ведьмака даже закапывать не стали, бросили на съедение зверям лесным. Туда ему и дорога… И лошадей его пристрелили. Говорят, у тварей этих и лошади околдованы.
Настя так в чувства и не пришла, как упала тогда, огонь завидев. Сначала дышала, а под вечер, как домой привезли, и дышать перестала. Жена на Федора чуть ли не с кулаками набросилась: почто девчонку привез? Да он как ударит кулаком по столу, как посмотрит на нее из-под лохматых нахмуренных бровей, так она и умолкла. Однако затаила на внучку ненависть, решила потихоньку извести ее.
Только и девочка не то чтобы разобралась, но почувствовала скоро, кто здесь ей погибели желает. Зовет ее бабушка поиграть, ленточки показывает яркие, бубенчики, а Оля смотрит на нее не мигая…
А жена-то Федора с тех пор, как девчонка в их доме поселилась, занемогла. Сначала животом маялась, спасу не знала, потом руки заболели, хоть караул кричи, а под конец совсем слегла и померла.
ЧАСТЬ 1
«…как будто это ты, а это Бог,
как будто век жужжит в его руке…»
И. Бродский
1 (Дмитрий)
Когда Диме Серову исполнилось пятнадцать, он бросил школу. Никто не стал его удерживать, потому что никто не мог ему помочь. Все понимали… Он был первым по всем предметам, но никто не мог ничего поделать.
Солнечное детство оборвалось в одночасье. Они с матерью возвращались из кино. Стоял теплый день. Настроение было чудесное. Они шли вдоль невысокой ограды парка, вспоминали фильм и смеялись.
Он не видел, как это произошло. Мать вдруг толкнула его с такой силой, что он полетел через ограду, лицом в колючий кустарник. За спиной что-то прогрохотало, скрип, крик – и стихло. Пока он поднимался, выдираясь из колючих веток, пока оборачивался, на улице повисла зловещая тишина.
Мать лежала на земле, неестественно вывернувшись. Он перелез через ограду, подошел к ней неуклюже, стал тихонько толкать, спрашивая: «Мама? Мама?» Неожиданно хлынувшая кровь перепугала его до смерти, но он быстро сообразил, что течет она из его разбитого носа…
Дима поднял взгляд. Поодаль на тротуаре, с другой стороны дороги, стояли люди.
– Да помогите же кто-нибудь! – заорал он срывающимся фальцетом.
«Скорая» приехала быстро. Но до того, как она приехала, какая-то старуха, ни на минуту не умолкая, говорила ему что-то про машину, про водителя пьяного, про то, какой он негодяй, что не остановился. Дима очнулся, когда она стала требовательно трясти его за руку.
– Есть чем записать-то?
– Что?
– Ну ручка там, карандаш какой…
– Нет.
– Тогда запоминай.
И она несколько раз повторила ему номер машины, которая сбила мать.
Полгода мать провела в больнице. В доме стало холодно и неуютно. Меню теперь состояло из макарон и горохового супа из брикетов. Отец морщился, но молчал. А Диме было все равно, что есть. Он, не чувствуя вкуса, глотал холодные слипшиеся макароны. Все это ерунда, лишь бы она вернулась. Третья операция стала решающей. «Она больше никогда не сможет ходить, – сказали врачи, выдав кипу справок, – но, возможно, проживет долго». Нужно было получить специальное кресло на колесах, купить лекарства. «В Англии, – говорили врачи, – сейчас появилось одно лекарство… Конечно, если у вас есть возможность…»
Этим же вечером отец вошел в квартиру и рухнул на пороге – был мертвецки пьян. Димка плакал и тащил его огромное, неподъемное тело в комнату, попытался уложить на кровать, но не смог. Так и оставил у кровати на ковре, укрыв одеялом. Утром он попросил у отца список лекарств, которые нужно было купить для матери. Тот, плохо соображая, протянул ему смятый листок, отслюнявил несколько пятерок.
Дима обегал три аптеки. Больше всего его поразила металлическая посудина – утка, которая тоже числилась в списке. Оставались деньги. Он купил цветов – три красные гвоздики. Все-таки она возвращается!
Отец, увидев цветы, взревел как раненый зверь. Дима даже не предполагал, что он умеет ругаться матом так же грязно, как любой уличныйпьяница. «Какие к… матери цветы? Праздник, что ли?! Похороны у нас сегодня, слышишь ты, ублюдок, похороны! А ты на последние деньги…» Лицо у отца было мятое, а изо рта воняло, как из сточной канавы. Он ревел как зверь, слюна летела аж через всю комнату.
Отец бросил их не сразу. Но все к тому шло с первого дня ее возвращения. Когда мать говорила, что ей нужно по нужде, Димка выскакивал из комнаты как ошпаренный. Она даже этого сама не могла… А когда возвращался, заставал матерящегося отца и ее, униженно глядящую в пол.
Он ушел через два месяца. Не глядя на мать, быстро собрал свои вещи, складывая аккуратно в новенькие чемоданы – они собирались на юг перед тем, как все это с ней случилось. Забрал ровно половину кастрюлей и тарелок, вилок и чашек. Из двух занавесок, висящих в зале, забрал одну.
Мать следила за каждым его движением. Она не верила в происходящее. Она думала, что он пугает ее. Она была согласна на любые условия, даже переехать в дом инвалидов. Только когда хлопнула входная дверь, она забилась в истерике. «Господи, почему я не умерла, ну почему, Господи!» – выкрикивала она, рыдая. Димка бегал вокруг со стаканом воды. Вечером она успокоилась, попросила принести ей бутылочку из кухни, с белой полочки у стенки, рядом с горчицей. Дима нашел, открыл, понюхал и вылил в раковину. Эта была уксусная эссенция.
Нужно было найти сиделку. Нужно было кормить мать, покупать лекарства, платить за квартиру, как-то жить. Все упиралось в деньги. Он продал ее серьги и золотую цепочку с крестиком. Какой уж там Бог! Деньги становились богом. Он молился на этого бога денно и нощно.
Тогда-то он и ушел из школы. Никто его не удерживал, никто не предложил помощи, ничего не посоветовал. Ему смотрели вслед, будто он прокаженный, и каждый мысленно повторял: «Чур меня!» Дима пошел на завод учеником. Уговорил соседку-пенсионерку ухаживать за матерью, пока его нет дома. Та согласилась за пятьдесят рублей. Он ждал первой зарплаты как пришествия. А через две недели после того, как расписался в ведомости, понял – им не прожить на эти деньги. Даже если есть одни макароны…
Хохарь давно ходил под их окнами. «Дурак ты, Димыч. На заводе много не заработаешь…» Но с Хохарем ему было не по дороге. Димка знал, откуда те мотоциклы да мопеды, на которых он время от времени разъезжает. Таскает по подвалам, а потом – продает. Не моральные соображения останавливали его – никакой морали больше не существовало. Его останавливало то, что за воровство можно сесть. И что тогда будет с матерью? Она ведь руки на себя наложит. И так не раз уже порывалась…
Он снова вернулся к одноклассникам. Не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы по-тихому сбывать идущие нарасхват модные диски, красочные полиэтиленовые пакеты, джинсы с потертыми коленями, браслетики-недельки, от которых визжали девчонки. Девочки вешались ему на шею, некоторые предлагали себя вместо денег за его побрякушки. Нутро полыхало, но он неизменно отвечал: «Не сегодня, дорогуша. В другой раз…» Деньги ему были нужнее.
Однажды он принес Валерке три кассеты «Битлз». По пятерке каждая. Они так договорились. Дверь открыл его отец, втащил за руку в комнату.
– Ты чем занимаешься, дурень! За это же и посадить могут.
Димка испугался, рванул руку, но тот держал крепко.
– Пойдем!
Привел в комнату, усадил с ними обедать. Предатель Валерка, глядя строго в тарелку, ковырял вилкой курицу.
– Ешь.
Ничего не понимая, Дима принялся за еду, пока не увидел, как смотрит на него Валеркина мама, прижав кулак ко рту, а в глазах слезы. Хотел уйти. Но аппетит оказался сильнее гордости. Съел все, что дали, ничего не смог с собой поделать. Отец Валерки сходил в соседнюю комнату, принес деньги – пятнаху, как и договаривались. Дима встал.
– Подожди, сейчас еще чай будет.
Мать поспешно побежала на кухню и вернулась с большим подносом: чашки, варенье, сахар. По голубым обоям плавали отсветы заката.
– Ты о будущем думал?
– А что?
– Тебе сколько сейчас?
– Пятнадцать.
– Всю жизнь фарцой заниматься собираешься?
– Кирилл! – прервала его с досадой жена. – Не с того ты начал. Ты, Дима, не думай. Мы все понимаем. И очень тебе сочувствуем… – Голос ее задрожал. – Но ты подумай сам: через три года в армию. С кем мать останется? Если бы ты был единственным кормильцем в семье, тебя бы не взяли. Но ведь твои родители не развелись.
Слова прозвучали как приговор. Дима никогда не заглядывал дальше завтрашнего дня. Он смотрел теперь на нее как утопающий, как безнадежный больной. Отец давно махнул куда-то на север и адреса не оставил.
– В армию берут не всех, – заторопилась она. – Правда, Кирилл? Сейчас студентов не берут. Тебе обязательно нужно учиться. Ты ведь отличником был, правда?
– Но почти год прошел…
– Это ничего. Ты знаешь, что наш папа, – она обняла мужа за плечи, – директор техникума. Подготовишься к осени и поступишь сразу на второй курс.
– А работа?
– Он тебе стипендию выбьет. Повышенную. Еще на пять рублей больше получать будешь, чем на заводе. Подумай!
Так он снова пошел учиться. Но у него уже был бог. И он продолжал служить ему верой и правдой. Была и цель – раздобыть то самое английское лекарство, чтобы приостановить убийственные процессы в сосудах, которые все-таки постепенно развивались. Нужно было выше своей головы прыгнуть, из собственной шкуры вылезти, а раздобыть денег. Кирилл Степанович внимательно наблюдал за своим подопечным. И Димка учился «честно» лгать, хитрить, недоговаривать, устраиваться так, чтобы никто ничего не знал о его делишках вне техникума.
Он теперь связался с прорабом одной из центральных строек города и занимался сбытом стройматериалов. Меняли первый сорт на второй, высший – на первый. Похуже – в строящийся дом, получше – богатеньким гражданам. Кто ж будет отрывать собственную трубу в сортире или, скажем, плитки со стены, чтобы убедиться, какого они сорта? Никто. Ему полагалось за это двадцать процентов прибыли. Но он не роптал. Прораба всегда могли взять за жабры. А кто такой Димка и где его искать, не знал никто. К тому же и не Димой он представился доброму дяде прорабу, а Вовчиком.
С фарцой Дима контактов тоже не утратил. Навещал иногда старых друзей. Ряды их редели. Кто сел, кто под следствием находился. И Дима затаился. Продавал товар через знакомых, в основном девчонкам из педагогического института, который стоял как раз напротив их техникума. Он теперь не отказывался порой, когда за товар предлагались девичьи услуги. И даже появилась у него постоянная подруга Танечка. Он носил ей тушь, помаду, трусики-недельку. А она продавала девчонкам-однокурсницам. Танечка жила в богатой квартире: чешская мебель, немецкое пианино, везде цветы в горшках. Расстались они неожиданно: соскучившись, Танечка как-то раз решила навестить своего ухажера. Принарядилась, накрасилась и явилась к нему домой.
– Привет! Не ждал? – радостно улыбалась на пороге. – Не пригласишь зайти?
Он задохнулся. Пустить ее сюда? В их обшарпанную квартиру с протертым до дыр линолеумом? Где с потолка сыпется штукатурка, а по углам снуют тараканы? И, самое главное, где мать…
– Не приглашу! – выдохнул он и захлопнул дверь, защемив ароматное облако ее «Шанели».
Она больше не звонила. Да и он не интересовался ею. Нашел себе другую «продавщицу», специально выбрал победнее – отца нет, мать уборщица. Приручил поцелуйчиками, редкими цветочками и сухим винишком. Она для него мать родную продала бы. Только вот теперь он не назвал ей ни адреса своего, ни телефона, ни настоящего имени.
После случая с Танечкой у Димы появилась мечта – чтобы дом его был всем на удивление. А для начала хорошо бы сделать ремонт. И не какой-нибудь. А чтобы мать ахнула. Чтобы паркет. И обои на стенах. Как у людей. Он полез на антресоли, собираясь выбросить скопившийся там хлам. Среди старых отцовских вещей, которые тут же без всякого сожаления полетели в мусорное ведро, нашел свои детские рисунки. Выбросить – рука не поднималась. Но рисовать теперь времени не было, и он с сожалением, но методично, один за другим стал разрывать их пополам и бросать в мусорное ведро.
Один из рисунков, где чернел в тумане пиратский корабль, был весь испещрен мелкими цифрами и буквами. Дима нахмурился, сел и вдруг хлопнул себя по лбу ладонью. Господи! В памяти всплыло все: мать, скорчившаяся на асфальте, старуха и этот номер. Как же он позабыл! Сидел тогда дома, вернувшись из больницы, в тот самый страшный первый день и чертил эти цифры, не понимая, что делает. И ведь ни разу не вспомнил за все это время! Вот они, деньги! Бери – не хочу!
Выяснить, что это за машина и кто ее хозяин, помогли ребята-фарцовщики. У них был мент знакомый, для прикрытия, они ему процент отстегивали. Попросили – он и выдал всю информацию. Соловьев Олег Ефимович. Сорок с хвостиком. И самое приятное – заместитель директора фарфорового завода.
Пять лет потом, до самой маминой смерти, этот Соловьев отстегивал Димке половину своей немаленькой зарплаты. Пять лет грехи замаливал, как мог. Не сам, разумеется, самому ему и в голову бы не пришло. Посредством умелого шантажа и тонко рассчитанного запугивания.
К тому времени Димка был птицей стреляной, умел все. У него появились постоянные подручные, а у тех свои подручные. Теперь он взял за правило работать через подставных, никто не должен был знать его в лицо. Только самые близкие. А близким этим он устраивал проверочки в первые же дни знакомства.
Приходил все тот же фарцовочный мент к ним на дом, скручивал руки наручниками, сажал напротив себя и принимался как бы протокол строчить, вопросики всякие каверзные задавать. Кто это такой? А это кто? Чем занимается? Если дружок не ломался в течение часа, то зарабатывал со временем все больше и больше под Диминым крылышком. А если ломался, то тот же мент брал с него подписку о неразглашении, а среди друзей-товарищей парень с тех пор недосчитывался Димки.
Мать никогда не спрашивала его – откуда деньги. Боялась, наверно, узнать правду. Особенно с тех пор, как он преподнес ей подарок.
– Мам, ты к тете Лизе перейдешь на время…
– Что случилось?!
– Да не пугайся так! Ремонт хочу сделать.
– Это ведь долго, – умоляюще смотрела она на него.
– За неделю управлюсь.
Пять человек одновременно вкалывали в их двухкомнатной квартире. Паркет с рисунком, обои немецкие, кафель на кухне и в ванной сиреневый. Новая кровать для матери, на стену ковер, чтоб ей теплее, на пол тоже, только в большой комнате, там она любит читать. Кухонный гарнитур польский. Шкафы из карельской березы.
Она, когда он ее прикатил, ахнула – и все. Испугалась. Чуть не заплакала. Слишком богато, слишком хорошо. Потом они разговаривали.
– Мама, я ничем таким не занимаюсь…
– Поклянись!
– Клянусь!
– На иконы смотри!
– Клянусь!
– Милый мой, неужели столько денег человек может честно заработать?..
– Конечно, мама!
Но в том, как прямо она сидела теперь в своем инвалидном кресле, уже сквозила гордость. Гордилась сыном. Все смотрите: отец бросил, мать – инвалид, а он вон какой! И зарабатывает, и для матери старается. А лет-то ему еще – мальчишка сопливый. По паспорту, если годы считать. Только к этому мальчишке со временем пожилые люди, которые его еще с пеленок знали, по имени-отчеству обращаться стали. Потому что, если деньги занять надо, – к нему, проблему какую-то сложную решить – тоже к нему. И никто с пустыми руками не уходил.
Не мальчик – орел. Ни перед кем не суетится, всегда спокоен и обстоятелен. И говорит-то так, что хочется слушать и слушать. А держится как! И добрый…
Мать умерла ночью. Ему накануне исполнилось двадцать два года. Она проснулась, вскрикнула. Он успел прибежать из своей комнаты, успел взять за руку. Она покинула этот мир, а он так и сидел всю ночь у ее кровати. Он не плакал, не кричал, хотя что-то внутри него и плакало, и кричало.
Оцепенение тоски сковало его по рукам и ногам. Дни тянулись за днями, а сердце как будто умерло. Он прислушивался к своему сердцу, а оно молчало в ответ – ни звука, ни шороха, ни намека на жизнь. Он сидел целыми днями на стуле и раскачивался из стороны в сторону, как мулла. Порой ему казалось, что и его час недалек…
Но на сороковой день отпустило. Просто взмахом одним – раз! – и все прошло. Только сомнения остались – достаточно ли он сделал для матери, пока она жива была, сделал ли он все, что мог? Но он так и не смог ответить себе на этот вопрос. Только через двадцать лет, разменяв пятый десяток, он наконец успокоился и понял – никто бы не сделал больше. И еще: никто не сделал бы даже половину того, что сделал он.
На поминки явились и ребята, с которыми он крутил дела, принесли толстую пачку денег. «Ты, наверно, потратился – вот». И осторожненько так, заметив потепление в глазах: «Без тебя дела встали… Клиенты тепленькие стынут…» А на прощание девчонку прислали, как бы помочь со стола там убрать, с посудой… Красивая была девчонка, веселая. Та девчонка его и отогрела окончательно.
Утром он проснулся и понял, что уже не может без той жизни, которой отдал семь последних лет, что его пьянит азарт риска, возбуждают крупные ставки в этой игре и громадное удовольствие доставляют сложные финансовые махинации. Он признался себе в этом без стыда, без оглядки на фотографию матери на стене. Он решил – я такой, значит, таким и буду. Значит, на этом свете нужен и такой человек. В двадцать два года он был хитер, как сатана, но никогда не хитрил с самим собою…
2 (Нина)
Когда начался этот кошмар? После аварии или раньше, когда она познакомилась с Валентином? У них была большая компания. Все учились в одной школе, жили рядом, а потому часто встречались. Вино на этих вечеринках появилось классе в девятом. Но все было безобидно: танцы, картишки – баловство. Валя оказался в их компании, когда она заканчивала второй курс. Быстро стал своим парнем. Нора оглянуться не успела, как во время одной из вечеринок оказалась с ним в пустой комнате на диване. Он целовал ее не по-детски, не так, как другие ребята, когда играли в бутылочку.
Она потеряла голову. Но только на то время, пока он занимался ее телом, пока от каждого прикосновения его рук бросало то в жар, то в холод, пока губы жадно впивались в кожу. А как только он отстранился, сразу же пришла в себя и натолкнулась на его глупую самодовольную улыбку. Он что-то говорил ей, а она, натягивая джинсы трясущимися руками, думала только об одном: чтоб весь этот мир провалился в тартарары. И немедленно!
О случившемся Нора рассказала только сестре. Они подробно обсудили каждую мелочь, которую Норе удавалось вспомнить. Однако помнила она мало. «Так что он тебе сказал? Как все началось?» – жадно спрашивала Нина. Но Нора помнила только густой сладкий туман. Сестра слушала ее, завидуя и краснея.
– Ты его любишь? – спрашивала сестра.
– Нет, конечно.
– Ну хоть чуточку?
– Фу!
– Но тебе ведь понравилось?
– И что?
– Может, это и есть любовь?
Через три дня они снова встретились у подруги на дне рождения. Он подмигивал ей через стол и, как только приглушили свет и включили музыку, пригласил танцевать. А после танца уверенно поволок на кухню. Норе хотелось вырвать руку, рассмеяться ему в лицо. Но пересилило другое желание…
Все повторилось. Как только он склонился к ее шее, как только она почувствовала его дыхание у своего уха… Дальше был провал, густые сумерки. Краем глаза она видела, что на кухню кто-то заглядывал, но, застав их, тут же ретировался. В тот момент ей не было стыдно. Она задыхалась от восторга.
Стыд пришел позже, когда именинница, отозвав ее в сторонку, тихо спросила:
– С ума сошла?
– Ты о чем? – выдавила из себя Нора.
– О том! Такими вещами не занимаются при всем честном народе. Это все-таки приличный дом…
С тех пор они встречались у Норы. Каждый день. В четыре часа она возвращалась из института, в пять приходил Валя и уходил через час, до возвращения родителей. Они были одни. Одни, потому что Нина была не в счет. Она не выходила из соседней комнаты, жадно прислушивалась к звукам из-за стены. Она сидела с закрытыми глазами и представляла себя на месте Норы. Это была увлекательная игра. Скоро ей должно было исполниться шестнадцать.
– Знаешь, я решил на тебе жениться, – тоном благодетеля однажды оповестил ее Валентин.
– Что? – не поняла Нора.
– Давай-ка я сегодня поговорю с твоими предками.
Нора ужаснулась. Этот кретин, кажется, считает, что она была бы рада… Какой дурак! Она собралась сказать ему об этом и послать ко всем чертям, но представила завтрашний день без сладкого обморока в пять часов и прикусила язык.
Он дождался мать. Обрадовал сначала ее. Та устало посмотрела на Нору.
– Хорошо. Наверно, это хорошо.
Отец тоже был краток. Достал из шкафа бутылку водки. Молча открыл, разлил всем присутствующим, кроме Нины.
– Заявление уже подали?
– Сначала родительское благословение. – Валя сиял как медный таз.
– За это спасибо. – Отец крякнул, опрокинув стопку. – Так когда заявление напишете?
– Завтра. Прямо с утра.
Они написали заявление. Валя купил кольца – самые тоненькие из тех, что были на витрине. Его мать пригласила будущих родственников на пироги. Дальше все шло, как это обычно бывает: списки приглашенных, платье, деньги. Денег нужно было много. Валя подыскал себе какую-то работенку. Их пятичасовые встречи кончились. Нора лезла на стенку от тоски и безысходности. Ей недоставало его. Нет, не его. Того, что происходило между ними. Она уже считала дни до свадьбы. Скорее бы. Пусть, если уж нельзя по-другому, пусть таким дурацким способом, но она снова будет плавать в волнах тягучего дурмана.
За неделю до свадьбы он прикатил на старом отцовском «Москвиче». Посмотрел гордо на Нору и, ухмыльнувшись, спросил:
– Соскучилась?
Она не ответила. Ответ был написан на ее лице.
– Предлагаю завтра выбраться куда-нибудь за город, с палаткой. С ночевкой…
– Да! – выдохнула Нора.
Родители посчитали такую поездку неприличной.
– Заявление – это еще не свадьба, – повторяла мать как заведенная. – Возьмет и передумает.
Нора кусала ногти.
– Одни, да еще с ночевкой, – качал головой отец.
Выручила Нина.
– Я с ними поеду. Глаз с них не спущу!
Нора чуть с ума не сошла от ожидания, пока они доехали до места. Она согласна была разбить палатку у самой кромки леса, на обочине дороги, только бы поскорее. Но Валя все ехал и ехал, прежде чем отыскать какую-то заветную полянку.
– Вот это другое дело! Красота!
Нора сунула сестре литровую банку.
– Дуй за черникой.
Та понимающе улыбнулась и исчезла между деревьями. Нора повернулась к Вале. Зубы ее слегка постукивали.
– Может быть, сначала палатку поставим…
Она не дала ему договорить.
Он только теперь понял, насколько велика была его власть над ней. Водил рукой по ее груди и внимательно наблюдал, как она стискивает зубы, слушал, как стонет от легких его прикосновений. Он упивался этой властью. Он не думал – над ее телом. Он думал – над ней. Замечательная у него будет жена. Муж должен иметь власть в доме. Когда он, уставший и потный, оторвался от нее наконец и поднял голову, то успел заметить Нину, выглядывающую из-за дерева. У нее было такое лицо… Совсем как у Норы, лежащей на траве навзничь…
Утром Валя выбрался из палатки и направился к озеру. На берегу сидела Нина.
– А я думал, ты еще спишь в машине, – удивился он.
– Так хорошо здесь…
– Знаешь, я плавки не взял, не ожидал тебя…
Он разделся и, не смущаясь, повернулся к ней.
– Не хочешь со мной?..
– Она убьет нас, – сказала Нина, выбираясь из воды.
– Пальцем не шевельнет! – заверил ее Валентин.
Кошмар подстерегал их по дороге назад. Нора чувствовала: что-то изменилось. Он что-то сказал в машине. Она ни разу потом так и не смогла вспомнить – что? Но ей стало все ясно. Отчетливое видение: они в озере. Вдвоем. Она бросилась на него, впиваясь в шею ногтями, зубами. Машина катила вниз по узкой лесной дороге…
Свадьбы, конечно, никакой не было. Валя лежал в больнице с переломанными ногами. Сестра пришла в сознание только через неделю. Нина не получила даже царапины, но целую неделю сидела возле сестры, ни с кем не разговаривая.
Заговорили они одновременно. Одна с больничной койки, другая – вскочив со стула в дальнем углу палаты.
– Белое…
– Милая! Прости меня!
– Какое все белое. – Она улыбаясь смотрела вокруг.
– Это больница. Мы попали в аварию, ты…
– Когда придет мама?
– Ты помнишь аварию?
– Где моя мама?
– Мама будет вечером. После работы. У тебя что-нибудь болит?
– Глаза. Принеси мою куклу.
– Милая…
– И чай, только тепленький…
Через два месяца сестра вернулась домой. Она ходила по квартире, ничего не узнавала, спрашивала такие вещи, о которых знает даже ребенок. Мать плакала, отец каждый вечер напивался до смерти, только бы этого не видеть. Она ходила за сестрой как нянька. Она винила только себя…
3 (Феликс)
Он шел к Богу долго, и пути его были размыты слезами. Теперь он понимал, почему не спешил с постригом, почему затягивал период послушничества. Было – почему. Потому что себя не знал, потому что Бога не знал. Но он сам оказался не таким, каким считал себя. Бог оказался не таким. А они не поняли, не поняли и не поймут. А он понял и стал молиться своему, другому Богу.
Все началось, когда мать, его мать за два года молчания, отречения от сына, проклятий в письмах, неожиданно приехала в монастырь. Он чуть с ума не сошел от радости – сбылись его молитвы, она поняла. Это точило его изнутри день и ночь: его мать – добрая, умная, любимая и необыкновенная…
– Я хочу исповедаться тебе, батюшка, – сказала, усевшись напротив него за столом.
Ухо резанула привычная насмешка. «Это ничего, – подумал он. – Это Господь простит, это ведь человеческое. Он растопит лед ее сердца…»
– Я не батюшка, – сказал он ей смиренно. – И исповедоваться лучше не мне, а нашему…
– Уж позволь мне самой решать, – перебила мать. – Я с тобой говорить собираюсь. О прощении. О возмездии. Как там у вас по Библии, есть возмездие-то на земле?
– Есть Божий суд, он и есть возмездие человеку за грехи, за все им свершенное…
– Божий, говоришь? – Мать прищурилась. – Так это ведь не на земле. На земле только нарсуд есть. Тупой и бесчувственный нарсуд.
– Мама, – попросил он ласково, – я не понимаю тебя. О чем ты приехала поговорить?
Она посмотрела на него так, словно взвешивала, стоит ли. Стоит ли он тех надежд, которые она на него возлагала. Стоит ли он своей матери, он, который всегда был так похож на нее, он, который, как последний дурак, вбил себе в голову, что рожден для того, чтобы отречься от мира. В какой-то миг во взгляде ее промелькнула безнадежность. Нет, не тот он человек. Он совсем сбрендил со своими попами. Знала бы, что так получится, – придушила б соседа, который рассказал ему, что существует монастырь и семинария. Взгляд ее наполнился презрением, и в его взгляде что-то вдруг вспыхнуло ответное, жаркое, не поповское, и сердце матери мгновенно потеплело. «Нет, мальчик мой, – думала она. – Тебя не отняли. Мы с тобой одной крови. Ты ведь мой сын, а значит, в жилах у тебя течет моя кровь, и точно так же жжет она твое сердце…»
И она заговорила. Впервые рассказывала сыну о том, как они познакомились с отцом, как жили, как родился он, какие планы строили. Все выглядело призрачно-сказочно, и Феликс даже подумал, не сошла ли его мать с ума – он вовсе не помнил этой райской жизни. Их жизнь всегда была суровой, молчаливой. В доме никто не смеялся, улыбка здесь казалась неуместной. Отец умирал в тяжелых мучениях, кричал, бранился, как будто они могли ему чем-то помочь…
– Ты ничего не знаешь, – говорила мать о каких-то счастливых солнечных днях, потрясающем, невероятном счастье.
Выходило так, что до появления Феликса на свет, да и лет десять еще потом, о которых он почти ничего не помнил, мать с отцом жили счастливо и любили друг друга светло и весело. Но однажды все изменилось раз и навсегда.
Позвонили из медсанчасти… Заболела голова, отец пошел измерить давление. Все уже разошлись, только молодая сестричка суетилась, бегая от телефона к столу с бумажками и обратно. Она успела измерить ему давление и ахнуть. Но сказать ему ничего не успела. Отец стал оседать на стуле, валиться на пол, как кукла. Девушка взвизгнула и позвонила матери. Мать работала здесь же, начальником отдела. Она прибежала с двумя мужчинами, они осторожно его подняли, перенесли в машину, и мать села за руль. Она не пожелала ждать «скорую», ближайшая больница была всего в трех кварталах…
У парка, на тихой улице, машину неожиданно занесло, и она выскочила на тротуар. Мать справилась с управлением, вернув ее на дорогу. И помчалась дальше. Она привезла отца в больницу, его тут же положили на каталку и увезли. Дальше она не помнит ничего, потому что упала тут же, в вестибюле, сделав шаг к двери.
Она очнулась в больничном боксе. Вечернее солнце било в окно, слепило глаза. И в разводах солнечных бликов, в плавающих зеленых и красных солнечных кругах ей вдруг отчетливо, словно наяву, послышался женский вскрик, звук глухого удара от падающего тела и визг колес.
Целый год она выхаживала отца, целый год сдувала с него пылинки, готовила по специальным рецептам особой диеты, заваривала дорогие заморские травы. За этот год отец ни разу не пожаловался на сердце. А потом на пороге их дома появился мальчик. Обыкновенный мальчик с большими карими глазами. Он пришел, когда она собиралась в магазин. Она еще улыбнулась ему, закрывая за собой дверь. Милый такой мальчик. Но когда мальчик ушел, все рухнуло. Отец встретил ее с перекошенным от гнева лицом. Он так кричал, он орал так громко, слышно было, наверно, даже на улице… А потом он упал. Очередной приступ. А дальше…
Сначала они продавали золото, ковры, хрусталь. Потом мать стала бегать на барахолку, продавала подержанные вещи. Две работы уже не спасали. Но самое главное – в доме с тех пор повисла мрачная тишина. Никто не смеялся, никто даже не разговаривал. Отношения были раз и навсегда определены: расплата. Отец считал, что они должны платить. Она работала как проклятая и платила. Но он не простил ее. Никогда, даже умирая…
Инфаркт настиг его, когда в доме остались только голые стены. Был продан даже последний шкаф, и вещи лежали в ящиках, поставленных один на другой. В этот дом больше не приглашали друзей. Казалось, здесь прошел ураган, тайфун… Так длилось четыре года. Отец умер с проклятиями на вспухших, растрескавшихся губах. Мать даже не рискнула подойти к нему сразу после того, как глаза его навсегда закрылись. Она целый час простояла у стенки, прежде чем подойти. Взяла его остывающую руку. Прижала к своей груди и только тогда, словно очнувшись от многолетнего кошмара, вдруг вспомнила, как они любили друг друга. Как мало им было отпущено времени на это счастье. Мать не смогла разлюбить отца. Все эти годы она жила словно в бреду, в тумане. Надеясь, что вот-вот пытка прекратится и все вернется на круги своя…
– Я все-таки не понимаю почему? – спросил Феликс. – Ведь никто не погиб…
– У матери того мальчика отнялись ноги. Были свидетели наезда. Мы не могли рисковать.
Феликс искал в своей душе слова утешения и не находил их. Мать смотрела сухими глазами поверх его головы в пространство.
– Потом, когда платить стало невмоготу, я продала квартиру и сбежала. Помнишь, я отправила тебя к бабушке, а потом ты вернулся на новое место…
Это было не просто новое место. Это был глухой район города, новостройки, тьмутаракань. Феликс тогда так и не понял, зачем мать это сделала.
– Первые годы я думала только об одном: найдет он меня или нет? Но кроме страха жила во мне и другая мысль. За что? Кто и за что меня наказал? Меня должен был судить один только Бог, и я была готова к его суду. Но этот мальчик… Кто он – дьявол? Мне хотелось найти и задушить его…
Она еще продолжала, но сын не слушал ее.
– Мама! – перебил он. – Почему ты рассказала мне это именно сейчас?
Она замолчала, вглядываясь в его лицо, заодно ища одного ей ведомого отсвета в глазах.
– Ты ведь мой сын, Феликс.
– И Господа тоже…
– Нет. – Она разглядела наконец это что-то и вздохнула умиротворенно. – Мой. У меня лейкемия. Я не успею его найти…
В тот же день Феликс уехал из монастыря с матерью. Он был только ее сыном. И семейные боги смотрели с презрительной ухмылкой куда-то в небеса…
Феликс понимал, что нужно набраться мужества. Болезнь матери неизлечима. Врачи уже отказались от нее. Значит, конец близко.
К его удивлению, страшных болей, которые испытывают практически все больные раком, у матери не было. Она выглядела лишь несколько вялой, уставшей.
– Ты что-нибудь принимаешь? – спросил Феликс однажды.
– Мне не нужно, – ответила мать.
Он замялся. Хотел и не мог спросить о том, что она чувствует. Она поняла. Села. Усадила его напротив.
– Смотри внимательно на меня.
Чем дольше он вглядывался в ее лицо, тем сильнее становилось ощущение, что ее глаза втягивают, вбирают его в себя целиком, без остатка. Он чуть отпрянул, не отрывая взгляда, собрал всю свою волю, чтобы не утонуть совсем в этом взгляде, почувствовал, что ему удается удерживать дистанцию. Вдруг его накрыла горячая волна, и по всему телу разлилась жгучая боль. Феликс заскрежетал зубами и снова «поплыл» навстречу широко раскрытым глазам матери. На минутку мир вокруг исчез, словно она все-таки втянула его. Он собрал последние силы, резко встал и выбросил руки вперед. Мать согнулась пополам и застонала. Феликс тряхнул головой, отгоняя последние волны наваждения, осторожно взял ее на руки, отнес в спальню. В ее лице не было ни кровинки. Но еще до того, как она открыла глаза, губы сложились в торжествующую улыбку.
– Ты меня напугала!
– Не ожидала, что у тебя получится… Так скоро…
– Тебе больно?
– Уже нет, – к ней медленно возвращался обычный цвет лица, сведенные мышцы расслаблялись.
Феликс с ужасом и отвращением вспоминал о той удушливой волне нестерпимой боли, которая только что прокатилась по его телу, стремясь, казалось, раздавить его. Он снова посмотрел на мать, уже догадываясь, но еще не в силах поверить.
– Это была твоя боль? – спросил он, осторожно подбирая слова.
Мать медленно и значительно кивнула. Но взгляд больше не обжигал болью, теперь от этого взгляда по телу разливалась приятная истома, чувство освобождающего от всего земного покоя. Феликс облизал пересохшие губы и спросил:
– Как ты это делаешь?
– А ты как?
Каждое слово отдавалось в голове гулким эхом и растягивалось на сотню миль.
– Я?
– Ты. Ты ведь только что вернул мне мою боль. Оттолкнул от себя. Как это получилось?
– Не знаю…
Покой завораживал. Казалось, все цели в этой жизни достигнуты, все вершины взяты, все желания удовлетворены. Покой был полным, абсолютным, с привкусом ощущения, что такого не бывает при жизни. Огромное желание поддаться чувству умиротворения, уплыть в его водах, раствориться в них завладело им целиком. Нужно было сделать для этого какое-то маленькое усилие, совсем крохотное, чтобы отцепиться от назойливого чувства страха – страха ступить в неизвестное. Нужно было отказаться от чего-то земного, из последних сил вцепившегося в мозг, не пускающего в голубую, качающуюся перед ним нирвану. Феликс глубоко вздохнул, а потом решительно и бесповоротно сделал это последнее усилие и канул в безвременье.
Очнувшись, он понял, что давно стоит глубокая ночь, фонари погасли за окном. Он лежал на диване, не желая окончательно просыпаться, пытаясь угнаться за рассеивающимся сновидением. Время снова двигалось в прежнем ритме. Мир возвращался к нему, или это он возвращался к миру. Но мир оставался прежним, тогда как Феликс возвращался уже совсем иным.
Оставшуюся часть ночи он не сомкнул глаз, дожидаясь пробуждения матери, но к утру мысль о вчерашнем открытии привела его в такой восторг, что он не выдержал, оделся наспех и выскочил на улицу.
Люди толпились на остановке в ожидании автобуса, поглядывая то на часы, то на дорогу. Ожидание затягивалось. Взгляды блуждали бесцельно по толпе. Феликс приготовился, вспомнил вчерашнее ощущение и стал пристально смотреть на девушку в коротком красном плаще.
Она покачивалась на высоких каблучках, смотрела время от времени на миниатюрные наручные часики и морщила носик. Пухленькая нижняя губа, ярко обведенная алой помадой, казалась безвольной, обнажая полоску зубов. Время от времени она водила взглядом по толпе, но каждый раз взгляд ее убегал, так и не задев Феликса. И вдруг…
Она в очередной раз подняла голову и посмотрела прямо ему в глаза. «Опа! Поймал!» Феликс физически прочувствовал это мгновение. Взгляд девушки остановился, замер. Она слегка откинула голову, словно пытаясь уклониться, и застыла. Подошел автобус. Люди бросились к распахнувшимся дверям. Девушку толкали со всех сторон, на нее сыпались ругательства, но она не двигалась, сохраняя отрешенное выражение лица.
Феликс отпустил ее. Девушка часто заморгала, замотала головой, не понимая, откуда же взялся автобус, почему двери закрыты, почему он уезжает, забегала от одной двери к другой, но узнать, что же произошло, она не могла, на остановке никого не осталось. Только странный молодой человек смотрел на нее, стоя поодаль, но и он быстро пошел прочь…
Мать он застал за чаем. Она улыбалась.
– Получилось?
– Это… это…
Он никак не мог найти подходящих слов. Ощущение власти над миром – вот что он почувствовал в первую очередь. Власти такой, какой ни у кого нет и не было.
– Но почему же ты раньше?.. Почему раньше никогда…
– Никогда?
Она посмотрела на него долгим взглядом, и перед его мысленным взором вдруг пробежали несколько эпизодов из детства.
…Вот отец сажает его, пятилетнего, на новый двухколесный велосипед. Он поддерживает велосипед за седло и, согнувшись, бежит рядом. «Я сам! Хочу сам!» – кричит Феликс. «Самому нельзя, расшибешься», – задыхаясь от бега, отец пыхтит как паровоз.
«Сам! Сам! Сам!» – «Ну хорошо…» Но как только Феликс оказывается один, без поддержки, велосипед почему-то теряет равновесие и беспомощно валится на бок. «Ма-ма! – кричит Феликс подбегающей матери. – Я упал. Упа-а-ал. Мне так бо-о-о…» А боли-то уже и нет никакой. Мама склонилась над разбитой коленкой, помахала руками, шепнула что-то быстро, и капельки крови словно затянуло обратно. Они просто-напросто исчезли…
…А вот ему тринадцать. Он сидит на диване и, сам того не замечая, кусает кончик подушки. Его короткая первая любовь. Ее зовут Надя Медведева. Надя Медведева гуляла с Игорем Ивановым за ручку. Он и представить себе не мог, что это будет побольнее детских синяков и ссадин. Когда он вспоминал, как они шли по аллее, дыхание неожиданно обрывалось, к горлу подступал комок. И он ничего не мог с этим поделать. Сидел и грыз подушку. Но тут его позвала мама. Он посмотрел на нее и… провалился. «Как ее зовут?» – спросила она. «Н-надя, Медведева», – ответил он, запинаясь. «Какая смешная фамилия, – сказала мама серьезно. – Просто обхохочешься». На следующий день, на уроке математики, учительница делала перекличку. Когда выкликнули Медведеву, Феликс прыснул от смеха, ему стало удивительно легко. С тех пор Надя вызывала у него только улыбку. И, может быть, чуть-чуть – сожаление. Надо же было родиться с такой смешной фамилией!
Мать вернулась к чаепитию.
– Но почему я не помнил этого раньше? – прорвало Феликса, очнувшегося от воспоминаний.
– Этого никто не помнит. В этом весь фокус.
Феликс задумался.
– И часто ты таким образом вмешивалась в мою судьбу? – спросил он тихо.
– Подумай сам.
– Но ведь это…
Мать решительно отставила чашку. Чай выплеснулся на скатерть.
– Что – это? – спросила она резко. – Нельзя, да? Опять мораль прорезалась?
Он физически почувствовал, как мутный поток злобы выплеснулся из ее глаз и ринулся на него. Феликс отпрянул и выставил вперед руки. Мать сделала то же самое. Он стоял посреди комнаты, она сидела, и они вытягивали навстречу друг другу руки с растопыренными пальцами, словно удерживая стену с двух сторон. Пространство комнаты между их руками раскалялось, становилось тяжелым, повсюду плавали едва заметные, прозрачные светящиеся точки.
– Вместе, – хрипло крикнула мать, и они одновременно опустили руки.
Феликс отчетливо услышал глухой удар, как будто что-то упало на пол.
– Мама, тебе больно? – Он бросился на колени. – Давай прекратим это.
– Ничего, ничего. – Мать мгновенно побледнела. – Пока я показываю тебе что-то, я не справляюсь со своей болью. А она, надо сказать, чудовищная. – Она закашлялась, и Феликс быстро поднес ей стакан с недопитым чаем.
Мать отхлебнула, перестала кашлять. На носовом платке, который она отняла ото рта, появилась маленькая капелька крови.
– Вот видишь, – сказала она Феликсу. – Времени у меня остается мало. Нам еще многое нужно успеть.
Они перешли в ее спальню. Мать легла на кровать.
– Я делала это только тогда, когда тебе было больно. Иначе я никогда не отпустила бы тебя в монастырь. – Мать криво улыбнулась. – Ты тоже не должен вмешиваться в жизнь своих детей.
– Почему же ты не помогла отцу, когда он болел?
– Я не могла. Он не хотел. Все время отталкивал. Не получалось. – Она поежилась.
– Значит, это получается не со всеми?
– Не со всеми. Есть люди, которых не зацепить. Сам увидишь. И еще есть одно. Никто в нашем роду не жил долго… Никто, кроме моей бабки. Она никогда не пользовалась своими способностями и каждый день в церковь ходила.
– Так, значит, они все?..
– Все. Да все по-разному. Кто-то может предсказывать, кто-то слышит голоса, а кто-то управляет, как мы.
– Ты часто это делала? Ну, по жизни: на работе там или на улице.
– Нет, – усмехнулась мать. – Хотела жить долго. – Она рассмеялась. – Да только вот видишь, что из этого вышло.
– А тот паренек, из-за которого все… Его-то ты пробовала поймать?
– Я его видела только один раз. Он ведь с отцом разговаривал. А деньги мы потом передавали через каких-то ребят. Но я его нашла. В городе. Я пыталась…
– Не получилось?
– Нет. – В голосе матери послышалось отчаяние. – Может быть, у тебя получится.
– Получится, – уверенно сказал Феликс.
Мир вокруг Феликса стремительно менялся. Он словно попал в волшебную точку, вокруг которой события сворачиваются в круговорот и тот плавно выносит тебя в иную реальность, где те же декорации, но другой ты, а потому и совсем другой сюжет. Подогретый рассказами матери, он ощущал себя полубогом. Он мог управлять людьми. Его власть над ними была практически безграничной. Безграничной и тайной. Для того чтобы ею пользоваться, не нужно было разрешения. Никто даже никогда не упрекнет его в том, что он делает, потому что никому и в голову не придет, что такое возможно. Не в сказке – наяву.
Вот стоит долговязый очкарик с «дипломатом». В руке букет тронутых увяданием гвоздик. Смотрит на часы. И по сторонам. Ну что ж… Опа! Взгляд молодого человека теряет осмысленность, он брезгливо осматривает букет, словно держит в руках дохлую жабу, морщится от досады и на глазах у удивленных прохожих сует букет в урну. Через минуту он рассеянно моргает, как будто только что проснулся, и ничего не может понять, озирается вокруг, ошалело смотрит на хвостик букета… По тротуару ему навстречу семенит долгожданная подруга. Парень выхватывает цветы из урны и прячет за спину.
Маленькая блондинка, окидывая победоносным взглядом всех вокруг, подходит к очкарику, поднимается на цыпочки и целует его в губы, закинув руки за шею. Очкарик краснеет, бледнеет, суетится, спохватывается и вручает ей цветы, смахивая на ходу прилипший окурок. Девушка прижимает цветы к лицу, вдыхает их аромат, едва заметно морщится и натянуто улыбается парню. Девушке явно доставляет удовольствие демонстрировать всему миру свою власть над своим мужчиной. Она берет его под руку, она высокомерно оглядывается на стоящих поодаль дам и… почему-то отскакивает от парня на шаг. Быстро, дрожащими руками нашаривая пуговицы, она расстегивает плащ, потом все с тем же ничего не выражающим лицом расстегивает блузку: одну пуговку, другую… Парень обескураженно вытирает пот со лба. Кажется, он сейчас заплачет от растерянности. Он снимает очки и старательно протирает стекла. Отскакивает третья пуговка, наполовину открывая грудь… Хватит. Перебор. Как раз в это время загорается зеленый свет, и Феликс переходит через дорогу, подальше от жалкого зрелища. Девушка за его спиной резко запахивает плащ, и они с молодым человеком так и остаются стоять, напряженно глядя друг на друга. Потом слышится короткий истеричный всхлип и звонкая пощечина. Его обгоняет маленькая блондинка…
Вот уже неделю он ходит по улицам и чувствует себя волшебником. Ему хочется, чтобы люди плясали под его дудку беспрекословно, но несколько неудачных опытов приводят его в замешательство. Он «ловит» прохожего и внушает ему повернуть направо. Человек останавливается, бессмысленно топчется на месте, нелепо размахивает руками – но и только. Феликс не желал с этим смириться.
Властелин улицы, он возвращался домой беспомощным рабом надвигающегося ужаса. Дома царил полумрак. Мать таяла как восковая свеча. Глаза ввалились, лицо сделалось зеленоватым. Порой ей было трудно самостоятельно справиться с болью, и она звала Феликса. Он садился рядом на кровать, и они несколько минут напряженно смотрели друг на друга. Что-то происходило. Феликс никак не мог уловить этот момент. Мать откидывалась на подушки и засыпала.
Дыхание ее с каждым днем становилось все тяжелее. Она теперь почти не вставала, проваливаясь часто то ли в сон, то ли в забытье. Одной ногой она уже стояла в потустороннем мире и была похожа на тень той женщины, которую Феликс раньше звал мамой. Черты лица, выражение, интонации, голос – все переменилось.
Последняя ее неделя была самой тяжелой. Волны дикой боли накрывали ее с головой, но именно тогда она стала рассказывать ему историю их семьи, историю передающегося по наследству дара. «Сибирь всегда была сама себе царством…»
Время двигалось медленно, слова застревали у нее в горле, мать захлебывалась кашлем, засыпала, просыпалась и снова продолжала свой рассказ. Плотные шторы были наглухо закрыты, даже тусклый солнечный свет ноябрьского короткого дня вызывал у матери страшную резь в глазах, слепил. За задернутыми шторами целую неделю, не зная, ночь сейчас или день, засыпая иногда рядом с матерью и просыпаясь от ее стонов, Феликс слушал ее удивительную исповедь…
Он хотел бы спросить ее о многом. Почему она жила как все обыкновенные люди: ходила на скучную службу, разговаривала с неинтересными людьми? Почему никогда прежде даже не намекнула ему, что он носит в себе – такое. Но вопросы он оставил на потом: он спросит, когда она расскажет ему все. Лишь бы только успела…
От бессонной недели, оттого, что все это время он не выходил из дома и почти ничего не ел, мысли его путались, а в душе разгоралось горячее пламя гордыни. И в центре всех золотых полотен, как икона, как символ, плыл образ маленькой девочки со светло-голубыми глазами, глядящей в огонь… И почему-то жутко становилось от этого.
Феликс смотрел на мать, не понимая, когда она прекращает говорить, когда продолжает. Рассказ ее сливался в один монотонный гул, и гул этот разъедал его сердце. Ему казалось, что она бредит, сказки пересказывает странные, путает все. Но мать упорно шевелила и шевелила губами, уже едва слышно, словно из загробного мира пересказывая сыну то ли свои видения, то ли чьи-то безумные выдумки. А он только наклонялся с каждым днем, с каждым часом ниже к ее постели, к ее губам…
Легенду про Федора и дочь его Настю по сей день пересказывали в глухом сибирском селе. Правда, историю эту подробно никто не знал. Так, слухи одни. Федор в конце жизни умом все-таки тронулся. Каждую ночь ему снился черт обгорелый. За ним и ушел Федор. Не сразу. Лет десять еще так мучился. Каждую ночь криком кричал. Олюшка его ненадолго пережила. Годика на четыре. Ребеночек от нее остался. Замуж ее, понятно, никто не взял, все ведьмой считали, чурались. Да только, как ей семнадцать стукнуло, сразу после Ивана Купалы, понесла она. Родился мальчик. Розовый, не желтый. Глаза карие, большие. Федор, как принесли ему ребеночка показать, все плакал и повторял: «Простили, простили девочку мою!»
Но крестить ребенка поп не стал. И записывать отказался. Федор с тех пор в церковь больше и не хаживал. Как все померли, мальчику четыре годика сравнялось. Сирота круглая. Стала за ним Акулина ходить. Хоть и была старухой, мальчику спуску не давала, но и обижать не позволяла никому. Она-то и рассказала ему обо всем, как подрос. На нее одну чародейство Оленькино не действовало. Потому-то она все и замечала, но никогда не выдала никому. Грех на ней был большой. Всю жизнь она Бога благодарила, что хозяйку к рукам прибрал…
Умирая, благословила Акулина мальчика в столицу податься. Велела на шею крест повесить и всем сказывать, что православный, крещеный. Так он и сделал. В столице женился, деньгами большими оброс, но, говорят, на руку был нечист, потому и кончил на дыбе. Среди детей были у него дочка любимая и сын. Очень ему хотелось дар сыну передать. Да перешел дар дочке.
Девочку звали Настей. Мать ее в монашки отдать хотела, но в последний момент отчего-то передумала. Отчего – так никто и не понял. Осталась Настя дома, да с тех пор постепенно в доме стала самой главной хозяйкой. Ничего без ее слова не решалось. Хотя соплюха была еще совсем, братьев и сестер в черном теле держала. Замуж вышла за богатого купца.
Купеческий дом напротив стоял. Настя соседского мальчика еще с детства полюбила. Все вздыхала по нему. Да тот только нос воротил отоборвашки, посмеивался. А через два года нежданно-негаданно пришел замуж звать. Дружка его в ту пору рассказывал, что шел он свататься словно через силу, словно кто в шею гонит, а упираться – сил нет. После женитьбы очень он изменился и сразу как-то сохнуть стал. Худел не по дням, а по часам, друзей позабыл, родителей навещал редко.
Протянул так два годика и помер. Оставил жену богатой вдовой с малолетним сыночком Федором. Только Настя вскорости в реке утонула, купаясь. Говорили, что сама, нарочно…
После нее никто в роду любовь к себе не приманивал. Поэтому и мать не стала отца пересиливать, когда он на нее смотреть перестал. Могла, да не захотела. Знала, что ничем хорошим это не обернется.
Как Настя утонула, братья ее и сестры полюбовно наследство разделили, а ребеночка ее все шпыняли да били, пока он не подрос да и не удрал из дома. Прибился к церкви на окраине города.
Попадья бездетная подкармливала. Жалела. Баловала. Грамоте обучила. Стал он писарем у попа. Хороший мальчик. Только слегка желтушный. Прилежный был, грамотный, писал красиво. А в двадцать лет пропал – как в воду канул.
Было, правда, накануне одно происшествие странное, о котором долго потом все в округе забыть не могли. До того, как Федору пропасть, прошел мимо церкви человек один. Детишки, что на улице играли, рты поразинули, как он мимо них-то шел. Громадный, точно скала. Глаз разрез небывалый. Лицом желтый, как маслом намазанный. Бабы в окошках занавески задернули, к образам бросились, а креститься не могут – так руки трясутся…
Долго ли пробыл и как ушел – никто не видел. Дети домой воротились, матери их за вихры: «Что же вы сразу не прибежали, как этакое чудище-то увидели?» А те плечами пожимают: никого не видели, ничего не знаем. «Да как же, – матери им. – Желтый такой да громадный!» Смеются дети: «Не было, ни одного человека на улице не было, а такого – и подавно».
– Федор был грамотным, он-то и оставил записки. – Шепот матери все труднее и труднее было разобрать. – Да и дар у него был другой. Может быть, потому, что жил при церкви долгое время… Ты найдешь записки. Потом. Когда я уйду. Сам все поймешь… А теперь… Смерть близко, обещай мне… за меня… за мою погибшую душу… Найдешь… жить не дашь… как он мне не дал…
Она захлебнулась последними словами. По телу словно прошла волна – и обмякла вся, дышать перестала. Феликс прижал к губам ее руку и рухнул с нею рядом, забывшись тяжелым сном…
4 (Нина – Нора – Дмитрий)
Трагедия с сестрой произошла по ее вине. Она это понимала. Она этим мучилась, она жила только этим. В мире остались только она и сестра, вечно пьяный теперь отец и причитающая на каждом шагу мать были не в счет. Они ничем не могли помочь, даже если бы захотели. Чувство вины. Смешные слова. Кто из живущих знает по-настоящему, что это такое? Это боль, которая не дает жить, от которой не убежать, не скрыться. И ничего нельзя исправить – она поселилась в прошлом, а прошлое изменить нельзя. Но она попыталась. Словно заглаживая ошибку судьбы. Словно стремясь прожить жизнь за сестру. Она была уверена: если сделает так – то там, на небесах, ей зачтется. Обязательно.
Единственная, кто уцелел после аварии, – Нина чувствовала себя преступницей. Мать говорила, что у нее сильный ангел-хранитель. У сестры, похоже, такого ангела не было. У Валентина тоже.
Но Нина не верила в ангелов. Нина позвонила Валентину и уронила трубку, когда он стал орать ей унизительно-грязные слова. Она преступница. Это точно. Ее будут судить. Ей не простят. День и ночь она молилась и просила судьбу послать ей все беды, которые были уготовлены сестре. А той отдать все счастливые минуты, предназначенные для нее. Она пыталась подарить сестре свою жизнь в счет ее отнятой. Ей показалось, что она знает как…
Ее отговаривали, уверяли, что Нина – прекрасное русское имя. Но она настояла на своем.
Отец раскрыл ее новенький, только что полученный паспорт и тут же выронил его из рук. Он стоял не шелохнувшись, с закрытыми глазами, и лицо его становилось багровым. «Дура!» – бросил он ей и вышел из дома, оттолкнув мать в коридоре.
А мать поняла. Только сказала: «Ты не подумала о будущем». Строгий тон ей не удался.
– Мы разделим его на двоих, – ответила Нина матери, и они обнялись.
С тех пор все звали ее Норой, кроме отца. Он вообще никак ее не звал.
Она не думала о счастье. Когда Дмитрий приехал впервые в их город, Норе было двадцать два. Позади была вся жизнь, разбитая и кое-как склеенная. Шесть лет искупления грехов. Шесть лет самоотречения. И ничего больше: ни праздников, ни танцев, ни прогулок с подругами. Никаких мужчин. И ничего впереди: никаких планов. Ей казалось: жизнь должна пройти так же, как эти шесть лет.
Дима чем-то напомнил ей Валентина. Только тот был смешным, а этот – нет. Тот был желанным, а этот – нет. Тот был жалким, а от Димы веяло силой, уверенностью в каждом произнесенном слове и еще – деньгами. Нора работала учительницей младших классов, большую перемену они с детьми проводили в парке у школы. Каждый день ровно в одиннадцать Дмитрий сидел на лавочке, а дети скакали вокруг него. Он молча разглядывал Нору. Она не смотрела в его сторону.
Потом он пропал. Лавочка опустела, покрылась слоем осенних листьев. Нора отметила эту пустоту с легким сожалением. Через два месяца, выйдя с детьми в заснеженный парк, она увидела его снова и испытала легкое головокружение. В этот раз он только улыбнулся ей. Нора лепила снеговика вместе со своими второклассниками, бросала снежки, поглядывая краем глаза на скамеечку.
Скамейка опустела внезапно. Она так и не заметила, когда он поднялся, не видела, как уходил. Из глаз неожиданно заморосили мелкие слезинки. Нора вытирала их варежкой и смеялась.
В следующий раз он подошел к ней, заговорил. Они встречались. Два-три свидания, не больше. Разумеется, он оказался залетным столичным гостем. Перед отъездом он сказал: «Выходи за меня замуж. Не отвечай сейчас. Вечером я уезжаю, вернусь через месяц, тогда и ответишь. Если ответишь „да“, увезу…»
Ни поцелуя, ни пожатия руки. Но Нора не сомневалась, что все серьезно. Такие люди не шутят. Если предлагает, значит, все для себя обдумал и решил. А теперь – ее очередь.
Они весь вечер просидели в ресторане: незнакомые дорогие блюда, шампанское. Он даже не взглянул на счет.
Норе вдруг стало жалко себя. До одурения. Может быть, это вино ударило в голову, но ей захотелось плакать. Ей стало жаль шести лет, выброшенных из жизни. Ей больше не хотелось, чтобы один день был похож на другой как две капли воды. Ей захотелось вырваться.
В порыве благодарности она попыталась рассказать ему о сестре.
Голос сразу как-то некрасиво осип. Дмитрий немного наморщил нос, он не был любителем пускаться в откровения. Да и выслушивать их тоже. Она так никогда и не рассказала ему о сестре.
Когда он уехал, Нора скиталась по городу. В любую погоду, до изнеможения. Ей все время хотелось плакать. Не потому, что его не было рядом. Она не любила его. В этом у нее сомнений не было. Но жизнь ее потеряла смысл. Тот смысл, который она вложила в нее шесть лет назад: искупление грехов.
Теперь ей казалось, что она не заслужила такой участи. Что это вовсе не она виновата в случившемся. Она вспомнила Валентина на костылях. Один раз только его и видела за последние годы. Нора хотела подойти, но ей показалось, что он готов разорвать ее на части. Значит, он тоже считает, что во всем виновата только она. Почему она? А он?
Теперь Нора готова была обвинять не только его, но и сестру, и всех на свете, лишь бы с чистой совестью шагнуть в ту жизнь, куда открывает ей двери Дмитрий. Она была маленькой, бедной, несчастной, а он мог увезти ее из этой дыры, сделать богатой и счастливой. Ведь правда, мог он сделать ее счастливой…
Она совсем не представляла себе, что такое счастье. Ровесницы ее мечтали о том, как будут жить, строили воздушные замки, а потом искали своего принца, свой замок. Ей нечего было искать. Счастье ее осталось похороненным в холодной озерной воде, куда канули ее первые стоны и содрогания. Разве может быть другое счастье?.. Но она не хотела больше хоронить себя заживо. Она хотела жить. Просто жить. Кататься на машине, ходить по ресторанам, покупать себе красивые вещи, украшения. И чтобы дарили цветы, и чтобы возили в театр. Не все же мыть за сестрой горшки…
Через месяц она сказала Дмитрию «да». А он с удивлением отметил, что черные круги залегли у нее под глазами. Неужели из-за него?
– Собирайся, – сказал он. – Улетаем во вторник. Билеты я уже взял.
– Мы с тобой выходим замуж, – сказала Нора сестре.
– Опять?
– Да, да. Но на этот раз по-настоящему.
– Тогда поскорее…
– Конечно.
Теперь, выходя замуж, она вовсе не хотела делить предстоящую жизнь с сестрой на двоих. Она пыталась убедить себя, что влюблена в Дмитрия. Ей необходимо было убедить себя в этом. Потому что именно так она накажет Валентина. Валентин был подделкой, она вышвырнет его из памяти, как дешевую безделушку. Им с сестрой… Ей, только ей достанется подлинник, – то, чем Валентин мог бы стать, то, чем он никогда не будет. Это лучшая месть тому, кто похоронил ее счастье.
Перед вылетом она позвонила Валентину и тихо сказала в трубку: «Нора выходит замуж. По-настоящему». В ответ прозвучал истеричный вопль…
Дима был старше ее на десять лет. Нора не придавала этому значения до тех пор, пока не познакомилась с его коллегами по институту, с их женами. Все они тоже были старше. От Норы не ускользнуло, что мужчины смотрят на нее с восторгом, а их жены зеленеют от злости.
«Я молодая жена!» – повторяла она себе, разгуливая по собственному дому, который остался Дмитрию в наследство от родителей. Его папа, кажется, был академиком. К сожалению, фотографий не сохранилось, и десятков книг, написанных его отцом, – тоже. Когда-то в доме был пожар и все превратилось в пепел.
«Я молодая жена!» С каждым днем Нора все больше и больше упивалась своим положением. Она стала свысока посматривать на женщин, которые бывали в их доме, сознавая зависимое положение их мужей по отношению к Дмитрию и понимая, что так влечет к ней мужчин.
Чувства, пережитые ею еще в школе, когда она прижималась к холодной стене, за которой громко скрипела кровать сестры, чувства, которые она на столько лет придавила грузом вины и искупления, нахлынули на нее, как только Дмитрий впервые прикоснулся к ней.
Он взял ее за руку, притянул к себе, обнял. И словно кто-то разом сорвал все замки с кладовых ее души, выпуская измученных призраков прошлого.
Вот она сидит на своей кровати, дома, а из-за стены раздаются громкие сладкие стоны сестры. Она подходит к стене, прислоняется к ней всем телом. По телу бегут мурашки, маленькие бурые бутончики на груди становятся твердыми. Их словно разрывает изнутри. Она поднимает рубашку и прислоняется к холодной стене горячим телом, чтобы совсем не обуглиться. Кровь проносится по жилам, холодная стена не спасает от внутреннего жара.
Его руки скользят под ее шелковой блузкой, пальцы пробегают по груди. Норе кажется, что она снова стоит у стенки. Комната давно плывет в оранжевых кругах. Спроси ее сейчас, кто она, где она, вряд ли она смогла бы произнести членораздельно хотя бы звук. Она больше не ощущает себя человеком разумным. В ней просыпается тяжелое животное чувство, вместо слов из горла вылетают то ли хрипы, то ли рычание… Юбка падает на пол. Откидываясь на кровать, Дима тянет ее к себе…
Ее трясет как в лихорадке. То, что Дима приписывает ее страстности, на самом деле приходит откуда-то издалека. С той поляны, на которой лежит навзничь, раскинув руки и ноги, сестра в сладком забытьи, а сверху над ней, внимательно всматриваясь в ее лицо, он… Он делает то же, что и Дима сейчас. Тело Норы покрыто мелкими серебристыми бусинками пота, как тогда, когда они стояли по колено в воде, совершенно голые, когда она подошла к Валентину и прижалась к нему всем телом, а он, смеясь, развернул ее к себе спиной и, резко взяв за шею, заставил нагнуться…
Что творится с Норой сейчас? Чьи губы обжигают ее шею? Димины? Валентина? Она окончательно потеряла сознание, услышав его тихий стон, и провалилась куда-то в фиолетовый мир, который так и не принес ей ни покоя, ни облегчения.
Озерное счастье никогда больше не повторится.
Тогда же Нора поняла, что ничего никогда не расскажет ему о сестре. Если она разбила счастье сестры, то кто знает, не обернется ли так, что та тоже разобьет ее жизнь. «Нет, – думала она. – Я надежно укрыта ее именем. Счастье разбивать – удел Нины. А Нины больше нет!»
Дмитрий мало рассказывал ей о своей жизни. Он работал в научно-исследовательском институте начальником крупного отдела. Институт занимался чем-то очень-очень секретным, поэтому Норе не следовало спрашивать мужа ничего о его работе и даже знать, в какой части города этот институт находится. Жила она как королева, Дима говорил, что состоит на гособеспечении. И когда Нора спросила, что это значит, он ответил, что она может требовать всего, что душе угодно.
Дома Дмитрий никогда не занимался делами. Нора понимала – полная секретность требует не выносить чертежи и бумаги за пределы института. Именно так она и представляла его работу: чертежи и бумаги.
Нора пыталась забыть о существовании сестры. Писала матери веселые письма об обновах, о том, как они съездили в Крым, о том, какой у нее теперь дом и какой цветник она устроила под окнами. Мать отвечала ей сдержанно, но чувствовалось, что она гордится дочерью. О сестре мать ни разу не обмолвилась, словно той и на свете не было. Мало писала и об отце, с которым Дима не успел познакомиться. Нора устроила так, чтобы они не встретились.
Прошло полгода, и неожиданно умер отец. Нора полетела на похороны. Дима, к великой ее радости, не мог оставить работу и сопровождать ее. Оказалось, что смерть отца стала неожиданной только для Норы. Мать уже давно предчувствовала ее. «Сгибался пополам от боли – так желудок болел. А как только пройдет, – рассказывала мать, – опять за бутылку. Сам себя и угробил». В ее словах не слышалось жалости. Нора, настоящая Нора, едва узнала сестру. И поначалу пыталась называть ее «тетя». Только когда младшая сестра срывающимся голосом запричитала: «Нина, Нина, помнишь Нину?», взгляд Норы несколько оживился.
Атмосфера дома вернула ее в тот мир, где дни похожи один на другой, где тоска вперемежку с печалью стучит каплями дождя по стеклам, где смертельная скука кружится в солнечных лучах в погожий день, где уныние и однообразие, грязные улицы и обшарпанный, пропахший котами подъезд… Но где все-таки есть надежда. Безумная, несбыточная надежда на озерное счастье. В столице у нее было все. Не было только этой надежды.
Нора сняла телефонную трубку и на минуту задумалась. За это время она позабыла номер Валентина. Удивительно. Шесть лет, разбуди ее ночью, спроси – назвала бы без запинки. А тут…
Значит, звонить больше не нужно. Нужно отрезать последнюю возможность… чего? Возвращения? Невозможно. Так чего? Не все ли равно? Отрезать – и все тут.
Дома было хорошо. Мама, ругая за модную худобу, старательно подкармливала ее домашними пельменями, каждый день придумывала что-нибудь вкусненькое. Сестра сидела возле нее на полу и смотрела на нее восхищенно, широко раскрыв глаза и чуть приоткрыв рот. Иногда она вставала молча и трогала ее серьги. Взгляд у нее при этом был как у ребенка, которому страшно хочется такие же, но сказать об этом он не смеет.
Вернувшись через неделю домой, Нора уже знала, что больше не сможет жить одна в чужом городе. Без матери, и самое главное – без сестры. Ее дом – там, где они. У Дмитрия она все равно чувствовала себя как в гостях. Их дом был холодным и неуютным, и она не умела да и не могла бы сделать его настоящим домом, свить гнездо.
Однако Диму это, похоже, устраивало. Он был не слишком темпераментным, и Нора без особого труда свела их интимную жизнь к редким и коротким полуночным встречам раз в два месяца.
У Димы оказалась масса достоинств. Он был весьма неприхотлив во всем, не только в сексе. Ему было все равно, что она готовит на завтрак, все равно, как она проводит время, все равно, дома она или нет. Очевидно, он безмерно уставал на работе и все время думал о своих формулах, поэтому ничто другое его не интересовало. Но главным его достоинством была необыкновенная щедрость. Каждый месяц он выдавал Норе столько денег, что она даже не знала, на что же можно потратить такую уйму. «Может быть, что-нибудь ювелирное?» – подсказывал он. Но «ювелирного» не хотелось. С тех пор, как она вернулась из дома, у Норы была совсем другая мечта.
Однажды за утренним кофе она завела с Дмитрием разговор о том, как мечтает перевезти к ним свою маму. Он поперхнулся и посмотрел на Нору, скорчив гримасу, означающую глубокое страдание.
– Милая, – сказал он ей. – Семья должна жить отдельно. Если хочешь, купим твоей маме квартиру, но только… в другом конце города. Чтобы ты ездила туда как можно реже и не привозила домой чужих жестов и суждений. Я бы этого не перенес.
– Мы купим квартиру? Квартиру маме?
– Я даже думаю, что не мы, а ты. Мне некогда этим заниматься. У нас сейчас важный правительственный заказ. Так что подбери что-нибудь скромненькое и скажи мне, на чей счет перевести деньги.
Нора встала и крепко поцеловала мужа. Впервые – вполне искренне.
За три последующих месяца Нора пересмотрела множество квартир. Ни одна из них ей не подходила. Например слишком людный район. Вдруг мать не уследит, и сестра случайно выйдет из дома. Она ведь тут же попадет под машину. Нет, нет. Нужно найти какое-нибудь тихое и спокойное местечко. Но в тихом местечке, как оказалось, соседи хорошо знали друг друга. Этого бы ей тоже не хотелось. Будут потом тыкать пальцами вслед матери и шушукаться: «Вон идет эта, у которой дочка ненормальная!» Нора облазила все новостройки на окраине. Но потом поняла: там плохо ходит транспорт. А сестру время от времени нужно показывать врачам. Мать с ней намучается…
Нора ездила по городу, не жалея сил, и ни о чем больше не думала. Вечером она возвращалась измученная и падала в постель.
Дима словно и не замечал, чем она занята, но в один прекрасный день положил перед ней на стол ключи. «Что это?» – удивленно спросила Нора. «Это тебе. Выгляни во двор». Там, у ее любимой клумбы с цветами, сверкала новенькая машина.
«На работе в виде премии выписали, – сообщил Дима. – Твоя. Понимаешь, мне нужно, чтобы жена разливала чай по вечерам, а не засыпала от переутомления в общественном транспорте».
Нора выскочила во двор и три раза обошла вокруг машины. «Теперь мне не придется мотаться к маме через весь город, – подумала она. – Я поселю ее в ближайшем пригороде. Там уклад жизни больше напоминает нашу провинцию, там природа, озера. Да, да, обязательно рядом должно быть озеро. Хотя бы маленькое».
Поскольку Дима понятия не имел о сестре, то сумма, которую он выделил на покупку квартиры, была смехотворной. Денег было ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы купить маленькую однокомнатную квартиру где-нибудь на окраине. Ее машина стоила в два раза больше.
Но Нора уже видела сестру с мамой в домике у озера и не желала расставаться со своей мечтой. Она думала только о том, как бы раздобыть еще денег. Впервые за все время замужества она выразила желание покупать продукты самостоятельно. «Тебе нечем заняться? Закажи, и тебе все принесут», – сказал Дима. «Но ведь я даже не знаю, что можно заказать. Хочется посмотреть на все своими глазами», – ответила Нора.
Три месяца она экономила на продуктах. Но это было смешно. Не может же она копить деньги несколько лет таким образом.
Вернувшись однажды домой, Дима застал жену в слезах. Рыдая, она рассказала, что какой-то негодяй подскочил к ней на улице и сорвал с шеи тяжелую золотую цепь, которую он подарил ей на свадьбу. Да так быстро, что она и оглянуться не успела. Нора робко спросила, не обратиться ли в милицию. Она не решилась сделать это раньше, помня о том, что муж работает в секретном институте. «Ни в коем случае, – Дима закатил глаза. – Ты правильно поступила. Не нужно никакой милиции. Забудем. Я куплю тебе новую».
Золота Норе вполне хватило на то, чтобы купить для матери и сестры домик в тридцати километрах от города. Дима так никогда и не узнал об этом. С тещей встречался только тогда, когда она приезжала к ним, случалось это крайне редко, а сам он никогда не выражал желания съездить к ней. Да она и не приглашала.
Нора устроила маму и сестру с комфортом. Она ездила к ним каждый день, возвращаясь домой незадолго до мужа. Она снабжала их продуктами и деньгами, покупала обувь и одежду, то есть тоже поставила на полное «гособеспечение». Мать с каждым днем все выше поднимала голову и через некоторое время уже с презрением смотрела на мшистые крыши соседских дачек.
Казалось, что из них троих именно матери повезло больше всех с Нориным замужеством. Особенно мать любила кататься на новеньком «вольво», выискивая для этого самые разнообразные поводы. Вдруг выяснялось, что она позабыла купить хлеба или масла, или соль в доме неожиданно кончилась, и Нора везла ее в сельский магазин, где та неторопливо выходила из машины и обязательно с порога оборачивалась и что-нибудь кричала дочери. Пожилые продавщицы высовывались из-за прилавка…
Да и сама Нора изменилась. Чувство вины, казалось, покинуло ее навсегда. Она выполняла свой долг с самоотдачей фанатика. Ужас прошлого отступил, будущее виделось ей безоблачным.
Никогда жизнь не казалась ей такой прекрасной, как в тот год. Она уже решила, что все неприятности позади, что она расплатилась по всем долгам, и расплатилась сполна. Но очень скоро ее счастливая жизнь дала первую трещину…
Пролетело два года. Нора жила словно во сне. Она не сбивалась с ритма: утром и днем – время для сестры, вечером – для Димы. Ритм менялся лишь тогда, когда дома устраивались торжественные ужины, посвященные каким-нибудь выдающимся свершениям в жизни мужа или его института. Приглашались коллеги, непременно с женами. Дима откровенно скучал. Коллеги откровенно льстили ему. И обязательно напивались. Да и жены их тоже как-то очень уж запросто опрокидывали в себя бокал за бокалом. На таких приемах на столе обычно стояла дешевая водка, и Дима к спиртному не прикасался. Он пил только дорогой коньяк. Норе нравилось, что на коллег он особенно не тратился. Очень нравилось. Потому что больше денег останется им с матерью.
Но однажды наступил тот роковой день, перевернувший всю ее жизнь. День, о котором она никому никогда не рассказывала. Не могла рассказать.
Это был даже не реальный какой-то день, а сон наяву. Галлюцинация. Только все, что происходило в этом бреду, имело вполне реальные последствия и каким-то непонятным образом было связано с вполне реальными событиями прошлого.
5 (Феликс)
Как ни странно, смерть матери принесла Феликсу облегчение. Словно сняли с плеч непосильную ношу. После похорон он отыскал у нее в шкафу пожелтевшие рваные листы бумаги с неразборчивыми каракулями.
«Китай – страна восточная. И первый в нашем роду был китаец и княжеского роду. Только род его был в изгнании. Ополчился на него царь ихний, всех перебил, один он и остался. Перешел горы высокие. В наши таежные места попал. Зверей мог приручать. Они его слушались. Тем и жил. Тридцати лет от роду убили его лютой смертью. А дочка его – Ольга – на людей могла власть свою налагать. Преставилась двадцати пяти лет. Сын ее мог завораживать. Обманом занимался. В тюрьме сгнил. Дочь его Настасья ворожить умела. Утопла двадцати двух лет.
Сын ее Федор, эти строки пишущий, дожил до пятидесяти лет. Будущее вижу.
Никогда бы сам не узнал, да повстречал дядьку-китайца. Тот и разъяснил – кто я да что. И про дедов моих.
Дар наш таить нужно от людей и пользоваться им грех. Да и жизни не будет. Мне счастье было у церкви обитаться. Потому и уцелел. Но для будущих детей своих наставления оставляю.
Будет еще нас пять поколений. Потом род кончится. И расплата кончится, потому как на роду – проклятие. За первую Настасью. За князя китайского. Никто не уцелеет из потомков Федора. Все кару понесут. А дар им только в тягость будет. Последней будет девочка. Как Настя. Что за смерть ее ждет – не знаю, не ведаю. Но мороз по коже проходит, как о ней думаю. Она, как я, сможет будущее знать. Остальные будут власть налагать словом и взглядом. И только. Последняя Настя должна с первой соединиться. И умереть должна восемнадцати лет от роду. Если только отца своего не переживет к этому времени…»
Дальше строчки расплылись в большое сиреневое пятно, да и пятно это со временем вылиняло. Феликс почему-то разозлился, дочитав до конца. Никогда такой злости не испытывал. Если считать с Сибири, то этой последней Настей должна была стать его собственная дочь. Его дочь должна умереть нехорошей смертью, расплатившись за все прегрешения своих родственничков, о существовании которых и не подозревала. И что означает последняя фраза? Он что, должен под поезд броситься к совершеннолетию доченьки?
Несправедливость такого пророчества заставила его дать самому себе клятву оставаться бездетным. Конечно, такое проще сказать, чем сделать. Но в тот момент ему казалось, что сделать это – проще простого. Однако жизнь и здесь распорядилась по-своему…
После похорон и поминок Феликс снова начал выходить в город. Выйдет, выберет себе «жертву», потешится, отпустит, пойдет искать другую. Люди вели себя по-разному. Кто-то начинал творить страшные глупости: раздеваться там или жеманничать. Другие замирали в причудливых позах, словно дети. «Раз, два, три, на месте морская фигура замри». Третьи становились агрессивными. Злоба из них так и перла.
Феликсу интересно было выяснить, почему люди ведут себя по-разному. Какого джинна из бутылки он выпускает, что этот джинн еще может сделать, чем окажется ему полезен? Через три месяца после смерти матери и ежедневных своих упражнений он понял, что стал кем-то вроде наркомана, что уже не может прожить и дня без этих удивительных занятий. Он пытался бороться с собой и проигрывал все время, а от этого делался себе все более и более противен. Но немного времени он посвятил внутренней борьбе. Сдался скоро и с чувством особенного удовольствия.
Материнские бредни все более и более забывались. Собственный дар казался ему самостоятельным, не имеющим никаких сказочных корней. Проклятия какие-то, убийства, смерти ранние – все это ерунда. Сейчас ведь двадцатый век – люди и живут дольше, да и проклятия все отменили давно. Бога – и того нет, какие уж тут черти! Мать забывать стал, но вот требование ее – найти того, кто ее жизнь поломал, – никак из головы не выходило.
Стал тогда Феликс потихоньку собирать сведения о «злом мальчике». Заводил полезные знакомства, связи, которые могли бы ему помочь в будущем. Многие знали того паренька, называли даже фамилию, но когда он наводил справки, оказывалось, что нет человека с такой фамилией в городе. Или есть, но на двадцать лет старше. Или есть – да имя другое. Путаник был мальчишка. Большой путаник.
Феликс полюбил большие скопления людей. Это словно придавало ему сил, делало его власть значительнее. Может быть, это была власть над тайными помыслами людей, над их надеждами, сомнениями, предчувствиями? Нет, это была власть над их несовершенством, мелочностью, жадностью. Он чувствовал душу толпы. С жадностью выхватывал из нее чьи-то глаза, втягивал в себя чужой взгляд, заставлял человека «выйти» из своей скорлупы, раскрыться.
«Эй, дамочка, кто вы? Давайте посмотрим, как вы будете извиваться сейчас? Что будете делать? Куда же вы идете? Вы ведь уже ровно две минуты ничегошеньки не видите перед собой. Внимание! Отпускаю! Матушки родные! Где это мы? Не там, милая, где тебе бы хотелось. Ну что оглядываешься? Обалдела? То ли еще с людьми случается…»
Он обожал вокзалы. Отправить кого-нибудь к совершенно другой электричке. Не в том направлении. И обязательно – чтобы шла без остановок. Сомнительное удовольствие? Но ведь вы никогда этого не делали. Никогда не отправляли человека в другой конец перрона силой одного своего взгляда. Вы ведь понятия не имеете – что это такое.
А как быть с тем сладостным чувством упоения, которое разливается по телу всякий раз, когда ты цепляешь человека, когда ведешь. Здесь есть к чему пристраститься. Власть тоже имеет свой запах, цвет, вкус. Пряная, алая, едко-сладкая… «Разве ты пробовал это, дяденька? Эй, посмотри на меня! Все посмотрите на меня!»
Иногда Феликсом овладевал такой восторг, что он готов был кружиться по перрону, подняв руки к небу, и кричать во все горло: «Эй, вы, посмотрите на меня!!!»
Его жизнь превратилась в один грандиозный танец. Он парил над землей, не касаясь ее ногами, душа его канула куда-то в сладкую патоку восторга, она больше не принадлежала грешной земле. Вокзал становился его Палестиной, его пагодой, его живительным родником. А мусор под ногами, нет, не так, целый мир, в котором мусор валялся под ногами, канул в Лету. Он создавал другой мир. Мир, в котором всегда не знает преград алая, пряная, едко-сладкая…
Молодежь. Чуть младше его самого. Ах какая девочка! Угловатая немного, но какая отчаянная смелость в глазах. Ангел мой, сейчас мы тобой займемся! Феликсу захотелось узнать ее получше. Такой, какой она была. Чтобы понять, чтобы угадать – какой она станет под его взглядом.
«Нет, нет, билеты беру я на всех!»
Ангелочек мой! Щедрая, самоуверенная, Боже, ни капельки сомнения в себе. Ни единой капельки. Даже обидно немного. Совсем никаких сомнений.
Он тонул в своих внутренних песнях. Это были гимны пряной власти. Слова текли нескончаемым потоком у него внутри и замирали только тогда, когда он начинал действовать. Тогда внутри наступала полная тишина. Слов не было. Целый мир исчезал вокруг, целый мир появлялся вокруг, алый мир появлялся вокруг.
«Не спорь со мной», – весело крикнула девушка кому-то и, держа в руках пятьдесят рублей, направилась в сторону касс.
Богатая. Красивая. Хочет всех облагодетельствовать. Подожди, ангелочек мой.
Она шла между билетными автоматами. Шаг, другой, третий… Поймал! Черные волосы самоуверенной красотки расплывались у Феликса перед глазами на алом фоне.
Она остановилась. Замерла. Ничего не делала. Он был далеко, в пятидесяти шагах. Но что-то случилось. Не было пряного привкуса. Или чего другого. Но чего-то точно не хватало…
Неожиданно Феликс с ужасом увидел, как в немом кино: мимо прошмыгнул парень. Быстро, уверенно. Серый такой, как мышь. Из рук забрал купюру. А она застыла, как балерина на сцене, и смотрела куда-то вперед, высоко подняв голову. Все произошло в доли секунды. Феликс отшатнулся. Что это?! Отпустил.
Но она не двигалась… Он смотрел на нее уже из этого мира, мира, где под ногами валяются рваные билетики с электричек, где повсюду горы мусора и табачный дым. А она была еще там, в ало-пряном… И вот когда она заморгала часто и рассеянно, стала то оглядываться на друзей, то с удивлением смотреть на свои пустые руки, Феликс увидел его…
Маленький сгорбленный старик с палочкой. Он смотрел на Феликса с чувством превосходства только одно мгновение. На этом кончилась власть Феликса и началось рабство. И все это промелькнуло в тот момент в одном стариковском взгляде.
Дед отвернулся и достал «беломор» из кармана потрепанного пиджака. Феликс, не веря своим глазам, смотрел ему в спину, пока не почувствовал с двух сторон одинаковый нажим крепких мужских плеч.
– Донести, или сам дойдешь? – поинтересовался тот, что слева, отвратительный, засаленный тип, но Феликс голову бы дал на отсечение, что у него в кармане нож и глотку он перережет, не моргнув глазом и даже не вспомнив об этом через час.
– Сам.
– Ну пошли…
Грязными улицами, закоулками, мимо пустых составов, мимо цыганок и пьяных шлюх, он шел за ними и понимал, что был только временщиком в чудесном мире едко-сладких грез…
Феликса привели в грязный, полуразрушенный дом. Везде сновали люди. Такие же серые, как мыши. Лица ни за что не запомнить. Или лица одинаковые? Его заперли в кладовке. Придвинули шкаф, чтобы не сбежал.
Пока вели, Феликс пытался как-нибудь зацепить взгляд своих конвоиров. Но они упорно не смотрели на него. Он даже шею вытянул, и тогда один из мужиков, сплюнув и зло выругавшись, пообещал ему «глаза вырвать». Странное ощущение, что эти люди все про него знают, не покидало Феликса.
Когда к ночи дверь отворилась и он увидел старика, то сразу все понял. Его вычислили. Это ведь именно старик «держал» девицу, когда Феликс упивался своей иллюзорной властью. Вот почему не было пряного привкуса.
Старику поставили стул, обращались к нему вежливо: Корнилыч. Он был в стареньком светло-коричневом пальтишке, с палочкой, в кепке. Короткая жидкая бороденка придавала ему легкое сходство с вождем пролетарской революции. Усадив Корнилыча, здоровенные мужики присели рядом с ним на корточки. Похоже, деда здесь не только уважали, но и побаивались.
– Ну что, хлопец, чей будешь? Ивановский? Или еще откудава?
– Местный.
Мужики недовольно загалдели.
– Да местных мы всех знаем.
Дед кивнул, и Феликса вмиг обшарили. Перед дедом на стол лег его красный паспорт.
– Посмотрим, – прошамкал дед, перелистывая страницы. Помолчал, подумал. – Настоящий? – спросил он, тыча в паспорт. – А зачем с собой таскаешь?
Феликс пожал плечами. И дед махнул рукой кому-то позади него.
– Не. Не промышлял он. Так, развлекался только.
– Значит, развлекался? Нравятся такие развлечения?
– Не знаю, – тихо ответил Феликс.
– Зато я знаю, – возвысил старик голос. – Нравятся. Ох как нравятся! Господом Богом себя, поди, возомнил.
Люди вокруг опять загалдели, реагируя, скорее, не на слова, а на тон деда. У Феликса немного закружилась голова. И вдруг он понял, что старик смотрит на него уже целую вечность.
Феликс собрался. Уставился на старика. Началось соревнование: кто кого. Корнилыч продержался минуты две, а потом… Феликс не понял, что же такое он сделал, только голова чуть не разорвалась от боли. Он обхватил голову руками и повалился на пол.
Снова вокруг послышался одобрительный гул.
– То-то, – сказал Корнилыч. – Знай наших. Петюх, иди сюды.
– А почему я?
– Потому что сказано – ты.
К деду, не глядя на него, подошел здоровенный увалень в потрепанных обносках. Одна нога у него заканчивалась толстой деревянной палкой.
– Ну-ка, хлопец, покажи, на что ты способен. – Корнилыч ткнул пальцем в одноногого.
Феликс нехотя стал смотреть на мужика и быстро вошел во вкус. Власти над человеком противиться трудно. Она затягивает и тебя самого по самое горло.
Взгляд одноногого потерял осмысленность. Он сел на пол, обхватил голову руками, стал не то плакать, не то причитать что-то неразборчиво.
– Пусть станцует, – откуда-то издалека донесся до Феликса шепот Корнилыча.
– Что? – не понял Феликс.
– Скажи ему: «Танцуй!»
– Танцуй! – приказал Феликс.
И великан стал неуклюже стучать деревянной ногой по полу. В глазах появились удалые искорки, руки выделывали в воздухе замысловатые пируэты. Танец закончился странным стуком. Деревяха отлетела. Но увалень не повалился на пол, лишившись опоры. Откуда ни возьмись, появилась настоящая нога. Правда, без ботинка.
– Кино, – отирал слезы Корнилыч, – просто кино. Ну ты даешь, парень!
Увалень пришел в себя, поглядел на ноги, обиженно схватил свое полено и замахнулся было на Феликса.
– Еще чего! – заорал на него старик, и тот быстро скрылся с глаз. – Машет он! Какой от тебя прок? По сорока рублев в день? И на кого замахиваешься? Это ведь наш клад бесценный! – Корнилыч подошел к Феликсу и оглаживал его теперь по плечам, по голове. – Разлюбезный мой! Жена-то есть?
– Нет.
– А кто есть?
– Мать умерла недавно. Больше никого.
– Повезло им, – сказал Корнилыч так, что у Феликса мурашки по телу поползли. – И тебе повезло. Ты ведь теперь с нами будешь. Теперь я буду говорить, что делать, а ты – денежки приносить. Стар я уже по двенадцать часов на перроне простаивать. Смена нужна. Да с твоими способностями мы еще много чего накумекаем… Только про дом свой забудь. Здесь теперь твой дом будет.
– Надолго?
– Насовсем, хлопец. Насовсем. А чтобы не скучно тебе было, ты ж у нас, поди, самый молодой будешь, – мы тебя к Ляльке заселим. Тоже молодая. Горячая, что кобыла…
Прошло несколько дней, прежде чем Феликс окончательно понял, куда попал. Такие места называют притонами. Но этот притон был особенный. Большая коммунальная квартира в девять комнат, постояльцы которой состояли в одной воровской шайке. Всего их было человек двадцать. Двое калек: увалень-притворщик, с которым Феликс уже познакомился, и настоящий, без обеих ног. Старый цыган, управлявший целой сворой цыганок, неизвестно где обитавших, занимал отдельную комнату, ни с кем не разговаривал и не выпускал изо рта трубку, хотя Феликс так ни разу и не увидел, чтобы из нее шел хотя бы слабый дымок. Две туалетные проститутки: Лялька и Ася. Лялька, с которой теперь жил Феликс, оказалась не очень-то и молода, даже постарше Феликса немного. А Ася – та вообще была в годах. Она не столько на страсть, сколько на жалость била. Человек шесть, те самые, которые все на одно лицо и напоминали мышей, работали с Корнилычем. Тот клиента держал, а они чистили. Были еще наперсточники, бугаи, на случай, «ежели кто чужой», и один отставной чин – числившийся хозяином квартиры. Как только какие-нибудь проверочки, он надевал форму, ордена и выходил вперед. Его роль была самая короткая и играть ее выпадало редко, потому как проверки были все случайные, с милицией Корнилыч был очень дружен, платил щедро.
Феликса приволокли к Ляльке и втолкнули в комнату. Повернули ключ в дверях. Самой хозяйки в комнате не было, однако повсюду витал запах не самых дешевых духов, на широком подоконнике стояли три горшочка цветущей герани, а внизу под батареей сушилось несколько пар капроновых чулок со швом. Лялька нагрянула в половине второго, если верить часам в ее комнате. Ввалилась в дверь и пьяно захохотала:
– А тут… еще… один! Только тебя… мне сейчас… не хватало!
Она обильно приправляла речь трехэтажным матом. Лялька повалилась на кровать и как была – в красной юбке с воланом, с размазанной по щекам помадой – тихонько захрапела. Феликс в эту ночь не сомкнул глаз. Все произошедшее казалось ему наваждением, сном. Сейчас он проснется, и весь этот идиотизм кончится наконец. Завтра же, как только рассветет и местные обитатели разойдутся, он унесет отсюда ноги и даст себе клятву никогда больше не появляться ни на одном вокзале. Смешно, ей-богу, разве можно держать человека силой где бы то ни было? Да и где она, сила? Кто будет его удерживать? Неужели эта девчонка? Или калеки из соседней комнаты? Или, может быть, Корнилыч?
Только вспомнив старика, Феликс почувствовал, что по коже побежали мурашки. Он закрыл глаза и попробовал представить себе его лицо, чтобы убедить себя самого в том, что это всего-навсего хилый семидесятилетний старикашка, из которого давно песок сыплется. Но ничего не получалось. Вместо лица старика в воображении возникал оскал дикого вепря. Из открытого рта капала кипящая слюна. Глазки буравили Феликса насквозь. Он физически ощущал взгляд этого отвратительного создания.
Что-то внутри говорило ему: «Отсюда не так просто уйти, и не думай. Это заколдованный мир, в котором обитают человеческие отбросы, жестокий мир, где любое непослушание карается смертью». Хватаясь за остатки здравого смысла, Феликс пытался вспомнить о том, как он жил раньше, как схоронил мать, как выглядит его квартира, его комната. Но голова все больше и больше наполнялась туманом, а память упорно молчала, не желая ввязываться во внутреннюю борьбу.
К утру, после бессонной ночи, Феликс понял, что выхода из этого заколдованного мира не существует. В его сердце поселился парализующий страх. Как только он начинал думать о побеге, этот страх сковывал его по рукам и ногам. Сердце начинало биться через раз, дыхание становилось рваным и тяжелым.
Когда утро наполнилось гомоном и шумом уличного транспорта, Феликс наконец задремал. Заглянув к нему в комнату, Корнилыч нашел его лежащим на спине, с неестественно поднятыми плечами. Его лицо было перекошено от ужаса. Грудь часто и судорожно вздымалась и опускалась. Корнилыч хихикнул и толкнул Феликса в плечо:
– Вставай, хлопец. Работать пора!
Так началось его многолетнее рабство.
Когда вокруг тебя четыре стены и дверь заперта, заключение не слишком тяжкое бремя для человека разумного. Он может окунуться в воспоминания, удариться в медитативные грезы, писать книги, в конце концов. Информационный карантин даже полезен для здоровья в некоторых случаях. Совсем другое дело было – заключение Феликса.
Нет-нет, его не заперли в четырех стенах, не связали по рукам и ногам, не кололи наркотики. Он мог передвигаться, действовать, разговаривать с людьми. В этом смысле он был абсолютно свободен. Однако маленький старичок парализовал его волю. Он теперь не знал, что ему делать со своей свободой, как, впрочем, не знают многие из нас. Он ничего не хотел, ни к чему не стремился. Утром ему было лень подниматься с кровати, вечером лень отходить ко сну. Приказы Корнилыча казались благом. Что он без них? Мешок с костями, валяющийся целыми днями возле лохматой Ляльки.
Когда Корнилыч подходил к их комнате, Феликс оживлялся, предчувствуя разумную активность в течение дня. Как конь, бьющий копытом в приближении хозяина, предчувствуя разминку, Феликс спешил открыть дверь первым, выбежать навстречу. Так начинались дела.
Поначалу дела были простыми, даже элементарными. Феликс с приличного расстояния ловил взглядом какого-нибудь замечтавшегося фраера, приготовившего деньги у кассы, а кто-нибудь из серых человеко-мышей шмыгал мимо, с быстротой молнии выхватывая купюру. Через минуту после этой короткой операции Феликс отпускал пострадавшего, и тот, как правило, списывал отсутствие денег в руках на свою забывчивость или вовсе ничего не мог понять.
Никто из пострадавших не жаловался: сумки были целы, кошельки на месте, если их и потрошили человеко-мыши, то обязательно возвращали на место – в пиджаки или кошелки. Особенно удачно они промышляли возле железнодорожных касс. Вот почтенный отец семейства занимает очередь в кассу и выходит покурить на платформу, становясь как раз напротив Феликса, в десяти метрах. В правом кармане рубашки паспорта, в левом деньги, видно невооруженным глазом. Он достает пачку, вынимает сигарету и хлопает себя по карманам. Лицо его тут же прокисает, он шарит глазами по сторонам, готовый подскочить к первому встречному с просьбой прикурить. Но тут доблестный папаша напарывается на взгляд Феликса и замирает. Мимо проходят два подвыпивших гражданина и, на секунду останавливаясь возле него, чиркают спичкой, заслоняя огонек ладонями. Ладонями, плечами. Чтобы не погасла. И растворяются в толпе. Когда мужчина приходит в себя, в руке его дымится зажженная сигарета, паспорта лежат в левом кармане, а правый карман безнадежно пуст. Папаша машет руками, словно взялся полоскать белье, швыряет зажженную сигаретку на землю и яростно затаптывает. Потом бросается к ближайшему ларю, выскребая из карманов брюк мелочь, и покупает чекушку.
Мелкие торговцы, постоянно прописанные на платформах, подыгрывали им иногда. Бабульки, продающие позавчерашние букетики, купленные по дешевке в оранжерее неподалеку, часто сами рвались поучаствовать в игре. Выбирали девицу побогаче среди вокзальной голытьбы и проходу ей не давали: «Купи, милая, да купи мои замшелые цветочки. Я, мол, посмотри, бабка какая старая, а ты молодая да красивая». На это многие девки покупались. Лезли в модные сумочки и… «Ну так чего, дочка. Деньги, что ли, дома забыла?» – рассерженно и нетерпеливо частит старуха. «Кажется, да-а-а», – тянет девица. И-их!
Карманники кивали на Корнилыча с уважением. Чисто работает, гад. Смотреть приятно. За долгие годы никаких жалоб, ни единого обращения к ментам, ни единого вопля «караул!». Нет денег – и нет. Не понимает человек – почему нет. Были же вот только что. И никто не подходил. Даже мимо никто не пробегал. Вытащить не могли. Выходит, сам выронил, ворона. И давай искать дырки в карманах штанов, в сумочках, в кошелках.
Все это Феликса забавляло, вот только не было в этом больше привкуса власти. Власть теперь вся была у Корнилыча. И охота его из алой превратилась в серую, будничную…
Вскоре у Корнилыча в подручных замелькал один психопат болтливый. Слова из него сыпались, как горох из мешка, стукали по голове собеседника бессмысленно, но непомерно часто. Денек Корнилыч с ним шептался, а потом псих этот пропал. Вернулся через неделю, стоял у двери и пританцовывал: «Нашел, нашел, нашел, нашел. То, что надо, штучка так штучка, то, что надо…» И посыпал своим горохом бессмысленным чаще обычного…
Задумался после разговора с ним Корнилыч. Дельце это он давно обмозговал, только рисковать собственной шкурой не хотелось. А Филька может, чего ему? В крайнем случае – не выдаст. Даже если захочет…
6 (Феликс)
Последний дом окнами упирался в забор. На скамеечке возле подъезда сидели старушки – губы распустили, раскисли. Скучно. День стоит, редко кто показывается, чего уж тут хорохориться. Вот вечером, когда с работы пойдут…
– Заняться нечем? – резко окликнула их с порога седовласая коренастая женщина.
– Здравствуйте, Варвара Семеновна, – заискивающе принялись кивать бабки, стараясь втянуть животы и вжать головы в плечи.
Варвара Семеновна, молча кивнув им и поджав губы, натянула сиреневые перчатки и гордо прошествовала мимо.
– Ай, Господи. Корчит из себя.
– Ага, ага, – часто закивала другая, испуганно глядя вслед удаляющейся Варваре. – Прямо-таки дама. Как будто мы лыком шиты. А грозная какая! Слышь, боюсь я ее че-то, как свекра покойного…
– Все деньги. Оставил бы мне муж, сколько ей, я бы еще не так… Во! Ясно дело – жулик был. Мой-то вон честный, от бутылки помер.
– И мой, и мой, – снова закивала вторая.
У Варвары Семеновны денег действительно хватало. Муж был большим чиновником, работал в министерстве. Скопили на безбедную старость. Жаль, муж, царствие ему небесное, не дожил. Сразу после пенсии и окочурился. Все водка проклятая…
Шествуя мимо детской площадки, где неряшливые мамы болтались все утро с надоевшими им до смерти гомонящими детьми, Варвара Семеновна еще раз возблагодарила Бога за то, что не послал ей кару небесную в виде деточек. Сначала, пока молодая была да глупая, переживала, завидовала подругам, цацкавшимся с пеленочками да бутылочками. Но их карапузы быстро превращались в нескладных прыщавых подростков, приносивших домой двойки и дурные манеры. И зависть улетучилась как дым, уступив место чувству облегчения – хорошо не у меня! А впоследствии подросшие еще лет на десять бывшие малолетки и вовсе начинали с родителями настоящую войну за какие-то свои никому не понятные права, за метры в малогабаритных квартирах, за собственных народившихся отпрысков. Дикость.
Бог миловал Варвару, лишив ее деточек. Подруги, упивавшиеся своим материнством, теперь где? На кладбище. А почему? Да потому, что все соки из них выпили, все жилы вытянули деточки-то родные. А она идет по парку гулять в кожаных сапожках да в кашемировом пальто. И на душе у нее спокойно, и выглядит она не как замызганная старушенция, прущая тяжелые сумки на всю семью, а как женщина, знающая себе цену. Как там вчера говорил Коля?..
Ах какой человек приятный этот Коля. Интеллигент, художник. Правда, с легкой придурью, но на то он и художник. Обещал пригласить на персональную выставку, а потом на банкет от Союза художников. Познакомились они неделю назад здесь, в парке. Он стоял перед мольбертом в лиловом берете. Такие, конечно, нынешние молодые люди уже не носят. Но она еще помнила старые времена…
Она не удержалась – заглянула через плечо. На мольберте были неопределенные мазки: яркие, размытые, обещающие неповторимый осенний пейзаж их парка.
– Сколько может стоить ваша картина впоследствии? – спросила Варвара Семеновна и поправила перчатки.
Ей хотелось показать, что она не старуха, коих в парке тьма, что она разбирается в живописи, что она может себе позволить купить понравившееся полотно, в конце концов. В их районе, а тем более в парке, так редко появлялись трезвые мужчины… А тем более люди ее круга. Ей хотелось соответствовать.
И все-таки он был с легкой придурью, этот Коля. Сыпал фразами, как горохом. Слова не давал вставить. Потом спохватился:
– Вас, наверно, ждут?
– Я вдова, кому же меня ждать?
– Дети, внуки…
– Бог миловал!
Так она ему и сказала: «Бог миловал». И он понял. Даже улыбнулся ей так солнечно. А потом целую неделю названивал насчет предстоящей выставки. «Я вас не застал в четыре…» – «В это время я обычно в парке…» – «Вы не брали трубку? Что случилось?» – «Да нет же! Просто по утрам я обычно выхожу в магазин». – «Какое у вас интересное расписание!»
Варвара Семеновна шла по узенькой дорожке в сторону сберкассы. Сегодня давали пенсию. Она заранее предупредила Колю, чтобы не звонил с одиннадцати до часу. Получив деньги, она любила зайти в кафе-мороженое, в магазин тканей на углу и обязательно – в кондитерский. Ей нравилось расхаживать так, пока улицы пусты, пока дети не вырвались из соседней школы, оглашая округу отвратительными криками и визгом.
Вдруг через дорогу у самой сберкассы она заметила Колю. Он был в модном костюме, при галстуке. Неужели перенесли выставку? Боже мой, успеет ли она собраться? «Ко-о-ля!» – закричала она, ступая на мостовую.
Это было последнее, что она запомнила из этого странного дня.
Она пришла в себя глубоким вечером, когда за окном весело мигали звезды. «Ах», – только и сказала она, вываливаясь из забытья в темноту собственной комнаты. «Ох», – сказала она четверть часа спустя, все еще ровным счетом ничего не понимая, и зажгла свет.
В комнате ничего не изменилось. Только было несказанно душно и слегка пахло табаком. Может быть, с улицы тянуло? Варвара Семеновна выглянула из окна. Скамеечка была пуста. Она посмотрела на часы и если бы могла, то обязательно присвистнула бы. А так получилось – только фыркнула, как это делает соседская кошка, когда она проходит мимо нее по утрам. Несносная тварь.
В голове у Варвары Семеновны прояснялось все больше и больше. Сегодня, то есть вчера уже, конечно – вчера, ведь сейчас половина первого ночи, вчера она должна была получить пенсию. Деньги всегда были лейтмотивом любых ее рассуждений. Она могла позабыть обо всем на свете, но получить пенсию день в день она никогда не забывала. Не могла забыть! Может быть, у нее начался склероз? Говорят, с возрастом это случается со всеми. Конечно. Разумеется. У нее склероз. Поэтому то она и позабыла, что делала днем и почему так долго дремала в кресле.
Варвара Семеновна полезла в сумочку, вытащила портмоне, щелкнула замочком. Пусто. Руки у нее затряслись так сильно, что портмоне полетело на пол. Она никогда не тратила все до копеечки. Была у нее такая примета – в кошельке всегда должен оставаться по крайней мере рубль. Но на этот раз в портмоне не было не только пенсии, но и даже мелочи, даже какой-нибудь завалившейся за подкладку копеечки.
Она села на стул и попыталась вспомнить. Да, да, она шла через парк. Потом увидела Колю. Перешла дорогу. Нет, ей показалось. Коли там не было. Слишком много она о нем в последнее время думала. Вот и померещилось. Да еще с ее зрением… Коли там не было, а был человек. Лица никак не вспомнить. Что он ей сказал? Что-то такое сказал, и довольно убедительно. Так сказал, что она поняла – он прав. Абсолютно прав. Только бы вспомнить теперь – в чем прав? И они пошли…
Господи! Тут в ее памяти замелькали каруселью картинки одна страшнее другой. Она с этим человеком, ну с тем самым, который был абсолютно прав, идет в сберкассу, получает деньги и отдает ему. Не может быть! Не может… Но она это делает. Потом он еще что-то говорит ей, и они идут, идут по улице, идут… к ней домой! Он говорит, а она лезет в комод… Потом они снова идут в сберкассу… Потом какие-то люди, а он снова говорит… Люди шарят за картиной… в шкатулке… И только одна мысль прочно сидит в ее голове: «Им нужно все отдать. Все-все отдать. Обязательно».
Покрывшись холодным потом, Варвара Семеновна на негнущихся ногах прошла к комоду, выдвинула нижний ящик и запустила руку под шуршащее, накрахмаленное нижнее белье. Ну конечно. Все в порядке. Это был только страшный сон. Она ведь задремала в кресле. Вот она, сберкнижка. Вот она, ее серенькая утица, несущая пусть не золотые, но по крайней мере серебряные яички. Варвара Семеновна осторожно погладила корочку сберегательной книжки. Кругленькая сумма, отложенная еще в те времена, когда муж был в силе, давала ей теперь возможность ежемесячно снимать процентик. Пусть маленький, но люди за такие деньги работают не один час и не два. Она аккуратно открыла книжечку. В графе расход стояла кругленькая сумма. Варвара Семеновна пошарила очки, но потом прищурилась и увидела…
Получалось, что вчера она сняла с книжки все деньги. Варвара водила пальцем слева направо и справа налево, но от этого ничего не менялось. Чернила не испарялись, вчерашнее число не исчезало. В остатке болтался один рубль.
Сердце прихватило не на шутку. Но Варвара Семеновна была сейчас глуха ко всему, что не касалось ее денег. Она бросила книжку на пол, рядом с портмоне, и подошла к трюмо. Шкатулка оказалась пуста. Равно как и конвертик с двадцатью долларами, лежащий на черный день в буфете под большим расписным чайником, равно как и тайничок за картиной, висящей на стене.
Тупо уставившись в одну точку, Варвара Семеновна поняла, что сейчас умрет. Сердце ныло безостановочно. Ее обобрали, напоили чем-то и обобрали. До нитки. Она было бросилась к телефону, но на полпути остановилась и сникла. Сама ведь привела домой, сама все отдала. Никто не угрожал, никто даже не просил. Все сама.
Ей хотелось завыть белугой. Выть без остановки несколько часов, пока не наступит смерть. Она представила, как через неделю или даже больше ее хватятся соседи. Неизвестно, сколько пройдет времени, пока ее найдут. Она будет лежать на полу, вздувшаяся и вонючая. И, брезгливо зажав нос, милиционер вызовет работников морга. А потом приедут тупые равнодушные лбы со стеклянными глазами… И, не обмыв, не прочитав молитву, закопают в яму, а может быть, еще и надругаются над ее телом…
Думая об этом, она расхаживала по комнате. Душу леденил ужас. Она не заметила, как вышла из дома и спустилась вниз. Варвара Семеновна мерила шагами улицу и считала про себя, чтобы окончательно не сойти с ума от непрошенных мыслей о смерти, о морге. Из кустов ей навстречу вышла крупная тощая псина с проплешиной на спине и слабо завиляла хвостом, не питая, пожалуй, давно никаких надежд на человеческое сочувствие. Варвара Семеновна брезгливо отпрянула, и собака, опустив хвост, пошла обратно, куда-то в черную ночь…
Неожиданно женщине пришло в голову, что… Конечно. Вот же как все просто! Тогда больше никто никогда… Тогда, если что с ней случится – она будет выть… Обязательно будет выть – и все услышат.
– Эй, – взвизгнув, окликнула она собаку как человека, а потом, опомнившись, сложила губы трубочкой и часто зачмокала.
Собака обернулась и неуверенно направилась к женщине.
– Иди, иди ко мне, моя радость, – тараторила Варвара Семеновна, отступая и зовя собаку за собой, – иди, родненькая моя. Пойдем со мной, а? Будешь жить у меня, а? О, мы с тобой так заживем! Я буду покупать тебе косточки в кулинарии, там есть, я видела. Ну иди же ко мне, – она неожиданно заплакала, – иди. Они тогда оставят меня в покое. У меня все есть. Нам хватит на двоих. Иди, я тебя покормлю…
Возвращающиеся домой за полночь подвыпившие прохожие с удивлением смотрели, как маленькая крепкая старушка, подскакивая, быстро двигается в сторону дома, упирающегося в забор, а вслед за ней вскачь радостно несется огромная тощая дворняга, тоже, вероятно, не первой молодости…
Богатеньких одиноких старушек находил Генка Шлык – племянник Корнилыча. По пьяни он мог биться в истерике, что баба, брызгать слюной и плакать навзрыд о чем-то никому не понятном. Дома он позволял себе расслабиться. Особенно после удачной операции. Напиваясь, говорил, что старух ему жаль, что все, что он делает с ними, – отвратительно, что он их почти любит и душу перед ними выворачивает наизнанку, а Корнилыч платит ему за такую поганую работу всего семь процентов. «Прости меня, Марья Игнатьевна, – рыдал он по очередной обобранной бабульке. – Ты ко мне как к родному, а я, падла, под монастырь тебя подвел. Под высокий белый монастырь».
Но Генка никогда не углублялся в свои страдания. Через минуту он уже ржал как конь над пошлым анекдотом, который рассказывал цыган, и спроси его, кто такая Марья Игнатьевна, – ни за что бы не вспомнил.
В деле он был настоящий артист. Профессионал. Пользуясь наводками мелкой шпаны, он дня два наблюдал объект. А на третий подкатывал к нему именно в том виде, который бабулька предпочитала. За последнее время он побывал и детдомовским сиротой, и художником Колей с надвигающейся персональной выставкой, и моряком Сеней, уходящим на днях в загранку, и даже молодым альфонсом-импотентом. Он легко преображался в махрового еврея или ярого антисемита с прокоммунистическими взглядами, в хохла или татарина, в немца или финна – в зависимости от того, кого бабульки больше любили. Рожа у него была – на все лады. Ошибки он исправлял быстро. По ходу представления. И если бы Генка играл в театре, а не на улице, то давно получил бы звание народного артиста.
Поскольку Генка приходился Корнилычу вроде как родней, Феликс часто наводил разговор на его обожаемого дядюшку. Но каждый раз Генкауворачивался. Он бил себя кулаком в грудь, хрипел про Корнилыча какую-то правду: «Никому не говорил – тебе скажу», – но не сообщил Феликсу ничего нового о старике. Ничего такого, за что можно было бы зацепиться, чтобы подумать об освобождении.
За год своей привокзальной жизни Феликс узнал о старике лишь то, что знали остальные.
7 (Корнилыч)
Когда на блокадный Ленинград сыпались бомбы, Корнилыч носил обычное имя-отчество и, как все, сбрасывал зажигалки с крыш. На фронт его не взяли по причине не то чтобы ослабленного, а вообще никакого здоровья плюс близорукости. До войны он был школьным учителем, а теперь стоял у станка, падая от усталости, засыпал стоя, и чем дальше, тем больше не понимал, зачем он живет, кто он такой и что происходит вокруг.
Жил он у родителей жены, горячих патриотов коммунистической державы и больших охотников до изучения последних речей Иосифа Виссарионовича. Жил – как у Христа за пазухой. У них была просторная квартира, куда он и перебрался сразу после регистрации брака и шумной свадьбы, на которую съехались все родственники невесты до пятого колена. Многие приехали из других городов, поэтому о первой брачной ночи несколько дней не могло быть и речи. Квартира превратилась в полевой лагерь. Спали на кроватях, диванах, на полу в каждой комнате человек по пять. Включая и комнату молодоженов. Только через три дня родственники, уничтожив все съестные запасы хозяев, разъехались, обещая вернуться к рождению наследника.
Через девять месяцев и три дня родилась наследница, и снова их дом превратился в место паломничества. Однако теперь робкий Корнилыч настоял, чтобы в комнате новорожденной никто не храпел, да и вообще потребовал оставить ребенка в покое. Это был первый случай, когда он подал голос и выказал в семье свою волю, чем очень порадовал тестя и раздосадовал тещу.
Жену свою он, несмотря ни на что, любил. Несмотря на шумных родственников, на то, что теща в день получки и аванса поджидала его, поджав губы, на кухне и снисходительно пересчитывала деньги, которые он отдавал ей беспрекословно все до последней копеечки. Потом она журила закомплексованного очкарика-зятя за то, что не умеет пробиваться в жизни, и со вздохом прятала его получку на огромной, как подушка, груди.
Может быть, эту легенду придумал сам Корнилыч – никто не знал. Ее пересказывали друг другу обитатели привокзального дома, не вдаваясь в подробности и не задумываясь о том, насколько она подлинная.
Когда началась война, в хлебосольном семействе Корнилыча было столько снеди, что хватило бы на год ила даже полтора, при ее экономном потреблении. Но ни теща, ни тесть и представить себе не могли, что война продлится так долго. Тем более – никто из них тогда не знал страшного слова «блокада».
Первой жертвой голодной зимы стала теща. Она лежала в своей кровати белая и распухшая вдвое, синея от холода, царившего в большой квартире. Ее смогли отвезти на кладбище, два дня рыли могилу обливающийся слезами, обессиливший тесть и доходяга Корнилыч. Получилось неглубоко, но уж как получилось.
Тесть сильно замерз по дороге с кладбища и умер спустя две недели после жены от воспаления легких. Корнилыч свез его в общественную могилу. Долбить мерзлую землю сил не было. Он, не привычный к физическому труду, впервые оказался на заводе. В голове от усталости стоял сплошной, туман, ноги подкашивались, и он думал только о том, как бы не упасть на улице и не замерзнуть.
Жена умерла неожиданно для него. Она, как всегда, ни на что не жаловалась, ничего не просила. Он не догадывался, что она каждый день подсовывала Соне свой кусочек хлеба. Жена умерла во сне. Он тогда заплакал в первым и единственный раз в своей жизни. Заплакал, как баба, всхлипывая, взвизгивая и размазывая кулаком горячие слезы по небритым щекам. Они все умрут, понял Корнилыч. К чему тогда этот бессмысленный, выматывающий труд, к чему сопротивление? Он не пойдет сегодня на работу. Не оставит дочку одну. Они сядут с ней, обнимутся и будут ждать смерти. Лучше уж так.
Но трехлетняя Соня не пожелала сидеть с папой в обнимку в ожидании неизвестно чего. Как только проснулась, она попросила есть. Корнилыч попытался сделать вид, что спит, что не слышит, но она тормошила его за плечо и старательно выговаривала: «Папочка, папочка, Соня кушать хочет». Через пятнадцать минут он не выдержал, снес Соню в бомбоубежище, усадил рядом с соседкой и пошёл по городу куда глаза глядят.
Он готов был зарезать за кусок хлеба, перегрызть горло, но убивать было некого, навстречу ему попадались такие же, как он, люди с голодными глазами. У Пяти углов он услышал слабый стук в окно, кто-то звал его. Опухшая от голода старуха с глазами, полными мольбы, просила хлеба. Наверно, сошла с ума, подумал он и пошел к выходу, но женщина ухватила его за рукав и все повторяла: «Пожалуйста, у вас же много, дайте мне кусочек, я знаю – у вас много. А я вам…» Он хотел вырвать руку, уйти, но тут заметил, что в руках она держит массивное золотое кольцо с необычным голубым камнем.
Корнилыч замер и затаил дыхание. Теперь было кого убивать, но не было сил даже шевельнуться. Он не мог отвести глаз от кольца. Протянул было руку, но старуха с удивительным для ее лет проворством отдернула свою. «Нет, вы мне сначала хлебушек покажите. Есть ведь у вас? Есть! Я знаю!» И вот тогда случилась невероятная вещь. Каруселью перед его мысленным взором промелькнули страшные картины: мертвая распухшая теща, холодная жена, маленький, скорчившийся в постели тесть, а потом – глаза дочери, тоненькой девочки с прозрачной кожей. Это кольцо можно обменять на хлеб. Нужно только дать по голове этой безумной бабке, схватить кольцо и бежать отсюда сломя голову. Она все равно умрет. И так уже на ладан дышит. А Сонечке еще жить да жить. Был бы только хлеб…
Но он не мог двинуться с места. Он посмотрел старухе в глаза, мысленно умоляя ее отдать кольцо, протянул вперед пустую руку и сказал: «У меня есть хлеб. Вот». И тут…
Она выронила кольцо и радостно запрыгала вокруг него. Потом схватила несуществующий кусок хлеба с его ладони и стала грызть его, хрюкая и повизгивая, как уличный пес. Не сводя с нее глаз, Корнилыч нагнулся, поднял кольцо и, выскочив на улицу, побежал по разбитому тротуару под яростные завывания сирены и грохот далеких взрывов.
Он долго не мог обменять кольцо на хлеб. Хлеб нужен был всем, а драгоценности на обмен предлагали тоннами. Но все-таки ему повезло. Мужчина в военной форме, с портупеей, в добротном пальто внакидку, заинтересовался его кольцом.
– Украл? – прищурившись, спросил он, разглядывая попеременно то кольцо, то тощего очкарика.
– Теща умерла, осталось.
– Врешь, поди.
– Нет, не вру.
– Смотри, конфискую сейчас… – Мужчина не успел договорить.
Корнилыч жадно ловил его взгляд, в ужасе думая о том, что попался, что полоумная бабка заявила на него, и вот его поймали.
В памяти снова всплыли глаза дочери, и он, пытаясь придать голосу угрожающую интонацию, сказал: «Отдай!»
Интонация получилась скорее жалкой, чем угрожающей, но мужчина вдруг выпятил грудь, как на параде, приложил руку к козырьку и ответил: «Есть!», протягивая Корнилычу пакет с хлебом. Ни минуты не колеблясь, Корнилыч схватил хлеб и затерялся в толпе.
Он кормил Сонечку с ладони, отщипывая от четвертушки буханки малюсенькие кусочки хлеба. «Не ешь быстро, – умолял он. – Так никогда не наесться».
Тогда-то она и рассказала ему, как мама каждый день отдавала ей свой кусочек. Корнилыч слушал краем уха. Больше всего его занимало то, что произошло в течение этого дня. Он пытался вспомнить каждую мелочь. Ну старуха явно выжила из ума, от нее можно было ожидать всего, чего угодно. Но военный! Он ведь не мог оказаться психом. Хотя, побывав в боях… Постой, он ведь откормленный был, розовощекий. В каких боях? Да он пороху и не нюхал. Выглядел – как с курорта.
Из глубин его естества поднимался неведомый восторг, он вскочил, стал приплясывать вокруг чудом уцелевшего стола. Хотелось немедленно с кем-нибудь поговорить. Корнилыч обернулся к дочке.
– Соня, миленькая, теперь у нас будет хлеб!
– И молочко?
– Молочко? Да, конечно. И тепло.
– А как это?
– Увидишь. Погоди…
Нетерпение его было так велико, что он не удержался, выскочил в коридор, через две ступеньки побежал наверх, к соседке Марусе. Они ведь давно знакомы, если что не получится, она простит, посмеется с ним вместе и простит. Замерев на пороге ее квартиры, он еще успел подумать о том, что сам, вероятно, сошел с ума, что такой бред может прийти в голову только умалишенному, голодному, находящемуся на грани отчаяния человеку. Но он был взвинчен до предела, ему казалось, что огромное опьяняющее чувство сейчас разнесет его голову, он постучал…
– Мотя, – он пристально посмотрел ей в лицо, – соли дайте в долг.
Она вытаращила глаза и хотела выругать его как следует. Но он ее не видел. Он видел только соль и улыбался. Через секунду Мотя повернулась и пошла в кухню. Корнилыч, ступая на цыпочках, пошел за ней следом. Мотя полезла куда-то наверх, на антресоли, достала синюю баночку, граненый стакан и стала из баночки в стакан пересыпать… пустоту. Корнилыч присмотрелся. На баночке белыми печатными буквами было написано «Соль».
Он выскочил из квартиры и спустился к Соне. Подхватил на руки, закружил по комнате так, что она завизжала от страха. Испугался, опустил на пол. Девочка погрозила ему пальцем.
– Не надо так. А вдруг ты упадешь? – сказала она ему строго, совсем как мать.
– Мы выживем, – срывающимся от волнения голосом сказал ей отец. – Теперь мы выживем.
На следующий день он нос к носу столкнулся на лестнице с Мотей.
– У меня-то, знаешь, в квартире шарили.
– Что ты говоришь! – воскликнул Корнилыч, краснея до самых кончиков волос. – Что-нибудь взяли?
– Да чего брать, когда ничего нет? Но рылись – факт. Баночку достали из-под соли. Точно помню – на антресоли ее задвинула. Соли-то все равно нигде не достать.
– Я тебе достану немного, – пообещал Корнилыч. – Обязательно достану.
Он употреблял свой дар экономно и разумно. На что ему сразу много? Поймают, обратят внимание. Нет, он будет неприметным, маленьким человечком. Будет каждый день пытаться обменять старые ветхие шерстяные носки на ломтик хлеба. Пусть над ним посмеиваются. Да, такой он дурачок, неудачник. А может быть, и с приветом слегка. Выживший из ума безобидный дяденька.
Появляясь на рынке, он поначалу присматривался. Кто-то нес последнее из дома. Стоял полдня с выцветшими от времени шторами, которые никому не были нужны. Но были и такие, которые приходили каждый день с черствым хлебом, пакетиком крупы, сухого молока, с витаминами. «Кто ж вы такие, черти? – думал про себя Корнилыч. – Где ж вы служите? Не иначе как в аду!»
Действовал он тонко, продумывая каждый шаг до мелочей. Выжидал, пока владелец продуктов не останется один, и, проходя мимо, задавал какой-нибудь глупый вопрос. Человек удивленно смотрел на него, а через несколько секунд уже – сквозь него. Корнилыч забирал сверток, прятал его в снег, в укромном, заранее сооруженном тайнике, и через пять минут снова топтался в валенках на своем обычном месте.
Пострадавшие, обнаружив пропажу, дико озирались, но вокруг никого не было, а вспомнить они ничего не могли. Один попался особенно досужий. Обошел всех, осматривая с головы до ног, даже карманы требовал выворачивать. Однако Корнилыча словно не приметил – прошел мимо.
Через месяц у них в квартире появились буржуйка и небольшой запас дров. В столе на полках стояли стеклянные баночки с крупами, с отрубями и даже сухим молоком. Там же, чтобы не увидела ненароком заскочившая соседка, висела тонкая леска, на которой сушились тонко нарезанные ломтики хлеба. Соня каждый день упрямилась, прежде чем проглотить ложку рыбьего жира. Мотя к великой своей радости получила спичечный коробок соли.
Когда блокада кончилась, в баночках под крупой у Корнилыча завелись и колечки, и часики. Да не простые, а все больше золотые, старинной работы. Все бомбы благополучно пролетели мимо их дома, война катилась к победному концу, нужно было думать о будущем.
К концу войны он заболел туберкулезом. В легких нашли сразу две маленькие дыры – каверны. Предлагали операцию, но он отказался. Чего толку под нож ложиться, раз никаких гарантий. Он оформил инвалидность.
Сумасшедшая старуха, снившаяся ему каждую ночь со своим кольцом и безумной мольбой в глазах, перестала являться. Он понял – простила. Она простила его, умирающего. Как только старуха пропала из снов, он потерял жалость. Потрошил всех подряд: молодого удалого солдатика, с трофеями возвращающегося из Германии, молочницу с ее грошами, дебелую мадам в мехах возле театра, работягу, идущего с получкой домой.
Ну что, солдатик? Вон он, стоит и озирается, не понимает, бедный, что с ним случилось. А домой придет – все поймет. Нет ни бус из самоцветных камешков, ни золотых цепочек, толстых, крученых, в белые салфетки тончайшей ткани обернутых, ни трех пар часов. Не жалко солдатика. Он молодой, здоровый – заработает, купит. А у Корнилыча дочка маленькая сиротой останется скоро. Ну что, работяга? Займет, выкрутится, а о его девочке никто не позаботится после его смерти.
Корнилыч, как заболел, стал соседке Моте внимание оказывать – то продукты подкинет, то брошку какую. Та женщина была сердечная, муж на фронте погиб, сын тоже. Стала она к Соне заходить, пока Корнилыча дома не было. Вернется он, а в доме чистота, порядок, Соня в кроватке спит. Корнилыч Моте приплачивать начал за ее труды. Так и зажили.
После войны появились лекарства разные от туберкулеза. Врачи выписывали, Корнилыч глотал, да так потихоньку-полегоньку и затянулись его дырочки в легких. Не умер. Даже с инвалидности снять хотели. Пришлось заплатить кому следует, чтоб не трогали.
Сонечка выросла, школу заканчивала. Дом был – полная чаша, Соня одета лучше всех девочек, даже Мотя в кроличьей шубе до пят с авоськами бегала. Она давно уже у Корнилыча целый день проводила, делала для Сони все, что и мать бы не сделала. Только спать к себе в квартиру поднималась. А утром рано уже на посту, на кухне. К семи утра и завтрак готов, и молочко стоит свежее, и пирожки теплые.
Через несколько лет Соня вышла замуж, родила сразу троих. Корнилыч прикупил себе дом в области, а квартиру молодым оставил. Мотя теперь с детьми помогала, а он открыл лучшее место для промысла – вокзал. Постепенно люди стали к нему прибиваться. Попрошайки-инвалиды, цыгане. Все не так одиноко. Да и в работе помощь от них была значительная. Инвалид, он как пристанет к прохожему: «дай копеечку», тот непроизвольно за карман хватается, а Корнилыч теперь знает, где у него деньги лежат. Пройдет мимо только – и нет кошелька.
На себя Корнилыч ничего не тратил. Много ли ему нужно? Все – дочери, внукам. А им много было нужно, как кукушатам.
Через три года после рождения детей зять загулял. Окрутила женщина на пять лет старше, работали вместе. Он, бедолага, метался-метался да и рассказал все Соне. Прости, мол, ухожу, потому как полюбил другую. А у самого глаза на мокром месте. Соня в слезы, к отцу: «Что же я теперь делать буду?» А отец ласково гладит по голове и все повторяет: «Не плачь, образуется, ерунда, никуда твой муженек не денется».
Прав оказался отец. Все быстро утряслось. Не без его, конечно, помощи. Встал на следующий день муж, и словно не было ничего: жену в щечку чмокнул, вернулся рано, сел телевизор смотреть. День проходит, второй, третий. Соня ничего понять не может. «Разве ты уходить передумал?» – спрашивает. А он смотрит на нее как на шальную: «Ты чего, – говорит, – белены объелась? Куда мне идти?» Соня давай телефон накручивать, узнавать про разлучницу. А та, ей отвечают, уволилась, в другой город подалась. Чудеса, да и только! Перекрестилась Соня и тоже сделала вид, что ничего не было. История эта быстро всеми забылась. Разве что только соперница Сонина не сразу оправилась.
Странная вещь с ней приключилась. Вышла она после работы на улицу и ничегошеньки больше не помнит. Очнулась у мамы в Киришах. Как приехала – не помнит. Зачем – не знает. Кинулась в город звонить хозяйке, у которой комнату снимала, та ее обругала по телефону и трубку бросила. А вроде бы милая женщина была, жили с ней мирно, ладили. На работу звонит, а отделе кадров смеются: «Ну и артистка ты, сама ведь заявление написала по собственному желанию. На твоем месте два дня уже практикантка…» Два дня? Она к календарю. Действительно. Два дня прошло с тех пор. А она о них ничего не помнит. Сны дурные помнит: про старика с папироской, про калеку, про цыган. Только вот не помнит, когда они ей приснились. Может быть, накануне? Позвонила она своему жениху. А тот говорит: «Кто ты такая, знать не знаю и знать не хочу». И тоже трубку бросил. Два месяца пролежала она в больнице, в неврологическом отделении. Но так и не смогла объяснить ни себе, ни врачам, что же с ней приключилось.
Больше никто ничего о Корнилыче не знал. А эти россказни, мало похожие на правду, вряд ли могли помочь Феликсу. Ему теперь все чаще снилась мать. Ругала, что не исполнил ее последнюю волю, грозила. Феликс сблизился с Генкой и попросил его разузнать о парнишке, денег пообещал. Через две недели Генка его нашел. Записал номер дома, узнал, как зовут молодую жену. Но все эти сведения принес не Феликсу, а Корнилычу.
– Дед, ты сечешь? Там такой дом! Вот где поработать бы. Филя, поди, решил один мужика взять.
– А мы его опередим.
И, не говоря ни слова Феликсу, они с Генкой и двумя серыми людьми отправились к Дмитрию. Охраны у него тогда еще не было, и на звонок он открыл дверь сам. На пороге стоял дедок с папироской в зубах.
– Ты, дед, к кому? – весело спросил Дмитрий.
А дед, не мигая, смотрел ему в глаза. Взгляд был таким странным, что Дмитрий на секунду даже подумал: а не отец ли явился за алиментами? Присмотрелся – нет, вроде бы не он. Вздохнул с облегчением.
– Ты, дед, часом не глухой? – В ответ молчание. – Ясно, глухой. Ну пойдем, выведу тебя на дорогу. Заблудился, поди.
За воротами дед улыбнулся, кивнул Дмитрию и зашагал по дороге. Скоро его нагнали несколько человек.
– Что?
– Ничего. Не берет его.
– Как же?
– Есть такие люди. Редко, но попадаются.
– А тебе уже попадались?
– Мне нет. Это первый.
После неудавшейся экспедиции Генка передал адрес Феликсу и стал присматривать за ним. Что он будет делать? Может быть, у старика не получилось, а у него получится? Он все-таки моложе. Тогда бы Генка встал под его знамена. Побеждает сильный, закон – тайга, медведь – хозяин, как говорится. Генка присматривал, а Феликс ничего не предпринимал. Правда, у него хлопот пока хватало. На Ляльку семейный стих нашел, она его решила ребеночком обрадовать. Дня два они ругались, как кошка с собакой, посуду били. Сам Корнилыч их утихомиривать приходил. Квартира-то городская, светиться незачем. А на третий день Лялька, вся сияющая, снова на работу вышла. Решила, пока живот не торчит, доработать свое на полную катушку, чтобы денег подкопить. Генка и к скандалам их прислушивался. Что-то непонятное Феликс нес. Кричал, что ребенку его не жить. Что умрет до восемнадцати, что на их роду проклятие. Псих он все-таки. Корнилыч – тот обычный мужик, а Феликс странный. Не пойдет Генка под его знамена. Потому что он сам странный. Ему опора нужна.
Лялька родила через семь месяцев ребеночка недоношенного. Двух килограммов не было. Мальчик прожил в больнице несколько дней и тихо умер. А Лялька после этого в дом к Корнилычу не вернулась, пропала.
8 (Нора – Феликс) (Феликс)
Однажды Феликс проснулся утром рано и понял – пора. Ночью ему снилась мать. Она больше не ругалась, а ласково обнимала его, тормошила и тихо, радостно приговаривала: «Сегодня, именно сегодня!» Страха как не бывало. И чего он так долго делал в этом доме у вокзала? Давно бы бежать!
Он спустился вниз, взял Генкину машину, купил по дороге карту и отправился посмотреть на того, кто сломал жизнь его родителей и его самого – так ему теперь казалось.
Феликс ехал по городу и не знал, что сразу после его побега к дому подкатили две машины «скорой помощи». У Корнилыча сердце пронзило. Едва откачали. Поэтому-то поводок, на котором Корнилыч держал Феликса, и оборвался.
Дом врага он отыскал быстро. Вот куда вложены райские денечки его семьи, вот где вместо фундамента поруганная любовь его родителей, его мрачная юность, его побег в монастырь, ранняя смерть матери.
Феликс остановил машину у дома, покрутился немного рядом. Неожиданно из дома вышел мужчина, сел в машину и уехал. Он. Теперь не уйдет. У Феликса была замечательная память на лица. Он собрался было поехать за мужчиной, но в окне вдруг промелькнуло женское лицо. Точеное, белое, словно из воска. Ничего себе, красотка. Во всем ему повезло. Не то, что Феликсу. «Ну это мы еще поглядим», – подумал Феликс зло, достал из кармана гвоздь и проткнул шину новенького блестящего «вольво». Посмотрим.
(Нора)
Безумный день начался с тревожного утра. Накинув халат и выглянув в окошко, Нора почему-то тут же отпрянула от стекла. Солнца не было и в помине. Серые тучи лениво ползли по небу. Но все это было очень привычно. Непривычным было что-то другое. Что-то, быть может, промелькнувшее в окне, но она, как ни силилась, не могла понять – что же именно?
Проводив Диму на работу, Нора стала собираться к матери. Она прихватила с собой половину торта, оставшуюся от вчерашнего банкета, выбрала самую нарядную коробку конфет, принесенную гостями, и все это аккуратно сложила в большой оранжевый пакет. Сестра любила яркие цвета и тут же, как собачонка, бежала к Норе, чтобы посмотреть, что же та принесла на этот раз.
Нора собиралась, но вместо обычного в такие минуты оживления ее что-то придавливало к земле. Что-то давно забытое, казалось, чуть-чуть нужно напрячь память, и это что-то обретет наконец знакомые черты. Нора морщила лоб, но вспомнить ничего не могла.
Выехав из дому, она на ближайшем перекрестке заметила, что спустило колесо. Только этого ей недоставало. Ну что теперь делать? В пакете оплывал шоколадный торт и таяло мороженое. Придется ловить машину. Она вышла на дорогу и высоко подняла руку…
(Феликс)
Феликс подъехал к женщине. Она слегка отпрянула и чуть заметно поморщилась. Брезгует. Чистоту ей подавай. Но выбирать не приходилось. Утренняя трасса была почти пуста. Она нагнулась, назвала адрес. «По пути», – коротко сказал Феликс, и она с благодарностью посмотрела ему в глаза. Опа! Попалась.
(Нора)
А дальше… Дальше, собственно, и начался тот чудовищный сон, который смял всю ее размеренную жизнь. Возле нее затормозил старенький «Москвич» с грязными стеклами. Нора отчетливо помнила, как несколько секунд боролась с отвращением и никак не могла заставить себя сесть в эту рухлядь. Но на дороге никого не было, да и кто знает, сколько бы пришлось ждать следующую машину.
Она нагнулась к отворенной дверце и назвала адрес. Ей ответили, что это как раз по пути. И Нора с благодарностью посмотрела в глаза водителю. Все. Это было все, что она помнила. Все, что она помнила до того, как у нее начались галлюцинации…
Впоследствии, на протяжении восемнадцати лет, она не раз пыталась как-то осмыслить все, что произошло с ней тогда. И со временем она сама для себя выстроила картину этого сна или обморока, который с ней тогда приключился.
Все началось в машине. Сначала повисла тишина. Полная и абсолютная. Гул мотора растворился в этой тишине, и Норе показалось, что у нее заложило уши. Так всегда случалось в самолете. И, может быть, поэтому Нора вдруг подумала, что летит на самолете, а шофер и шоссе в мелких капельках дождя ей только приснились. Самолет почему-то летит низко, непростительно низко. За окном мелькают деревья, а она, Нора, смотрит вокруг и бессмысленно улыбается. Нора видела себя словно со стороны. Только вот ей показалось, что выглядит она значительно моложе. Лет на пятнадцать. Или, может быть, шестнадцать.
Она была другая. Ее сжигало изнутри нетерпеливое пламя, рвущееся наружу. «Я хочу…» – думала Нора и никак не могла сказать себе, чего же она так хочет. А хотелось ей этого ужасно: до слез, до крика, до истерики, до обморока. Но еще Нора знала, что этого нельзя. Ни за что на свете нельзя. Но ей все равно хочется. Когда она думает о том, что ей нельзя получить это сию же секунду, ей почти больно, но в то же время и так сладко, что она не в силах преодолеть запрет.
Она так хотела этого, что запрет с каждым вздохом становился все менее и менее жестким, страх исчезал, доводы разума становились все менее и менее убедительными. Еще минута… И…
Она в машине, а за рулем Валентин. Он скалится во весь рот, шумно шмыгает носом, как песню поет. Руль почти не держит. То положит руку поверх руля, то снова отпустит. Лихач. Нина. Господи, да ее же всегда звали Нина. А Нора – эта сестра. Нина пришибленно оглядывается на заднее сиденье. Вдруг Нора там? Но Норы нигде нет.
– А где Нора? – спрашивает она.
– Нора, – усмехается Валентин. – А кто это такая?
– Сестра, – серьезно объясняет ему Нина, удивляясь, как же он не знает, кто такая Нора.
– И ты Нора, и она Нора?
– Нет. Я не Нора. Я Нина. Ты разве забыл?
– А я, по-твоему, кто?
– Валя, – говорит Нина и зачем-то добавляет: – Я очень хочу…
Договорить невозможно. Ее захлестывает волна жгучего сладкого стыда. Да ведь она и не знает, как называется то, чего она хочет. Она так и не вспомнила.
– Чего же ты хочешь, Нина? – смеется Валентин.
– Ты ведь, наверно, знаешь, – шепчет Нина.
– Конечно, знаю. – Он протягивает руку и гладит ее по голове. – Пошли.
Машина, оказывается, уже остановилась. Они выходят, поднимаются по лестнице, попадают в комнату. Комната абсолютно пустая. Ничего нет. Нина идет к окну. И вдруг – скрип половицы. Как скрип кровати в соседней комнате. Она подбегает к стене и прислушивается.
– Что там? – спрашивает Валентин.
Нина оборачивается и понимает – что-то не так. Он ведь должен сейчас быть там, в другой комнате, с Норой. Она часто моргает, комната качается, Валя наклоняется к ней и заглядывает в глаза. И… исчезает.
Нина одна. За стеной скрипит кровать. Она осторожно подходит к стене и слышит вдруг громкий стон Норы. Прикусив до крови губу, она понимает, что все снова оказалось под запретом. Под запретом этой стены. Нина поднимает рубашку и прижимается к стене всем телом. Водит руками по ее поверхности и тоже тихо, еле слышно стонет.
Кто-то берет ее сзади за руки и разворачивает.
– Валя. – Нина чувствует, что вот-вот потеряет сознание.
– Так чего ты хотела?
– Не-е-ет, – хитренько говорит Нина, – здесь ведь должно быть озеро.
– Пойдем, – зовет ее Валя, и вдруг перед ними расстилается озеро.
– Но оно… оно… – Нина снова не знает, как это объяснить, – оно не мокрое!
Она так счастлива, что нашла подходящее слово.
– А ты протяни руку, – говорит Валя.
Нина протягивает руку, подносит ее к лицу. На руке блестят капли воды.
– Что дальше?
– Ты позвал меня купаться.
– Пойдем.
Нина быстро сбросила с себя одежду, оставшись совсем голой. Посмотрела на Валю и закрылась в панике руками.
– А ты? – крикнула она. – А ты?
– И я, – сказал он после длинной паузы, во время которой у нее снова заложило уши. – Что потом?
– Потом ты…
Она взяла его руку и положила себе на шею. Он резко пригнул ее…
Дальше – парение в глубоком космосе. Не было больше ни Валентина, ни комнаты, ни озера, ни самой Нины. Космос вошел в ее плоть и кровь, в ее душу, в ее сердце. Он затопил ее целиком. Или она растворилась в нем?
Потом провал. Потом она смутно помнила машину и Валентина за рулем. Он удовлетворенно хмыкал все время, и Нина испугалась: «А вдруг он не удержится и скажет что-нибудь такое… Нора убьет их». Она сама наверняка бы убила…
– Тебе хорошо? – спрашивает Валентин, и Нина сразу начинает орать во все горло.
В глазах темнеет, но машина почему-то не переворачивается, не сползает с кручи, а останавливается. И снова провал…
(Феликс)
К вечеру он отвез ее назад. Усадил в машину и уехал. Направился было домой, но тут понял, что не может туда ехать. Нужно возвращаться. Что-то зовет его назад. Снова дикий страх сковывает по рукам и ногам при одной мысли о побеге.
Он вернулся. В его комнате дремал в кресле Корнилыч.
– Вернулась, беглянка?
– Вы о Ляльке?
– О тебе. Пока я жив – не отпущу. Ты мне нужен. Куда мне теперь на вокзал после приступа? Ты за меня встанешь. Половина – твоя. – Корнилыч внимательно смотрел на Феликса. – Не нужны деньги? Вижу, вижу. Больной ты, парень. Да чего тебе еще надо? Что тебя гнетет-гложет? Чего не живется?
Феликс уныло молчал, опустив глаза.
– Ну кому еще расскажешь? Кто еще поймет? – тихо спросил Корнилыч и положил ему руку на плечо.
Действительно, кто? У Корнилыча тот же дар, что и у него. Кто поймет все, что пережил Феликс, если не он? Может быть, такого человека вовек больше встретить не придется. Да и умный он, он ведь университет окончил, из приличной семьи, а простаком прикидывается, чтобы своим держали привокзальные. Теперь-то уже привык с ними так болтать, но как только к доченьке своей собирается – костюм отглаженный, галстук, и разговор – совсем другой. Хитрый Корнилыч, глядишь, присоветует что-нибудь.
Феликс рассказывал быстро, захлебываясь. Боялся, что Корнилыч рассмеется, не поверит. Но тот слушал внимательно. Перебил только однажды, в середине рассказа:
– Ну-ка глянь там Генку за дверью. Скажи, чтобы духу его в квартире до полуночи не было.
Феликс пошел к двери, но увидел только, как Генка скрылся за входной дверью. Выходит – слушал.
– Он мало что понимает, потому как дурак. У него своя гениальность. Но без меня он просто истеричка, коих тьмы и тьмы. Что, думаешь, все заметались в последнее время? Соображают, кто после меня главным станет. На кого квартирку отпишу, кому дело передам. Будто что без меня могут. Карманники сядут сразу. Они ведь сто лет назад еще навык потеряли. Двадцать лет с моей помощью работают. Куда им, когда человек в здравом уме… Цыгане сами проживут. Калекам туго придется. Зажирели, отъелись. Придется с водочки на портвейн переходить… Ну ты, брат, рассказывай, только не части так. Хочешь, плесни себе чего, для сугреву. Давай.
Феликс пересказал ему все события вплоть до сегодняшнего вечера.
– Значит, я помешал тебе, – задумчиво сказал Корнилыч.
– Мне никто не помешает. Я все равно его найду.
– Глаза у тебя, парень, больно горят. Не воровских ты кровей. Долго не протянешь. Тебе бы в проповедники податься. Вот где ты преуспел бы. Пьешь, смотрю, мало, до баб не охоч. Такая краля рядом с тобой высохла! Может, и впрямь твое призвание в попы податься? Ну с этим сам разберешься после моей смерти.
Корнилыч засмеялся и зашелся тяжелым кашлем.
9 (Нора – Дмитрий)
Очнулась Нора в своем «вольво», когда уже стемнело. Мимо несся поток машин. Похоже, начался час пик. Неужели она заснула? И так надолго! Голова раскалывалась. Может быть, она потеряла сознание, да так и пролежала с утра в машине? Но ведь кто-нибудь обязательно бы заметил, растолкал, вызвал «скорую» в конце концов.
Больше всего ее тревожило то, что она ничего не помнила. Абсолютно ничего. Рядом стояла ее сумка. Розовое пятно от крембрюле впиталось в мягкий чехол переднего сиденья.
Значит, она выехала из дома утром, а сейчас вечер, и она сидит в машине неподалеку от дома. А огромный кусок дня между утром и вечером вырезан из памяти. Словно его и не было. Нора уставилась на сплошной поток машин с зажженными фарами. Так ведь его и не было! Для нее, по крайней мере, не было. Совсем.
Ей стало страшно. Может быть, в той аварии пострадала не только сестра, может быть, и у нее начинаются какие-то отклонения в психике? Или она просто спала? Выехала, захотела спать и уснула за рулем на целый день.
Это был шок. Полчаса от ужаса она не могла двигаться. Мозг метался в поисках разумного объяснения случившемуся, но никак не мог подобрать никакого, даже самого фантастического объяснения.
А потом – нужно же что-то делать. Во-первых, нужно вернуться домой и позвонить маме, она, наверно, страшно волнуется. Во-вторых, нужно взять себя в руки. Скоро Дима вернется с работы. Он не должен ничего заметить. А в-третьих, завтра же она поедет к врачу и попросит направление на полное обследование. Может быть, это был сердечный приступ? Или еще какое-нибудь недомогание? Нужно провериться.
Нора заставила себя двигаться. Вышла из машины, обошла ее. Все тело гудело так, словно она занималась тяжелой физической работой. Но было еще что-то. Что-то неуловимое, почти незаметное. Может быть, запах? Что за ерунда? Но ей казалось, что она чувствует едкий чужой запах. Запах мужского пота, смешанный с дешевым одеколоном.
У сестры в голове тоже была полная чехарда с запахами, и Нора отогнала от себя неприятную мысль. Она собрала последнюю волю, остановившись все-таки на том, что это был сердечный приступ, и, ступая как можно осторожнее и тише, чтобы не потревожить свое больное сердце, сердце, стучавшее с такими перебоями, села за руль.
Дома ее продолжал преследовать все тот же незнакомый запах, и она с тревогой отмечала, что он не вызывает у нее отвращения. Почему-то – не вызывает. У брезгливой Норы, привыкшей к запаху стерильной чистоты… Она отправилась в душ, стала раздеваться, продолжая думать о странном приступе, о враче, о сестре. И вдруг опустила руки. Белые ажурные трусики были надеты наизнанку.
Этого не могло быть. Не могло! Нора прекрасно помнила, как тщательно собиралась к маме сегодня утром. Как приняла душ, надела новое белье. Она помнила! И вдруг словно что-то прорезалось в памяти. Не конкретное что-то, а лишь какие-то ощущения. Она раздета, рядом вода, и ее скрутила волна нахлынувшей страсти, которую не с кем было разделить. Нора чуть не взвыла. То, что с ней сейчас творилось, она уже испытывала однажды. Валентин, озеро… Почему же ей кажется, что все это случилось с ней не восемь лет назад, а сегодня? Наваждение? Галлюцинации? Как у сестры?
Когда Дима вернулся домой, Нора лежала в постели под теплым одеялом.
– Я очень плохо себя чувствую, – пролепетала она.
Нора была так потрясена происшествием, что целую неделю после этого пролежала в постели. Дмитрий не на шутку обеспокоился, но она убедила его, что нет ничего страшного, нужно только отлежаться. Все эти дни с ней творилось что-то неладное. Из снов сплетались фантастические картины, пропитанные озерным духом и чужим запахом. Сумасшедшие видения возникали перед глазами, словно реальные воспоминания. Валентин стоял перед ней совсем молодой, со здоровыми ногами, со своим привычно наглым взглядом. Валентин дышал ей в шею. Валентин расстегивал ее блузку…
Нора никак не могла вырваться из этих видений. Не то чтобы не могла – не желала. Ей хотелось, чтобы фантастический сон никогда не кончался. Пусть она тихо сходит с ума. Ах, сестренка! Если ты в своем сумасшествии каждый день тешишься подобными видениями, то еще неизвестно, кто из нас потерял больше. Вспыхнула жаркая ревность к сестре. А вдруг им досталось одно сумасшествие на двоих? Вдруг Нора каждый божий день на протяжении этих лет живет вот в таких же ярких дурманящих воспоминаниях? Плавающие картинки были сейчас реальнее самой лежащей под одеялом Норы, реальнее стен ее спальни.
Нора уплывала в волнах видений все дальше и дальше. Ей было не оторваться от сладких грез. Когда Дмитрий приходил домой, она невпопад отвечала на вопросы или попросту не отвечала ему, боясь спугнуть очередную сладкую волну. Постепенно из обрывочных воспоминаний сложилась полная картина. Да, думала теперь Нора, этот день она провела с Валентином. Пусть мысленно. Хотя как же – мысленно, ведь был еще этот запах, и ее белье…
Но все-таки это не могло быть реальностью. Ведь Нора теперь уже старше его, а привидевшийся Валентин остался таким же молодым, как в тот злополучный день, в тот счастливейший день… Остался таким, каким она любила его, любила до беспамятства. И еще одна деталь – ноги у него были здоровые. Он ведь последние годы ходил на костылях, она не раз и не два встречала его в городе. А тут – абсолютно цел. Она хорошо помнит его ноги… Нора тихо засмеялась. Ничего на свете не существовало, кроме ее воспоминаний…
Неделю Дмитрий присматривался к жене. Ну заболела, пусть полежит. Ну отвечает странно, голос непривычный, интонации. Но ведь человек болен. Чего же от него требовать? Но когда Нора перестала слушать его, когда стала тихо смеяться, уткнувшись в одеяло, он вызвал врача. Врач недолго разглядывал пациентку. Сказал что-то о возможном нервном срыве, рассказал о кризисах, которые случаются с женщинами сплошь да рядом, предложил положить Нору в свой стационар.
– Это заведение не столько лечебное, сколько курортно-санаторного типа. Ей пойдет на пользу. Обследуем тщательно. Витаминчики поколем. Массаж, пенка кислородная. Уверяю вас, через неделю все встанет на свои места…
Нора вернулась через три недели. Привычная, знакомая Нора. Только сияющая, как никогда. В медицинской карточке, которую завотделением дал пролистать Дмитрию, значился только один диагноз – беременность.
– Это все объясняет, – сообщил ему врач. – Женщины во время беременности совершенно непредсказуемы. Плаксивы, капризны, много спят и порой патологически много едят. Моя жена первые два месяца беременности просидела в обнимку с холодильником. А меня на дух не переносила. Это все нормально. Это проходит.
– И что я должен делать?
– Балуйте ее. Берегите. Выполняйте все ее капризы. Только не позволяйте слишком много есть. Иначе она после родов расплывется и из стройной, хрупкой девочки превратится в жирную корову. – В голосе врача зазвенели гневные нотки, и Дмитрий удивленно посмотрел на него. – Извините, все, разумеется, всё знают, но только на собственном опыте…
Дмитрий решил, что некоторое время нужно побыть с Норой дома. Он приготовился к тому, что она поминутно будет высказывать самые бредовые желания, просить его пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. Но Нора ничего такого не делала. Она не стала ни капризной, ни раздражительной. Ела и спала столько, сколько обычно. И вся светилась от счастья. «Она любит нашего будущего ребенка. Уже любит», – решил Дмитрий. И от этого возникло к ней необыкновенное уважение, которое он и сохранил на долгие годы, вместо полагающейся любви и страсти.
Нора настояла на том, чтобы Дмитрий вернулся к делам, в институт. Нет, ей ничего не нужно. Разумеется, она справится со всем сама. Нет, она не хочет ничего особенного. Разве только… Ей очень хочется тишины и покоя. Не мог бы Димочка не приглашать своих коллег в ближайшие месяцы. Конечно, Димочка мог бы. Даже с превеликим удовольствием. Вот и замечательно. Все занялись своими делами. Нора снова стала ежедневно бывать у матери, а Дмитрий вернулся к своим баранам. Теперь ему нужно было поднажать – скоро появится на свет маленький человечек. Его человечек. И может быть, хоть его он полюбит по-настоящему… Тогда-то он и построил небольшой заводик по изготовлению подпольной водки. Прибыли сначала казались оглушительными.
Девочку назвали в честь Диминой мамы Анастасией. Роды были тяжелыми. Два месяца после рождения дочери Нора провела в больнице. Что-то такое нашли у нее с сосудами и по женской линии, Дмитрий так и не понял. А вот девочка оказалась вполне здорова, и ему предстояло увезти ее домой.
В назначенный час Дмитрий стоял в приемном покое и с ужасом заглядывал в кулек, который ему только что вручили. Из кулька на него с таким же неподдельным ужасом смотрело крохотное человекообразное существо. Неожиданно существо чихнуло, показав малюсенький розовый язычок, и Дмитрий автоматически сказал ему: «Будь здорова!» С тех пор его жизнь разрывалась между детскими криками и телефонными звонками, горой пеленок и распоряжениями самым близким доверенным, которым позволялось приходить к нему домой.
Когда Нора вернулась из больницы, между Дмитрием и Стасей уже образовалась неразрывная связь. Они уже были не просто папой и дочкой, они были сообществом, прочно спаянным, хотя и непонятно на чем основанном. Она только вздыхала в кроватке, а он уже стоял над ней с бутылочкой. Улыбалась она тоже только папе. Тот безумствовал, строил ей рожицы, и девочка смеялась.
– Брось, дети не смеются в таком возрасте, – устало говорила Нора. – Они еще ничего не понимают. Почитай вон ту книжку, там все расписано.
Но Стася смеялась и все понимала. То ли книжка была устаревшая, то ли Стася не такая, как все.
Нора снова осталась одна. Несмотря на то что Дима, как обычно, сутками пропадал на работе, а она занималась Стасей. Девочка весь день крепко спала, открывая глаза, лишь когда хлопала входная дверь и появлялся отец. Дима, возвращаясь домой, целовал сначала Стаську, а только потом жену. И ни разу в жизни он не изменил этой привычке.
Сначала их контакт был бессловесным. И основывался на «гыках» и «агуках». Но как только Стася заговорила, ее невозможно было остановить. Она не могла уснуть, пока не пересказывала отцу все про листики, камушки, мошек в стакане и прочие радости детской жизни. А он не мог уснуть, если ему казалось, что Стасе сегодня взгрустнулось.
Когда Стася, нет, уже не Стася, Настя, конечно же, стала подростком, длинноногой и неуклюжей, как гадкий утенок, Нору почему-то стали раздражать их отношения. Ей всегда хотелось, чтобы девочка выросла похожей на сестру. Чтобы возместила ей потерю. Ведь это не просто девочка, это дочь сумасшедшего видения «о Валентине», как она теперь его называла. Но Стася, внешне походившая на Нору, то есть на обеих Нор сразу, переняла от отца все – манеру говорить, делая длинные многозначительные паузы, смеяться, кашлять, удивляясь, поворачивать голову, как собака, набок. Она, как губка, впитала его мимику, каждый его жест, и когда гостей спрашивали, на кого она больше похожа, все они в один голос, несмотря на Норины синие глаза, Норин удлиненный овал лица, Норин нос, рот, подбородок, все они, не задумываясь ни на минуту, говорили – на отца.
Но самое главное, самое обидное для Норы было то, что она впитала самый его дух: думала, чувствовала, действовала точно так же. Мечта о дочери-наперснице, которой она на заре ее юности поведает романтическую историю юности своей, расскажет о сестре, о своих муках и об искуплении всех своих грехов, умерла, когда Стасе исполнилось тринадцать. В тринадцать это был уже самостоятельный человек. Ее интересовало все на свете. Она занималась плаванием и каждый год сдавала нормы на все более и более высокий разряд. Не дотянув до кандидата в мастера только одной секунды, Стася неожиданно бросила плавание и с тем же рвением принялась за волейбол. В библиотеке она брала книги сразу всех жанров: Флобер и «Советы юным садоводам» интересовали ее одинаково. По телевизору с одинаковым упоением смотрела футбольный матч, детектив и последние новости. Нора порой наблюдала за выражением ее лица, когда кончалась трогательная мелодрама и начинался матч по боксу. Никаких изменений в лице дочери не происходило: тот же живой интерес, что и ко всему на свете.
В сферу ее интересов входили вечера камерного балета и молодежные дискотеки, философские беседы с отцом и трехчасовое щебетание с мальчиками по телефону вовсе ни о чем, Анна Ахматова по утрам и прыганье через скакалочку по вечерам с жеманно хихикающими подругами. Казалось, Стася была всеядна. Однако это только казалось. Она шла по жизни весело и ничего не принимала всерьез. Участвуя во всем – от всего оставалась в стороне. Располагая к себе людей, она никому по-настоящему не отдавала свое сердце. Весь мир делился на две половины: на Стасю с папой и всех остальных. Остальные не допускались в сердце. И Нора не стала исключением…
10 (Феликс)
Теперь Феликс стал компаньоном Корнилыча. У него было чему поучиться. Корнилыч дело знал до тонкостей. Главное, Феликс теперь научился навязывать людям свою волю, о чем так давно мечтал. Нужно было правильно пользоваться словами. Говорить односложно. Просто. Чем проще был приказ, тем скорее его выполняли. Теперь его не интересовали спонтанные реакции людей, его интересовало, насколько точно и четко они делают то, что он им приказывает. Его власть над людьми перешла на новый уровень.
Рассказ Корнилыча о встрече с Дмитрием несколько обескуражил его. «Есть такие люди… неподвластные…» Это спутало ему сначала все карты. Но потом он решил: хорошо, можно ведь не бить сразу прямо в сердце, можно отрезать по кусочку. Сначала лишить близких и друзей, потом работы, потом дома, ну и всего остального. А потом контролировать время от времени, не давать покоя, разрушать все, что тот попытается создать. Вот настоящий ад. И все это нужно делать постепенно, не торопясь, чтобы, пока не затянулась старая рана, успеть нанести новую. Заставить жить в постоянной боли потерь и разочарований.
В свободное время Феликс иногда подъезжал к дому Дмитрия, доставал бинокль, рассматривал лица охранников, наблюдал передвижение людей за окнами. Изучал повадки. Хотел нанести удар потяжелее. В один из таких своих приездов он заметил, что у Норы выпирает живот. Мысли закружились в голове вихрем, он рассмеялся от напряжения и прикрыл ладонями глаза. Дикая мысль, конечно. Но что, если все действительно так? Если это его ребенок? Вот потеха! Получается, что он уже нанес удар. И какой! Подарил им девочку. Девочку, которая не доживет до восемнадцати. Какая трагедия для родителей! Этого, конечно, может не быть, но все-таки весело…
Через год он «поймал» Нору, когда она гуляла с коляской по окрестностям. Пока та смотрела неподвижно в одну точку, Феликс подошел и заглянул в коляску. Девочка была очень похожа на Нору. Похожа так, словно об отце речи и не было, словно Нора родила ее без чьей-либо помощи. «Не ты ли, – думал Феликс, – последняя в роду? Если ты, то недолго тебе мучиться на этом
свете. Если только… Где же та добрая фея, что в состоянии разрушить злые чары? Знал бы, перерезал бы этой фее горло…»
Отцовские чувства не проснулись. Девочка казалась почему-то опасной. Как только Феликс склонился над коляской, безмятежно спящий ребенок вылупил глаза и заорал во все горло. Пришлось отойти, Нора-Нина стала тихо вздрагивать, и «удержать» ее становилось все труднее.
Он рассказал о девочке старику. Тот пожал плечами.
– Ты и придумать не мог бы лучшей мести. Чего еще тебе надо? Во-первых, он всю жизнь будет воспитывать чужого ребенка. Во-вторых, через семнадцать лет его ждет большое потрясение. Но поверь мне – это не твоя девочка. Ни одна женщина такого бы не допустила. Так что выбрось из головы и работай, мой мальчик. Кстати, дельце одно дружок подсунул – обхохочешься…
Дельце действительно было из ряда вон выходящим. Не то, что вокзальная обдираловка граждан… «Сделаешь – озолочу, – говорил Феликсу старинный приятель Корнилыча. – Очень прошу, постарайся».
11 (Феликс)
Она сидела в прокуренной гримерной перед зеркалом, потная, запахнувшись в толстый вылинявший махровый халат не первой свежести. Сидела, расставив по-мужицки ноги, распластав жирные ляжки на стуле. Медленно снимала толстый слой грима ватным тампоном. Отклеила ресницы, умылась и снова села перед зеркалом, тупо уставившись в одну точку. Волосы склеились от пота и стояли теперь дыбом. Хороша! Знал бы кто, что эта образина и есть Екатерина Буранова – любимица публики, сверхъяркая звезда первой величины.
Двадцать лет назад она стремительно взлетела на вершину музыкального Олимпа. Ее карьера не вызревала на широких просторах необъятной родины: в гастрольных поездках по колхозам, на целину, на БАМ, по грязной российской глубинке. Ей повезло. В мюзик-холле у нее был маленький номер. Всего пять минут. Но тоненькая девочка с печальными серыми глазами и бюстом четвертого размера приглянулась безнадежно стареющему донжуану, отбирающему «музыку» для юбилея одного из высоких партийных чинов.
Катенька отдала ему свою девственность безропотно, по первому же требованию, но он, выпив от волнения больше обычного, так и не смог сделать ее женщиной. Но зато, то ли испытывая чувство вины, то ли чтобы загладить неловкость, сделал знаменитой певицей в самые короткие сроки.
После банкета Катя снялась сразу в трех музыкальных передачах и приняла участие в четырех концертах, посвященных главным праздникам страны: Дню Военно-морского флота, Международному женскому дню, Празднику трудящихся и Дню Победы. Таким образом в кратчайший срок – с февраля по май – она стала любимицей каждого жителя могучей державы.
Быстрая слава не вскружила ей голову. Она долгое время не могла к ней привыкнуть, не верила, что это именно она, Катя, вызывает бурю восторга у зрительного зала. Ей даже казалось, что произошла какая-то ошибка, что эти люди аплодируют так каждому, выходящему на сцену.
Но через пять лет она привыкла, перестала стесняться и убегать со сцены сразу после своего номера. Меньше времени отдавала репетициям и больше проводила за столами, накрытыми в ее честь поклонниками. Благо от них отбоя никогда не было.
В расцвете своей славы она вышла замуж за одного из своих самых настойчивых ухажеров. Но уже через год ей показалось, что она ошиблась, продешевила, могла бы сделать куда более блестящую партию. Она развелась и снова вышла замуж, на этот раз за человека более состоятельного, хотя и более пьющего.
Второй муж оказался чрезвычайно ревнивым и скорым на расправу. Не раз и не два Кате приходилось замазывать гримом синяки перед выходом на сцену. Ее жалели. Особенно мужчины. Каждый говорил: «А вот со мной бы…» С ними она не знала бы горя. Не знала бы побоев и жила бы как у Христа за пазухой. Катя верила. Оставив второго мужа, она решила не устраивать больше громких помолвок и торжественных свадебных церемоний.
Ее третий муж, с которым она предпочла жить в гражданском браке, был страшно недоволен тем, что Катя не желает больше громоздить в паспорте печати. Полтора года он ныл и требовал, чтобы они наконец оформили их отношения по-человечески. Однако вскоре после регистрации Катю ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что у мужа давно уже роман с молоденькой танцовщицей из ее труппы. Катя бросилась к директору, и девушку тут же с позором изгнали. Каково же было ее удивление, когда, вернувшись домой, она застала ту же девушку хлопочущей в кухне, как у себя дома. Муж объяснил, что сегодня подал документы на развод и на раздел имущества. А это его будущая жена. Так что прошу любить и жаловать.
Вцепившись в волосы молодой авантюристке и с остервенением вырывая рыжие крашеные патлы, Катя за ее криками не расслышала, как дверьотворилась и на пороге возникли два добрых молодца в милицейской форме. Они не узнали знаменитую певицу. Без грима ее никто не узнавал. Посмотрели документы, решили, что тезка. Катя попыталась запеть, но дала петуха от волнения и была препровождена в 5-е отделение милиции на основании заявления потерпевшей.
Две престарелые шлюхи отирали ей слезы, пока директор труппы не позвонил куда следует, дождался ответного звонка начальнику отделения и Катю выпустили, взяв не подписку о невыезде, а автограф. Директор привез Катю к себе, выслушал, влил в нее полбутылки коньяку, обласкал и уложил в постель, куда не замедлил явиться и сам сразу же после душа. Он всегда был Кате неприятен – слишком сопел, слишком лыс, слишком стар. Но ей теперь почему-то было все равно. Как только диван перестал скрипеть, директор смачно захрапел, а Катя провела бессонную ночь у окна с пачкой сигарет.
После суда, оставшись в маленькой однокомнатной квартирке вместо огромной трехкомнатной, разделив с мужем пополам каждую тряпку, Катя заметила, что ей не хватает денег. Нужно было купить кухонный гарнитур, нужно было то, нужно было се, а зарплату ей платили большую, но все-таки советскую. Кате снова пришлось преодолеть себя и заночевать на скрипучем диване директора, однако за эту ночь она сумела внушить ему мысль о заграничном турне, пусть даже по социалистическому лагерю, но все-таки заграничном, и подсказала, к кому обратиться и какие кнопки нажать, чтобы получить разрешение.
Последующие три года она не замечала мужчин и судорожно зарабатывала деньги, поменяла квартиру на большую с доплатой, восстановила уют. Теперь можно было подумать и о мужчине, который согреет наконец ее израненную душу. Но, оглянувшись по сторонам, Катя с удивлением обнаружила, что возле нее трутся только ее старые лысеющие знакомые. Ну конечно, она ведь тоже теперь не девочка. Ей уже…
Думать о возрасте было страшно. Ей ведь через год только сорок, а выглядит она на все шестьдесят пять. Кожа лица быстро состарилась, утомленная ежедневными пудовыми слоями грима, полнота, которая еще десять лет назад придавала ей пикантность, теперь делала тело похожим на тесто, поднимающееся на дрожжах. И никто больше не звал ее Катей в труппе. Екатерина Ильинична. И дело было не в ее славе, а в ее возрасте.
Иван, так звали ее директора, пришел после концерта в гримерную, сел и долго молчал. Катя напряглась, почувствовала: что-то случилось.
– В зале свободные места, – зловеще сказал он наконец и с сожалением посмотрел на Катю.
Катя вспыхнула, словно он дал ей пощечину, и сказала хрипло:
– Врешь, сукин сын…
– Вот отчет. Десять билетов остались непроданными.
– Ерунда, ты разве не знаешь, как это делается? Оставили для своих, а потом…
– Я проверю.
«Проверь, проверь, – думала она. – Кассиров своих проверь!»
Она теперь ни в чем не была уверена, кроме своей неувядающей популярности. Слава – это все, что у нее было в жизни. Она теперь оставалась на сцене довольно долго, затягивая время концерта. Благосклонно принимала букеты, подавала руки для поцелуев, подставляла щеки для поцелуев, посылала воздушные поцелуи в черную дыру рукоплещущего зала. Потом снова подходила к микрофону, снова пела, чтобы еще пятнадцать минут после этого наслаждаться аплодисментами.
Слава заменила ей все. Что еще оставалось в жизни? Концерты и посиделки в ресторанах. Да, ее окружали знаменитые люди. Если смотреть со стороны, наверно, это интересно. Но изнутри… Старый пень, сыгравший когда-то роль слащавого интеллигента, которого охмурили западные разведслужбы, рассказывающий каждый вечер один и тот же пошлый анекдот. Стареющая бывшая знаменитость, которую теперь никуда не приглашали играть. Режиссер, который за пьянство был с позором изгнан из театра и теперь считал себя диссидентом…
А куда пойти, кроме ресторанов? Неужели на концерт? Неужели в театр, где знает каждого актера как облупленного? Коньячок, сигаретка и ресторанный быт со временем сделали свое дело. В ее жестах появилась кабацкая развязность, а в голосе – специфическая хрипотца. Но народ на концертах выл от восторга. Великая песенная дива стала ближе и доступнее его пониманию.
Через месяц, проходя в гримерную, она услышала громкие голоса из-за двери Ивана и заинтересовалась, что происходит. За столом сидели гример, ее парикмахерша, декоратор, рекламист. Как только она открыла дверь, все разом смолкли и потупились.
– Что тут у вас? – удивленно спросила Катя.
– Заходи, – мрачно сказал ей Иван. – Все свободны.
Когда дверь за членами «директорского совета», как он их именовал, закрылась, Иван легонько хлопнул ладонью по столу.
– Сборы падают. Такие дела.
– Ты что, белены объелся? – грубо сказала она и тут же села, почувствовав неожиданную слабость в ногах. – Этого не может быть!
– Может. Сегодня полуторатысячный зал был заполнен только на две трети.
– Осень, – выдохнула Катя, теряясь все больше и больше, – грипп…
– Это не первая осень на твоей памяти, правда?
Она подняла на него глаза, полные слез и ужаса.
– Почему?
Он заставил ее снять грим, одеться скромнее и повез на концерт молоденькой восходящей звездочки. Зал был набит битком, люди стояли в проходах. Им пришлось забраться к осветителям и растолкать знакомых из технического персонала, просочившихся на концерт через двойной кордон охраны.
Прослушав две песни, Катя потянула Ивана за рукав. Брови ее сошлись на переносице. Они молча сели в машину и заехали в маленький незнакомый ресторанчик, чтобы ни с кем не встретиться.
– Вот это работа! – сказала Катя Ивану, сделав заказ.
– Что? – не понял он.
– Директор у нее что надо! Сумел организовать полный аншлаг!
– Задница у нее что надо, – резко ответил Иван. – Она на двадцать лет тебя моложе.
Катя поперхнулась вином.
– Уж не хочешь ли ты сказать…
– Хочу. На сцене сорок – старость, предел. Будешь продолжать в том же духе, тебя спишут.
Катя побагровела, встала из-за стола, опрокинув стул, и медленно пошла прочь из зала. Постояв некоторое время на улице, она неожиданно поняла, что Иван вовсе не собирается ее догонять. Это несколько поколебало ее уверенность, но она все-таки поймала такси и уехала домой. Раздеваясь перед сном и вспоминая тонкие руки и стройные ноги молодой певуньи, Катя задумалась на минутку о диете. Но тут же отогнала эту мысль. Зачем это ей, Екатерине Бурановой, первой величине на эстрадном небосклоне Страны Советов?
Через неделю на концерте она услышала незнакомые доселе звуки. Простояв на сцене по своему обыкновению пятнадцать минут и испытав всю гамму сладострастных чувств, которые может подарить только слава, Катя вдруг услышала хлопанье откидных стульев и шарканье ног. Сердце подсказало – это конец. Люди вставали не для того, что аплодировать ей стоя, они вставали, чтобы уйти. Им надоело бить в ладоши. Концерт был окончен. А певица… Ну что ж, пусть стоит на сцене, коли ей так нравится.
В гримерной Катя упала в кресло. Она хотела кричать, но не могла проронить ни звука, хотела плакать, но ни одна слезинка не выкатилась из ее глаз. В дверь без стука вошел Иван.
– Зал был пуст наполовину, – жестоко сказал он и сложил руки на груди.
Тогда она начала тихонько выть. Скулить, как побитая собака. Иван достал бутылку водки, налил полный стакан, протянул ей. Она выпила и только тогда захлебнулась рыданиями.
– Что же делать, Ваня, что делать? – вскрикивала она.
– Я подожду, пока ты успокоишься, – сказал он.
На то, чтобы успокоиться, ей потребовалось полчаса. Ей всегда было трудно прекратить начавшуюся истерику.
– Сейчас на Западе творят чудеса, – тихо сказал Иван, заставляя ее прислушиваться к своим словам. – Ты их актрис видела?
– Я… я не понимаю.
– Орать не будешь?
– Нет.
– Обещаешь?
– Обещаю.
– Тебе нужно сделать что-нибудь и с лицом, и с торсом. Вот посмотри, мне адрес дали – клиника доктора Кларса. У нас, в Европе, рядом. Всего месяц – и ты как новенькая. Не хуже той молодухи…
Он не договорил. Катя забыла свои обещания. Дверь за ним давно закрылась, а вслед ему еще долго неслась грязная, площадная брань.
За последующие несколько месяцев труппа полностью обновилась. Профессионалов переманивали, на освобождающиеся места приходили дилетанты, но зато ярые поклонники Бурановой. Иван тоже собирался податься к какой-нибудь молодой звезде, но у них уже были такие же молодые и шустрые антрепренеры и директоры. Он тоже был для звезд безнадежно стар и остался за бортом – тонуть вместе со стареющей Бурановой, которую больше никто не хотел слушать.
Ему бы плюнуть и податься на пенсию, но Иван строил огромную двухэтажную дачу из семи комнат, собираясь переехать туда через годик, оставив квартиру сыну и внукам. Дом был подведен под крышу, отделочные работы только начались… Иван отпустил рабочих на неделю, сел в пустом недостроенном доме, обложился бутылками водки и запил. Пил он всегда один. На банкетах и в ресторанах с Катькой позволял себе только рюмашку. Но это так – баловство. А теперь пил и плакал, глядя на голые стены, расхаживал по комнатам, соображая, где бы стоял большой шкаф, где горка, где мог бы поместиться спальный румынский гарнитур. Пил и проклинал дуру Катьку, и просил Бога, чтобы образумил толстую старую идиотку.
Через два дня водка кончилась, а долгожданный покой в сердце так и не вернулся. Тогда Иван запер дом и отправился вниз, к станции, не рискнув сесть за руль. Через двадцать минут в городе, на вокзале, он, основательно затарившись аж четырьмя бутылками, нос к носу столкнулся со старинным дружком сестры своей Маруси – Корнилычем. Столкнулся и сразу протрезвел. Тут же в затуманенном мозге сквозь пелену двухдневного пьяного угара прорвался сестрицын голос: «Он, Вань, все может. Вот все на свете, ей-богу! Ты бы видел, как он дочке мужа сбегшего вернул!..»
Иван Корнилычу чуть ли не в ноги бухнулся – помоги! Тот привел его к себе, выслушал внимательно, нахохотавшись всласть, потребовал за услуги три тысячи и велел ждать. Вернулся через какое-то время с молодым черноглазым парнем.
– Он поможет!
– Хорошо. А мне что делать?
– Ничего. Хотя погоди. Зачисли его в штат осветителем. Только условно, конечно. Освещать он тебе ничего не будет. А потом жди. Через месяц к тебе твоя лахудра сама прибежит и сама адресок больницы попросит.
Иван бросился на радостях домой – звонить рабочим, чтобы продолжали отделку. По дороге он раздавал обалдевшим гражданам водку из сумки, и те долго стояли, крепко сжимая горлышко бутылки, и, глядя вслед седому безумцу, никак не могли понять: что же такое у человека должно было случиться?
Оренбург был городом, с которого начинались гастроли Бурановой по стране. Она терпеть не могла никаких перемещений, но звание народной артистки обязывало хотя бы раз в два года показываться жителям глубинки.
Сидя перед зеркалом в провинциальной гостинице, Катя терла виски – с утра мучила кошмарная головная боль. Похоже, придется перенести концерт. Вряд ли она продержится на сцене полтора часа даже под фонограмму.
И все-таки какой мерзавец этот Иван, думала она, доставая пригоршню конфет из коробки. Фигуру ему подавай! Формы! На свою жену бы полюбовался. Она, пожалуй, килограммов на сто уже тянет. Вот на ней бы свои собачьи эксперименты и проводил. Так нет же, ей – зачем? Ему эта груда женских телес ох как нравится! А Катя, значит, худей. На такую, значит, никто смотреть не хочет. Мерзавец! Может быть, отпустить Ивана на все четыре стороны? Взять на его место человека солидного, который сумеет поддержать ее славу на достойном уровне.
Головная боль не проходила, и она спустилась в ресторан. Хорошо все-таки, что ее не узнавали без грима, можно было не опасаться косых взглядов официанток. Она заказала пятьдесят граммов коньяку, кофе и бутерброд с ветчиной. Сонная официантка поплелась на кухню, а Катя тем временем рассматривала редких посетителей. Молодая парочка, негр-студент в грязной джинсовой куртке, пьет, похоже, со вчерашнего дня, молодой человек с черными глазами…
Катя словно провалилась куда-то. А потом с глубоким вздохом «о-о-ох!» выплыла из провала за столик, на котором уже стоял ее заказ, а напротив сидел тот самый молодой человек и рассказывал какую-то грустную историю.
– А-а-а… – перебила его Катя.
– Да?
– Что-то я отвлеклась, извините.
– Вы забыли, как меня зовут? Костя. Костя-осветитель.
– Ах да.
Костя продолжил свой рассказ, а Катя смотрела на него, слегка покачиваясь под его взглядом, как в полусне. Ей и в голову не пришло подумать о том, что это за человек и откуда он взялся. Сон, который она видела, глядя на Костю, был удивительно сладким, она не в состоянии была противиться этому сну.
– Ну всего доброго, – сказал он наконец, поднявшись. – Через полчаса репетиция, вам, наверно, нужно готовиться.
– Удивительно, – медленно сказала она.
– Что?
– Голова не болит. – И посмотрела на рюмку коньяку, к которой даже не притронулась. – Вы будете на репетиции?
– Конечно!
– Ну тогда – увидимся…
На репетиции Катя превзошла саму себя в лучшие годы. Она не ходила по сцене – порхала, как большая птица с грустными глазами.
– Потрясающе! – говорил ей Иван часом позже в гостиничном ресторане. – Но, дорогуша, ты бы не растрачивала себя так впустую-то. Ты бы лучше на концерте…
Он не успел закончить. Катя первой заметила, как вошел Костя. Они посмотрели друг на друга. Катя поднялась и пошла ему навстречу, широко раскрыв руки. Очнулась она уже в его объятиях. Ей было немного неловко за то, что не сумела сдержать себя, но Костя, кажется, нимало не смутился. Он уверенно сел за их столик, сыпал комплиментами, смотрел с восхищением на Катю… «Голос подлинной молодости и красоты», «весна нашей жизни». Он понимает, Костя. Она по-прежнему молода. В душе ей все еще восемнадцать. Душа женщины никогда не стареет. Он так молод, а очарован именно ею, сорокалетней Катей, а не какой-нибудь смазливой девчонкой. Очаровывает душа, тело – только оболочка. Какой же дурак этот Иван!
Она намекнула Ивану, что хорошо бы ему отправиться поискать черта лысого, и он, как ни странно, сразу понял ее и испарился. Этот вечер для Кати стал началом новой жизни. Они недолго еще посидели в ресторане. Кто-то все-таки узнал Катю, к ней бросились за автографами, стали аплодировать. Они потихоньку выбрались из ресторана, но бежать было некуда: незнакомый город щедро поливал улицы дождем. Повсюду, как мертвые тела, лежали осенние листья. Катя позвала его к себе. Или это он предложил подняться к ней – она не могла вспомнить. Да и какая разница? Главное, что их желания совпали. Во всем.
Ночь пролетела на одном дыхании. Наутро, проснувшись рядом с букетом алых роз, Катя не могла припомнить ни одной детали, кроме щемящего и переворачивающего душу удивительного чувства полного, абсолютного восторга и счастья. Это был тот редчайший восторг, который ей никогда не давался. И еще появилась уверенность в том, что все будет именно так, как ей хочется, а не иначе.
«Господи, – подумала Катя, сладко зевая, – как хорошо, что я дожила все-таки до этого часа. Как хорошо, что не миновала меня настоящая, чудная любовь. Наконец-то она пришла. Сколько же лет я ждала ее? Какое счастье, что я не успела состариться… Или?..»
Несмотря на заверения Корнилыча, Иван не был до конца уверен в том, что парень знает, что делает. Неделю он вообще ничего не делал. Все ходил, присматривался. Что-то в нем Ивана раздражало. На попа он был больше похож, чем на человека, который способен убедить Катьку предпринять что-нибудь с ее раскабаневшим торсом.
Когда она вдруг прибежала на сцену и начала вести себя совсем как девочка, Иван что-то почувствовал. Влюбилась? Да Катька и влюбляться-то толком не умеет! Ему ли не знать! Всех ейных мужиков наперечет знает. С каждым пил, каждый ему в жилетку плакался, каждому нос утирал. Она ж фригидная. Лежит в постели – бревно бревном. Какая тут любовь? Не дышит, не стонет и никаких вольностей не дозволяет. Во всем дура!
В ресторане она снова его удивила, когда ломанулась всей своей громадой на бедного мальчика. Стоит, жмется к нему. Неприлично. Люди вокруг, наверно, подумали, что мамочка сыночка увидала. Потом она намекнула – мол, дуй отсюда. Он на мальчика посмотрел, а тот глаз с нее не спускает… Неужели не противно будет с такой старой да жирной? О Господи! Кинут они его вместе, и он же, старый пень, в дураках останется!
Иван ушел, как прогнали, только недалеко ушел. Потерял доверие к молодцу черноглазому. К ней поднялись, черти. С шампанским, с двумя бокалами. А через полчаса из-за двери что началось… Стоны ее, аханьки всякие. Да Иван такого отродясь не слышал! Что этот бес молодой, интересно, с ней делает? И гудение все какое-то. Говорит ей он что-то, не умолкая. Интересный мужик: когда баба под тобой так стонет, про всякие слова забудешь. А этот жужжит и жужжит. А она аж заходится. Прямо в голос орать стала.
Не выдержал Иван, осмотрелся да и приник к замочной скважине. Видно только кровать одну. На кровати Катька лежит голая. Глаза зажмурены, сама себя по бокам оглаживает и стонет. А мужика-то на ней и нет. А позы принимает – будто есть. Неужто извращенкой стала?
За мыслями этими Иван слишком уж лбом на дверь подналег, дверь распахнулась, он в комнату ввалился. А тут его кто-то сзади за шиворот ухватил и на ноги поставил, дверь закрыл. Стоит возле Ивана Костя-осветитель да все говорит, говорит чушь какую-то, не умолкая. Мол, ох как хорошо тебе, девочка моя, мол, как тебе хорошо! Одетый стоит, говорит скучным тоном, но от каждого его слова Катька как чумная на кровати ворочается… А Костя теперь в два раза тише, ей в самое ушко: «Спи спокойно, красавица моя. Все у нас с тобой будет хорошо. Вот только молодой я слишком для тебя. Помолодеть бы тебе годочков на двадцать. Ах какой бы мы были парой – загляденье…» И все в таком же роде. Иван слушал-слушал и сам на стуле засыпать стал.
Через какое-то время растолкал его Костя-осветитель, велел за цветами сбегать, ей под бок положить. А сам встал, посмотрел в последний раз на дебелую примадонну, поморщился и ушел.
Иван понял теперь наконец, о чем ему сестра Мотя говорила. Такие, как Корнилыч да этот Костя-осветитель, действительно все могут. Не люди они – колдуны…
На утреннем концерте Екатерина Буранова отказалась от фонограммы и пела так, как никогда. Обомлевшие провинциалы задыхались от восторга, орали «бис» и «браво» и стоя аплодировали ей после концерта битых полчаса. Катя выходила к ним с высоко поднятыми руками, склонялась в поклоне чуть ли не до самой земли, пела еще и еще. На вечерний концерт Иван продал за бешеные деньги дополнительно пятьдесят входных билетов. И на следующий день телеграфом отправил деньги жене – расплатиться с рабочими.
Теперь Катя обнималась и целовалась с Костей не таясь. В труппе поползли слухи, что не за горами очередная бурановская свадьба. Но когда гастроли подходили к концу, Костю неожиданно призвали в армию, на переподготовку. Куда – не сказали. Писем писать не разрешили. На два месяца. Сначала Катя плакала несколько дней, а потом поняла, что эти два месяца и для нее не должны пройти даром. Она пришла в кабинет к Ивану и плотно закрыла за собой дверь:
– Ну, где там твой адресок?
Иван ошалело посмотрел на календарь. С тех пор, как он зачислил в штат труппы осветителя Костю, прошел ровно месяц…
12 (Феликс)
Феликс, пробатрачив на Корнилыча шестнадцать лет, начал подозревать, что старик бессмертен. Калеки шептали, что он уже вторую сотню лет разменял, а все как новенький. Но и его час пришел. Корнилыч оказался не вечен. Он гас как свеча, пламя жизни выплясывало последние замысловатые па, но глаза уже были обращены в потусторонний мир. Он твердо решил умереть в одиночестве, то есть в своей комнате, в привокзальном притоне, а не на руках у родной дочери. С ней он бодрился. Раз в две недели его умывали, одевали, везли к родственникам, чтобы те не беспокоились. Возвращаясь, Корнилыч снова ложился в постель в ожидании смертного часа.
Но старуха с косой к нему не торопилась. Застряла где-то по дороге. В доме царило напряженное молчание. Цыгане перестали орать песни по вечерам, девки не водили сюда больше клиентов, калеки перестали ругаться и вот уже месяц пили на кухне тихо, так что слышно было шуршание тараканов в углу. Феликс читал старику Новый Завет по его просьбе, отгоняя образ сумасшедшей старухи, неожиданно возобновившей свои преследования.
Чтение настолько увлекло Феликса, что он и не заметил, как старик отошел в мир иной. Он читал с вдохновением. Столько чувств былых, глубоко упрятанных, потаенных всколыхнуло в нем это чтение. Он опомнился, только дочитав до конца «Послания Апостолов» и взглянув на старика, закрыл глаза.
За дверью, там, в напряженной тишине квартиры, ждали его решения. Либо Феликс уходит, а значит, общая кормушка разваливается, либо он теперь становится главным, а значит, все будет по-прежнему. Феликс не торопился. Нужно было многое обдумать. Чтобы не привлекать внимания, он продолжал вполголоса читать, не понимая теперь смысла, думая лишь о предстоящем выборе. Денег, которых он скопил на привокзальном общем деле, ему хватит как минимум на несколько лет. А потом, потом он всегда сможет раздобыть их. Высокие воровские технологии плюс его талант способны прокормить не одного человека.
Что-то всколыхнулось внутри. Что-то давно забытое, сладко-терпкое… А может быть, остаться здесь? Королем в этом убогом королевстве. Полновластным хозяином привокзального дома. Он мог бы расширить дело, сменить половину старой гвардии на молодежь. Мог бы…
Но с каждой минутой в нем рождалось и крепло совершенно новое чувство. Он все еще никак не мог узнать его, но искорки этого чувства уже бродили в теле, перемешиваясь с кровью, пробегали по жилам и накапливались в сердце, будоража предвкушением чудесного пробуждения. Феликс замер, прислушиваясь к себе. В комнате повисла звенящая тишина. Городские звуки умерли, квартира хранила гробовое молчание. Только большие настенные часы хрипло тикали в углу.
Незнакомое чувство росло и ширилось, делая тело легким, словно воздушный шар, создавая иллюзию внутреннего полета, готового в любой момент перейти в полет настоящий, поправ все законы физики относительно земного притяжения. Окончательно созрев, чувство выплеснулось из сердца все сразу, ударило в голову, закружило. Опьяняющее чувство свободы, вот чем оно оказалось. Свободы безграничной, которой Феликс никогда в жизни не обладал, никогда не распоряжался.
Он вышел из комнаты, бледный от осознания полной независимости. Обитатели квартиры стояли в коридоре против своих комнат, стояли, видимо, с тех пор, как прекратилось его чтение, и все как один смотрели на него. Цыгане исподлобья, теребя ремни, девки с ужасом, готовые разреветься или расхохотаться, как только он откроет рот, калеки – профессионально-умоляюще, выставив свои культяпы. Феликс останавливал взгляд на каждом отдельно, потом вошел в комнату, оставив дверь открытой, и услыхал за спиной шелестом прошедший вздох. По одному люди начали входить к старику. Девки тихонько заскулили – скорее о себе, чем о Корнилыче, которого они так мало видели в последнее время. Калеки привычно крестились. Простившись со стариком, все снова перевели взгляды на Феликса.
Он резко захлопнул книгу, бросил в ноги покойному. Присмотрелся. Старик будто ухмылялся. Уж не над Феликсом ли он потешается с того света? Не над его ли вновь обретенной свободой? «С Богом тягаться собираешься?» – спросил его как-то старик и захохотал. Откуда ему знать было? «Отключал» он иногда своего компаньона, проверял, что у того в мыслях, чем живет, чем дышит. Вносил свои коррективы. Вот почему так мучил Феликса страх в первое время, вот почему двери квартиры стали неприступным бастионом, за который не распространялись даже его мечты.
Феликсу хотелось снять голову с плеч и хорошенько прочистить от стариковского мусора. Хотелось выпустить остатки рабской крови, омрачавшие радость освобождения. Он с наслаждением всматривался в лица приживалов, упиваясь краткосрочной властью преемника. Вот они стоят, жалкие и зависимые, готовые жить по его указке в этом убогом клоповнике. Нахлынуло едкое ощущение власти, затуманило ясность свободы.
Феликс бросил взгляд в окно, но стекла запотели от общего дыхания, и в запотевших стеклах расплывались пятна уличных фонарей. Что-то не так. Он снова оглядел приживалов. Деньги – вот кому они служат. Вот зачем он им нужен. Останься он с ними, власть его будет мелкой и неполноценной. Свобода его будет ущербной и искалеченной.
Нет, он никого не пожалел. Пусть живут как хотят. Шестнадцать лет ничего не значат. Он ничего им не должен. Он свободен. А они – рабы мятых пятирублевок. Феликс пошел по коридору к двери, вышел, закрыл осторожно за собой. Прислушался: в квартире по-прежнему стояла полная тишина. Он спустился навстречу ночному вокзалу, купил две бутылки дешевого крепленого вина и поехал домой, где столько лет не был…
Большое овальное зеркало в коридоре отразило человека с экзальтированным взглядом. Острый нос, выпирающие скулы, черная щетина с серебристыми волосками. Отражение изобразило его больным, заблудившимся. Едва переступив порог, Феликс вдруг заплакал и тут же разозлился на себя за проявление такой неслыханной, а главное, ненужной и неожиданной слабости. Стоял в коридоре, не сняв пальто, махал в воздухе кулаком, словно грозя невидимому призраку, отирал слезы, капающие с подбородка. Потом закрыл лицо ладонями, сел на корточки, прислонившись к стене, наплакался и успокоился.
В маленькой квартире, куда столько лет никто не заходил, стоял такой знакомый еще с детства запах, что воспоминания о матери моментально обрели плоть и кровь. Казалось, она сейчас выйдет из кухни, вытирая руки о передник, поцелует привычно в лоб, потребует сразу же переодеться.
Феликс прошел к шкафу, открыл его, выудил из стопки спортивные брюки, натянул, удивился тому, что коротки слегка, да и тесноваты. Сверху аккуратно сложенной лежала его послушническая ряса. Он вспомнил свои честолюбивые мечты и рассмеялся. За что он наказан? Что за силы отняли шестнадцать лет его жизни, превратив в тупую серую крысу, выползающую каждый день на вонючий вокзальный перрон? Родовое проклятие? За убийство, свершившееся четыреста лет назад? Но он-то здесь при чем?
Всю ночь Феликс пил вино и плакал о своей несложившейся жизни, проклиная Корнилыча на все лады. Он делал это только для того, чтобы не думать о другом. Дух матери был где-то рядом и все чего-то ждал от него…
Жить в квартире, рядом с призраком матери, талдычившим о ее предсмертной просьбе, о сибирских небылицах, было невыносимо. Ему казалось, что стоит только успокоиться, посидеть в мирной тишине, подумать – и все сложится само собой. Он перестанет быть серой крысой и вернет себе человеческий облик, возвратит утраченный рай.
Но чем дальше, тем сложнее было вспомнить то время, когда он еще не знал о своем даре, не знал истории семьи, не знал Корнилыча. Слоняясь по улицам, Феликс чувствовал себя изгоем. Ему были непонятны ни обычные человеческие разговоры, ни целеустремленное движение людей по тротуарам. А может быть, и не было никакого рая в его жизни? Он проводил ночи без сна, ворочаясь с боку на бок. И не было у него ничего, о чем можно было думать, что можно было любить, из-за чего беспокоиться. Однако тревога, поселившаяся в его душе с последним вздохом старика, била теперь через край. И никуда от нее было не деться.
Стремясь порвать с прошлым и начать все заново, он продал квартиру и купил неподалеку от города большой генеральский дом, вернее усадьбу: гектар земли, заросший лесом, и несколько старинных, тронутых мхом построек. Здесь безвылазно он провел зиму. Зима стояла суровая, солнце почти не появлялось, снег лежал высотой в человеческий рост, белые макушки сугробов наполовину завалили окна первого этажа. Феликс пытался начать жизнь заново. Почти восемнадцатичасовая темень за окнами заставила его позабыть счет дням. Он уже не мог сказать точно, полдень ли сейчас, вечер, утро.
Волосы его отросли до плеч, появилась бородка с вкраплением инея седины. Бегающий взгляд, доставшийся по наследству от былой профессии, сменился спокойным, чуть, может быть, уставшим. Постоянная внутренняя борьба делала глаза сияющими, заставляя их светиться скупой, сдерживаемой слезой. Он снова полюбил себя, узнавая какие-то черты допривокзального отупения, доматеринского безумия.
В рясе дома оказалось ходить гораздо удобнее, чем в тесном спортивном костюме. А там как-то само собой появились в руках старый его молитвенник, Библия. Дни потекли спокойнее. Душа перестала трепыхаться, как белье на ветру, и тихо уснула под шорох снежинок за окном.
Как-то забежала вечером соседка. То ли действительно кошка у нее пропала, то ли любопытство свое удовлетворить по поводу нового соседа. Да так и ахнула, увидев Феликса. Монах в их краях объявился! А какой интересный-то, видный, статный. Через два дня послышалась Феликсу какая-то возня на крыльце, вышел он, а на пороге в лукошке яички куриные, сала кусок домашнего, молока бутыль. Посмотрел он, две дорожки следов к его калитке ведут, а там две женщины пожилые в белых платках стоят, крестятся.
Через неделю пришли звать к умирающей, молитвы над ней почитать, грехи простить. Феликс отнекивался, а мужики только по карманам шарят, деньги суют: «Не откажи! Здесь на пятьдесят километров ни одной церкви!» Взял Феликс книги, какие положено, и целый день над восьмидесятисемилетней старухой псалмы распевал. Вставал ненадолго отдохнуть да ладана в кадило подбросить, свечи новые зажечь. Да так увлекся, что и не заметил, как старуха села в кровати и креститься принялась.
Родственники ее, конечно, не очень обрадовались неожиданному возвращению с того света, но молва о чудесном монахе враз облетела всю округу. Говорили уже не об одном чуде, а о чудесах регулярных и многочисленных. Говорили: только посмотрит на паралитика – тот уже пляшет, только темечка коснется слепого – тот видит, глухие – слышат, хромые – бегают. Да что там, из мертвых воскресил! Виданное ли дело?
И потекли потоки просителей. Дороги к дому Феликса вмиг расчистили. Входили по одному, а два-три человека еще на улице топтались обычно. Первое время Феликс пытался отвертеться от посетителей. Три дня держался – никого не принимал. Но народ стоял у его ворот и днем и ночью, несмотря на двадцатиградусный мороз. Погреются у соседей – и снова на посту. На четвертый день Феликс не выдержал. Позвал одного. Усадил. Приказал смотреть прямо в глаза. Поймал, подержал немного и выпроводил, не сказав ни слова. Человек вышел совершенно обалдевший, но ничего путного на расспросы ответить не мог. «Болит чего?» – спросили его. «Нет». И толпа потянулась к дому. «Что-то меня этак вот… коснулось… – рассказывал каждый вышедший, – только вот словами такого – ну никак не скажешь…»
По утрам на крыльце свежее молоко, соленья домашние, маринады, бабки пироги несли, грибочки сушеные, кто побогаче – деньги приносили, под полено клали, поскольку Феликс ничего не брал. Деньги его не интересовали. Больше интересовала собственная растущая слава. Роились в голове разные планы: свою церковь построить, стать во главе. Безумное честолюбие, упрятанное на многие годы в сером привокзальном существовании, выбиралось наружу и расправляло мятые крылья.
«Они сделают все, что я скажу, – думал Феликс, рассматривая из укромного места со второго этажа небольшую толпу, жадно поглядывающую на его окна. – Они пойдут за мной до конца». Он еще не знал, куда поведет их, не решил, рассматривать ли их как свою паству или как свое войско, а может быть, как то и другое одновременно.
К весне он, избалованный вниманием, перестал осторожничать, стал капризным и резким. На доме водрузил большой белый крест. Принимал посетителей в комнатке со свечами и курящимся ладаном, от концентрации которого было трудно дышать. Стены убрал фиолетовыми драпировками, на центральной стене поместил крест. Все это производило впечатление на входящих. Еще у входа они начинали озираться, тяжело дышали и, как только переводили взгляд на Феликса, проваливались в тяжелое состояние транса.
Этот момент Феликс переживал необыкновенно остро, потому что тоже проваливался, ломая лед здравого смысла, проваливался в лабиринты безумия. Ему была дана такая власть над человеком, что зарабатывать с ее помощью деньги, добывать себе хлеб насущный в виде приношений дурными бабами соленых огурцов было просто унизительно. Такую власть хотелось испытать на прочность. Сможет этот человек убить по его приказу? Бросится ли с обрыва? Забудет ли собственных детей? Власть очень хотелось испытать, только вот страх еще сдерживал последние остатки разума, не давая сверзиться в пучину кошмара.
Откуда такие фантазий? – никак не мог понять Феликс, просиживая долгими вечерами в одиночестве в комнате, наполненной свечами. Он не думал о том, как от них избавиться. Он пытался отыскать их корни, найти им оправдание. В середине весны он уже боялся не справиться с их натиском, не устоять. Даже пришла однажды мысль – попробовать, а потом кинуть дом и бежать куда-нибудь… хоть к привокзальным свои крысам – авось не разбежались еще.
Его не найдут. Никто не знает, кто он и откуда. Да и опыт оставаться незаметным за плечами надежный. Не подведет. Мания абсолютной власти завладела его помыслами безраздельно. К апрелю он дошел до точки и окончательно решился. Оставался пустячок – смотаться к привокзальным крысам и сообщить, что он передумал, что он возвращается. А там – как получится, по обстоятельствам. Не век же ему возиться с больными бабками да тетками, надоели. Потом он, может быть, придумает что-нибудь покруче. Какую-нибудь такую аферу сочинит, где все будет держаться на его волшебном даре. Мир вздрогнет! Феликс думал об этом и испытывал почти плотское удовольствие от одних только мыслей…
В привокзальном клоповнике жизнь текла своим чередом. Ему были рады. Но не как спасителю – как гостю. Все были сдержанны, памятуя его предательство. Назад не звали.
– Как вы? – спросил он старого цыгана.
– С Божьей помощью, – ответил тот твердо.
– И кто же у вас нынче в роли боженьки?
Все молчали. Феликс оглядел присутствующих. Те прятали глаза. Знали – только попадись ему, выпотрошит, все сам узнает. Он знал почти всех. Кроме разве что молодой, удивительно красивой цыганки, облокотившейся о стену у самой двери. Столько на ней было навешано всяких побрякушек, столько ленточек, браслетиков, тряпок, что глаза разбегались. «Э нет, голуба!» – понял Феликс. Это поплыло сознание. Он откинулся, стал смотреть в глаза цыганской принцессе. Та зажмурилась, выставила вперед руку – хватит!
– Неужели она?
– Я.
– Слабый у тебя взгляд.
– Не тем сильна, – ответил ему тихо старый цыган.
Молодая цыганка оттолкнулась от стены, подошла к столу, села. Остальные, как по команде, поднялись и разом исчезли.
– Что тебе нужно? – прищурившись, спросила она. – Мне говорили, ты их бросил. Только оставь свои штучки, оставь. – Она поморщилась и на минуту отвернулась.
– Просто так зашел.
– Нет, не просто. Королем зашел. Гордость впереди тебя бежала. Не тяни, говори.
Феликс был страшно раздосадован тем, что у вокзальных, судя по всему, так хорошо шли дела, что никто о нем не жалел и, похоже, даже не вспоминал. Ему не хотелось говорить с этой пусть и необыкновенно красивой, но черномазой девкой. Ему не хотелось верить, что вся компания теперь смотрит на нее как на хозяйку.
– Если отсидеться понадобится…
Цыганка понимала с полуслова, отвечала быстро:
– Ненадолго пущу. За работу, конечно. Но жить – не рассчитывай. Мы с тобой не уживемся.
– Откуда… – Феликс поднял брови.
– Я человека за версту чувствую. Мне проверять не нужно. Все?
– А чем ты… – Он все-таки не удержался.
– Не твое дело. Но умею много. Хочешь, погадаю тебе?
– Не хочу.
– Погадаю, – решительно сказала цыганка, доставая из складок одежды новые лощеные карты и разбрасывая по столу, добавила: – Тебе нужно, у тебя лицо… – она поморщилась, – плохое…
– Я пойду. – Феликс решил хоть так унизить эту девку, мнящую о себе бог весть что.
– Неприятности на пороге. Сейчас, завтра, надолго. До самой смерти… скорой…
– Что ты несешь?.. – начал было Феликс, но женщина неожиданно отключилась, откинулась на стуле, закатила глаза, задергалась.
Он вскочил. Схватил чайник, плеснул воды, хотел позвать кого-нибудь, открыл дверь, но тут она заговорила глухо и отчетливо:
– От собственной дочери смерть примешь… от руки ее… скоро!
И смолкла, уронив голову.
– Дура! – закричал Феликс. – Идиотка!
Он хлопнул дверью, вышел в коридор, попытался закурить и никак не мог достать сигарету из пачки – до того руки дрожали. Старый цыган тем временем прошел на кухню, поднял женщину легко на руки, отнес в комнату и вернулся к Феликсу.
– Предсказывала?
– Чушь несла!
– Чушь, говоришь? Косого помнишь?
– Ну.
– Она ему быструю смерть предсказала. Он в тот же день на рельсы упал. Нет его больше, – развел руки старик.
– Все равно чушь. Нет у меня дочери, ты же знаешь.
– О, как сказать. Наше дело мужское. Может, у тебя не одна – десять дочерей.
– Не может, – сказал ему Феликс с расстановкой. – Я к женщинам…
И вдруг закачался, выронил горящий окурок.
– О! – сказал цыган. – Видишь? Вспомнил.
В глазах поплыли черные точки. Феликс вспомнил.
Его женщин можно было пересчитать по пальцам. Раз, два, три. И все. Больше их быть не могло, это он знал точно. И по крайней мере две из них могли родить дочерей…
Феликс мало интересовался девушками в юности. Грубое подростковое вожделение от просмотра «стыдных» картинок, от подглядывания в раздевалке его никогда не посещало. Тело было глухо к прикосновениям коленей одноклассниц, к виду беленьких трусиков под задравшейся юбкой. В десятом классе и после все его помыслы были связаны с монастырем, поэтому ухищрения соседки-студентки, пытавшейся соблазнить его, тоже не увенчались успехом.
Мужская его сила, которую впервые измерила Лялька, оказалась незначительной. Вялость процедуры совокупления порой доводила ее до слез. Лялька родила мальчика, такого же нежизнеспособного, как и его любовь, и тут же исчезла из его постели и из его жизни. Поэтому Лялька отпадает.
Была еще эта странная Нора-Нина. Маньячка. Ни одна женщина не производила на Феликса такого впечатления. Никому не удалось так завести его. Секс был подогрет чувством мести, поэтому и удался на славу. Тогда впервые в жизни он почувствовал себя полноценным мужчиной. Глупое чувство, скотское. Человек, обладающий его даром, не нуждался в том, чтобы самоутверждаться еще и в качестве скотины. Это удел несостоявшегося ни в чем самца. Нора… Вряд ли она родила после этой единственной встречи. Чудес не бывает. А вот Катя Буранова, с которой он провел целый месяц, вполне могла бы…
Вернувшись домой, Феликс не обратил внимания на то, что у его ворот никого не было. В последнее время не проходило дня, чтобы не являлась целая стая просителей. Но сейчас ему было не до того. Он поднялся на чердак и стал рыться в старых журналах и газетах, которых там была уйма. Перечитав тонну желтой прессы, он знал о Кате практически все.
Ее называли звездой номер один, несмотря на то что ей было хорошо за пятьдесят, а голос за последние годы несколько осип.
Любой телевизионный проект без нее считался неудачным и мелким. Она занимала первое место по сборам, ее концерты проходили и по сей день при полном аншлаге.
Лет пять назад она вышла замуж за молодого итальянца, сына миллионера-макаронника. Ее Марио был на двадцать пять лет моложе, и в течение года их брачная фотография украшала все газеты и журналы. Феликс даже поразился – как много можно написать о таком пустяке, как свадьба. Затем в семье звезды начались скандалы, и бульварные газетенки целиком и полностью отдавались этой сладкой теме. Катю обвиняли в супружеской неверности, а ее молодого супруга – в излишней, хотя и справедливой, жестокости в отношении соперников.
Садист-макаронник был профессиональным костоломом. Любой, кто прикасался к его жене, оставался с перебитым носом или переломанными ногами. Хотя, собственно, прикасался – не то слово. Спид-газета называла эти прикосновения «лапаньем» и печатала фотографии в качестве доказательств. Многие пострадавшие подавали на Марио в суд, но до заседания дело ни разу еще не дошло. Вмешивался отец Марио и выплачивал пострадавшим значительные суммы, которые заставляли их тут же забыть обо всех своих увечьях.
В связи с этой особенностью свекра Бурановой появилось много охотников за легкими деньгами. Теперь случалось, что на каком-нибудь официальном приеме к Кате подкатывал незнакомый молодой человек и, едва начав разговор, брал за грудь. Затем гордо подставлял Марио свой нос, а его отцу – свой карман и через несколько месяцев, подлечившись, открывал на деньги макаронников собственную фирму или развлекался в лучших казино с девочками, больше подходящими по возрасту.
Недавно Катя с Марио снялись в художественном фильме, призванном оправдать в глазах публики их постоянные семейные скандалы. Веселый репортер признавался, что уснул в кинотеатре через полчаса после начала сеанса, но еще через полчаса его разбудили громкие всхлипывания зала. Мелодрама, столь откровенно изобразившая интимную сторону супружеской жизни молодых, потрясла стареющих женщин, наводнивших кинотеатр, а Катины смоделированные опытными дизайнерами – пластическими хирургами – и щедро раскрытые широкой публике телеса удивили даже видавшую виды молодежь. Звезда была реабилитирована почти на три месяца.
Феликс перерыл всю прессу и нигде так и не нашел упоминания о детях Бурановой. Возможно, это было упущение прессы, возможно, Катя ребенка скрывала. Необходимо было проверить, как оно на самом деле.
Феликс купил билет на концерт, удивившись его потрясающей воображение цене. На сцене, в гриме Кате можно было дать лет двадцать. Пела она теперь гораздо хуже, чем тогда, когда он ее слышал в последний раз. Хотелось поскорее выйти, поискать Ивана. Феликс надеялся, что он по сей день не выпустил из своих цепких коготков песенную диву. Но выйти оказалось не так-то просто. Проходы были забиты теми, кому директор, как всегда заботясь о собственном благосостоянии, продал входные билеты. Вот Катя спела последнюю песню и высоко вскинула голову. Зал зашелся аплодисментами и криками. Две молодые девицы около Феликса, обнявшись, плакали навзрыд, остальные, глядя стеклянными глазами на сцену, требовали еще песен. И было совершенно ясно, что, если Катя больше петь не будет, все они попадают замертво. Катя смотрела в черный зал, протягивая руки вперед, и петь пока не собиралась…
Феликс вспомнил, как наблюдал за ней во время гастрольных поездок, как она выходила в зал и вот так же упивалась собственным триумфом, собственной властью над людьми. Ему не хватает такой же власти? А почему бы и нет? Кто сможет помешать ему? Кто в силах препятствовать музыканту с дудочкой вести за собой к обрыву стаю крыс? Он оглядел зал. Крысы, вот кто они. В их безмозглых головках Катя задействовала центр удовольствия, вот они и беснуются. Оргазм толпы. Безмозглые крысы. Кто может помешать ему повести их за собой туда, куда ему захочется?
У виска вдруг судорожно и больно забилась жилка, от неожиданности Феликс приложил руку ко лбу и закрыл глаза. Перед глазами всплыло смеющееся лицо девочки. От ее смеха кровь в жилах останавливалась…
Он пробивался сквозь толпу как одержимый. «Поймал» администратора, заставил отвести к Ивану. Тот сначала замахал руками на непрошеного гостя, но, приглядевшись, так и сел:
– Зачем ты здесь?! Не дай Бог, она увидит.
– Неужто не забыла?
– Это она хорошее быстро забывает. А оскорбление готова носить в душе до гробовой доски. Не уверен, что глаза тебе не выцарапает… Ты зачем пришел?
– У нее дети есть?
– Поздновато заволновался…
– Так есть? – Феликс повысил голос и попытался зацепить Ивана взглядом.
– Ну-ну, не надо, родной. – Иван выставил вперед руку и отвел взгляд. – И так все расскажу. Бесплодна она. Ни разу в жизни не беременела…
Только на следующее утро Феликс с удивлением отметил, что не было никаких просителей. Крынка молока, правда, все же стояла одиноко под дверью, но больше ничего не было. Может быть, морозы тому виной? Метель выла второй день, от ветра ломались ветки деревьев, провода бились друг о друга, рассыпая в снег фонтаны искр.
Теперь Феликс готов был реветь вместе с ветром. Одиночество ему было не по силам. Для одиночества нужно иметь большой запас прочности внутри, а в его душе царил полный хаос. Только обрывки воспоминаний поднимали со дна его усилия. Так ветер поднимает с земли пепел и рассеивает по округе. Он не находил смысла в воспоминаниях – это все равно, что читать пожелтевшую прошлогоднюю газету без волнения и всякого интереса.
Мысли о незнакомой и опасной дочери не давали ему покоя. Он с большим неудовольствием вспоминал, как когда-то пошутил Корнилыч над судьбой его врага и его гипотетического чада. Он тогда смеялся беспечно, чересчур беспечно. Это все – Корнилыч. Он полностью подчинил его волю, да так, похоже, и позабыл вернуть значительную ее часть, отправляясь на тот свет. А теперь – кто знает, что там за девочка выросла? И если она знает о своей участи, то не пожелает ли ее избежать? Пережив отца…
Эти мысли доводили его до бешенства. С какой стати ему бояться семнадцатилетней девчонки? Да она ведь и понятия не имеет о том, кто ее отец. Если уж она и захочет «пережить» своего отца, то уж не его, конечно, а Дмитрия. Это было бы замечательно. Это было бы лучшей местью с его стороны, да вот только завывания метели не смолкали, и душа разрывалась на части.
Как только снежная буря улеглась, солнце тут же растопило выпавший снег. Феликс отправился посмотреть на свою дочурку. Что гам за монстр такой вырос, и в чем же его сила? Почему мысли о дочери вызывают у него животный страх? Что в ней ужасного?
Ему пришлось ждать долго, половину дня, прежде чем она показалась в парке со школьной сумкой через плечо. Нужно бы подойти поближе, может быть, даже поговорить, решил Феликс, внутренне собравшись и приготовившись поймать ее взгляд. Девочка шла навстречу ему и вдруг, когда их разделяло метров тридцать, остановилась, сморщилась, словно от боли, согнулась пополам и схватилась руками за бок.
Это еще что такое? Феликс решил, что сейчас самое время прохожему поинтересоваться, что же случилось с девочкой, и ускорил шаг. Но Настя резко повернулась и пошла обратно. Сначала она еще держалась за бок, но потом боль, видно, отпустила, и она почти побежала по дорожке.
Феликс опешил. Что бы это значило? Может быть, действительно что-то случилось, и она решила вернуться в школу, зайти в медкабинет? Он шел за ней, твердо решив дождаться ее у школы. Неожиданно Настя снова ухватилась за бок и резко свернула вправо с дорожки, посыпанной гравием, и месила теперь грязь модными сапожками. Феликс потерял терпение и ускорил шаг, собираясь нагнать девочку. Она не видела его, потому что ни разу не обернулась, но, несмотря на это, петляла по парку так, словно играла с ним в кошки-мышки. Он ускорил шаг – она побежала. Феликс остановился, и Настя замедлила шаг.
Он еще несколько раз пытался подкараулить ее в парке. Прятался за высоким кустарником, пытался затеряться в толпе прохожих у школы, сидел в машине. Но все безрезультатно. Она ни разу не приблизилась к нему ближе чем на двадцать метров. Что это? Понимает она, что делает, или это случайность?
Феликс был взбешен. Его способности утрачивали всякий смысл рядом с этой девчонкой. Значит, с отцом он ничего не может сделать, потому что тот не поддается, а с дочкой – потому что она чувствует его за версту лучше любой собаки. Значит, ничего он с ними сделать не может? Феликс стиснул кулаки. Времени оставалось в обрез – в октябре Насте исполнится восемнадцать. Да и обещание, данное матери, пора выполнить.
Три долгих дня Феликса никто не беспокоил. А на четвертый явилась сердобольная старушка с крынкой молока и рассказала, что были попы, приезжают они обычно раз в год – крестить, исповедовать. Говорили про него дурное, что, дескать, он не монах никакой, что не присылали сюда никого. А что он самозванец или чего хуже – расстрига. Народ им про чудеса, а они – про шарлатанство. Запретили к самозванцу ходить, поселили в душах страх.
– А вы, стало быть, не поверили?
– А мне все одно – кто ты. Монах настоящий или не настоящий – какая разница. Я ведь не один день под твоими воротами простояла, все слышала, что люди рассказывали. Такие чудеса простой человек творить не может.
– Ну, спасибо.
– Сила тебе дана немалая, но распорядиться ею с умом нужно. Ты бы потолковал с моим сыночком…
– О чем?
– Ты потолкуй, сам поймешь. Он тебя давно дожидается. И знаешь, это даже лучше, что ты монах-то ненастоящий, – добавила бабка, выходя.
Вслед за ней и сыночек появился. Дядька лет так под пятьдесят, толстый, лысый, круглый. Как вошел, Феликс, опасаясь подвоха какого от попов, «поймал» его тут же у двери, чтобы, если что, выставить сразу. Мужик застыл сначала, глаза вытаращил, а затем речитативом понес какую-то тарабарщину. Слова свистели как пули, но без всякой цели и смысла. Феликс сначала решил, что он молитву читает. Только вот не знал он такой молитвы. Да и странная была молитва, слова совсем не церковные, не Божьи проскакивали. Что-то современное, что ли, придумали?
Отпустил Феликс дядьку, тот постоял немного, отошел, но взгляд его остался таким же оловянным.
– Меня прислали за вами.
– Кто же прислал?
– Братья. Мы вас много лет ищем…
– Меня?
– Вас, вас. Очень у вас это здорово получается! – с восторгом заявил дядька.
– Вы от кого? Из какой-то секты, что ли?
– Что вы! – Мужик замахал руками. – Какие секты! Скажете тоже… Наша организация никакого отношения к сектам не имеет. – Мы занимаемся духовным воспитанием общества. Существуем вполне легально. По всей России филиалы.
Феликс с подозрением посмотрел на мужика. Одет он был вполне добротно, но вот тупость, разъевшая черты лица от рождения, заставляла сомневаться в том, что такой человек годится в духовные наставники для общества. Хотя говорил он гладко, как по писаному Рассказывал о деятельности своей организации, о поездках по стране, о работе с молодежью. «Надо же, – думал Феликс, разглядывая странного посетителя, – мужик мужиком, а манеры как у интеллигента. И жестикуляция, и тон. Интересная, должно быть, организация, если они из такого… материала делают такие вещи!»
– …И приглашает вас на одно из таких заседаний руководитель нашего северо-западного отделения, глава питерского центра Людмила Павловна Воскресенская. В субботу, в пять. – Он протянул Феликсу красиво оформленный пригласительный билет. – Будем ждать, приходите обязательно. А после Людмила Павловна вам все и объяснит подробно.
– Постараюсь, – сказал Феликс.
– Не отказывайте. Вам понравится. Это как раз то, что вам нужно.
В субботу Феликс отправился по указанному на пригласительном билете адресу. В фойе Дома культуры он принялся внимательно изучать собравшуюся публику. Люди были разные – от детей до пенсионеров, от полковников в форме до разодетых и ярко раскрашенных молоденьких девиц. Однако объединяло всех выражение превосходства на лице и тупой, остекленевший взгляд. Вскоре все разместились в большом комфортабельном зале, и в наступившей тишине на сцену вышли мужчина и женщина. Женщина встала к микрофону, мужчина – на край сцены, лицом к залу. Она говорила, а он все это время жадно впивался глазами в лица слушателей.
Смысл ее речи был поразительно темен. По крайней мере, Феликс так и не понял, что же это за сборище, в чем же состоит его особая для него прелесть, и какие цели оно перед собой ставит. Отдельные фразы типа «Мы пронесем наш огонь от океана до океана» или «Мир опомнится и очищенный с нашей помощью…» предполагали активный характер организации и говорили о широкомасштабности ее устремлений. Люди сидели, не шевелясь, и смотрели вперед как завороженные. Вытянув шею и слегка приподняв голову. Исключение составляли разве что совсем маленькие дети. Только они порой вертели головой, разглядывая то собственные ногти, то напряженно застывшие спины соседей.
После произнесенной речи оратор предложила разойтись по секциям и продолжить работу по очищению своей души, «ибо пламень, который в ней должен разгореться и со временем опалить все человечество, нужно хорошенько разжечь». «И кто только ей пишет такие бессмысленные речи!» – со вздохом подумал Феликс, собираясь уходить. Но на выходе из зала к нему подошел тот самый мужчина, что стоял, широко расставив ноги, на сцене.
– Вас просит Людмила Павловна.
Он провел его сложной системой коридоров и коридорчиков, открыл дверь в кабинет, и Феликс нос к носу столкнулся с докладчицей, которая только что произнесла со сцены бестолковую речь.
– Здравствуйте, Феликс Олегович Соловьев, – с расстановкой произнесла она, по-мужски протянула руку ладонью вверх и накрыла его ладонь сверху другой рукой. – Здравствуйте.
Она потряхивала его руку в своих и пристально всматривалась в лицо. Феликс не собирался «ловить» ее, но так уж вышло, слишком пристально она всматривалась в его глаза, слишком подалась вперед, все в ее приветствии было слишком, и Феликс не удержался, стал втягивать ее взгляд. Неожиданно она закрыла глаза и отпустила его руку.
– Достаточно, – произнесла она с легкой улыбкой. – Все это вы мне продемонстрируете, но в свое время.
Она вышла из кабинета и вернулась с рослым молодым человеком.
– Вот, – сказала она Феликсу, – пожалуйста.
Все выглядело так, словно Феликс пришел устраиваться на работу, а директор фирмы решил проверить его деловые качества. Ситуация его немного раздражала, немного смешила, но все-таки было интересно, что это за люди и что им от него нужно, поэтому Феликс не торопясь подошел к парню.
Через минуту парень напрягся так, что со лба покатился градом пот, а рубашка под пиджаком насквозь промокла. Он полез в карман, вынул оттуда несуществующий предмет и пошел в сторону коридора. Феликс, ничего не понимая, пошел было за ним, но как только дверь за молодым человеком закрылась, Воскресенская, широко улыбаясь, преградила ему дорогу.
– Достаточно. – Это, кажется, было ее излюбленное словечко.
На этот раз она произнесла его по-женски мягко, почти как заботливая жена.
– Мало ли куда он пойдет…
– Пойдет куда надо. Все под контролем. Везде наши люди. Через несколько минут мы узнаем результат.
– Какой результат?
– Начнем по порядку, хорошо?
Она с ловкостью фокусника выудила из своей прически одну-единственную шпильку, и волосы волной рассыпались по спине. Людмила Павловна тряхнула головой, сняла очки и из дамы неопределенного возраста превратилась в молодую холеную женщину-вамп с жестким взглядом.
– Это мой камуфляж. – Она весело кивнула на шпильку и очки и нажала одну из разноцветных кнопок на пульте.
В ту же минуту вошел знакомый уже Феликсу мужичок и, не глядя на него, поставил на стол две дымящиеся чашки чаю.
– Угощайтесь, – протянула женщина. – Чай особый, тибетский.
И сама первая потянулась к чашке вытянутыми губами, сладко зажмурившись. Феликс тоже пригубил напиток. Вкус был слегка горьковатым, незнакомым. Что, интересно, они заваривают? Какой-нибудь зимний сбор тибетских одуванчиков?
Выпив ровно половину чашки, Людмила Павловна наконец оторвалась от своего занятия и внимательно посмотрела на Феликса.
– Пейте, пейте, – сказала она, и ему пришлось сделать еще несколько глотков. – Вы пейте, а я буду рассказывать. Мы давно заметили, что люди не в состоянии усваивать истину, – здесь в глазах ее мелькнули оранжевые огоньки, – в том виде, в котором она существует. Чистая правда – она же и голая правда, не так ли? А у нас не любят голых – это предосудительно и непрестижно. Вот и приходится прикрываться тряпками, которые теперь в моде, раскрашиваться, маскироваться. И вдумайтесь, для чего все это? Только для того, чтобы по капле влить в эти почти мертвые, иссохшие души живительную истину.
Она расстегнула две верхние пуговки блузки, показав в разрезе некоторую часть голой правды о себе, сняла пиджак, и Феликс, если бы не видел всего этого своими глазами, никогда бы не узнал в этой раскованной очаровательной диве того синего чулка, который только что монотонным голосом вещал со сцены нечто совершенно бессмысленное. Ее превращение из убогой тетки в обворожительную женщину настолько захватило его, что он не сразу осознал: смысл ее речей по-прежнему темен, объяснения ничего не проясняют. Но теперь у него появилось страстное желание понять…
– О какой истине вы все время говорите? – осторожно спросил Феликс.
– Вы умный человек. – Она наклонилась к нему через стол, и ее «полуголая правда» стала гораздо очевиднее. – Вы ведь понимаете или по крайней мере чувствуете, что истина – она одна. Есть люди, которые понимают это. И мне кажется, вы один из них.
Феликс вдруг ощутил, что несколько секунд назад перестал дышать, что легкие его сейчас разорвет. Он резко выдохнул и прикрыл глаза. Похоже, она поймала его ненадолго. Нужно быть осторожнее. Он выпрямился, посмотрел на нее в упор, но она тут же встала и, покачивая бедрами, прошла к окну, продолжая между тем свой монолог:
– Теперь я точно знаю – вы один из нас. В одиночестве мы все – ничто. Нас, как ветхие маленькие суденышки, накроет волна безысходности. Ограниченные люди погубят нас, в конце концов мы склоним колена перед бездуховностью и пойдем у нее на поводу. Впрочем, во все века и времена именно так и было. Величайшие умы, – она повернулась теперь к нему лицом и, изгибаясь, как огромная змея, пошла в его сторону, – величайшие умы человечества вязли в косности общественных отношений. Они, – Людмила стояла совсем рядом и смотрела на него сверху вниз не опуская головы, одними только глазами, – они ничего не смогли сделать. Но теперь мы вместе. Мы нашли друг друга, и теперь тупой толпе уже не смять нас, нет, теперь ей придется подчиниться нам.
Она медленно опускалась перед ним на колени, как змея сворачивалась кольцами, демонстрируя ему весь свой великолепный торс – точеные широкие бедра, тонкую талию, две наполовину обнаженные розовые сферы, белую лебединую шею, нежный подбородок, глаза.
Это было как укус змеи – когда глаза Феликса встретились наконец с ее глазами. Он понял, что снова затаил дыхание, выдохнул резко, но на этот раз уже не мог собраться с мыслями, а в изнеможении откинулся на спинку стула. Вошли трое мужчин. Дива, ничуть не смущаясь их присутствием, пристроилась Феликсу на колени и продолжала говорить:
– Теперь мы заодно. Мы будем диктовать наши условия всему миру. Мы овладеем умами толпы, умами политиков, бизнесменов. Мы будем тайно править миром. Да мы уже правим. – Ее голова раскачивалась на длинной шее вправо, влево, так что Феликсу она все еще казалась змеей, готовой к смертельному прыжку. – У нас много дел. Нам нужны люди. Не простые люди, нет. Они не подходят для правления. Нам нужны люди такие же, как мы. Люди, чувствующие истину. Я рада, что ты пришел, чтобы присоединиться к нам.
Она резко встала с его колен, из его горла снова вырвался задержанный воздух, он закашлялся, но сознание стало проясняться.
Воскресенская посмотрела на одного из мужчин, и тот сказал:
– Слов нет. Все точно.
Она быстро перехватила удивленный взгляд Феликса и подошла к нему на этот раз очень официально, и в ней снова угадывалась тетка со сцены:
– Я рада, что вы именно тот человек, который нам нужен. Я рада, что братья не ошиблись. Теперь ты наш брат. Ничего не бойся. Отныне твои враги – наши враги. А значит, мы раздавим их так же, как расправляемся со своими. – Она усмехнулась немного криво.
Она махнула рукой, и мужчины молча вышли.
– А теперь послушай, Феликс. Это твой членский билет. Будем считать, что он уже оплачен. Хотя вступительные взносы в нашей организации платят большие. Но ты – совсем другое дело. Этот билет откроет тебе любые двери. Положи его в нагрудный карман корешком вверх и иди хоть в мэрию, хоть в приемную президента, проси любые ссуды в банке, снимайся в кино, делай все, что душе угодно, – любые двери будут для тебя открыты, и повсюду будет гореть зеленый свет. Только помни, все это до тех пор, пока ты наверху, – взгляд ее стал невыносимо жестким. – В нашей организации существует своя иерархия. Есть те, кто правит, а это практически боги, есть те, кем управляют – это наш подручный материал, с помощью которого мы собираемся завоевать весь мир. Те, кто сегодня сидел в зале, – только материал. Ты пока – полубог. Тебе еще предстоит кое-что сделать для того, чтобы прибиться навсегда к богам.
– Что я должен буду делать?
– А вот теперь ты мне ужасно нравишься. Честное слово, Феликс. Даже представить себе не можешь! Я рада, что ты рвешься в бой. Хорошо. Заеду за тобой через неделю, будет дело. А теперь прощай. – Она снова протянула ему две ладони, взяла в них его руку и несколько раз встряхнула.
Феликс шел по коридору неуверенно, чувствуя, как до сих пор кружится голова. Но сердце его было наполнено удивительно сладким и странным ощущением, чем-то очень похожим на счастье. Сладким и пряным…
ЧАСТЬ 2
«Я вижу свою душу в зеркала,
душа моя неслыханно мала…»
И. Бродский
1
Когда-то серый дом на Фонтанке, возможно, считался весьма респектабельным местом, несмотря на свою полную коммуналковость. Жильцы гордились видом на грязную речку, на исторические места, утверждали, что именно здесь кутил молодой Пушкин. Ну не кутил, так захаживал выпить – это точно. Но теперь дом опустел, и по ночам по этажам бегали огромные серо-бурые крысы. Они полностью завладели домом и ничуть не смущались бомжей, захаживающих в теплые подъезды, чтобы опохмелиться. Крысы смотрели на них немигающими жадными тупыми глазками и пытались стащить из-под носа что-нибудь из их затхлой снеди.
В этом доме на подоконнике в подъезде Лю сидела уже целую вечность. Возможно, она бы так и не очнулась, если бы не кончились сигареты. Она уставилась на пустую пачку. Потом на пепельницу – и ужаснулась. Восемь штук – вот так, не отходя от окна. Ну что же, возможно, это не худший способ самоубийства.
«Значит, так: если он вернется… Глупо, конечно, так себя обманывать, но все-таки, если он вернется…» Мысль сворачивалась клубочком и не хотела развиться во что-нибудь утешительное. Он не вернется, конечно же, он не вернется. Лю снова взяла в руки рулетку и, потянув за металлический хвостик, вытащила длинный кусок линейки. Отпустила. Вжик – и все сантиметры моментально исчезли. Классная игрушка. Все как в жизни. Встретились они с Сашкой, прожили вместе год, а потом – вжик! – и все.
Разумеется, она могла бы не допустить свое сердце до этой бесперспективной любви. Знала ведь, что у него где-то жена, сын. Но за год как-то забыла. Вылетело из головы. Да он и сам не вспоминал о них. А через год – здравствуйте, пожалуйста! – жена пожаловала. И как она их только нашла? Ведь Лю жила в заброшенном доме. Точнее, владела заброшенным домом.
Все квартиры давно расселили, осталась только Лю. На ней расселение и закончилось. И почему ей всегда так не везет? Жила бы теперь в отдельной квартире, как все нормальные люди. Так нет же, именно когда подошла ее очередь расселяться, деньги у расселителей кончились. «Ждите!» – сказали ей в жилконторе, что могло означать и надежду, и кукиш с маслом. Но сказали с такой интонацией, что надежда мгновенно скончалась на месте. Полгода Лю прислушивалась, не затеплится ли снова ее дыхание, а потом прислушиваться перестала и решила сдавать пустующие комнаты бывших соседей.
Идею эту ей подала Мари. Они повстречались месяц назад на набережной, когда Лю выгуливала Бинго. Черный сеттер был Сашкиным подарком. Лю кормила его, гуляла с ним по пять раз на дню, но хозяйкой так и не стала. Бинго весь день лениво лежал у входной двери и оживлялся, только когда возвращался Сашка.
Мари оказалась бездомной девушкой с темной историей. Лю не поверила ни слову из рассказа о ее злоключениях, но предложила переночевать в соседней пустующей квартире. Так она стала первой «квартиранткой» и в какой-то мере совладелицей пустующего дома. Потому что, хоть денег с постояльцев и не брала, частенько теперь обитала на кухне у Лю, пробуя ее борщи и салатики. Лариска привела пару квартирантов, ребят со своего филологического факультета. Лю не возражала. Лариска не злоупотребляла ее гостеприимством и заходила в гости, только когда Сашки не было дома.
Его жена пробыла недолго. Полчаса, наверно. Им нужно было поговорить. Да ради бога! Лю все поняла, когда открыла ей дверь: словно в зеркало взглянула. Такая же высокая, волосы такого же редкого оттенка и точно такой же длины, словно их вымеряли по сантиметру у той идругой перед тем как подрезать. Черты лица – и те как у двоюродной сестры. Вот почему он не вспоминал ее: он ее и не забывал никогда, глядя на Лю. Прикрывал, наверно, глаза своими длиннющими черными ресницами и видел вместо Лю – ее. Она вышла первой, прошла мимо, не оглянувшись на Лю. Он задержался только на минутку: «Прости, Лю, у меня все-таки сын…» Как будто раньше об этом не знал! «Понятно. Хочешь, подвезу?» – «Спасибо. Жена на машине». Ну конечно, она на машине и с сыном, а Лю в крысином доме на старом мотоцикле. О чем речь?
Когда они ушли, Бинго грустно свернулся калачиком на тряпке у входной двери, а Лю отправилась к Мари. Та выслушала, как всегда беспристрастно, достала рулетку, протянула ей: «Вот так? Вжик и все! Пройдет. Хочешь, посидим вечером? Сейчас не могу, убегаю». – «Не знаю», – сказала Лю и снова пошла курить на подоконник, глядя сквозь треснувшее грязное стекло на улицу.
Сигареты кончились, и Лю почувствовала, что теряет последнюю опору. Попросить у приживалов? Ну их. Проще сходить в магазин. Она пошла наверх, к своей квартире, и вдруг услышала, как хлопнула подъездная дверь. «Вернулся!» – Лю накрыла волна ликования. Задыхаясь, она перегнулась через перила, чтобы разглядеть, идет ли он с той кожаной сумкой, в которую сложил вещи, или только возвращается забрать что-нибудь позабытое.
Шаги однако замерли на первом этаже. Звякнула крышка почтового ящика – и снова тишина. Странно, почтальон сюда никогда не заходил. Лю на цыпочках стала спускаться вниз. Кто-то там внизу тихонько вздохнул. Она остановилась и хотела было окликнуть наугад, но дверь подъезда снова открылась. На этот раз громыхнула – дай бог! Топот нескольких пар ног, глухие удары, резкие выражения, стон. Снова топот, грохот двери – и тишина. Лю стояла, замерев, и боялась пошевелиться. Потом на цыпочках поднялась к окну. От подъезда отъезжала машина. Лю прислушалась – ни звука – и стала неуверенно спускаться.
На площадке первого этажа лицом вниз лежал человек. Пол вокруг был забрызган кровью. Лю обошла его, умирая от волнения, не в силах оторвать взгляд от кровавого пятна, расплывавшегося под головой. Совсем не почтальон. Она уставилась на почтовые ящики. В одном из них сквозь три круглые дырочки проглядывало что-то коричневое. Лю открыла ящик, вытащила толстую тетрадь…
2 Дневник Станислава Гроха
27 апреля (Первые несколько страниц перечеркнуты красным карандашом)
«С самого раннего детства, с тех самых первых моментов, которые сберегла для меня капризная память, женщины относились ко мне всегда одинаково. Единственный взгляд в мою сторону непременно приводил их в ликование. Они, подчиняясь одним им ведомому закону природы, кидались ко мне, тормошили, ерошили волосы, сверкая при этом очаровательной улыбкой. В три года мне очень нравилось, что любая особа женского пола воспринимает меня как милого плюшевого мишку. Но вот в двадцать три…
В двадцать три меня это уже слегка раздражало. Разумеется, теперь женщины больше не ерошили мне волосы и даже вовсе не прикасались ко мне, хотя именно теперь я бы не возражал. Но все-таки каждая из них смотрела на меня как на плюшевого медведя, явившегося из ее солнечного счастливого детства. В двадцать пять, а сейчас мне именно двадцать пять, это мое свойство – напоминать представительницам противоположного пола лишь любимую детскую игрушку – приводит меня в отчаяние. Год назад я даже задумал принять решительные меры против такого безобразного произвола природы и отпустил усы. Но женские восторги не стихли. Теперь, похоже, они узнают во мне любимого котенка…
Вчера в моей жизни случилось… Хотя нет. Случилось – но вовсе не в моей жизни. Потому что в моей жизни никогда ничего не случается, кроме контролеров в транспорте. То, что случилось, случилось в жизни «первой леди» моей бывшей пятнадцатой группы. Но то, что случилось в ее жизни, отозвалось в моей болезненным эхом и ввергло меня в пучину совершенно невообразимых событий. Теперь, по прошествии суток, анализируя все, что произошло, я отдаю себе отчет, что, не случись с Катей этой неожиданности, все могло бы быть иначе.
Первая леди – Катя Сандалетова – скоропостижно вышла замуж за никому не известного летчика именно в тот день, на который назначила мне встречу. А я, надо сказать, добивался этого свидания ровно год. А потом еще год ждал, когда оно состоится.
Напившись в стельку на вечеринке по поводу нашего благополучно приближающегося выпуска из Политехнического института, я подошел к Кате и предложил «встретиться как-нибудь…» Она снисходительно посмотрела на меня сверху вниз и объявила печально, что «не раньше чем через год». Почему она так сказала – я тогда не понял. Понял только, что через год. И стал считать дни…
Сегодня, двадцать седьмого апреля, зачеркнув в календаре последний триста шестьдесят пятый день, я дрожащими руками снял телефонную трубку и впервые услышал раскатисто-басистый голос Катиной мамы, которая и сообщила мне радостную новость: «Катюша только вчера вышла замуж, Катюша отдыхает еще…»
Промямлив дежурные поздравления, я не стал называть своего имени, распрощался и, положив трубку, тяжело опустился в кресло. Вот и все. Что дальше?
Некоторое время я просидел в полной тишине. В голове не было ни единой мысли. И чего я, собственно, так расстроился? Ведь не думал же я, что она действительно… Или думал? Хватит малодушничать, признался я себе наконец. Может, ростом я и не вышел, но вот с интеллектом у меня все в порядке. И если верить моему другу-психологу, очень даже хорошо! Тесты Аркадия, моего приятеля с факультета психологии, показывали, что мои умственные способности «зашкаливают». По идее я должен был захлебываться нестандартными мыслями и поминутно совершать великие открытия. Однако почему-то не делал ни того ни другого. Хотя, может быть, это всего-навсего тест барахлянский, ведь Аркаша разработал его самостоятельно для курсовой. Но ставить под сомнение профессионализм друга в данном случае мне совсем не хотелось… Да ладно, что там мудрить. Умный я, умный. Я это чувствую иногда. Кстати, именно в этом, может быть, и заключается все мое несчастье. Был бы дураком – радовался бы жизни. Так ведь нет…
Я посмотрел в зеркало, криво висевшее на стене. Заглянул себе в глаза и глубоко вдохнул воздух, чтобы сделать наконец самому себе страшное признание: я мужчина маленького роста, и это ужасно. Мои метр и пятьдесят семь с половиной сантиметров, моя большая глазастая голова и крепкие руки и ноги – это то, что испортило бы жизнь любому. Они перечеркивают во мне человека, превращая в плюшевого медведя, вещь любопытную, но декоративную, то есть без какого-либо конкретного назначения и, уж если быть совсем точным, – не функциональную для любви. Кому нужен мой интеллект, если как мужчина я не выдерживаю никакой критики? Женщинам важнее рост, плевать они хотели на ум. Так что пора сдаваться мафии. Я снял телефонную трубку и набрал номер.
– Севок, здорово! Слава беспокоит.
– Ну здорово. Ты чего такой хмурый?
Я мимоходом бросил взгляд в зеркало, покачал головой и как можно выше поднял брови.
– Не, я не грустный. Я сдаваться.
– Давно бы так, – обрадовался Сева. – Ты посиди у телефона с полчасика. Я сейчас им позвоню, а потом тебе.
Положив трубку на рычаг, я ужаснулся сделанному. Ну почему я такой внушаемый? Почему, если мне говорят, что это хорошо, я через некоторое время тоже так начинаю думать? Почему всегда кто угодно может убедить меня в чем угодно? «Ты просто создан, чтобы тобою управляли», – сказал Севка на прощание и, к сожалению, оказался прав. Прикрыв глаза, я обреченно приготовился ждать…
По профессии я металлург. Распределился после института на завод цветных металлов вторым технологом в плавильный цех. И все ради прописки. Ради чего-то другого там делать было нечего. Мой завод – это маленький островок развитого социализма, который я хорошо запомнил по школьным временам. Здесь никому не было дела до того, что вся страна живет давно уже по «волчьим» законам свободной экономики, что все вокруг давно перестроились и даже слово «перестройка» давно позабыли. Здесь ничего не изменилось. Руководство строило себе квартиры и дачи на заводские деньги, народ получал грошовую зарплату, но революционная ситуация никак не созревала. Народ, вместо того чтобы бунтовать, с завистью смотрел на высший эшелон власти, надеясь хоть когда-нибудь пристроиться к их паровозу.
Отработать на этом зачарованном острове мне предстояло как минимум до тех пор, пока мне не дадут постоянную прописку на койко-место в общежитии. На самом деле я занимал вовсе не койко-место, а двенадцатиметровую комнату в восьмикомнатной квартире, коллектив которой редко выходил из глубокого запоя. Четыре семьи, в каждой по двое детей, произвели на меня поначалу самое благоприятное впечатление. Особенно радовали соседки, наперебой угощавшие блинами. Но блины они пекли до семи вечера, а после семи – ели их с подвыпившими мужьями, после чего шумно выясняли отношения: с мордобоем, с битьем посуды, с детскими воплями и бурными примирениями под утро на скрипучих кроватях.
Жить в такой обстановке было невыносимо. Но я жил. Поэтому, наверно, и повесил на стену метровый календарь с обнаженной девицей, поэтому и зачеркивал каждый прожитый день красным карандашом крест-накрест. Раз-два. Кому был нужен этот день? Зачеркивал и убеждал себя, что считаю дни до встречи с Катей Сандалетовой. А на самом деле мне хотелось перечеркнуть свою никчемную жизнь.
Когда запал моих соседок относительно угощений иссяк, я стал тихо умирать от голода по вечерам. Пришлось купить книжку по кулинарии. Я прочел ее за ночь, на одном дыхании. На следующий день я купил еще пять книг по приготовлению блюд разных народов мира и написал пространное письмо матушке в Калугу с просьбой подробно описать мне рецепты тех яств, которыми она меня всегда потчевала. Полтора месяца я потратил на систематизацию полученных знаний. Два – на то, чтобы исколесить город в поисках приправ с многообещающими пряными и острыми названиями. Затем, чувствуя себя почти профессионалом, я обошел свой микрорайон в поисках сносных продуктов. И только после этого во всеоружии вышел на кухню.
Соседки, погруженные в заводские сплетни, сначала даже не заметили меня. Но как только по кухне поплыл запах мяса с шафраном, предварительно вымоченного в сложносочиненном растворе, смолкли и разинули рты. Уверен, что в этот момент они разом пожалели, что я так мал ростом, а значит, меня никак нельзя использовать в качестве мужа. Их мужья выходили на кухню только для того, чтобы покурить…
Первый же мой кулинарный опыт удался на славу и был съеден четырьмя взволнованными матронами прямо с моей сковородки. С тех пор я старался выходить на кухню только тогда, когда там никого нет. А поскольку такое случалось довольно редко, я приобрел небольшую двухкомфорочную электроплиту и готовлю теперь в комнате. Процесс приготовления всевозможных французских, немецких и итальянских блюд делает меня по-настоящему счастливым.
Месяц назад, возвращаясь домой с родного завода, я залюбовался черной красивой машиной, медленно двигающейся мне навстречу по проезжей части. Машина была «навороченная» и начищенная, как сапог. Неожиданно она остановилась у тротуара как раз возле меня. Из машины вылез такой же навороченный мужчина и, сняв темные очки, уставился на дорогу так, словно позабыл, как он сюда попал.
– Севка! – не поверил я своим глазам.
– Садись, подвезу!
Собственно, мы никогда с ним не были большими друзьями. У меня вообще не было настоящих друзей. Но Севка был одним из тех, кто постоянно пытался меня как-нибудь использовать: занимал денег, просил позвать очередную девушку к телефону, просил покурить в коридоре часик-другой, пока занимал вместе с ней нашу общую комнату. Он вообще был большой бабник, считал, что если девушка посмотрела в его сторону, то он обязан ее трахнуть. Иначе она решит, что он импотент. Во всем остальном он был не столько странным, сколько довольно неприятным типом. Единственной его мечтой было занять в жизни «подобающее положение», «стать крутым». Похоже, теперь он воплотил свою мечту в жизнь. Похоже, это не принесло ему ни покоя, ни удовольствия.
Но я все равно был рад, что встретил его. Как-то, знаете, рядом с такими людьми приобщаешься к активной жизни, чувствуешь себя одним из заговорщиков.
Теперь Севка в моей помощи, похоже, не нуждался. И даже, осмотрев мое жилище, выразил готовность помочь чем-нибудь мне.
– Даже не знаю, браток, чем тебе помочь, – поминутно повторял он. – С чего начать, не знаю… В компьютерах рубишь? Столярничать умеешь? А насчет карате как?
Но я только беспомощно разводил руки: какие там компьютеры, какое карате…
Чем мне помочь, его осенило, когда он проглотил первый кусок мяса, приготовленного мною накануне по специальной индийской рецептуре.
– О! Уа-у! Вот это да! Сам приготовил? Не верю! И давно ты?.. Слушай, идея есть! Жена моего босса ищет повара. Ты бы ей точно подошел. Давай я…
– Нет, нет, нет. – Меня точно током дернуло.
За последние полчаса, пока мы потягивали красное вино, Севка дал мне понять, что занят не то чтобы полулегальным бизнесом, а каким-то уж совсем нелегальным. Он был кандидатом в мастера по дзюдо. Выглядел – громила громилой. Казалось, что его плечам тесно в одежде, и распрями он их по-настоящему, пиджачок пятьдесят шестого размера треснет по швам. Ростом он был при этом ненамного выше меня. Но все-таки выше…
– Подумай! Отказаться всегда успеешь!
– Я ж за прописку работаю. Мне еще два года…
– Купят тебе и прописку, и квартиру, как ты не понимаешь! Все будет. И – завтра же!
– Я… не готов к этому. Как-то вот так – все сразу. Мне нужно подумать.
– Не тяни, тугодум, дело выгодное.
– А как у тебя с той, рыженькой… – быстро перевел я разговор на его любимый предмет.
Мы с ним просидели до утра. Севка несколько раз бегал вниз, к машине, за вином. У него в багажнике оказался целый склад. Среди ночи он вышел покурить в «тамбур» и пропал часа на два. Вернулся довольный, объявив, что у меня хорошенькие соседки. А главное – добрые очень…
На следующий день я, протрезвев, выбросил, конечно, из головы его «заманчивое» предложение насчет того, чтобы стать поваром для мафиозного босса. Вспомнил, как, сильно захмелев, Севка пустился в откровения:
– Знаешь, Слав, я ведь со всеми потрохами продался. Квартира у меня – закачаешься, техника – вся, какую представить только можно. Машина вот – сам видел. Денег куры не клюют. Девчонок – сколько и каких пожелаю. Только вот такое чувство, что ненадолго все это. Неделю назад охранник наш один сел в машину и взлетел в воздух в ту же минуту. Босс – тот вышел случайно, на минутку… Один раз обстреляли, один раз в больницу попал. И это все за три года. Много ли мне еще осталось – не знаю? Денег не коплю, жениться не собираюсь, о детишках не думаю. Что дальше? – Он задумчиво смотрел в свой стакан. То ли грусть сквозила в его словах, то ли страх, я так и не понял. – В общем – живу одним днем. Нелегко это. Давай-ка я еще за бутылочкой сбегаю…
У меня было время прочувствовать Севкину обреченность, пока он бегал к машине. Ну, одним днем-то он всегда жил и о детишках, насколько я помню, всегда помышлял мало. Но в ту минуту я порадовался за свою непоколебимую безопасность. Но вот как только бархатные басовые нотки голоса Катиной мамы улеглись в моей голове, я вдруг решил: «Да пропади она пропадом, моя безопасность!» Действительно, что мне ловить? Что терять? С чем будет грустно расставаться? С этой замшелой жизнью? Да разве это жизнь?
Но как только я позвонил Севе и сдался, мною снова овладел страх за свою никому доселе не нужную шкуру. Я всегда относился к робкому десятку. Не то, что Севка. Хотя…
– Эй, уснул, что ли, у телефона? – спросил Сева, когда я поднял трубку на десятый звонок. – Не спи. Я, кажется, уладил твои дела. Сегодня в двадцать ноль-ноль будь на Рубинштейна в «Молли паб».
– А что это такое?
– Да ничего страшного. Пивной ресторанчик.
– И что мне там делать?
– К тебе подойдут, объяснят.
– А как они меня…
– Узнают, не волнуйся.
И Сева дал отбой.
Ровно в восемь вечера я, одетый в строгий черный костюм, вошел в пивной ресторан. И тут же пожалел, что так вырядился. Публика здесь была шумная, веселая и беззаботная. Молодежь кучковалась за столиками большими компаниями. Я занял позицию у стойки, заказал себе сок и с интересом принялся смотреть телевизор. Как раз в это время начался футбольный матч.
Через полчаса я выпил уже два стакана сока и заволновался. Ко мне никто не подходил. Неужели Севка надул меня? Память перетасовала карты нашего совместного прошлого и одну за другой стала подсовывать мне истории розыгрышей, которые Севка устраивал в институте. «Надо же было так купиться!» – вздохнул я и сразу же почувствовал огромное облегчение. Стащил потихонечку галстук, сунул его в карман, расстегнул верхнюю пуговицу и заказал себе стаканчик пива. Теперь можно было расслабиться. И уж посидеть немного здесь, коли я сюда заглянул.
Через несколько минут в ресторанчик вошли две интересные девицы. Таких даже на обложках журналов не бывает. Одна высокая, с распущенными длинными каштановыми волосами. Другая – совсем молоденькая, моего примерно роста, с короткой стрижкой и встревоженным взглядом. В белокурых коротких волосах ее смело вились две ярко-синие пряди.
Они подошли к стойке и сели возле меня, обдав с двух сторон заморским благоуханием. Через минуту брюнетка спросила у меня «огоньку», через пятнадцать минут мы с ними были уже на «ты» и сидели за маленьким столиком в центре зала. Разговор у нас завязался оживленный, но совершенно непередаваемый. Намеки, поэтические иносказания, двусмысленные недомолвки. Потеха, одним словом. Мне даже показалось, что девицы эти были почти незнакомы. Высокая красавица была одета с иголочки, загадочно улыбалась и все время подшучивала над другой. В частности, когда они представились, то высокая назвалась Мари, а другую представила как Настю. И все время спрашивала, не пора ли той домой. На что Настя отвечала, тоже лукаво улыбаясь, что Мари прекрасно знает, пора ей или нет, и даже что-то сказала, что, мол, зависит это только от нее. Насте было лет восемнадцать, и все ее достоинства сводились к какому-то странному внутреннему свечению. Так, наверно, светится изнутри умопомрачительная юность. Одета она была необычайно просто, только за этой простотой угадывались колоссальные капиталовложения родителей. Пила только минеральную воду, в отличие от Мари, участвовавшей со мной в поглощении пива.
Около половины двенадцатого, когда народу в зале значительно поубавилось, девушки о чем-то заспорили. Они не называли вещи своими именами, но я вдруг со сладким ужасом осознал, что спорят они из-за меня. Они резво обменивались изящными шпильками. Настя утверждала, что ни в коем случае не отстанет от Мари, а Мари, улыбаясь, напоминала ей о том, что хорошо бы подумать о родителях, которые, вероятно, не находят себе места.
Захмелев, я радостно переводил взгляд с одной на другую, опасаясь, что затянувшийся спор может привести к тому, что они предпочтут вовсе на меня плюнуть. Мне бы этого не хотелось. В глубине души я предпочел бы, чтобы в споре победила Настя.
И дело даже не в том, что она подходила мне по росту, совсем нет. Что-то в ней было такое милое и родное, будто я давно и хорошо ее знал. Ну конечно, ни о каком романе с ней не могло быть и речи. Я бы проводил ее домой. А потом сводил бы как-нибудь в кафе-мороженое. Мари была потрясающе красива, уверена в себе, умна… Но все это ее от меня скорее отдаляло, чем способствовало порождению каких-то глупых надежд.
Машина подкатила сразу же, как только Настя подняла руку. Мы собирались поехать ко мне. Все вместе. Поначалу я упирался, решив, что этакие дивы, завидев мои хоромы, тотчас смоются и больше я их никогда не увижу. Я упирался, а они настаивали. Тогда я признался, что живу в коммуналке. Девицы завизжали от восторга. Все это было похоже на сон. Я открыл дверцу машины, пропустил Настю, затем Мари и, подумав немножко, решил и сам устроиться на заднем сиденье. Как говорил тот индеец – теплее будет. И потом, почему бы не потереться рядом с Мари, тогда как Настю я впоследствии собирался водить на утренние сеансы в кино…
Машина лихо тронулась с места, я повернулся к Мари, и улыбка тут же сползла с моего лица. Мари улыбалась, а вот Насти в машине не было вовсе. Вот это номер!
– А где?.. – начал было я.
– Не знаю. – Мари явно была не из тех девушек, которые дают хоть какие-то объяснения.
Я даже не ожидал, что так расстроюсь. Вечер уже не казался мне таким упоительным. И Мари пришлось приложить немало усилий, чтобы целиком завладеть моим вниманием и заставить позабыть о нашей малолетней спутнице.
Но она сделала это профессионально. В ней угадывалась опытная, зрелая женщина, легко относящаяся к жизни, и я не мог долго оставаться равнодушным к такому удивительному сочетанию качеств.
Через пятнадцать минут мы поднимались ко мне. Мари шла впереди, а я чуть сзади, раздумывая, с чего начать наш будущий, скорее всего короткий, роман. У нее были красивые, стройные ноги, и я никак не мог оторвать от них взгляда, чтобы сосредоточиться на том, что должно было произойти между нами в ближайшее время. Собственно, я понятия не имел, о чем предпочитают беседовать такие девушки в половине второго ночи.
– Прошу! – сказал я довольно тихо, распахивая перед ней дверь своей комнаты и опасливо поглядывая в сторону кухни.
Слава богу, соседи давно разошлись по своим комнатам. Мари бросила сумку, вздохнула и сказала весело:
– Хочу в душ!
– Пожалуйста, сколько угодно, – в тон ей ответил я, искренне недоумевая, какой сегодня праздник и почему все события разворачиваются в таком сумасшедшем темпе.
– А потом ужинать! – потребовала она. – Я голодна как волк, а волки не питаются одними солеными орешками.
– Будет исполнено.
Я подал ей новое полотенце. Мама дала мне их целую стопку перед отъездом. Мари попросила рубашку.
– Мою?
– А здесь есть кто-то еще?
– Ага…
Наши переговоры и мои метания по комнате от шкафа к плите и обратно заняли всего несколько секунд. Разогревая на своей плитке ужин – зажаренную специальным образом щуку, – я с досадой смотрел на стол, где стояла бутылка красного вина. К рыбе полагалось белое. Я оказался не готов к сегодняшней удаче. Хорошо еще, что рыба осталась…
Мари вернулась из душа. Похоже, она и не думала вытираться. Ее ноги были покрыты мелкими капельками воды, и я уже не мог оторвать от них глаз. В этот момент у меня впервые мелькнуло что-то вроде радости относительно своего роста. Рубашка, в которую нарядилась Мари, была настолько коротка, что это вызвало необычайный восторг не только в моей душе, но и во всем организме. Не в силах больше смотреть, как она расчесывает свои блестящие волосы, отливающие медью, я подкрался сзади и осторожно провел дрожащим пальцем по капелькам на ее ноге. Мари замерла и посмотрела на меня так, словно раньше не видела.
– Ты совсем мокрая… – прохрипел я.
– Разве мы не будем ужинать? – Она подняла брови так высоко, что они исчезли под короткой челкой.
– Да, да, конечно, – встрепенулся я, и вдруг меня как громом поразила безумная мысль: «А что, если?..»
– Ты ведь, кажется, должен быть сногсшибательным кулинаром. – Мари посмотрела мне прямо в глаза и добавила на всякий случай, чтобы развеять мои последние сомнения: – По крайней мере, мне так говорили…
Вот это проверочка! Да, мне бы и в голову не пришло! А я-то думал. Идиот! Смешно, конечно же, теперь смешно. Такие умопомрачительные девицы, ясное дело, давно уже все пристроены в каких-нибудь мафиозных структурах. Они же как орхидеи – их нужно регулярно поливать, подкармливать, возиться с ними. Иначе – что? Иначе они будут хлопать задниками стоптанных тапочек в пятиметровых кухнях, и что, скажите на милость, тогда останется от их изысканного вида? Ну ладно, решил я, пусть остается орхидеей. Раз нет у меня никаких садово-огороднических талантов по уходу за такими штучками, остается только любоваться ими в чужом саду. Одна только мысль тревожила меня и все никак не хотела выметаться из головы. Понятно, что кто-то стрижет им ногти, кормит диетическим кормом, подстригает время от времени, регулярно причесывает, одевает, делает массаж, купает в бассейнах. Но все-таки кто-то же с ними и спит, с этими орхидеями. Кто-то, потратившийся на всех этих садоводов. И как это бывает, хотелось бы мне знать? Есть ли в этом что-нибудь необычное? Или все это великолепие только так – напоказ, как в музее, с табличкой «руками не трогать».
Я так увлекся своими рассуждениями, что чуть не спалил рыбу. Орхидея тем временем расположилась в моем единственном кресле и, лукаво улыбаясь мне в спину, потягивала красное Севкино вино. Подкатив к ней маленький раздвижной столик, я с напускным равнодушием поставил на него тарелку для гостьи, злорадствуя, положил рядом вилку для рыбы – пусть помучается, и присел на кровать со стаканчиком вина. Мари внимательно посмотрела на меня, усмехнулась и принялась ловко разделывать рыбу, отправляя в рот маленькими кусочками.
– У-у-у, – мурлыкала она. – Ничего.
Ничего? Даже мои соседки не могли подобрать слов, достойных моей стряпни. А ей, видите ли, ничего, как будто яичницу приготовили. Поскольку я перестал смотреть на ее ноги, то теперь переводил взгляд с потолка на свой бокал и обратно.
– Что ты, все дуешься? – в конце концов не выдержала Мари.
– Нет, нет. Никаких обид. Тебя прислали, и ты пришла, правильно? Тебе зачем-то нужно было разыграть все таким образом, правильно? Я, собственно, не возражаю. Хозяин – барин, а ты его представитель. Все нормально, какие обиды?
– Ну, – Мари усмехнулась. – Не сердись. Я выдам тебе самые лучшие рекомендации.
– Заодно можешь упомянуть о моей непритязательности в отношении хорошеньких девушек. Расскажи хозяину, что никакой серьезной угрозы я для него не представляю. Мой будущий босс сможет спать спокойно, пока я буду находиться в его доме!
– Да перестань ты, – отмахнулась Мари. – Просто из всего хочется сделать маленький роман. Из каждой житейской мелочи.
– Кстати, а как же Настя? Неужели она тоже из вашей… сети?
– Нет. Она привязалась ко мне на улице, – поморщилась Мари.
– То есть она естественным образом собиралась ко мне в гости, – с грустью сказал я, вспоминая вызывающе-синие пряди и светящийся отчаянием взгляд, брошенный мне на прощание, – а ты помешала нашему знакомству из производственных интересов…
– Знакомству? – язвительно уточнила Мари. – Ей ведь, кажется, еще и восемнадцати нет!
– А я бы водил ее в цирк…
– Ах, так! Значит, она тебе понравилась больше?
Мари решительно поставила стакан на стол и повалила меня на кровать…
Около половины восьмого она спохватилась и стала собираться домой. Долго искала помаду, вытряхнула все из сумочки, рассыпала по кровати, порылась, нашла – и губы ее вспыхнули пунцовым пламенем. На прощание она поцеловала меня этими губами и приказала ждать ее звонка ровно в шесть.
– Не провожай, я хорошо ориентируюсь в катакомбах. Сама раньше жила в подобных. До вечера.
Я все еще лежал в постели и томно смотрел на то место, где только что стояла Мари. Сон, наваждение. И как это со мной такое случилось? На всякий случай я решил посмотреть в зеркало, чтобы удостовериться: я это или не я. Встал с кровати, и тут же на пол упала черная записная книжка. Вот те на! Не моя. Мари забыла. Может быть, она еще на остановке? Я наспех оделся, с любопытством листая черную книжечку. Ничего интересного. Все мужчины, телефоны которых красовались в ней, именовались ею по имени-отчеству. Открыв страничку на букву «Г», я отыскал и свой телефон: Грох Станислав Георгиевич – значилось там. Какая официальность! Почему бы не написать просто: Славик-повар?
Не дожидаясь лифта, я сбежал вниз по ступенькам и бросился к остановке. Мари уже спешила мне навстречу. Наверно, заметила пропажу и решила вернуться. Лапушка моя! Господи, до чего же она красивая! А волосы как переливаются под ярким солнцем!
Мари увидела меня наконец, и морщинка, прорезавшая ее лоб, тут же исчезла, она улыбнулась. Я был на седьмом небе от счастья! Значит, ничего не кончилось вместе с этой ночью. Если она сейчас поцелует меня, ну не поцелует, а хотя бы чмокнет в щеку, то, значит, я могу надеяться… Мари легко побежала мне навстречу. Расстояние между нами сокращалось. Десять метров, восемь, пять… И вот, когда я собирался сказать ей, что… Нет, нет. В какой-то момент я достал из кармана злосчастную книжку, но неожиданно выронил из рук. Я резко остановился и нагнулся, чтобы поднять ее. А когда поднял, посмотрел сразу же на Мари. Ее глаза вдруг… Я видел только ее глаза. Мне было важно, что там: сожаление о том, что между нами было, или, наоборот, радость. Я знал, что только в глазах найду ответ. Слова – это ерунда. Она посмотрит – и я сразу все пойму.
Но я не успел понять. Мари как подкошенная рухнула к моим ногам лицом вниз. Конечно, я тут же сделал движение ей навстречу, пытаясь удержать ее, что ли… Даже какая-то смешная мысль мелькнула о том, как неловки бывают самые красивые девушки. И вот она на земле, я над ней и еще какое-то мгновение, пока моя рука тянется к ней, пребываю в полной уверенности, что сейчас она начнет подниматься, и еще думаю, как мне себя вести – обратить все в шутку или пожалеть бедняжку. Мысль эта еще движется, рука уже касается Мари, но всякое отсутствие движения с ее стороны замораживает и ход моих мыслей, и вообще движение жизни вокруг. Между нами повисает невозможность. Я переворачиваю Мари, ее тело отяжелело, она совсем не помогает мне… Челка отлетает назад, и первое, что я вижу, – рану на ее высоком лбу. Большую дыру над левой бровью. Смотрю как завороженный, перевожу взгляд на ее грудь, на живот – никакого движения, она не дышит. Обреченно беру за руку, пытаясь прослушать пульс, и постепенно понимаю, что передо мной не сама Мари, передо мной только ее мертвое тело…
27 апреля. (Страницы не перечеркнуты.)
Теперь, в свете ее смерти, все изменилось. К чему что-то скрывать, к чему лукавить перед самим собой? Все было так и не так. Нужна точность, сейчас, как никогда, мне нужна точность. Честность – до мелочей.
Первое: всю жизнь меня угнетал мой рост. Второе: жизнь моя была скучной и неинтересной. (Правда, сейчас я не вижу в этом ничего особенно страшного. Лучше бы была скучная…) Третье: я позавидовал Севке и захотел стать суперменом.
Стать суперменом самостоятельно представлялось мне нереальным, поэтому я решил связаться с теми достаточно темными и опасными силами, которые меня им сделают. В результате чего сразу же вляпался по уши в страшную историю.
Теперь факты: бар назывался «Молли паб». Я приехал туда ровно к семи тридцати. (Проверил сейчас по программе: через несколько минут после того, как я вошел, начался футбольный матч.) Дальше: девушки появились в половине девятого. Из бара мы вышли после одиннадцати, но когда точно – не помню. Пробую вспомнить, о чем мы с ними говорили, – ничего не получается. Мари что-то рассказывала о каком-то попугае. Но при этом столько смеялась, что в памяти остался лишь ее смех: низкий, хрипловатый, заразительный. Когда мы вышли из бара и девушки заспорили, это выглядело приблизительно так:
Настя:
– Какого черта?! Неужели ты мне не веришь?
Мари:
– Верю, малыш, успокойся.
Настя:
– Тогда я не понимаю…
Мари:
– Случится лишь то, что должно случиться.
Настя:
– Тебе нельзя…
Мари:
– А тебе?
Я:
– Вы про что? – спросил я.
Мари:
– Да так, Настя у нас в ясновидение ударилась, – смотрит на Настю, та опускает глаза.
И что, скажите, можно было вынести из такого разговора?
Мари лежала передо мной, и я не мог оторвать взгляд от ее лица. У меня на руках лежала мертвая женщина. Я никогда не видел мертвых. У меня даже самые дальние родственники либо умерли до моего рождения, либо до сих пор все были живы-здоровы. Не знаю, сколько прошло времени – минута или полчаса, пока звук внешнего мира снова включился в моем мозгу и я стал воспринимать окружающее. Девочка с большим розовым бантом пыталась заглянуть мне через плечо, а мама, невысокая блондинка с прыщавым лицом, отчаянно тянула ее за руку. Старуха с большой черной собакой стояла поодаль и, подперев голову рукой, качала головой и ахала. Мальчики играли в футбол и не повернулись в нашу сторону.
Я замахал руками старухе, закричал, чтобы вызвала «скорую» и милицию. Она закивала мне часто и скрылась в подъезде. Я чувствовал легкую дурноту и полный абсурд происходящего. Сколько мне еще здесь сидеть?
Через некоторое время из дверей общаги вышел Григорий и, пошатываясь, направился в мою сторону. Я окликнул его слабым голосом:
– Женщину убили, срочно вызови милицию с вахты. – Я даже не представлял, что язык может так плохо слушаться, а зубы могут так отчаянно сопротивляться, когда пытаешься их разжать.
Через двадцать минут приехала милицейская машина. Они подняли меня. Сам я встать уже не мог. Ноги затекли.
В отделении милиции мне задавали множество самых разных вопросов, и, несмотря на то что ложь всегда казалась мне отвратительной, я так и не рассказал им ни о Севке, ни о своем кулинарном таланте, ни о предстоящей проверке в «темных кругах». Из моего рассказа все выходило чистейшей воды случайностью: пошел попить пива, встретил девушку, пригласил домой, утром она ушла. Вот и все. Банальная история, если не считать концовки, о которой я ничего толком сказать не мог. Откуда стреляли? Почем мне знать откуда? Я видел только Мари, знал бы, что случится такое, был бы повнимательней. Молодой следователь смотрел на меня с тоской.
Когда меня отпустили, я чуть не бросился к телефону-автомату, чтобы сразу же позвонить Севке. Но на всякий случай решил не пользоваться первым попавшимся телефоном, у меня появилось странное чувство, что за мной следят. Не оглядываясь, я прошел три квартала, сел в троллейбус, проехал несколько остановок и, заметив телефон на углу, вышел, чтобы набрать Севкин номер.
В ответ раздавались только долгие гудки. Справа от меня остановился здоровенный парень в солнцезащитных очках, потоптался, закурил. Я готов был поклясться, что уже видел его сегодня. Неужели в милиции организовали за мной слежку? Или не в милиции? Может быть, я видел его еще раньше? Пока держал голову Мари?
Повесив трубку, я пошел по незнакомой улице. Парень двинулся за мной. Мне стало не по себе. Он не прятался, как это делали в фильмах. Он открыто шел в десяти шагах позади меня и шаркал подошвами время от времени. Мне удалось разглядеть квадратный подбородок и высокий лоб с глубокими залысинами по бокам. Так мы дошли до моего дома. Я поднялся по ступенькам, а он остался стоять на улице и снова полез в карман за сигаретами.
Не дожидаясь лифта, я взлетел по лестнице вверх и, закрыв дверь своей комнаты на ключ, подошел к окну, из которого хорошо была видна площадка перед домом. Никого. Зашел в подъезд?
Поднимается? Я сел в кресло и приготовился ждать, скрестив руки на груди. И в тот же момент почувствовал, что что-то мне мешает. Записная книжка! Надо же! Я даже не вспомнил о ней ни разу в милиции. Забыв о своем преследователе, я снова быстро перелистал ее и снова не нашел ничего интересного…»
Потом он раскрыл книжку на последней странице, где карандашом еле заметно было нацарапано: «ЛЮ: 546-13-12, Фонтанка, д…», достал резинку и аккуратно стер запись.
3
Дочитав последнюю страницу, Лю кусала ногти до тех пор, пока не обгрызла их под корень. В другое время и в другом состоянии она приняла бы все это за розыгрыш, на которые ее приживалы были большие охотники. Лужица крови, растекающаяся из-под головы молодого человека, который, судя по всему, и был Станиславом Грохом, милиционеры в форме и «скорая помощь» с врачами, не оставляли места надежде, что все произошедшее придумано ее домочадцами. Все было реально, с одной стороны, но с другой стороны, Лю никак не могла связать концы с концами.
Разумеется, в Питере проживает вовсе не одна девушка по имени Маша, именующая себя Мари одному богу известно почему. Но в их осиротевшем доме живет как раз только одна Мари, и она за минуту до появления молодого человека вышла на улицу. Поэтому вряд ли все написанное об убитой девушке относится к ней. К тому же Мари из тетрадки умерла утром, тогда как Мари здешняя с утра была жива и здорова. Лю даже могла бы решить, что молодой человек – начинающий сочинитель и его так называемый «дневник» – лишь плод его воображения. Она уже готова была сдать этой мысли позиции логики, но снова вспомнила сцену с кровью и поежилась.
Когда над ее плечом раздался голос Мари – живой Мари, – она от неожиданности подскочила.
– Как ты?
– А ты? – разглядывая девушку и ощупывая ее руки, на всякий случай спросила Лю.
– Не понимаю, – Мари подняла брови.
– Я тоже ничего не понимаю, – пробормотала Лю. – Но сегодня утром тебя, кажется, убили.
– Лю, ты думаешь, что говоришь? – Мари побледнела, но пыталась говорить весело.
– Тот парень, что вошел сюда… Ты случайно не столкнулась с ним у парадной пару часов назад, когда выходила?
– Да, кто-то прошел мимо. Но я не разглядела. А кто это?
– Станислав Грох, – ответила Лю торжественно и, прищурившись, уставилась на Мари. – Тебе ни о чем не говорит это имя?
– Первый раз слышу.
– Правда? – Лю превращалась в рентгеновский аппарат.
– Разве ты еще не видишь меня насквозь? – попыталась пошутить Мари. – Послушай, Лю, кончай. Я понимаю, у тебя сегодня был тяжелый день…
– Прочитай это, – протянула Лю ей тетрадку. – Посмотрим, кому потом будет тяжелее…
4
Слава открыл глаза и тут же попал в плен чужих глаз. Глаза были большие, голубые – женские, и что самое приятное, смотрели на него с огромным любопытством, но без всякого участия. С минуту или больше он разглядывал девушку, склонившуюся над его кроватью. Она склонялась все ниже и ниже, и он даже слегка испугался: не падает ли она. Но она не падала, она наклонилась и поцеловала его в губы.
– Ну здравствуй, дорогой, насилу нашла тебя!
Поверх ее головы Слава увидел двух медсестер, внимательно наблюдавших за девушкой. Она выпрямилась и посмотрела на него умоляюще.
– И долго ты меня искала?
Медсестры пожали плечами и удалились.
– Я прочла твое послание только вчера вечером.
– Значит, ты Лю?
– Лю – моя квартирная хозяйка. Меня зовут Лариса Юрская: Эл – Ю.
– И ты…
– Мы с Мари учились в одном классе.
– И знаешь почему ее…
– Немного. Но тебе, похоже, известно гораздо больше. Иначе бы ты сюда не попал.
– Я написал все, что знаю.
– He-а. Ты, например, не написал, что в той записной книжке был адрес Лю.
Лариса наклонилась к нему ниже, и ему на секунду показалось, что она снова хочет поцеловать его.
– Кто это сделал? – спросила она медленно.
– Я не видел.
– Хорошо, давай спрошу по-другому. Это была женщина?
Повисла пауза, во время которой они попытались как следует рассмотреть и запомнить друг друга. Ларисе сделать это было труднее: у Славы на голове была повязка, а под заплывшим глазом светился вылинявший багряно-лиловый синяк. Однако вторым, не поврежденным глазом ему удалось определить основные параметры Ларисы.
– Я не видел, кто стрелял и откуда.
– Она рассказала тебе о нас с ней?
– Нет.
– А о дискете?
– Нет.
Девушка от досады щелкнула в воздухе пальцами. От неожиданности Слава вздрогнул, застонал и прикрыл на мгновение глаза. А когда открыл их, девушки уже не было. На его тумбочке красовались большое яблоко, толстая коричневая тетрадь и пачка сигарет. Слава впервые пожалел о том, что не курит…
Возвращаясь из больницы, Мари постучала к Лю. За дверью стояла полная тишина. Не слышно было даже сопения Бинго на подстилке. Тогда она поднялась к себе и принялась ждать. Лю нужно было предупредить, что это за люди. Она спускалась к ней через каждые полчаса. Но никто так и не ответил. К вечеру ее сморил сон – она не привыкла вставать так рано, как сегодня. Проснувшись и посмотрев на часы, она присвистнула: была полночь. Ну теперь-то Лю точно должна быть на месте, где бы она ни провела день.
Мари снова пошла вниз. Дверь в квартиру Лю была приоткрыта. Значит, она… Мари толкнула дверь и зажгла свет в коридоре. На половичке, свернувшись калачиком, неподвижно лежал Бинго. В комнате на диване сидел Андрей Шепелев, один из приживалов.
– Лю разбилась, – сказал он хрипло. – Вчера ночью. На мотоцикле.
– Где? – Мари неожиданно стало холодно, и она поежилась.
– Въехала в закрытые ворота на полной скорости.
– Ты хочешь сказать, что она сама?..
– Оставь, ради бога. Меня сегодня весь день то таскали в морг на опознание, то спрашивали: сама – не сама? Не было ли какой причины?
– И что ты им сказал?
Андрей пристально смотрел на Мари.
– Сказал, что не было у нее никакой причины!
– А они?
– Решили все-таки, что случайность. Думала, мол, ворота открыты.
– А-а-а…
– Только эти ворота очень редко открываются. Лю знала.
– Что ты на меня так смотришь?
– Ты видела ее вчера?
– Видела. Ничего она не собиралась…
Мари оглядела комнату.
– А ты что здесь делал?
– Цель меркантильная – мы все вчера Лю заплатили…
– Нашел?
– Нет.
Лариска открыла окно и пошарила в водосточной трубе за подоконником.
– Вот. – Она протянула ему деньги. – Раздай ребятам. Я пойду.
Она дошла до дверей, когда Андрей спросил:
– Где настоящая Мари?
Мари окаменела у порога. С вымученной улыбкой обернулась:
– О чем ты?
– Второй день не могу найти ее.
Мари подошла к Андрею, погладила по плечу.
– Ты сам не понимаешь, что говоришь. Нам теперь придется искать другое убежище…
– Да, – ответил Андрей. – Я сейчас. Скажи сама ребятам.
Мари поднялась наверх, в квартиру, которую делила с ребятами. Пять человек – каждому по комнате. Дверь Андрей, конечно, не запер. Странное дело, у их рохли Андрюши, которого ребята звали «дохлым», бицепсы под линялой вытянутой майкой были каменными. На столе лежали его смешные очки. Мари приложила их к глазам и посмотрела на шкаф. Надо же! Простые стекляшки. Она взглянула в зеркало. Иллюзия близорукости была полной – вон как глаза увеличились. Она положила очки на место, открыла шкаф и тут же захлопнула его. В голове словно махнула крылом большая черная птица. Она все мгновенно поняла.
Времени на раздумья не было. Этот парень в больнице, да и Лю… Они не дадут ей времени. Мари на цыпочках вышла из комнаты, потом из квартиры и стала спускаться вниз. У дверей Лю дыхание перехватило. Там ли еще Андрей? И не его ли это работа? Но ведь выбора нет! Тело одеревенело. Она пронесла деревянное тело вниз мимо дверей Лю, как саркофаг. На улице Мари свернула в первую же подворотню, которая, к счастью, оказалась проходной. На минутку она остановилась. Хотела заплакать. Ярость, обида, любовь – все лежало под обломками где-то позади. В сердце остался один страх. И зачем она заварила всю эту кашу? Но, чуть-чуть постояв вот так, только махнула рукой и, как была, в домашних тапочках отправилась пешком в другой конец города…
Утром, еще до прихода врачей, старая нянечка, ухая шваброй, прошамкала Славе:
– Ты етой своей скажи! А то – во! Повадилась! Любовь у ей, посмотри! Все дурачье – а у ей любовь!
Спросонья Слава всегда соображал хуже обычного. Но в эту ночь он практически не сомкнул глаз, разрабатывая план поиска вчерашней девушки. Он быстро поднялся.
– Пол, вишь, мокрый?
На цыпочках, держась за стенку, под придирчивым взглядом нянечки Слава прокрался в коридор и быстрым шагом направился к дверям отделения. Голова слегка кружилась. На пороге стояла Лариса.
– Что случилось?
– Меня убьют. Мне некуда идти.
Глаза у нее были красные, похоже, не спала всю ночь. Или плакала.
– Ты хотела?..
– Если можно, дай мне ключи. Вряд ли они там будут что-то искать, пока ты здесь.
– Сейчас.
Он побежал назад в палату и, не обращая больше внимания на визг нянечки, достал ключи из тумбочки. Вернулся назад запыхавшись.
– Вот.
– Когда тебя выписывают?
– Обещали через три дня.
– Как только ты вернешься, я уйду, не беспокойся. Мне нужно время.
– Да живи сколько хочешь, – он попытался улыбнуться, но задергалась щека, и он приложил к ней руки.
Лариса ушла, а Слава с трудом дождался обхода.
– Выпишите меня.
Доктор, оторвавшись от снимка, удивленно посмотрел на него.
– И не думайте!
– Тогда я ухожу под расписку.
– А я не дам вам больничный, – хрипло сказал врач.
– Не нужно.
– Вы полный кретин, – тихо, но очень искренне сказал доктор.
Вечером, в бинтах, прикупив по дороге черные очки, он, корчась от боли, делал один неуверенный шаг за другим, пробираясь домой. Каждый шаг отзывался в голове протяжным эхом. Дверь была заперта изнутри. Он собирался постучать, но на пороге появилась соседка.
– Ого! Что это с тобой? Вот это да! Эй, Маш, иди посмотри, как нашего Славика разукрасили.
Из кухни раздалось бодрое шарканье Маши, но дверь неожиданно подалась, и Слава ввалился в комнату. Соседки за дверью недовольно кудахтали. Слава сидел на полу, а Лариса стояла над ним, щелкая пальцами.
– Ты меня видишь? – тихонечко спрашивала она.
– Угу. Пить хочется.
Ему казалось, что он несколько дней кочевал по пустыне – так пересохло во рту.
– Ты ведь говорил – через три дня. – Лариса протянула стакан.
– Не смог вот так сидеть…
Она окинула его взглядом.
– Толку от тебя мало.
– Я быстро восстанавливаюсь, – заверил он, но встать не попытался, боясь потерять равновесие, а только удобнее уселся на полу. – Может быть, объяснишь мне, что кругом творится. Я сторона вроде бы уже пострадавшая, а так ничего и не понимаю.
– А ты в состоянии слушать?
– Начинай. Посмотрим, – ему все-таки удалось улыбнуться…
5 (Мари)
Три года после своего рождения Лариса была ребенком. Годам к пяти ее головка работала не хуже, чем у девицы на выданье. В семь она была уже совсем взрослой, и ее здравомыслию завидовала даже мама. А к одиннадцати пришла мудрость и больше никогда не покидала ее. Человеку в одиннадцать лет, понимающему все и вся, трудно живется на свете. Но с другой стороны, он более снисходителен к недостаткам других, к возрастным барьерам, разделяющим людей, потому что сам недавно миновал последний из них.
В девятом классе по ней сходили с ума все мальчишки без исключения. Они были дураками, эти мальчишки, – маленькими, глупыми детьми. Прежде всего потому, что не оценили по достоинству новенькую – худенькую темноволосую девочку, робко вошедшую в класс. Для них она была слишком худа, слишком молчалива и слишком сутулилась на уроках математики.
– Иди ко мне! – махнула ей рукой Лариса, и девочка с благодарностью улыбнулась ей.
Улыбка была сказочная, но оценить ее, кроме Ларисы, было тоже некому.
– Как тебя зовут?
– Маня.
– Как?! – Ларисе показалась, что она ослышалась.
– Маня, – покраснев, ответила та.
– Ладно, – Лариса пожала плечами, и с этой минуты до самого выпускного вечера они с Маней были неразлучны.
Лариса была в этой дружбе настоящим монстром. Она заставляла Маню сидеть ровно, хлопала по спине, если та начинала сутулиться, заходила за ней по выходным ни свет ни заря, вытаскивая на утреннюю пробежку, таскала по театрам, по кино, по выставкам, заставляла пересказывать фильмы и спектакли, запоминать имена актеров и режиссеров. Маня была великолепным пластичным материалом, из которого можно было лепить все, что угодно. Осанка ее со временем приобрела изысканную горделивость, щеки лучились румянцем, глаза блестели. Несколько к месту вставленных фраз принесли ей успех у мужской половины одноклассников. Даже лучший друг Ларисы теперь посматривал поверх ее головы на Маню.
Но Ларису это не смущало. Она жила мыслью, что все в ее жизни – далеко впереди: и лучшие друзья, и взгляды, которые не будут метаться между ней и самой распрекрасной конкуренткой. Лариса была щедрой. Временами.
Они с Маней вместе решили ехать в Питер поступать в институты. Маня выбрала Институт культуры, а Ларису больше привлекал филологический факультет университета. И вот тут-то их пути неожиданно разошлись. Лариса заболела воспалением легких за неделю до первого экзамена и никуда не поехала. А Маня сдала экзамены и стала студенткой.
– Хоть там не рассказывай, как тебя называли дома, – посоветовала ей Лариса на прощание.
– А как? Стать Машей?
Лариска поморщилась, быстро перебирая в уме все, что сгодилось бы для этого тяжелого случая.
– Пожалуй, Мари. Точно – Мари. Это то, что надо.
На прощание Маня поцеловала ее. Она ни капельки не боялась заразиться.
Встретились они только через год. Разумеется, были письма. Много писем. Первые два месяца – каждую неделю. Потом реже. А за всю весну – только одно коротенькое послание о том, как она соскучилась, как ей не хватает Ларисы, какая тоска вокруг. «Приезжай скорее. Ты мне нужна». От послания пахнуло чем-то недетским, не наивным Маниным. Лариса удивилась.
Но это удивление не шло ни в какое сравнение с тем, что она испытала, встретив подругу на вокзале. Она даже прошла мимо сначала, продолжая шарить в толпе глазами, но все-таки оглянулась на ту потрясающую девицу, которая курила рядом с соседним вагоном. Маня изменилась до неузнаваемости. Не только одежда – манеры, взгляд, все стало другим…
У нее был мужчина. Так она объяснила все перемены. Они познакомились через месяц после ее приезда. Маня вернулась вечером домой из библиотеки и застала его с соседкой по комнате. Немолодой, уставший. Смертельно уставший. Таким он ей запомнился тогда. Они сидели за столом. Он – спиной к двери. Маня вошла. Он обернулся не сразу. Соседка почему-то молчала, что с ней редко случалось. Не представила их. Маня потом поняла, его нельзя было торопить, обгонять. С ним всегда нужно было ждать.
– Как тебя зовут?
– Мари, – ответила она.
Роман завязался не сразу. Мари даже представить себе не могла, что из этого знакомства что-то может получиться. Мужчина жил в другом мире, попал к ним случайно – так, сбили над перевалом, спустился временно на землю. Глаза умные. Что ему здесь делать? О чем говорить с глупыми девчонками?
Он еще появлялся несколько раз. Уже не такой. Шутил. Они смеялись. Он никогда. Это было странно. Смотрел так, что Мари поняла: ходит он совсем не к соседке – к ней. Но все-таки не верила до конца. Он ни о чем ее так и не спросил. А взял и увез. Она даже за вещами не вернулась.
Он поселил ее в большой двухкомнатной квартире. Квартира была новая, дом только недавно сдали. В небольшом белом шкафу она нашла кучу модных тряпок, разных дамских штучек, духов, дорогой косметики, белья. Все ей пришлось впору. Даже обувь, выставленная в нижнем ряду. Он до миллиметра угадал размеры ее тела. Ей стало немного страшно.
Она любила его с самого первого дня. Не спрашивая, кто он, что он, не задумываясь, зачем она нужна ему и надолго ли. Про такое говорят: как в воду. Или – как в омут?
Он приходил по вечерам. Был недолго. И уходил. Мари не решалась задержать его. Однажды он приехал днем, и она поняла – все случится сегодня, когда услышала лязг ключей в двери. Он пытался быть терпеливым, нежным. Усилия были ощутимы. Но он слишком долго ждал этого, слишком долго не решался, поэтому был ненасытен, и к вечеру Мари уснула мертвым сном у него на плече.
Она знала, что у него семья, дочь. Что в кармане его пиджака обязательно должна быть фотография улыбающейся девочки, почти ее лет. Он никогда не показывал этот снимок. О дочери он много рассказывал. Самая большая любовь в его жизни. Его гордость, его надежда, его счастье. Мари страшно ревновала. Спасало одно – это все-таки дочь. Про жену он не говорил ничего никогда.
Однажды он приехал не один. Попросил Мари приготовить кофе. Она поняла – мужской разговор. Она не торопилась с кофе. Гости, войдя в дом, посмотрели на нее неодобрительно, на него удивленно.
Потренировавшись немного, чтобы три чашечки на подносе не звенели, она вошла в комнату.
– Пожалуйста.
Те же недружелюбные взгляды, тот же упрек по отношению к нему.
– Мари мне помогает. Останься. Сядь.
Так она вошла в курс дел.
– Тогда она еще не знала – каких. Или, может быть, знала, но предпочла не говорить мне, – рассказывала Лариса. – Но к концу года знала все до мелочей и в чем-то даже серьезно помогала. Она ведь не рассказывала, чем там занималась, ты понимаешь. Но все это время она была счастлива. А потом, когда я уже здесь училась, что-то произошло.
– Корабль? – спросил Слава.
– Точно. Ты знаешь? – В голосе Ларисы прозвучало легкое возмущение.
– Нет. «Корабль унес ее мечты…»
– Вернее, разбил. Собственно, она и не мечтала ни о чем. Жила только этой любовью. Похоже, там, на корабле, любовь дала трещину. И эта трещина быстро стала расти.
Мари вернулась другой. Это было что-то вроде кругосветного путешествия или, как она говорила, полукругосветного. Разумеется, с деловой целью. Поездка была важной. Для него. А значит – и для нее. Но что-то там рухнуло. Нет, они, вернувшись, жили по-прежнему. Только вот она стала говорить немного громче, немного резче обычного. Глаза были больными первое время – это точно. А потом стали холодными. А через год после этого корабля Мари пришла к Ларисе слегка навеселе и многое-многое рассказала.
– Про дискеты.
– Значит, она сказала? – Лариса возмутилась теперь по-настоящему.
– Кое-что, – уклончиво ответил Слава, и они с Ларисой снова скрестили взгляды, оценивая друг друга.
– Тогда давай с конца, – предложила Лариса. – Существуют дискеты. Две. Не знаю, что там на них, но она говорила – все. Его жизнь. Говорила, что отдаст их только за свою.
– Она чего-то боялась?
– Не чего-то конкретного, – задумчиво сказала Лариса. – Мне даже показалось, что она балуется наркотиками. Пришла, смеется, пьет вино – и вдруг съежилась вся, обхватила плечи руками. «Ты, – говорит, – ничего не чувствуешь?»
Лариса замолчала, словно вспоминая.
– А ты?
– Знаешь, – медленно сказала Лариса. – Только не считай меня… – она поморщилась, – ладно? В общем, мне стало страшно. Я даже не знала тогда, чего бояться. Мари еще ничего не рассказала толком. Но вот она сидит, съежившись, и такое чувство, что в воздухе что-то такое… Не страх даже, нет. Ужас. Кошмар.
6 (Дмитрий – Мари)
Мари раньше и не представляла, каким огромным может быть корабль изнутри. Мало того, корабль был практически безлюден. Только команда, Дмитрий, его гость, парочка его помощников мрачного вида и Мари. Переговоры должны были состояться вечером. Мари чувствовала, что впервые Дмитрий нервничал, впервые не был уверен в себе. Он курил на палубе одну сигарету за другой, а она сидела у его ног и смотрела туда, где блестящая кромка воды сливалась с сияющим небом.
Гость, она так никогда и не узнала его имени, вел себя совсем по-другому. Молодой мужчина, совсем не похожий на тех, с кем Дмитрий обычно вел дела. Он наслаждался каждой минутой пути. Плескался в бассейне, отфыркиваясь, загорал в большом полосатом шезлонге и время от времени бегал в бар, возвращаясь оттуда с большим бокалом очередной порции коктейля.
Что же их связывает? Дмитрий занимался противозаконными делами, но касались они исключительно производства. Заводик по нелегальному изготовлению запчастей для машин, подпольный заводик по производству водки, еще парочка предприятий, «латающих дыры в нашем народном хозяйстве», как он говорил. Разумеется, никто никогда на этих заводиках его не видел, не слышал его имени, все делалось через посредников. Недоразумения с властями разрешал опытный юрист, а с разными нелегальными структурами – группа бритоголовых мальчиков. Но, насколько она знала, все обходилось без «шума и пыли», как он любил говорить, мирно.
Но в этом году что-то случилось. Сначала взлетела на воздух машина. Прямо на одной из центральных улиц города. Но он не успел в нее сесть. Рассказал, что подошел к цветочнице – дело было накануне Восьмого марта. Машину подбросило в воздух, вылетели стекла, из кабины вырвались языки огня. Дмитрий доехал домой на такси. Машина была оформлена на имя шофера, которому так не повезло. Он запустил в город свору мальчиков, но они ничего не добились. Объяснений этому странному случаю так и не нашлось. После этого меры предосторожности были удвоены. Каждый человек проверялся и перепроверялся.
Но через несколько месяцев кто-то стрелял по его окнам. Это ей поведал охранник. «Никто не пострадал, слава богу!» – сказал он. И наверно, тогда Мари впервые пожалела о том, что никто не пострадал. Вот если бы его жена…
К вечеру гость напился в стельку, и переговоры были отложены. Мари радовалась, что проведет две недели с Дмитрием. Они будут вместе днем и ночью, а вокруг – только океан.
На следующий день в одном из портов корабль взял на борт туристов. В основном – иностранцы, но попадались и наши. Мари приуныла, она любила тишину, буйное веселье любителей развлечений ей претило.
Вечером гость и Дмитрий все-таки встретились. Похоже, их обсуждение зашло в тупик.
– Он псих, – раздраженно сказал Дмитрий, вернувшись в каюту к Мари.
– Много просит?
Дмитрий смотрел на нее в упор, и сердце у Мари упало.
– Я не могу ему этого дать.
– Я могу помочь? – Ей казалось, что она немного понимает, о чем идет речь.
– Нет, – резко сказал он, – не вздумай! Говорю – псих.
«Значит – могу», – решила про себя Мари.
Когда Дмитрий уснул, она спустилась в бар. Поискала глазами гостя. Публика веселилась вовсю. Итальянец похрапывал на столе, немцы, обнявшись, пели. Орущая музыка заглушала их голоса. Около эстрады дергались упитанные матроны, вызывая своими откровенными платьями ассоциации с мясной лавкой. Гостя не было, и Мари постучала к нему в номер.
– А, пришла!
Фраза просвистела в воздухе, как пуля, и пронзила Мари сердце. Значит, так и есть, как в дурных вестернах, он хотел, чтобы она спустилась к нему. Вот почему так озверел Дмитрий. Он не хотел этого. Он любит ее. Мари решила, что всегда успеет уйти, хлопнув дверью.
– Скучаешь?
– Я никогда не скучаю.
– Может быть, поднимемся в бар? – предложила она.
– У меня все здесь. Что я там не видел? – Гость вытащил из шкафа бутылку коньяку. – Будешь?
Ей пришлось заставить его выпить большую часть бутылки, пока она кое-что не разузнала о нем. Гость оказался журналистом. Не очень опытным. Работал с корреспонденцией и хотел пробиться в репортеры. Одно письмо показалось ему до того перспективным, что он, не говоря никому ни слова, взял несколько дней за свой счет и выехал по месту жительства адресата. Подробности, выложенные автором письма, журналиста вконец очаровали. Он лихорадочно писал очерк, мечтая о том, как в редакции все рухнут от зависти. Копая все глубже и глубже, он неожиданно вышел на Дмитрия. И тут он смекнул, что собранный материал можно продать не за славу в редакции, а за хорошие деньги самому Дмитрию.
– Что же это за материал? – спросила Мари. – Статья? Фотографии?
– Сейчас время технического прогресса. – Переваливаясь через стол, он пытался ее поцеловать, вытягивая губы трубочкой. – Две маленькие дискеточки.
– И что в них? – Мари, морщась, уворачивалась от него.
– Даты, явки, бабки, – засмеялся он, чмокнув ее наконец в плечо.
– Нет, правда? – не отступала Мари.
– Там, как я понял, соль и смысл его жизни. Он за них все отдаст. Любые деньги выложит. На пароходе он меня уже покатал – раз. Деньги выдал – два. А теперь…
Мари сначала сопротивлялась. Легко откидывая его руки, отталкивала снова и снова. Она была сильнее. Но одна мысль не выходила у нее из головы. Этот человек может погубить Дмитрия. А значит – и ее. Она не представляла себе жизни без Дмитрия. Она должна помочь. Но как это отвратительно… Может быть, закрыть глаза? Представить, что это…
Но представить не получилось. Слюнявые домогательства быстро перешли в липкую близость, окончившуюся коротким победным кличем журналиста. После чего он тут же уснул на кровати, не раздевшись и даже не сняв ботинки, а Мари быстро отыскала дискеты с зелеными наклейками. Они были во внутреннем кармане пиджака.
Она вернулась, когда Дмитрий уже крепко спал. И провела ночь без сна. Ей все казалось, что вот-вот явится журналист и начнет барабанить в дверь кулаками. Вспомнила его слова: «Переписать их нельзя. Их можно только разок прочесть. Вся информация тут же сотрется, имей в виду! Но я-то никуда не денусь! Я-то здесь…»
В коридоре раздался легкий шум. Сон как рукой сняло. Мари села на кровати: сердце готово было выскочить. Она дрожащими руками налила себе воды.
– Спи, – сонно приказал Дмитрий. – Спи и ни о чем не волнуйся.
Плавание продолжалось еще полторы недели. Журналиста они больше не встречали. «Пойдем отсюда», – иногда быстро говорил Дмитрий, и она понимала – журналист где-то рядом, Дмитрий не хочет с ним больше встречаться. Они провели девять безумных ночей. Она перестала думать, перестала вспоминать. Для нее в мире ничего не осталось, кроме плеска волн по ночам, кроме его нежности.
К концу путешествия Мари краем уха услышала, что якобы пропал один пассажир. Вроде бы из наших. Кажется, сошел на берег и не вернулся на корабль. Она не придала этому значения. Дмитрий в последние несколько дней уже не дергал ее за руку неожиданно…
После плавания Мари не видела Дмитрия целую неделю. И много думала. Вспоминала. Сопоставляла. Если этого журналиста все-таки сбросили за борт, то почему бы не сделать этого раньше? Ей не было жалко этого отвратительного человека, ей было жалко себя. Она вспоминала объятия журналиста, и ей становилось гадко, хотелось забыть поскорее эту грязную историю на корабле. Но не тут-то было… Она теперь явственно ощущала тошноту по утрам. Несколько раз ее рвало. Мари осунулась, на лбу появились вульгарные подростковые прыщи.
Дмитрий всерьез обеспокоился и прислал ей врача. Пышнотелая женщина взяла у нее анализы, послушала, постучала по спине, помяла живот. Мари так и не решилась сказать Дмитрию, что беременна. Ей очень хотелось, чтобы в кармане его пиджака, пусть даже в каком-нибудь самом потайном кармане, появилась бы фотокарточка щекастого мальчика, такого же серьезного, как отец. Но она не была уверена, что именно он был отцом этого мальчика.
Как ни крути, Мари не могла поклясться, что это его ребенок. Порой ей хотелось рассказать Дмитрию обо всем, хотелось, чтобы он обрадовался, чтобы убедил ее, что ребенок его. Еще она думала про анализы, устанавливающие отцовство. Но до анализов нужно было прожить девять долгих месяцев в сомнениях и тревогах. К тому же анализы могли показать, что Дмитрий тут вовсе ни при чем. И тогда – ужас, раскаяние, вечная пытка жить рядом с нежеланным ребенком…
Врач успокаивал ее – больно не будет.
Еще бы за такие деньги было больно! За такие деньги должно быть даже приятно.
Ей действительно не было больно. Как предупредила женщина в белом халате: закроете глаза, откроете глаза и пойдете домой. Она вышла, одурманенная анестезией, из больницы, села в такси, поехала домой. «Отсыпайтесь и ни о чем не думайте». Но она не спала и много-много думала… И результаты этих раздумий скоро дали о себе знать.
– Ты очень переменилась, – сказала ей Лариса тоном, не терпящим возражений.
Несколько лет назад Мари даже нравился такой тон. Только не сейчас. Лариса, похоже, до конца жизни собиралась играть роль ее наставницы.
– Все в порядке, – устало вздохнула Мари.
– Нет, не в порядке. У тебя депрессия. Это же и коту понятно. Нужно с этим что-то делать!
– Что?
– Он тебя бросил? Что случилось на корабле?
Мари криво усмехнулась. Расскажи она Лариске, что там приключилось, та облизнулась бы сладко и написала очередной рассказ, чтобы показывать своим филологическим друзьям, среди которых все сплошь были гениями. Лариска таскала ее раз или два в свою студенческую компанию, но Мари быстро устала от этих плохо одетых и дурно пахнущих гениев, которые пускали при ее появлении отнюдь не поэтические слюни.
Однажды она сочинила уже что-то такое про Мари. Она словно примеривала на себя ее жизнь.
– Ну скажи честно, бросил, да? – повторяла Лариса.
– Ты бы не отказалась в таком случае пожить со мной здесь? – холодно спросила Мари.
– Да, разумеется, – обрадовалась Лариса, – по сравнению с моей дохлой общагой это же настоящие хоромы.
– Вот и хорошо. Подожди немного. Скоро и для тебя найдется местечко…
Тогда и заварилась вся эта каша. Мари хотела выкарабкаться из темной пропасти депрессии. И она начала действовать. Еще совсем без цели. Не зная, к чему это приведет. Чего она хотела? Отомстить? Кому? Самой себе? Нет, ничего она не хотела. Слишком долго Дмитрия не было после их совместного плавания. Появился он только раз, чтобы выдать ей список поручений по работе. «У тебя все в порядке?» – «Все в порядке!» – «Вот и чудненько». Холодный поцелуй в лоб. После он звонил несколько раз и выслушивал ее подробные отчеты. «Не скучай. Я сейчас занят. Много проблем. Не успеваю…» Так прошел месяц…
Если бы только Дмитрий был рядом! Ничего бы не случилось. Она была бы предана ему, как собака. Но ему оказалась не нужна ее преданность. Или, может быть, он настолько был уверен в ее любви, что… Ей отчаянно захотелось родить ему сына. Пусть даже он этого не хочет, пусть. Она не станет рассказывать ему раньше времени… Он не понимает, как это здорово – иметь сына. Все мужчины хотят сына. Что такое дочь?
И вот тут ей до смерти захотелось посмотреть на счастливую женщину, которая воспитывает его дочку. На эту счастливую девочку, которая виснет на шее отца, словно ей не семнадцать лет, а пять. Что эта идиллическая семейка делает по утрам? Сидят вместе за столом, смотрят друг на друга? Девочка смеется. А вечером? Целует отца в щеку и уходит к себе. А он остается с женой… Чем хуже ей было, тем счастливее и красивее казалась ей их жизнь. Тем более несправедливой казалась собственная судьба. Почему им все, а ей ничего? Проведя как-то ночь без сна и совсем отупев от безысходности, Мари наутро села в машину и поехала к его дому. Оставив машину на дороге, она прошла немного вниз по парку, разглядела с холма дом, сверилась с номером, записанным в книжке, подняла глаза и сразу же увидела за ажурным забором длинноногую девчонку, бегущую за собакой прямо по клумбам с цветами. За ней семенила маленькая женщина, уговаривая то ли остановиться, то ли смотреть под ноги.
Мари подошла ближе. Жена? Господи, и чего она так волновалась? Тетке к пятидесяти, седые волосы собраны в жидкий пучок на затылке. Жалкое зрелище. Мари улыбнулась и облегченно вздохнула. Ей стало немного стыдно, что вот она такая молодая и хорошенькая, а его жена такая… Потом жалость перешла в жгучее чувство любви к нему. Конечно, она, Мари, – его отдушина в этом мире. Разумеется, Дмитрий не может бросить любимую дочку. Пока не может. Но ведь она сама скоро бросит его. Выйдет замуж – и бросит. Нужно только подождать…
Мари уже собиралась уйти, когда к седой женщине подошла другая. Махнула в сторону ворот, потом в сторону девочки. Седая часто закивала. У Мари перехватило дыхание. Шикарная женщина, как с рекламы. Нет, это не его жена. Может быть, учительница английского языка? Он что-то такое говорил…
Ворота автоматически открылись, и из дома выехала машина. Мари поспешила вернуться за руль. Через минуту машина поравнялась с ней. За рулем сидела женщина, с которой Мари не рискнула бы тягаться. Прежде всего потому, что от нее веяло той уверенностью, которой Мари всегда не хватало. Вот если бы здесь сейчас была Лариска, она тут же нашла бы в женщине десяток изъянов, и Мари смеялась бы ей вслед. Но теперь было не до смеха. Мари, как завороженная, нажала на газ и поехала вслед за женщиной.
У ближайшего супермаркета машина остановилась. Женщина вышла, и Мари отправилась за ней следом. Ей хотелось избавиться от наваждения. Первое впечатление бывает обманчивым. У страха глаза велики. Нужно присмотреться к ней поближе… Но вблизи женщина выглядела еще лучше, чем издалека. Еще лучше и еще увереннее. Чувственный мягкий голос, твердый взгляд. Про таких говорят: «Она знает, чего хочет».
Продавцы заискивающе улыбались. Случайно женщина встретилась взглядом с Мари, и та тоже улыбнулась. Женщина улыбнулась в ответ и прошла в соседний отдел. Там она накупила ярких тетрадей, прихватила ракетки для бадминтона. Никакая это не учительница.
Одна покупка необычайно заинтересовала Мари, выведя ее из транса. В отделе бижутерии женщина купила безвкусное дешевое кольцо и блестящие серьги со стекляшками. Кольцо она примерила на свой палец. Неужели доченьке покупает? Мари присмотрелась: в ушах женщины качались маленькие бриллиантовые сережки.
У аптечного киоска женщина стояла долго и отошла с внушительным пакетом, набитым лекарствами. «Больна?» Может быть, у нее какая-нибудь неизлечимая болезнь? Мари замешкалась и чуть не потеряла женщину. Выскочила из магазина в тот момент, когда машина отъезжала со стоянки.
Женщина ехала не домой, и Мари заволновалась. Куда?
Она старалась держаться на приличном расстоянии. Километров через двадцать машина свернула с трассы и покатила по узкой проселочной дороге к озеру.
Ей пришлось проехать немного дальше. Машина стояла пустой у забора одного из домов. Мари с трудом нашла место, где можно было оставить машину, и осторожно подошла к дому. В заборе не было ни щелочки.
– Вы кого-то ищете? – неожиданно раздался сзади мужской голос.
Мари вскрикнула от неожиданности, но тут же взяла себя в руки и выпрямилась.
– Покупательница? – Мужчина улыбнулся, с удовольствием разглядывая ее.
– Да, – строго сказала Мари.
– Я так и думал. Вы ошиблись. Наш дом рядом. – Он указал на соседний недостроенный коттедж. – Посмотрите?
– Конечно!
– Что вас прежде всего интересует?
– Вид из окна, – честно призналась Мари.
– Пойдемте. Отсюда – озеро. Здесь предполагается цветник, но, как вы сами понимаете, по окончании строительства. Второй этаж еще не совсем готов, мы ведь писали – готовность только семьдесят процентов.
– Можно подняться? – спросила Мари. Из окон первого этажа она видела все тот же глухой забор соседнего дома.
Со второго этажа этот дом был как на ладони. Маленький, аккуратненький белый домик с красной черепичной крышей. Плющ увил его основание. Рядом стояла белая широкая скамья. Чуть дальше – беседка, оплетенная вьюнами с синими граммофонами цветов. Такой домик был бы хорош в качестве декорации для детской сказки. Цветы, яблони со склонившимися ветками, кусты малины и смородины. Из домика вышла старушка в аккуратном передничке, и Мари поняла, что зря надеялась на чудо. Его жена абсолютно здорова. Лекарства она привезла старушке. Вот и вся разгадка.
Ей вдруг стало до слез обидно, что все так кончилось. Мари резко обернулась к хозяину дома и чуть было не полетела вниз, оступившись. Он вовремя подхватил ее.
– Здесь пока нельзя делать резких движений. Доски не закреплены, я ведь предупреждал.
– Извините, я не слышала, – ответила Мари.
– Вам не понравилось?
– Очень понравилось.
– Тогда что же? – Он развел руки. – Почему у вас такой потерянный вид?..
– Наверно, я выбрала не лучший день для поездки. Кстати, что за соседи у вас? – Она спускалась по ступенькам, опираясь на руку хозяина.
– Разные. Но что точно могу сказать, никаких пьяниц, никаких дебоширов и тому подобного.
– А этот чудесный домик? Кто там живет? – спросила она, как бы теряя интерес к разговору.
Мужчина ответил не сразу. Мари быстро вскинула на него глаза, а он отвел взгляд.
– Кто? – спросила она напряженно.
– Ну, – протянул он. – Живет там странная женщина с бабушкой.
– Чем же она странная?
Мужчина молчал.
– Да я куплю ваш дом, – заверила его Мари. – Все равно куплю. Он мне понравился.
– Правда? – обрадовался мужчина.
– Конечно. Сейчас приеду домой и все расскажу мужу. Он и смотреть не будет.
– Замечательно. Мы и не надеялись так быстро…
– Так что странного в той женщине?
– Толком не знаю. Жена говорила… Я только видел однажды, как к ней приезжала другая женщина, помоложе. И они…
– Что?
– Ну, ничего, в общем, особенного. Как бы это получше… Играли в ладушки.
– Во что? – не поняла Мари.
– Ну в ладушки, как дети. – Мужчина показал ей ладони. – Не знаю. Может быть, они эти, как их, лесбиянки. Но ведь это не страшно, правда?
– О, это совсем не страшно. Это замечательно! – сказала Мари с таким воодушевлением, что мужчина слегка отпрянул от нее.
7 (Слава)
Слава всю ночь просидел на полу, слушая Ларису и поражаясь ее косноязычию и отсутствию логики в ее повествовании. Сначала из рассказов ее следовало, что Мари была замкнутой и ничего не рассказывала ни о своей личной жизни, ни о делах. Потом, однако, оказалось, что Лариса знает о Мари ровно столько, сколько могла бы рассказать та сама, и, возможно, еще немного больше. В ход шли подробности, о которых могла знать только Мари, глаза Ларисы блестели так, словно она рассказывает о себе. Слава, правда, вовремя вспомнил, что она – начинающая писательница, а значит – детали могла додумать… Неужели все сочинители так вживаются в образ? Тяжелая работа. Да и вряд ли Лариса станет знаменитостью. Речь у нее была стертой… Чему их только там учат на филфаке? Мари вот, например, со своим десятиклассным образованием процитировала ему за ночь чуть ли не всего Бродского…
– Ты собирался уезжать? – спросила Лариса, когда они уже решили пока отложить разговор, потому что оба страшно хотели спать.
Слава наконец встал и принялся раздвигать кресло, уступая Ларисе свою кровать.
– Давай я поставлю твой чемодан в шкаф, хорошо? А завтра освобожу тебе полку.
Лариса застыла, глядя на него.
– Ну хорошо, давай сейчас, – не понял Слава.
– Это не мой чемодан, – сказала она тихо, и Слава выронил его из рук. – Я думала, это ты решил смыться…
Будить соседей и задавать вопросы было поздно, поэтому Слава махнул рукой и щелкнул замком.
– Ты живешь не один? – спросила Лариса, рассматривая женские вещи.
Слава побежал вниз, на вахту. Среди неразобранных писем, квитанций, счетов на столе лежала телеграмма на его имя: «Встречай …надцатого. Вагон… Раиса». На штемпеле стояла дата двухдневной давности. А приехала она сегодня утром.
– Это моя сестра, – сказал он Ларисе, указывая на чемодан.
– Где? – Она нервно усмехнулась.
Он прикидывал, где бы могла быть его сестра в такое время – сорокалетняя девица строжайших правил.
– Не знаю… Давай спать.
Через день Слава посетил районную поликлинику, где бинты отдирали с его головы, как пластырь с губ в самых жестоких боевиках. Он хорошо понял, что терпеть не может боли. Он не был героем. После поликлиники ему не хотелось идти домой, болтать с мрачной Ларисой. Сестра Раиса так и не появилась. Он зашел в маленькую кондитерскую на углу. Заказал себе кофе, пару горячих пирожков с повидлом. Сел и задумался.
Севка, которому он позвонил, узнав о смерти Мари, заорал не своим голосом: «Что?!» – и бросил трубку. Или выронил. Сведений о Насте записная книжка Мари не сохранила, хотя Лариса жадно проштудировала ее от корки до корки. Пойти в милицию и рассказать обо всем, что с ними случилось, она наотрез отказалась, аргументируя это тем, что у таких людей, как Дмитрий, «руки длинные и везде свои люди». Слава ничего не мог поделать: в конце концов – это ее жизнь, не его. Он не вправе. Так что все их разговоры о Мари и дискетах плавно зашли в тупик.
– Привет! – На краешек стула напротив пристроился незнакомый молодой человек. – Пройдемся?
Швы на голове разом заныли. Слава осмотрелся и заметил двух похожих друг на друга мальчиков. Они ласково подмигнули ему. Надкусанный пирожок упал в кофе. Слава встал.
Ехали недолго. Остановились на шумной улице, неподалеку от метро. Дверь в квартиру, куда они поднялись, была незаперта. Мальчики широким жестом пригласили его пройти и остались курить на лестничной клетке. В коридоре горел свет, пахло жасмином. Из комнаты потягивало табачным дымом. Слава прошел дальше. У распахнутого окна спиной к нему сидел мужчина.
– Сядь, – приказал он. – Как она умерла?
Слава чуть не поперхнулся. Что это у них, развлечение такое? Мало человека грохнуть, так еще и узнать, как он мучился перед смертью?
– Легко.
Мужчина сделал движение повернуться, руки на подлокотнике кресла напряглись, он подался вперед. Однако поворачиваться все-таки не стал. Но голос его приобрел отчетливый металлический оттенок.
– Расскажи все.
Полуседой, коротко остриженный затылок, дорогой пиджак, широкое обручальное кольцо на правой руке, высоко держащей зажженную сигарету. Мужчина выслушал Славу, не шелохнувшись, запрокинув голову. Трижды с его сигареты падал серый пепел с тлеющим красным огоньком.
Слава застрял на том ночном ужине. Он пустился в детали, лихорадочно объясняя тонкости приготовления злосчастной щуки. Когда перешел к перечню специй, Дмитрий спросил:
– Когда все это кончилось?
– Что? – выдавил из себя Слава.
– Во сколько она ушла?
Слава схватился за спасительную соломинку и с жаром принялся рассказывать, как она ушла, как забыла книжку, как вернулась… Он заметил, что стал повторяться, и замолчал. Повисла пауза.
– Ты редкостный рассказчик. Правда, не очень наблюдательный.
Снова пауза.
– Откуда стреляли?
– Понятия не…
Мысли Славы заметались. Что это? Проверка? Знает он или нет? Скажет или нет в милиции? Или… Еще совсем недавно он на сто процентов был уверен, что в смерти Мари виноват не кто другой, как ее ненаглядный друг Дмитрий. Еще недавно ему казалось, что именно этот человек сидит сейчас перед ним. Но теперь что-то не сходилось. Что-то в его голосе, в позе. Либо это не тот человек, либо он действительно не имеет никакого отношения к смерти Мари…
– Хорошо. Теперь скажи: ты знаешь, кто я?
– Босс, – покладисто ответил Слава. – Босс, которому был нужен повар. Поправьте меня, если я не прав.
– Ты все время говоришь немного не то. – Слава был уверен, что мужчина слегка поморщился. – Какие-то детали не совпадают. Может быть, ты смотришь на вещи иначе, чем я. А может быть, просто врешь. Хотя Всеволод уверяет, что ты человек случайный.
– Я и есть – человек случайный. Случайней и быть не может.
Мужчина в кресле вспомнил наконец про сигарету. Бросил ее
на пол. Достал другую, закурил. И наконец выдал:
– Пусть так. Тогда ты и есть самый неслучайный в этом деле человек.
– Но…
– Молчи. Я не верю в случайности. Вся эта история… Я пока ничего не понимаю. Знаю только одно: начинать нужно с тебя.
– Как?!
– Еще не знаю. Только предчувствую, что ты оказался в нужном месте в нужное время совсем не случайно. Мои предчувствия обычно сбываются… Придешь сюда через четыре дня. Постарайся вспомнить как можно больше… Да, у нее была подруга. Лариса, кажется. Училась на филфаке. Попробуй найти ее. Может быть, она что-то знает.
Слава облизнул пересохшие губы.
– Не понял. Я должен что-то узнать?
– Не что-то, а все. Ты здесь главная фигура! Без тебя каша бы не сварилась, – ответил мужчина яростно. – Тебе и расхлебывать. Вопросы есть?
– А что будет, если я откажусь?
Дмитрий через плечо протянул Славе листок бумаги.
«Дорогой брат! – значилось там. – Эти люди обращаются со мной хорошо…»
– Да это же… – не выдержал Слава.
– Правильно, сестра твоя, Раиса. Поэтому ты сделаешь все, что от тебя требуется.
– Да я бы и так…
– Не рассказывай! Еще вопросы? По делу.
– Почему три дня назад вы меня чуть не убили, а теперь вдруг хотите, чтобы я вам помог?
– О твоем существовании я узнал только вчера, когда вернулся в страну. В сумочке не было фотографии?
– Нет. Совершенно точно.
Слава давно заметил пустую рамку на столе. Открыв дверь, он подумал немного, вернулся и спросил:
– А что было на той фотографии?
– Мы снялись с Мари на корабле…
Слава вышел за дверь. Один из мальчиков подошел к нему, с довольной ухмылкой сунул в карман толстый конверт и похлопал по плечу как сообщника.
Так, с оттопыренным карманом, Слава и вернулся домой. Лариса внимательно выслушала его рассказ.
– Я ничего не поняла. Он хочет найти кого-то? Разве это не он…
– Думаю, нет.
– Значит, не он. – В глазах ее блеснули слезы, и Слава перепугался, что она снова пустится в свои бесконечные рассуждения. – Но кто же тогда?
– Думаешь, больше некому?
Лариса озиралась так, словно комната вмиг перестала быть безопасным местом. Слава же вышел на кухню и достал мятый листок.
«Дорогой брат! Эти люди обращаются со мной хорошо. Вылетела, когда узнала, что ты в больнице. Кстати, по сравнению с твоей каморкой место, куда меня „заточили“, напоминает дворец. Меня не связывают, кормят деликатесами, в моем распоряжении бассейн, телевизор, прекрасная библиотека. Догадываюсь, однако, что этим людям что-то от тебя нужно. Постарайся им помочь: не ради меня, а ради себя самого. В чемодане найдешь письмо от мамы, маринованные грибочки и „Книгу о здоровой и вкусной пище“. Крепко тебя целую. Раиса».
Вот такая она всегда. Сидит заложницей у бандитов, а думает о каких-то грибочках…
8 (Дмитрий – Раиса)
Раиса Грох первой встала из-за стола и аккуратно сложила салфетку.
– Вы опять чем-то недовольны?
Дмитрий предвкушал очередную ее нотацию. Эта удивительная женщина читала их по каждому поводу. По любому вопросу у нее было свое мнение, и она не могла не высказать его. Пожалуй, свет не видел более разговорчивой пленницы. Или – гостьи? Кем она теперь для него стала?
– И зачем вы их только кормите?
– А вы как думаете?
– Вес перед женой набираете. «Дорогие коллеги… В нашем институте…» Смешно. Я думаю, она давно все про вас знает.
– Откуда такая мысль?
– Невозможно столько лет скрывать что-то. И от кого? От человека, который знает вас как облупленного…
– Думаю, не знает.
Раиса поправила очки, замялась. Ей не нравился его прямой взгляд. Что-то было в нем непозволительное. Нельзя было так смотреть на нее мужчине, у которого жена, дети и куча любовниц по всему свету. Ее раздражал этот взгляд. Кажется, она разбудила в нем ловеласа, который намеревается охмурить ее, как и всех этих дурочек. Ну, не на ту напал!
– О чем вы задумались?
– Вам непременно нужно знать каждую мою мысль?
Он улыбался ей, как младенец из люльки, – беззаботно и светло.
– Мы говорили о моей жене. Из чего вы заключили, что она в курсе моих дел?
– Я вовсе не говорила этого. Может быть, она и не знает точно, чем вы занимаетесь, но, по крайней мере, давным-давно догадалась, что ни в каком институте вы не работаете. Видели бы вы, как она кисло смотрела в тарелку, когда ваш «коллега» нес что-то о вашем новом изобретении. Похоже, она приняла ваш театр. Жены обычно бурно реагируют на то, что говорят об их мужьях. Тем более, я так понимаю, что это было для нее сюрпризом. Кстати, не слишком ли вы засекретили свою работу? Не слишком ли часто делаете великие открытия? Работаете над проектами для правительства? Летаете в командировки на Север без теплых вещей?
– Что же мне делать? Придумайте для меня какую-нибудь другую версию.
Дмитрий по-прежнему сидел за столом, подпирая подбородок кулаками и не сводя с нее глаз. Раиса нервничала под этим взглядом. Но чем больше она нервничала, тем резче становилась ее речь. И как ни парадоксально, тем нежнее становился его взгляд.
– Между близкими людьми не должно быть секретов.
– Единственным близким мне человеком была моя мать, но даже ей я не мог рассказать и половины того, что рассказал вам при встрече.
Раиса покраснела и закричала на него:
– Немедленно прекратите говорить со мной в таком тоне! И пожалуйста, – более спокойно продолжала она, когда он удивленно поднял брови, – не делайте вид, что вы не понимаете. Мне неприятно слышать, как человек умный, деловой, талантливый делает невзначай какие-то пошлые намеки. Этим вы ставите меня в один ряд с женщинами, которых используете!
Дмитрий уже знал по опыту, что, если он не сменит тон, она перестанет с ним разговаривать и запрется в своей комнате.
– Хорошо, хорошо. – Он поднял руки, словно сдаваясь. – Честно говоря, я и не пытался… Но если вам показалось – хорошо, больше не буду. Что касается Норы, то… Не буду я ей ничего рассказывать. Мне это скучно, а ей скучно слушать. Это никому не нужно. Тем более, если вы считаете, что она все знает.
– Тогда перестаньте устраивать эти обеды с «коллегами». Кстати, они кто?
– Безработные актеры. Приглашаю их раз в два-три месяца. Почему бы им не пообедать на халяву, не поиграть, раз уж на сцене не удается.
Раиса ненадолго задумалась.
– Все равно: это плохие актеры. И правильно, что их не пускают на сцену. И нечего их кормить.
– Не буду…
– Я, пожалуй, пойду к себе. И зачем вы мне все рассказываете?
– Вы очень похожи на мою маму. А потом, наверно, возраст. Мне хочется выговориться. Я с пятнадцати лет ничего никому о себе не рассказывал.
– Рассказать мне все и утопить в бассейне, – с пафосом сказала Раиса.
Дмитрий покатился со смеху.
– Да я никогда никого не убивал, поверьте, – сказал он, пытаясь сдержать смех. – Это не мой профиль.
Он поднялся и взял ее за руку.
– Давайте покатаемся. Вам, наверно, до смерти надоело сидеть в комнате.
Раиса нервно вырвала руку.
– Поехали, – решительно сказал Дмитрий.
Был поздний вечер. Зажигались огни. Они быстро миновали пригородные дома и поехали в кромешной темноте. Вокруг было черно, и сердце Раисы, которая все это время говорила себе, что ко всему готова, затрепетало. Неужели этот человек, который еще несколько минут назад казался ей таким искренним и мягким, привез ее сюда, чтобы… Задушить? Столкнуть в какую-нибудь шахту? Застрелить? Как это теперь обычно делается? А кто, собственно, говорил ей, что он ангел с крылышками? Ведь когда она открыла дверь в Славину комнату, он вовсе не показался ей таким ангелом…
Получив телеграмму о том, что Слава в больнице, Раиса тут же собралась в дорогу. Мама себя плохо чувствовала, а у нее был отпуск, и она может позаботиться о младшем брате ничуть не хуже. Это был официальный предлог. На самом деле ей давно уже хотелось вырваться куда-нибудь из их маленького городка, где до тошноты был знаком каждый переулок. Где все вокруг, казалось, были знакомы или состояли в родстве. В этом городе ничего никогда не происходило. И уж точно ничего не могло произойти. А ей столько лет хотелось, чтобы случилось что-нибудь из ряда вон выходящее. Что-нибудь такое, способное встряхнуть людей. Наводнение, землетрясение, война, революция… Она была ко всему готова, только бы не это скучное прозябание, когда один день не отличается от другого и все вокруг обсуждают столичные новости, которые не имеют к ним ровно никакого отношения.
Нет, конечно же, не наводнение, не землетрясение. Здесь же мама. И, разумеется, никакой войны, никакой революции. Пусть ей и не нравится современная бритоголовая молодежь, но такой участи она и им не пожелает. Пусть будет мирно, тихо и… убийственно скучно. Тем более что ее соседи, коллеги, знакомые не ощущают этой скуки.
Молодец все-таки Славка. Удрал. Как ни стыдила она его поначалу, как ни уговаривала остаться, в душе все равно мечтала о том, чтобы он плюнул на материнские просьбы, на ее доводы и уехал. Она ему завидовала. По несколько раз перечитывала его письма, ища там отголоски бурных событий и ураганных страстей, которые должны были захватить ее дорогого мальчика, как только он выйдет из поезда. Но, к огромному своему сожалению, ничего такого в его письмах не находила.
Похоже, жизнь Славы была и в Петербурге такой же скучной и прозаической, как у нее дома. Может быть, она слишком увлеклась чтением современной литературы – детективов, фэнтези, романов о любви. Работая в библиотеке, она совершенно оторвалась от жизни. Преклоняясь перед классиками и чувствуя абсолютную бездарность современных авторов, Раиса была уверена, что поскольку их романы пишутся без вдохновения и фантазии, то все описанные события происходят реально. Почему же тогда Слава не сообщает ни о чем таком?
Она вышла из поезда, чувствуя себя так же, как Алиса, попавшая в Страну чудес. Она была готова ко всему. Но события разворачивались более стремительно, чем во всех прочитанных ею романах…
Общежитие брата она нашла довольно быстро. Дверь в квартиру оказалась открытой. Дверь в комнату тоже. Сначала сердце ее подпрыгнуло. Неужели Слава дома? Но в комнате был совсем не Слава.
Рая собиралась спросить его, кто он такой, но мужчина рывком втащил ее в комнату и закрыл ей рот рукой, прижав к себе. Ей бы подумать о том, что перед ней грабитель, насильник или еще бог весть кто, но она думала только о том, что его рука легла ей на грудь, что было недопустимо.
Приключение свалилось ей на голову так неожиданно, что она совсем позабыла, как страстно мечтала о нем. Раиса изо всех сил стала сопротивляться. Не решаясь кричать, чтобы не попасть в глупое положение, чего она боялась больше всего на свете, Раиса уперлась одной рукой в грудь мужчины, пытаясь второй заехать ему в лицо. Их молчаливая возня продолжалась несколько минут, пока наконец не окончилась полным ее поражением на кровати.
– Вы не могли бы перестать брыкаться? – спросил мужчина шепотом.
– Могу. Только немедленно отпустите меня.
– Будете вести себя тихо?
– Буду, – простонала Раиса, мечтая одернуть задравшуюся юбку.
Он отпустил ее и несколько минут рассматривал.
– Кто вы? Жена?
– Сестра.
– И откуда?
– С вокзала. А вы кто?
– Следователь.
– Ах, – такого поворота Раиса не предвидела. – С братом случилось что-то серьезное?
– Сотрясение мозга, несколько швов на лбу…
– Боже мой!
– Вот именно.
– Но почему?
– Он был свидетелем убийства. Вы тоже в опасности. Сейчас я открою дверь, выйду в коридор и дам вам знак следовать за мной.
– Конечно, конечно…
Только в машине ею овладели сомнения. Слишком роскошный был автомобиль. Следователи на таких не ездят. К сожалению, она поняла это только тогда, когда захлопнула дверцу.
– Вот так, – сказал мужчина, и кнопочки на всех четырех дверцах плавно пошли вниз.
Раиса посмотрела на него безнадежно.
– Так вы не покажете мне ваших документов?
– Не покажу. Будем считать, что это похищение.
Они ехали долго. Сначала Раиса строго смотрела вперед и кипела от возмущения. Но потом огромный город захватил ее целиком. Она с интересом рассматривала пробегающие мимо дома, лотки со всякой всячиной, машины, людей, витрины магазинов, огромные пестрые плакаты. Впечатлений у нее было хоть отбавляй. Одно дело – видеть это все по телевизору каждый день, и совсем другое – ехать в шикарной машине по столичным улицам.
– Меня зовут Дмитрий.
– Раиса Георгиевна Грох.
Мужчина усмехнулся. В безлюдном месте, похожем на окраину, он остановился и резко повернулся к Раисе.
– Убили мою подругу.
Она широко открыла глаза, никак не припоминая, что именно говорят в таких случаях.
– Мне очень жаль, – выдала она наконец.
– Правда?
– Конечно.
– Тогда вы должны мне помочь.
– Чем же я могу…
– Будете делать то, что я вам скажу. Честно говоря, вся надежда на вашего брата. Он один может пролить свет на это дело.
– Ну что вы! – всплеснула руками Раиса. – Я уверена, он тут абсолютно ни при чем!
– Ошибаетесь, – сказал веско Дмитрий, и ее сердце упало. – Моя подруга умерла у него на руках.
Раиса была потрясена. Надо же! И ни одного слова в письме! Но ее подвижный ум, воспитанный на разношерстной детективной литературе, тут же включился в работу.
– Вы хотите, чтобы я помогла брату?
– А он у вас что, совсем дурак?
– Совсем не дурак, – не без гордости заявила Раиса.
– Тогда сам справится. А вы пока поживете у меня.
Она так посмотрела на него, что он чуть не расхохотался.
– Не нужно так пугаться. Это приличный дом. У меня жена и взрослая дочь. Вы поживете как гостья.
– Чтобы… – Раиса сузила глаза.
– Чтобы у вашего брата был повод помочь мне.
– Шантаж?
– Да.
Раиса хмыкнула и задумалась.
– А если я откажусь?
Дмитрий немного устал от этого разговора. Он все еще никак не мог поверить, что Мари мертва. Но эта мысль все время колола сердце холодными иголочками. Впервые в жизни он чувствовал себя неуверенно. Ему было не по себе.
– Не знаю. Может быть, увезу вас, запру в ее квартире и приставлю парочку своих ребят для охраны. А может быть, отпущу…
– Так. Я поняла, вы сами не знаете, чего хотите.
Дмитрий наклонился к ней и сказал:
– Ее убили, понимаете? Ей было только двадцать лет. А кто-то взял и шлепнул ее. А я…
Он резко отвернулся.
– Поедемте, – сказала тихо Раиса. – Конечно, я поживу у вас немного, у меня все равно отпуск. Только знаете что? Давайте купим по дороге продуктов. Честно говоря, я страшно проголодалась. Не люблю есть в поезде…
Он повернулся к ней.
– Вы говорите совсем как моя мать.
Они заехали в небольшой ресторанчик, одиноко стоящий на обочине. Там было пусто. Дмитрий не предложил Раисе меню, а сам сделал заказ.
– Хотелось бы предупредить вас еще вот о чем. Я работаю в институте, выполняющем секретные государственные заказы. Для моей жены вы – консультант, приехавший из другого города. Консультант весьма известный и засекреченный, поэтому я пригласил вас к себе.
– А-а-а, – протянула Рая. – Вы работаете… как бы?
– Как бы.
– А эта девушка, она тоже с вами работала?
– В силу специфики моей работы у меня много таких девушек. В каждом городе по одной. Но именно эта была мне особенно дорога.
– Понимаю…
И вот теперь он вез ее в кромешной темноте, и она не знала, что и думать. Тут он съехал с обочины и остановил машину.
– Хочу поговорить с вами начистоту.
– Почему здесь? – затравленно спросила Раиса.
– Потому что… – Он замялся. – Может быть, это все бред. Но в последнее время мне все время кажется, что за мной следят. Даже когда я сплю…
Раиса никак не могла понять: о чем ей толкует Дмитрий. Чего он хочет – отвлечь ее перед тем, как прикончит? Или он не совсем здоров и у него мания преследования, что, по глубокому убеждению Раисы, было тоже небезопасно.
– Да не бойтесь же вы, в конце концов, – уговаривал он. – Посмотрите на меня внимательно. Я никого никогда не убивал. И убивать не собираюсь. Ну же!
Она подняла голову и заглянула ему в глаза. Удивительные у него были глаза. Раиса не могла долго смотреть в них. Она каждый раз отводила взгляд и редко взглядывала на него на протяжении разговора. Вот и теперь она опустила глаза почти сразу же.
– Нет, – сказал Дмитрий, хватая ее за локоть, – посмотри еще, пожалуйста. Что я, по-твоему, девочку молодую убил и тебя собираюсь? Дурдом какой-то!
Раиса смотрела на него, и щеки у нее пылали румянцем.
– Пустите.
Он пробормотал извинения, и во взгляде мелькнуло разочарование. И это разочарование показалось Раисе пострашнее его намерения прикончить ее.
– Хорошо, – быстро согласилась она, стараясь говорить максимально искренне и убежденно, – вы никого не убивали. И вообще ничем таким никогда не занимались. Но вы ведете такой образ жизни… э-э-э… весьма своеобразный. Скрываете от жены, чем занимаетесь, приглашаете актеров, чтобы они изображали ваших коллег, девочки какие-то кругом. Это не совсем нормальный образ жизни, понимаете? Поэтому не странно, что вы отрываетесь от реальности, что вам повсюду мерещится что-то…
Дмитрий расхохотался.
– Ну что ты. Я самый большой реалист. Всю жизнь просчитываю все на десять ходов вперед. А иначе и не играю…
– Но все-таки…
– Подожди. У моей жены – свои дела. Ей на меня плевать. Это я понял через неделю после женитьбы. Она понятия не имеет о том, что такое дом, что там должна делать женщина. Но у нее есть одно грома-адное преимущество перед другими.
– Какое же?
– Она мать Стаси.
– Это вы мать Стаси. Носитесь с ней как самая заботливая мамочка.
– Ну значит, я не так выразился. Она родила мне Стаську, и за это ей полагается пожизненное содержание, а потом памятник. Дочка – это мой свет в окошке. Иначе вся моя жизнь не имела бы смысла.
От избытка чувств он замолчал, и Раиса легонько пожала ему руку.
– Именно из-за дочки я не могу рисковать. Именно для нее приглашаю «коллег». Она не должна знать. Ни в коем случае. И я не могу позволить себе попасться.
– Так закрывайте же свою лавочку!
– Этим я и занимаюсь последний год. Перевожу свои сбережения в надежные места. Открываю легальную фирму. Доход, конечно, будет пустяковый. Но на жизнь и ей, и внукам моим хватит уже того, что есть. И вот теперь, когда все подходит к концу, у меня такое чувство, что мне кто-то плотно сел на хвост.
– И в чем это выражается?
– Сначала взорвалась машина…
Он стал рассказывать. Как всегда – подробно. И о том, что произошло, и о том, что он переживал. Раиса слегка прикусила губу. Ей, постороннему по сути человеку. Он говорит с ней так, как не говорит со своей женой. Разумеется, у него нет друзей. И может быть, поэтому тянет к ровесникам. Они ведь с ней действительно ровесники. Одновременно пошли в первый класс, как раз когда настала политическая оттепель. Правда, к концу десятого класса она благополучно закончилась, но воспоминания все-таки остались. Или, кажется, он не закончил десять классов. Зато к рок-н-роллу, наверно, питал те же нежные чувства, что и она. А джаз? Какая там Долина! Настоящий, «чернокожий». Ему не хватает друга. У него ведь никого нет. Нужно слушать внимательно, нужно обязательно помочь ему. Он ведь такой… такой… такой приятный человек.
И не просто машина взорвалась. А машина, в которой только что сидел он сам и из которой за несколько секунд до взрыва выбралась Стася. Это случилось два месяца назад. Они ездили покупать Стасе туфли. Полгорода исколесили. А она только ныла: «Надоело, домой хочу, купи мне лучше кроссовки». Он приносил одну пару, другую, третью. И вдруг глаза загорелись. Он заметил. Дочь дрогнула. Хотя тут же снова сделала кислую физиономию.
Он опустился на одно колено, приложил туфельку к ноге. За кого их, интересно, принимали в магазине? Скорее за седеющего ловеласа и его юную пассию. Стася звала его «Димочка». Когда уставала, она всегда ему говорила: «Димочка, возьми Стасю на ручки, а то у нее ножки устали». Все детство на ручках и проездила. Стася, пожалуй, тоже понимала, почему так переглядываются девчонки-продавщицы. Пожалуй, она нарочно ни разу не назвала его папой. В машину она вернулась счастливая – лодочки за двести долларов, чуть дороже, чем носила мать. Он помог ей забраться на заднее сиденье. Но она тут же сморщилась.
– Что такое? – спросил он, терпеливо ожидая очередного каприза.
– Болит, – серьезно и удивленно сказала Стася и посмотрела на него страшными глазами. – Сильно болит.
Он растерянно посмотрел по сторонам, точно пытаясь отыскать близлежащую больницу.
– Где болит?
– Живот. – Стася корчилась от боли.
– До больницы дотянешь?
– Нет, – испуганно сказала она. – Теперь не болит, теперь тошнит страшно.
– Может, тебя укачало?
Вместо ответа Стася зажала рот рукой и вылетела из машины. Дмитрий успел затащить ее за угол, когда позади раздался взрыв.
Он быстро выглянул из-за угла и несколько минут смотрел на дорогу, пока в сознании не утвердилась мысль о том, что это именно его машина взлетела на воздух.
– Не может быть, – тихо выдохнула рядом с ним Стася, и только тогда он опомнился и повернулся к ней.
– Как ты?
– А? Ты про… Нет, ничего. Все прошло.
– Это от испуга. Так бывает.
– Папа, там был Костя…
– Стаська, там мы с тобой были.
– Это ведь не случайно.
– Ну почему ты так думаешь? – Дмитрий оправился от первого шока и постарался взять себя в руки. – Может быть, что-нибудь с бензобаком…
– Нет. Это бомба.
– Стася, не говори глупостей.
– Тебя хотели убить, – снова сказала Стася, глядя на него во все глаза.
– Перестань.
– Ты ведь засекреченный…
– Очень засекреченный.
– Кто-то тебя рассекретил.
– Стася, это невозможно.
– Я знаю, – протянула она.
– Откуда?
– Не знаю.
– Стася, давай так. Мы с тобой сейчас пойдем в кино, ладно? А потом вернемся домой как ни в чем не бывало. Маме скажем, что машину срочно вызвали в институт.
– Ты берешь меня в сообщницы?
– Беру, – слабо улыбнулся отец, он никак не мог прийти в себя после случившегося. – И все-таки если бы тебе не приспичило выйти из машины… Кстати, что там такое с тобой случилось?
– Сама не понимаю. Я словно села на кол, и он прошил все мое тело. Но я решила ни за что не выходить – очень хотелось домой. Но тогда мне показалось, что меня сейчас вывернет наизнанку. И еще… только не смейся, ладно?
– Что?
– Когда мы сворачивали за угол, я поняла, что сейчас случится.
– Предчувствие? – серьезно спросил отец, подавив улыбку.
Стася надулась, взяла его под руку, и они двинулись к ближайшему кинотеатру.
Он тогда поднял на ноги весь город. Никто не мог ему ничего сказать. Городские авторитеты, с которыми он вел дела, разводили руки. Да к тому же вряд ли кто-нибудь из них держал зуб на Дмитрия. Он вел с ними дела честно, платил немало, так что повода для недовольства у них не было вовсе.
Через несколько дней снова произошло невероятное. Как во сне. Нора уехала к матери. Они со Стасей устроили компьютерное сражение по сети. И отключили свет в самый неподходящий момент. Стася завопила как резаная – она выигрывала в кои-то веки. Потом подошла к окну – посмотреть, горит ли свет у соседей. «Ну конечно, – говорит, – гроза!» И вдруг падает на ровном месте. И в это время – бах, он смотрит, а в окне, как раз в том месте, которое сейчас закрывала Стася, – дырочка. И Стася тоже смотрит. И морщится, как от боли.
Он тут же позвонил Всеволоду, тот как раз дежурил в охране. Наорал на него. Сева обегал всю округу – никаких следов, ничего. Стекло заменили до того, как Нора вернулась. А на следующий день поставили бронированные.
Вечером он пришел в спальню к Стасе.
– Ну папочка, ты у меня прямо агент ноль-ноль-семь, – радостно улыбнулась она ему.
– Тс-с-с, – он приложил палец к губам. – Лучше скажи мне: ты почему упала?
– А что, ты хотел, чтобы…
– Эй, эй! Сплюнь.
– Нога заболела.
– Как это?
– А так! Отнялась в одночасье.
– Стаська, тебя нужно к врачу сводить. Что-то с тобой…
– Да это не со мной, – сказала она с досадой. – Это вокруг. И проверять меня не надо. Мне такое спасительное заболевание очень даже нравится. А тебе?
– Мне тоже. Больше никаких предчувствий нет?
– Есть. Это – не все.
– Будут еще стрелять?
– Не в меня. – Она как будто что-то вспоминала. – Не в нас.
– А в кого?
Она неопределенно развела руки.
– Стася, у тебя, может быть, есть враги?
– Не у меня, у тебя.
Дмитрий схватился руками за голову.
– Да нет же, ты ошибаешься.
Стася наморщила носик.
– Ну как хочешь, – сказала она. – Тебе видней.
Он поцеловал ее крепко, взлохматил волосы. И когда закрывал за собой дверь, она пробурчала:
– В какую-то девчонку…
Он резко обернулся. Стася удивленно смотрела на него…
Дмитрий продолжал свой рассказ и неожиданно вставил:
– Ты ей понравилась.
Раиса встрепенулась:
– Кому?
– Стаське. Ей ведь редко кто-то нравится.
– Ах да… Я слышала. Она назвала меня «классной теткой». По-моему, это комплимент.
– И, скажу тебе, весьма редкий.
– Ну а что было с той девочкой, с Мари? – Раиса попыталась вернуть Дмитрия в русло разговора.
– Мари – это из другой оперы.
– Но почему же? Вы ведь ее тоже любили?
– Пожалуй, нет.
Раиса подавила раздражение.
– С глаз долой – из сердца вон.
– Нет. Дело не в этом.
Мари была не первой его любовницей после того, как он женился. Первая появилась уже через полгода. Тело требовало своего. Он никогда не представлял, что одна и та же женщина могла бы удовлетворить его по всем статьям. Слишком разные чувства он к ним испытывал. Или предъявлял слишком высокие требования? Да ничего он не предъявлял. Только с женщинами выходило у него всегда одинаково: поговорить приятно – в постель не тянет, а когда тянет – то никаких разговоров потом не получается. В общем, одними любовался, с другими спал. И был уверен, что все так делают.
– А жена? Неужели вы…
Дмитрий сухо перебил ее.
– Я нанял человека. Она купила дом для матери. Мать живет там не одна.
– Ну не хотите же вы сказать, что она поселила там мужчину?
– Женщину, – ответил Дмитрий, и Раиса широко раскрыла глаза. – Нора навещает ее ежедневно. Они целуются, сидя на скамейке у дома.
– Боже мой!
– Мелочи.
В принципе это был и стиль работы, и стиль жизни – в каждом городе жила хорошенькая девушка, с удовольствием выполняющая его поручения, жаждущая заработать и готовая принять его в любой час. Как только у такой девушки появлялся кандидат в мужья, Дмитрий бесследно исчезал.
Когда он увидел ее в первый раз… Ах какая она была хорошенькая. Его потянуло к ней с такой силой, что он сначала испугался. Испугался и сбежал. Ездил еще несколько раз, чтобы убедиться: ему не показалось, она действительно так хороша? И убеждался снова и снова. Тогда он снял квартиру, поселил ее там, и со временем она стала прекрасной помощницей в делах. Первое время он не мог оторваться от нее. Водоворот страсти затягивал все глубже и глубже. Она прекрасно могла бы заменить ему Нору, но вряд ли понравилась бы Стасе. Хотя Стася уже взрослая, скоро сама покинет его, какая ей разница.
Он попытался посмотреть на ситуацию глазами дочери и показался сам себе жалким, несчастным сексуальным маньяком, терзающим юную девушку. Мари, похоже, тоже любила его. Но ее любовь проявлялась скорее не в спальне, а в гостиной, когда она, подпирая подбородок ладонью, не отрывала от него глаз.
Но однажды… Как-то все разом окончилось. Он насытился этой любовью. Страсть прошла, а кроме нее ничего и не было. И стало обидно. Он пытался вернуть любовь. Стал реже видеться с Мари, взял ее на корабль, но после этого стало еще хуже. Стало совсем плохо. Стало – никак. Она почувствовала охлаждение, начала ныть, смотрела как побитая собака, а это уж и вовсе было для него невыносимо…
Они не виделись недели две. Уезжая из города, он не давал ей никаких поручений и решил, что когда вернется, обязательно поговорит с ней относительно ее дальнейшей жизни без него.
– Так вы не посылали ее к Славе?
– Нет, конечно. Я и понятия не имел, кто такой этот Слава. Но Нора сказала что-то такое о том, что хотела бы нанять повара.
– Так кто же все это устроил?
– Может быть, тот, кто следит за мной?
– Даже сейчас?
– Сейчас нет, – он усмехнулся. – Поэтому-то я и уехал из дома.
– Вы думаете о ком-то из домашних?
– Не знаю. Но я чувствую, что каждый мой шаг сделан под чьим-то пристальным взором. На улице, на работе и дома. Особенно дома. И все события последнего года сплетаются в одну паутину…
– То есть кто-то открыл на вас охоту.
– Не знаю, на меня ли. Иногда мне кажется – на меня. А иногда… Не хочу даже говорить.
– Нора? Вы о ней думаете?
– Ну когда совсем начинаю сходить с ума, думаю и о ней. Полным идиотом себя чувствую, честное слово. Впервые в жизни. А тут еще Стаськин день рождения надвигается…
Они сидели и молча смотрели друг на друга. Мимо неслись машины, обдавая их светом фар, словно брызгами. Раисе было немного не по себе от его взгляда. Вывернул человек перед ней всю свою жизнь, как будто крошки вытряхнул из кармана. Она-то, дура, думала, что карманы у него жемчугами набиты, а там одни крошки. И почему он все это рассказывает именно ей?
Взгляд Дмитрия становился слишком откровенным, слишком тяжелым. Ей захотелось выбраться из-под этого взгляда. Она уже какое-то время пыталась справиться с учащенным дыханием, с нахлынувшим предчувствием, с собственной слабостью, наконец. Нужно было хоть что-нибудь сказать, все равно что – только бы вернуться в мир, зыбко закачавшийся под ногами.
– А знаете что? – нарочито бодро сказала она. – Вам нужно в церковь сходить…
Слова прозвучали как холостой выстрел. Ничего не изменилось. Он только ближе наклонился к ней и тихо, с ударением на каждом слове, произнес:
– Я не хочу в церковь…
Его поцелуй пришелся куда-то в подбородок и прожег ее насквозь. А потом мир пришел в движение, обрел руки, ноги, голову, вместился целиком в одного человека. Прекратив считать свои вдохи и выдохи, Раиса порывисто и глубоко вдохнула. Сиденье откинулось назад, и надголовой оказалось его лицо. «Но это невозможно…» – успела подумать она, протягивая руки к миру, вмещенному в одного человека, сплетаясь с ним все теснее, вбирая в себя этот огромный новый мир жадными глотками.
9 (Стася)
Из детства Стася вынесла два ощущения: чудовищное любопытство и тихо ноющую боль под ложечкой. Любопытство проснулось вместе с сознанием, боль начала проявляться несколько раньше.
Вот она пятилетняя мчится по парку за большим зеленым мячом. Няня едва поспевает за ней. То есть – вовсе не поспевает. Ей хочется поиграть с няней, хочется, чтобы она потеряла ее из виду среди зарослей цветущих кустарников, среди высокой, высоченной – по колено ей – травы. Что тогда няня будет делать? Будет звать ее жалобно, испугается, рассердится? Что? Страшно хочется узнать! Мяч катится по своему, Богом отписанному, маршруту, Стася сломя голову мчится за ним, не разбирая дороги. И вдруг – все одновременно: накатывает дикая боль, она падает в траву, хватаясь за живот скрюченными пальцами, взвизгивает няня где-то далеко сзади, а впереди раздается самый настоящий взрыв.
Боль постепенно отпускает, и Стася открывает глаза. Ого-го! Она лежит на обочине дороги, няня за шиворот поднимает ее, а впереди, в трех шагах, в трех больших взрослых шагах, лежит в лепешку раздавленный, перееханный автобусом мяч. «Настенька! – жалобно блеет няня. – Ты только папе не говори. Давай скажем, что мы его потеряли…» – «Прости меня, – тянет к ней ручки Стася. – Я никому не скажу. Я больше не буду».
Страшное любопытство подбивает на то, чтобы спросить красавицу-маму: «Почему она такая печальная? Что случилось? И когда это случилось, что она всегда такая печальная?» И папу спросить: «Почему он не развеселит маму? Почему он только Стасю веселит, а маму – никогда?» Но к десяти годам вопросы отпадают. Она словно знает ответ на них. Сама себе не говорит, но точно – знает. Эти вопросы больше не волнуют, зато беспокоит масса других.
Однажды, лет в семь, когда Стася проснулась вся в противных красных прыщах, папа испугался и побежал будить маму. Мама встала, осмотрела Стасю и сказала, что это ветрянка, что ею все дети болеют и нечего волноваться так по пустякам. Нужно только позвонить врачу. И они целый час искали записную книжечку мамы, где был записан телефон. А Стася села за стол и рукой, непослушной от высокой температуры, принялась выводить на листе бумаге цифры. Температура у нее была аж тридцать девять и три, поэтому она плохо соображала, что делает. Болело под ложечкой слегка, но когда она писала цифры – не болело. Папа увидел ее за столом с красными от жара щеками и ахнул: «Тебе не нужно вставать!» Схватил в охапку ее вместе с листком и отнес в кровать. Забрал листок, посмотрел: «Что это?» Мама через плечо заглянула и ахнула: «Это же и есть телефон. Умница, запомнила». И убежала. «Какой телефон?» – подозрительно покосился на Стасю папа. Та пожала плечами и тут же уснула, сил не было ждать, когда кончится их беготня.
Со временем любопытство ее вспыхивало все реже, а боль под ложечкой порой давала о себе знать очень сильно. Как-то раз, когда папа задерживался на работе, Стася свернулась калачиком на кровати и принялась тихонько выть. Нора вызвала «скорую», Стасю забрали в больницу, просветили всю насквозь, тщательно исследовали все ее горшки, но так ничего и не нашли. Папа пришел в больницу только на следующий день. Что-то там у них прорвало на работе. Пришел после бессонной ночи, бледный и уставший. И боль тут же улеглась, утихла. Стася уснула, впившись отцу пальцами в ладонь. Не в силах выпустить ее руку, он провел ночь тут же, уткнувшись лицом в ее одеяло и сладко похрапывая.
Со временем Стася научилась «обманывать» боль. Как только чувствовала легкий приступ, сразу меняла свои планы на противоположные. Например, если хотела идти погулять – оставалась дома и заваливалась с книжкой на кровать. Если планировала весь день оставаться дома – одевалась и не возвращалась до вечера, пока не обходила всех своих подруг.
Если с тобой часто происходят такие странные на первый взгляд вещи, ты привыкаешь к ним, и они уже не кажутся странными. Да, с другими такого не случается, но с другими случаются вещи похуже. Таньку Иванову отец порет ремнем – что, нормальная вещь? А когда она собирается в школу, ее непременно тошнит и даже рвет иногда. Зою Белову отец все время целует и норовит облапать. Нормально? У Стаси – свои странности, которые Таньке кажутся подозрительными. Но ведь ее отец Стасе тоже кажется подозрительным и, чего там греха таить, совершенно дефективным. Поэтому стоит ли обращать внимание на временное недомогание, тем более что нет у нее никакой болезни. Искали – не нашли.
Так Стася рассуждала до тех самых пор, пока их пепельный «фиат» не подпрыгнул на улице и не рухнул, охваченный языками пламени. Тогда, всматриваясь в огненный шар на дороге, она впервые поблагодарила свою внезапную боль и стала относиться к ней с огромным уважением. Стася уверовала, что именно эта дурацкая ноющая, жалящая, тикающая в ее теле хворь – не что иное, как сигнал. Только вот понять бы – к чему?
Затем, после случая в гостиной, когда боль взорвалась в ее теле так внезапно, что она не смогла удержаться на ногах и грохнулась на пол, пропустив предназначенную папе или ей пулю, Стася обложилась книгами по психологии в надежде отыскать там хоть что-нибудь подобное тому, что с ней происходило. Поскольку это было не праздное любопытство, а страстный порыв разобраться в себе, она сразу же наткнулась на статью Фрейда о снах и впала в глубокие раздумья, прочитав чуть меньше половины.
Первое, что ее поразило, было то, что читала она незнакомую статью как знакомую. То есть ей казалось, что она уже однажды, когда-то давно, читала ее, только напрочь позабыла об этом. Стася заглянула на первую страницу и очень удивилась, узнав, что книга выпущена совсем недавно. Второе, чему она тоже сначала удивилась, – книга попала, что называется, в тему. Ей много лет снился один и тот же страшный сон, от которого она никак не могла отделаться. Ей снился пожилой мужчина с бородой и сдвинутыми на переносице бровями. В детстве во сне он казался ей стариком, теперь она понимала, что он всегда был чуть младше ее отца. Он бродил по их дому, что-то высматривал, вынюхивал, а Стася всегда пряталась под стол, чуть ли не на самое видное место, где он почему-то никак не мог ее отыскать. И место это было – заколдованное. Круг тени, падавший от стола, каким-то чудесным образом делал Стасю невидимой для врага. В том, что мужчина – враг, сомнений не было. Что он хотел с ней сделать? Убить? Изнасиловать? Да нет, что-то пострашнее. Хотя что же страшнее? Еще она понимала, что он боится ее. Поэтому, быть может, и хочет убить. Ей только нужно сказать ему, чтобы он не боялся, выбраться из-под стола и предложить мир. Но как только она пыталась это сделать, все тело пронзала острая боль. И она просыпалась.
Но даже во сне Стася не хотела сдаваться, Стася высовывала из-под стола руку, и тут же мужчина вместе с невесть откуда взявшимися летучими мышами бросался на нее, и свет мерк перед глазами. Она просыпалась с криком, в холодном поту, и подолгу всматривалась в темноту своей комнаты.
Вспоминая свое детство, школьных подруг, Стася сделала для себя неожиданное открытие: она многое понимает без слов. Ей не нужно было ничего рассказывать, она и так знала о том, что произошло. Причем знала заранее. Раньше ей казалось, что она думает быстрее, чем другие: сопоставляет факты, делает выводы. Еще ей казалось, что она много фантазирует.
Вот, скажем, об отце. Об отце и о той девушке. О той, которую она никогда не видела, но о существовании которой прекрасно знала. Спрашивается, откуда? Он не приносил домой даже легкого запаха ее духов, но Стася знала – есть девушка. Кажется, она любила отца. Стася втягивала шею, напрягала воображение, морщилась, но фантазии не хватало, чтобы представить отца женатым чуть ли не на ее ровеснице. Значит, этого и не будет. Слава тебе, Господи!
В последнее время она снова и снова видела девушку, лежащую на земле. По ее красивому высокому лбу ползла струйка крови. Видение было ярким и ужасающим. Стася снова порылась на полках у отца и отыскала книгу по психиатрии. Но читать не стала. Повертела в руках и поставила на место. Ей не нужно было читать эту книгу. Нужно было отыскать девушку, предупредить. Потому что… потому что… она не могла бы объяснить словами то, что чувствовала. А если все-таки продраться сквозь ужас ее безумия и сказать, получалось так: потому что бородач из сна убьет ее.
Как только Стася говорила себе: «Стоп! Хватит! Ты сходишь с ума!» – и пыталась отвлечься, острая боль тут же давала о себе знать. И вот тогда Стася не выдержала. Вечером она полезла в отцовские бумаги. У него в столе были тонны бумаг, но она почему-то безошибочно нашла нужный листок с адресом девушки. Мари. Откуда она знала, что ее именно так зовут?!
В субботу Стася отправилась к Татьяне на день рождения, объявив всем, что там и заночует. Улизнув из-за стола и убедив Таньку дать ей ключ от входной двери на случай позднего возвращения, Стася отправилась к Мари.
Та открыла ей дверь, даже не взглянув в глазок. Стася этого не пропустила и поморщилась: до чего беспечная девица, ее пристрелить хотят, а она открывает дверь первой встречной.
– Деточка, ты к кому? – спросила Мари иронично-ласково.
Перед ней стояла высокая статная красавица, одетая в сногсшибательный костюм. Подняв вверх два пальца с длинной дамской сигаретой, она улыбаясь смотрела на Стасю.
– Мне нужно с вами поговорить.
– А ты кто?
– Сейчас это не важно.
– Нет, это я к тому, что ты скорее всего ошиблась дверью…
– Мари?
– Ну надо же, не ошиблась. К сожалению, не могу пригласить тебя внутрь – убегаю. Может быть, поболтаем по дороге?
– А дома никак?
– Никак, деточка. Я на работу спешу.
Что могла сказать ей Настя? Только одно: вас собираются убить. Вот так, без вступлений и предисловий, без объяснений и доказательств, она ей это и заявила. Мари смеялась, запрокинув голову, отирала слезы и все повторяла: «Какое счастье, что тушь водоустойчивая!» Мари успокаивалась, смотрела на серьезную Настю и снова принималась хохотать. Она смеялась и что-то такое смешное говорила: «Не бери в голову, деточка, вся жизнь – фантасмагория! Один сплошной Чейз».
В какой-то момент Настя рассмеялась вместе с ней и решила, что действительно поддалась глупым видениям. В какой-то момент она забыла о том, что уже видела Мари в своих «видениях», знала, как ее зовут, и даже знала, где именно в отцовском столе искать ее адрес. Она сказала: «Вы меня убедили, веселая леди, но все-таки обещайте мне, что будете всегда смотреть под ноги и не сломаете себе шею». Настя сделала только шаг в сторону, как тут же почувствовала злой укус боли. «Да нет же! Я не шучу!» – завелась Настя с новой силой, приведя Мари в абсолютный восторг.
– Деточка, ты собираешься меня охранять? Или закрыть от пуль своим телом?
– Еще не знаю, – промямлила Настя.
– Ну так вот: когда узнаешь, тогда и приходи. Милости просим. А теперь мне пора.
– Куда ты?
Вопрос прозвучал глупо. Они стояли в дверях пивного ресторанчика, и Мари взялась за ручку двери.
– Пока.
– Я с тобой!
– О Боже! – весело простонала Мари и вошла в зал.
Она осмотрелась и подсела к стойке рядом с молодым человеком так, что для Насти места рядом с ней не нашлось. Настя влезла на табурет по другую сторону от парня.
– Огоньку не найдется? – кокетливо спросила у него Мари, и он поднял голову.
Едва взглянув на парня, Настя застыла. Что-то ураганом пронеслось внутри, какое-то предчувствие, но она так ничего и не разобрала. Ей вдруг стало безумно жалко молодого человека. И еще показалось, что они знакомы миллион лет. И неведомая доселе нежность вынырнула на мгновение и канула снова куда-то в область бессознательного. Настя вздохнула с облегчением.
– Тебе не пора домой? – заботливо спросила ее Мари, наклоняясь к молодому человеку.
– Ты же знаешь, я без тебя – никуда! – отрезала Настя.
В ресторанчике Мари, как сложную шахматную партию, разыгрывала знакомство. С первых мгновений было ясно, что она преследует единственную цель – увести его отсюда и отделаться от Насти. Настя вошла во вкус игры и тоже принялась кокетничать со Славой. Один раз ей даже показалось, что она переиграла Мари, Слава смотрел на нее так же нежно, как и… отец, наверно. Хотя нет, здесь было что-то другое. Настя так увлеклась своей ролью, что отчасти позабыла, зачем она здесь. Слава теперь чаще смотрел на нее, чем на Мари, и это так льстило Насте…
После того как Мари назвала ее ясновидящей, Настя решила ни на шаг от нее не отставать, махнула рукой – и тут же подъехала машина. Она сейчас ни за что бы не сказала, что ей важнее – уберечь Мари или уберечь от Мари Славу. Чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений, она первой нырнула в машину. Мари села вслед за ней и тихо шепнула:
– Мне кажется, за нами следят! – Она сильно сжала руку Насти, и в глазах у нее проглядывал натуральный страх.
– Где? – Настя купилась сразу со всеми потрохами.
– Давай сбежим. Мне как-то не по себе.
И в тот момент, когда Слава садился в машину, Мари подтолкнула Настю к противоположной двери. Как только Настя очутилась на улице, дверца захлопнулась и машина тронулась с места. А Настя еще долго стояла и смотрела вслед двум красным огонькам, скользящим по дороге…
10 (Людмила Воскресенская)
Последние годы Нора чувствовала себя заводной куклой. Никто не интересовался ею, да и ей было неинтересно прислушиваться к болтовне своих близких. Совсем неинтересно. Порой ей казалось, что и Дмитрий притворяется, когда с таким вниманием слушает Стаськин бред и с таким воодушевлением дает ей советы. Нора откровенно скучала во время их вечерних бесед, но и это, похоже, мало кого интересовало.
Когда в доме появилась Раиса, коллега Дмитрия, приехавшая в командировку в их институт, Нора попробовала поговорить с ней и поняла – они слишком разные. Раиса говорила о книгах, с удовольствием делилась рецептами, пока не узнала, что Нора никогда не подходит к плите, рассказывала о своем захолустье, будто Нора не знала, какая там тоска, и не помнила, как приятно было оттуда выбраться.
Ну как объяснить этой старой клуше, что ей страшно одиноко, что единственной ее собеседницей за последние восемнадцать лет была сумасшедшая, что собственная дочь ведет себя с ней как чужая. Чужая девочка, так она часто думала о собственной дочери. Совершенно чужая девочка. Она никогда не заменит ей сестру. А сестра… сестра никогда не станет прежней. Нужно было прожить столько лет, чтобы это понять. Хотя врачи с самого начала предупреждали…
Чужая девочка не только для Норы, но и для Дмитрия. Девочка, родившаяся из материнских галлюцинаций. До сих пор, вспоминая о том дне, сердце Норы беспомощно трепыхалось и ныло в груди.
В последнее время она отчаянно страдала от одиночества. Мать состарилась и стала болезненно жадной. Ее теперь интересовала не Нора, а содержимое сумок, которые она привозила. Она жаловалась на то, что сестра много ест, что денег, которые привозит Нора, им не хватает. Замкнутое пространство домика у озера теперь угнетало мать. Она заговаривала о том, чтобы жить вместе с Норой… Постоянное присутствие в доме больного человека и здорового сделает ненормальным.
Нора в последний раз придирчиво посмотрела в зеркало и, удовлетворенная плодами своего труда, собралась и поехала к матери. Еще у калитки до нее донесся веселый смех сестры и незнакомый женский голос. Сюда забегали порой приятельницы матери, но голос явно принадлежал молодой женщине. Нора ускорила шаги и через минуту нашла сестру рядом с высокой блондинкой.
– Здравствуйте! Вы, очевидно, и есть сестра, о которой я уже столько слышала сегодня, – женщина протянула Норе руку ладонью вверх и крепко пожала, накрыв сверху второй ладошкой. – Меня зовут Людмила.
Оказалось, женщина разыскивала родственников, живших в этом доме много лет назад. Она назвала их фамилии и имена, и только тогда Нора вздохнула с облегчением – это действительно были люди, у которых она в свое время купила дом. Подвох исключался. Людмила приехала из города на электричке и очень сокрушалась, что в расписании теперь перерыв часа на четыре; мать предложила ей провести время у них.
– Так здорово она с ней разговаривала, – мать кивнула Норе в сторону сестры. – Говорит, у нее брат такой же. Привыкла. Понимает.
Кроме больного брата, у Людмилы оказалось много общего с Норой – взрослая дочь, вечно занятый на работе муж и ни души, с кем можно было бы поболтать иногда. Правда, в отличие от Норы, у нее была очень ответственная работа, Люда возглавляла филиал какой-то социальной организации.
– Знаешь, как бывает, – они перешли на «ты» чуть ли не с первых минут знакомства, – весь день на людях, а внутри пустота. Кому ты нужна? Люди приходят и уходят, и не с кем разделить свое одиночество, – грустно вздохнула Людмила.
Мать собиралась пройтись по магазинам, как обычно, пока Нора присматривала за сестрой. Проводив ее, Нора спросила гостью:
– Может быть, чай?
– О, это было бы великолепно. Я сегодня прикупила по случаю нечто неслыханное, думала побаловать родственников. Вот мы сейчас и попробуем. – Она достала из сумки блестящую черную коробочку с большим золотым драконом в центре. – Тибетский. Прямо оттуда. У меня знакомый побывал в экспедиции…
Чай немного отдавал душицей, немного – горьковатой ромашкой, но действие его ни с чем сравнить было невозможно. Нора почувствовала себя так, словно сбросила добрый десяток лет. Сестра тоже выпила с ними чаю и, улыбаясь, слушала их бесконечный разговор.
Что за женщина оказалась эта Людмила! Обаятельная, умная, чуткая. Понимала с полуслова, говорила именно то, что нужно. А как она говорила! Словно лучилась вся, окутывая теплом собеседника. Ароматный тибетский чай пробуждал физические силы, слова женщины дарилинадежду, возвращали силы внутренние. Она в считанные часы стала дорогим для Норы человеком, шансом, который ни в коем случае нельзя упустить.
Нора не позволила ей ехать домой на электричке, а подвезла на машине до ближайшей станции метро. Людмила протянула на прощание руку, а Нора смотрела на нее как потерянный щенок, не зная, что же делать, как удержать… Но Людмила снова угадала ее мысли и пригласила погулять по городу.
Так они начали встречаться. За месяц обошли многие увеселительные заведения. «Торговцы радостью» – называла их Людмила, выбирая всякий раз новое кафе или клуб, или выставку, или театр. Она приносила приглашения на официальные приемы и благотворительные вечера, где ее всегда ждали и, похоже, относились с большим уважением.
Когда у Людмилы возникали неотложные дела, она брала Нору с собой. Эти ее дела были связаны с банками, топливными компаниями, с мэрией. Однажды ей срочно понадобилась подпись мэра, но упрямая секретарша никак не хотела пропустить ее вне очереди. Тогда Людмила вытащила из сумочки мобильный телефон, сказала кому-то в трубку: «У меня заминка», и через несколько минут раскрасневшийся мэр лично вышел в приемную, грозно посмотрел на секретаршу, извинился перед Людмилой и тут же, в приемной, подписал ее бумаги не читая.
Нора всей душой рвалась помогать подруге. «Как называется ваша организация?» – спросила она как-то, когда они ехали в машине. «Жизнь», – коротко ответила Людмила, глядя вперед на дорогу. «И чем вы занимаетесь?» – «Оказываем влияние на сложные социальные процессы». – «Какие?» – «На все», – Людмила жестко посмотрела ей в глаза, и Нора поняла, что ее вопросы, возможно, неуместны.
В другой раз, не удержавшись от любопытства, Нора все-таки спросила: «А почему я никогда не слышала о вашей организации?» – «Смешная! Нам вовсе не нужна реклама, поэтому мы не интересуемся средствами массовой информации. Нас не в чем упрекнуть, поэтому средства массовой информации не интересуются нами… Я как-нибудь приглашу тебя на наше собрание, – пообещала Людмила. – Тебя нужно ввести в коллектив».
В последнее время у нее явно не хватало времени для праздных шатаний с Норой по городу, потому что все чаще и чаще она просила отвезти ее куда-нибудь, поспособствовать во время делового обеда, поулыбаться кому-нибудь, пока она будет вести переговоры. Нора рвалась поскорее «влиться в коллектив» и стать полноценным членом влиятельной социальной организации под названием «Жизнь».
– Для того чтобы вступить в организацию, нужно много работать над собой, – сказала Людмила накануне собрания. – Понимаешь, люди, не достигшие полного развития сознания, не могут влиять на других людей. Не имеют права. Согласись, это справедливо.
– Конечно…
– Почему все так недовольны правительством или, скажем, президентом? Да потому, что это люди, которые стоят на той же ступеньке развития, что и остальная масса населения. Почему равный должен править равными? С какой стати? Вот он – корень недовольства. Вспомни Древний Египет. Фараоны приравнивались к богам. Бунтов не было. Людям было ясно, что управление страной находится в руках тех, кто стоит на высшей ступеньке развития. В отличие от них. Понимаешь?
– Смутно.
Людмила посмотрела на подругу.
– Для того чтобы работать в нашей организации, то есть влиять на других, ты должна преуспеть в развитии, достичь высшей ступени. Это как в карате, чтобы тебе было понятно. Получить черный пояс.
– А я смогу?
– Сможешь. У нас опытнейшие педагоги, лучшие в мире методики. Возможно, процесс обучения покажется тебе немного необычным, но чтобы сыграть красивую мелодию, тоже нужно много часов просидеть за пианино, долбя одни и те же гаммы. Иначе – никак.
– Я поняла. Я буду стараться. – Нора заискивающе посмотрела на Людмилу.
– Старайся. И помни о том, что, как только ты закончишь курс обучения, станешь моей первой помощницей.
– Хорошо, – ответила ей сияющая Нора.
– Высади-ка меня возле железнодорожной станции…
Помахав Норе на прощание рукой и дождавшись, пока ее машина скроется из виду, Людмила перестала улыбаться. Лицо ее сделалось властным и жестким. Она вытащила из сумочки трубку и набрала номер:
– Привет, сейчас подъеду. Еле отделалась от твоей…
Людмила Павловна работала в организации «Жизнь» без малого десять лет. Питерский филиал был ее рук детищем, ее ребенком, которому она посвящала себя целиком. Разумеется, у филиала было еще региональное руководство, центральное руководство и даже зарубежные наблюдатели из всемирного руководства. Все они периодически приезжали с инспекциями, но всегда отдавали должное ее организаторскому таланту: до того четко и слаженно работали ее люди.
Очередное задание застало ее врасплох. Нужно было подготовить несколько человек, которые способны держать оружие в руках и пользоваться им. «Какое оружие?» – переспросила она. «Холодное», – уточнили в центре. Понимай как знаешь, только продемонстрируй в ближайшее же время свою работу. «Где продемонстрировать?» – «На противниках, конечно. Кто тебе мешает их немного попугать? Никто. Вот и действуй».
Если бы она не умела понимать с полуслова, если бы ее не научили понимать с полуслова в закрытых европейских школах и в восточных женских монастырях – с помощью кнута и плетки, без всяких там ложных пряников, – она бы никогда не заняла и уж наверняка не удержала бы свой пост. Теперь ей предстояло вспомнить уроки истории. В памяти всплывала картина Эдварда Мунка «Убийство Марата» – девочка в спальне великого человека и гражданина с окровавленным ножом. Нет, это вряд ли ей подходит. С «великими» гражданами города у нее сейчас полный порядок, ликвидировать их таким варварским способом не стоит, они могут пригодиться в ближайшее время. Подготовить зомбированных воинов и направить их карающую руку было достаточно просто. Она уже дала задание подготовить пару-тройку молодых, физически сильных ребят, отобранных для этой цели еще несколько лет назад. Вот только на кого бы направить меч правосудия «Жизни»?
Ей нужно было подумать или, может быть, не подумать, а заняться чем-то вроде медитации, чтобы решение всплыло само собой. Но, несмотря на железную свою волю и выдержку, несмотря на то, что ее сан предполагал более высокую ступеньку развития, у Людмилы был один недостаток, о котором она предпочитала не рассказывать никому. Вместе с духовным компонентом в ее человеческом устройстве также силен был компонент инстинктивный, физический. Она частенько чувствовала себя попом, которому нужно отпевать покойника, а он смотрит на молоденькую внучку усопшего и чувствует приближение эрекции.
Время от времени ей был необходим мужчина. В молодости, будучи еще неопытной девушкой, она маялась в такие периоды: то принималась плакать навзрыд, то хохотала до изнеможения, то пластом лежала несколько дней. Затем, сообразив, «откуда ветер дует», она нашла для себя великолепный источник плотских утех – университетское общежитие для иностранцев. Быстро освоившись среди арабов и кубинцев, она заглядывала к ним в гости, как только чувствовала наступление «кризиса», и раньше чем через три дня домой не возвращалась.
Теперь же, уже воспитав железную волю и взрастив чувство собственного достоинства, расширив границы обыденного мышления до пределов нестандартного, возвысившись над толпой, она все-таки нет-нет да и попадала в сети своих животных инстинктов. И ничего с этим поделать было нельзя. Все женщины, состоявшие в обществе, в определенный момент должны были продемонстрировать способность легко и просто вступать в близость с любым мужчиной по заданию учителей. Но распутство, не подчиненное воле, при котором человек терял голову, было недопустимо. Считалось, что пристрастие к сексу, наркотикам, алкоголю – самая вредная штука для членов общества. Человек должен контролировать себя, а не подчиняться какой-либо страсти. В принципе, алкоголь и наркотики, так же как любые сексуальные оргии, могли иметь место, если только они использовались при выполнении заданий общества. Поэтому лет восемь назад Людмила активно участвовала в такого рода заданиях. Однако повышение в должности заставило ее быть осторожней. Она опасалась, что кто-нибудь заметит ее рвение в делах подобного рода.
Теперь ей нужно было думать о задании руководства, а она сидела и как полная идиотка вспоминала Феликса. Давно не залетали к ним такие птички. А дар какой! Ясно, что надолго он у них не задержится – пойдет на повышение. Его способности будут использованы в мировом масштабе: может быть, на встречах политиков или во время международных шахматных турниров, или при запуске космических кораблей.
Человек, обладающий такими способностями, в организации незаменим. Один из таких молодцев, она слышала, был когда-то запрограммирован на уничтожение атомной станции в Чернобыле. Потом это назвали ошибкой, сбоем человеческого фактора. И так каждый раз, когда вмешивалась организация. Она видела их человека много позже, в больнице, когда он умирал от рака. К сожалению, он не точно выполнил инструкции, иначе остался бы жив. В последнее время Восточный филиал много работал в Казахстане, на Байконуре. Этого ей не сообщали официально, но сводки новостей об участившихся падениях ракет говорили сами за себя. Она смотрела на мир глазами организации и видела, как много работают их люди, видела, что они повсюду, видела, насколько велико их влияние на политику и экономику всех стран мира.
Но вот на Феликса она смотрела глазами обыкновенной бабы, тупой бабы, в утробе которой вдруг разгорелся пожар. Вот так. Можно править миром сколько угодно, а твои физиологические потребности будут управлять тобой.
Когда напряжение достигло критической отметки, Людмила собралась и поехала к Феликсу.
Дома у него было как в театре: иконы, кадильницы, свечи, драпировки на стенах. Смешная карикатура на церковь. Плохая декорация. Организация никогда не прибегала к дешевой атрибутике. Для того чтобы завладеть человеческим сознанием, есть масса других методов.
– Чай? Кофе? – спросил Феликс.
– Я принесла свой. Пью только тибетский.
Они сидели перед маленьким круглым столом, вдыхая аромат дымящегося чая. Людмила жадно смотрела на Феликса. Ее нетерпение возрастало с каждой минутой, но он почему-то медлил, рассказывал о доме, о том, как собирался в монастырь в юности.
– Остынет! – Слишком требовательно, может быть, прозвучало это слово, слишком настойчиво.
– Вы пришли по делу?
– Это подождет.
– Отчего же?
– Да пейте же чай, потом поговорим!
Он целую вечность смотрел в чашку, вертел ее в руках и вдруг неожиданно поставил на столик. Людмила скрипнула зубами.
– Это ведь не просто чай?
– Не все ли вам равно?
– Я хочу понять вас без этого. Мне нравится все, что вы делаете, честное слово – нравится, я и так – с вами. Мне не нужен дополнительный стимул для этого, – он кивнул в сторону чашки. – Кстати, что это за вещество?
– Новое синтетическое средство. Изобрели в Канадском отделении. Никакого привыкания, никакого постэффекта. Расширяет границы сознания на время.
– А в это время…
– Можно закладывать программу.
– Здорово. Хотя так я себе приблизительно все и представлял. Можете говорить со мной прямо… без чая. Я ваш. И потом, я столько повидал в жизни, что вы вряд ли меня чем-то удивите.
«Глупенький, – подумала она, – а то я про твое дешевое воровское прошлое не знаю! Знал бы ты, чем занимаются наши люди из окружения президента! Повидал он там что-то! Смешно».
Людмила сделала маленький глоток и принялась медленно раздеваться. Клубный стриптиз по сравнению с тем, как это проделала она, казался жалким. В полумраке комнаты безукоризненные формы ее тела светились, как розовый мрамор. Она протянула руку слегка вперед и позвала:
– Ну же!
Феликс прикрыл глаза, чувствуя, как кровь разгоняется по жилам, но круговорот ее работает вхолостую, не в состоянии возвратить ему утраченную мужскую силу. Он вздохнул и посмотрел на свою гостью. В ее позе слились и мольба, и приказ. Она была и рабыней, и царицей одновременно. И кто знает, не означал бы его отказ немедленной смертной казни?
Он подошел к Людмиле, поднял ее на руки и отнес в соседнюю комнату, опустил на старую медвежью шкуру. Она закрыла глаза и изогнулась ему навстречу. Он сел рядом и, путешествуя ладонями по ее атласной коже, принялся тихо рассказывать старую, глупую историю с Катей Бурановой. Ему приходилось «обслуживать» даму, которая вызывала у него лишь омерзение. Ему приходилось делать себе каждый раз инъекции перед этим, чтобы быть мужчиной. Всего пять уколов, он помнит. А потом никакие уколы больше не помогали. Мужская сила, выплеснутая целиком с нелюбимой женщиной, никогда больше не возвращалась. Ему приходилось избегать женщин…
Людмила вскочила как ошпаренная, закрыла руками грудь. Единственным желанием ее было убраться отсюда поскорее. Она заглянула ему в глаза, потому что еще не верила, не хотела верить, не могла поверить, пребывая в состоянии такого тяжелого опьянения от его ласк. Она заглянула ему в глаза и провалилась в медовый рай удовлетворения всех желаний. Всех на свете желаний.
Через полчаса она, удовлетворенная и успокоенная, закутанная в его теплый махровый халат, лежала с ним рядом на кровати и курила.
– Ты бесценный человек для нас, – говорила она смеясь, – ну и для меня тоже, разумеется. Не буду тебя рекламировать слишком, не то заберут куда-нибудь в Москву или в Нью-Йорк. Ты хочешь в Нью-Йорк?
Она спросила это в шутку, но он почему-то промолчал, задумался.
– Что с тобой?
– Сейчас я бы не отказался оказаться где-нибудь далеко-далеко.
– Почему?
Феликс рассказал ей про свой последний визит в привокзальный дом, про цыганку.
– И ты веришь?
– Это почти совпадает с текстом манускрипта.
– Ах, того самого… Он еще жив у тебя?
– Да. Хочешь посмотреть?
– Нет, подожди. Так у тебя есть дочь?
Феликс снова принялся рассказывать о матери, о Норе, о дочери, так странно появившейся на свет. И главное, о том, как он пытался подойти к ней в парке.
– И только поэтому ты готов бежать на край света?
– Да мне, собственно, ненадолго. Осенью ей исполнится восемнадцать, и все. Полгода осталось.
– Ты сумасшедший. Прощаешь врага своего как добропорядочный христианин, бежишь от сопливой девчонки. Вот что значит – непосвященный.
– О чем ты?
– Перед тем как принять в свою организацию нового члена, мы обязаны начисто вытравить из его головы ту мораль, которой его пичкали с детства. Иначе он не справится с задачей влияния. На все будет смотреть с колокольни церковных догм. Как ты, например. Тебе тоже не мешало бы освоить первую ступень и хорошенько прополоскать мозги. Обязательно отправлю тебя потом на курсы…
– Потом?
– Сначала запустим воинов.
– О чем ты?
– Проверим воинов в деле. Ты поможешь нам, я помогу тебе. Запиши мне, пожалуйста, адресок твоей Норы. Я так понимаю, это самое слабое звено в прочной цепи твоих врагов?
– Что ты собираешься сделать?
– Посмотрим сначала, что там за люди. Но организация борется со своими врагами вплоть до полного их физического уничтожения, запомни.
У Феликса по спине побежали мурашки. Эта женщина была намного сильнее его. То, на что он никак не мог решиться долгие годы, было для нее делом как будто обычным. У нее не было внутренних барьеров. Может быть, действительно старая привычка все мерить поповскими догмами мешает ему?
– Что с тобой? – спросила Людмила надменно. – У тебя похолодели руки. В тебе снова проснулся монах? Поздно, дорогой мой, слишком поздно. Советую тебе придушить этого монаха. Души его и запивай этот процесс моим чаем, хорошо? А потом я отправлю тебя на курсы…
Феликс стал активным членом организации. Он побывал на каких-то процедурах, на лекциях, приправленных, разумеется, чаепитием, занимался с инструктором. Его готовили для работы целый месяц. Инструкции были жесткими, четкими, не допускающими ни импровизации, ни каких-либо отступлений.
Он должен был приехать по указанному адресу, войти в зал по билету, который ему должны были выдать лишь в день операции, занять свое место и ровно через полчаса после начала обратиться к соседу справа с вопросом: «Вы здесь впервые?» Потом воздействовать на него взглядом около минуты, затем подняться и, стараясь не привлекать внимания, выйти из зала.
Из болтовни Людмилы Феликс знал, что ребят, которые окажутся его соседями по залу, готовят на роль воинов. Что это могло означать? Может быть, слово «воин» употреблялось в переносном смысле?
В четверг утром ему привезли три билета в три разных Дома культуры. Один из них был на пятницу, а перерыв между двумя первыми составлял четыре часа. Плотный график.
В первом зале ему показалось, что он попал на богомолье. Несколько молодых людей с безумными глазами, бабки в черных платочках, мужчины среднего возраста с оранжевыми повязками и отмороженными взглядами. Народ жужжал словно улей, яблоку упасть было негде.
В зале соседом Феликса справа оказался молодой человек лет восемнадцати с мутными глазами. Он поворачивал голову то вправо, то влево, но, похоже, ничего происходящего вокруг то ли не видел, то ли не понимал. Свет погас, и на сцене появилась пожилая женщина. Поговорила немного о том, какие недобрые люди попадаются человеку на жизненном пути, о сглазе, о хитрых соперницах, о болезнях, которые наводят на человека темные силы недругов. Потом на сцену к ней повалили люди, она размахивала над ними руками, силясь разогнать злые чары. Бабушка была настолько маленькая, слабенькая и безответная, что у Феликса шевельнулось чувство жалости: кто знает, что этот воин с бессмысленным взглядом способен с ней сотворить. Он посмотрел на часы, до назначенного срока оставалось пять минут.
– Эй, – толкнул он тихонечко парня в бок, – слышишь меня?
Но тот ничего не слышал и ничего не видел. Какой смысл говорить ему что-нибудь? Он ведь ни на что не реагирует! Феликс еще пару раз толкнул его в бок: один раз осторожно, другой – сильно. Но парень, как завороженный, смотрел вперед на сцену и ни на что больше не обращал внимания.
– Вы здесь впервые? – спросил Феликс, когда подошло время, и, пригнувшись, направился к проходу.
Он был совершенно уверен, что ничего не произойдет, но на всякий случай оглянулся на своего соседа. Ему показалось, что лицо парня точно свело судорогой и еще что у него на лице блестят капельки пота.
В последний раз он оглянулся, стоя у входной двери. Место, где только что сидел молодой человек, было пусто. Феликс успел разглядеть, как он медленной, неуверенной походкой движется к сцене.
– Выйти хотели, так выходите, – сказала Феликсу женщина, сидящая у двери.
– Сейчас, сейчас…
– Вам нужно идти. – Женщина настойчиво потянула Феликса за рукав, и он вдруг понял, что не один здесь из организации, что, возможно, в зале сейчас много их народа и все наблюдают друг за другом.
– Извините, – пробормотал он и быстро вышел из зала.
Получая номерок в гардеробе, Феликс прислушивался к шуму, доносящемуся из-за закрытых дверей. А когда уходил, ему почудилось, что за спиной начинается страшный переполох: крики, визг. Феликс на улице сел в автобус, даже не взглянув на его номер.
Второй зал был другим, но и здесь занимались все тем же: говорили о здоровье, делали какие-то бессмысленные движения. Его сосед слева был похож на молодого человека из предыдущего зала как две капли воды: тоже лет восемнадцать, невидящий взгляд. Но мужчина на сцене Феликсу почему-то очень не понравился, не понравилась и молитвенная тишина в зале, и внимание, с которым люди ловили каждое его слово, повторяли каждое движение. Взгляд мужчины скользнул по залу и, как показалось Феликсу, на несколько секунд задержался на его лице. По спине пробежали мурашки. У Феликса возникло ощущение, что мужчина не только разглядел его, но и понял, зачем он здесь. Понял и не испугался, поглядывая периодически в сторону Феликса.
Минут пять Феликс пребывал в ступоре. Но потом вспомнил, что, когда работал с Бурановой, стоял как-то за кулисами и смотрел в темный зал с освещенной сцены. Зал выглядел черной пропастью. Куда там в этой пропасти разглядеть чье-то лицо, даже контуров людей в первом ряду разглядеть невозможно. «Нет, он не мог ни разглядеть, ни тем более разгадать меня», – убеждал себя Феликс, с нетерпением посматривая на часы.
В назначенное время он снова посмотрел на сцену, и ему показалось, что мужчина усмехнулся и взглянул прямо ему в глаза. Феликс медлил. Время шло. Мысль о том, что в зале обязательно находится кто-то из организации, чтобы контролировать происходящее, приводила его в ужас. От напряжения ноги свело судорогой, и Феликс никак не мог встать. Поднявшись наконец, он, проходя мимо соседа справа, скороговоркой произнес: «Вы здесь впервые» – и тут же был отброшен молодым человеком обратно, на свое место.
Парень, слегка покачиваясь, быстро двигался к сцене, и все взгляды были устремлены на него. Феликс испугался, что, если встанет и пойдет к двери, это тоже покажется людям странным, и его уход обязательно свяжут с подозрительным молодым человеком. Он вцепился в подлокотники кресла и подался вперед.
Парень поднимался по ступенькам прямо на сцену, в руке его заблестело лезвие ножа. Кто-то уже увидел это, кто-то что-то выкрикивал, мужчина повернулся к молодому человеку, но тут маленькая женщина, стоявшая рядом со сценой, поднялась за парнем по ступенькам и повисла у него на руке, в которой блестела смерть.
Феликс закрыл было глаза, но тут же открыл, услышав стук выпавшего ножа, радостные крики людей. Подбежавшие мужчины уводили парня, зал, переживший шок, ликовал. «Мы продолжаем нашу работу», – сказал мужчина через несколько минут и снова пристально посмотрел в зал на Феликса.
Выбравшись из зала после окончания сеанса, Феликс еще некоторое время бродил по улицам, прежде чем к нему вернулась способность обдумать происшедшее. Он чуть было не стал свидетелем убийства, запланированного организацией. Причем, насколько он понял, в этом убийстве не было никакой необходимости, оно было, так сказать, чистым экспериментом. Когда он добрался до дома, в голове у него была полная сумятица. Включив свет, он чуть было не вскрикнул, увидев в кресле Людмилу.
– Извини, я, кажется, задремала, – сказала она, зевая сладко, как кошка.
– Ты давно здесь?
– У-у-у… – протянула она, словно вспоминая. – С тех пор, как получила последние известия.
– Значит, ты все знаешь?
– Я всегда все знаю. У меня работа такая – все знать.
– Парня схватили…
– Ты не должен был оставаться в зале. Это первое. Но второе – ты молодец, уж коли так получилось, ты повел себя правильно. Никогда не нужно привлекать к себе внимание.
– Он сознается.
– Конечно. Обязательно сознается. Это тоже часть плана.
– Он назовет твое имя. Опознает меня.
– Глупости. Неужели ты думаешь, что мы такие идиоты?
– Но ты ведь сама сказала…
– Милый мой, – Людмила потянула его за руку и усадила на подлокотник своего кресла. – Видишь ли, я пришла вовсе не за тем, чтобы что-то тебе объяснять. Ты мне нужен… – Она глубоко заглянула ему в глаза, и в глазах ее промелькнула оранжевая искорка похоти. – Ну, уж коли ты в таком состоянии, придется тебя успокоить. Завтра станет известно, что попытки покушения на трех известных целителей…
– На двух…
– Завтра, говорю я тебе, – а завтра таких попыток будет уже три. Так вот, что все это дело рук фанатиков из Белого братства. Что смотришь? Да, да, того самого, руководителей которого сейчас отдали под суд.
– Неужели эти ребята добровольно пойдут в тюрьму?
– Куда-куда? О чем ты говоришь? Власти будут счастливы, что найдены неопровержимые доказательства: члены Белого братства опасны для общества. Руководство секты засудят, а с мальчиков возьмут подписку о невыезде. Потом, конечно, будет суд, но наш адвокат докажет, что дети стали жертвами подлых людей, дети были превращены в зомби и действовали против своей воли. В результате они если и получат год, то и тот условно.
– Но ведь Братство заявит, что оно никакого отношения к этому не имеет.
Людмила подняла бровь.
– Вообще-то ты не имеешь права знать какие-либо подробности. Но поскольку ты никак не можешь успокоиться – а мне это необходимо! – скажу тебе, что в списках организации, найденных на одной из конспиративных квартир, найдут дня через три фамилии мальчиков. Они вступили в Братство месяц назад. Естественно, по заданию нашей организации. А теперь, – она встала и потянула его в соседнюю комнату, – не будешь ли ты так любезен…
Через час они снова сидели за столом, и Людмила с удовольствием потягивала чай. Не свой, а настоящий чай с мятой, который приготовил для нее Феликс.
– Никогда бы не подумала, что гипноз с массажем могут заменить все радости этого мира. Ты неподражаем.
Феликс слабо улыбнулся ей.
– Бабка-то тоже жива?
– Божий одуванчик? – прыснула Людмила. – Там такой одуванчик! Не успел наш вояка подняться на сцену с кинжалом, как из-за кулис вылетели три здоровенных амбала и скрутили его в бараний рог. Бабушка даже заметить ничего не успела…
– И все-таки почему же не сработала подготовка?
– Нормальному человеку трудно решиться на убийство, – презрительно сказала Людмила. – Здесь какая-то внутренняя преграда. Да, программу выполняет. Но как робот – без всяких чувств, неубедительно, а потому вяло. Мотивация должна быть значительно выше. Или…
– Что – или?
– Или человек должен быть не совсем нормальным.
– То есть?
– Либо должен иметь склонность к садизму, либо не должен соображать, что делает. Замечательно подходят те, кто побывал в горячих точках, на линии огня. Кстати, если тебя интересуют сообщения в завтрашней прессе, покупай только «Санкт-Петербургские ведомости».
– Почему?
– Другие газеты ничего не сообщат о случившемся…
– Откуда ты… – Он осекся, ответив себе ее же словами: – «Работа у меня такая».
Он выполнил задание строго по инструкции и вышел из зала, не дожидаясь развязки, а на следующий день скупил все газеты у лоточника. Людмила оказалась права. Никто не написал ни строчки о странных происшествиях, за исключением «Ведомостей». «Черные дела Белого братства», – гласил заголовок. «В течение двух последних дней членами Белого братства совершено несколько покушений на жизнь известных целителей нашего города… Молодые люди, находясь под воздействием наркотического опьянения…» Феликс неожиданно почувствовал, что у него развязаны руки.
Боже мой, какое сладкое чувство – безнаказанность. Нужно только прибрать к рукам эту похотливую куклу с оранжевыми брызгами в глазах. Но ведь она сама придет к нему. Скоро придет. Она теперь совсем не может без него.
11 (Феликс)
После неудавшейся операции с целителями Феликс проявлял в организации необыкновенную активность. Он знал, что Людмила познакомилась с Норой, но считал, что она слишком медлит. К тому же Людмила не очень-то верила в историю с предсказанием, даже подшучивала над Феликсом.
А он с приближением восемнадцатилетия дочери спал все хуже и хуже, а к концу весны и вовсе сон потерял. К Феликсу теперь снова заходили люди. Но уже не пожилые просители – люди среднего возраста. Он организовал у себя что-то вроде Людмилиных семинаров, вербовал в организацию. Впрочем, вербовал – это совсем не то, что происходило. Ловил. Чувствовал себя апостолом – ловцом душ человеческих.
По вечерам горели в комнате свечи, его «прихожане» рассаживались в кружок по-турецки, пили чай, которым его снабжала Людмила, и, раскачиваясь из стороны в сторону, повторяли за ним всякую абракадабру. Очищение, то есть зачистка сознания от всех моральных норм, навязанных обществом, совершалась с трудом. «Учись!» – говорила Людмила и носила ему книги и инструкции.
Любой из членов небольшой группы Феликса вполне мог бы совершить любой антисоциальный поступок, еще проще было для человека окунуться в разгул, в разврат, но вот убить… Как только он отдаленно подходил к этой теме, на лицах возникало напряжение, лица становились отстраненными, шло сопротивление. А значит, если и заставить такого человека взять в руки оружие, он его обязательно выронит у самой цели. А это было недопустимо. Феликсу нужно было непременно расправиться с девчонкой. Он даже мысленно не называл это чудовище дочерью…
И вот летом ему повезло. Еще зимой Людмила подарила ему крепких трехмесячных щенков добермана. К лету собаки выросли и с утра до вечера рыскали по участку. Как-то раз, когда его группа впала в полное оцепенение, звери захлебнулись лаем, что могло означать только одно – чужой на территории.
Два подростка, шаря фонариком по земле, шли в сторону шоссе. Вдоль их пути вилась сетка забора, над которой ощетинилась в три ряда колючая проволока. Один из мальчиков ухватился за сетку и попробовал влезть на забор. Второй таращил глаза и направлял фонарик на случайного товарища. Его ждали дома, он все время помнил об этом. И помнил о пиве, которое попробовал впервые. С непривычки кружилась голова. Пытаясь отделаться от противного запаха, мальчик срывал и тщательно разжевывал веточки полыни.
– Куда ты?
Он спросил сначала шутя, но все-таки несколько нервно. Остаться одному в кромешной темноте было жутковато. Место было глухое, участки огромные, заросшие, домов не видно.
Сегодня после обеда старшая сестра посмеялась над ним, и он был взбешен и унижен, он все на свете отдал бы за то, чтобы она наконец заткнулась. Ему хотелось отомстить. Пусть они катятся ко всем чертям! Он вполне может обойтись и без них. И тогда он сбежал на озеро.
Белобрысый парнишка лежал на гальке, потягивал пиво и смотрел на Колю. Сначала он показался Коле ровесником, только позже, приглядевшись к белому пушку, покрывающему его щеки и все тело, Коля понял, что парнишка-то намного старше. Хотя на вид… Похоже, он недоразвитый или псих. Или – и то и другое.
– Хочешь пива? – спросил парнишка.
И Коля, вспомнив дуру-сестру, отчаянно протянул руку за бутылкой. Потом они распили еще одну бутылку, как взрослые. Парень что-то говорил. Много нецензурщины. И какой-то особенно мерзкой. Сначала Коля смеялся зло, но потом стало противно. Пора было возвращаться. Белую ночь затянули тучи. Хорошо, что он прихватил с собой фонарик. И все-таки этот парень – малость того…
Парень тем временем ловко пролез между рядами колючей проволоки и спрыгнул на землю по ту сторону забора.
– Айда за мной!..
– Нет уж. – Коле разом надоело и мстить сестре, и корчить из себя взрослого.
Похоже, это отвратительное занятие – быть взрослым. Он погасил фонарик и потихоньку сбежал. В спину ему сначала неслась гнусная брань, потом захлебывающийся собачий лай, а когда впереди уже замигали огни шоссе и до дачи осталось рукой подать, его нагнал душераздирающий крик, бесспорно, невменяемого существа.
Крик его резко оборвался, когда в глаза ударил мощный фонарь.
– Тихо. – Человек стоял в пяти шагах от него, но казалось, шептал ему в самое ухо. – Ты-то мне и нужен. Иди же, чего стоишь. За мной, в дом.
Страх парализовал тело, но ноги сами собой двигались навстречу бородатому призраку. В голове стоял сплошной туман. Мир, и так немного перекошенный, совершенно утратил свои привычные очертания. Вокруг разверзлась пустота, черная бездонная пустота, и в ней единственный островок привычного, единственная цель – этот бородатый человек. Цель эта вспыхнула голубым огнем счастья. Показалось счастьем – идти за ним, делать, что он велит. Среди черноты, поглотившей их, ему мерещились лица людей, лица с одинаковым выражением, нацеленные куда-то в пространство, как лисьи морды, со сведенными бровями и напряженными ртами. И свечи – целое море свечей…
На следующий день Коля, пережив накануне очистительную бурю слез, когда мама сначала бранилась, а потом вдруг прижала к себе и тоже заплакала, пережив неприятный разговор с отцом, закончившийся сильным мужским рукопожатием, уже снова послушным мальчиком вместе с семьей, то есть с бабушкой в смешной панамке с кошелками, полными снеди, и с сестрой, играющей ракеткой для бадминтона, пришел на озеро.
Взгляд его блуждал среди людей в поисках вчерашнего своего знакомца. Его не было, но тревога не проходила, а усиливалась. Приятель бабушки, хозяин дачи, которую они снимали, как всегда, травил байки про здешние места, про войну, словно помнил каждую сосенку сызмальства, говорил о ней, как о собственной дочери. Коля впервые прислушался к его нескончаемым речам, но его томило другое.
– А кто живет там у озера, где все заросло, как в лесу? – спросил он.
– Надеешься, спящая царевна? – бросила сестра, поправляя лямку купальника.
– Там? – Брови старика сошлись на переносице. – Там раньше жил генерал, наезжал иногда, привозили его в машине. Потом, видать, помер, все дочери ездили. А теперь продали дом. И поселился там поп-расстрига.
– А что такое расстрига? – спросил Коля.
– Ненастоящий, значит. Не от церкви. Из церкви его, говорят, выперли. А он теперь здесь что-то вроде собственной церкви устроил.
– А если он не от церкви, то от кого? – спросил Коля с опаской.
– Вот и думай сам, от кого, – ответил старик. – Обходил бы ты стороной это место. Сам за версту обхожу и всем советую.
Он повернулся к бабушке, что означало: карты – разговор окончен. Бабушка отложила в сторону вязание и достала из холщового мешочка карты с черными рубашками. А Коля все сидел и думал: что же такое сделал этот поп, что его расстригли?..
Сначала Феликс хотел выпроводить мальчика. И вдруг, присмотревшись, подумал: а если это именно то, что он искал? Человек, на первый взгляд казавшийся мальчиком, имел строение взрослого мужчины. Да и волосы, густо растущие по всему телу, выдавали его возраст. Он смотрел на Феликса и улыбался бессмысленной улыбкой, которая искривлялась временами в злую усмешку.
Феликс провел странного человека через комнату и запер в спальне, приказав сидеть тихо. Когда все разошлись, Феликс выпустил его из комнаты и долго разглядывал: экий уродец. Нет, чай ему может только повредить. Нужно попробовать управиться своими силами.
Уродец оказался материалом пластичным, послушным, лишенным всяческих тормозов. Мораль была ему неведома. То есть в умишке кое-что застряло, но вот если отключить его, оставался белый лист, без всяких вкраплений.
Достать «хлопушку» оказалось делом нелегким. Сначала Феликс обратился к привокзальным, но те даже слышать о таком не хотели. Потом нашел Генку, тот был на все руки, он и дал наводку, но предупредил, что, во-первых, дорого, а во-вторых – люди серьезные. Если Феликс попробует с ними свои штучки – пришьют тут же.
Цена оказалась действительно заоблачной. Но для Феликса теперь были открыты двери солидных банков. Карточка, выданная ему Людмилой после работы с «воинами», вмещала нужную сумму, и не только ее. Организация была богатая.
«Хлопушку» Феликс купил. Несколько дней катал уродца в машине, чтобы тот привык к заданию, чтобы программа уложилась. Несколько дней ждал. И вот, наконец…
Они вышли из дома вдвоем: отец и дочь. То есть – какой он ей, собственно, отец? Но шли к машине как родные. Она висла у него на локте. Улыбалась… Выйти и сказать им. Вылить лохань помоев в их розовый рай. Нет, не пройдет. Не поверят. А если и поверят, то потом подметут, уберут и скажут, что так и было. Скажут друг другу, что приснился им чумной мужик, и будут жить дальше припеваючи.
Нет, за мамину несложившуюся жизнь, за то, что Феликс не в монастыре дни коротал, а в привокзальном притоне, за жизнь свою, которая только-только начала входить в нужное русло, за все заплатите, голубки…
У Гостиного Феликс остановился за их машиной. Удача. Сомнений как не бывало. Только жгучий интерес – как это оно все случится? Уродец сидел с остекленевшим взором рядом с ним. «Пора!» – шепнул ему Феликс, завидев, как отец и дочь вышли из магазина с коробкой. Мальчишка выскочил, наклонился – хлоп! – посадил хлопушку на задний бампер, двинулся дальше по улице.
Они еще не подошли, как, заслышав непонятный звук, зашевелился шофер. Феликс вырулил мимо, поймал его взгляд. «Сиди тихо!» – приказал мысленно. Парень растерянно захлопал глазами. Феликс видел в заднее зеркальце, как девчонка села назад, посмотрел на часы, усмехнулся. Но тут… Что такое? Выпорхнула, дура. Рот руками зажала – и за угол. Вместе с отцом.
Взрыв застал его врасплох. Машину слегка подбросило, вылетели стекла, потом она загорелась. Водитель остался внутри… Что? Что же случилось? Отъехав два квартала, Феликс почувствовал, что не в силах больше вести машину.
Теперь девочка казалась ему настоящим чудовищем – неуловимым и неуязвимым. Она все поняла. Поэтому и выбежала из машины. И отца за собой уволокла. Она все знала. Феликс сидел не двигаясь, пытаясь отогнать назойливую мысль: теперь она легко может найти его, если захочет. Как собака – по ей одному ведомому следу. Все расскажет отцу, и тот найдет его. И тогда…
Домой он вернулся в состоянии, близком к истерике. Включил свет и чуть не вскрикнул. Людмила стояла у стены, скрестив руки.
– Где ты был?
В организации все следили друг за другом. Он не стал запираться и рассказал ей обо всем, что случилось. Об уродце, попавшем в его руки, о взрыве.
– Не мог подождать? Что за самодеятельность? – Гнев ее постепенно поутих.
– А чего мне ждать? Не я ее – так она меня. Тебе-то, похоже, все равно!
Людмила усмехнулась.
– Мне не все равно, что ты чуть не угробил ее отца.
– Ах, вот как!..
– Вот так, – оборвала его Людмила. – Ты чуть не лишил организацию двухсот тысяч долларов наличными.
– Значит, Нора тебе – вот для чего?
– Не волнуйся. Твое дельце я тоже улажу, В принципе, и его можешь забрать себе. Но не раньше, чем он выложит мне все свои сбережения. Он или Нора. Ясно?
– Ясно. Когда? – спросил Феликс хрипло.
– Через неделю. Я пошлю туда надежного человека.
– И он выронит оружие у подъезда? – усмехнулся Феликс.
Людмила подняла брови.
– Неужели ты думаешь, что в организации действуют лишь обработанные слабаки? Нет, есть люди и убежденные. Это вторая ступень. Они за нас – в огонь и в воду.
«Я ничего не понял, – рассказывал Людмиле через неделю надежный человек, – что-то произошло. Она грохнулась на пол в тот момент, когда я нажал на курок. Потом выбежала охрана. Да и инструкции… Я готов исправить…» – «Не стоит. Если девочка действительно настолько чувствительна, – ответила Людмила, – ее лучше оставить… для наших целей. Привези ее ко мне».
Людмила читала отчеты, и все больший интерес вызывала у нее необыкновенная девочка. На школьную экскурсию, которую организовали их люди, девочка сдала деньги, но в последний момент не поехала – заболела. Машину, которая караулила ее после школы, она обходила за три версты. Причем возвращалась, как правило, в последнее время не одна, а в компании одноклассников или с классной руководительницей, живущей по соседству. Пришлось вводить в школьный коллектив новую учительницу, но сколько та ни старалась, Настя уклонялась от дополнительных занятий, кружка художественной литературы, «огоньков» с чаепитиями. Она, как дикий зверь, интуитивно обходила ловушки стороной. Только вот интуитивно ли?
Нора то ли плохо знала собственную дочку, то ли никогда не замечала за ней никаких странностей, но от нее Людмиле не удалось узнать чего-нибудь существенного, и она отправилась в школу посмотреть на девочку… Настя шла по длинному школьному коридору. Людмила шла ей навстречу. Они скрестили взгляды, как шпаги. Но Настя опустила голову и прошла мимо. Людмила осталась стоять как вкопанная. Во взгляде девочки, сначала абсолютно равнодушном, она затем прочитала… жалость. «С чего бы ей меня жалеть?» – подумала Людмила. И еще она подумала, что жалость эта была похожа не на жалость к брошенной собачке, а на ту, напоминающую скорбь, что на похоронах… «Глаз с нее не спускать, – приказала она своим людям. – Как только улучите момент – ко мне немедленно. В любое время суток!»
ЧАСТЬ 3
«…выискивать не АД уже, но ДА —
нащупывать свой выхОД в никогДА.»
И. Бродский
1 (Андрей)
Андрей Шепелев всегда подавал большие надежды. И в школе, и в институте. Школу окончил с серебряной медалью, институт с красным дипломом. А перед самыми экзаменами в аспирантуру попал в больницу с аппендицитом. Нужно было подождать год. А значит – устроиться на работу. Три месяца бесплодных поисков поставили его в тупик. Оказалось, что люди его специальности нужны только в науке, но никак не в обычной жизни. Оказалось, что с его специальностью денег не заработать. Мама с папой, кандидаты наук той же специальности, получили приглашение на полгода в Англию. Полная невостребованность сына приводила их в отчаяние. Они хотели уехать «со спокойной душой». Андрей объявил им, что устроился в научно-исследовательский институт. По утрам уходил из дома, к вечеру возвращался уставший, плел небылицы и успокаивал родителей.
Когда они наконец уехали, положение ухудшилось. Нужно было как-то зарабатывать деньги. Папа всегда считал, что материальная поддержка только портит детей, поэтому на частые переводы можно было не рассчитывать. Андрей плюнул и пошел работать в милицию. Единственное место, куда его брали охотно. А что? Тоже работа…
Но по привычке еще хотелось блеснуть, показать, что он не такой, как эти кругломордые деревенские парни, что он стоит чего-то большего. Хотелось раскрутить в одиночку сложное и опасное дело. Но первое время как-то не получалось. Кругломордые оказывались проворней.
В свободное время Андрей бесцельно шатался по городу. Друзей у него не было, он ведь столько лет не отрывался от учебников, а пить с коллегами было ниже его достоинства. Хотелось завести подругу, но знакомиться на улице было не в его правилах. И, вздыхая, он смотрел вслед приветливо улыбающимся ему симпатичным девушкам…
Жизнь изменилась с того момента, когда он встретил Петра. Обалденный дядька! Смешной, с лысым черепом, с торчащими ушами, красными по каемочке. А как заговорил, Андрей сразу понял – удивительно образованный, умнейший, интеллигентнейший человек. Одиночество развеялось как дым. Петр пригласил на свои семинары. Что-то такое, связанное с социологией.
Андрей не сразу понял, чем там занимались люди. Однако люди были молодые, увлеченные, девушки – просто чудо, и он с азартом влился в их сплоченный коллектив. Петр проводил «круглые столы» с чаепитиями, высказывал нестандартные взгляды на общество, на взаимоотношения людей. Он не учил жить, он ставил перед фактами, которые казались неопровержимыми. За два месяца работы в организации Андрей сильно изменился. Свое высокомерие по отношению к коллегам он теперь маскировал под самую искреннюю дружбу и хихикал в душе…
Вскоре Петр доверил ему ответственное задание. Нужно было с помощью своих милицейских каналов раскопать, чем занимается некий Дмитрий Серов. Нелады этого типа с законом он обнаружил сразу: мужик оказался хозяином подпольного водочного заводика.
«Это еще ерунда, – предупредил Петр, – крути дальше. Но своих пока в известность не ставь…» Еще бы! Как будто Андрей не понимал. Этим только скажи – завтра же отстранят, сами за звездочками погонятся. Нет, расскажет он им только тогда, когда раскопает все до конца. Когда на руках будут неопровержимые факты, улики, документы.
На каком-то этапе этой возни он засек до того интересную девочку, что воображение разыгралось, как рыба на нересте. Сначала, как повелось, рассказал о ней Петру. Тот дал команду понаблюдать за ней. Но чем больше Андрей наблюдал, тем жарче разгоралось пламя в его груди. Подумать только, такая красотка – и у него в руках.
Познакомиться с ней оказалось – раз плюнуть. Подсел в кафе, пустил в ход все наработанные на семинарах Петра штучки, а она возьми и растай. Домой привела – ну и все, что к этому полагается. А потом, после их первой бурной ночи, что-то в нем щелкнуло, он как с ума сошел. Да какая ему разница, что такая девчонка с бандитами крутится. Нравится ей – пусть крутится. Он ведь не жениться собрался. Да и ментура эта, что она ему – дом родной? Он там человек случайный. Долг? Какой долг? Нету у него никаких долгов. Это они ему зарплату за два месяца задолжали. Платили бы исправно, может, и разгорелся бы у него какой «производственный патриотизм». Только вот Петр… Но ведь и он не Господь Бог. Не узнает.
Теперь он днем и ночью ее видел как наяву. Заклинило. Лариска, Лариска. Как песенка. А она легкая была, как перышко. Девчонки, они обычно вязкие, нудные и все замуж хотят. А чтобы просто наслаждаться жизнью – это им не дано. И от каждой жди обязательно скандала – ах, я, кажется, беременна. Нет, его Лариска была не такая. Она славная, позвонишь ей – прибежит. И веселая, все хохочет. А как дело до постели доходит, не успеешь оглянуться – она уже обогнала и первая. На прощание чмокнула – вот и все дела. Никаких сцен, просьб, обещаний. Прелесть, а не девочка.
Квартирка у нее загляденье. Она ее вроде с подругой делила. Подруга на филологическом училась, писательницей стать мечтала. У нее кипа всяких бумажек там валялась. Лариска читала иногда. Ничего так, интересно, жалостливо. Может, и будет писательницей. Писала, похоже, про Ларису. Потому что иногда слушать было так же легко и радостно, как и спать с ней.
А потом они как-то пили с ней шампанское. Одну бутылку, вторую. А на третьей он и признался, где служит. Сболтнул и чуть со стула не упал. Вырвалось. Съежился. Думал – выгонит, разозлится. А она и ухом не повела. Только сказала: «Правда? Ой как интересно!» Он ей про ментовскую свою жизнь рассказывал, приплел, конечно, чересчур много лишнего. Все байки пересказал, какие на работе слышал – про себя как бы. Испугался снова – заметит, что врет. А она сидит, слушает с широко раскрытыми глазами: «Роман, чистый роман! И главное – современный. Еще рассказывай!»
А в самом конце вечера задумалась о чем-то. То ли из рассказов его что-то ее задело, то ли о своем – он тогда не понял. Только как проснулись утром, она ему все и выдала. Про те дискеты. Говорит, есть замочек, ключика нет. Открыть бы. Кто откроет – может очень даже богатым человеком стать. Не хочешь попробовать?
Не хочешь! Да он только об этом и думал в последнее время. Как бы с кисонькой своей ненаглядной куда-нибудь на острова экзотические махнуть, под пальмы, к морю. И чтобы расхаживала она там без купальника. А он бы пил ее, как «кока-колу», – через каждые четверть часа. Только выходило, что с дискетами им на острова навсегда смотаться придется. Ну навсегда – не навсегда, там видно будет. Жизнь длинная. А авантюрные приключения все лучше, чем двухмесячные задержки зарплаты.
Андрей не узнавал сам себя. Куда делись его принципы, которыми он столько лет гордился? Куда делась высокая нравственность? Впрочем, Петр всегда говорил, что мораль – глупейшее изобретение общества. Так пусть теперь и не обижается. Андрей ходил к нему регулярно, рассказывал о том, как продвигается дело. Петр оставался доволен. Всякий раз, когда Андрей уходил, он улыбался и потирал руки…
Лариса посоветовала ему пристроиться к подруге в заброшенный дом. Потолкаешься, сказала, узнаешь, чем люди дышат, что болтают. Так он стал квартирантом Лю. Жизнь началась – как у разведчика. Лариса ему по ночам между строк вопросики всякие подкидывает, а он их потом задает в удобный момент. Смешно, ей-богу! Только и приятные моменты в такой жизни были. А самое приятное, что они теперь с Ларисой все время обсуждали, как жить будут в теплых краях. Она даже испанский язык учить стала. Пригодится.
Однажды она сказала, что пора. Нужно влезть в один дом и взять дискеты. «Только вряд ли она со мной во второй раз встречаться захочет. Специалист нужен». – «Какой специалист?» – «По кражам. Есть у тебя такой?» – «Попробую отыскать…»
Поговорил со старожилами о том о сем, получил от них наводки кое-какие. Стал человека искать. Да тут как-то вдруг пришел к Ларисе не в урочное время, а у нее мужик. Собственно, мужиком-то его при всем желании не назовешь. Так, сморчок с требухой. Волосенки жидкие распустил по плечам, узкий такой. Андрей его за грудки, а Лариса как топнет, как крикнет. Это, говорит, к подруге человек приходил, да не застал ее дома. «Иди, Стас, он тебя не тронет!»
Тогда-то в первый раз в нем сомнения зародились. А не играет ли с ним его девочка? Может, весь у нее интерес к нему – те дискеты? А как получит то, что хочет, так и пропадет навсегда с его горизонта? С бабой что разговаривать? Соврет – недорого возьмет. Он ее в постель потащил – проверять. А она как всегда – словно он у нее первый за последние десять лет, словно высохла вся, настрадалась одна. А они только вчера валялись на той же постели.
Но что-то такое проснулось в нем тогда, после этого волосатого типа. Легкость, с которой Лариса принимала жизнь, стала удручать. Ведь с такой же легкостью она может принять и другого…
Когда Лариса пропала, он совсем потерял голову. Бегал по городу, искал ее там, где они бывали вдвоем. Потом это приключение с Лю в крысятнике! Может быть, его Лариса уже забрала свои дискеточки и загорает себе в южных краях? При этой мысли сердце его безнадежно замирало.
Поиски его прервал неожиданно Петр. Позвонил, продиктовал адрес, велел срочно приехать. Встретил, провел по дурно пахнущим коридорам морга. Там, в холодильнике, Андрей и нашел свою красавицу с дыркой в прекрасном высоком лбу. Все планы тут же рухнули, будто красавица унесла их с собой. И он поклялся себе ничего не предпринимать. Петр смотрел холодно и странно. «Ты обманул нас…» Рядом как из-под земли возникли ребята, с которыми он так часто спорил на семинарах. Но смотрели на него так, словно в первый раз видели. Дико озираясь, Андрей стал пятиться к стене и повторять бессмысленно: «Ребята, ну что вы… В чем же я…» Кольцо сжималось.
Вскоре из здания морга вышел невысокий мужчина с большими, смешно торчащими ушами.
2 (Слава)
Лариса и Слава все-таки провели ночь вдвоем. Это называется обычно – заниматься любовью. Только даже искры любви не было высечено… Водоворот мелкой страсти и пустота без намека на удовлетворение.
Слава чувствовал себя отвратительно. Зачем он это сделал? Да и он ли? А может быть – она? Все получилось само собой, хотелось бы сказать – естественно, если бы это действительно было естественно. Она тут же уснула, свернувшись на кровати калачиком, дышала легко, неслышно. А он смотрел в потолок и чувствовал себя так, как будто умер. Нужно было придумать какое-нибудь оправдание произошедшему. Но как-то не получалось. От Ларисы веяло мертвым холодом.
Вот если бы на ее месте была хохотушка Мари, она бы сама придумала всему оправдание.
Слава вздрогнул. Он думал о Мари как о живой. Но ведь Мари лежит теперь в земле, и ей нет дела ни до него, ни до своей лучшей подруги.
Странные все-таки это были подруги. Лариса писала стихи, а Мари водилась с бандитами. А если приглядеться, все наоборот. Мари говорила так легко и красиво. Что там она сказала ему на прощание? «Прошлого нет. Прошлое – зола, пепел. Только вот роешься в нем и обжигаешь пальцы…» Может быть, это придумала Лариса? А Мари только повторяла?
Когда уходила, Мари сказала, что теперь точно знает что-то. А потом – про прошлое. Что она имела в виду? Чье прошлое? Его? Конечно – его! Это у него накопилось много пепла. И в нем она обжигала пальцы. Поэтому ее и убили. Стоп! Остановочка. Убил ее не он. Значит, возможны два варианта: этот пепел не из его жизни, а из жизни близкого ей. И второй: если и из его жизни, то кто-то еще очень не хотел, чтобы все вышло наружу. Мари могла повредить кому-то, и в основе всего лежало… Что же? Деньги, конечно. У таких людей не бывает других проблем.
И еще – этот журналист на корабле. Что он раскопал? Может быть, остались какие-нибудь записи, заметки…
Утром Слава позвонил Севе.
– Ну, друг, и втравил же ты меня в историю! – сказал тот хрипло.
– Взаимно, – отозвался Слава. – Мне нужно задать один вопрос боссу.
– Э-э-э… А он не будет возражать?
– Самому интересно.
Дмитрий перезвонил ему в середине дня, когда Лариса принимала душ. Голос был уставший и простуженный.
– Что ты хотел?
– Мне кажется, я нашел зацепку. Но для того, чтобы ею воспользоваться, нужна информация…
– Не тяни.
– В какой газете работал тот журналист с корабля?
На другом конце провода воцарилось молчание.
– В «Спид-инфо», – отозвался наконец Дмитрий.
Конец дня Слава посвятил закупке продуктов для Ларисы, которая по-прежнему отчаянно боялась выходить на улицу, покупке билетов до Москвы и приобретению диктофона…
Утром он уже был в Москве и стоял возле центрального офиса газеты. От куривших у подъезда молодых людей он узнал, что Женька Зыкин работал в отделе писем, около года назад с ним что-то приключилось. Толком никто не помнит, да и, честно говоря, не интересуется, поганый был человек. Правда, осталась его пассия. До сих пор, похоже, по нему сохнет. Может быть, она чем поможет.
Охранник, важно восседавший на своем посту, соединил Славу по телефону с указанной пассией, и та вышла на улицу.
– Я только на минуту, работы много, – сказала она быстро. – У вас есть какая-то информация о нем?
– Есть кое-что, – прищурившись, ответил Слава. – Я веду журналистское расследование по поводу его гибели.
Она разве что не взвизгнула.
– Приходите вечером, часикам к пяти, я обязательно освобожусь, а вы обязательно мне все расскажете.
– Да, – пообещал Слава.
Вечером она говорила так же быстро и бессвязно. Сначала – пока они не спеша продвигались к Ленинградскому вокзалу – о личности Евгения Зыкина и его взаимоотношениях с ней, Викторией. Потом у Славы заболела голова, но он все-таки силился сосредоточиться и выудить из потока ее речи хоть что-нибудь важное для себя. Все, что ему требовалось узнать, прозвучало в заключение ее длинных и сумбурных излияний.
– …когда пришло письмо.
– Одну минуточку, – перебил ее впервые Слава. – Какое письмо, откуда, от кого?
Виктория остановилась и нахмурила бровки.
– Не помню, – сказала она после некоторой паузы. – Оно до сих пор валяется у меня в столе.
«Вот дура!» – выругался про себя Слава и посмотрел на часы. До поезда в Ленинград оставался час, а письмо лежало там, откуда они все время удалялись в потоке пустой болтовни. Он остановил первую же попавшуюся машину и потянул к ней Вику.
– Поехали!
– Куда?
– За письмом. Мне же документы нужны. Разве ты не знаешь, как пишутся такие статьи?
– Нет, я работаю в отделе рекламы, – пропищала она, падая на заднее сиденье.
Слава прочел письмо в поезде и едва сдержал себя, чтобы не рассмеяться. Надо же, какие глупости пишут люди в редакции газет. Глупости и пошлости. Неужели автор действительно пережил все, о чем пишет, и двадцать лет ждал, чтобы рассказать об этом курьезе во всеуслышание? Смешного в истории, конечно, было ровно столько же, сколько и грустного, но вся нелепость этого несчастного случая, а главное, стиль автора письма вызывали только смех.
В вагоне поезда Слава загрустил. Поводов утопить в синем море журналиста, располагающего таким «убийственным» компроматом, он практически не видел. Слава принялся запихивать письмо в конверт и вдруг замер… Город, из которого пришло письмо. Он где-то слышал… Да, Мари говорила! В этом городе она родилась и выросла. Значит, что-то такое здесь есть… Он стал снова перечитывать письмо и вдруг подумал: а ведь у Мари могли быть и другие резоны, когда она выуживала дискеты у журналиста, – никак не касавшиеся ее любви к Дмитрию…
Он вернулся домой, так и не решив, рассказывать Ларисе о письме или нет. Чего она ждет? Она явно все время чего-то ждала. Отсиживалась у него – и ждала. Но чего – он так и не сумел понять.
У общежития было непривычно тихо. Обычно у крыльца возился десяток малышей, а на двух лавочках «загорали» подвыпившие жильцы. Мальчишки крутились вокруг на велосипедах. Сейчас никого не было.
На вахте, как всегда, сидела компания работников быта. Разговор был жаркий. Кто-то увидел Славу, крикнул остальным: «Во!» – все замолчали. Слава остановился. Люди смотрели на него во все глаза.
– Что-то случилось? – спросил он вежливо.
– Ага, – ответили ему радостно. – У нас тут снова стреляют. Вчера вечером здесь милиции было больше, чем жильцов.
– Убили кого-то? – Голос его дрогнул.
– А как же!
Жизнь стремительно свернулась в клубок и зашипела гадюкой. Слава, покачиваясь из стороны в сторону, неуверенно направился к лифту.
Лариса не открыла дверь на стук. Она сидела в углу комнаты, на полу. По распухшему лицу он понял – плакала всю ночь.
– Ты выходила вчера из дома? – ему пришлось повторить свой вопрос и легонько встряхнуть ее, прежде чем она ответила.
– Нет…
Лариса говорила шепотом и косилась на дверь.
– Они нашли меня. Понимаешь? Они ждут. Они никуда не уходят, ни на минуту. Это безумие, но я чувствую, что они достанут меня.
– Кто они?
Славе снова пришлось встряхнуть ее.
– Я не знаю. – Она вскинула на него глаза. Честные глаза. – Ей-богу, не знаю. Господи, да если бы я знала!
– Зачем им ты? Мари – еще понятно. Но ты-то зачем?
Она опустила глаза.
– Не знаю, не знаю, не хочу знать!
Оставшуюся часть вечера они сидели на полу в комнате, не зажигая лампы, повернувшись друг к другу спиной. И каждый думал о своем.
– Расскажи мне о семье Мари, – попросил Слава.
Лариса медленно повернулась к нему.
– Зачем тебе?
– Я собираюсь поехать к ним…
– Нет! – она закричала шепотом. – Не смей! Не вздумай! Они ведь не знают, что Мари умерла. Понимаешь?
– Но ведь узнают когда-нибудь!
– Нет! – У Ларисы начиналась форменная истерика. – У нее отец… болен. Он добрейший человек. Он не переживет. И мать тоже… И ты не смеешь являться к ним и… Ты чужой!
Слава резко отпустил ее, и она сразу же перестала кричать.
– Ты с ума сошла?
– Не твое дело. Это не твоя жизнь, а моя, наша. Я тебе не дам… не позволю… И запомни: это не твое дело!
– Хорошо, – сказал Слава. – Хорошо. Будем считать, что ты высказалась и я тебя понял. Остается малюсенькая деталь: у меня на шее сидит очень серьезный возлюбленный Мари. И если я ничего не узнаю, на моей шее затянется петля…
– Он этого не сделает, – сказала Лариса.
– То есть тебя все хотят убить, а меня, по-твоему, они на руках носить будут? Извини, не могу поверить тебе на слово. Поэтому поеду в ваш удивительный город, жители которого пишут удивительные письма…
– Ты нашел письмо?!
…В поезде Славе снова досталась верхняя полка – удел молодых мужчин. Но он не жаловался и с благодарностью подумал о Дмитрии, на деньги которого теперь путешествовал. Он вспоминал последний разговор с ним по телефону, его знаменитые паузы. Самая большая повисла в трубке, когда Слава назвал город, куда собирается отправиться. «Почему именно туда?» – спросил Дмитрий с расстановкой. «Небезызвестный вам журналист, – Слава чувствовал, что шагает по краю пропасти, – начал оттуда свое расследование». – «Расследование?» – иногда Дмитрий был весьма скор на вопросы. «Так он его называл, по крайней мере. Но есть и еще кое-что. Мари тоже была родом оттуда…» Вот тут-то и повисла вторая грандиозная пауза. «Алло, – осторожно позвал Слава. – А вы разве не знали?» – «Нет, – ответил Дмитрий коротко, – не знал».
Из здания вокзала Слава вышел при полном параде, нащупал в кармане визитку Вики, на которой напечатал еще и свое имя, победно улыбнулся облакам и поймал такси. Он теперь важная птица – журналист. Ему должны открываться все двери…
Автора письма дома не оказалось. Он находился в санатории, на юге, точного адреса и названия которого жена не знала, а расспрашивать эту женщину с испуганными глазами о прошлой пассии ее мужа Слава не решился. Для этого нужно было бы пять лет набираться наглости на факультете журналистики. Он вышел из подъезда и остановился. Ехать назад? С пустыми руками?
Слава опустился на лавочку.
Из подъезда кряхтя выползала бабушка лет приблизительно ста. Слава помог ей вытащить раскладной стул, который она из последних сил тянула за собой. Стул никак не хотел раздвигаться, что-то заело, вероятно.
– Ну ничего не умеют, – сказала старуха и, довольно резко отпихнув Славу, мощным рывком развернула свой стул и плюхнулась на него. – Ищешь кого?
– Перепелкина искал. Да он, говорят, на юг уехал…
– Никуда не уехал, – буркнула старуха.
– Вы точно знаете?
– Мимо меня не уедешь, – гордо объявила она.
– Так, значит, он…
– Да, странный мужичок, – похоже, получив импульс, старуха говорила теперь сама с собой. – Вся жизнь у него странная и нелепая. Хоть жену возьми, хоть дочку, хоть безножье его…
– Что, простите?
– Безножье. Ног у него то бишь нет. Порча неслыханная…
– Так он, выходит, дома?
– Не выходит он из дома. Ног у него нет, – похоже, старуха была глуховата.
– А что за порча? – бодро спросил Слава, но стушевался, поскольку старуха смерила его свирепым взглядом.
Одно дело – самостоятельно перемыть всем косточки, и совсем другое – когда тебя расспрашивают.
– Ты кто? Из милиции?
– Нет, из газеты. Мы о разных старинных рецептах пишем, обряды собираем. Вот и про порчу тоже написали бы…
– Документы есть?
Слава достал из кармана визитку и, содрогнувшись, протянул бабке. Она приложила ее к самым глазам, но так ничего и не разглядела.
– Серьезно, – сказала старуха. – А что мне за рассказ будет?
– Мы за любую информацию платим.
– Сколько?
– Пятьдесят.
– Покажи деньги.
– А что показывать? Берите. – Слава протянул ей купюру.
Старуха повертела ее в руках, как фокусник, и купюра исчезла.
– Связался он с дьяволом в юбке. Тот его без ног и оставил.
– Это все?
– Все. А ты чего хотел?
– Подробнее…
И бабка рассказала ему историю любви Валентина практически так же, как она была описана в письме. Единственное, что произвело впечатление на Славу, так это то, что младшая сестра невесты сменила имя…
– Изменила имя? – спросил Слава.
– Не изменила. Приняла.
Слово «приняла» старуха произнесла с ужасом, чуть ли не озираясь. Славе показалось это немного смешным, словно рассказывают детскую пугалку.
– Она взяла на себя ее судьбу. Она живет вместо нее. – Старуха веско подняла вверх указательный палец.
– А как же зовут душевнобольную сестру? Тоже Норой?
– Не знаю, – покачала головой старуха. – Но не удивилась бы, узнай, что она зовет ее Ниной.
– Дурдом, – подытожил Слава.
– Бес гуляет, – поправила старуха грозно. – А Валька, он что, он женился чуть ли не сразу же, пока еще с ногами был. После переломов у него никак кости срастаться не хотели. Сначала с палочкой ходил, потом на костылях, а потом гангрена началась, выше коленей и оттяпали. Вот… Да ты не видал же его. Хочешь, покажу?
– Как это?
– Пойдем, сидение мое все равно кончилось.
Слава помог старухе подняться, сложил стул и поплелся за ней, решив проводить ее до дверей и тут же сбежать. Смотреть на уродство человека ему вовсе не хотелось. Но старуха вошла во вкус беседы и вцепилась в него клещами.
– Да не беги, постой! Аннушка!
Вышла пышная женщина, подхватила у Славы стул.
– У меня здесь человек из газеты. Принеси-ка фотоальбомы, – сказала старуха.
Женщина с опаской посмотрела на гостя и молча удалилась. В комнатах было богато, и богатство было выставлено для всеобщего обозрения, как на выставке: в зале висели три ковра, один лежал на полу, чуть не до пола свисала люстра – под хрусталь, в напольных вазах утопали охапки «сушеных» роз.
– Лет шесть назад, когда мой сын женился, мы созвали всех соседей. Был и Валька с семейством. Вот он, видишь?
– А это кто рядом с ним?
На фотографии рядом с калекой стояла девочка. Она нагибалась к Валентину. Длинные каштановые волосы заслоняли лицо.
– А-а-а, это дочка его, Маня.
– Как?
– Маня, Маша.
Длинные каштановые волосы, немного сутулые плечи.
– А где сейчас дочка?
– Институт культуры заканчивает. Учится, работает и деньгами помогает. Каждый месяц присылает.
– И в этом месяце тоже?
– Позавчера почтальон приходил, – вставила Аннушка. – Телеграфом шлет, не скупится.
Слава решительно встал и на пороге уже, выждав, пока Аннушка отвернется, сунул бабке еще пятьдесят рублей, резво прыгнувшие в карман ее халата.
Пошатавшись по городу и переварив все, что узнал, Слава позвонил Вике.
– Есть проблемы? – быстро откликнулась она.
– Мне нужно по адресу найти фамилию, а по имени адрес, – невесело усмехнулся Слава. – Э-эй! Вика! Ты где?
– Я все это уже делала, – пролепетала она в трубку.
– Когда? – тупо спросил Слава, хотя тут же понял, о чем идет речь.
– Когда мне вот так же позвонил Женя…
– Вот и хорошо. Значит, я на верном пути, – бодро протараторил Слава, а про себя подумал: «На пути куда?..»
– Вам поможет Вера Метелкина из местных «Новостей». Записывайте…
Вера действительно помогла. Сначала удивилась, а потом порылась в компьютере и продиктовала все необходимые адреса и фамилии.
– А что Женя? Потерял?
– Да нет, Женя сам потерялся.
– Одну минуточку! Как потерялся? Когда?
– А очень просто. Отправился в круиз и не вернулся.
– Здорово! – Глаза Веры полыхнули восторгом наклевывающейся сенсации. – То есть это ужасно, хотела я сказать. Об этом надо трубить во все колокола.
Слава моментально понял, с кем имеет дело. Акула пера. Съест и не подавится.
– Я веду журналистское расследование по поводу его смерти. И если разделю его участь, то очень вас попрошу: трубите. Хоть в колокола, хоть в литавры.
– Вы мне…
– Буду держать в курсе, – пообещал Слава и откланялся.
Ему не терпелось поскорее связать все ниточки, и с вокзала он позвонил Ларисе.
– Это я, узнала? Возвращаюсь.
– Ну как?
– Мне нужна фамилия Мари.
– Зачем?
– Лариса!
– Хорошо, Снегирева. Удовлетворен?
– Нет, – честно признался Слава. – Но все равно – спасибо.
Он положил трубку и уставился в свои записи. Дочку автора забавных писем Валентина звали Машей. Машей Перепелкиной. Институт культуры, темные длинные волосы, возраст. Он уже готов был завязать этот узелок. Это могло бы объяснить и поведение Мари на корабле. Когда речь идет об отце… Хотя оставалось выяснить, при чем здесь Дмитрий. Но Мари была не Перепелкина, а Снегирева. Что совершенно некстати.
В поезде Слава еще долго думал о том, как бы все славно вышло, если бы не эта неувязочка с фамилией. Ну что ж, он принял желаемое за действительное. Что там было на фотографии? Силуэт девочки-подростка. Лица не видно. Померещилось что-то очень знакомое… У него были только отдельные эпизоды какой-то запутанной истории: смерть Мари, Дмитрий и мафия, смешной Валентин, патетическая Лариса, в которую палят на улице среди бела дня. Он, пожалуй, мог бы найти достойное объяснение каждому из этих случаев, но связать их воедино не представлялось возможным. Ниточка под названием «Нора-Нина» оборвалась сразу. Семья после смерти отца переехала в другой город, и никто не мог сказать – в какой именно. Говорили, что Нина-Нора вышла замуж и забрала с собой мать и сестру.
Ночью ему приснилась Мари. Она стояла обнаженная, в мелких капельках воды, и строго выговаривала ему за то, что он ничем не хочет ей помочь. Слава попытался взять ее за руку, но она оказалась бесплотной, как голограмма. И тогда он прямо во сне вспомнил, что Мари умерла. «Если ты так и будешь сидеть сложа руки, я заберу с собой твою сестру!» – ехидно говорила она и грозила ему пальчиком. От ужаса Слава подпрыгнул на своей полке и пребольно стукнулся головой. Сон как рукой сняло. Он возвращался с пустыми руками, знал ровно столько же, сколько перед отъездом. Ко всем этим бестолковым историям прибавилась еще более бестолковая.
С вокзала Слава поехал в Институт культуры, где он узнал, что никакая Мария Снегирева у них отродясь не училась. Были Снегиревы разные – две Светланы и одна Наталья. А вот Перепелкина Маша училась. То есть училась, конечно, сильно сказано. Потому как, поступив в институт, буквально через месяц пропала, а через полгода объявилась и забрала документы.
Слава шел по улице и думал о странной девушке Ларисе. Теперь она нравилась ему еще меньше, чем раньше. Зачем она подсовывает ему такую дезинформацию? Зачем, спрашивается? Собирается всю жизнь посылать родителям Мари телеграммы, чтобы они не умерли от горя? Что-то было не так. Но он это выяснит. Несмотря на то что они провели ночь… Лучше бы он этого не делал!
3
Но разобраться с Ларисой Слава не успел. Он успел подготовиться к разговору морально: несколько раз хмыкнуть, немного посопеть, попотеть и даже придумал первую фразу. Но как только открыл рот, в дверь постучали. На пороге стояла Раиса и мечтательно смотрела себе под ноги. Она и не заметила, что дверь распахнулась и Слава втаскивает ее в комнату, что-то говорит. Она только что рассталась с Димой и теперь предавалась воспоминаниям…
– Я не могу сейчас вернуться к тебе, – сказала Раиса, после того как мир снова восстановился в привычных пределах. – Лучше бы ты меня убил, – добавила она не очень уверенно, и Дмитрий засмеялся.
Теперь она обожала его смех. Она обожала в нем все. Пускай у него женщины в каждом российском городе. Человек, который так любит жизнь, заслуживает, чтобы жизнь отвечала ему взаимностью. Раисе такие люди никогда раньше не попадались.
Она понимала, что Нора ничего бы не сказала. А назавтра, как только Дмитрий уедет по делам, тут же села бы в машину и отправилась к своей… любовнице. Нора не показала бы виду. Настя, наверно, только усмехнулась бы, если бы поняла… Но ей не до них. У нее своих забот хватает.
– И все-таки я не могу, – Раиса словно продолжала вслух внутренний разговор с собой.
– Ты хочешь покинуть меня? – Дима высоко поднял брови. – Именно теперь?
И они снова рассмеялись. От напряжения, скорее. Или оттого, что напряжение между ними наконец рассеялось.
– Я отвезу тебя к брату, – сказал Дмитрий, нежно погладив ее по щеке. – Только обещай, что ты вернешься ко мне завтра. Не то я умру, как чудовище в «Аленьком цветочке».
Она прижалась сильнее к его руке и повторила:
– Завтра… В качестве пленницы?
– Угу, – промурлыкал он. – В качестве моей бесценной пленницы и моего бесценного друга. И еще в качестве самой очаровательной женщины…
– Перестань…
– Ты вернешься?
– У меня отпуск скоро кончится…
– Мы его продлим.
– Но ведь он не будет длится вечно…
– Почему?..
– И что я буду делать?
– Будешь читать книги из моей библиотеки. Ты же видела, как их много! А я покатаю тебя по городу, покажу, что здесь интересного…
– И в Эрмитаж?..
– И в Эрмитаж.
Перед тем как выйти из машины, Раиса все-таки спросила его:
– А почему все это, – она сделала глубокий выдох, – сегодня?
– Что – все это? – лукаво прищурился он.
– Ну-у-у… – Она посмотрела на него умоляюще. – Все это.
– Да кто его знает, пристрелят завтра из-за угла, а я так и не узнаю, что такое счастье…
– Не говори так.
– Про счастье?
– Нет, про… Все будет хорошо. До завтра. – Она поцеловала Дмитрия в висок.
Очнувшись Раиса вопросительно посмотрела на брата.
– Он отпустил тебя?! – кричал Слава, похоже, уже не в первый раз.
Она приготовилась расцеловать младшего братца от избытка чувств, но вдруг увидела у него за спиной незнакомую девушку. Чмокнув Славу в щеку, подала ей руку:
– Здравствуйте. Извини, я не знала, что ты не один. – Раиса повернулась к брату.
– Оставь этот светский тон! – закричал Слава, сверкая глазами. – Это Лариса. Она все знает. Говори прямо: ты сбежала? Они мучили тебя? Нам пора сматываться?
Раиса задумчиво и немного по-матерински свысока посмотрела на Славу.
– Успокойся. Все хорошо. У них там горячая вода кончилась, и меня отпустили принять душ.
Слава был похож на сжавшуюся пружину. Но когда смысл ее слов наконец дошел до него, он опустил плечи и поднял брови.
Раиса не выдержала и расхохоталась. Так забавно эти двое таращились на нее.
– Я ненадолго, – предупредила она. – Возникли некоторые сложности…
И как это только у нее хватило хладнокровия говорить легко и спокойно? Но, собственно, что они понимают, эти дети?
– Сестра, я все понял, тебе кололи наркотики! – сказал Слава и забегал по комнате. – Сейчас, я только самое необходимое…
Он выдвигал ящики, ронял на пол вещи.
– Что ты делаешь?
– Мы уезжаем. Сейчас же. Все вместе. Подожди, я вызову такси. – Он метнулся к телефону и взял трубку.
Раиса перехватила его руку.
– Я никуда не поеду.
– Что?
– Не поеду. Мне завтра возвращаться.
– О чем ты говоришь? У меня на руках умерла девушка. Ее застрелили. – Слава размахивал руками. – А вот Лариса. – Он вытолкал Ларису на середину комнаты. – Она не может выйти из дома. Потому что в нее тоже стреляли, понимаешь?
– Вы можете уехать, – подумав немного, сказала Раиса. – Но я останусь.
Слава сел в кресло и опустил руки.
– Сестра, ты спятила? Да этот Дима и тебя отправит на тот свет не моргнув глазом.
– Это не он.
– А кто? – резко спросила Лариса.
– Не знаю. – Раиса повернулась к Славе. – Но мне кажется, ты можешь помочь.
– У вас там что, гипноз повальный? Я-то тут при чем? Сколько раз повторять: я случайный человек, чем, кому, как я могу помочь?
– Я не знаю, – устало сказала Раиса. – Не знаю, но очень тебя прошу: помоги им.
– Им? – снова подала голос Лариса.
– Дмитрию, девочке.
– Какой такой еще девочке?
– Дочке, – уточнила Лариса, не отрываясь глядя на Раю. – Я угадала?
– Да.
– Рая, – Слава встал перед сестрой на колени и принялся тихонько трясти ее, – Рай, ты мне скажи, как я, я, Рай, слышишь, могу помочь его дочке? Ты хоть понимаешь всю глупость того, что говоришь?
– Расскажи мне лучше, что ты узнал?
– Так, – сказала Лариса, – я собиралась принять ванну. Кажется, теперь самое время, слышать этого больше не могу!
Она перекинула через плечо полотенце и вышла. Встав под душ, сделала воду похолоднее, но это не помогло. Ничего не помогало в последнее время избавиться от воспоминаний… И того разговора…
– Я не справлюсь без твоей помощи, – сквозь зубы выговорила тогда Мари. – Я хочу уничтожить его жену.
– Куда тебе кого-нибудь уничтожить, – засмеялась Лариса. – Уничтожать – мое ремесло. Письменно или устно?
Мари моментально превратилась в котенка и замурлыкала:
– Ларочка, миленькая, я хочу, чтобы ты с ней встретилась и поговорила. Это сильная женщина. Сильная и абсолютно уверенная в себе…
– Абсолютно уверенных не бывает, – перебила Лариса. – Разве что за редким исключением. – Она погладила себя по голове и отпила из бокала.
– Ты, – пела Мари, – только ты сможешь поставить ее на место… У меня есть одна вещь, за которую эта дамочка выложит любые деньги.
– Сколько?
– Подожди, еще не все. Мне не нужны ее деньги. Я хочу, чтобы она ушла от него.
– Всего-то?
– Лара. Если все выгорит, эта квартира – твоя. И все, что я смогу сделать для тебя после свадьбы, я сделаю.
– А если он на тебе не женится?
– Тогда только квартира.
– Уже немало. Убивать никого не нужно?
– Разве что морально.
– Тогда это как раз для меня. С чего начнем?
– Сначала приведем тебя в порядок.
Лариса передернула плечами.
– Я и так хороша.
– Этого недостаточно. Ты должна быть неотразима. Придется потратить недельку на сауну, курс массажа, маникюр, педикюр и всякие прочие прелести. Не возражаешь?.. И еще волосы. Тебя сделаем шатенкой, а мне придется перекраситься в блондинку.
Через неделю, когда приготовления были закончены, Мари набрала домашний номер телефона Дмитрия и передала трубку Ларисе.
– Здравствуйте, – мягко начала Лариса. – Нора, если я не ошибаюсь? Вас беспокоит… э-э-э… как бы это получше… Да что там! Вас беспокоит любовница вашего мужа. Нет, вы не ослышались. Я бы даже уточнила – не любовница, а возлюбленная. Да, да. Думаю, нам не мешало бы встретиться и кое-что обсудить… А вот в этом вы, уверяю вас, глубоко ошибаетесь, – в голосе Ларисы зазвучал металл. – Нам есть что обсудить… А вы не знаете? Правда? – она рассмеялась естественно и легко. – Я подскажу: речь идет о вашем прошлом… Завтра? Вполне устраивает. В два. Чудесно. Приеду, можете быть абсолютно спокойны. До завтра…
Лариса положила трубку, смерила Мари победоносным взглядом, и та заторопилась уйти.
Когда дверь за Мари закрылась, Лариса закружилась по комнате. Жизнь начинается! И какая! Теперь, когда тыл в виде квартиры обеспечен, она, Лариса, станет настоящей владычицей мира. Нужно непременно пристроить Маню замуж за этого бандита. Маня будет заниматься бандитом, а Лара воспользуется его связями… Она ворвется в современную литературу с букетом бестселлеров… А потом… Потом телевидение, приглашения, приемы…
4
– Здравствуйте, – первой заговорила Лариса. – Меня зовут Мари.
– Чем обязана?
Нора провела бессонную ночь. Вчера, когда она положила трубку, ее так затрясло, что зубы застучали. Что это, розыгрыш? Какая-то глупая шутка! Любовница? У Димы? Нет, этого не может быть!
Невероятное постепенно входило в ее сознание раскаленной иглой. Невероятное заполонило дом. Теперь от него было не скрыться. Но ведь самое страшное вовсе не в том, что у Димы была любовница. Это она вполне допускала. Их интимная жизнь практически сошла на нет еще несколько лет назад. Любовница – это нормально. Это здоровый образ жизни. Но ненормально, когда эта любовница лезет в дом, звонит Норе. Да, вот оно – самое страшное. Она знает о сестре. Как? Откуда? Выследила Нору? И что ей нужно? Может быть, предупредить Дмитрия? Ужасно глупо! А может быть, эта аферистка знает вовсе не о сестре? А, например, о Валентине? Или о том ужасном дне, когда Нора… Нет, не может быть!
Она схватила телефонную трубку и, не сразу попадая пальцами на клавиши с цифрами, стала набирать номер, который за последнее время выучила наизусть.
– Людочка…
Подруга была верная и надежная. Всемогущественная была подруга.
– Конечно, помогу, дорогая. Сейчас приеду.
Она, разумеется, что-нибудь придумает. Она ведь не то, что Нора. Ей все это – раз плюнуть.
– У меня неприятности…
– Давай по порядку, – попросила подруга, удобно расположившись в кресле и доставая из сумочки пакетик чая с красным драконом. – Поставь-ка чайник, не помешает.
После того как Нора рассказала ей о телефонном звонке, Людмила спросила:
– И это все?
– Все.
Нора покраснела до корней волос. Подруга знала о сестре. Но о Валентине Норе рассказывать не хотелось.
– Хорошо, – легко согласилась Людмила. – Давай подумаем, что будем делать.
Нора, кусая губы, смотрела на нее не отрываясь.
– Знаешь, – сказала минуту спустя Людмила, – я бы хотела на нее посмотреть.
– Но…
– Подожди. Сделаем так. Я приеду немного раньше и займу место в другой комнате. Послушаю, что ей нужно. Оценю, что она за человек. Нора, ты вся дрожишь. Прекрати немедленно. Для нас это не проблема, ты ведь понимаешь. Нужно только узнать, с кем имеешь дело, а потом все решится само собой. Ну же, глупенькая!
Людмила обошла вокруг стола и погладила Нору по плечу. Нора схватила ее руку и прижалась к ней щекой, а потом губами.
– Совсем расквасилась, – нежно улыбаясь, проворковала Людмила. – Перестань же, говорю тебе. Все будет хорошо. Кстати, как зовут твоего охранника?.. А!.. Отпусти его часика на два, когда приедет эта фря, не забудь.
Теперь, встретившись с Ларисой, Нора волновалась не столько по поводу разоблачения перед мужем, сколько по поводу Людмилы, сидящей в другой комнате. Ей не хотелось, чтобы та услышала о Норе нечто такое, такое, чего бы она сама не захотела ей рассказать.
Нора теребила на пальце обручальное кольцо и все время поглядывала в окно. Лариса записала это очко в свою пользу. Волнуется, значит, оценила ее внешние данные. А теперь ей еще предстоит оценить внутренние…
– Итак, поговорим о Диме, о вашем, пока, правда, вашем муже.
– Вы вместе работаете?
– Да, я его доверенное лицо.
– Тогда, может быть, в вашем институте…
– Одну минутку. Я что-то перестала вас понимать. О каком институте речь?
– Ну о том, где вы работаете.
– А мы вовсе не в институте работаем. – Лариса театрально пожала плечами.
– Ну, я не в курсе, как ваша организация называется…
– Мафия она называется. Знаете, как в кино.
Нора села и с тоской посмотрела на девушку.
– Похоже, мы с вами совершенно запутались.
– Давайте разбираться! – весело предложила Лариса.
Через несколько минут Нора узнала, что Дмитрий никогда ни в каком институте не работал, а всю жизнь занимается нелегальным бизнесом. Девушка сказала – мафия.
– Перейдем к делу, – предложила Лариса. – У меня есть две дискеты. На них полная информация о вашем, скажем, небезынтересном прошлом. – Она открыла сумочку и показала краешек дискеты. – Вашего мужа шантажировали этими дискетами. И он готов был выложить любые деньги, чтобы приобрести их. Но так уж вышло, что они оказались не у него, а у меня. Как вы думаете, что он сделает, когда узнает о вас все? – Последнее слово Лариса произнесла тихо и торжественно.
– Я вас не понимаю…
Лариса смотрела на женщину снисходительно. Что, интересно, может быть у такой в прошлом? Судя по тому, как изменился ее голос – нечто ужасное. Никак букашку задавила на велосипеде! Или цветок сорвала с чужой клумбы. А побледнела так, будто три семьи вырезала в глухой деревне только вчера…
– Прекрасно понимаете. И это написано на вашем лице. Давайте не будем Димочку расстраивать, хорошо?
– Сколько?
Нора теперь смотрела на Ларису, сжав кулаки, и той стало немного не по себе.
– А сколько вы могли бы дать?
– Пятьдесят тысяч.
– А сто пятьдесят?
– Хорошо.
– А двести?
– Так сколько?
– Я хочу, чтобы вы обдумали другой вариант. Двести тысяч – большие деньги. Зачем вам их терять? Берите свои денежки и уезжайте куда-нибудь подальше. Да, и не забудьте подать на развод перед этим.
– Что? – Нора почувствовала, как в ее душе закипает ненависть. – Что?!
Она резко встала и пошла к Ларисе. Но тут из соседней комнаты послышался стук упавшего стула, и Нора замерла на месте.
– Убирайтесь, быстро! – прошипела Нора, указывая Ларисе на дверь, и выбежала в соседнюю комнату.
Лариса осмотрелась, достала из сумочки дискеты и сунула их в одну из книг, стоящих на стеллажах. Затем она быстро вышла и через несколько минут добралась до машины, к своему великому удивлению обнаружив, что Маши нет за рулем…
Когда Нора вбежала в соседнюю комнату, Людмила сидела на перевернутом стуле и тихо смеялась.
– Пойдем, хочу еще раз посмотреть на нее из окна. Да, хороша пташка. Значит, твой муж предпочитает молодых да ранних?
– Я ей не верю!
– Или не хочешь верить? Дорогая моя, я навела справки. Маша Перепелкина, несостоявшаяся студентка Института культуры. Живет с твоим мужем около года.
– Как – живет?
– Тебе объяснить?
– Нет, я хотела сказать – где?
– Он снял ей квартиру. Наведывается регулярно. Недавно, кстати, они вернулись из круиза. Ну, что смотришь? Да, да, из круиза. Это когда он говорил тебе, что едет в Семипалатинск на испытания. Неужели ты и вправду не знала, чем он у тебя занимается?
Лицо Норы скривилось. В глазах заблестели слезы.
– Перестань. Переходим к процедуре чаепития, – улыбнулась подруга.
Женщины прошли на кухню и закрыли за собой дверь.
А Мари осторожно вышла из дома, оглянулась, ускорила шаг, потом побежала по дорожке в ту сторону, где оставила машину. Женщина, с которой разговаривала Нора, знала все. И о ней, и о Диме. Может быть, она из милиции? Мари поежилась и немного пожалела о своей затее.
У машины ее с холодной улыбкой дожидалась Лариса.
5 (Раиса)
Рая долго не могла уснуть у брата. Ей мешало успокоиться и узкое, неудобное раскладное кресло, и то, что Лариса со Славой спали почему-то в одной постели, правда, валетом, но все-таки. А больше всего ей мешали уснуть воспоминания о предыдущем вечере.
Когда-то у нее был дружок. Тогда она думала, что друг, но со временем привыкла думать о нем именно так – дружок. Мама часто вспоминала: «Помнишь, тот, твой дружок…» Подчеркивая несерьезность. Упрекая за поспешность. Были встречи, цветы, поцелуи даже, да и не только поцелуи. Все было. Все, что положено для настоящей, правда, немного торопливой и жадной любви. Торопливым был он, жадной она. Ей казалось – это возраст. Обоим им было уже за тридцать. С ней это происходило впервые.
Мама упрекала неспроста. Раиса тогда не задумывалась о том, что скажут люди. А мама не забывала. Официальная регистрация брака казалась Раисе неестественной заминкой. Ей хотелось быть рядом со своим избранником. Она собирала чемоданы, а мама стояла в дверях, поджав губы. И все повторяла: «Остановись, не торопись, подумай». Но Раиса все хорошо обдумала. Так ей тогда казалось.
Теперь она знала наверняка, что все ее «железные» доводы были совсем не логичными, все рассуждения, весь здравый смысл – абсурдными. Она потеряла голову. «Тот твой дружок, из-за которого ты потеряла голову», – так потом говорила мама. И была права. Так все и было. Хотя казалось совсем по-другому…
Они прожили вместе целый год. Раиса была счастлива. Она считала, что он тоже счастлив. И так она думала до тех самых пор, пока он не выгнал ее. Сначала она решила, что ушла сама. Но потом поняла – он выгнал. Это так называется. Нет, он не говорил: «Уходи. Ты мне надоела». Он сказал: «Я больше не могу. Ты не женщина. Клуша какая-то…» Лучше бы он ее ударил. Она бы простила. Но «клушу» простить не смогла. Она сразу поняла, что это значит. Клуша – это та, которая бежит с работы как угорелая, чтобы напоить тепленьким молочком своего бедненького простуженного мальчика. Клуша – та, которая сидит с ним рядом в стоптанных тапочках и в стареньком, застиранном халате, упиваясь возвышенными разговорами о литературе, не замечая, что чуть потекла тушь под левым глазом, растрепалась прическа. Клуша – это та, которая даже в постели остается заботливой мамочкой: «Тебе было хорошо, мой мальчик?»
Тогда Раисе хотелось плакать. Зарыться головой в подушку и рыдать дни напролет. Но в дверях, пока она распаковывала чемоданы, снова стояла мама, поджав губы. А из-за ее спины выглядывал растерянный Славик.
Сначала ей страшно захотелось перестать быть клушей и сделаться настоящей женщиной. Она резко сменила прическу: пучок на затылке рассыпался модной стрижкой, закрывающей лоб и уши. Башмаки без каблука сменились модельными лодочками, халат – джинсами и свитером. Произведя революцию в собственном имидже, Раиса, успокоенная достигнутым, возвратилась к привычной размеренной жизни. Утренняя пробежка, работа, хозяйство, по вечерам – книги, книги, книги. Многое хотелось обдумать, записать, перечитать.
Очень скоро волосы ее снова отросли и сами собой собрались в знакомый пучок на затылке, лодочки, от которых немыслимо болели ноги, легли мертвым грузом на антресоли, а джинсы, в которых было так неудобно лежать на диване с книгой, уступили место удобному и легкому ситцевому халатику.
Тогда Раиса решила остаться той, кем была на самом деле. В конце концов, она такая, и нечего притворяться. Стричься раз в два месяца, передвигаться на ходулях и все время потихоньку расстегивать верхнюю пуговицу на джинсах казалось ей совершенно бессмысленным. В глубине души ей, несмотря на возраст, все еще нравилась сказка о Царевне-лягушке. Но царевич, если такой когда-нибудь вдруг отыщется, должен полюбить ее именно в этом обличье. Не в жены взять – полюбить.
Дмитрий не был исключением. Она вела себя с ним так, словно желала показаться самой настоящей клушей. Несмотря на то что они были почти ровесниками, Раиса говорила с ним как с малым ребенком. А он…
Каждый день она с ужасом наблюдала, как растет его интерес к ней. Сначала этот интерес она приписывала своей неординарности, считала, что Дмитрий тихонько подсмеивается над ней. Однажды, выходя из ванной вечером, она отчетливо услышала, как Нора сказала про нее: «Эта вашаклуша, неужели она что-нибудь смыслит в математике?» – и замерла в ожидании его ответа. «Еще как! – В ответе явственно прозвучала нежность. – Ты даже представить не можешь…»
Каждое утро, сравнивая себя с Норой, Раиса смеялась в душе над своими фантазиями. Каждый вечер, встречая взгляд Дмитрия, она теряла повод для смеха. Она окончательно запуталась и снова не могла сказать с уверенностью, что происходит на самом деле, а что ей только кажется.
Однако то, что случилось в машине, отнести к области грез было невозможно. Как невозможно было прекратить думать о нем, витать в мире фантазий. Слово «любовь» висело где-то на волосок от ее рассуждений, но она мужественно отбивалась от него, именуя происшедшее романтическим приключением.
Часа в три ночи она, измученная внутренней борьбой, заснула наконец, и всю ночь ей снился Дима. Она говорила ему: «Димочка», «мой мальчик», «как я… как я… как я тебя…». Но даже во сне мужество не покидало ее…
Просыпаться не хотелось. И она, чуть приоткрывая глаза, несколько раз снова ныряла в сон – такой приятный, что не оторваться. Проснувшись окончательно, Раиса поняла, что полдень миновал. Голова болела, в комнате стояла мертвая тишина. Она повернула голову – на кровати с книжкой, поджав ноги, сидела Лариса.
– Доброе утро! – сказала она бодро.
В ответ Лариса развернула будильник так, чтобы Раисе было видно.
– Да-а, похоже, добрый день. А где Слава?
– В милицию вызвали.
Раиса умылась, выпила чаю и, чтобы хоть о чем-то поговорить с девушкой, спросила:
– Что вы читаете?
– Ерунда какая-то, взяла вон с той полки. Чушь собачья.
Раиса осторожно взглянула на обложку. Гессе «Игра в бисер». «Да, – подумала она, – интересные теперь люди учатся на филфаке».
– Вы утверждаете, что встретились в баре?
– Да.
– Шел футбольный матч?
– Да.
– Она назвалась Мари?
– Да.
– Подруга вышла из машины незаметно?
– Да.
Слава отвечал автоматически.
– Лариса – вам знакомо такое имя?
Слава моментально выплыл из дремы.
– А кто это, Лариса?
– Лариса Юрская.
– Нет, не знаю. А Мари должна была упомянуть о ней?
Двое мужчин в штатском пристально наблюдали за ним.
– Не знаю, что там должна была упомянуть Мари, – раздраженно сказал один. – Лариса Юрская! Вспомнили?
– Да ничего я не вспомнил! – ответил ему Слава. – Может быть, она и упоминала какую-нибудь Ларису, когда говорила с Настей. Я не помню.
Его промурыжили целый час. Одни и те же вопросы задавали то так, то этак. Наконец отпустили. Слава закрыл за собой дверь и прижался к ней всем телом: мимо двое милиционеров вели упирающегося громилу в наручниках. «Да я вас всех! – орал тот. – Урою я вас!» Орал громко, но Слава все же услышал, как за дверью один мужчина сказал другому: «Да лопух этот Грох. Случайный. Не знал он убитую Юрскую…»
Слава шагнул прямо под ноги упирающемуся громиле и тут же отлетел к противоположной стене и осел. «Убитую Юрскую…» – крутилось у него в голове.
Раиса рылась в своих вещах. Приближалось время ее отъезда, вот-вот должен был подъехать Дмитрий. Слава еще не вернулся из милиции, но она не особенно волновалась. Мало ли что там – очереди или, скажем, попал в обеденный перерыв, у нас, известное дело, – повсюду бюрократия.
Она достала из чемодана свой самый нарядный халат и розовые шлепанцы. Постояла над этими вещами и снова убрала в чемодан. Но через минуту, передумав, опять вытащила их. Пусть! Пусть видит, какая она на самом деле. Да, в розовых шлепанцах. Да, в махровом халате. Потому что он теплый и мягкий. В нем приятно лежать на диване и читать книжки. И даже не важно, что от этого полнеешь. Зато и умнеешь одновременно. Кому что. Но на всякий случай она все же достала из чемодана и синие джинсы, те самые, которые купила сто лет назад, после разрыва со своим дружком, и которые так и пролежали у нее все эти годы в шкафу практически новыми. Даже моль их не тронула. Раиса примерила брюки. Тесноваты. Но немного можно походить и так. Не убудет от нее.
– Вы как на свидание собираетесь, – неожиданно зло сказала Лариса из своего угла.
Раиса вспыхнула, на мгновение потеряла контроль над собой, чуть было не наговорила девочке глупостей, но здравый смысл, как всегда быстро, взял верх, и она, повернувшись, гордо ответила:
– Да!
– Да? – Девочка смотрела на Раису точно так же, как и она на нее. – Зря стараетесь.
– Это почему же?
– Кажется, он предпочитает молоденьких. – Девочка дерзко смотрела в глаза Раисе. – И потом, неужели вы на что-то рассчитываете в тот момент, когда он еще оплакивает свою любовь?
Если бы не вчерашний вечер, она ничего бы ей не ответила. Отшутилась бы как-нибудь – и все. Но со вчерашнего вечера ее сердце лишилось брони и было доступно любому неосторожному прикосновению, а уж тем более болезненно реагировало на такие шпильки, которые отпускала Лариса. На секунду Раиса вдруг стала неуклюжим подростком, которому сделали больно и он наотмашь бьет словами противника, слабо заботясь о том, куда попадут его слова.
– Я бы не стала называть его отношения с вашей Мари любовью.
– Как вы смеете?!
– Милая, ваша подруга много фантазировала. Любовь не всегда сопутствует близким отношениям.
Произнеся последнюю фразу, Раиса готова была уже задуматься о ее глубоком подтексте, но не успела. Лариса побледнела как полотно, сжала кулаки и крикнула:
– Да вы ничего не знаете!
И в этот момент Раиса своим чувствительным сердцем вдруг поняла, что творится с девушкой. Она подошла к ней и мягко, почти ласково спросила:
– Ведь вы не Лариса. Вы Мари. Правда?
И девушка залилась горькими слезами.
– Боже мой, Боже мой, – шептала Раиса. – А мы ведь все думали… Как же это получилось?
– Я не знала, честное слово, – она вскинула горящий взгляд на Раю, – честное слово, если бы я знала!
– Конечно, конечно…
– Только не говорите ему, пожалуйста, не говорите.
– Вы думаете, это он убил?
– Нет, теперь я думаю, что не он. Но все равно, если узнает он, узнает и она…
– О ком вы? Думаете, Нора…
– Не знаю. Но та, другая, та могла бы.
– Кто она – эта другая?
– Не спрашивайте, я ничего не знаю, ничегошеньки. Я запуталась. Мне страшно. Живу здесь как мышь вот уже месяц, боюсь нос высунуть на улицу. И все время жду, что с минуты на минуту откроется дверь…
– Но почему вы не уехали сразу?
– Домой? Там они меня найдут наверняка. И зачем я только все это затеяла? Интриганкой себя возомнила! Дура!
– Расскажите мне все. Попробуем вместе что-нибудь придумать.
Мари молчала. Как она могла рассказать? Она даже вспоминать об этом не хотела…
В тот день солнца не было, дул холодный ветер и собирался дождь. Несколько раз он уже весело бомбил маленькими капельками палубу минуты две, но, словно передумав, сворачивал свое оружие, и тучка растворялась в клубах беспросветной облачности.
Мари в тот день встала раньше обычного. Она вышла на палубу, накинув легкий непромокаемый плащ. Погода не смогла испортить ее настроение. Тело еще горело от вчерашних объятий любимого.
– Привет!
От неожиданности она резко отпрянула. Это был гость Димы. Мари выпрямилась и приняла неприступный вид.
– Ой-ой-ой! – пьяно проговорил он, похоже, пил всю ночь и до сих пор не ложился. – Какие мы гордые! С такими папиками все гордые. Пока не бросит. Не одна ты такая. Кстати, ты в курсе, что у него жена есть, или ждешь, когда он тебе обручальное кольцо подарит? Ты с ним как: по любви или за бабки? Со мной за бабки пойдешь? У меня есть! – Он вытащил из внутреннего кармана пиджака толстую пачку купюр.
Мари была разгневана и уже собиралась уходить, когда разглядела уголок дискеты, тянущейся за купюрами. Парень был похож на полного идиота. А Мари так хотелось помочь Дмитрию.
– А я вовсе даже не с ним! – сказала она развязным тоном. – Приставили к старикану.
И они дружно рассмеялись.
– С удовольствием бы выпила с тобой что-нибудь, – сказала она, оглядываясь и давая понять, что их не должны видеть вместе.
– Пойдем, – коротко бросил он и пошел пошатываясь вниз.
В каюте он тут же облапал Мари, но ей удалось пресечь его домогательства и усадить за стол.
– Как насчет шампанского?
– А может, быстренько трахнемся и разбежимся? – спросил он. – А то я что-то спать хочу. Сколько берешь за разок?
– Э, нет. Сначала шампанского.
– Ну, как скажешь. Я, правда, от этого шампанского опух уже.
– Так нельзя же его ведрами…
– Ой, и не говори.
Он откупорил бутылку.
– Тебе, мне, – разливая, констатировал он. – Чокнулись, поехали.
Он выпил залпом, а Мари только пригубила из фужера.
– А теперь дай поцелую. Или потрогаю.
Он подсел к Мари на кровать и снова стал приставать, пытаясь протиснуть свои вспотевшие ладони ей под одежду. Она что-то говорила, смеялась, отталкивала его, пытаясь рассчитать, успеет ли выхватить дискету, если он снимет пиджак.
Он снова пересел на свой стул и налил себе шампанского. Похоже, выпивка интересовала его куда больше, чем женщины. По крайней мере, сегодня. Смеясь, он рассказал ей, что работает в самой сексуальной газете – «в спиде-инфоре, ха-ха», куда люди присылают такую корреспонденцию – закачаешься.
– И кто, спрашивается, их за язык тянет? Вот и на папика твоего я вышел по одному глупейшему письму. Прислал один мудак рассказ о своей бурной молодости…
Мари вежливо хихикала, пока он, утрируя детали, рассказывал о двух сестрах, одна из которых трахается с парнем, а другая вздыхает за стенкой. Причем так громко вздыхает, что парень этот все слышит и все понимает. А вот кончается эта история жутко: он остается без ног, она попадает в психушку.
– А знаешь, кто она? Ну сестра та, что за стенкой… О! Жена твоего папика.
Мари поперхнулась шампанским и закашлялась. На глазах выступили слезы. Чтобы журналист не догадался, как она взволнована, Мари весело рассмеялась:
– Да что ты?
– Все это у меня здесь. – Он хлопнул себя по карману, и у Мари перед глазами снова мелькнул краешек дискеты.
– Расскажи еще какую-нибудь гадость, – потребовала она, притворившись захмелевшей.
Он рассказал ей о калеке. «Безногий» – так он его называл. Сначала Мари никак не могла понять – почему так заныло сердце. Почему так знакомы ей фразы из письма, над которыми журналист особенно потешался. Эти неправильно построенные, корявые фразочки она слышала часто. А потом – слишком много совпадений. Слишком много… Она еще только раскрыла рот, чтобы задать вопрос, как звали безногого чудака, но уже приложила все усилия, чтобы никоим образом не выдать себя, потому что знала ответ.
Ее обожаемый папочка, ее наивный старик с культяпками вместо ног, ее гордость – отец, и ее боль – калека, ее папочка на старости лет пустился в излишние откровения, да еще не в пьяной беседе с друзьями, а с отвратительнейшей газетой – монстром, охотившимся за такими наивными дурачками, чтобы выставить их на всеобщее осмеяние.
Как только он назвал ей имя, зубы ее сомкнулись и она не могла уже нормально произнести ни единого слова. Процедив быстро что-то вроде: «Ах, мне ведь давно пора…» – Мари бросилась к двери. «А как же наш маленький секс?» – спросил он вдогонку разочарованно. «После двенадцати, на палубе…» – ей-богу, когда она говорила это, то вовсе не знала еще, чем все кончится, ей-богу, не знала.
Дима заметил, как стучат ее зубы, и тут же потянулся за аспирином. В эту минуту он показался ей бездушным врачом муниципальной больницы. Он растворил таблетку и настоял, чтобы она выпила все разом, не оставляя на потом. Она выпила и через несколько минут уснула как убитая.
Ей снились они оба: отец и Дима. Оба они, как лисы, ходили вокруг одной и той же женщины, лица которой она никак не могла себе представить. Они тянули к ней руки и говорили нежные слова, словно не замечая, что их двое. Потом Мари снилась мать в переднике, как всегда – у плиты, с потухшим, усталым взглядом. «Ты все знала?» – спросила ее Мари. «Конечно», – ответила мать. И еще она сказала про отца: «Несчастный».
Мари вскрикнула и проснулась. И тут же заплакала, как ребенок. Ее папочка, ее наивный, глупенький старенький папочка… Этого не может быть!
Когда они встретились вечером на палубе, она спросила журналиста: «Ты напишешь об этом?» – «Естественно. Однако если ваш папик, – он развернул ее к себе спиной, – если он мне еще приплатит, то я, пожалуй, не укажу фамилий… Извини, секс у нас получился уж очень маленький. Но после выпивки я не боец». «Да ты и по жизни не боец», – брезгливо подумала Мари.
Его пиджак, сброшенный впопыхах, дабы спустить подтяжки, еще валялся на палубе, и Мари вдруг поняла, что ничего в жизни уже не поправить. Не стереть этой отвратительной, липкой близости с мерзким писакой, не вернуть уважения к отцу, не унять ненависти к Диминой жене, о которой она раньше даже не думала. И все – этот тип…
И тут он подпрыгнул и сел на поручни, спиной к морю. Мари не думала ни секунды. Она с силой толкнула его и сразу же испугалась, что он будет кричать. Но он не закричал. Она стояла на палубе, раскачиваясь из стороны в сторону, и тихо скулила. Потом она посмотрела вниз, за борт, и ничего не увидела, кроме темной воды, в которой отражалась кривая лунная дорожка. Совсем ничего.
От ужаса в голове сразу же прояснилось. Она схватила его пиджак, вытащила дрожащими руками дискеты и швырнула его за борт вслед за хозяином. Она ни разу не пожалела о том, что сделала.
Вернувшись домой, она позвонила отцу и сказала: «Папочка, знаешь, я тебя очень люблю…»
6
По тому, как дрожал голос Норы в телефонной трубке, Людмила почуяла тогда легкую добычу. Вот и пришел ее час. «Конечно помогу, дорогая. Сейчас приеду».
Конечно, она ей поможет. Только – ее же руками. И с пользой для себя. Ну и для организации, конечно. Для «Жизни».
Девчонка оказалась наглой, красивой и совсем юной. Нору после встречи с ней трясло. Людмила подлила масла в огонь, рассказав ейподробненько и о девчонке, и о ее собственном муже. Нора раскисла, но не этого Людмила добивалась, поэтому пришлось заварить чаек. Специальный. Для отдельных тяжелых случаев.
– Пей, – подтолкнула Людмила чашку к Норе.
– Не могу.
– Пей, кому говорю, – с деланным негодованием прикрикнула на нее Людмила.
Нора отхлебнула из чашки и всхлипнула.
– Что же мне делать?
– Что делать? Да в порошок ее стереть!
– Говори, пожалуйста, серьезно, сейчас мне не до смеха.
– А кто смеется? Пей, остынет. Кто смеется? – Из глаз Людмилы брызнули малиновые искры. – Я радуюсь, что случай дал тебе шанс испытать себя.
– Испытать…
– Пей! – Людмила прошлась по комнате, и Норе вдруг показалось, что это и не Людмила вовсе, а огромная змея катится по комнате, свивая и развивая кольца. – Твой шанс…
– Мой шанс…
– Ты просто обязана разделаться с этой девчонкой, чтобы доказать себе…
– Доказать себе…
– Да ее и пристрелить мало!
Сейчас Нора, не задумываясь, пристрелила бы любого. Сознание ее прояснилось и сделало ее жестокой и сильной.
– С удовольствием бы пристрелила!
– Но самой это опасно. Есть у тебя кто-нибудь?
– Ты ведь знаешь…
– Ну хотя бы этот вон охранник.
– Я с ним даже разговариваю редко.
– А кто тебе мешает сделать его преданным себе человеком?
– Но как?
– А как это делает любая женщина с любым мужчиной?
Людмила подняла Нору за плечи, сильно сжав их, повернула в сторону двери.
– Возьми его, – потребовала она. – Он и станет твоим верным псом.
Нора чувствовала, что способна сейчас горы свернуть. Она была сильной, волевой женщиной. Она могла делать все, что захочет…
Всеволод только разинул рот, чтобы ответить, когда она его позвала. Он ничего не понимал. Все, что произошло с ним в этот вечер, казалось дурным сном. Он делал то, что от него хотели, – Нора была хозяйкой, а он не собирался расставаться со своей работой. Но, отдышавшись и одумавшись, Сева понял, что совершил большой промах: теперь с работы его вышвырнет ее муж. Здорово, допрыгался. И, застегивая штаны, он, глядя на Нору глазами затравленного зверя, повторял: «Только, пожалуйста, не надо мужу… Хорошо?»
«Теперь он наш», – ответила потом Людмила, ласково поглаживая видеокамеру.
Сева до смерти боялся эту женщину, которая в тот же роковой вечер явилась к нему домой и бросила на стол видеопленку. Он готов был к чему угодно – шантаж, вымогательства, угрозы со стороны мужа. Но не к тому, что произошло потом. С прошлой жизнью он расстался в одночасье. В тот момент, когда пришел по указанному Людмилой адресу и провел там три дня. Он, правда, не заметил, что прошло три дня. Выяснил это дома, ошарашенно уставившись в календарь. Ему казалось – три часа. Большей части происходящего он не мог вспомнить. А все, что помнил, выглядело вполне безобидно. Помнил мужчину и женщину, представившихся ему учителями. Начало беседы о смысле жизни – тоже помнил. Потом воспоминания путались, таяли, расплывались. Что было дальше? Вспомнил, как сидит в каких-то датчиках, а рядом – аппарат и молоденькая девушка в белом халате. Вспомнил, что держал в руках духовое ружье. И еще вспомнил, что всю жизнь не мог терпеть человеческого высокомерия. До того ненавидел это качество в людях, что, пожалуй, убил бы не задумываясь… И до того эта ненависть в нем вдруг поднялась, что испугался самого себя…
В тот вечер у Славки Сева чувствовал себя словно не в своей тарелке. Сначала ему показалось, что так действует общая атмосфера рабочей общаги – неуютно, грязно, тупо. Но все, что он делал и даже говорил, эхом отзывалось у него в памяти. Казалось, будто все это уже было. Что сидел он уже со Славкой вот так за бутылкой красного вина и говорил эти же слова. Словно сон уже такой видел, а теперь все повторяется.
Часу в первом ночи его неожиданно потянуло на приключения. Бабу бы какую-нибудь. Можно было, конечно, и у Славки спросить – кто здесь подоступней, но решил сам проверить. Поперся зачем-то на другой этаж. Там стояла парочка таких завалящих местных красоток, покуривала, перекидывалась вяло матюгами в адрес начальника цеха. Умора, как просто оказалось снять зеленоглазую. Вторая, поди, локти кусала от зависти…
К Славке вернулся через час. Зеленоглазой обещал забегать. Очень даже ничего оказалась тетенька. Небось последнюю тысячу лет провела в полном воздержании. Вот и накинулась на него со всем пылом. Нет, правда, зацепила она его чем-то. Легко с ней было, не то что с другими…
А вот когда пришел от зеленоглазой, что-то сломалось внутри. Они еще по бутылочке выпили, и на Севу страх нашел. Хотелось рассказать Славке о дурацкой организации, куда его хозяйка затянула. Но не решился. А вдруг стоит кто за дверью и слушает.
Севка взмок от такой мысли и даже вышел проверить. Никого за дверью не было, но страх оставался. И так – до самого рассвета…
7
Дмитрий уехал в командировку, и Нора впала в отчаяние. Она не находила себе места. Ей везде мерещилась наглая темноволосая красавица. Казалось, она следит за ней, ходит повсюду.
За ней действительно ходили повсюду. Только это была не Лариса. Это была тихая незаметная девушка из организации. «Она теряет контроль над собой, – докладывала девушка Людмиле ровным, монотонным голосом. – Вчера чуть не опрокинула старушку в магазине. Сегодня поругалась с продавщицей, потом чуть не расплакалась, выскочила, оставив сумку с продуктами. В семнадцать ноль-ноль дома включила свет во всех комнатах, в семнадцать пятнадцать выключила и задернула все шторы. В двадцать пятьдесят две – опять везде включила свет…»
Выслушав свою шпионку и оставшись одна, Людмила сняла телефонную трубку.
– Нора…
– Господи, куда ты пропала? – задушено зашептала подруга. – Подожди, сейчас перейду в другую комнату.
Раздался стук, словно она выронила телефон, потом короткое шипение, и Нора снова заговорила, лихорадочно, нервно, с придыханием:
– Я все обдумала. Нужно рассказать Дмитрию. Он не бросит нас. Нет, нет, он не бросит нас со Стаськой, не бросит… Я буду просить его… Всеволода придется, конечно, уволить, но Дмитрий простит… Он обязательно простит…
– Послушай теперь меня, – сказала Людмила жестко. – Ты плохо знаешь мужчин – раз. К тому же твой муж, по моим сведениям, собирается жениться на этой девчонке…
– Нет, нет, нет! Этого не может быть. Нет!
Она еще что-то говорила, жарко шептала какие-то беспомощные слова и мольбы. Людмила отстранила трубку от уха и поморщилась. Не в первый раз ей было прибирать к рукам жен, находящихся на грани отчаяния. Самый благодатный материал. Тут излияния прекратились, и Людмила заговорила снова:
– К сожалению, он намерен не только жениться. Он уже консультировался с юристом относительно раздела имущества. Ты должна получить квартиру, которую купила матери, как он думает, – Людмила сделала упор на последних словах. – Это конец, как ты не понимаешь? Но все это ты можешь остановить. Так что решайся.
– Хорошо. Я готова. Помоги мне.
– Вот это другое дело. Наконец-то. И кого ты жалеешь? Пожалела бы она тебя?
– Да. – Дыхание Норы стало тяжелым, как у молотобойца. – Ты права. Ты, как всегда, права. Приезжай.
– Жди меня часа через два.
Людмила положила трубку и удивленно посмотрела на телефон. Странные все-таки существа эти жены. Веревки из них вить можно. Какая там специальная обработка! Обещай любую чушь, неси любую околесицу, и они у тебя в руках.
И вот в этот самый момент произошло то, что считается счастливым стечением обстоятельств. Раздался телефонный звонок. Сева напряженным голосом попросил к телефону Людмилу Павловну.
– Да, Всеволод, я вас узнала. В чем дело? Ах, вот как! Слава позвонил. Сам? Ты сейчас где? Там и оставайся. Я как раз собираюсь к вам.
Следующий звонок она сделала сама.
– Мари? Дмитрий просил передать вам маленькую просьбу. Записываете? Сегодня в баре «Молли паб» на Рубинштейна вы отыщете молодого человека по имени Слава. Узнать его просто – метр с кепкой. Двадцать пять лет. Вряд ли там найдется кто-то еще такого же роста и возраста. Да, да. Его нужно проверить. Дмитрий хочет взять его к себе поваром. По-варом. Да, он хорошо готовит. Так что займитесь им…
Лариса положила трубку и перекрестилась. Слава Богу, эта женщина, похоже, никогда не разговаривала с Мари и не знала ее голоса. Странные у них поручения. Ну что ж, попробуем себя в новом качестве. В качестве подруги мафиозного босса. Может быть, позвонить Маше, проконсультироваться? Хотя… Обойдется она и без Маши. Всегда обходилась и теперь обойдется. Поручение-то элементарное.
Весь день Лариса занималась прической, маникюром, лицом. К назначенному часу, с легким опозданием, она стояла у двери сияющая, во всем блеске своей красоты. И вдруг раздался звонок в дверь. Лариса машинально открыла, заготовив тысячу объяснений тому, почему она здесь находится и куда делась Мари. За дверью стояла девочка лет шестнадцати.
– Деточка, ты к кому? – ласково спросила Лариса.
Людмила дала команду наблюдателям собраться возле дома, в котором жил Слава. Сама она вместе с Норой и доведенным до нужного состояния Всеволодом ждала в машине под окнами. Они появились около часа. Быстро отпустили машину, исчезли в подъезде, вслед за чем у Славы в окне загорелся свет. Всеволод с длинной сумкой, куда помещалось автоматическое ружье с прицелом, поднялся к своей знакомой. В руках он нес бутылку коньяку, приправленного специальным химическим составом. Предполагалось, что его пассия, выпив несколько рюмок, погрузится в беспробудный сон. Сам же он, сославшись на то, что за рулем, пить не будет.
Именно здесь произошел небольшой сбой, о котором Людмила так никогда и не узнала. Зеленоглазая, завидев Севу, который занимал все ее мысли в последние дни, не смогла преодолеть свои здоровые инстинкты, тут же кинулась на него и затащила в постель. Коньяк она выпила много позже, чуть не сорвав весь план операции.
В три часа ночи, когда свет у Славы давно погас, всем стало ясно, что Мари вряд ли теперь появится до утра. Нора была возмущена до глубины души и все время повторяла: «Ты только подумай, кого он себе нашел: шлюха, обыкновенная шлюха!»
Вторая неожиданность, чуть не стоившая всем нервного срыва, заключалась в том, что зеленоглазая, имея от природы сильнейший организм, поразительный иммунитет и огромное чувство ответственности, проснулась утром гораздо раньше, чем ей следовало бы, и, поцеловав Всеволода, стала собираться на работу. Взбив свою пережженную химию в бурое облако и накрасив губы, она, тая от восторга, протянула Севе ключ от своей комнаты и сказала, что будет ждать его в любое время.
– Слышишь, голубок, хоть ночью, хоть утром, хоть пьяный, хоть какой – только приходи. Я девушка простая.
Под «хоть какой» она подразумевала наркотики, конечно. Своим здоровым нутром она сразу почувствовала, что у Всеволода, пусть он и не пьян был вчера, пусть и не пахло от него, взгляд был какой-то остекленевший.
У лифта зеленоглазая столкнулась с двумя расфуфыренными бабами. Та, что постарше, зыркнула на нее недобро. В ответ зеленоглазая скривила губы, презрительно повела плечиком, мол, знай наших, и, не дожидаясь лифта, побежала по ступенькам вниз.
Внизу она увидела длинноногую девицу не здешнего пошиба и с удивлением посмотрела на дверь. К кому же это? К Попову не могла. У него сегодня жена не в ночь работает. К Сидорову тоже – ему Надька глаза выдерет, если узнает. Неужто к Славику-технологу? Так если к нему, то чего-то больно длинная. Он ей, поди, в пуп дышит. Хотя кому что нравится. Зеленоглазая посмотрела на девицу свысока: ее Севушка был куда пригляднее маленького, щуплого Славки. А руки у него какие, а… Они вместе подошли к остановке, но девица вдруг хлопнула себя ладошкой по лбу и полетела назад. «Трусы забыла!» – мысленно заржала ей вслед зеленоглазая.
Сева стоял у окна и, жмурясь, сжимал ружье в руках. Людмила подтолкнула к нему Нору. Сжала ей запястье: «Командуй!» – «Убей ее, – Нора показала на Ларису, торопящуюся навстречу Славе. – Убей!» Сева выстрелил и тут же свалился как подкошенный на пол. Людмила закрыла окно и брезгливо посмотрела на него: «Господи, какая тряпка!»
Севу пришлось выволакивать из комнаты, поддерживая под руки. Соседи уже разошлись, и квартира была пуста. В лифте он пришел в себя. «Мне словно сон сейчас приснился…» – сказал он, но напоролся на улыбку Людмилы и замолчал.
После этого случая Нора была посвящена в действительные члены организации и получила карточку, которая, по словам Людмилы, очень и очень могла помочь ей в самых разных нуждах. Людмила произнесла речь и подробно рассказала о прелестях управления сознанием других людей. Нора горела желанием научиться этому поскорее. Ведь тогда она сможет повлиять и на Дмитрия. Подруга отвела ее к учителям, которым были даны инструкции раскрутить бабенку на передачу своего имущества организации.
Несколько человек в это время трудились, составляя отчет по всем видам деятельности Дмитрия. Затем, когда станет точно известно, сколько у него денег, куда они вложены и какую прибыль приносят, его предполагалось убрать. Разумеется, убивать его было глупо. Норе тогда ничего не достанется. Он должен был умереть от смертельной болезни и перед смертью передать жене и дочке ключи от своих секретов. И этой смертельной болезнью должен был стать синдром приобретенного иммунодефицита, вызванного ретровирусом ВИЧ-1, внесенным в его организм собственной женой. Дочь планировалось передать для обследования в западные филиалы, в частности в клинику д-ра Монца. Пока Людмила не поставила руководство в известность о своей находке. Завела на Настю карточку, продолжала наблюдение, предвкушая, что такая находка поможет ей продвинуться в иерархии организации.
Но когда пропал Сева, когда выяснилось, что Андрей спелся с девчонкой, что есть еще какая-то подруга, которой Грох пытался что-то передать, события стали напоминать снежный ком. Снежный ком рос, становился все больше и больше… Впервые за годы работы в организации Людмила почувствовала себя уязвимой, суетилась, роняла чашки, нервничала и курила больше обычного. Может быть, виной тому ее участившиеся поездки к Феликсу?
В последнее время ощущения, которые он ей дарил, превосходили все мыслимые восторги. Когда Людмила впервые почувствовала приступ беспокойства, то связала его с тем, что переусердствовала в эротических сеансах, и попыталась установить для себя недельный пост. Но ничего не вышло. Беспокойство, исходящее, как ей казалось, от ее встреч с Феликсом, гнало ее к нему снова и снова. В результате вместо предполагаемого поста она стала навещать его ежедневно. Привычка к сладким грезам прочно впилась в ее мозг.
Феликс стал ее первым доверенным лицом, перескочив сразу несколько обязательных иерархических ступенек, чего в организации никогда прежде не случалось, и оттерев преемника и первого зама Петеньку – лопоухого очкарика с яйцеобразным лысым черепом. Должность открыла ему доступ к кредитам коммерческих банков и базе данных организации. Но все это, казалось, его очень мало радовало, пока не была решена главная мучительная проблема с девчонкой. Он ни разу не назвал ее дочерью.
Людмила не могла себе позволить уничтожить девочку – такой бесценный для организации материал. Ее нужно было изолировать, надежно изолировать, чтобы она никак не смогла добраться до отца. По крайней мере в этом году…
Но Феликс отвергал все доводы Людмилы. И вот, когда замыслы начали срываться один за другим, Людмила почувствовала подвох в том радушии, с которым ее встречал Феликс. А что, если он использует ее состояние для внушений? А что, если в то время, пока она кувыркается в ослепительных эротических грезах, он внушает ей то, что ему нужно? Как и когда у нее появилась мысль сделать его своим помощником, через голову надежного, проверенного и прошедшего тяжелые испытания в восточных школах Петра? Да и Петр смотрит на нее подозрительно и небось уже накропал не одну телегу начальству. А значит – приедут с проверкой. А значит, девочка – ее единственный козырь. Козырь, который оправдывает все. Она сдаст им Феликса, и они не тронут ее. Людмила поежилась. Ей было хорошо известно, что случается в организации с руководящими работниками, не справившимися со своими обязанностями. Если что не так, ее найдут в петле, а на столе будет лежать ее рукой написанная записка: «Прошу никого не винить…» Заплаканная подруга и еще десяток «близких» знакомых подтвердят, что в последние дни она выглядела странной, отказывалась от помощи, а в заключение выплывет справка десятилетней давности о том, что она с детства подвержена депрессиям. Вот и все. Феликс может суетиться сколько хочет. Смешно бояться собственной дочери! Да и где гарантия, что у него нет других дочерей?
8 (Лялька)
– Елена Петровна…
Женщина вздрогнула и чуть подалась вперед. О том, что звали ее Еленой да еще что отчество у нее было, она вспоминала только здесь, в милиции. Для всех остальных она была Рямой. Кусок фамилии – Рямина – застревал костью в горле. Девичье имечко Лялька покрылось толстым слоем пыли в сундуках памяти. Она никогда не доставала его, чтобы примерить хотя бы наедине с собой, у зеркала. Она теперь не смотрелась в зеркало. Бурная жизнь превратила ее не то чтобы в старуху, но в существо без пола и возраста, в мумию – долговязую и тощую. Кожа лица была точно пергамент, светилась. Казалось, колупни – треснет, как тонкая пленка. Поэтому Ряма никогда не прикасалась к лицу, и если доставались ей тумаки от очередного сожителя-собутыльника, бросалась как подкошенная на пол, лицом вниз, и закрывала голову руками.
– Елена Петровна Рямина. Тридцать шесть лет. Сколько раз мы с тобой за последний год встречаемся?
– Третий, – быстро ответила Ряма.
– Пятый, – поправил участковый. – Пятый раз. И что ты мне говорила в четвертый?
– Не помню…
– Я помню. В четвертый раз, так же как и в третий, равно как и во второй, и в первый, ты говорила мне, что именно этот твой раз – последний. Верно?
– Честное слово, – Ряма приложила руки к плоской груди и смотрела на участкового жалобно, как богомолица.
– Решено тебя на лечение отправить. При-ну-ди-тель-но.
– Это куда же? В дурку?! Да я… да мне…
Она захлебнулась слезами, а участковый помахал перед собой папкой.
– Разит от тебя, как из помойной ямы. Где вчера была, помнишь?
– У Кольки.
– А потом?
– На пятаке.
– Ну а сюда откуда попала?
Ряма обреченно молчала. После пятака память упорхнула птичкой куда-то в более приятные места, наверно. Ряма ни черта не помнила.
– Сюда ты попала, как сказано в протоколе, из-под куста…
– На пятаке?
– Нет, на бульваре.
– А-а-а, – протянула Ряма, меняя интонацию этого многозначительного звука с вопросительной на растерянную. – Ага.
– Давай так. Ты меня сто лет знаешь.
– Знаю, – подтвердила Ряма, вспоминая, как в детстве участковый, еще молодой в те годы, Петр Ильич, приходил частенько к ним в дом по вызову соседей, когда родители, выясняя отношения, начинали крушить остатки мебели.
– Ты пойми, – Петр Ильич перешел на доверительно-семейный тон. – Болезнь у тебя, понимаешь? Не можешь ты пить. А не пить – тоже не можешь.
– Это точно. Разве это болезнь?
– Говорят, болезнь, – участковый развел руки. – Так что, Ляля, пусть подлечат немного. Дней десять. Отдохнешь. Отъешься. А?
– Ладно. – Голос у Рямы дрожал.
Ляля… Когда-то она была первой красавицей везде – во дворе, в школе. Несмотря на родителей-алкоголиков, несмотря на перелицованные с чужого плеча и застиранные чуть ли не до дыр платьица, ни один мужчина в возрасте от десяти до восьмидесяти не мог пройти мимо нее не оглянувшись.
Петр Ильич был тогда молодым и бойким милиционером. С ее родителями был суров, но в основном только грозил, потому что каждый раз, когда он являлся, непонятно было, кого из этой семейки лучше упечь на пятнадцать суток – отца или мать. Оба были агрессивными, сыпали нецензурной бранью и в драках, неизвестно кем из них спровоцированных, участвовали с одинаковым рвением.
«Пожалели бы ребенка, – кричал на них Петька-милиционер, как они его звали промеж себя. – Девчонка растет – загляденье…» – «А ты на нашу дочку не заглядывайся!» – огрызалась мать. Петя краснел, но продолжал воспитательную беседу, как того требовали его обязанности: «Другие будут скоро заглядываться! А она ведь у вас в школу раз в неделю ходит…»
Лялька с дрожащими губами выглядывала из своего угла, в ужасе думая, что Петька сейчас начнет рассказывать родителям о том, что она еще и курит, и выпивает со старшеклассниками. Поймал он всю их кодлу недавно за гаражами. Но Петька почему-то промолчал, увидел, как подергивается у нее лицо, и пожалел. Родители у Ляльки, в общем, строгие были. За школу не ругали особенно, а вот застав с сигаретой однажды, мать ей чуть половину шевелюры не выдернула, да и отец потом еще ремнем окатил: «Чтобы девка – да курила! Совсем свихнулась, тварь?» Мать к папиросам не прикасалась. При отце. С подружкой как-то раз дымила. Но потом целый день чистила зубы и жевала лавровый лист, чтобы отбить запах. Лялька тогда болела, и считалось, что спала.
Как только ее фигурка стала наливаться соками женского естества и она перестала походить на мальчика, пришлось туго. Каждый пацан в школе норовил ущипнуть ее за грудь, которая уже не умещалась в старом материнском лифчике. Когда же тот треснул по швам, Лялька выбросила его в помойное ведро и стала обходиться без него. Соски рельефно выпирали через тонкую ткань застиранной школьной формы, которую она вот уже второй год донашивала за троюродной сестрой. Теперь старшеклассники тихо обмирали, завидев Ляльку издали, и норовили завести с ней любую беседу, не в силах оторвать взгляда от ее груди.
Однажды один из этих старшеклассников и затащил Ляльку в комнату технички, где, тяжело дыша и поминутно гремя нагроможденными там ведрами, всю общупал и обгладил, как утюгом, своими нагретыми юношеской страстью потными ладонями. Ляльке понравилось. Голова закружилась, в груди что-то потяжелело, в животе – наоборот, опустело. Однако о влюбленности не могло быть и речи. Слишком уж омерзительная рожа была у ее поклонника. Но, с детства умея извлекать выгоду из каждого житейского пустячка, Лялька решила и на этот раз что-нибудь выгадать из мальчишеского интереса.
Ее избранник был прыщавым очкариком, но из хорошей семьи, что особенно ей льстило. По понедельникам, средам и пятницам, когда у него дома никого не было, она тайно пробиралась к нему в подъезд, чтобы, не дай Бог, никто из соседей не догадался, куда и к кому она направляется. Первым делом Лялька шла на кухню и наедалась до отвала. После таких вкусностей, которыми кормил ее Борька, можно было позволить ему все, что угодно. Но Лялька позволяла не все, а только – до пояса. И, накормив свою голубушку в очередной раз, Борька укладывал ее на диван в одних только толстых колготках с заплатками, чтобы, потея и чуть ли не теряя сознание, беспрепятственно мять ее умопомрачительно стоящую сосками к потолку грудь и выпирающий живот, бурчащий на все лады после обильной трапезы.
Когда его руки в отчаянной попытке пытались проникнуть ниже, под колготки, Лялька тут же приходила в себя, вскакивала и ругалась матом. На самом деле она не столько возмущалась его действиями, сколько стеснялась голубых уродливых панталон, которые мать передала ей по наследству.
Иногда, наевшись, она не сразу раздевалась, а ходила еще по квартире, под сопутствующие стоны и уговоры Борьки, смотрела «как люди живут». Ей нравилось практически все. Все вызывало острую зависть: блестящий халат его матери, хрустальная пепельница отца, отдельнаяБорькина комната и кровать, покрытая мохнатым пледом. Чем дольше изучала Лялька этот шикарный дом, тем сильнее становилась зависть, появлялось нехорошее чувство, распространявшееся и на Борьку, и на всю его семейку. Каждая вещь словно кричала ей: «У тебя такого никогда не будет! Возвращайся в свою берлогу!»
Лялька очень быстро привыкла к процедуре своего пребывания у Борьки. Чувствовала себя как на приеме у врача. Ну пришла, ну разделась, ну ощупали. Что в этом такого. Гораздо интереснее ей было шарить потом в гардеробе его матери, примерять ее клипсы, мерить платья. Однажды Борька жарко шепнул ей в ухо, что у него вчера был день рождения, что предки дали денег на джинсы, что он отдаст их ей, если только она… Лялька вдруг представила целую кучу денег в собственном распоряжении, и сердце захолонуло от открывающихся перспектив. Она стала отчаянно торговаться, сводя на нет то, что он от нее требовал. Он в свою очередь уменьшал ставку. Через полчаса они охрипли и привели свои претензии к общему знаменателю. Лялька идет в ванную, раздевается там и показывается ему вся, со всех сторон, и дает немного потрогать все сразу. Две минуты. Она настояла, чтобы он поставил на стиральную машину будильник и следил за временем. За две минуты она получает двадцать пять рублей.
У дверей ванной комнаты они еще поспорили охрипшими от волнения голосами о том, когда он отдаст ей деньги: до или после. Решили так: она разденется и подаст знак – пустит воду. Он подсунет ей половину денег под дверь, а вторую половину отдаст, как только войдет. Лялька закрылась в ванной и принялась трясущимися руками стаскивать с себя одежду, все время посматривая на щель под дверью, откуда вот-вот должны были показаться деньги, которые она никогда не держала в руках. От волнения, причиной которого было, разумеется, неожиданное богатство и тысяча и одна мысль о том, как оно будет использовано, Ляльке даже стало дурно на минуточку. Она присела голым задом на краешек ванны и решила хлебнуть воды из-под крана. Как только она включила воду, под дверь проползла красная десятирублевка, два желтых измятых рубля, а потом проскочила мелочь: две двадцатикопеечные и гривенник. Лялька долго выковыривала деньги из-под двери. Неужели это не сон? Она посмотрела на себя в зеркало и поняла, что стыдиться ей нечего. Без голубых панталон она была краше любой картины из музея, пусть смотрит, дурак. Она тихо отодвинула задвижку и выпрямилась во весь рост, выставив грудь вперед…
Шлепающий звук воды, льющейся из крана, оставил для нее незамеченным один важный посторонний звук: поворот ключа в дверном замке. Кандидат биологических наук, Борькин папа, вошел в коридор так внезапно, что красный как рак Борька, залопотав что-то про мусор, про ведро, выскочил из квартиры, оставляя на долю Ляльки все объяснения.
Отец ничего не понял, но как только за сыном захлопнулась дверь, услышал звук отодвинутого в ванной комнате замка. Изумленно подняв брови и ровным счетом ничего не подозревая, он распахнул дверь…
Он ничего не мог с собой поделать, так он оправдывался перед собой весь тот вечер, пока жена заваривала ему крепкий чай с малиной, – ну как же простудился, голубок! – пока искала шерстяные носки. Он вошел и увидел ее всю целиком, как и было задумано. И… не справился с собой. Бросился, как… животное. Это инстинкты, говорил он себе весь вечер, никто бы не устоял. Она не кричала, и слава Богу, истерики не устроила, быстро оделась и тихо ушла. Все нормально, если бы он еще не повторял ей поминутно: «Ну, извини, извини…» Если бы он весь вечер не мучился тем, расскажет она родителям или нет. Но кто ей поверит? Кто поверит беспутной девке, которую порядочный отец семейства застал совершенно нагой в собственной ванной? Чем она тут занималась? Соблазняла их невинного мальчика? Кто ей поверит!
Лялька бежала домой как подстреленная. Только у подъезда остановилась отдышаться и заметила, что кулаки у нее сжаты так, что побелели костяшки. Она разжала кулак, и на тротуар посыпались монетки и рубли. Ее залихорадило. Подобрать или нет? Подобрала. И заплакала на лестнице. Белугой заревела. Господи, да что же это такое? Что это такое с ней сделали? Что-то мерзкое, страшное, нечеловеческое. Весь вечер она провела на ногах – сидеть было больно. А на следующий день, поговорив с Борькой, поняла вдруг: он же ничего не знает. Не сказал ему папочка! Конечно! Ничего не сказал… Ну погоди, веселая семейка!
Ненависть к блестящему халату и хрустальной пепельнице окончательно перешла на их владельцев. Вот, значит, как вы со мной! Не на ту напали, папочка! Я вам такое устрою!
И устроила. В среду, пообещав Борьке, что на этот раз – наверняка, она спряталась не в ванной комнате, а в родительской спальне. Пока дурак Борька стыл в ожидании женских чудес, Лялька порылась в трюмо и выудила золотую цепочку, серебряный портсигар и браслет из дутого золота – широкий, красивый. Уложив добычу в портфель, предусмотрительно захваченный в комнату, Лялька сделала страшные глаза и выскочила к Борьке: «Твой папа! Я в окно видела!» И он сам выпроводил ее, а вместе с ней и золотишко.
Лялька ликовала полдня. А к вечеру пошла к вокзалу, попытать счастья.
– Дай копейку, девонька, – прошамкал ей беззубый калека с перрона.
Лялька обернулась и тут же прониклась к дядьке доверием. Этот – свой. Пьянь и рвань. Этого можно не бояться.
– Ай, дяденька, – запричитала Лялька. – Мамку в больницу забрали, а папка уже неделю пятнадцать суток высиживает. Денег нету. Как бы мне вещички продать? Помру же с голодухи!
Лицо у калеки слегка вытянулось. Он посмотрел куда-то через зал, словно искал там кого-то глазами. Пожал плечами. Девочка проследила направление его взгляда и… пропала.
Так она попала к Корнилычу. Вдоволь посмеявшись над ее историей, он решил использовать ее чары в своих интересах. Родителям было сказано, что Лялька бросает школу и устраивается на работу. Родители не спросили куда, а только – сколько платят. Вздохнули облегченно. История с кражей у Борьки последствий не имела. Кандидат-биолог приложил все усилия, чтобы удержать бьющуюся в истерике жену от заявлений в милицию. Отпоил валерианкой, объяснил, что давал ключи декану для встречи с юной и очень ветреной особой. Декан обещал компенсировать пропажу.
Лялька принялась за работу с азартом. Любимыми клиентами у нее стали простачки, приехавшие с северными деньгами, дабы быстро и бурно насладиться питерской жизнью. Ее юность и свежесть работали без сбоев. За первые три месяца она принесла Корнилычу столько же, сколько все остальные приживалы вместе взятые. «Смотри, старик, какие потроха!» – частенько говорила она перед тем, как «снять» очередного типа в дубленке и предоставить на растерзание серым крысам.
Разумеется, случалось ей оказывать клиентам и другие услуги. Напоролась однажды на ментов в штатском, пришлось ублажить сразу троих. «Корочки» свои под нос совали, Корнилыч вступиться не решился. И Лялька обслужила – бесплатно и быстро. «Промахнулась, – объяснялась она чуть позже с Корнилычем. – Не я потрошила – меня. Ничего, наверстаем».
Появлялись у нее, конечно, богатенькие клиенты и для души. Когда норму перевыполняла, Корнилыч не возражал, и Лялька укатывала дня на три – в отпуск. Лет за десять перебывала во всех питерских ресторанах, во всех пригородных дешевых гостиницах. Но дальше пригородного захолустья никогда не звали. А ей на юг хотелось, хоть разок… Где там! Держи карман шире!
От беспросветного пьянства красота ее так окончательно и не расцвела, а лет через пять тихо скончалось и то очарование, которое заставляло мужчин смотреть ей вслед. Им на смену пришла зазывная развязность, обещавшая профессионализм и полное отсутствие комплексов. Работа шла ничуть не хуже. Но за десять лет все это ей ох как обрыдло. Однообразие мучило. Стала Лялька чаще сидеть по вечерам с цыганами – вино пить. А потом с «убогими» – портвейн и водку. Каждый вечер встречал ее Корнилыч пьяной в дым, в хлам. Понял – тоскует девка. Какой из нее теперь работник!
Хотел было Корнилыч отвалить ей отступного да домой отправить, но тут подвернулся Феликс. Пусть девчонка порадуется, решил. Таких мужиков она отродясь не цепляла.
В первый день Лялька спьяну не разглядела «сюрприз» Корнилыча. Обматерила, бухнулась спать. А на следующее утро присмотрелась – и даже голова похмельная гудеть перестала. Вот это птичка залетная! Черты лица – как из камня выточены. Породистый, не здешняя шелупонь. Такие на нее и не смотрят обычно. Да и ей к таким подходить боязно – окатят презрением: мол, куда ты, красотка, со свиным рылом да в калашный ряд. А тут – рядом лежит себе на кровати, не храпит, как слон, а дышит тихо, как котенок.
Лялька изменилась в два счета. Состригла завешивающие лицо лохмы, краситься стала поприличней, белье полностью обновила – и постельное, и то, что на теле. Мыло завела душистое, вместо дурных французских духов. А главное – пить бросила, как отрезало.
Он, правда, редко к ней прикасался. Так, если уж очень пристанет. Да и как мужик он был не то чтобы полный ноль, ну так, на одну десятую. Она минут по сорок каждый раз ухлопывала, чтобы в нем хоть что-то зашевелилось. Это Лялька-то, профессионалка, которая любого мужика за пять минут заводила обычно.
Но ее тянуло к нему страшно, люто. Слезами по ночам обливалась Лялька от безысходной своей страсти, лежала с ним, спящим, рядом и утопала в собственных слезах. А утром всю свою нежность нерастраченную пускала на скудное их домашнее хозяйство: чистоту блюла для своего принца, щи варила ему отдельно от общей бурды, всякую вкуснятину покупала в кулинарии.
Он то ли не видел, как она старается, то ли привык к такому и считал нормальным, но ни разу не похвалил. Тогда Лялька захотела ребеночка. Чтобы такой же был, породистый. И глазки – такие же черненькие, и профиль – такой же точеный. И как он ни сопротивлялся безумному ее желанию, все равно она по-своему сделала. Феликс даже Корнилычу жаловался, нес ахинею про проклятия да пророчества, она ничего не поняла, но Корнилыч за Ляльку заступился, сказал, пусть, ее дело. Но Лялька почуяла сговор. И испугалась. Мало ли чего они с ее ребеночком сотворить захотят?
Время шло, Феликс как был к Ляльке замороженным, так и остался. Она хозяйство забросила и плакать по ночам перестала, смирилась с несчастной любовью. Но искра надежды в ней не погасла, а переметнулась к нарождающемуся в ее животе ребеночку. Дважды Лялька ездила домой, оказалось, что отец помер год назад, а мать еле ноги волочит. Стало быть, квартира в ее распоряжении. Захотелось пожить как все. Денег ей Корнилыч обещал достаточно. Проживет.
Она сказала Феликсу все так, как они договорились с Корнилычем. Она сказала, что родился сын. Что умер в больнице. А потом смотрела, как он радовался. Даже приплясывать стал. «Пропади ты пропадом!» – подумала про себя Лялька, решив, что никогда не скажет ему про дочь…
Лялька вернулась домой и на пороге столкнулась с Иркой.
– Ты куда? – прищурилась на нее.
– А ты откуда?
– Не смей…
– Ой, отстань, Бога ради. Иди рот прополощи, а то дышать в квартире уже нечем.
– Ты как с матерью…
– И быстро! – прикрикнула Ирка.
Лялька поплелась на кухню. Дочка выросла решительная и властная. Не дай Бог, сейчас про деньги спросит. Нужно было подготовиться к этому вопросу, чтобы солгать искренне, изобразив полное недоумение.
Ирка при такой матери с детства хорошо знала, где раки зимуют. Но в отсутствие тяжелой отцовской руки выросла человеком независимым и не терпящим посягательств на свою волю. Ей никто был не указ, и она частенько вышвыривала из квартиры мамочкиных сожителей, как только те решали, что пора бы заняться воспитанием «доченьки».
Мать превратилась в развалину до сорока. Выхлопотали ей с Божьей помощью инвалидность. Но платили по инвалидности гроши, поэтому Ирка бросила школу сразу после восьмого класса. Наслушавшись историй о молодости матери, Ирка быстро сообразила, как может девочка с ее внешностью зарабатывать себе на хлеб с толстым слоем масла. Благо внешностью ее природа не обидела, женскими прелестями наградила от души. Соседи говорили, что она похожа на мать как две капли воды. Ирка обижалась. Мать выглядела старой унылой клячей, да и плоской была, как вобла, не Иркины у нее были формы. Но если бы когда-нибудь Лялькиным родителям пришло в голову запечатлеть единственное чадо на фотографии, Ирка бесспорно потеряла бы весь свой гонор: она повторяла мать с макушки до розовых пяточек.
Ирка не стала растрачивать себя на мальчишек с липкими руками. Она открыла газету, пестревшую объявлениями о тайском массаже, саунах с развлечениями и прочих сопутствующих услугах, и позвонила по нескольким телефонам, пытаясь устроиться на работу.
Три конторы оказались захудалыми берлогами, уровня ее собственного жилища, – голые стены, грязное белье, усталые престарелые тетки. А вот четвертая ей приглянулась. Контора располагалась нелегально в стенах плавательного бассейна. Да какого! Блестящий изумрудный кафель, голубая прозрачная вода, тренажеры, сауна и шикарные помещения для приема посетителей в подвале.
И еще приглянулся ей парень, показавший все эти прелести и потребовавший, чтобы и Ирка предъявила свои. Претендентка на вакансию представила товар лицом, и парень, Жорик его звали, не устоял перед дегустацией этого редкостного товара. После, когда они, покуривая, лежали на обитом бархатом диване, он пообещал ей золотые горы и что-то еще по мелочам от себя в придачу.
С начала новой недели Ирку оформили на работу инструктором по плаванию. Ей выдали ярко-красный купальник и заставили собрать непокорные кудри на затылке. Первые три дня пожилая женщина, работающая в раздевалке, повторяла ей часто: «Подбери живот!» Ирка втягивала в себя живот перед зеркалом и сама же собой восхищалась: она была точно тростинка, на которой выросли четыре упругих мяча – два впереди сверху и два сзади внизу. Она легкой походкой перебегала из одного угла бассейна в другой, чтобы напомнить нерадивым пловцам надеть шапочку или сообщить, что оплаченное время их пребывания в голубой воде закончилось. Женщины смотрели ей вслед с ненавистью, мужчины торопились поскорее нырнуть, чтобы остыть.
Заказы посыпались с первых же минут ее пребывания в бассейне. Каждые два часа Ирка бесследно исчезала со своего поста у воды и появлялась всегда ровно через тридцать минут, одаривая пловцов, рыщущих взглядом в поисках ее быстрых ножек, сияющей улыбкой. Немного растрепанная и чересчур румяная, она делалась краше обычного, и вскоре к ней уже была установлена запись, и цены на ее услуги перевалили все мыслимые пределы.
Однако, получая вознаграждение за свои труды, Ирка опешила. «Не кипятись, – в глазах Жорика впервые за время их знакомства сверкнул злой огонек, – не за тебя платили. За сервис, за безопасность, за комфорт. Хочешь попробовать на улице? Никто не держит».
Деньги моментально потеряли для нее всякую прелесть. Она шла домой чуть не плача, размышляя о том, обманули ее или так принято в этом бизнесе. Спросить у матери, какой процент выделяли ей?
Дома царил полный хаос. Из кухни клубами валил дым, значит, компания только начала пьянствовать…
Утром Ирка проснулась выспавшаяся и повеселела. Ладно, сколько бы там ни было, все равно ее товарка Надюха в своем ларьке столько не зарабатывает. Даже на подпольной водке в праздники. Нужно было во что бы то ни стало почувствовать прелесть полученных денег, а значит – купить себе что-нибудь такое, к чему душа особенно лежит. Ирка приподнялась на кушетке и порылась в сумочке. Рука ощупала пустые матерчатые стенки и замерла внутри. Сразу вспомнились и ласковый взгляд матери вчера, и пьяная компания. Сперла, стерва! Вот дура-то! Ведь пропьют!
Ирка выскочила на кухню и обмерла. На пустом столе стояла батарея бутылок дорогой водки. Точно сперла! Целый день она просидела дома в ожидании матери, но та так и не объявилась…
В бассейне мирно плескалась вода о бортики. Этот плеск успокаивал. Народу не было, и Ирка отправилась вниз, на поиски Жорика.
– Дай денег в долг. Отработаю – вычтешь.
Не вынимая сигареты изо рта, Жорик внимательно осмотрел Ирку с головы до ног.
– Поправь вот здесь, – показал он на сморщившийся купальник. – Во, то что надо!
– Денег дашь? – Ирка смотрела исподлобья.
– Ты чего, мать, шубу, что ли, купила? Так ведь не сезон еще!
– Украли. Мать стырила. Все, до копейки.
– Так забери у нее.
– Пропили уже, гады.
– Живы хоть?
– Живы, – Ирка звучно щелкнула зубами, – два дня квасили.
– Во дают! Я бы неделю пил на такие деньги, честное слово.
Они помолчали.
– Значит, говоришь, денег дать?
Ирка уже поняла, куда он клонит, но упорно молчала.
– Так ведь задаром ничего не бывает, знаешь об этом? Вот и замечательно. Здесь у меня парочка крутых была. Просили девочку прислать домой. За город. Поедешь?
– Сколько?
– Нет, Ириш, ты золото. Не спрашиваешь: кто такие, надолго ли? Сразу – о главном. На руки – пол твоей зарплаты, и все, что сверху дадут там, твое.
– Куда ехать?
– Да отвезу я, не волнуйся. И подожду, если нужно. Если захочешь, конечно. Хоть до завтра.
Ирка скорчила ему козью морду, показала язык и, гордо виляя задом, поднялась наверх.
9 (Стася – Слава)
После знакомства с Мари, после своей бесплодной попытки помочь этой девушке Стася внимательно наблюдала за отцом. Однажды он вернулся из командировки, и ему позвонили. Как только раздался телефонный звонок, Стася поняла – все. Это – все. Мари погибла. Стася заперлась в ванной, включила душ и вволю наплакалась под журчание воды.
Через два дня в их доме появилась женщина, которую отец называл своей коллегой. Смешно было представить эту утонченную интеллектуалку и домоседку в компании с теми «сотрудниками», которые порой приходили к ним домой, чтобы уничтожить все запасы продуктов и спиртного. Стася была уверена, что отец по уши влюблен в Раису. Козе было ясно, что он тает от одного ее взгляда. И еще Стася нафантазировала, что мама с папой скоро разбегутся. Стася даже поплакала тихонечко в подушку, но потом успокоилась.
Это все опять ее фантазии. Ведь мама ничего не замечала, ей это было неинтересно. Ее в последнее время занимало что-то другое. Что-то совсем другое, как-то нехорошо связанное с папой. Мама сказала про Раису «клуша» и презрительно скривила губы. Мама сказала – странно, что у нее нет детей, такой клуше только и нужно, что опекать кого-то. Ее красивой маме не пришло в голову, что отцу, может быть, именно это и надо. Мама не понимала, что их ультрасовременный папочка на самом деле – редчайший вид допотопного мамонта. Пусть он одевается по последней моде и слушает современную музыку, пусть он идет в ногу со временем в своем научно-исследовательском институте, Стася-то все равно знает, какой он мамонт. В старости он будет сидеть в кресле-качалке напротив жены, вяжущей ему шерстяные носки, и смотреть мультфильмы с внуками. И это будут самые счастливые дни его жизни.
Все эти фантазии пришли ей в голову неожиданно, за ужином. Она замечталась и долго смотрела, как отец разделывается с огромным куском курицы. Стася выпала из общего разговора, а когда очнулась, с легкой грустью посмотрела на Раису и спросила невпопад: «А вы носки-то вязать умеете?» – «Умею», – ответила Рая машинально и тут же принялась мысленно проклинать себя на чем свет стоит, вспомнив, как эти дурацкие носки раздражали когда-то ее дружка. Отец поперхнулся, мама покраснела, Стася захлопала глазами. Вечер был испорчен.
Собственно, Раиса тоже была редким видом мамонта. Она явилась из глубинки, из какой-то тихой провинции, где провела подо льдами свое детство, отрочество, молодость и большую часть зрелых лет. Стася вдруг подумала: откуда она все это знает? Из снов? А может быть, она сумасшедшая? В голове у Стаси был полный сумбур. Так уже было однажды зимой, когда она никак не могла добраться домой. Стася шла по парку, и вдруг ее скрутила такая боль, что она чуть не закричала. Способ снять боль был один – делать все наоборот. Раз она шла домой, то, стало быть, нужно идти обратно в школу. Стася повернулась и пошла назад. Боль исчезла в то же мгновение. В следующий раз боль заставила ее дать большой крюк по парку, потом расстроила ее воскресные планы и заставила целый день провести дома.
Сейчас Стасе захотелось съездить куда-нибудь в центр. «Просто так, проветриться», – говорила она себе, не желая признаваться в том, что ее что-то гонит из дома. Напевая, она вышла и столкнулась с отцом. В машине сидела Раиса. Девочка загляделась на нее, та покраснела, и Стася присвистнула про себя: «Вот это да!» Она еще толком не знала, к чему отнести свое «вот это да», а в голову ей пришла еще более странная мысль: «Так ей и надо!»
Стася поцеловала отца, помахала Раисе и пошла по парку, втянув голову в плечи. Про кого это она сейчас подумала? Неужели про маму? Про маму. А почему? Что ей такого сделала мама? Что-то сделала. Что-то непростительное, обидное до слез. Только все-таки непонятно – что же. И потом, пусть отец наконец будет счастлив. «Да что же это такое! – возмутилась Стася в ответ на собственные мысли. – С чего я взяла?..» Правда, ведь это же все так и будет. Внутри вдруг воцарилось глубокое спокойствие. Стася почувствовала себя взрослой и глубоко несчастной. И еще ей показалось, что тот человек из сна… Он вот-вот ее схватит. Но сопротивление бесполезно. Чувство обреченности было новым, но она никак не могла от него избавиться.
Ноги все несли и несли ее куда-то к остановке, потом в метро, снова к остановке… И все под музыку: ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла… Она мурлыкала эту мелодию от самого дома. И вот когда остановилась, глазам своим не поверила: маленькое кафе, перед которым она теперь стояла, называлось «Моцарт». А всю дорогу она распевала «Волшебную флейту». «Нет», – простонала про себя Стася и собралась уйти. Но тут пересилило детское любопытство. Любопытство, возведенное в квадрат, нет, в куб.
Четыре столика. Три пусты. А за четвертым мужчина. Сидит спиной, лица не видно. Чувство обреченности поколебалось немного и слегка отпустило. Стася сделала еще один шаг, и ей стало чуть-чуть легче дышать. Тогда она быстро направилась к столику, чувствуя, как ее душу охватывает нечто вроде триумфа победителя…
При одной мысли о том, чтобы вернуться домой, у Славы начинали мелко подрагивать пальцы. Если его распрекрасная Мари была «убитой Юрской», то кто, спрашивается, та, другая, с которой он коротал последние дни? Та, которая выдает себя за Ларису? Та, перед которой он разыгрывает роль героя вот уже около месяца?
Господи, какой же он дурак! Мог бы и сразу догадаться, что к чему. Его Мари, то есть, конечно, Лариса Юрская, конечно – Лариса, говорила как пела, с ней можно было разговаривать часами о чем угодно. Эрудиция, интеллект, честолюбие. Все это хорошо вписывается в образ студентки филфака. А Лариса, которая сидит у него дома, рассказывает свои страшные истории, пользуясь набором из двадцати слов. Да она никогда бы и не поступила на филологический.
Мимо Славы, зазывно звеня, пронесся трамвай и остановился на остановке. Почему-то ему захотелось в этот трамвай, захотелось непременно. Пятнадцать минут он блаженствовал, бездумно глядя в окно на проплывающих мимо пешеходов, скачущих по лужам, но на одной из остановок вдруг ввалились толпой люди, ему пришлось уступить место и захотелось тут же выйти.
На улице Слава вновь почувствовал себя обманутым и одиноким. Захотелось пожаловаться кому-нибудь. Кафе, в которое он забрел, было безлюдным. Потоптавшись на пороге, Слава собрался уйти, когда томная длинная девица появилась за стойкой и призывно вытянула шею.
– Открыто? – поинтересовался Слава на всякий случай.
– Конечно, разумеется, естественно.
Ходячий словарь синонимов. Слава заказал кофе и два пирожка с повидлом.
Он углубился в свои мысли и не услышал, как открылась дверь, как появилась девочка с сумкой через плечо. Ему страшно не понравилось, что кто-то садится за его столик, в то время как еще три стоят абсолютно пустыми. Он поднял глаза.
– Ты?! – Кофе выплеснулся на стол.
Девочка нервно рассмеялась.
– Если я тебе скажу, как тебя нашла, ты не поверишь.
– Да нет, ошибаешься, я теперь готов верить всему.
– Ну, для начала, я – Настя.
– А в конце концов кто? – зло спросил Слава и тут же отметил, что смахивает со стороны на параноика.
– Стася.
– Кто?
– Стася. Так меня зовет папа. Хочешь, покажу паспорт?
– Ой, только ради Бога… Давай так, Настя. Я доедаю свои пирожки и ухожу, ладно? Вот смотри…
И он, проворно откусывая пирожки маленькими кусочками, принялся неестественно быстро жевать.
– Подожди, – попросила девочка, – не торопись.
– Не могу, – ответил с набитым ртом Слава, прихлебывая кофе из чашечки, – тороплюсь.
– Мы ведь не случайно встретились!
– Уж я догадываюсь. Кто же тебя подсылает все время?
– Судьба…
– Ты ненормальная?
– Немного.
– Я так и понял.
Он стал подниматься, но девочка потянула его за рукав.
– Мы ведь для чего-то встретились, – девочка наморщила лоб. – Я вот только не понимаю пока – для чего.
– Вот когда поймешь, тогда и приходи, поговорим.
– Куда приходить?
Слава разозлился и вышел из себя, тут же в нем проснулось что-то героическое. Сейчас, после порции пирожков, он был уверен, что лже-Ларису подослал к нему Дмитрий – шпионить. Сейчас он сделает ему подарочек, пусть его разорит эта девица.
– Я тебе телефончик оставлю, – радостно заговорил Слава, предвкушая последствия. – Трубку, хорошо? Звони в любое время. Вот номер. – И он дрожащими пальцами написал на салфетке номер Дмитрия и протянул девочке. – А теперь мне нужно бежать, извини.
Он быстро пошел к двери, а Настя, посмотрев на салфетку, сказала изумленно:
– Это ведь папин номер!
Слава замер в дверном проеме. Глубоко вздохнув, чтобы унять неуместное сердцебиение, он повернулся на каблуках и снова сел напротив девочки.
– И кто твой папа?
– Дмитрий Николаевич.
Слава чуть не опрокинул стул, вставая. Вот больная, навязалась на его голову. Он готов был ее стукнуть, а девочка тем временем что-то доставала из сумки.
– Смотри, – сказала она, и Слава перевел взгляд на фотографию, которую Стася держала в руках.
На фотографии все та же девочка висела на шее у счастливого мужика, который мог с успехом оказаться и Дмитрием Николаевичем и кем-нибудь совсем другим. Трудно было представить по фотографии его затылок или голос. Слава застонал, сел и обхватил голову руками.
– Хорошо, допустим, этот твой папа и Дмитрий – одно и то же лицо. Зачем он тебя прислал?
– Меня никто не присылал.
– Я что, похож на идиота?
– Нет. Папа понятия не имеет, где я сейчас. Да я и сама не знаю…
Слава насторожился. Он вспомнил, что в прошлый раз Настя несла точно такую же околесицу, но он, очарованный красивыми женщинами, списал все несуразицы на их глубоко личные дела, которые они обсуждают иносказательно. Может быть, она все-таки того, с приветом? Но она была до того хорошенькая, что Слава вздохнул и грустно подумал: «Если окажется нормальной, все-таки свожу ее в,,Баскин-Робинс»…»
– Ты в кафе «Моцарт».
– Точно. – Настя хлопнула себя рукой по лбу. – То-то я все утро пела это… Знаешь… ла-ла-ла-ла-ла…
– Как ты меня нашла?
– Шла, шла и нашла. Ее убили?
– Да.
– Я хотела предупредить…
– Значит, это все-таки он…
– Нет, что ты, – Стася замахала руками. – За ним тоже охотятся. И за мной…
– За тобой?! Да кто же они?
– Их много, я не знаю.
Ее голос звучал до того грустно и обреченно, что Славе захотелось обнять ее и заслонить от всех невзгод. И это был не героизм. Это была самая насущная потребность. Ему казалось, не сделай он этого, ну хотя бы мысленно, девочка пропадет. И он это сделал. Мысленно…
А она словно почувствовала, улыбнулась, щеки зарумянились, на глаза навернулись малюсенькие бриллиантовые слезинки.
– Ты мне веришь? – спросила она.
– Как последний дурак, – признался он.
И тогда она стала рассказывать ему о своей необычной боли, рассказывать подробно, начиная с раннего детства, с мячика, сбежавшего под автобус…
– И все-таки, – выслушав долгий рассказ, спросил Слава, – зачем ты-то им?
– Не знаю, – сказала она упавшим голосом. – Но чувствую, главная здесь я.
– Может быть, ты просто боишься? – спросил Слава будничным тоном героя.
– Боюсь. – Она кивнула, и у Славы дрогнуло – в который уже раз! – сердце.
Он попытался ее успокоить. В его голосе появились нотки взрослого человека, вынужденного общаться с ребенком.
– Все может быть совсем не так… – начал он.
Она посмотрела на него с надеждой, и это подвигло его продолжать в том же духе. Эту минуту он на следующий день вспоминал сотню раз. С чего его так понесло? Куда он поехал? Сидит перед ним девочка… И не девочка, а замечательная девушка… Нет, нет. Это уже было, проходили. Красивая? Нет, и это не главное. Его девушка сидит. И смотрит влюбленными глазами. Его – вот что самое главное. Ничья – до, и ничья – после. Только его. И говорит ему, правда, не словами, а глазами ласковыми, всей преданностью своего детского сердечка: «Я же – твоя. Неужели ты меня не узнаешь? Смешно, ей-богу! А я тебя сразу узнала. Еще в прошлый раз. Я ведь нашла тебя в огромном городе, неужели ты ничего не понял? Не почувствовал?»
– Может быть, они охотятся вовсе и не за тобой. За другой девушкой.
– Ты ее знаешь? – настороженно спросила Стася.
– Понимаешь, есть одна девушка…
Стася вспыхнула, как спичка. Это уже походило на семейную сцену. Например, когда добропорядочный муж, проживший с женой в безупречном браке лет этак пятнадцать, говорит ей: «Есть одна девушка…» Чего так вспыхивать-то? Мы ведь еще не ходили в кафе-мороженое, правда? И может быть, даже никогда не пойдем. Может быть, это еще одна из многочисленных моих фантазий. А потом, правда все-таки лучше. С какой стати я должен что-то для тебя придумывать? Согласна? Ну так слушай!
– …Как бы это тебе сказать… Она подруга Мари. Не так, нет. Хотя… пусть и так. Она тоже очень их боится. Скрывается. И… пока живет у меня.
Это надо было видеть! Как она сорвалась с места! Школьница, что с нее возьмешь. Слава почувствовал себя виноватым и тут же возмутился: с какой стати? Стася вскочила и замерла, бледная как мел.
– И много их у тебя?
– Але, девушка, чего это вы мне в мамы набиваетесь? Я уже совершеннолетний. И, кстати, давно…
Тут он еще ни к селу ни к городу улыбнулся. Вульгарно так получилось, отвратительно. Самому себе противен был. В чужом, каком-то дурацком стиле. Ну понесло, бывает…
Он еще успел заметить, как дрогнула у нее нижняя губа, как она сощурила глаза, чтобы не расплескать чего-нибудь из них ненароком, как выпрямилась во весь свой рост, прихватила куртку и вышла из кафе.
«Вот дура!» – была его первая мысль. «Дуй за ней, идиот!» – тут же пришла ей на смену вторая. Опомнился он только тогда, когда в дверях встала высокая официантка:
– Куда? А платить кто…
Роясь в кармане, доставая кошелек, считая, он успевал смотреть на дорогу краем глаза. Стася помедлила на тротуаре, словно не зная, куда же ей теперь… Потом, будто спохватившись, перебежала дорогу. И он все еще не терял ее из виду, когда фальцетом крикнул официантке «сдачи не надо» и оказался на ступеньках. Зеленый свет вывалил на дорогу уйму всякого транспорта, фары слепили глаза, но он не сводил с нее глаз, уверенный в том, что, как только отвернется или сморгнет, она растает как дым.
Но получилось еще хуже. Потому что все случилось на его глазах. Он не заметил, как затормозила машина, – Стасю взяли с двух сторон под руки, положили руку на голову, сажая в машину. Две секунды. Он ринулся под колеса. И даже успел коснуться багажника красного «Москвича» с тонированными стеклами. И увидеть – хотя, может быть, это ему показалось – ее испуганные глаза за стеклом.
Он встал посреди дороги. Серый «фольксваген» завизжал тормозами. Пропустив мимо ушей матерщину перепуганного водителя, Слава достал из кармана все деньги, полученные от Дмитрия, показал мужику за рулем и, чеканя слог, спросил:
– Заработать хочешь?
Минутой позже он, поражаясь собственной внутренней сосредоточенности, обещал мужику треть суммы, если тот потеряет из виду красный «Москвич» через двадцать минут, половину – если через сорок, и все, если «доведет» до конца. Мужик спросил только одно: «Вся пачка из пятисоток?» – «Вся». Больше вопросов не возникло…
10 (Сева)
В последнее время с Севой творилось что-то неладное. Он чувствовал, что попал в западню. Это было приблизительно как в Афгане, когда их барак накрыло пулеметным огнем. Смерть стояла за его спиной и презрительно хихикала над его уловками спрятаться за шкафом, а потом – за еще теплыми телами товарищей. А когда пуля вошла в ногу, он вдруг понял – это конец. То есть начало конца. Пули изрешетят его тело, он забьется в короткой предсмертной агонии… Сева оцепенел, сидел и смотрел, как из раны медленно сочится кровь.
Тогда ему повезло. Как в сказке, в последний момент появились свои. Он пытался кричать «ура», он плакал, он поверил в Бога, в справедливость, в свою счастливую звезду. Через месяц он вернулся домой. Родители считали его героем. Пересказывали родственникам, знакомым и незнакомым людям историю его подвигов, которую он сочинил в поезде, возвращаясь из Афганистана в родной Ижевск. Соседские дети провожали его на улице стаями, девушки смотрели вслед, раскрыв рты. Сева не выдержал груза незаслуженной славы и рванул в Ленинград, где решил никогда никому не рассказывать о своем героическом прошлом: три дня рядом с линией фронта и месяц в госпитале.
Но все-таки пришлось однажды. Предлагали работу охранником, требовались солидные рекомендации. Афганское прошлое котировалось по высшему разряду. Пришлось снова фантазировать, готовить историю для хозяина. Но хозяин так ничего и не спросил. Его устроил внешний вид Севы – метр шестьдесят восемь в высоту и почти столько же в ширину в плечах. Ну чуть меньше. Совсем чуть-чуть.
И все было хорошо, пока Норе не взбрендило… И почему он не послал ее подальше с самого начала? Куда она его затащила? Кто эти люди, после встреч с которыми он начисто забывал, где был и что делал? Или что они с ним делали.
После того как он встретился со Славкой, потянулись сплошные неприятности. Сперва пристрелили Машу. Была такая девочка, он к ней пару раз возил приятелей шефа на деловые встречи. Типа секретарши. Мало того, пристрелили ее рядом со Славкой, он чуть не подставил под пули бывшего друга. Друга ли? Теперь Сева никому не доверял. А вдруг Славка тоже с этими людьми? Ведь он совершенно не помнит, как оказался на рытвинах Кондратьевского проспекта, когда встретил его. Наверняка кто-то довез. Сам бы он ни за что не стал гробить машину по такой дороге.
Сева чувствовал себя в западне, в ловушке. Не к кому было пойти, не у кого просить защиты или помощи. Он чувствовал себя так же, как и давным-давно, под пулями.
Вдруг он вспомнил: зеленоглазая. Ее-то он выбрал и нашел сам. Она не с ними. Она простая, обыкновенная. И так захотелось ее увидеть, поплакаться ей в круглое теплое плечо, позволить поухаживать за собой…
Севка открыл дверь своим ключом, положил на стол цветы, засунул в холодильник три бутылки шампанского и увесистый мешок со снедью, чтобы ей особенно не суетиться. Зеленоглазая чуть не рухнула на пол, вернувшись с работы. Вытолкала бесцеремонно подружку, которую пригласила на сегодня в гости, и рухнула в постель, увлекая за собой свое сокровище. Сева решил не сопротивляться. Он сдался ей с удовольствием и сразу же решил, что расскажет ей после все-все-все.
Но тут произошла странная штука. Этого он уже не помнил. Это ему рассказала потом зеленоглазая. Встав через полчаса с постели, Сева вдруг потерял контроль над собой, полез в карман и достал пушку. Зеленоглазая хотела крикнуть, но не смогла – голос пропал от ужаса. Сева посмотрел на нее остекленевшим взором, раскрыл окно и пальнул. А после этого грохнулся на пол и потерял сознание.
Зеленоглазая подползла к стене, закрыла окно, спрятала пистолет от греха подальше на антресоли и стала хлопать Севу по щекам.
Минут через пять он пришел в себя. Слушал зеленоглазую, широко раскрыв глаза.
– Ты чего распалился-то? День на дворе. Ладно бы вечером по воронам, на пустыре где-нибудь… Тут ведь убили уже девку одну…
– Когда? – Севку чуть не вывернуло.
– Да как раз, как мы в прошлый раз встречались…
– Давай напьемся, – всхлипнув, предложил Севка и потянулся к бутылке с шампанским. – Пропал я. Совсем пропал.
– Погоди, – зеленоглазая забрала у него бутылку, бережно поставила на стол. – Не время. Расскажи-ка мне лучше все.
И он рассказал. По-своему, конечно. А что ему было известно? Он рассказывал ей о событиях последних дней так, как рассказал бы человек, видящий только одним глазом, и то плохо, слышащий только одним ухом, и то – через слово.
Но ей и этого было достаточно. А что ей было понимать, собственно? Она поняла главное: какие-то две чужие бабы охмуряют ее суженого, погубить хотят соколика.
– Все патлы бы им повыдирала, – сказала она и добавила несколько матерных слов для пущей ясности. – Значит, вот что. Я сейчас на завод смотаюсь, уволюсь. У меня начальник по кадрам вот где. – Она показала Севе сжатый кулак. – Вмиг все бумаги выправит. – Зеленоглазая посмотрела на Севу и нахмурилась. – Ты на машине?
– Ага.
– Значит, поедешь со мной. Одного я тебя не оставлю. А со мной ничего не бойся. После отдела кадров соберем здесь мои вещички и смоемся.
– Куда? – Сева хлопал глазами.
– Батя у меня в Псковской области дом купил. В приданое мне. – Она посмотрела на него строго. – Хватит по общагам-то скитаться, чай, не девочка. Пора хозяйством обзавестись. Рядом братья мои живут родные. С семьями. Весь наш род там, понимаешь?
– Ага…
– С квартирой твоей потом вопрос решим, когда все утихнет.
– Найдут.
– Никто не найдет. Там место глухое. Сама с трудом нахожу, – хохотнула зеленоглазая, и Сева робко улыбнулся, заглядывая ей в глаза.
Его снова потянуло на любовь. Потому что отпустил страх, потому что вот оно – его спасение. Все решила, ничего не боится, да он за ней как за каменной стеной.
– Не время, – порозовев от приятного волнения, но все-таки решительно отстранила она его руки. – Едем!
11
Ровно в пять зазвонил телефон, и Раиса подняла трубку.
– Да, я. Да, готова. Сейчас спущусь.
Из машины Дмитрий с улыбкой смотрел на Раису – молодая, подтянутая, в джинсах. Строгая, добрая. Ерунда. Женщина, которую он ждал всю жизнь. До чего смешно. Никогда не думал, что она окажется такой. Все на молоденьких оглядывался. А вот идет с ней рядом девушка – и что? Разве можно ее сравнить с Раей? Да никогда! Она же ей в подметки не…
Он выронил изо рта сигарету, когда узнал в невзрачной блондинке Мари. Выскочил быстро из машины, открыл дверцы, втолкнул девушку на заднее сиденье, Раю вперед, и быстро тронулся с места.
– Не гони так, – попросила Раиса. – И знаешь, поезжай в аэропорт.
Он молча кивнул и развернулся посреди дороги. Мари молчала, опустив голову. Раиса смотрела то на него, то на нее – в зеркале.
– Убили ее подругу, – ответила она на вопросительный взгляд Дмитрия.
– А-а-а, – протянул он так, словно все еще сомневался, Мари перед ним или ему это только кажется.
– Но, похоже, за ней охотятся. Я думаю, благоразумно будет отправить ее к нашей маме, в Воронежскую область. Вряд ли кто-нибудь там ее найдет. У тебя найдутся деньги на билет?
– Конечно, конечно, – часто закивал Дмитрий.
Ситуация была не из лучших. Бывшая любовница и теперешняя любовь, похоже, провели вместе слишком много времени. Много для того, чтобы поговорить по душам. И судя по тому, каким тоном говорила Рая, как тихо вела себя Мари, они уже все обсудили и пришли к общему мнению. И очень может статься, что общее мнение это касалось непосредственно его и выражалось в коротком древнем женском ругательстве – подлец!
Оказалось, что как раз началась посадка на самолет и есть свободные места.
– Представляете, как нам повезло? – радостно сообщил женщинам Дмитрий, протягивая Мари билет.
И тут же прикусил язык. Обе они посмотрели на него, взгляд у обеих был укоризненный.
– Ты невыносим, – тихо сказала Раиса, которая давно выяснила расписание самолетов и поездов.
– До свидания, – в тон ей ответила Мари.
Дмитрий сел в машину и завел мотор. Раиса молчала. Тогда он поехал по дороге к дому. Она молчала ровно половину пути.
– Она тебя любит, – сказала наконец Раиса.
– А-а-а, – протянул Дмитрий. – Ну…
Он пожал плечами. Наверно, он все-таки подлец в ее глазах. Жаль, он собирался уже сегодня вечером поговорить с Норой. Собирался обещать ей все, что ее душе угодно, в обмен на собственную свободу. Собирался поговорить со Стасей – она-то должна его понять…
– Помнишь журналиста? – спросила Раиса.
– Конечно, помню.
– Что с ним случилось?
– Понятия не имею.
– Он погиб?
– Честное слово, не знаю.
– Это ты его? – тихо спросила она.
– Снова здорово! Я ведь тебе уже говорил – никогда никого…
– Чем же он тебя шантажировал?
– Не знаю. Совал в нос какие-то дискеты. Требовал денег. Говорил, что все про меня знает. А что именно, я не успел выяснить.
– И откупил для него целый корабль?
Дмитрий усмехнулся.
– Конечно нет. Купил путевку. У меня все равно были там дела, ну, я решил, что ему этого вполне хватит. А он стал ломаться.
– И ты его…
– Да нет же. Говорили, что он, вероятнее всего, свалился за борт. Пьянствовал всю дорогу! И дискеты свалились с ним вместе, стало быть.
– Не свалились.
– Мари! – осенило его.
– Сначала Мари, а потом Лариса.
– Подруга, которую убили?
– Да.
– Значит, снова концы в воду.
– Нет. Я знаю, где они.
– И где же?
– У тебя дома…
Они вошли и, не снимая обуви, направились в библиотеку. Раиса вытащила книгу, раскрыла и показала Дмитрию дискеты.
– Но откуда?
– Я нашла их случайно. У тебя слишком много книг…
Он включил компьютер. «Здравствуй, дорогая редакция! Хочу написать тебе про ту стерву, что оставила меня без ног. Пусть весь свет о той стерве узнает…» Дмитрий совсем не то ожидал прочесть. Чушь какая-то! Стиль изложения был до того убогим, что он пару раз рассмеялся, пока не дошел до знакомого имени – Нора.
Жена влетела в комнату, когда они прочитали только половину текста.
– Дима, прости меня, Дима… я… они меня… помоги…
Она повалилась на пол так неожиданно, что ни Дмитрий, ни Раиса не успели подхватить ее. Хватанув ртом воздух, как рыба, вытащенная на берег, Нора затихла.
– Врача, скорее! – закричала Раиса.
12
Машина теперь ехала строго за той, в которой сидела, съежившись, Настя. Слава не видел, как она там сидела, но чувствовал, что именно так. Бедная девочка. Бедная маленькая девочка.
– За город едем, – приуныл водитель. – Надеюсь, не в Финляндию?
– Я тоже надеюсь, – пробурчал Слава. – Смотри за машиной.
– У меня для тебя хорошие новости, – тяжело дыша после быстрой ходьбы, произнесла Людмила. – Твоя дочь у нас.
– Господи, услышал ты мои молитвы. Я хочу ее видеть.
– Это исключено, Феликс. – Людмила приехала совсем не за этим. Она явно рассчитывала на маленькое вознаграждение. Обвив его шею руками, она тихо сказала: – Не сейчас, по крайней мере, я приехала не за этим…
Феликс внимательно взглянул ей в глаза. Она не была готова. Не ожидала. Она провалилась в мутное облако безвременья.
«Нет, нет, ей теперь не уйти», – думал Феликс. Хватит с него этой нервотрепки. Именно сегодня все и завершится. Он прекрасно знал, что Людмила не собирается покончить с девчонкой. Он расспрашивал ее каждый раз, когда она проваливалась в свою чертову сексуальную нирвану. Он теперь знал об организации все и прекрасно понимал, что никто из руководства никогда не упустил бы такой шанс, каким была его доченька. Шанс редкий. В мире очень мало людей, которые действительно обладают паранормальными способностями. Эти люди на вес золота и почти все, за редким исключением, состоят на службе организации.
– С кем она?
Людмила вместо имени назвала номер.
– Связь есть?
– Телефон…
– Прикажи ехать нам навстречу, – требовательно сказал он.
Несколько секунд она все-таки колебалась. Железная женщина. Не сразу воспринимает чужую волю. Значит, сознание отключено не полностью.
– Поезжайте по Приморскому шоссе. Встретим.
– А теперь в машину!
Людмила стала приходить в себя, как только он отвернулся. Черт! Придется усадить ее за руль и все время держать взглядом. Ничего, скоро эти мытарства прекратятся, и Людмиле конец. Он сам свяжется с членами правления организации и предложит свои услуги, а заодно расскажет и о ее слабостях. Вряд ли она сумеет выкрутиться… Его способности помогут открыть многие двери, очень важные двери, очень высокие двери…
– Жми на газ!
Навстречу им полетели кусты и деревья.
Ирка сидела рядом с Жоркой в его джипе и клевала носом.
– Не стал тебе говорить сразу… – начал Жора.
– Что? – быстро проснулась Ирка.
– Ну, про тех ребят.
– А что такое?
– Они, как бы тебе сказать… Не совсем… обычные.
– Извращенцы?
Жорик посмотрел на нее так, словно говорил: «Ладно бы еще извращенцы…» И Ирка насторожилась.
– Ты давай не крути, говори ясно, – потребовала она.
Но тут он тоже решил характер показать. Не хватало еще, чтобы шлюха им командовала!
– Как надо, так и говорю!
– Что-то я ничего не понимаю!
– Твои проблемы!
– Ах, так! Тогда крути обратно, – озлобилась Ирка.
– Разбежался! Мы почти приехали. Сама с ними разбирайся. Отпустят – назад поедем. Вон там знак поворота видишь? Приплыли, девочка!
– Ах, так!..
И Ирка бросилась всем телом на руль – скорее попугать Жорку. Но как-то не рассчитала сил. Джип закрутило на мокрой дороге, и он, сделав полный оборот вокруг своей оси, с ходу выскочил на встречную полосу…
Людмила успела оторвать руки от руля и закрыть лицо, когда машина, переворачиваясь и подскакивая, покатилась вниз по песчаной насыпи…
– Эй! Это же машина Людмилы Павловны! Скорее! – Те двое, что везли Стасю, выпрыгнули из машины и понеслись к красным «Жигулям», остановившим свое движение вверх брюхом, с вращающимися по инерции колесами…
– Стой! – прохрипел водителю Слава. – Только подожди меня, хорошо?
– Заметано, – обиженно ответил водитель. – Что я, фря?
Слава не очень понял, что ему сказал водитель, но тон был обнадеживающий. Глядя вдогонку бегущим ребятам, он подбежал к их машине и дернул за ручку.
– Настя, я здесь!
В тот момент, когда машина, переворачиваясь, подпрыгнула первый раз, Людмила увидела, что голова Феликса безвольно мотается из стороны в сторону. Когда машина замерла на месте, она не почувствовала ног. Во всем теле заполыхала дикая, чудовищная боль…
Ребята из пятой секции, те самые, что везли девчонку, заглядывали в окно. Наконец дверь подалась. «Осторожно», – прохрипела Людмила, протягивая к ним руки, и потеряла сознание.
Ирка пришла в себя, только когда раздался взрыв.
– Крутые, говоришь, твои ребята? – резко спросила она.
– А? Что? – Жорка едва шевелил губами.
– Быстро дуй к ним!
– А как же ГАИ… Здесь люди… мой номер…
– Дурак! Быстро, говорю. – Ирка сильно толкнула его в бок, и Жорка нажал на газ.
Эпилог
«Все кончилось, все быстро улеглось…»
И. Бродский
Нора лежала теперь в доме, где хозяйничала Раиса. Они так и не расписались с Дмитрием, хотя он неоднократно настаивал на этом. «Я не могу, – отвечала Раиса. – Твоя жена…» «Это такая редкость – инсульт у молодой женщины, – констатировал врач. – Нет, на положительные прогнозы не рассчитывайте. Не уверен даже, что она что-нибудь понимает».
Нора не могла говорить, не могла двигаться. Склоняясь над ней, обмывая каждый день ее молодое красивое тело – не дай Бог пролежни! – Раиса спрашивала себя: «Узнает ли ее эта женщина, понимает ли она, что происходит в ее доме, а если понимает, то как к этому относится?»
Но Нора не понимала. Она не узнавала людей, кружащих вокруг нее. Половину жизни словно отрезало. Ровно половину. Она чувствовала себя девочкой, маленькой девочкой, ждущей у холодной стены счастья. Но счастье почему-то все не приходило…
Мать Норы, которую Дмитрий с Раисой разыскали, предлагала забрать ее к себе, в домик на озере. Услышав известие о дочери, она расстроилась только сначала, пока Дмитрий не уверил ее, что будет помогать ей до конца своей жизни. И ей, и обеим… Норам. Мать утерла слезы, захлопотала радостно на кухне… Она попросила, чтобы ей отдали машину Норы и оплатили курсы и бензин. К шестидесяти годам она села за руль и ежедневно возила старшую дочь кататься…
Слава все-таки сводил Стасю в кафе-мороженое. Правда, это случилось не сразу после того, как она, прижавшись к нему и стуча зубами, все повторяла водителю: «Домой, домой…» Слишком много выпало ей в тот день. И с матерью, и с отцом. Да, собственно, и с его сумасшедшей сестренкой, которая теперь вязала шерстяные носки, сидя по вечерам перед телевизором на диване рядом со Стасей и Дмитрием, не отрывающих глаз от очередного боевика… Слава сделал Стасе предложение ровно через четыре месяца после всех этих событий.
Когда зеленоглазая поставила вопрос ребром, Сева быстро собрался и к всеобщему облегчению – ее и ее братьев – ответил, что готов идти в сельсовет прямо сейчас с закрытыми глазами. Через три месяца после их растянувшейся на несколько дней свадьбы появлялись какие-то ребятки на зеленом джипе, спрашивали про Севу, но их встретили вилами, а здоровенные псы долго еще мчались с машиной наперегонки, заливаясь оглушительным лаем…
Ирка с Жорой вышли сухими из воды. Ребята, к которым они обратились за помощью, оказались самыми что ни на есть крутыми извращенцами, и после Иркиного показательного выступления – стриптиза – им ничего было не надо, и они отмазали их с Жориком от ГАИ, а Ирку еще и от Жорика, перекупив ее для элитного клуба вуайеристов. Слово Ирке показалось гадким, но пенсион обещали такой, что она решила не интересоваться, что же это значит, и тут же согласилась…
Андрей Шепелев пропал без вести. Его фотографию много месяцев показывали по телевизору, но все без толку. Никто не откликнулся. Родители, вернувшись из-за границы, замучились ходить на опознания. Им предъявляли полуразложившиеся или изуродованные трупы, но ни в одном они не узнали сына. «Нет, – сказала мать, – это не он». И они с отцом плечо к плечу направились к выходу, а за их спиной санитар укладывал тело их единственного сына назад в холодильник. Тело разбухло, пролежав месяц в реке. Кто бы его узнал…
Дом на Фонтанке опустел. Квартиранты съехали, комнаты Лю стояли открытыми. Бомж Генка с одноглазой своей подругой зашли сюда как-то полечиться портвейном. С удобствами – на диване, за столом. Они давно облюбовали это место. Полечились, решили идти за второй, мелочь считали, да одна монетка закатилась под диван. Одноглазая полезла за монеткой и вытащила ее вместе с пылью и с бумажкой какой-то. Пыль стряхнула, бумажку бросила на пол. А если бы не бросила, то прочитала бы: «Не могу так больше! Прощай, Мари!» Но даже если бы прочитала, то вряд ли поняла…
Организация существует и поныне. Она официально зарегистрирована то ли как финансовая группа, то ли как производственное объединение. Широкой общественности и по сей день ничего о ней не известно. Иногда в бесплатных рекламных газетах можно встретить маленькие незаметные объявления, где «Жизнь» приглашает своих членов на общее собрание, которое состоится там-то и тогда-то.
В бывшем кабинете Людмилы маленький щуплый человек с лысым черепом и красными краешками оттопыренных ушей корпит день и ночь над бумагами. Он теперь глава Северо-Западного объединения, душа организации и спаситель филиала.
Никто не заходит к нему без внутреннего содрогания. Холодные рыбьи глаза наводят на собеседника смертельную тоску. В первый же день своей работы он переложил бумаги Людмилы с пометкой «срочно» в самый дальний ящик. «Подождут! – подумал он, мстительно улыбаясь ненавистному образу красавицы Людмилы. – Не горит!»
В середине стопки этих бумаг лежало «Дело №7635», и фотография Стаси красовалась на первой странице…
«Доберусь когда-нибудь», – пообещал себе маленький человек.
2000г.Эта история имеет продолжение. Книга называется «Однолюб».

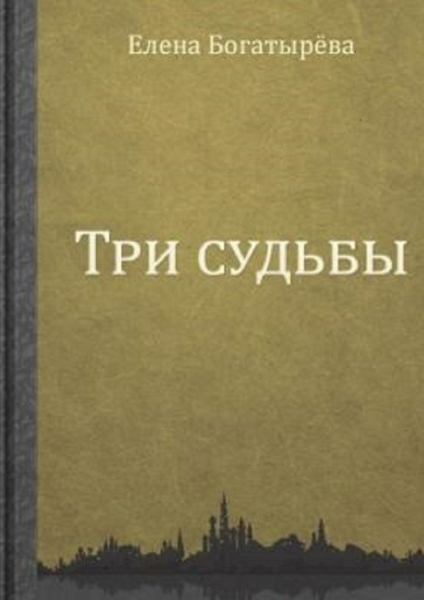



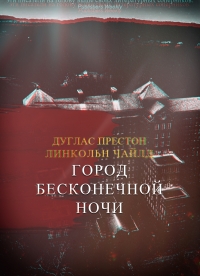



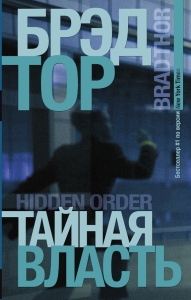




Комментарии к книге «Три судьбы», Елена Богатырева
Всего 0 комментариев