Буало-Нарсежак Полное собрание сочинений. Том 9. Любимец зрителей
Пьер Буало и Тома Нарсежак впервые встретились, когда им было за сорок, к этому времени оба уже были известными писателями. Озабоченные поисками способа вывести из назревающего кризиса жанр «полицейского романа», они решили стать соавторами. Так появился на свет новый романист с двойной фамилией — Буало-Нарсежак, чьи книги буквально взорвали изнутри традиционный детектив, открыли новую страницу в истории жанра. Вместо привычной «игры ума» для разгадки преступления, соавторы показывают трепетную живую жизнь, раскрывают внутренний мир своих персонажей, очеловечивают повествование. Они вводят в детективный жанр несвойственный ему прежде психологический анализ, который органично переплетается с увлекательным сюжетом. По сути дела они создали новый тип литературного произведения — детективно-психологический роман, где психология помогает раскрыть тайну преступления, а детективный сюжет углубляет и обостряет изображение душевного состояния человека, находящегося в экстремальной кризисной ситуации.
Буало и Нарсежак очень скоро получили всемирное признание. Они опубликовали с 1952 по 1995 год свыше сорока романов. Почти все их произведения переведены на многие языки мира и опубликованы огромными тиражами. Их часто экранизируют в кино и на телевидении.
Буало и Нарсежак заняли достойное место в ряду классиков детективной литературы, таких как Конан Дойл, Агата Кристи и Жорж Сименон.
Буало и Нарсежак, дополняя друг друга, выработали совершенно оригинальную и хорошо отработанную манеру письма, о чем можно судить хотя бы по тому, что и после смерти Пьера Буало в 1989 году его соавтор продолжает подписывать свои произведения двойной фамилией, ставшей известной во всем мире.
Любимец зрителей
Разумеется, роман этот — вымысел от начала и до конца, и если по ходу действия нам приходилось вводить в него того или иного реального персонажа из мира кино, то непринужденность тона здесь только кажущаяся. Мы делали это без толики неуважения. Как раз наоборот. Что касается разговоров, которые ведут на их счет наши вымышленные персонажи, то ответственность за сказанное полностью остается на их совести.
Box-office (1981)
Перевод с французского Л. Завьяловой
— Вас освежить, мсье Дорель?
— Да, само собой.
Сильвену нравится это бульканье — только флаконы с лосьоном издают подобные звуки. Он прикрывает глаза. Ароматная жидкость увлажняет его лоб, щеки, стекает с затылка. Сильвен превозмогает невольную дрожь.
Ему приятно. Сильные пальцы мастера массируют кожу на голове. Голова откидывается направо-налево. Ему приятно.
— Многие дамы позавидовали бы вашей шевелюре, — сообщает парикмахер слегка запыхавшимся голосом, словно на бегу.
Теперь его пальцы имитируют движения пекаря, кончающего месить тесто. Сильвен приоткрывает один глаз. Он видит в зеркале свою кошачью мордочку, напоминающую лицо Жерара Филипа или скорее лицо Колетт — подвижное, большеглазое, живое и как бы настороженное.
Он снова опускает веки. Ни о чем не думает. С наслаждением позволяет гребешку и щетке скрести, расчесывать, расчесывать. Теплый воздух фена гуляет вокруг ушей, как бы по-дружески его обнюхивая. Теперь вокруг его головы порхают ножницы — выщипывают, подстригают брови, убирают волоски из ноздрей.
— Вы никогда не подумывали отрастить усы? — спрашивает мастер. — А ведь они бы вам очень пошли.
Болван! Усы! Как будто у Гамлета были усы! Сильвен вырывает себя из блаженного оцепенения, которое все еще сковывает его поясницу, ноги. Он выпрямляется в кресле. Парикмахер стоит за его спиной, сосредоточенно, с серьезным лицом изучая свою работу в зеркале.
«Хватит с меня, — внезапно раздражаясь, говорит себе Сильвен. — Кино закончилось».
Только перед глазами умирающего за один миг проходит вся жизнь. Достаточно пустяка, промелькнувшего образа. Сильвену слышится голос режиссера: «Готовы?.. Тогда поехали!» Юпитеры ослепляют… Нечеткие силуэты… Человек приближается, едва различимый по пояс, как тореадор перед очередным пассом, но только у этого в руках полураскрытая пасть хлопушки.
— «Красное и черное». Дубль седьмой.
— Отлично. Вы настоящий художник, мсье Робер, — бормочет Сильвен.
Сильвен поднимается с кресла, сбрасывает пеньюар. Робер проводит щеткой по его плечам, спине, напоминая ему последний момент перед уходом в школу. Мама тоже напоследок проходилась щеткой по его курточке, прежде чем встать к окну, чтобы проводить глазами до угла.
— Погодите, — просит мсье Робер. — Не двигайтесь.
Достав из нагрудного кармана блузы ножницы, которые соседствуют там со щеткой и расческой, он нацеливается на строптивый волосок, приметный лишь ему одному, чтобы точным щелчком отсечь, потом смахивает его тыльной стороной ладони.
— Вы сияете, как небесное светило, — заявляет он, просияв и сам. — А скоро мы увидим вас на экране? — Робер наклоняется, оглядывается вокруг и прикрывает рот ладонью. — Знаете, мсье Дорель, клиентки волнуются. Не далее как вчера тут происходил такой разговор: «Разве Сильвен Дорель оставил кинематограф? Что-то его не видно на экране. Какая жалость!»
— Правда? Прямо так и сказали? Ну что же, отвечайте, что не пройдет и полгода… Впрочем, нет. Ничего не говорите.
— Совершенно секретно, — рассмеявшись, шепчет Робер. — Вас понял. Ведь стоит неосторожно проболтаться, и считай, прожект лопнул. Но со мной вам бояться нечего.
Сильвен расплачивается, насаживает на нос солнцезащитные очки, долго смотрится в зеркало.
— Не забудьте свой «дипломат», — спохватился парикмахер. Он протягивает Сильвену плоский чемоданчик и с миной чревоугодника добавляет: — Вот уж, наверное, повидал он в своем брюхе немало сценариев! Ну что ж, хорошего вам денечка, мсье Дорель.
«Хорошего денечка», — думал Сильвен, направляясь в сторону Одеона.[1] Как будто ему еще можно ожидать хороших дней!
Десять часов. Рановато, пожалуй. Но Тельма — давний друг. Уж ей-то известно, что такое депрессия день за днем, медленное угасание надежды.
Сильвен следует по улице Карт-Ван. Тельма не нуждается в именной табличке — ее и так знают в мире шоу-бизнеса и политики. Она сама открывает дверь, еще в домашнем халате, и грозит Сильвену пальцем:
— Не могли позвонить? Как нелюбезно с вашей стороны заявиться без предупреждения.
Тельма проводит его в приемную. Серые шторы, серый ковер, кожаные кресла, круглый стол из мореного дуба. Чувствуется, что к ясновидению тут относятся вполне серьезно. Возраст ее определить трудно, так сильно она накрашена. Глаза тоже серые, а волосы подсиненные.
— Садитесь… Итак, что происходит? Дайте руку. Подвиньтесь поближе.
Два кресла стоят рядом. Тельма берет руку Сильвена — не так, как врач, а нежно и осторожно, как будто имеет дело со слепым.
— Давайте, Сильвен. Расслабьтесь.
Тельма умолкает, чуть прикрывает веки, и Сильвен уже не смеет дышать.
— Вокруг вас какая-то суета, — бормочет ясновидящая.
Пауза. Тельма прислушивается к движению теней внутри себя.
— Да. Суета. Вы боретесь… Натыкаетесь на преграды… Все это, похоже, плохо кончится… Вокруг вас кровь.
— Но… буду ли я сниматься? — тихо спрашивает Сильвен.
— Похоже… да… все как в тумане, очень запутанно… Вас окружают враги… возможно, это актеры. Я вижу брюнета. Вы ему угрожаете… И потом я вижу вас — вас с окровавленными руками… Ах! Мне это не нравится.
— А не происходит ли все это в фильме? Если, конечно, мне еще суждено сниматься.
— Вполне возможно.
— Вы уверены, что я буду сниматься?
— Я говорю вам то, что вижу… На письменном столе лежит книга, и вы с кем-то ссоритесь… Пока все. Извините меня, Сильвен, но я не хочу переутомляться спозаранок. Сегодня у меня приемный день, будет много народу.
— Но вы не сообщили мне ничего определенного. В последний раз вы сказали, что я окружен огнями. И даже уточнили, что это похоже на блики вспышек фоторепортеров.
Мадам Тельма отпускает руку Сильвена и встает.
— Ответьте мне, — настаивает Сильвен. — Вы все еще видите эти огни? Мне так важно знать! Вы себе даже не представляете, как это важно.
— Подойдите, — говорит Тельма. — Да, точно, свет по-прежнему тут… Выпьете со мной чашечку кофе? — Она усадила его в столовой напротив себя. — Из-за вас я даже не успела поесть… Наливайте кофе… И потом, чуточку расслабьтесь. Я чувствую, что вы на взводе.
Сильвен в задумчивости помешивает ложечкой в чашке.
— До чего же мне хочется вернуться к работе, — сказал он. — Знаете, час назад мне стукнуло тридцать шесть. Да, сегодня день моего рождения. А также день, когда смонтировали последний фильм с моим участием. Пять лет назад. И с тех пор ровно ничего. Я попал в черный список.
Мадам Тельма намазывает маслом гренок, сосредоточенно, как художник кладет краски на палитру.
— В черный список, — повторяет она. — Скажете тоже. В ваши годы провал — это поправимо.
— Вы говорите так, потому что не знаете мира кино. Я мог бы назвать вам с десяток актеров, которые сошли с афиш неведомо почему. Они перестали нравиться, но никто не знает, кому именно. Зрителям? Прокатчикам? Тайна за семью печатями. Достаточно пронестись слушку после фильма, который прошел незаметно. Несколько лет подряд меня превозносили до небес. Помните… «Пятое марта»… «Красное и черное»…
— Да-да, — сказала мадам Тельма. — Вы всегда рассказываете мне одно и то же.
— Я вам докучаю, да?
— Нисколько. Только вы ожидаете, чтобы я пообещала вам скорый успех. Да будь это в моих силах…
Поджаренный хлеб хрустит у нее на зубах. Она не спеша прожевывает слишком большой кусок, то и дело прикладывая к губам салфетку.
— Я вас очень люблю, — говорит она, — но мне не дозволено лгать. Я вижу вас в центре какой-то заварушки. Правда. Но я сама тут бессильна.
— Вы упомянули про кровь, — продолжает Сильвен, — это уже что-то новое. Прежде крови вы никогда не видели.
— Мне сдается, что это кровь, но не стану утверждать.
— Может, меня пригласят сниматься в детективе?
Улыбаясь, Тельма протягивает руку Сильвену над столом.
— Я вас разочаровываю, признайтесь. Вы считаете, что я вам недостаточно помогаю… или, скорее, что-то утаиваю от вас? Что-то неприятное?.. Да? Я чувствую, вы на меня рассердились.
Сильвен примирительно пожимает руку Тельмы.
— Прежде вы объявляли мне только хорошие новости и никогда не ошибались. Помните? Вы первая знали, что меня прочат на роль Андре Шенье.[2] Никто этому не верил, а ведь какой сногсшибательный успех! И вот теперь… Ну, расскажите мне все. Прошу вас… Я с кем-нибудь подерусь? Меня арестуют и на меня накинутся репортеры? Я больше никогда не снимусь в кино? Ведь я вправе знать, что ни говорите!
Мадам Тельма отнимает свою руку, всю в кольцах, и призадумывается, как будто сортирует в голове картины.
— Это не так просто, — бормочет она. — В отношении фоторепортеров — да. И в самом деле они толпятся вокруг вас… Я спрашиваю себя, уж не попадете ли вы в аварию.
— Я погибну?
Сильвен чуть не расплакался.
— Вы сегодня хуже мальчишки! — восклицает мадам Тельма. — Кто говорит вам о смерти? Да нет, вы не умрете. Послушайте, Сильвен, приходите-ка меня повидать этак недельки через две. И перестаньте себя накручивать. В данную минуту я как бы в тумане… Внезапно вы оказались в центре всеобщего внимания. Оставьте мне предмет, к которому я могла бы часто прикасаться. Очень помогает.
Сильвен стал шарить по карманам. Ключи? Исключено. Пачка «Голуаз»? Нет. Бумажник?
— Бумажник годится?
— Отлично. Только без содержимого, пожалуйста.
— Ладно, — соглашается Сильвен. — Я мигом его выпотрошу.
Он выкладывает на стол три стофранковые купюры, удостоверение личности, пластиковую карточку «American Express», пачку проездных билетов и письмо. Мадам Тельма берет письмо.
— Вы позволите, Сильвен?.. Дайте мне угадать. Вам пишет девушка… смуглая… более чем смуглая… Она уроженка Дакара.
— Мне это неизвестно, — говорит Сильвен. — Она студентка. У меня даже назначено с ней свидание в полдень. Она просит у меня интервью для своего киноклуба. Не знаю, черная ли она, но верю вам. Вы не перестаете меня удивлять.
— Ах! Как видите, вас не забыли, — шутит мадам Тельма. — Возможно, я не выгляжу молодо, но у меня сохранился глаз женщины. Вы не из тех мужчин, кто проходит незамеченным.
— Благодарю за комплимент, — говорит Сильвен. — Вы очень милы. Берегите мой бумажник. Подарок Марилен. Если она заметит его исчезновение… при ее-то ревнивом характере… мне несдобровать.
Сильвен чмокает мадам Тельму в обе щеки.
— До скорого. Буду осторожен. Обещаю.
— Погодите! — говорит мадам Тельма. Ее глаза внезапно уставились на бумажник. Она осторожно держит его, проводит по нему кончиками пальцев. — Гёте, — бормочет она. — Гёте.
— Что-что? При чем тут Гёте?
— Не знаю. Я услышала, как это имя произнесли совсем рядом.
— И это касается меня?
— Наверняка. Только не спрашивайте, как и что… Я возвращаю вам его, ваш бумажник. Не желаю стать причиной семейной сцены. Теперь ступайте! Не заставляйте девушку ждать. Приходите опять недельки так через две. И не падайте духом!
Сильвен глянул на ручные часы. Одиннадцать. Погода восхитительная. Париж окрашен в цвета весны. Медленным шагом он направился к Сене. Гёте? Что бы это могло означать? И кровь вокруг него? Кровь киношная, разумеется. Кровь неизменно присутствовала в сыгранных им ролях. Он видит себя в роли герцога Энгиенского лицом к лицу с карательным взводом… Быть может, этот персонаж — его лучшее творение… Восторженные отклики в прессе… Газеты пестрели его именем… А что, если ему предложат роль в детективе? Сильвен серьезно обдумывает этот вопрос, что не мешает ему остановиться перед «ламборгини» и восхищаться линиями ее кузова. У Жана Шанселя точно такая же модель. Машина, похожая на отдыхающего хищника. Достаточно одного успеха на экране, чтобы и он смог позволить себе такой каприз. Сильвен припоминает свой «порше», который был у него прежде. После того, как он сыграл Шопена. Он задыхался от кашля. Тонким кружевным платком украдкой вытирал губы, обагряемые кровью, и, дублируемый Таккино, с потерянным взором играл «Прощальный вальс». Но, покидая студию, запрыгивал в свой «порше» и проводил ночь у Режины. Времена радости, силы, славы…
А между тем он по-прежнему красив, по-прежнему изящен. Ему нет равных, когда нужно передать меланхолию, изысканную неврастению или попранное мужество, наконец, даже лихорадку тщеславия. А ему предложат роль полицейского. Немыслимо!
Сильвен останавливается, чтобы увидеть свое отражение в витрине антикварного магазина. В конце концов, что и говорить — он по-прежнему великий Сильвен Дорель! Денди! Только нынче пошла мода на плебеев типа Жерара Депардье. Водолазка. Выцветшие, заношенные джинсы. Ну а тех, кто воплощал на экране заносчивых маркизов, долой!
«Я никогда не смог бы, — думает Сильвен. — Для меня полицейский комиссар — это толстяк, тупица, как Дюбари, или, напротив, некто с богемными повадками, прядью волос, падающей на глаза, и в баскетке, как Ив Ренье в роли Мулена. Я, пожалуй, смог бы сыграть, как Френе[3] в роли комиссара Венса. Нет, не представляю себя в боевике».
Сильвен зашагал дальше, с грустью думая о том, что на роль современного киногероя он не тянет. Он экспонат Музея кино Гревена. Сильвен пересек Сену. Река сверкает на солнце. Тельма видела свет, блицы фотовспышек. А ведь это хорошо! В конце концов, никто и не требует от него играть роль сыщика.
Сам себе навыдумывал, только бы помучить себя. Наверняка ему в конце концов предложат что-либо достойное!.. Да какому актеру не приходилось пересекать свою мертвую зону. Возьмем Жана Габена. А потом удача к нему вернулась. Да какая! Нет, до Музея Гревена еще далеко! Вполне возможно, в этот самый момент в какой-нибудь конторе на Елисейских Полях продюсер и режиссер задаются вопросом: «А что, если нам пригласить Сильвена Дореля? Он был кумиром у зрительниц, и потом, у него талант — этого не отнимешь. Зрительский интерес к нему резко упал. Но то-то и оно, значит, его можно заполучить по дешевке. А рядом с Роми Шнайдер он пойдет, как письмо по почте!»
Сильвен улыбнулся. Ему бы только романы сочинять. Но ведь продюсеры всегда так. Они экономят на том, на этом — на всем, на чем можно. И в то же время делают вид, что им по карману пригласить Роми Шнайдер и Лоуренса Оливье. Тоже любители пофантазировать!
Сильвен замечает Триумфальную арку. Он у входа в страну чудес. Еще несколько месяцев — и, чего доброго, прохожие начнут оборачиваться ему вслед, как бывало. Фоторепортеры станут преследовать его, словно птицы, следующие за мощными хищниками джунглей.
Сильвен направляет свои стопы к «Фуке». Он назначил свидание именно близ этого ресторана, так как он — место встреч для киношников, все равно что Тортуга — для флибустьеров. К тому же он хочет устроить праздник этой студенточке. Она была бы жестоко разочарована, если бы он принял ее в другом месте.
Ева поджидает его на террасе. Стрижка под мальчика, глаза, издали напоминающие черные цветы, и костюм мужского покроя, плохо скрывающий пышный бюст. Ее эксцентричный вид гармонирует с этим злачным местом. Она курит сигару и улыбается ему еще издали.
— Похоже, ты впервые явился в назначенное время.
Сильвен наклоняется, чмокает ее в обе щеки и швыряет дипломат на соседний стул.
— Что ты в нем таскаешь? — интересуется Ева.
— А ничего. Он служит мне для придания солидности… Джин-тоник, — обращается он к гарсону.
Сильвен оглядывается по сторонам. Похоже, никто его не узнал. И это в таком месте, где все знакомы со всеми.
— Гёте, — произносит он. — Тебе это имя что-нибудь говорит?
— Гёте? Автор «Фауста»?
— Нет. Скорее, я думаю, так зовут продюсера. Может, он американец. Ты, кто знает в кино всех, неужели это имя тебе ничего не говорит?
— Нет. А зачем он тебе?
— О, так, была одна мысль… А вот и она, держу пари. И привела с собой подружку.
Обе девушки рыщут глазами. Та, что выше ростом… Тельма не ошиблась… великолепная негритянка: прическа «африканская головка», узкая юбка до пят, ожерелья, браслеты, одна серьга и великолепные зубы, как деталь одежды. Другая одета во что-то наподобие комбинезона автомеханика, весь в застежках-молниях, — на груди, на бедрах, по диагонали, как разрезы сабель. Множество косичек тоньше крысиных хвостов, украшенных разноцветными бусинками, которые, пружиня, дрожат вокруг головы.
— Какие милашки! — бормочет Ева. — Не иначе ты внушаешь им восхищение, коль скоро они явились парой.
На душе у Сильвена теплеет. Он встает и приветственно машет. Девушки робко подходят ближе.
— Я Мариза, — говорит негритянка. — А она Сильви.
— Мой импресарио, — представляет Сильвен. — Ева Винтроп. Она знает обо мне все… и лучше меня сможет ответить на ваши вопросы… Садитесь. Что вы пьете?
— То же, что и вы.
Подняв руку, Сильвен кричит гарсону:
— Еще два!
— Вы студентки? — интересуется Ева.
Сильви трясет бусинками.
— Мы на втором курсе коллежа Жорж Санд.
— Но сколько же вам лет?
— Мне восемнадцать, — отвечает Мариза, — а ей семнадцать с половиной.
Дрожащими пальцами она достает из сумки в виде торбы пачку «Голуаз» и зажигалку. Руки у нее немного дрожат.
— Держу пари, вы мечтаете сниматься в кино, — продолжила Ева.
Мариза не спешит с ответом и закуривает сигарету.
— Ну что ж… пожалуй… а почему бы нам и не… — извлекает она из себя вместе со струйкой дыма.
— В самом деле, — шутит Ева, — почему бы и не вы… А кто подал вам мысль обратиться к господину Дорелю?
Слово берет Сильви.
— Наш проф! В нашем классе практикуют разные тесты для развития устной речи. Мы выбрали тему кино, так как не пропускаем ни одного фильма. Ясно, да?.. И разослали письма.
— Кому, например? — спрашивает Сильвен.
— Я уже позабыла, — говорит Мариза. — Бельмондо… Брассеру… Рошфору…
— А актрисам не писали?
— О! Как же! — встревает Сильви. — Мы написали Изабель Юппер, Катрин Денев, Анни Жирардо. Хотите посмотреть список?
— Нет, — отвечает Сильвен. — А какие же вопросы вы собираетесь им задать?
— Мы хот ели бы… — дуэтом начинают они и, смеясь, обе осекаются.
— Говори ты, — наконец предлагает Сильви.
— Ладно. Так вот, — продолжает Мариза. — Наш проф считает, что кино переживает кризис. А мы… мы говорим, что… значит…
— А вы с ним не согласны, скажем так, — заканчивает за них фразу Ева, снисходительно улыбаясь.
Мариза поводит плечами.
— Вот именно. Только мы предпочли бы провести опрос по кино, а не по другой теме. Наш проф — жуткая зануда, вы даже представить себе не можете.
— А актеры ответили вам согласием? — допытывается Сильвен.
Девушки переглянулись.
— Всякий раз нам отвечали секретарши… — признается Мариза.
— Если я правильно понял, — делает вывод Сильвен, — ни у кого, кроме меня, не нашлось времени вас принять.
Уловив в его голосе горечь, похоже, они засмущались. Сильвен заставил себя успокоиться и продолжал:
— Разумеется, кризис налицо. И даже… — Он умолк, чтобы поприветствовать Бруно Кремера, который в этот момент направлялся к бару. — Видала? — шепнул он Еве на ушко. — Он сделал вид, что незнаком со мной. Я ему это припомню. — Сильвен залпом осушил стакан. — Вы меня извините? Мне нужно позвонить.
Час пик. Официанты разносят подносы, заставленные позвякивающими бутылками. Лавируя между ними, всячески стараясь избежать столкновения, Сильвен пробирается к кабинкам. Все они заняты. Он ждет, прислонившись к стене. И знает, что Ева, воспользовавшись его отлучкой, поведает этим двум девушкам про его жизнь. Он рос сиротой, а это автоматически рождает симпатию. Сильвен знает эту песню наизусть.
«Сильвен совсем не знал отца. Франсуа Дорель, фармацевт в IX округе, был участником Сопротивления, он выстрелил в себя, когда гестаповцы пришли его арестовывать, в апреле 1944 года. Представляете себе состояние его мамы, когда она произвела сына на свет! Эта драма наложила на него отпечаток. Поэтому не следует обижаться, если Сильвен нервный и вспыльчивый. Бедному ребенку выпало нелегкое детство!»
Она выше всяческих похвал, эта Ева, преданная душа и все такое, но… перебарщивает. Если правда, что он нервный и вспыльчивый, зачем сообщать про это первому встречному-поперечному? По ней, актер, желающий преуспеть, должен создать себе легенду.
Сильвен забарабанил в стекло кабинки. Японец, продолжая разговаривать по телефону, отвечает ему любезной улыбкой и поворачивается спиной. Черт-те что! Делоны, Бельмондо, Брассеры — они могут позволить себе послать всяких сарделек куда подальше. Они превыше всех, далеки от толпы. Они не принадлежат больше никому. Жрецы искусства!
Японец кладет трубку и с церемонным поклоном выскальзывает из кабины. Сильвен берет еще теплую трубку и набирает номер домашнего телефона.
— Алло!.. Берта?.. Мадам еще не вернулась? Ничего особенного. Пожалуйста, прослушай автоответчик, кто звонил мне с утра.
Стоит ему уйти из дома — и он говорит себе, что рискует упустить важный звонок. Берта уже привыкла. Она идет проверить, а у Сильвена колотится сердце, как и вчера, и позавчера, и каждый божий день, когда он находится вне дома. Его раздирают сомнения и вера. Только бы не упустить свой шанс.
— Алло! Мсье?
— Слушаю. Ну, говорите.
— Так вот, звонила ваша мама, мсье.
— Ладно. А кто еще?
— И ваш брат, мсье.
— Ах, этот!.. Делать ему больше нечего… только бы названивать. Кто еще?
— И потом кто-то сказал: «Это Шарль… я перезвоню».
— И все?
— Да. Мсье не вернется к обеду?
— Нет. Если вам надо уйти, не забудьте подключить автоответчик.
— Разумеется, мсье.
Шарль? Возможно, Шарль Мерсье. Сильвен выходит из кабинки озабоченный. Наверняка Мерсье. Правда, есть еще Шарль Меренго, но тот не сказал бы так, по-свойски: «Это Шарль». Меренго — друг Сюсфельда, а Сюсфельд — продюсер на студии «Гомон». А что, если, несмотря ни на что, звонил именно Меренго?.. Ну хоть неотлучно дежурь в двух шагах от телефона. Все эти люди, которые говорят «я перезвоню», никогда не перезванивают.
Сильвен прикидывает, кто да что. Он никого не видит. Ему уже доводилось работать для «Гомона», так что было бы весьма кстати, если бы… Он никак не может припомнить, где оставил Еву. И тут видит ее — она продолжает беседовать с девушками, и черная что-то записывает. Сильвен садится. Ему все это уже осточертело.
— Ну что? — спрашивает его Ева, как больного, вынувшего градусник.
— Да ничего, — неохотно отвечает Сильвен.
Черная закрывает блокнот.
— А вы поедете в Канны? — спрашивает Сильви.
Ему хочется послать ее куда подальше. Зачем ему ехать в Канны? Он выглядел бы там попрошайкой, выпрашивающим роль.
— Пока не знаю, — говорит он. — Я не больно люблю Канны.
— А мне бы так хотелось, — вздыхает Мариза.
— Вопросов больше нет? — спрашивает Ева, желая покончить с этим.
— Вроде бы нет.
Девицы разом поднимаются с места.
— Я в вашем списке последний? — интересуется Сильвен.
— Предпоследний, — отвечает черная. — Теперь мы попытаемся повидать Даниеля Марсьяля.
— Вряд ли он вас примет! — восклицает Сильвен.
— А вы с ним знакомы? — спрашивает Сильви.
В ответ молчание. Ева гасит свою сигару и прикуривает следующую.
— Да разве вы не знали? — говорит она. — Даниель Марсьяль — первый муж мадам Дорель.
Девицы сообразили, что явно дали маху. Тем не менее Мариза продолжает:
— По-вашему, он не удостоит нас разговором?
Сильвен глядит на часы.
— В этот момент, — произносит он, — Даниель, должно быть, занят четвертой или пятой порцией виски. На вашем месте я скорее попытался бы добиться встречи около пяти, когда он уже отходит после утреннего возлияния, но еще не приступил к вечернему.
— Не слушайте Сильвена, — вмешивается Ева. — Это правда, Даниелю случается надраться. И даже сверх всякой меры. Но я уверена, он охотно поболтает с вами.
Девицы благодарят — нахальные и в то же время какие-то зажатые — и уходят, весело смеясь.
— Уф! — облегченно вздыхает Сильвен. — Я выдохся и не хочу идти домой. Давай пообедаем здесь. Быстренько перекусим — сэндвич и пиво. Мне не хочется есть — эти две стрекозы перебили мне аппетит. — Сильвен заказывает. — Какое дурацкое утро, — бормочет он. — Парикмахер… Тельма… Эти две девицы…
Он рассеянно машет парню, который одет под Дэви Крокетта.
— Новоиспеченный ассистент Ури, — объясняет он.
— И что же тебе нагадала твоя Тельма? — интересуется Ева.
— Ах! Почти все то же самое, что и всегда… Похоже, вокруг моей персоны что-то затевается. Она считает, что меня ждет какое-то предложение.
— Знаешь, — говорит Ева, — хотя я и не ясновидящая, но тоже убеждена, что тебе предстоит новый старт. Во всяком случае, у меня уже есть для тебя предложение… Пока ничего сногсшибательного… но это тебя отвлечет. Сегодня утром я виделась с Нгуен Мин Хуонгом. Он ищет красивый голос для дикторского текста будущего фильма Россифа.[4] Похоже, это будет что-то уникальное про горилл.
— Издеваешься? — взрывается Сильвен. — «Дорель и гориллы»! Да весь Париж покатится со смеху!
— Послушай, цыпленочек, ты становишься занудой. Не «Дорель и гориллы», а «Россиф и Дорель». Улавливаешь разницу? Работать у Россифа — в этом нет ничего зазорного.
Сильвен в сомнении жует свой сэндвич.
— И все-таки я еще не пал так низко, — говорит он, рассеянно поглядывая на прохожих за окном.
— Да что ты себе думаешь? — возмутилась Ева. — Ты отказываешься от всего подряд: дубляж — не может быть и речи, реклама — ни в коем случае. Ему предлагают двухминутную рекламу галстуков от Ланвена. Мсье артачится. А вот Рошфор не брезгует рекламой кофе. А ведь Рошфор — это имя!
— Не сердись, — шепчет Сильвен. — Знаю… Я должен был бы… Однако осталось же у меня право на гордость? Но не это главное. Если Дорель начнет подвизаться на экране между рекламами бюстгальтеров и тампонов «Тампакс», мой рейтинг упадет. Я не Рошфор, или, скорее, я больше не Рошфор. Раньше я мог позволить себе все. Но не теперь. А ну, скажи, что это неправда.
— С тобой не соскучишься, — вздыхает Ева.
Сильвен отталкивает тарелку.
— Дай-ка сигару, пожалуйста. Правде надо смотреть в глаза — я все еще дебютант. Не нет, а да. Ведь несколько лет подряд со мной происходило нечто невероятное. Дорель здесь! Дорель там! Теперь до меня постепенно доходит, что повальный спрос — прямая противоположность успеху. Возьмем такого актера, как Бурвиль… да-да, именно его. Он никогда не был любимцем зрителей. Он карабкался вверх постепенно: его находили симпатягой, затем зауважали, потом заметили, что полюбили, и все это без барабанного боя. А я — я блистал, ну… как солист рок-группы… несколько сезонов, — и все…
— Я с тобой не согласна, — прервала его Ева. — Ну совершенно не согласна. Я тебе вот что скажу: ты персонаж костюмных фильмов. Стоит тебе надеть костюм другой эпохи — и ты неотразим… И нечего усмехаться. Я знаю, что говорю. А в пиджаке у тебя вид ряженого. К сожалению, постановочные фильмы типа «Больших маневров» или, скажем, «Трех мушкетеров» больше не выпускают из-за их дороговизны. И потом, они вышли из моды. Театр — то же самое. Но мода быстро меняется. Ничто не потеряно. Так что, дружок, не падай духом. Я вынуждена тебя покинуть. Вместо того чтобы есть себя поедом, почему бы тебе не взяться за перо? Нынче пишут все. Тебе тридцать шесть. Самый возраст писать мемуары.
Ева нежно похлопывает Сильвена по руке, потом слегка поправляет макияж. Зная, что некрасива, она не больно печется о внешности. Она встает.
— Так что же мне ответить Хуонгу? Ну, по поводу горилл?
— Что в данный момент я занят.
— Это твое последнее слово? Ладненько… Пока.
Сильвен остается в одиночестве. Вторая половина дня расстилается перед ним, подобно лунному пейзажу. Писать? О чем? Сходить в кино? Только не это. Чужие фильмы ранят его самолюбие. Он решает не спеша вернуться домой. Всю дорогу задается вопросами. Чем, в сущности, привлекал его успех? Деньги, спору нет. Он заработал их столько, что не слишком беспокоится о будущем. И может еще продержаться. Слава? Довольно скоро устаешь оттого, что тебя узнают на улице, в кафе… Автографы… подписи, нацарапанные на меню… Да, это забавно, это пьянит. Власть? Роскошные автомобили?.. Раболепная челядь дворцов?.. Этого тоже не сбросить со счетов… И тем не менее не в этом тайная тайных успеха… Но тогда в чем же? Сильвен не знает, не чувствует, что в каком-то смысле его возможности сужаются. Он чувствует, как становится заскорузлым, усыхает, увядает, подобно растению, подстерегаемому зимней стужей. В каком-то смысле он больше не Дорель. Просто Сильвен. Один среди прочих. Один из стада.
Нейи… Он толкает калитку, проходит через стеклянную дверь в сад к себе в кабинет. «Мсье не боится воров!» — целыми днями долдонит Берта, но если бы его обокрали, он воспринял бы это как Божье благословение — о нем бы снова заговорили газеты. О ворах он задумается позднее — когда станет никем уже окончательно и бесповоротно. Сильвен проходит в вестибюль.
— Марилен!
Жена еще не вернулась домой. У нее крошечная роль в телефильме, который в общих чертах трактует социальные проблемы. Бедняжка Марилен! Она так рассчитывала пробиться благодаря ему! Она никогда не выдает себя, но, должно быть, испытывает разочарование.
Сильвен возвращается к себе в кабинет и включает автоответчик. Нет, никто ему не звонил. Он замирает на месте, как разочарованный рыболов. Ни одна рыбешка не попала в его сети, натянутые днем и ночью. «Если звонил Шарль Мерсье, то лучше выяснить не откладывая». Он набирает номер.
— Алло. Шарль? Ты мне звонил?
— Да, — признается Шарль Мерсье.
— Что-нибудь важное?
— Да нет. Просто хотел узнать, смотрел ли ты «Наследников».
— Нет.
— Ну так сходи посмотреть. Юппер играет обалденно.
Сильвен поворачивается в кресле. Им больше нечего делать, этим хромоножкам кинематографа. Болтать! Создавать себе иллюзию, что они еще на что-то способны и с ними надлежит считаться. Мерсье нету равных по части собирания сплетен. А в случае чего он сочиняет их сам. Никто доподлинно не знает, на что он живет. Он мелькает в мелких ролях по телевидению. Роль длиною в блиц фотоаппарата. Силуэт сыщика. Слуга. Ему известно все: кто с кем спит, кто с кем в ссоре. Он знает наизусть всю закулисную жизнь кино. Он наскучил Сильвену, однако такому человеку цены нет, когда не знаешь, как убить предстоящий час.
— Слышал новости о Марсьяле?
Сильвен подскакивает как ужаленный и орет в трубку:
— Оставь меня в покое с этим типом!
— Ладно, ладно. Не заводись. Просто хотел узнать, в курсе ли ты.
— В курсе чего?
— Как, тебе не говорили? Похоже, он будет играть в телефильме «Черные одежды».
— А что это такое — «Черные одежды»?
— С какой луны ты свалился, старина? По роману Поля Феваля. Эти ребята писали километрами. Хватит на сериал в дюжину серий. Так что можешь себе представить, как ему подфартило, нашему Марсьялю.
— Это точно?
— Ходят такие слухи. Вандёвр слышал, как Гритти говорил об этом кому-то по телефону… ты бы навел справки. Глядишь, там и тебе что-нибудь обломится.
Сильвен нервно грызет ноготь.
— Не стану я играть в одном фильме с Марсьялем!
— Вы по-прежнему на ножах? — удивляется Мерсье. — В чем все-таки дело, Сильвен? Ты увел у него жену и свистнул роль Жюльена Сореля. Между нами говоря, мог бы теперь и ты сделать первый шаг.
— И не уговаривай.
— Согласен. Умолкаю. Кстати…
Он продолжает трепать языком. Сильвен кладет трубку на письменный стол, закуривает, зевает. Что и говорить, со стороны его затянувшаяся ссора с Даниелем выглядит смехотворно. Два приятеля, в один год закончившие театральное училище, удостоенные первой премии ex aequo,[5] две в равной степени многообещающие карьеры… и если бы между ними не встряла Марилен…
— Алло… Алло…
Приглушенный голос Мерсье. Сильвен снова прикладывает телефонную трубку к уху.
— Ах! Я подумал, что нас разъединили, — говорит Мерсье. — Знаешь, что ответил Бельмондо…
— Послушай, старик, — в изнеможении бросает Сильвен, — я жду звонка. Так что, понимаешь…
— О, извини. Выставляй меня за дверь, когда я тебе надоедаю. Если узнаю про «Черные одежды» что-нибудь новенькое, звякну. Чао!
Сильвен долго сидит неподвижно. «Черные одежды». Надо достать роман. Поль Феваль описывает времена эффектных костюмов. Широкий плащ с воротником, цилиндр, сапоги. У него фигурируют важные сеньоры и кавалеры — все это Сильвен просто обожает. Однако в историях подобного рода всегда фигурируют добрый и злой. Если ему случайно и предложат роль, он ни за какие деньги не согласится играть отрицательного героя. Но и Даниель тоже. Так что… Так что, говорит он себе, надо выбросить это из головы. Сильвен набирает следующий номер.
— Алло, мама! Ты мне звонила? Что-нибудь стряслось?
Дрожащий голос его мамы. Всегда такое впечатление, что она готова расплакаться.
— Я хотела поговорить о твоем брате. Знаешь, я за нею тревожусь. Его поведение меня пугает. Одевается как бездомный бродяга. Разговаривает грубо.
— Да сейчас грубо разговаривают поголовно все, — успокаивает ее Сильвен.
— Ах, и не говори… На каждом шагу грубость. Мои замечания он называет глупостями… Он становится невыносим. Не смог ли бы ты с ним поговорить?
— Послушай, мама, парню девятнадцать лет. Он совершеннолетний… И потом, мы с ним никогда особенно не ладили. Что ты хочешь… Ведь он всего лишь мой сводный брат.
Ну вот. Она разревелась. Сильвену хочется шмякнуть трубку, не слышать больше об этом злосчастном Николя.
— Ты еще будешь попрекать меня вторым замужеством, — бормочет мама. — А ведь без Эмиля мне было не дать тебе такого блестящего образования.
Это мы уже слышали. Сильвен сухо говорит:
— Он в могиле. И пусть земля ему будет пухом. Что касается Николя, что прикажешь мне делать?
— У тебя такие обширные связи.
— Что толку! — взрывается он. — Я и сам никак не могу вернуться в строй. Николя — бездарь. Бренчит на гитаре, думает, что он — Джанго Рейнгардт, и объедает тебя. Вот!
— О, Сильвен!
— Что — Сильвен? Это же сущая правда. Он только и умеет, что жить за твой счет. И за мой, если бы сумел. Знаю я таких молодчиков. Заруби себе на носу: я отказываюсь принимать участие в его судьбе. Он меня не интересует.
Сильвен швыряет трубку. Он сыт этими стенаниями по горло. Бедная старуха! Старое воспитание. Елейные речи. Она гордилась мужем-провизором, его клиентурой из высшего общества. И вот оккупация, подполье, беглые посещения каких-то подозрительных личностей. А в довершение ко всему — необъяснимое самоубийство мужа. Она так и не уразумела, что бывают самоубийства из чести.
Сильвен приоткрывает тайничок письменного стола, где хранятся вещи, оставшиеся после отца. Они навевают грусть. Револьвер соседствует с медалью за участие в движении Сопротивления. Несколько пожелтевших от времени газетных вырезок. Семейный музей Сильвена. Никто не вправе совать сюда нос. Когда его мама вторично вышла замуж, ему было семнадцать. Она сказала ему: «Забери все это с моих глаз… Мне неловко хранить эти вещи…» Сильвен никогда не простил матери этих слов. Вторично она вышла за книготорговца. В сущности, вся ее жизнь прошла за кассой. Микстуры или романы — какая разница. Главное — выдать сдачу.
Сильвену не забыть ожесточенных споров с этой посредственной личностью, претендовавшей стать заменой отцу. «Без него мне бы не поставить тебя на ноги», — сказала мать. Чушь собачья! Он встал на ноги и жил вне семейного очага. Сам подготовился к экзаменам в консерваторию. А потом ему помог Франсуа Перье.[6] И все же ему пришлось натерпеться нужды.
Сильвен призадумался над всем этим. Он злоупотребляет сигаретами — чего доброго, зубы пожелтеют. И мало занимается гимнастикой. Внешний вид для него — хлеб насущный. И снова обрывки мыслей о матери. Сильвена клонит ко сну. Он никогда не был счастлив, исключая моменты, когда фильмы с его участием выходили на экран и он видел очереди у касс кинотеатров. Или же когда знакомился со статистическими сводками в журнале «Фильм Франсэ»: 200 тысяч зрителей… 300 тысяч… 500 тысяч. Друзья прочили ему кассовый успех: «Вам ничего не стоит преодолеть миллионный рубеж!» Вот тогда его жизнь была цветущим садом.
Сильвен с трудом покидает кресло. Зевает. Идет в ванную и рассматривает себя в зеркале, кончиками пальцев приглаживая волосы над ушами. Почему же все-таки звонил Николя? Наверное, хотел попросить денег. Но в основном он домогается их не впрямую, а через мать. К счастью, фамилия Николя не Дорель, а Белями. И люди, как правило, не знают, что у него есть сводный брат. Сильвен никогда о нем не упоминает.
И вдруг телефонный звонок. Сильвен передергивает плечами. Очередной зануда, или кто-то ошибся номером. Не спеша, доказывая самому себе, что отныне ничего не ждет и запрещает себе волноваться по этому поводу, он возвращается в кабинет и снимает трубку.
— Это ты, котенок? — спрашивает Марилен.
— Конечно, — ворчит он. — А кто же еще?
— Похоже, ты чем-то недоволен.
— Голова побаливает… А как ты? Откуда звонишь?
— Со студии. И это еще не конец. Черт-те что! Трубим без остановки с самого утра. Я валюсь с ног. Что новенького дома?
— Ничего… Ах да. Я болтал с Мерсье. Он рассказал мне об одном проекте. «Черные одежды» — это тебе о чем-то говорит?
— Дай подумать. Вроде бы я что-то читала в таком духе, но очень давно. Что-то в жанре плаща и шпаги, да?
— Да, что-то наподобие. Похоже, из этого сделают телесериал.
— Скажи на милость. А ведь могло бы получиться интересно. Ступай и скорее купи книжку. Ева в курсе?
— Не думаю.
— Ах она такая-сякая! Ей все подавай на блюдечке. А как Тельма — ты виделся с ней?
— Да.
— Но что с тобой сегодня? Приходится тянуть из тебя каждое слово.
— Тельма… В ее речах, как всегда, намешано и хорошее и плохое. Она видит вокруг меня кровь.
— Кровь! О господи!
— Знаешь, беспокоиться нечего. Может быть, кровь по ходу фильма, в котором мне предстоит сниматься.
— А я?
Это крик души. Сильвен улыбается.
— Не беспокойся. Я дам согласие только при условии, что в нем найдут роль и тебе. Скоро вернешься?
— О, поздно, не раньше вечера. Ужинай без меня, котеночек. И сбегай за книжкой. А потом предупреди Еву, пусть подсуетится! Нечего!
— Что ты ешь? Я слышу: хруп, хруп.
— Какой тонкий слух. Грызу печенье. С этим Анри даже нету времени нормально поесть. Ну вот и жуешь что попало, на ходу. Убегаю. До вечера, котенок.
Щелк. Она отключилась. Завтра… Кстати, какой день сегодня? Среда. Так вот, завтра, послезавтра и весь уик-энд, а вполне вероятно, что еще очень долго, они будут тут, ничем не занятые, перебирать прожекты, обреченные на провал, жить чужой жизнью, черная сведения о ней из случайных разговоров, встреч, свиданий, поджидая, чтобы подала знак удача.
Сильвен водружает ноги на угол письменного стола, желая расслабиться. Он думает о Марилен. О своих партнершах. Многие из киноактеров, по ходу действия сжимая в своих объятиях женщину, абсолютно ничего не испытывают. Он наслушался на эту тему немало откровенных признаний. Для них поцелуи, затяжные, взасос, страстные объятия — всего лишь тренировка, не влекущая за собой никаких последствий. Профессиональная разминка, и не более того. Сильвен припоминает слова одного приятеля: «Когда режиссер — сущий маньяк — снимает по пять-шесть дублей, тебе, скорее, хочется покусать этих бабенок!»
Только не ему! Он влюбляется в своих партнерш с ходу, при первой же необходимости прижать их к сердцу. И так продолжается все время, пока идут съемки. Он страшится того момента, когда у него наступает обморочное состояние. Поцелуй — страшное дело, он обязывает. Поцелуи нельзя раздавать направо и налево. Иные актрисы сразу же бесстыдно приоткрывают рот, забавляются, чувствуя, что партнер изнемогает от нахлынувшей страсти. Сильвену так и хочется избить их и изнасиловать. А еще ему хочется сказать им: «Берегитесь! Я вполне способен вас любить!» Он никогда не позволяет чувствам вылиться наружу. Крупные планы его сдержанной страсти и прославили Дореля. Всем киношникам было известно, что Сильвен целуется бесподобно, со знанием дела. Еще в консерватории Марилен не упускала случая его поддразнить: «Ну поцелуй меня… Пусть Даниель тебя не смущает. А ты и вправду мастер по этой части!» Даниель делано смеялся. И вот в один прекрасный день такие любовные игры привели их к разводу. Вот тогда он женился на Марилен, и этот брак ознаменовал начало его падения. Он только что кончил сниматься в «Шуанах». Фильм провалился. Беспощадная критика. Продюсер разорился. Полный разгром!
Сильвен устал без конца пережевывать эти горькие воспоминания. Он переодевается, достает теннисную ракетку, выводит из гаража малолитражку и катит в «Ролан-Гаррос».[7] Там он без труда найдет себе партнеров.
И в самом деле. В баре он натыкается на Жака Перрена.
— Ну, как дела? — спрашивает он актера. — Ты в простое?
— До завтрашнего дня, — отвечает тот. — А как твои-то дела?
— Ни шатко ни валко.
Перрен больше не задает ему вопросов. У больного раком о здоровье не спрашивают.
— Сыграем сет? — предлагает Перрен.
Сильвен играет в теннис мастерски. У него уже не те ноги, что в двадцать, но он все еще хорош в подаче. Очень скоро он забывает про свои невзгоды. Он вызывает восхищение своими кручеными мячами, силой прямых ударов. Мяч прочерчивает в воздухе поразительно четкие кривые. Ему бы хотелось, чтобы его траектории материализовались и стали образчиками, которые можно выставлять напоказ. Он классно делает подрезки и воображает себе такую надпись к экспонату: «Passing-short.[8] „Ролан-Гаррос“. Сильвен Дорель».
Перрен мужественно отбивается и сравнивает счет. Сильвен предпочитает остановиться, чувствуя, что выдыхается. Ему жарко. Сейчас он почти доволен судьбой. Во всяком случае, что касается второй половины дня. Он легко поужинает в snack-bar.[9] Кругом молодняк. Все толкаются и не обращают на него ни малейшего внимания. Может, эти молодые люди и припомнят его имя, но оно ассоциируется у них с былой славой Дореля. Будь бы еще у него лицо зрелого мужчины, отмеченное в уголках глаз возрастом! Вот если бы он мог играть сорокалетних! Так нет же! Он еще на многие годы останется стареющим юношей, где-то между Деваэром и Делоном. Ни рыба ни мясо. Устарел, не успев самоутвердиться. Ах, право же, какая необходимость водружать на нос темные очки? Он не более чем силуэт. А еще недолго — и вовсе станет призраком.
Купив «Франс суар» у разносчика газет, Сильвен открывает страницу зрелищ. Он ищет программу пригородных киношек. Вот… «Аполло» — в Иври. Внезапно он заторопился и, расплатившись, прыгает в машину. И думает: вот ведь как папаше Ванелю подфартило с его лицом в морщинах и трещинах, как на заскорузлой коже. Зато он уверен, что его место никто не вправе оспорить. Ему уже нет необходимости прихорашиваться, целоваться взасос — достаточно, что он фигурирует на экране — кряжистый, сутуловатый. Старый человек. И тиражирует самого себя до бесконечности.
Сильвен замедляет ход. В сумерках замерцали огни кинотеатра, напоминающего небольшой вокзал. Он без труда пристраивает машину. Переходит улицу походкой праздношатающегося и останавливается перед афишами. «Майерлинг».
Сильвен красуется на этой афише почти в натуральную величину. Роль эрц-герцога Рудольфа — самая выигрышная из его ролей. Повторная постановка затмила фильм с участием Шарля Буайе. Он видит на афише только себя. О своей партнерше ему хочется забыть. Рудольф — это Сильвен Дорель. Сколько лет прошло с тех пор? Девять?.. Десять?.. До чего же он был хорош собой. Выглядел царственно. Старт, обещавший триумф.
Несколько девиц разглядывают афишу одновременно с ним. Они жуют жвачку. Эти явились затем, чтобы их тискали в темном зале. А фильм? На него им плевать. Сильвен растроган до глубины души, как если бы стоял перед иконой. Он медленно пятится назад. Возвращается к себе в машину. Не спеша трогается с места. Теперь ему все ясно — он ушел в небытие.
Телефон. Звонок за звонком, но ничего существенного. Телефон стал для Сильвена как бы личным врагом, хитрым и мстительным, который следит за его приходами и уходами и звонит, едва он повернется к аппарату спиной, чаще всего когда он стоит под душем или же обедает. Сильвен восседает в постели с подносом на коленях и чашкой кофе в руках. Он кричит Марилен:
— Послушай, пожалуйста!
Марилен пробегает через спальню, закутавшись в банный халат.
— Если Мерсье, — добавляет Сильвен, — пошли его к черту.
Он допивает кофе, прислушиваясь к тому, что происходит в кабинете. Марилен возвращается.
— Спрашивают тебя.
— Кто именно?
— Ева. Говорит, что у нее хорошие новости.
Сильвен мигом приободрился. Он отставляет поднос, роняя при этом гренки, и, не теряя времени на то, чтобы натянуть пижамные штаны, бросается в кабинет.
— Алло, Ева!.. Привет… У тебя, говорят, хорошие новости?
— Да. Но погоди… Вчера я узнала от Даниеля Желена, что Медье… Помнишь Медье?.. Он еще поставил фильм по роману Чейза…
— Да. Ну и что?
— Так вот, он собирается вкупе с мелким итальянским продюсером — его имя ничего никому не говорит — Джузеппе Фрескини… Словом, Желен говорит, вроде бы этот Фрескини заработал немалые деньги на порнофильмах…
— И ты намерена предложить мне такое?
— Да нет же, дай договорить.
Марилен крадучись вошла в кабинет и, поджав ноги, села в кресло, глядя на Сильвена, как кошка в ожидании лакомства.
— Медье и Фрескини задумали нечто весьма оригинальное, — продолжает Ева. — Успех «Дона Джованни» разжег их аппетит, и теперь они решили экранизировать знаменитые романы, вдохновившие композиторов на создание опер, но отталкиваясь при этом как от оригинального произведения, так и от оперного либретто. Такое кино убивало сразу двух зайцев: было по вкусу и любителям литературы, и любителям музыки. Разумеется, актеров будут частично дублировать оперные певцы.
— По-моему, это сущий бред, — говорит Сильвен, крутит пальцем у виска и вздымает глаза к небу. Ева смеется своим мужеподобным голосом на другом конце провода.
— А что не бред в шоу-бизнесе? — парирует она. — Но слушай дальше. Они хотели бы… продолжим в условном наклонении… начать с «Вертера».
Сильвен хихикает и шепчет Марилен:
— Расскажу тебе потом. Бред сивой кобылы. — И продолжает в трубку: — Я прекрасно слышу: «Вертер». Но такой фильм уже был… Режиссер — Макс Офюльс… Ну и что же тут интересного для меня?
— Для тебя? А ты еще не догадался? Они ищут — словом, это пока что слухи — кандидатуру на роль Вертера. Актера не слишком молодого и не слишком старого, с опытом. Первого любовника — не слишком первого и не слишком любовника… чтобы не платить ему больших денег. Тебе это улыбается? В принципе, разумеется, пока что все это вилами на воде писано.
Прикрыв ладонью микрофон, Сильвен консультируется с Марилен:
— Вертер. Ты меня видишь в роли Вертера?
Та хмурит брови.
— «Вертер»?.. Это где длинное соло на скрипке?
— Нет. Ты спутала с «Таис». «Вертер» — это лунный свет.
— А это не чушь собачья? — бормочет Марилен.
Сильвен — в трубку:
— Марилен считает, что это вроде бы чушь собачья.
— Какие же вы глупые оба, — возражает Ева. — Я же тебе сказала — они отталкиваются не только от оперы, но и от книги.
— Какой такой книги?
— Ну как же, от романа Гёте.
Это слово попало в яблочко. Все детали мозаики складываются в голове Сильвена в цельную картину. Тельма оказалась права. Гёте… «Вертер»… вспышки бликов… кровь… Кровь при самоубийстве, черт побери! Значит, он сыграет Вертера… И его ждет триумф!
— Что ты призадумался? — спрашивает Ева.
— Ничего. Прикидываю. А ты знаешь, как связаться с ним, этим Медье?
— Разумеется. У него контора на улице Мариньян.
Трубка дрожит в руке Сильвена. Он запинается.
— Позвони ему, — просит он. — Надеюсь, еще не слишком поздно. Я согласен. Давай не тяни.
Марилен теребит мужа за рукав. Тот с раздражением высвобождается.
— Насчет денег не жадничай.
— Внимание! — предупреждает Ева с тревогой в голосе. — Не бери пока что в голову. Ты как ребенок. Дай мне срок навести справки. Может, все это липа. Буду держать тебя в курсе. Пока все. Тебе и вправду доставит удовольствие сыграть Вертера?
— Да, пожалуй… Я уже так давно… Прошу тебя, немедленно позвони Медье… И если дело на мази, подсуетись насчет роли для Марилен.
— Для меня? — воодушевляется Марилен.
Сильвен ставит аппарат на место и садится на ручку кресла.
— Выкладывай, — требует она. — Так что же я буду играть?
Сильвен чешет ладошку, оставляя вопрос жены без ответа. По правде говоря, он малость обалдел.
— Это формальное предложение? — допытывается Марилен.
— Нет… но попытка не пытка. Прошу тебя, ступай и посмотри в «Ларуссе» — что там сказано про Гёте?
Марилен отправляется в библиотеку. Сильвен слышит, как шелестят страницы толкового словаря. Он просто без сил. Эта задумка скрестить оперу с романом — слишком хороша, слишком экстравагантна, чтобы быть правдой. А между тем ведь Тельма никогда не ошибалась.
— Ты хочешь, чтобы я зачитала тебе статью целиком?
— Нет. Только место, где говорится про «Вертера».
— Начнем с того, что роман называется «Страдания юного Вертера». Далее…
— Да, теперь припоминаю.
Он позабыл. А ведь Страдания — уже само по себе целая программа! Какую же гамму чувств можно тут передать мимикой. Вертер! Этот образ в одной струе со всем, что уже принесло ему успех. И как же он не додумался сразу!
— Не знаю почему, — продолжает он, — но поначалу идея показалась мне ерундовой. А это, наоборот, просто суперкласс. А что, в «Ларуссе» пересказано содержание романа?
— Нет.
— Жаль. Сюжет выветрился у меня из головы. Кажется, девушку зовут Шарлотта… Ее отец какой-то судейский чин… Шарлотта влюблена в Вертера, но помолвлена с верзилой по имени Альберт. Послушная дочь, она выходит за суженого. А Вертер кончает с собой. Чего уж говорить, в сравнении с фильмом «Апокалипсис сегодня»[10] это просто мура. Ну да ладно, поживем — увидим. Берта явилась?
— Надеюсь.
— Сходи-ка за ней.
— Ты мог бы тем временем одеться поприличнее.
Сильвен накидывает домашний халат, роется в ящиках, находит визитку и пишет: «Роман Гёте „Страдания юного Вертера“. Найти в изданиях „Фолио“».
Вот и Берта. Тридцать лет. Белая блуза с пуговицами на плече. Развязные манеры.
— Сбегайте-ка в книжный магазин. Дайте им эту карточку. У них наверняка есть такая книжка. Она мне срочно нужна.
— Мсье будет сниматься в фильме?
— То-то и оно. Пошевеливайтесь.
Сильвену не сидится на месте. Девять часов. Этот Медье объявится в конторе ближе к полудню. Раньше часа ответа ждать не приходится. Чтобы успокоить нервы, Сильвен долго стоит под душем. Как любопытно! Почти все его персонажи заканчивают жизнь в крови… «Сен-Мар» — герою отрубили голову. Герцог Энгиенский расстрелян… Андре Шенье гильотинирован… Жюльен Сорель — тоже… Чахоточный Шопен — не в счет… А вот теперь — Вертер.
Сильвен думает о револьвере, из которого застрелился его отец. Все таинственным образом связано. Быстро вытеревшись, он звонит Тельме.
— Говорит Сильвен. Здравствуйте, мадам. Разрешите мне прийти?
— Только не сегодня утром.
— Какая досада. Потому что я намерен сказать вам о предложении или, скорее, проекте… Вы были правы в отношении Гёте. Возможно, мне предложат играть Вертера. Вот почему я хотел бы услышать ваше мнение.
— Будьте осторожны.
— Но дайте же мне объяснить…
— Это опасно.
— Опасно играть роль Вертера? От этого еще никто не умирал.
— Повторяю еще раз, я не желаю вступать с вами в спор. Но чувствую, что это чревато опасностью — и все. Вы вольны принять решение, разумеется.
— Опасно? Но что может со мной случиться? Я заболею?
— Я сказала вам все, что знаю. Теперь мне пора уходить. Извините меня, пожалуйста… Приходите на следующей неделе.
«Бред какой-то, — подумал Сильвен, вешая трубку. — Остерегаться — согласен. Но ведь я подпишу контракт не с закрытыми глазами… Порой она не в своем уме, бедная старуха. Ну и пусть! Я его все равно подпишу».
Он закуривает сигарету, чтобы успокоить нервы. Но это сильнее его, и он шагает взад-вперед по кабинету, распахнув стеклянную дверь, он задыхается.
Берта возвращается с книгой. Теперь ему хотя бы есть чем заняться. Сильвен погружается в чтение. Вроде бы Марилен кричит ему с порога: «Вернусь в одиннадцать!» Сильвен читает.
«Я вздыхаю и кричу в душе: ах, если бы ты мог выразить словами то, что чувствуешь! Если бы ты мог излиться и запечатлеть на бумаге ту жизнь, которая пульсирует в тебе с таким пылом и жаром».
Какой приятный сюрприз! А он-то настроился на тоску зеленую. Разумеется, печать эпохи неоспорима. Написано в романтических тонах, подернуто туманной дымкой. Но текст запоминается с ходу. У Сильвена замечательная, прочная память. Он уже способен, прикрыв книгу, повторить фразы, задевшие его за живое.
«О, какой огонь пробегает по жилам, когда мой палец ненароком касается ее пальца. Я отстраняюсь, чтобы не обжечься, но тайная магия притягивает меня вновь; у меня кружится голова. Все мои чувства приходят в смятение…»
По мере того как Сильвен переворачивает страницы, он чувствует, как Вертер становится ему все ближе и ближе. Столько страсти и в то же время чистоты — переживать такое ему еще не приводилось. И вот теперь все порывы, подавляемые им в себе, подступают к сердцу. Он хотел бы пережить все сначала с Марилен, но уже не в жестокости и ненависти. Он с изумлением замечает, что оторвал ее от мужа так, как это чуть было не сделал Вертер с Шарлоттой, в поэтическом самоотречении. Он читает вслух, и голос его дрожит от волнения.
«Разве то, что я питаю к ней, не любовь — самая святая, самая чистая, самая братская?.. Глаза мои наполнены слезами. Я не нахожу себе места. Ничего не желаю, ничего не хочу. Лучше мне уехать…»
Сильвен чувствует, что произнесет эти слова с душераздирающей экспрессией. Он встает. Складывает ладони. И произносит монолог, обращаясь к тени, которая находится перед его восхищенным взором. Она более реальна, нежели Катрин Денев или Мари Франс Пизье… или Даниель Лебрен, или даже Марилен. Эта женщина-тень, которая состоит из слов, вздохов, молитв и музыки. Сама живая душа. И смерть.
Сильвен идет к потайному ящичку и, открыв его, достает тяжелый пистолет со все еще заряженным барабаном. Поднимает его к виску. Этот жест должен быть медленным, торжественным. Сильвен видит себя на экране. Зрители затаили дыхание. Крупный план: палец, который готов спустить курок.
Сильвен откладывает оружие. Она нужна ему, эта роль. Все происходит так, будто роли, сыгранные им ранее, подготовили эту, оповестили о ней. Он будет Вертером. Он уже Вертер. Этот жест, когда рука подносит пистолет к виску, — как трудно его выполнить, не создавая впечатления надуманности или позерства. Сильвен уже владел его секретом… как бы это сказать… он получил его в наследство, а точнее, унаследовал от отца. Весь фильм будет держаться на этом жесте — самоубийство из честности, — самом красивом, самом благородном. О нем станут говорить на званых ужинах: «Если вы не видели Дореля в финале „Вертера“, вы ничего не видели, моя дорогая. Это колоссально! Вас так и одолевает желание всадить себе пулю в лоб».
Сильвен потешается над собственной экзальтированностью, но воспринимает ее с благодарностью. Это и есть жизнь. Надо, чтобы пьяная дрожь пробегала по артериям, мускулам, стучала в висках, складывалась в песню, в припев, ритм которого настукивают кончиками пальцев. Ах! Телефон. Это Ева.
— Алло! Сильвен?
— Я. Ну что, ты виделась с Медье?
— Виделась — не то слово. Он не перестает мне названивать. Судя по разговору, информация Желена соответствует действительности. Медье и в самом деле намерен ставить «Вертера». Он при деньгах, а это главное.
— Ну а я? Что они думают обо мне?
— Много хорошего… Да-да, уверяю тебя… Над распределением ролей он еще вплотную не задумывался. На роль отца Шарлотты намечается Дюмениль или, возможно, Жорж Вильсон. С самой Шарлоттой он тоже еще не определился. Его коллеге хотелось бы видеть в этой роли итальянку, но они еще ничего не решили. Медье надеется осуществить франко-итало-немецкую постановку, так как знаком с одним промышленником из Рура, способным заинтересоваться таким проектом. Но тогда было бы политичнее сделать Шарлотту немкой.
— Какое-то темное дело, — вздыхает Сильвен. — Но скажи наконец, а как же я, черт побери?! Меня-то взять он согласен?
— Все, что я могу тебе сообщить, — мы приглашены на обед. В час дня, у Ледуайена. Ты, Марилен и я. Ведь ты знаешь продюсерскую братию. У них проясняется в мозгу только на полный желудок. Так что я настаиваю — пусть Марилен не опаздывает.
Сильвен в нерешительности.
— Согласен, — говорит он. — Но как бы нам пристроить к «Вертеру» и ее? Там всего четыре роли: отец, дочь, муж… и воздыхатель.
— Послушай, — он угадывает, что Ева закуривает одну из своих мерзких сигар, — если память мне не изменяет, у Шарлотты есть сестры…
— Но они совсем дети.
— Подумаешь! Что стоит взять одну из них и состарить? Между прочим, в опере так и поступили. Ты же знаешь, в кино все возможно. Значит, в ресторане… И без всяких там нарядов.
— Да, к слову, какой он из себя, этот Медье?
— Рыжий детина, по виду только что спустился с гор — водолазка, потертые джинсы. Голубые глаза смотрят поверх твоего плеча… лет сорока. Руки каменотеса.
— Это несколько настораживает, а?
— Как посмотреть. Он не из тех, кто мыслит масштабно, зато он мыслит современно.
— Именно так я себе его и представлял. Еще раз спасибо, моя добрая Ева. До скорого.
Сильвен чуточку смущен. Ему знакомы эти фильмы совместного производства. Они соберут в одну кучу двух французов, немку и итальянца. Или же итальянку и немца… Сценаристом будет американец, а режиссером — натурализованный поляк. Возможно, он и преувеличивает, но ему подфартило — на заглавную роль выбрали его. Ему еще предстоит показать, на что он способен!
Сильвен долго раздумывает, обозревая свои костюмы. У него гардероб кинозвезды, и он останавливает выбор на довольно броской двойке в стиле принца Уэльского, чтобы казаться непринужденным. Он хочет с самого начала заявить о себе не как проситель. Ровно в полдень является Марилен.
— Мы где-нибудь обедаем?
— Да. Быстренько переодевайся. Нас пригласил Медье. Мне бы не хотелось заставлять себя ждать.
— Мы получили роли?
— Пока нет. Что ты себе воображаешь? Мы побеседуем — и все. Давай шевелись.
Медье объявился без четверти два. Ева описала его один к одному, только поверх пуловера на нем кожаная куртка. Очень удобно — он чувствует себя достаточно состоятельным, чтобы не трудиться над выбором формы одежды. Он дважды чмокает руку — Марилен и Еве, как будто клюет щука, и внимательно оглядывает Сильвена, затягивая мужское shake-hand.[11] Обмен любезностями. Обсуждение меню. Но Медье не тот человек, который ждет, когда подадут кофе, чтобы перейти к делу. Покончив с рыбной закуской, он атакует, обращаясь к Еве:
— Я задержался по милости Вильгельма Голдсмита — знаете, этого промышленника из Франкфурта, который приобщится к нашему делу. Прошу прощения за опоздание.
— Вы с ним договорились? — интересуется Ева.
— Почти. Что его смущает, так это позиция Джузеппе Фрескини. Того совершенно не устраивает, что в будущем фильме актеры наполовину говорят, наполовину поют. У меня впечатление, что он не выносит Массне. Сколько я ему ни толковал, что мы не намерены держаться в рамках оперы, он стоит на своем и, как истинный немец, считает роман Гёте самодостаточным для хорошего сценария.
— Возможно, он и прав, — бросает Сильвен.
— Ах! — восклицает Медье. — Вы так полагаете?
Сильвен осторожничает, стараясь уловить, что у Медье на уме.
— Прежде всего, это великолепная любовная история, — решается он подать голос. — А зрителям только это и подавай. Вспомните успех «Love story».[12]
Положив раковину устрицы на край тарелки, Сильвен прикладывает салфетку к губам и начинает декламировать:
— «Дорогой Вертер! Она впервые назвала меня „дорогой“, и радость, охватившая меня, проникает до мозга моих костей. Я повторял себе это слово сто раз».
— Да-а, — изрекает Медье, наливая вино по кругу. — Недурственно. Между нами, девочками, у меня, как и у всех нас, сохранилось лишь смутное воспоминание о Гёте. Но вот слушая вас… с чем вас и поздравляю… вы замечательно декламируете эти стихи (Сильвен удрученно переглянулся с Евой). Я прекрасно понимаю, что этот текст… — Он сосредоточенно рассматривает этикетки на бутылке муската. — Как бы это сказать… покрылся пылью. Нам же требуется современный Вертер, который не вздыхает, как дурачок. Понимаете, зрителей станет волновать только одно: а переспит ли он с героиней или нет.
Улыбка в сторону Марилен, которая ловит каждое слово Медье на лету.
— Разумеется, — допускает Медье, — речь не о том, чтобы шокировать публику, тем не менее, — его пальцы как бы продираются вперед, имитируя юркого зверька, — раз надо, так надо. Хороший сценарист — и мы решим эту проблему запросто.
Официант меняет приборы.
— В хороших сценаристах нехватки нет, — продолжает Медье. — Я бы, например, не возражал против Жана Эрмана, не лишенного чувства юмора. Юморок необходим в любом сюжете.
Пока официант обносит следующим блюдом, Ева самым непринужденным тоном задает вопрос, который гложет всех троих:
— Само собой, вы подбираете исполнителей согласно литературному сценарию?
Медье кивает, задумчиво пробуя розовое вино, и наконец выдавливает из себя:
— На сей счет у нас небольшая проблема.
Он смотрит прямо в глаза Сильвену, который съеживается при мысли: «Так и есть. Сорвалось».
— Джузеппе, — продолжает Медье, — лучше, если вы узнаете об этом прямо сейчас, неравнодушен к Даниелю Марсьялю, с которым уже работал в фильме Дзино Мукьели. Серия «Б», ничего особенного, но Джузеппе задолжал ему, и эта роль стала бы хорошим средством расплатиться.
— Даниель наверняка об этом долге и думать забыл, — заявляет Марилен.
— Вы с ним знакомы?
— Марилен — бывшая жена Марсьяля, — поясняет Ева.
— Ах! Извините! — восклицает Медье. — Мне следовало бы навести справки. Я еще новичок в кинобизнесе. До этого занимался импортом-экспортом и чаще пребывал в самолете, нежели в Париже. Но раз уж речь зашла о распределении ролей, я очень хотел бы заполучить вас, Сильвен. Вы позволите мне звать вас по имени?
— Ради бога, — отвечает Сильвен, просияв.
— Я очень высоко ценю ваши картины. Ваш Шопен бесподобен.
— На роль Вертера, — произносит Ева, — более подходящего актера вам не сыскать.
— Охотно верю вам, — отвечает Медье. — И потом, откровенность за откровенность. Если я стану вечно уступать Вильгельму и Джузеппе, они сожрут меня с потрохами. Джузеппе очень мил, но чересчур тянет одеяло на себя. Ладно! Все это пока немного абстрактно… И я не могу твердо обещать вам эту роль. Сначала нам предстоит выбрать Шарлотту. Она — важнейший персонаж, не правда ли?
Сильвен придерживается совершенно иного мнения, однако кивает в знак согласия.
— Вот если бы нам удалось заполучить Юппер, — бормочет Медье, который, оттолкнув тарелку, набивает трубку.
Воспользовавшись паузой, Ева подсказывает:
— По-прежнему не исключена возможность пристроить и Марилен?
— Никаких проблем! — подтверждает Медье.
Возможно, они и не пришли к договоренности ни по одному вопросу, но все четверо наслаждаются этим моментом сговора, который венчает обед, затеянный для установления контакта между киношниками. Десерт. Кофе. Ликеры. Они перебирают имена возможных сценаристов. Буланже? А почему бы и нет? Он дорого берет, но если желаешь получить потрясающий текст… Был бы неплох также Жюллиан. О нем забывают, а ведь у него богатое воображение.
— Может, — замечает Медье, — я недостаточно задержал ваше внимание на том, что мы не намерены делать исторический фильм. Вертер — герой вне времени. Как и Манон. А ведь Клузо,[13] не колеблясь, поставил «Манон», героиня которого вышла из войны и немецкой оккупации.
— Вы откажетесь от костюмов той эпохи? — спрашивает Сильвен.
— Не задумываясь. У вас имеются возражения?
— Никаких, — спешит заверить его Сильвен. — Просто хотел подчеркнуть, что между костюмами и чувствами существует глубокая связь.
— Справедливое замечание, — признает Медье. — В самом деле, нам следует это учесть. Давайте вскоре повидаемся опять. Я не намерен тянуть резину. Мне хотелось бы приступить к съемкам в сентябре. А сейчас мне надо бежать.
Он встает. Обмен рукопожатиями. Очень рад познакомиться. Созвонимся. В суматохе Ева шепчет Сильвену:
— Мой бедный друг, мы не продвинулись ни на йоту.
«Созвонимся» — излюбленное выражение тех, кому уже нечего сказать друг другу. Сильвен пребывает в тревоге. Он дважды пытается связаться с Медье. Женский голос, мелодичный и скорбный, как голос по репродуктору в аэропорту, отвечает, что господин Медье в Риме, в Лондоне… Какого хрена ему делать в Лондоне! Сильвен вне себя. Уж не водит ли Медье его за нос? Что за дурацкая профессия! Знать бы еще, откуда он взялся, этот Медье. Начать с того, что его зовут не Медье. Ева навела справки. У нее повсюду таинственные осведомители. Ее агентство — своего рода ЦРУ в миниатюре, которое пустило глубокие корни в киношном мире. Оказывается, настоящее имя Медье — Сэмюэл Баллок, по происхождению американец, его отец жертва маккартизма, обосновался в Париже. Единственный фильм, какой он выпустил, создан по оригинальному сценарию, автор которого, вопреки слухам, вовсе даже не Чейз, а безвестный писатель, его первоначальное название «Утопленник пускает пузыри» прокатчики восприняли без особого восторга, и фильм выпустили на экраны как «Берегись! Ограбление!». Успех незначительный, кассовые сборы мизерные. Гангстерские фильмы уже не котируются! Вот почему, явно шарахаясь из одной крайности в другую, Медье и взбрела в голову мысль о «Вертере».
«Вертер» после «Берегись! Ограбление!»… Сильвена прошиб холодный пот. Должен ли он, несмотря ни на что, цепляться за Медье? Или лучше ему плюнуть на это дело? Он переходит от возмущения к унынию, меняя решение по десять раз на дню.
Марилен умоляет мужа не отказываться. Ева, более осторожная, полагает, что следует выждать. Она продолжает вести разведку. Что до Фрескини, то сведения тоже не бог весть какие. Подтверждается, что он, неплохо заработав на порнофильмах, теперь желал бы получить признание как серьезный продюсер. Голдсмит же — тот сколотил состояние на шарикоподшипниках, имеет сына, снимающего любительские короткометражки, который не прочь стать ассистентом режиссера. Время идет. Тельма стоит на своем — он должен отказаться от этого предложения, но привести мало-мальски убедительный довод она не в состоянии. Сильвен наконец внушил себе, что ее страхи ложны. Мерсье после дипломатических расспросов сообщил Сильвену, что проект постановки «Черных одежд» ушел в песок, но перед Даниелем, похоже, маячит новый. Неужто «Вертер»? Сумел ли Фрескини добиться у Медье роли для Даниеля? Нет и нет! Это было бы слишком несправедливо. Сильвен уже не ест, не спит. Марилен дуется. Жизнь являет какую-то сплошную непристойную гримасу. И вдруг неожиданный звонок поутру воскрешает Сильвена из мертвых.
— Алло! Господин Дорель? С вами говорит «Галлия-продюксьон».
У них мания — торжественно оповещать о себе через секретаршу. Если бы еще поставить у входа дюжего швейцара в белых гетрах, ударяющего о землю алебардой! Сильвена на секунду увлекает эта идея, и радость журчит в нем ручейком.
— Алло… Дорогой Сильвен… Как жизнь?
— Очень хорошо. Признаюсь, я ждал вашего звонка с известным нетерпением.
Медье прерывает его:
— Минутку. Дорогой Сильвен…
Голос удаляется, и Сильвен слышит на фоне перестука клавиш пишущей машинки: «Я на совещании. Пусть перезвонят часа в четыре». И вот Медье опять на проводе:
— Значит, так. Наш проект обретает форму. Не далее как позавчера собиралась наша группа. Мы достигли согласия по кандидатуре сценариста. Альберто Фьорентини. Этот парень мало кому известен у нас, но пользуется солидной репутацией в Риме. Изъясняется по-французски, с этой стороны проблем нет. Я бы хотел, чтобы вы встретились с ним. Вы не против? У меня в конторе, сегодня вечером, часиков этак в девять. Коль скоро вам предстоит совместная работа, было бы недурно обменяться идеями. Предупреждаю без обиняков: у Альберто оригинальнейший склад ума. И поначалу это может ошарашить. Он хорошо относится к «Вертеру», но желает привнести в сценарий социальный элемент… Короче, он сам объяснит вам все. Могу я на вас рассчитывать?
— Разумеется, — бормочет ошеломленный Сильвен.
— Встретимся вечером, дорогой Сильвен. Мое почтение вашей очаровательной супруге.
Щелк. Телефон отключился, а Сильвен повторяет про себя: «„Социальный элемент!“ Я сплю и вижу сон. Час от часу не легче. Это все больше и больше смахивает на бред!»
Сильвен немедля назначает свидание Еве. Место встречи — бульвар Сен-Жермен, в баре. Ева терпеливо слушает его, прикрыв глаза, прикрыв веки от дыма своей вонючей сигары.
— Признайся, — говорит он, — мне жутко не повезло, что я нарвался на такую публику. А ведь чего-чего — хороших продюсеров в Париже пруд пруди. Возьми «Гомон». Они покупают права на книгу, назначают продюсера, сценариста, исполнителя, и бац — три месяца спустя приступают к съемкам. А я — я стою на одной ноге, силясь не потерять равновесие. Буду ли я сниматься? И в чем? — спрашиваю я себя. Социальный элемент в «Вертере»! Ты знакома с ним, с этим Фьорентини?
Ева не знакома, но советует Сильвену запастись хладнокровием.
— Романы, — говорит она, — издаются для того, чтобы их переделывали. Они резиновые. Каждый выкраивает из них маску по своей мерке. Надеюсь, я не сообщаю тебе ничего нового! Так что играй в их игру.
Контора Медье находится в одном из этих старых зданий на Елисейских Полях — сплошные коридоры, которые скупо освещены и пахнут дезинфекцией. Две комнаты. Одна для секретарши — скоросшиватели, пишущая машинка под чехлом, на стенах афиши кинофильмов «Берегись! Ограбление!», «Шпана». «Весьма многообещающе», — иронизирует про себя Сильвен. Вторая — просторнее и уютнее: палас, клубные кресла, большой письменный стол, на котором разместились телефонные аппараты. Все это подмечено Сильвеном при беглом взгляде вокруг себя, поскольку Фьорентини уже здесь, стоит боком к окну, наблюдая за тем, что происходит на проспекте.
Подходит Медье и знакомит их. Фьорентини изящен на итальянский манер — несколько подчеркнуто. Красивое, немного строгое лицо, как у Витторио Гасмана. Очки в тончайшей оправе придают ему профессорский вид. Лет сорока. Медье достает из шкафа обязательное виски. «Meeting», как он выразился, можно начинать. Фьорентини говорит напрямик:
— В сущности, что мы имеем, если изложить сюжет «Вертера» в двух словах? Один персонаж, который впал в детство, один — рогоносец, героиня — ходячая добродетель, вместо первого любовника — девственник. Я намеренно упрощаю, чтобы нагляднее охарактеризовать действующих лиц.
— Вы слишком упрощаете, — произносит Сильвен.
— Самую малость. Заметьте себе, я восхищаюсь Гёте, но «Вертер» — литература для чахоточных. Роман, который нуждается в переливании крови.
Медье снисходительно улыбается, всем своим видом выражая: «Я предупреждал вас, этот парень — большой оригинал».
— Историю придется переписать набело, — продолжает итальянец. — Я говорю не о стиле — это уж само собой. Я говорю о взаимоотношениях персонажей.
Сняв очки, он протягивает их к свету и, проверив прозрачность стекол, протирает кусочком замши, не переставая разглагольствовать:
— Отец, принуждающий дочь выйти за нелюбимого, влюбленный, впавший в отчаяние, — ситуация довольно выигрышная. Я вижу, вы намерены мне возразить, что это мелодрама. Но если идти по такому пути, то как по-вашему, разве Верди — не мелодрама? Мелодрама — возвышенное искусство при условии, что чувства выявляют социальные противоречия данного общества. И вот тут как раз и…
«Ох, как он мне осточертел», — подумал Сильвен, сухо прерывая Фьорентини:
— Ну и что это дает?
— Значит, так, в двух словах. — Фьорентини сосредоточенно сводит кончики пальцев. — Нерв всей этой истории — деньги. Сейчас поймете. Отец Шарлотты будет у меня автоконструктором. Но само собой, его автомобили класса люкс, некогда очень престижные, перестали пользоваться спросом. Возникла экономическая проблема. Вы следите за моей мыслью? Заводы закрывают, неминуема безработица со всеми вытекающими отсюда последствиями. Остается одно — продать их преуспевающему конкуренту.
— Альберту? — догадался Сильвен.
— Точно. Альберту, который возжелал не только фирму, но и девушку. И если Шарлотта выйдет за Альберта, такой брачный союз поможет нашему горе-промышленнику частично сохранить свое положение.
— А я? При чем же здесь я? — вскричал Сильвен и мигом поправился: — Я неудачно выразился. Я имею в виду Вертера.
— Так вот, вы, несомненно, уже догадались, что Вертер — гонщик-испытатель при старике отце. Он завершает работу над конструкцией нового мотора. Деньги все решают и на сей раз! Альберт — конкурент, готовый ухнуть миллиарды, лишь бы обеспечить себе эксклюзивное право на этот мотор.
— А Вертер любит Шарлотту! — напоминает Сильвен.
— Да. К этому мы больше не возвращаемся, но Вертер, потеряв Шарлотту, задумывает адский план похоронить надежды Альберта, и тот разбивается за рулем испытываемой модели. Как видите, наши персонажи движимы уже не пустыми чувствами, но определенными материальными интересами. И эти интересы символизирует фон, на котором развивается действие: заводские корпуса, сборные конвейеры, испытательные треки, шумы современного индустриального мира.
Сильвен молчит, сраженный наповал. Медье согласно кивает.
— Да, конечно, — бормочет он, — это интересная точка зрения.
— Возможно, нам придется также изменить имена, — добавляет Фьорентини. — Имя Шарлотта устарело. Оно пристало горничной. И даже Вертер — не бог знает что. Все это придется пересмотреть. Каково ваше мнение, Дорель?
— Дайте мне отдышаться! — взмолился Сильвен. — Мне все это виделось несколько по-другому.
— Я написал литературный сценарий, — сообщает Фьорентини. — Изучите его на досуге… Но, откровенно говоря, не думаю, что возможно сделать что-то лучшее на основе столь бессодержательной книги.
Он встает, глядит на часы. Сильвен ждет сакраментальной фразы: «Созвонимся!»
— Созвонимся, — чуть вызывающе произносит Фьорентини, как бы заранее отметая всякую критику.
«Митинг» закончен. Итальянец спешит на самолет. Медье провожает его до дверей и возвращается с озабоченным выражением лица.
— Чувствую, вы не в восторге, — бормочет он.
— Он меня просто-таки нокаутировал, — признается Сильвен. — Он предлагает нам Мирбо, Берстайна — всех, кого угодно, только не Гёте.
— Что и говорить, — удрученно соглашается Медье. — Он перегнул палку. Я обговорю это с Джузеппе. У меня с ним встреча завтра в Риме. Но если верить словам Джузеппе, с Фьорентини можно либо согласиться, либо порвать.
— В таком случае я порываю, — заявляет Сильвен.
Он возвращается в Нейи, пав духом.
— Я влип, — объявляет он Марилен. И описывает встречу с итальянцем. — С такой интерпретацией Гёте мне в седло не вернуться, — заключает он. — Но какая же невезуха. Боже правый, какая невезуха! Можешь ты представить меня за рулем машины в воскресный вечер, сплевывающим, как последний забулдыга? Меня, Сильвена Дореля!
— Тебя задевает именно это? — спрашивает Ева.
— Нет, все, вместе взятое. Но в особенности это, да. Самоубийство Вертера — высочайшее волеизъявление. Это… ну, не знаю… самопожертвование: вот мое тело, вот моя кровь… жертвоприношение в его идеальной форме, а не занос колес на пятачке автотрека!
— Успокойся, — увещевает его Марилен. — Может, кое-что не так уж плохо и пойдет в дело. При хорошем режиссере…
— О-о! — восстает Сильвен. — Ради роли ты согласна на что угодно.
— Ладно. Ну что же, тогда не будем об этом, — обиделась Марилен.
— Нет, напротив, — вмешивается Ева, — будем!
Она извлекает из сумочки газетную вырезку и протягивает Сильвену:
— Прочти!
«Из лунного света в sunlights[14]
Как нам стало известно из достоверного источника, вскоре предполагается экранизировать „Вертера“. Впрочем, речь идет не об опере Массне, а о романе Гёте. И на роль Вертера прочат актера, некогда знаменитого, однако мы не назовем его имени, поскольку теперь оно всеми забыто. Как говорится, следите за афишами. Романтический герой? Таинственный красавец? Угадали! Играть Вертера в его возрасте!»
— Какая гадость, — бормочет Сильвен. — Кто же это решился на такую публикацию?
— И ты еще спрашиваешь? — говорит Ева. — Можешь не сомневаться, за ней последуют другие.
— Да, наверняка это Марсьяль выболтал секрет, — продолжает Сильвен. — Он знаком с Фрескини. Само собой, он исподтишка начинает наступать мне на пятки, чтобы занять мое место. Правда, я занял его место.
— Заткнись, — говорит Марилен. — Хватит об этом.
Ева скатывает хлебный шарик и роняет его в пепельницу.
— Хочешь послушать моего совета, — говорит она, — оставь свой ответ про запас. Ответив выпадом на выпад, ты потеряешь лицо, и тогда считай себя конченым человеком. Эстафету примут другие газеты. В конце концов, ты же знаешь, на что способны люди. На твоем месте я позвонила бы Медье и сказала, что принимаю его предложение, но тем не менее сценарий нуждается в доработке. И так от поправки к поправке мало-помалу заставишь признать себя. Если же дела не пойдут, то отступишь с честью. Тебя уже не обвинят в том, что ты клюнул на первое соблазнительное предложение сниматься. Ты повел себя, как надлежит подлинному профессионалу. И можешь на меня положиться. Я тоже умею обращаться со слухами. Марсьяль расшибет себе нос.
Сильвен дает себя уговорить. Время не слишком позднее, и можно еще звякнуть Медье домой.
— Я подумал. И не схожу с дистанции. Но настаиваю на том, что сценарий нуждается в переработке. Потрясенный интерпретацией Фьорентини, я забыл спросить у вас имя режиссера.
— Его еще не выбрали, — говорит Медье. — Джузеппе подумывает о Марио Фальконе, но я бы предпочел француза. Фальконе не лишен таланта — что правда, то правда, — но только он к месту и не к месту сует политику, чем грешит и сам Фьорентини. Его история конкуренции автомобильных магнатов списана с реальной жизни. Вот почему я и колеблюсь. По возвращении из Рима звякну вам.
Благодаря усилителю звука Ева и Марилен тоже прослушали их разговор.
— Он осторожничает, этот Медье, — заявила Ева. — Вот видишь, хорошо, что ты ему позвонил. Значит, еще не все потеряно.
У Сильвена отлегло, ему не до любви, и он предпочитает уединиться в спальне для гостей. На сон грядущий он наугад раскрывает своего «Вертера».
«Иногда я говорю себе: твоя судьба уникальна. Ты можешь считать всех других счастливыми: никогда еще простой смертный так не мучился, как ты. А потом я читаю какого-либо древнего поэта, и у меня впечатление, словно я читаю в своем собственном сердце. Мне предстоит столько страданий! Как? Значит, и до меня жили такие же несчастные, как я сам!»
И уважительно откладывает книгу на тумбочку. Фьорентини — варвар! Мир прогнил. Кино выставляет поэтов на панель. Ах! Уснуть бы и не просыпаться. «Какой бред. Полная чушь!» — бормочет он себе под нос, побеждаемый сном. Но знает, что, проснувшись поутру, станет прислушиваться к телефону и, словно завороженный им, ждать и надеяться, до одурь считая часы.
Марилен приступила к небольшой роли в дубляже, и Сильвен сидит дома один. Мысли кружатся хороводом… Тельма… Она как в воду глядела, предупреждая, что съемки будут опасными, если все-таки ему придется симулировать автомобильную катастрофу. Марсьяль — подонок. У него на уме всегда одно и то же — месть. И этот Фьорентини с его позой классного наставника… Газеты… Тельма действительно видела, что вокруг «Вертера» развернется шумиха. Ну и черт с ним… Que sera sera.[15] Но как бы он ни караулил звонок, тот неизменно застает его врасплох, когда он стоит на пороге застекленной двери и смотрит на дождь.
— Алло! Дорель слушает.
На проводе Медье.
Голос приглушен расстоянием. Звонок издалека, который обычно приносит важные сообщения.
— Я в Риме. Дела с Фьорентини и Фальконе не ладятся. Они хотят сделать фильм наподобие «Захвата города», только на материале автомобильной промышленности. Вообразите себе: «Захват „пежо“» или «Захват „ситроена“»! Скандал обеспечен. Алло! Вы меня слышите?
— Я вас прекрасно слышу.
— Джузеппе их поддразнивает. Так что я ретируюсь.
— А как же фильм? — вскричал Сильвен.
— Я намерен делать его с Вильгельмом. Надо вам сказать, Вильгельм, со своей стороны, привлекает к работе Густава Мейера — немецкого сценариста. Мы изучим новый проект сценария. Мейер — ловкий тип. И потом, Гёте должен его вдохновлять. Сегодня вечером я возвращаюсь в Париж. Не смогли бы вы прийти ко мне завтра? Мейер тоже придет.
— Вы порвали с Джузеппе Фрескини окончательно?
— Ни боже мой! — отвечает Медье. — В нашем деле никогда до разрыва не доводят. Просто какое-то время держатся на расстоянии.
— И вы сумеете обойтись без итальянских капиталов? Извините за нескромный вопрос.
— Вопрос вполне законный. Если, как я надеюсь, у нас будет задействована кинозвезда, мы без труда получим под нее аванс. Пусть вас это не волнует.
— Какую звезду вы имеете в виду?
— Ну что ж, к примеру, Роми Шнайдер. До завтра, дорогой Сильвен. Скажем, в десять утра.
Сильвену хочется топать ногами и кусаться. Роми Шнайдер! Не смешно. Бедняга Медье! Он воображает, что Роми Шнайдер согласится быть партнершей незадачливого актера, забытого зрителями. Которому вдобавок ей придется уступить главную роль!
«Потому что главная роль моя! — Он так громогласно заявляет об этом, что его слова отдаются в кабинете эхом. — Нет! Пусть меня оставят в покое. Вертер устал, господин Медье. Вертеру хочется сходить на рыбалку!»
И все-таки скорее бы завтра. Этот Мейер не посмеет искорежить Гёте. Завтра наступит через двадцать четыре часа. Сильвену предстоит пережить эти сутки, час за часом, минута за минутой, до тошноты. Право же, думает Сильвен, лучше уж мне было стать фармацевтом, как папаша.
И ожидание начинается. Подобно тому, как волна, набегая, исподтишка подмывает скалу, разъедает крутой обрывистый берег, подтачивает его основание и мало-помалу разрушает, так и тревога, став еще более разъедающей из-за невозможности действовать, медленно накатывается на Сильвена. Он с трудом дышит. Ладони потеют. Настроение собачье.
Звонит Мерсье. Он прочел в газете заметку и сразу понял намек. Десятки таких же вот приятелей в Париже сейчас потешаются над ним. Сильвен отнекивается.
— Фактически еще ничего не произошло. Поступило предложение — ну, ты знаешь, как это бывает, — но, честно говоря, оно меня не соблазнило (Сильвен думает о Тельме, ее странных предостережениях). Я вовсе не горю желанием его принять, — заверяет он, хотя прекрасно знает, что за эту роль готов продать душу дьяволу.
Вечером Ева сообщает ему кое-какие сведения о Густаве Мейере. Они скорее обнадеживают. Слов нет, Мейера на одну доску с таким продюсером, как Жан Лу Дебади, не поставишь, но он приложил руку к вполне приличным фильмам.
— Все дело в режиссере, — продолжает Ева. — Удивляюсь, что Медье начал не с него. Он ставит телегу впереди быков. И потом, меня поражает то, что он еще даже не заикнулся о твоем контракте. Если он не решится на это в ближайшее время, я сама вмешаюсь в это дело. Тут что-то неладно. Я вижу таких людей насквозь. Он ухватился за «Вертера» только потому, что не обязан платить Гёте! Бесплатно спекулирует знаменитым именем — ведь арии из оперы у всех на слуху — и, боюсь, готов прикрыть им любую муру, лишь бы фильм обошелся ему подешевле. Ничего не предпринимай, не посоветовавшись со мной.
— Вечная матушка-брюзга, — вешая трубку, ворчит Сильвен. — Тоска. Ей повсюду мерещатся жулики.
Марилен вернулась домой. Она перевозбуждена.
— Меня просто одолели вопросами. Всех интересует, правда ли, что мой муж собирается играть Вертера. И клянусь, ни у кого и в мыслях нет насмехаться над тобой. В итоге эта заметка произвела положительный эффект. Вроде бы подлянка, но Вильмор считает, что это скорее смахивает на прощупывание с целью проверить нашу реакцию. И теперь я спрашиваю себя, уж не сам ли Медье, не подавая виду, дал просочиться такой информации.
Сильвен взрывается.
— Скажешь тоже! Не ему же все-таки делать намеки на мой возраст.
— Поди узнай! Случается, и злое словцо служит добрую службу. Хочешь знать мое мнение — нам не мешало бы поужинать в людном месте. Нас увидят и воочию убедятся, что ты способен еще выдать на экране очень даже презентабельного Вертера.
Они отправились к «Александру». Сильвен отвешивает поклоны, раздает улыбки, пожимает руки, чувствуя, что за ним наблюдают безжалостные взоры. «Играть Вертера в его годы!» Похоже, все присутствующие в ресторане повторяют про себя эту газетную строку. Тем лучше. В сущности, Сильвен давно уже не ощущал себя в центре всеобщего внимания.
За какой-нибудь час он вновь обрел забытую радость жизни. Он уже перевоплотился в своего персонажа и наполняет бокал Марилен жестом Вертера — он уверен в этом. Внезапно Сильвена осенило: счастье его жизни заключается в том, чтобы перевоплощаться. Стоит ему стать другим — и он испытывает блаженство. Сам же по себе он лишний. Малыш Сильвен! Сильвен — посредственность! Сильвен — зануда!
— Что с тобой творится? — спрашивает Марилен. — А ведь ты и выпил-то всего ничего.
Сильвен не сумел бы объяснить Марилен. Он гладит ей руку.
— Все в порядке, — успокаивает он. — Клянусь тебе, все обойдется.
Назавтра Сильвен является к Медье. Сердце его бешено колотится.
— Вас ожидают, — сообщает секретарша с улыбкой заговорщицы, приберегаемой для тех посетителей, с которыми продюсер на короткой ноге.
Густав Мейер курит сигару. При появлении Сильвена он встает. Не щелкает каблуками, не склоняет голову в низком поклоне, а ограничивается любезным пожатием протянутой руки. Он брюнет и живостью походит на латинянина и по-французски говорит без всякого акцента. Решительно, одни французы коверкают иностранные языки, решает Сильвен, усаживаясь в кресло, на которое ему указал Медье.
— Я полагаю, — говорит Медье, — теперь мы начнем быстро продвигаться вперед.
— Но… у вас все еще нет режиссера, — возражает ему Сильвен.
— А вот и ошибаетесь. Я подписал контракт с Семийоном. До этого Жак Семийон специализировался на короткометражках, и замечательно — тут ничего не скажешь. Он удостоен нескольких премий. Ему двадцать семь. Надо же предоставить шанс молодым, верно? Он присоединится к нам с минуты на минуту. А пока что Густав изложит нам свои соображения.
Короткая пауза, пока Медье наливает виски, и Мейер приступает.
— Вполне четкого представления о будущем фильме у меня пока что нет. Мне чуточку не хватило времени, но по поводу одного мы наверняка согласимся: «Вертер» Гёте лишен содержания. В романе отсутствует сюжет, нет ни перипетий, ни характеров. Это своего рода длинное раздумье о страсти, которая натолкнулась на препятствие.
Мейер наблюдает за лицом Сильвена, а оно выражает одобрение.
— Так вот, — продолжает Мейер. — Выходит, что отправной точкой нашего сценария и должна стать несчастная страсть. А несчастная страсть порождает комплексы.
Сильвен настораживается.
— Очень интересно, правда? — встревает Медье.
Сильвен страшится вникнуть в смысл слов Густава Мейера, но тот, увлекшись, развивает свою мысль, отбивая при этом такт ногой.
— А что такое комплекс? Точное определение — подавленный порыв. Вертер страстно желает Шарлотту, но при этом запрещает себе ее любить. Почему? Признаюсь, я долго искал объяснения, пока не нашел. Отбросим предположение об эдиповом комплексе — оно слишком примитивно. Вообразим себе лучше, что Шарлотта — точный портрет своего папы. Что может быть естественнее, правда? Но когда Вертера потянуло к ней, у него создалось впечатление, что его также потянуло и к ее отцу. Подсознательно, разумеется. Но вы представляете себе этот ужасный конфликт? Бедняге Вертеру не чужда склонность к гомосексуализму, которую он подавляет, и она ищет себе выход в необычайных лирических излияниях. Танцуя от этой печки, нетрудно выстроить сюжет и, главное, оправдать его самоубийство. Ибо каждый сценарист знает, что нет ничего труднее, чем найти оправдание самоубийству. Я даже удивлю вас, сказав, что в подаче Гёте самоубийство Вертера неоправданно. У Вертера нет для самоубийства глубокой причины, оно — прихоть автора. Как сценарист Гёте не стоит… как это у вас говорят?.. Ах да! Вспомнил: не стоит выеденного яйца.
Сильвен думает об отце — тот покончил с собой, вовсе не страдая от комплексов. И проникается ненавистью к Мейеру, не способному понять, что есть чистые самоубийства — самоубийства с высоко поднятой головой лицом к лицу со вселенной.
— Ах! — воскликнул Медье. — Вот и Семийон.
И тут шумно входит крупный блондин. Несмотря на мягкую погоду, на нем дубленка и вельветовые штаны в крупный рубчик. «Хорош, — думает Сильвен, — ему бы еще пастуший посох, зажатый в кулаке, и стадо овец за спиной».
— Простите великодушно! — вскричал Семийон. — У меня увели мотороллер. Пришлось тащиться на велосипеде. — Он валится в кресло и обмахивает лицо, растопырив пальцы веером. — Ну что? — интересуется он. — На каком вы этапе? Когда я обедал с Густавом, он объяснил мне свою задумку. Меня бы она устроила. А вас?
— Нам нравится, — дипломатично отвечает Медье, как бы ручаясь и за Сильвена.
Семийон повернулся к Мейеру.
— Я бы хотел, — продолжает он, — чтобы мы присутствовали при исцелении Вертера. В общих чертах суть психоанализа всем известна, но тут представляется удобный случай продемонстрировать его на глазах у зрителей.
Вскочив на ноги, Мейер соединяет квадратом указательные и большие пальцы, словно отрабатывая раскадровку.
— Я начинаю снимать от дивана. На нем кто-то вытянулся. Медленно поднимаюсь вдоль ног и наконец обнаруживаю лицо Вертера. Голос off[16] врача-психоаналитика: «У вас возникает одна ассоциация за другой: любовь, соитие… И тр-а-а-х! Мы прозрели и знаем теперь, что к чему».
Сильвен спрашивает, делая вид, что активно участвует в обсуждении:
— Вы переносите действие в наше время? Никаких костюмов той эпохи?
— Отличный вопрос, — отвечает Семийон. — Лично мне видится вся эта история в Америке. Отец Шарлотты может быть священником.
— Ах! — восклицает Медье, как сладкоежка, предвкушая лакомый кусок. — Вот это мысль! Пуританская среда. Трудности с самого детства.
— В костюмах чуть-чуть в стиле ретро, — с железной логикой дополняет его Мейер.
Семийон подходит к Сильвену, кончиками пальцев поворачивает его голову на три четверти в профиль и при свете из окна долго размышляет, пока наконец не роняет:
— Оно еще не слишком помято. — Осознав, что он тут не один и что Сильвен смотрит на него, извиняется: — Не обращайте внимания. У меня такая привычка — размышлять вслух. Я прикидываю необходимое освещение. — Он дружески похлопывает Сильвена по щеке. — Сойдет, старина. — И возвращается в кресло, по пути налив себе хорошую порцию виски.
— Остается Альберт, — замечает Медье.
Мейер продолжает:
— В романе Альберт лишь оттеняет главных персонажей. Для меня, как, впрочем, и для Жака, подлинным партнером Вертера является его врач-психоаналитик. И так как он тоже влюблен в Шарлотту, то, сами понимаете… Это подспудное соперничество между врачом и пациентом…
— Чертовски современно, — одобряет Семийон.
Разговор продолжается, но Сильвен отключился. Он чувствует себя прижатым к стенке. Гомосексуалист! Он! Ему бы дубасить кулаком по письменному столу, вопить: «Нет, ни за что!» А у него уже нет сил даже открыть рот. Более того, кто-то в нем согласен, полагая, что такое вполне допустимо и даже, пожалуй, не так уж и плохо, — кто-то, кто сдается, кого душит стыд, но кто созрел для двойной игры. К счастью, самоубийство положит конец его душевному смятению.
Он встает одновременно с остальными.
— Ну что ж, — говорит Медье, — поскольку мы пришли к обоюдному согласию, нужно поднажать. Густав пишет режиссерский сценарий. Жак приступает к работе с Сильвеном, помогая ему стать Вертером, какого мы в общих чертах набросали. А я займусь подбором актеров. Дорогой Сильвен, пришлите мне своего агента для заключения контракта. Еще раз благодарю, друзья мои.
Горячие рукопожатия. Однако стоило Семийону удалиться по коридору на десять шагов, как он оборачивается к своим двум компаньонам:
— Не поддавайтесь на удочку. Не исключено, что этот тип — проходимец. Если он не предложит нам участие в доходах, я сделаю ему ручкой. Его «Вертера» можно снять где угодно. А идея — общее достояние.
Они расстаются на улице. Семийон проходит несколько шагов с Сильвеном.
— Забавный парень этот Фридолен! — оценивает он Мейера. — Фрейд может порадоваться — для него он второй Декарт. И все же нельзя допустить, чтобы он на нас слишком давил, — мы и сами с усами. — Он указывает на кафе. — А не пропустить ли нам по маленькой? Нет? В самом деле нет? Тогда до завтра. Я приду к вам — в моей клетушке вечно бордель. Так что напомните мне свой адрес.
— Тридцать-бис, улица Боргезе, в Нейи.
— Нейи! Мсье неплохо устроился. Adiós![17]
Сильвен бредет домой, как сомнабула. Жребий брошен. Он будет Вертером. Страдающим от невроза. В конечном счете невроз — тоже болезнь романтическая. Это даже позволит ему обновить жестикуляцию, модуляции голоса. С этой стороны предстоит что-то придумать. Он довольно легко сможет обновить свой арсенал выразительных средств. Да будет так! Сильвен звонит Еве.
— Все в порядке. Медье ждет тебя по поводу контракта. Только учти: на меня ложится вся тяжесть картины. А это стоит денег.
— Можешь на меня рассчитывать, цыпленочек. Я безотлагательно все улажу. Ужасно за тебя рада.
Сильвен падает в кресло. Ну все, наконец-то на горизонте замаячил край пустыни. Сильвену прыгать бы на радостях, а он все еще никак не преодолеет сомнений, не расстанется с ощущением поражения, которое так надолго его парализовало. Впрочем, ведь теперь ему предлагали роль победителя. В Вертере нет ничего общего с Андре Шенье или Шопеном. Играя эти роли жертв, он торжествовал победу. А вот если он воплотит образ добычи врача-психиатра, то не загубит ли тем самым всю свою актерскую карьеру? После чего — занавес!
Телефон… Надоело. Настойчивый звонок. Ну и черт с ним. Однако нервы не выдерживают, Сильвен снимает трубку.
— Сильвен Дорель слушает.
— Вот уже несколько часов я пытаюсь к вам прорваться.
— Алло. Кто говорит?
— Тельма. Извините за беспокойство. Но вы не должны — вы меня слышите? — в данный момент вы не должны давать согласие сниматься. Мои тревоги на ваш счет возрастают.
— Но…
— Послушайте, Сильвен. Вы питаете доверие к моим словам, правда ведь? Так вот. Дайте мне рассказать. После обеда я прикорнула, и мне вдруг привиделся сон: катафалк останавливается перед особняком — копия вашего. Окна затянуты крепом с инициалами наподобие рыцарского герба — переплетенные буквы С. Д. Понимаете? С. Д. Сильвен Дорель. Интуиция меня никогда не обманывала. Уверяю, речь идет именно о вас. Так что прошу… Если вы сейчас что-то затеваете — лучше отложить. У меня уже были странные предчувствия на ваш счет. Это не впервые. Будьте осмотрительны, Сильвен, я вас предупредила.
— Спасибо, дорогой друг, — бормочет Сильвен, потрясенный словами Тельмы. — Посмотрим, что еще можно изменить.
Он кладет трубку, но знает, что сейчас изменить уже ничего нельзя. Ева у Медье. Жребий брошен. Слишком поздно. У него никакого желания что-то предпринимать. Под каким предлогом? Он будет выглядеть олухом царя небесного. К черту катафалк!
И когда час спустя звонит Ева и сообщает Сильвену, что контракт заключен, у него расслабляются мышцы, в голове ни единой мысли. Проиграл он или выиграл — неважно. Главное — перемирие. Но тут он внезапно вздрагивает. Если он втянется в их игру, как того требует Ева, если он в совершенстве воплотит образ душевнобольного Вертера, как его задумал Мейер, кто знает, не скажут ли зрители: «Так вот, значит, почему Дорель ушел из кино! Черт побери! У него не ладится семейная жизнь. Его жене, должно быть, живется невесело». Какой абсурд! Это правда, их брак мог бы быть счастливее. Но Марилен постоянно озабочена, как назойливая муха кружит вокруг сладкого, так и она вынюхивает себе роль. Не будь оба одержимы потребностью играть, они бы наверняка лучше ладили. Жили бы в свое удовольствие. Но что, собственно, значит «жить в свое удовольствие»? Это когда прохлаждаешься, ублажаешь свое тело, отметаешь заботы — вчерашние и завтрашние? Но какой интерес так жить! Жить — наоборот, значит вибрировать без всякой передышки в магнитном поле по образцу стрелки компаса, которая трепещет в пронизывающем ее потоке магнитных лучей.
Сердце Вертера работает целенаправленно. Кончается напряжение, которое его воодушевляет, и он умирает. И Фрейд тут совершенно ни при чем. А Мейер, Семийон, Медье — тупые ослы.
«А я, кто их слушает, становлюсь противен самому себе. Кстати, сколько мне заплатят?» Ева назвала цифру, но он как-то пропустил ее мимо ушей. 150 тысяч франков? 200 тысяч?
Сильвен перезванивает Еве.
— Сто сорок тысяч, — говорит она. — И мне еще пришлось бороться. Он жутко какой несговорчивый, твой Медье. Но что происходит? Ты не в своей тарелке?
— Нет-нет. Мне досадно, что я так низко котируюсь. Какое падение!
— Да. Но если фильм понравится зрителям, цена удвоится, утроится.
Ей не видно, что Сильвен передергивает плечами. Он разочарован, как игрок, которого подвел тотализатор.
— Медье говорил о своем желании ангажировать Роми Шнайдер, — продолжает Ева. — Блеф, конечно. Где ему взять денег? Так что им придется довольствоваться Линдой Клейн. Ее фильмы пользуются зрительским успехом. Она хорошенькая, разбитная. Если бы ты почаще ходил в кино, уверена, ты бы ее оценил. Медье ожидает ответа своего агента. Он вдруг заторопился.
— Линда Клейн и Сильвен Дорель! — усмехается Сильвен. — Вряд ли такое сочетание имен заставит толпы кинозрителей ломиться на сеанс.
— Как ты не можешь понять! Это же новый старт!
«Новый старт». Слова Евы подают Сильвену мысль перелистать рецензии на его фильмы. Несколько специальных папок, набитых газетными вырезками, стоят рядком на полках домашней библиотеки. Гробы его славы. От них исходит запах клея и старой бумаги.
Сильвен Дорель — лауреат премии за лучшее исполнение мужской роли.
Незабываемый Фредерик Шопен!
Триумф Сильвена Дореля на Берлинском кинофестивале!
Фотографии, пачки статей…
А не лучше ли будет сейчас ему потихоньку стушеваться, вместо того чтобы идти по стопам тех актеров, которые на закате карьеры никак не могут оторваться от экрана и год за годом оттягивают свое окончательное «прости-прощай»? Зрители их любили. Зрители их разлюбили. Таков закон природы.
— Ничего подобного, — говорит Семийон, который уже с неделю ежедневно приходит поучать Сильвена. — Ничего подобного! Если ты ошеломишь зрителей, они станут есть у тебя из рук.
Семийон обращается к Сильвену на «ты». Он «тыкает» и Мейеру, который заявляется регулярно через день с дипломатом в руке, как важный начальник. Оба они чувствуют, что Сильвен в глубине души артачится, но это не мешает Семийону просто заходиться от воодушевления, наполняя кабинет завихрениями, жестикуляцией, тогда как Мейер терпеливо разъясняет тонкости своей концепции.
Сильвен вынужден признать, что изобретательность того и другого напрочь лишена чувства меры. Фантазия рисует Мейеру грандиозную картину передачи актером того, что он называет «клиническим случаем Вертера». А Семийон, разлегшись на ковре, воспроизводит мимику пациента, после чего, резко вскочив на ноги, изображает Шарлотту. Их дуэт прерывают драматические паузы.
— Понимаешь, — уточняет Семийон, — она уже готова упасть к тебе в объятия, но тут тебе надо всем своим видом показать, что тебе все осточертело, тебе и хочется, и не хочется. Попытайся. Нет, не так. У тебя бегающий взгляд. Щека дергается. Ведь это же нетрудно сыграть. Ладно. Прервемся.
Новая пауза — виски. Втроем они уговаривают по бутылке за два дня. Семийон прохаживается по кабинету. Роется в книгах.
— Ах! Скажите на милость! Золя… Анатоль Франс… Поль Бурже. Ты еще читаешь такую литературу? Ну ты даешь!
И вот пока Сильвен поворачивается к нему спиной, Семийон натыкается на потайной ящик в секретере. Открывает. Обнаруживает пистолет.
— Нет, — говорит он, — шутки побоку! Это от воров?
Достав оружие, он подбрасывает его на ладони. Сильвен бледнеет.
— Положи на место, — говорит он. — Он принадлежал моему отцу.
— Значит, правду рассказывают? — любопытствует Семийон.
— Да. Он покончил с собой, чтобы не попасть в руки гестаповцев.
— О-о! — воскликнул Мейер. — Извини, пожалуйста.
Оба смущенно умолкают.
— Может быть, сцена самоубийства тебе не по душе, — наконец говорит Семийон. — А между тем она — сильное место в картине. Нельзя ее смазать. Это значило бы предать автора. Как ты себе ее представляешь? Обговорить ее мы сможем позднее, но снять обязаны.
— Дай-ка, — просит Сильвен.
Он берет в руки револьвер и не без отвращения — есть жесты, какие не делают на людях, — и медленно подносит дуло к виску.
— Стой! — кричит Семийон. — Так я и думал. Пуля в лоб. Нет, старик, нет!
— Не тебе меня учить, как покончить с собой, — возражает Сильвен.
Семийон шутит:
— Послушать тебя — скажешь, что ты кончаешь самоубийством каждое утро. Ты же Вертер, а не первый встречный. — И тут же поправляется: — Первый встречный — неподходящее выражение, но ты меня понимаешь? У Вертера красивая мордаха. И он не станет ее уродовать. Нет… Дай-ка мне свою пушку.
Снова завладев револьвером, Семийон садится за письменный стол.
— Я полагаю, — продолжает он, — что Вертер оставит письмо. Во всяком случае, не такой он человек, чтобы влепить себе пулю стоя и замертво плюхнуться на паркет. Воспитание ему не позволит такое… Он умирает, приставив дуло к сердцу… вот так… — Он тыкает дулом себе в грудь, прямо в сердце, и спускает курок. — Тут у меня сразу пойдет затемнение. Какая необходимость показывать зрителю, как Вертер рухнул на письменный стол, подобно обанкротившемуся банкиру. Тебе остается только чуточку подрепетировать, и дело пойдет само собой. Повторим сцену, где Вертер обнаруживает, что любит вовсе не Шарлотту. Гюстав, перечитай, пожалуйста, свой черновик.
И работа продолжается. И дни текут за днями. И Сильвену становится все больше не по себе в том образе, какой ему навязывают. Они корежат Вертера. Он делится своими сомнениями с Евой.
— Контракт подписан, — замечает она, — и ты уже не можешь уклониться от его выполнения. Напоминаю тебе параграф четырнадцатый: Медье и ты, вы несете ответственность перед судебными инстанциями Парижа за «невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору». Поэтому, как видишь, что-либо оспаривать слишком поздно.
— Но я подыхаю от этого мерзопакостного фильма. Он мне осточертел.
— Объяснись с Медье откровенно.
Сильвен не решается. Он уже не знает, чего хочет. Он ссорится с Марилен по пустякам. Швыряет трубку, когда его мать пытается поговорить с ним по телефону. У него лихорадочный взгляд. В левой руке начинается что-то вроде дрожи — он не переставая сжимает ее и разжимает.
— Хорошо, очень хорошо, — говорит Семийон. — Еще немного — и ты дозреешь.
Линда Клейн объявилась в Париже. Ну и дылда! Почти на голову выше его ростом.
— Нет!.. — стонет Сильвен. — Как я буду выглядеть рядом с ней!
— Согласен, — уступает Семийон, — она смахивает на валькирию, но так и задумано. Похоже, у тебя никак не укладывается в башке, что любовь Вертера к Шарлотте — чистое недоразумение.
— А значит, — продолжает за него Мейер, — чем больше составляющие этой пары не подходят друг другу, тем яснее становятся мотивы отчаяния Вертера.
Эти мучители его больше не отпускают. Им случается осесть у него на целый день. В обед они прямо на месте съедают по сэндвичу, и Берта сокрушенно глядит на хлебные крошки, рассыпанные по кабинету.
— Я выставлю их за дверь, — угрожает Марилен. — Можешь прилепить себе свой фильм сам знаешь куда. Даже не сподобился добиться для меня хотя бы пустяковой роли. Все досталось тебе одному!
В конце концов Сильвен взрывается.
— Я отказываюсь, — заявил он Медье. — Я не способен влезть в шкуру гомика. Какая-то бредовая история.
Медье не полез в бутылку. Ему известно, что актеры — народ непредсказуемый и не терпят грубого обращения.
— А вы отдаете себе отчет в том, — тихо говорит он, — что ваш отказ — катастрофа? Через два месяца я надеюсь приступить к съемкам. Я вложил в это предприятие немалые средства. Прокатчики крайне заинтересованы. Вы не вправе отступать. И потом, не забывайте, что благодаря этому фильму у вас откроется второе дыхание.
— Я отказываюсь, — упрямится Сильвен.
Медье призывает на помощь Мейера и Семийона. Разыгрывается бурная сцена, постольку Мейер считает, что лучше его сценария ничего не придумаешь. Со своей стороны, Семийон не согласен лишиться Вертера, которого он сумел довести почти до депрессии.
— Сценарий, — внушает ему Мейер, — в какой-то мере напоминает одежду — всегда есть возможность подрубить подол.
— У меня идея! — вскричал Семийон. — В данной версии Вертер обнаруживает, что через Шарлотту его влечет к себе пастор. Но возможно и обратное. Шарлотта через Вертера может быть влюблена в собственного отца. Достаточно, чтобы Вертер хотя бы отдаленно походил на пастора.
Очевидный смысл такой трактовки обдает их грязью.
— Для этого даже не потребуется вносить изменения в мой текст, — говорит Мейер.
— Но тогда основной станет роль Шарлотты, — возражает Сильвен.
— Тут уж, старина, ничего не попишешь, — как отрезал Семийон. — Тебе не улыбалось играть гомика… Ну что ж, успокойся. Ты станешь психиатром. Лично я без всякой натяжки представляю себе Вертера врачом-психиатром.
— Но тогда прости-прощай мое самоубийство, — лепечет Сильвен.
— Ежели вам непременно требуется самоуничтожение, — просияв, встревает в разговор Медье, — думаю, можно вам его устроить.
— Проще простого, — поддакивает Мейер. — Психиатр влюбляется в Шарлотту. Какой психологизм! Дело его совести — открыть пациентке глаза на то, что она влюблена в своего отца. И теряет ее по мере того, как она осознает правду. И он не выдерживает.
— Высший класс! — оценивает Семийон. — И как это только я раньше не додумался!
Они обмениваются поздравлениями. Пылают воодушевлением.
— Вы довольны? — спрашивает Сильвена Медье.
Тот не перестает удивляться тому, что можно запросто повернуть сценарий в любую сторону, но счел, что с его стороны привередничать было бы нелюбезно.
— Что ж, попробуем пойти по такому пути, — одобряет он.
Вернувшись домой, Сильвен долго смотрится в зеркало ванной комнаты. Ну какой же он врач-психиатр? Слишком молод, никакой солидности. И еще один момент. Лицо врача должно быть непроницаемо, как маска, скрывающая его чувства. Он никто. Но в таком случае на что актеру талант? Первый встречный-поперечный сыграет эту роль лучше его. Зато его партнерша Линда Клейн извлечет львиную долю из своей. Единственный волнующий момент, какой ему еще останется, это сцена самоубийства. И если зрители не обретут его вновь таким, каким он бывал прежде, то нечего и упорствовать.
Вернувшись домой, Марилен застает мужа в спальне. Он растянулся на кровати и дремлет, сраженный большой дозой снотворного.
— Мне нужно передохнуть, — бормочет он. — Глаза бы мои их больше не видели…
На следующий день Сильвен договаривается о выходном. Он уже забыл, как выглядит Париж в погожий день. Как только он спускается по авеню Фош к Триумфальной арке, солнце ложится на его плечо ладонью друга. Он шагает куда глаза глядят, ни о чем не думая. Перестав быть Вертером, Сильвен смахивает на больного, не оправившегося от шока, полученного в автокатастрофе. Он присаживается на скамью. У его ног прыгают, щебеча, воробьи. Как бы ему не пройти мимо подлинной жизни, так и не увидев ее!
Сильвен не спеша обедает поблизости от площади Звезды, но около трех пополудни им снова овладевает тревога, и он возвращается в Нейи, ускоряя шаг, как если бы внезапно понадобился больному. Пройдя через сад, он толкает стеклянную дверь и торопится снять трубку автоответчика. Голос Медье:
— Есть новости. Позвоните мне сразу, как придете домой.
Новость! Вот слово, которое потрясает. Сильвен набирает номер дрожащими пальцами. Медье на месте.
— Какая у вас новость? — спрашивает его Сильвен.
— Значит, так. Сегодня утром мы долго беседовали с Линдой. Я был с Жаком и Густавом. Она остановилась в «Наполеоне», и при желании вы тоже можете пойти ее повидать. Вчера вечером она прочла сценарий, и я сообщил ей по телефону, какие изменения вы уже приняли.
— И что? — нервничает Сильвен. — Она согласна?
— Согласна, то-то и оно. Роль Шарлотты ей очень нравится. Но она высказала нам соображение, которое, по зрелом размышлении, представляется вполне резонным. Мы говорили, что Шарлотте кажется, будто она неравнодушна к Вертеру, который стал у нас ее врачом. Помните?
— Да-да, прекрасно помню.
— Так вот. Подметив в себе эту порочную склонность к собственному отцу, по мнению Линды, если кто и должен покончить самоубийством, так это Шарлотта. И честное слово, Линда права. Ее героиня не выдерживает мук совести, что вполне естественно.
Сильвен остолбенел.
— А как же я? — бормочет он. — Она крадет у меня мое самоубийство.
— Да будет вам! — уговаривает его Медье. — Не нужно драматизировать.
— Мне, актеру, в этой экранизации просто нечего играть. При таком раскладе я становлюсь чурбаном.
— Гюстав — парень ловкий и готов переписать вашу роль.
— Если я вас правильно понимаю, — кричит взбешенный Сильвен, — вы пошли на поводу у Линды! Даже не согласовав со мной. Но, черт побери, за кого меня тут принимают?
— Дорогой Сильвен, — вкрадчиво говорит Медье, — ведь вы вовсе не обязаны соглашаться.
— Ах! Разумеется, я не согласен.
— Послушайте, дорогой Сильвен, вы же не захотите довести дело до суда?
— Да мне на все плевать! — орет Сильвен. — Я хочу, чтобы мне вернули мое самоубийство.
— С вами не сговоришься.
— Извините! Извините! Это вы поступаете нечестно. Любой на моем месте реагировал бы точно так же.
— Ошибаетесь.
— То есть как это я ошибаюсь?
— А очень просто. Есть актер, который согласен сыграть вашу роль без предварительных условий.
— Меня бы это удивило.
— Ну что ж, поинтересуйтесь у Даниеля Марсьяля.
— Этот подонок?!
— Послушайте, Сильвен, я не расположен затевать распри. Если вы отказываетесь принимать то, что вам предлагают, мне не остается ничего другого, как искать актера на стороне. Я человек дела. Душевные перепады не по моей части. Так что подумайте. Только решайте безотлагательно. Самоубийство — тоже мне, проблема. Его всегда можно чем-либо компенсировать.
— Но только не самоубийство Вертера.
— Допустим. В доказательство моей примирительной позиции предлагаю вам немедленно приехать. А я вызову к себе Жака и Густава, и мы обсудим создавшуюся ситуацию. Согласны?
— Лишь бы от этого что-то изменилось. Вы себе представляете эту дылду с пушкой в руках? Смехота…
— О! Но у нее на сей счет есть мысль. Никакого пистолета! Яд!
Последний удар нанесен.
— Вы меня не уберегли ни от чего, — хихикает Сильвен и шмякает трубку. Ему ужасно хочется что-нибудь разбить. Он уже не держит себя в руках.
Он черкает записку Марилен на листке из блокнота: «Ушел к Медье. Возможно, задержусь допоздна. Они угробили мою роль».
Рука так дрожит, что выводит каракули. Как же Тельма была права! Надо поставить крест на всякой надежде о втором дыхании. Поставить крест на Дореле!
Сильвен смотрит на часы. 16 часов. Медье сказал «немедленно», но надо дать время Семийону и Мейеру добраться до места. Впрочем, на кой черт сдались ему эти двое, если он решил окончательно послать Медье куда подальше. Чем скорее он хлопнет у него под носом дверью, тем скорее обретет спокойствие. Но Сильвен не может не признать, что спокойствие — не его удел. Обида, которую он уже так долго сносит день за днем, теперь привела к разрыву. Он швырнет ему, Медье, это известие прямо в лицо. Возможно, после этого ему навсегда будет заказано сниматься в кино, но терять ему нечего. Разве он уже не стал жалким актеришкой на подхвате, которым манипулируют как кому вздумается, с которым обращаются как с последним ничтожеством? Он покажет всем им, этим мерзавцам, на что способен. В голове потоком проносятся обрывочные фразы… упреки, жалобы, ругательства. Он натягивает куртку, проверяет содержимое бумажника — да, денег ему хватит.
Сильвен вызывает по телефону такси, вешает трубку, уже машинально подключает автоответчик. Один жест увязан с другим. Он действует как хорошо отлаженный робот, выходит через застекленную дверь и, экономя время, пересекает сад.
«Ну и гадина! Посулил мне золотую роль, а потом по кусочку, садистски сам ее и отнял».
Такси не заставило себя ждать. Бросив водителю адрес, Сильвен валится на сиденье. Его возмущение уже не так пышет жаром, языки пламени становятся тлеющими головешками. Их пыл обжигает ему щеки, а в груди гудит как в очаге. «Яд! Хороша, нечего сказать! Шлюха несчастная!» Шофер наблюдает за своим пассажиром, который разговаривает сам с собой. Он умеет распознавать причины перевозбуждения: ревность, депрессия, фанатизм — и не прочь поскорее избавиться от этого странного типа. А тот уходит, даже не дождавшись сдачи.
Сильвен садится в лифт. «Если он станет возникать, вмажу ему по физиономии». Все его тело дрожит, как мотор при перегрузке. Заметив в глубине коридора силуэт, он заставляет себя замедлить шаг из последней заботы о нормах приличия. Мужчина идет, заложив руки за спину, нагнув голову, словно погруженный в раздумья. Сомнений нет — он вышел из кабинета Медье. И тут Сильвен узнает его. Это Даниель!
Сильвен налетает на него, хватает за грудки.
— Сволочь! С тобой все ясно.
Раздается пощечина. Другая. Она звучит четко. Марсьяль пытается защищаться. На шум открываются двери. В коридоре начинается суматоха.
— Господа! Послушайте, господа!
Драчунов разнимают. Сильвену не хватает воздуха. Кровь молотком стучит в висках. Выбравшись из толпы, он убегает к лестнице.
Даниель пришел, чтобы спереть у него роль, черт бы его побрал! Сильвен пересекает холл. Он уже не держится на ногах, но от ужасающего прозрения леденящий гнев сменяется испепеляющим бешенством. Он входит в ближайшее кафе. Усаживается в глубине.
— Двойное виски!
Он пытается припомнить последние слова Медье. Что он, собственно, сказал? Он старался говорить примирительно… Как бы не так! И в то же самое время вызвал к себе Даниеля. Правда, все могло обстоять иначе, и Даниель, возможно, пришел просто узнать новости. Но в таком случае Медье ему бы сказал: «Я ожидаю Дореля». А Даниель ему бы ответил: «Я вернусь через час». Их встреча в коридоре — чистое совпадение.
История старая как мир. Сильвен сбежал из театра теней, где все — и те, кто издевается, и те, над кем издеваются, — играют в одной и той же пьесе театра абсурда. Он просит подать писчую бумагу. Алкоголь, разливаясь по всему телу, привел его в блаженное состояние. Он пишет:
«Я покидаю вас, друзья. Я на вас не в обиде. Медье, вы подлинный негодяй, но это не ваша вина. Вы жрете других, чтобы они не съели вас. Во рту у вас торчат клыки, которыми вы вынуждены пользоваться. Вам ежедневно необходима ваша порция свежатины. На свою беду, я оказался в пределах вашей досягаемости, и вы подумали, что если сможете заарканить меня за четырнадцать миллионов, то еще легче заарканите Даниеля Марсьяля, заплатив ему на несколько миллионов меньше. Совместно с Линдой Клейн вы разработали премилый план избавления от меня. Я оценил его по достоинству. Сыграно как по нотам, и, само собой, Семийон и Мейер стали вашими соучастниками. Мера предосторожности! Почем знать, а вдруг в один прекрасный день вам выпадет крупный выигрыш в лотерее, именуемой кинематографом? Так что лучше уж быть в числе ваших друзей. Я же, как вы выражаетесь на своем жаргоне, has been[18]. Меня можно раздавить, ничем не рискуя, зато, если вы расквасите нос со своим „Вертером“, вас втопчут в землю — надеюсь, вам это известно. О, громкий лязг жующих челюстей за кулисами того, что вы не боитесь называть „седьмым искусством“.»
— Гарсон! Повторить!
Сильвен протирает глаза. За окном фланирует толпа, обычная для четырех часов пополудни, — туристы, деловые люди, профессионалки тротуара. Как все это далеко! Он возвращается к своему письму.
«Признаюсь, я и сам был мелким хищником. Меня интересовали не столько деньги. Нет, скорее мой гардероб, мой холеный вид — все то, что мне отраженно читалось в глазах у женщин. До этого я еще питал иллюзии. К примеру, Марилен. Бедняжка моя! Ведь ты самая бездарная из всех актрис, кто попадался на моем пути. Я думал, что ты выходишь за меня, воздавая дань моему таланту. Какое! Тебя манила перспектива крупных контрактов. Даниель тебя не устраивал — он неудачник. Но при всем том, что я терпеть его не мог, должен признаться, что он, несомненно, головастее меня. Сумей ты отучить его от спиртного, и он смог бы далеко пойти. Но у тебя на это не хватило соображения. Все, что тебе нужно, это вкусно поесть! О, ты ничем не хуже всех других. Мой брат, если бы он только посмел, свистнул бы у меня из-под носа самые лакомые кусочки. И все остальные — паразиты, о которых не стоит и вспоминать! Там, где пахнет деньгами, там, словно по чистой случайности, объявляются и приятели — старые, о которых ты забыл и думать, и новые, чьи имена еще не успел запомнить. И вся эта братия весело лязгает челюстями, скребет ногтями, до тех пор пока от падали не останется ничего, кроме добела обглоданного костяка. И тогда честная компания расходится, облизывая губы или чистя перья, оставив после себя скелет. Мой скелет. Потому что я намерен распрощаться с жизнью. Как когда-то мой отец. Он — чтобы не угодить в лапы гестаповцев, а я — чтобы уйти от низости, жестокости, лжи. Впрочем, все едино.»
— Гарсон… Повторить!
Алкоголь льет ему на душу елей умиротворения. Дышится уже легче. Он продолжает:
«Ваша Линда Клейн покончит с собой, приняв гарденал, словно субретка. Какая дешевка! Ну а я покажу вам, как прощается с жизнью тот, кого зовут Вертер.
Прощайте! Жалкие, ничтожные люди!»
Аккуратно сложив листок, Сильвен убирает его в бумажник и, расплатившись, уходит. Легкий ветерок, налетевший с площади Звезды, слегка кружит ему голову. Он мог бы возвратиться домой и пешком, но как бы не ослабла его решимость. Времени пять вечера. Берта уже ушла, а Марилен еще не вернулась. Дома ни души. Самый подходящий момент, если успеть быстро добраться до дома.
— Приятного вам вечера, — вежливо прощается таксист, отъезжая.
Сильвен машет ему рукой. Где то времечко, когда перед ним распахивали дверцу! Просили у него автограф! Он пересекает сад, входит в свой кабинет через стеклянную дверь. Сбрасывает плащ. После пощечины Даниелю было бы весьма кстати подать на него жалобу и тем самым привлечь внимание к своей персоне. Слишком поздно, старик.
Сильвен садится за письменный стол и достает из ящичка револьвер. Удержать дуло прямо перед грудью трудно, тут нужны две руки. Такая поза немного комична. Семийон не режиссер, а бездарь. Ах! Сильвен чуть не забыл. Выложив письмо на видное место, он прикрывает глаза и спускает курок.
Нечто, пока еще безымянное, плавает в белой, а может, и зеленой массе. До ее поверхности еще плыть и плыть, а воздуха не хватает. И вдруг внутренний голос опасливо подсказывает, что нечто — это и есть я. От такой догадки все становится на свое место: вокруг меня цветные пласты воды и я всплываю со дна океана. Требуется неимоверное усилие, чтобы понять, что его окружают светлые стены, а яркий свет слева — не солнце, а горящая лампа у изголовья кровати. Нечто стало мною, и я открываю глаза. Моя грудь в тисках повязки, но я жив.
В этом еще предстоит разобраться — такое никак не может быть правдой… А между тем я в состоянии чем-то пошевелить. Но чем? Я ощущаю прохладу простыни. Выходит, я шевелю ногой. Своей ногой. Я очень устал. Мое сознание туманится, но не пропадает. И я ощущаю разницу между небытием, как в коме, и безмятежным отсутствием, как во сне.
Новое пробуждение, на сей раз почти с ясной головой и лишь с клочками туманных воспоминаний. Сильвен отчетливо помнит лишь одно — решение покончить с собой. Не получилось, доказательством тому — плотные бинты, сжимающие грудную клетку. Он хотел избавиться от жизни, что в известном смысле ему и удалось. Он изнурен болезнью, но стал новым человеком. Откуда в нем такая уверенность, что он выживет? При всем том, что его туго запеленали, к носу и рту подсоединены резиновые трубки… он наверняка смертельно ранен. Тельма… Приходится напрячь всю память, чтобы вспомнить, что связано с этим именем. Воспоминания такие расплывчатые… Катафалк… Она видела катафалк… Нет! Рядом слышится голос: «Он пошевелил губами». Другой голос спрашивает: «Слышит ли он нас?» Ему бы так хотелось снова открыть глаза, сообщить что-то срочное. Но кому?
Голоса смолкли, но осталось чье-то присутствие, которое плавно перемещается. Но вот мать, шелестя, удаляется. Однако он все еще не один. Рядом с кроватью скрип. Возможно, скрипит стул. Его бдительно охраняют. Бояться нечего. Можно расслабиться и снова утратить себя. Время течет само по себе. Теперь таинственным образом настал день. Лампа не горит. Свет проникает через окно. Он обессилен, но мысль работает четко. Эта комната — больничная палата. Зачем его заставили вернуться к жизни? Чтобы потребовать отчета? Добиться извинений? Ему нечего объяснять. Оставленное письмо говорит само за себя. Его размножат, прокомментируют. Сильвен позабавился, вообразив себе, как разгорается скандал — бешенство одних, притворная маска сострадания других. Выздоровев, он станет для всех них перебежчиком, предателем, прокаженным. И от него отвернутся все, начиная с Марилен. Отныне он своего рода эмигрант. Может, ему и вправду податься в другую страну? Мысли свободно гуляют в его голове, он на них не сосредоточивается.
Дверь открывается. Над ним, улыбаясь, склоняется сестра милосердия.
— Тсс! Не пытайтесь говорить. Вас вызволяют с того света.
Она ставит ему термометр. В ее жестах никакой укоризны. По ее понятиям, самоубийца ни в чем не виноват, и Сильвен обретает душевное спокойствие. Он приподнимает голову, но из-за термометра во рту не может ее поблагодарить. Мысленно улыбаясь, он валится на подушку. Сестра ходит по палате. Вот она у штатива, с которого свисают трубки. Меняет капельницу, вынимает термометр. Сложив губы в знак одобрения, проводит ладонью по его лбу.
— Меня зовут Габи. Не двигайтесь. Бояться больше нечего.
Бояться? Он никогда и не боялся.
— Вам уже не причинят зла, — добавляет она.
Сильвен пытается уразуметь смысл ее слов. Значит, его письмо уже предано огласке. Намекает ли Габи на врагов, которые довели его до самоубийства? Он вопрошает взглядом и с бесконечным трудом произносит:
— Сколько времени?
Ей понятны тревоги пациентов.
— Сколько времени вы находитесь здесь? — переводит она этот вопрос. — Вас привезли позавчера, под вечер. Так что лежите спокойно. Если будете вести себя хорошо, вам могут разрешить короткое свидание с женой. И разговаривать запрещено. И скоро дело пойдет на поправку.
Силясь понять, как это ему больше не причинят зла, Сильвен засыпает. Он пробуждается от позвякивания медицинских инструментов и флаконов на тележке с перевязочными материалами. Хирург. Ассистенты. Какая же это болезненная процедура — смена повязки. Стоит ему вздохнуть поглубже, и грудь пронзает острая боль.
— Ему повезло, — говорит хирург. — Исход решили несколько миллиметров. В принципе сердце было обречено.
От резких запахов к горлу подкатывает кашель. Он изо всех сил преодолевает ужасную боль, как от удара кинжалом.
— Легкое задето, — продолжает хирург, — но это дело какого-нибудь месяца. Что ни говори, а случай неординарный: промазать, стреляя в упор!
Процедуры завершены. Кто-то измеряет ему давление и шепотом обращается к врачу:
— Визиты, само собой, отменяются, даже для жены. Пока что полный запрет. Комиссар — дело другое. Только пара минут. Понятно, Мишель?
Мишель — должно быть, так зовут студента-практиканта.
— Я прослежу лично, — заверяет тот.
В завершение хирург склоняется над Сильвеном. Он напоминает… Да, он похож на Пьера Брассера.[19] Доктор дружески сжимает ему плечо и говорит:
— В другой раз будьте осторожнее.
«Осторожнее?» — думает Сильвен. Остерегаться чего? Кого? Несомненно, Медье. Видно, хирург тоже читал его письмо. До чего тяжко возвращаться к жизни, понять… Поскольку есть вещи, которые необходимо понять. Комиссар? При чем тут комиссар?
Тележка удаляется, и ноги шаркают уже у дверей. Голос хирурга: «Прошу вас!.. Позже!.. Позже!..» Потолок озаряет вспышка блица. Дверь прикрыли за собой с той стороны.
Вспышка фотоаппарата! Это и вправду была вспышка фотоаппарата! «Скажите на милость, — подумал Сильвен, — мое самоубийство их расшевелило. Так и вижу газетные заголовки: „Прежде чем покончить с собой, Сильвен Дорель свел счеты…“» Что-нибудь в таком духе. Выходит, он страдал не напрасно.
На этой радостной мысли Сильвен прикрывает глаза и погружается в сон.
Позже… Но что означает это «позже»?
…Все та же комната зеленоватого цвета, та же тумбочка у изголовья справа, а слева — тот же штатив, с которым он связан пуповинами. Однако уже прошло какое-то время, так как он чувствует себя крепче, немного лучше владеет собой — достаточно хорошо, чтобы принимать решения. Он скажет, что ничего не помнит. У них есть письмо, и этого достаточно. Начни он исповедоваться, и ему придется извлечь на свет божий свои отношения с Марилен, Николя, Медье, и так без конца и края. Лучше уж положить конец всему сразу. Разве он не вправе утратить память? Посмотрим, как они отреагируют — все они. А почему бы ему не провести некоторое время в доме отдыха?
На этот раз он задумывается всерьез, старается рассуждать логично. Пора ему уже умерить пыл. Его бросает в жар. Хорошо бы промокнуть лицо.
— Габи, — позвал Сильвен и не узнал собственного голоса: хриплый, дрожащий, как у столетнего старца.
Между ним и окном возникла тень медсестры.
— Пить, — бормочет он.
Она подносит ему питье, так, чтобы он пил медленно, по глоточку.
— Вам уже лучше, — решает она. — Иду предупредить Мишеля.
Мгновение спустя к кровати подходит практикант. Сильвен видит за его спиной незнакомца. Плащ из темного габардина гармонирует с обстановкой палаты.
— Комиссару Шатрие нужно уточнить некоторые обстоятельства, — говорит Мишель. — Ограничьтесь ответом «да» или «нет». Отвечать подробней вы пока не в состоянии. — Он оборачивается к полицейскому: — Не утомляйте пациента!
Комиссар ставит стул прямо напротив Сильвена.
— Мне хочется вас ободрить, — шепчет он. — Вы вне опасности. Но ваша жизнь держалась на волоске.
Практикант слушает, наблюдая за лицом пострадавшего и готовый прервать визит в любой момент.
— Скажите, — продолжает Шатрие, — кто в вас стрелял?
Сильвен нем как рыба. Он так владеет собой, что на его челе нет и признака мысли. Он не моргая смотрит на комиссара, который вопрошающе глядит на Мишеля.
— Вы уверены, что он очнулся?
Практикант в свою очередь обращается к Сильвену:
— Господин Дорель… Вы поняли вопрос? Кто покушался на вашу жизнь?
Сильвен только мотает головой справа налево.
— Как это нет? — удивляется комиссар. — Вы что, забыли? Вы сидели за письменным столом. Кто-то вошел, возможно из сада, но это несущественно, и выстрелил. Стреляли в упор, о чем говорит прожженная дырка на вашем пиджаке. Значит, вы знаете убийцу. Будь он вам незнаком, вы бы не продолжали спокойно сидеть. Вы бы вскочили, возможно, подрались. Но нет, вы позволили ему подойти вплотную и не пошевелились. Следовательно…
Практикант обрывает его:
— Господин комиссар, вы говорите так быстро, что больной не успевает уловить смысл ваших слов. Пожалуйста, два-три четких вопроса — и на сегодня достаточно.
— Да, вы правы, — соглашается полицейский. — Господин Дорель, напрягите память. Ваш визитер — незнакомец? Вы никогда раньше его не видели? Да или нет?
— Нет, — выдавливает из себя Сильвен.
— Значит, он свой человек в доме?
— Нет.
— Вы не желаете отвечать?
— Нет.
— Значит ли это, что вы кого-то покрываете? Напрасно, потому что мое расследование продвигается, но с трудом, и мы могли бы выиграть время. — Комиссар отодвигает стул и встает. — Это ни на что не похоже. Ему наверняка известно, кто на него напал.
Взяв шляпу, полицейский готов уже шагнуть за порог, но, отдав себе отчет в том, что грубовато обошелся с пострадавшим, оглядывает его безжизненную руку на простыне, колеблется и, предпочитая ее не пожимать, откланивается.
— Скорейшего выздоровления, господин Дорель. До скорого.
Одумавшись, он возвращается и садится на прежнее место, несмотря на протесты практиканта.
— Один, последний вопрос, — заверяет он. — Господин Дорель, вы, по крайней мере, помните, как вернулись домой?
— Нет.
— Вот ведь, оказывается, в чем штука. — Крайне разочарованный, он обращается к Мишелю: — По-вашему, нормально, что пострадавший утратил память именно в тот момент?
Мишель уводит комиссара к двери, и до Сильвена доносится лишь их неразборчивое перешептывание. Когда дверь за ними закрывается, Сильвен остается в палате один, потрясенный новостью. Если полицейский подозревает, что совершено покушение на его жизнь, значит, револьвер и письмо не попали в руки следствия, сомнений нет. Такая мысль приободряет Сильвена, придает ему силы. Он не пожелал бы себе ничего лучшего, чем быть убитым, и прикидывает так и эдак. Такая версия логично увязывает все факты: кто-то забрался к нему в кабинет… прохожий… вор… безразлично, и, столкнувшись с ним нос к носу, выстрелил и скрылся. Ему достаточно долдонить: «Я забыл… Я уже ничего не помню…» Мозговая травма с перепугу — такое наверняка случается. И пусть себе комиссар уверяет, что расследование якобы продвигается. Вранье. Он будет всеми средствами добиваться его признаний, которые навели бы на верный след.
«А ведь я и вправду никого не видел!» — сказал себе Сильвен, но в следующий миг осознал, что у него в голове полная путаница. Как мог бы он кого-то увидеть, коль скоро сам и был тем, кто…
Сильвен позволяет себе вздремнуть. Но стоит ему вновь открыть глаза, как на него, подобно хищной птице, обрушивается вихрь мыслей. Если револьвер и письмо исчезли, значит, их кто-то взял. Но кто? Наверняка не случайный посетитель. Скорее, кто-то из близких. Тот, кто, обнаружив его бездыханное тело, решил, что его убили, и, не желая оказаться замешанным в драму, припрятал письмо и револьвер. Но почему? Ясное дело: во избежание огласки. Его письмо как бомба замедленного действия, чьи осколки способны ранить без промаха… по правде говоря, более или менее всех.
Сильвен продолжает обдумывать свою версию. Кто-то припрятал письмо. Ладно. Это еще звучит правдоподобно. Но вот оружие… Зачем прятать оружие? Было бы гораздо естественнее оставить пистолет рядом с трупом самоубийцы. Как вещественное доказательство. Расследование на этом бы и споткнулось. Тогда как при версии убийства все — от Марилен до Медье, не минуя Мейера и Семийона, — все они подвергнутся допросу с пристрастием, столкнутся с кучей неприятностей. Неужто этого кто-то желает? Ерунда. Такая версия не выдерживает критики. Разве что… речь идет о каком-то шантажисте, который напишет ему: «Письмо, доказывающее самоубийство, и пистолет с отпечатками ваших пальцев находятся у меня. Жду выкупа». Нет, это отпадает. Человек, завладевший вещественными доказательствами, не мог знать, что врачи добьются невозможного и воскресят мертвеца. Перед ними находился явный труп. А чего ждать от трупа?
На сей раз домыслы совсем обессилили Сильвена. Габи констатирует повышение температуры и срочно вызывает практиканта. Тот прописывает успокоительные таблетки.
— Визит этого сыщика выбил больного из колеи, — объясняет он. — Больше никаких визитеров вплоть до нового распоряжения.
— Но его жена тут. И брат.
— Мне плевать. Пускай приходят в другой раз.
Слыша их разговор, Сильвен вспоминает безжалостные фразы своего письма. В какую калошу он бы сел, если, на его беду, его предали бы гласности! Имел ли он право писать столь злые вещи? И думает ли так на самом деле? Теперь его гнев поутих. Он ни на кого не в обиде. Чего бы он желал, так это обрести возможность обмениваться извинениями, как обмениваются подарками — ко взаимному удовольствию.
Время от времени Габи приходит удостовериться, что Сильвен безмятежно отдыхает. Она помогает ему приподняться на подушке. Он стонет.
— Лучше помолчите, — весело говорит она. — Возвращаясь из небытия, человек не имеет права хныкать. С вами произошло чудо. Поистине. Вас спас бумажник. А вы и не подозревали?
Вот еще одна тайна, которая требует разгадки. Их слишком много. Он сдается. И все же память против его воли, как зверь в клетке, упрямо кружит вокруг одного вопроса: кто и зачем мог похитить револьвер и письмо? По здравом рассуждении, этот человек наверняка не посторонний. Какой-то знакомый пришел с ним поговорить. А может, это Марилен вернулась домой со студии? Или Берта с покупками? Или Николя?.. Среди мужчин и женщин, которые не преминут его навестить, один наверняка виновный. Виновный! Слово не слишком сильное, поскольку несуразное вмешательство, перекрасившее самоубийство в покушение на жизнь, воспринимается им как преступление. Узнать бы теперь, кому оно на руку.
Сон. Пробуждение. Процедуры. Обход врача. Хирурга сопровождает доктор, который расспрашивает Сильвена. Должно быть, психиатр. Он терпелив и спокоен, но, сам того не ведая, подсказывает Сильвену линию поведения.
— Вы находились у себя в кабинете, помните?
— Нет.
— Тогда каково ваше последнее воспоминание — до того момента, как произошла драма?
— Моя драка с Даниелем Марсьялем.
— Да, нам стало известно про это по ходу расследования. Ну а что было потом?
— Ничего.
— Получили ли вы удар по голове?
— Не знаю.
— Скажите, вы вернулись домой пешком или вас подвезли?
— Нет.
— Когда вы дрались, вами владело сильное озлобление?
— Да.
— Очень сильное?
— Да.
— Будь у вас под рукой оружие, вы бы воспользовались им?
— Да.
Врач-психиатр и хирург отходят от его постели и совещаются, но Сильвен уверен: он в выигрышном положении. Конечно, психиатр будет и дальше донимать его вопросами, и надо быть настороже. Тем не менее его диагноз уже определился: психическая травма вследствие неконтролируемой эмоции, что обернулось амнезией. Что-то в этом роде. И никто не смог бы доказать обман. Никто… за исключением человека, завладевшего письмом.
Психиатр снова подходит к Сильвену.
— Не волнуйтесь, — говорит он, — память мало-помалу вернется к вам. Когда вам станет получше, я обследую вас обстоятельнее. Не теряйте присутствия духа.
Он жмет ему руку. Хирург улыбается.
— Все идет своим чередом. Я доволен и разрешаю два-три визита, но коротких. Много не разговаривать!
Первый посетитель — Марилен. Она растроганно чмокает Сильвена в лоб.
— Как же ты меня напугал, — говорит она. — Войдя в кабинет, я приняла тебя за мертвого и сразу позвонила в полицию, а потом, кажется, упала в обморок. Видимо, ты был на пороге смерти. Еще несколько минут — и конец. Боже мой! — Она спешит извлечь из сумочки носовой платок и пару раз прикладывает его к глазам. — Затем посыпались вопросы, как будто во всем виновата я. Вот если бы я вернулась домой прямиком со студии… и сразу зашла в твой кабинет… Вот если бы мы лучше ладили между собой… Почем я знаю… И рылись по всему дому, якобы желая удостовериться, что у нас ничего не украли. Помнишь шкафчик, куда я прячу свои маленькие секреты? Они залезли и туда. Совали нос повсюду. Я была возмущена. Народу собралось видимо-невидимо! Даже перед домом. Журналисты, радиорепортеры… Ах! Клянусь тебе, для них это был настоящий праздник.
Сильвен слушает с величайшим вниманием, желая убедиться, что ее рассказ звучит правдиво, что в ее слова не прокрадывается ложь. Нет, не Марилен обнаружила письмо и револьвер. Он бы учуял фальшивую нотку.
— Вот, — говорит она, — я принесла самые интересные вырезки. Это развлечет тебя.
Она извлекает из конверта пачку статей и лихорадочно листает.
«На Сильвена Дореля совершено нападение у него дома, средь бела дня… Знаменитый киноактер находится в коматозном состоянии… Таинственное преступление: неизвестный обрушивается на знаменитого киноактера Сильвена Дореля».
— Увидишь сам — в каждой строчке слово «знаменитый». А ты считал, что тебя забыли. Как же ты ошибался! Жаккель пространно рассказывал о тебе по телику. Он напомнил, что ты — сын героя Сопротивления… и что сам всегда стремился играть героических персонажей. И еще что-то лестное, я позабыла. В результате телефон не умолкает. Тебе это хотя бы приятно слышать?
— Ну конечно.
— Неприятно то, что Медье отказался от «Вертера». По крайней мере, на данный момент, из-за твоей стычки с Даниелем. Потому что она наделала много шума, чего ты не можешь знать. Я забыла тебе сказать, что Даниель задержан и находится под стражей.
— Неужели? Давно?
— Со вчерашнего вечера.
— Какой бред!
— Хорошо бы, ты оказался прав. Потому что я попала в нелепое положение. Мой второй муж в клинике, а первый — за решеткой. Некоторые газеты станут смаковать такую ситуацию.
— Мадам! Мадам! — вмешивается медсестра. — На сегодня достаточно.
— Ладно, убегаю.
— Принеси-ка мне завтра электробритву, — просит Сильвен.
Марилен чмокает его в губы. Похоже, треволнения последних дней на ней не сказались. Газетные статьи, атмосфера всеобщего любопытства — это для нее своеобразный допинг. Она достигла пика славы. «Бедняжка Марилен! Что же я написал о ней в письме? — задается вопросом Сильвен. — Кажется, „полная бездарь“. Если бы она знала! Да она облила бы меня соляной кислотой».
— Совсем забыла. Твоя мама не смогла прийти — после известия о твоем ранении у нее началось что-то вроде нервного стресса. Ничего страшного, но ей прописали пару дней постельного режима. Николя при ней. Не беспокойся. Буду держать тебя в курсе. До завтра.
Послав ему воздушный поцелуй, Марилен исчезает.
— Ну вот, — говорит Габи, — у вас огорченный вид.
— Ничего подобного, — спешит опровергнуть ее Сильвен.
Однако заботы не оставляют его. Даниель за решеткой. Как это, однако, досадно. Почему он попал под подозрение? Правда, он подвергся оскорблениям и его избили. Полиция вправе думать, что он хотел мне отомстить. Но ведь от подозрений до обвинения — дистанция огромного размера. Так или иначе, о том, чтобы обнародовать правду, нет и речи. Знаменитый актер Сильвен Дорель не был, не может быть, не должен быть человеком, который кончает жизнь самоубийством… И даже не способен сделать это как подобает. Подумаешь! Даниеля отпустят на свободу, и все дела. А краткое содержание под стражей только привлечет внимание к его особе.
Газетные вырезки разлетелись по полу: Сильвен не может совладать с руками из-за повязки. Габи, которая в восторге от того, что замешана в трагедию, о которой пишут все газеты, приходит ему на помощь. Она зачитывает пациенту лучшие места.
— Послушайте-ка, господин Дорель:
«Вот уже двое суток, как жизнь того, кто был любимцем зрителей, висит буквально на волоске. Следствию приходится трудно из-за отсутствия улик. Когда незадачливый Сильвен Дорель подвергся дикому нападению, он был у себя дома один, и, поскольку имел досадную привычку не запирать дверей своего дома, к нему кто угодно мог войти и выйти, не привлекая внимания соседей. Тем не менее энергичный комиссар Шатрие заявил нам, что побудительным мотивом преступления было не ограбление. Подтверждается и то, что Сильвен Дорель предполагал сниматься в главной роли в фильме немецкого продюсера. Желаем, чтобы тот, кого нарекли очарованным принцем, поскорее вернулся на съемочную площадку».
Или вот еще:
«Состояние знаменитого киноактера все еще остается без изменений. Тот, кто бесподобно воплощал на экране трагическую судьбу таких персонажей, как Фредерик Шопен, Андре Шенье, герцог Энгиенский, теперь борется за собственную жизнь».
А вот заметка из газеты «Иси-Пари»:
«Спасенный бумажником
Пуля, едва не сразившая Сильвена Дореля, наткнулась на пластиковую кредитную карточку „American Express“, которую киноактер постоянно носил в бумажнике, и, чудом отклонившись, прострелила легкое, но не навлекла непоправимой беды. Сильвен Дорель нашел в себе силы сказать нам: „Я везучка!“».
— Я ничего такого не говорил, — опровергает Сильвен. — Я был в бессознательном состоянии. Что за люди! Сочиняют всякие небылицы.
— Но в сущности, это правда. Вы счастливчик.
Подумав, Сильвен грустно улыбнулся.
— Я над этим никогда не задумывался, — сказал он, — но вы правы. Три года назад я попал в аварию — дело было в Италии, — но чудом не пострадал.
— Ага. Вот видите — вы везучий.
В дверь постучали.
— Впустить? — спрашивает Габи. — Вы не переутомились?
— Нет. Через это нужно пройти.
Медье. Он идет через комнату, протянув Сильвену обе руки. Он излучает дружеские чувства.
— Дорогой Сильвен! Застать вас в больнице, в таком состоянии!.. Ах, никогда не прощу себе нашу маленькую размолвку… Но это в прошлом, не правда ли? Быстрее выздоравливайте. Нас ждут другие проекты. С «Вертером», разумеется, покончено из-за всего этого. — Он указывает на газетные вырезки. — Представляете себе, что могло произойти, — продолжает он, — если бы я поручил вам роль Вертера. Фильм бы освистали. Вы стали бы героем, которого смерть обходит на каждом шагу. Читали статью в «Иси-Пари»? Везение! Об этом только и говорят. Мы больше не можем убивать вас на экране. Зрители кричали бы «бис». О том, чтобы дать роль Линде, уже не может быть и речи. Отныне зритель желает видеть одного Сильвена Дореля. В одночасье вы опять стали кинозвездой. — Наклонив голову, Медье смотрит по углам. — Вы уже получали предложения?
— Предложения? Какие предложения?
— Ладно, ладно… Короче, зачем мне вам все разжевывать? Лично я готов подписать с вами контракт на пять фильмов.
— Свяжитесь с моим агентом.
— То-то и оно. Я уже заручился ее согласием.
— Дьявол! — чертыхается Сильвен. — С вами мне просто будет некогда отдать концы.
— Вы даете мне слово? — настаивает Медье.
— Но о каких фильмах идет речь?
— Понятия не имею. Поживем — увидим. Главное — чтобы я мог на вас рассчитывать. Разумеется, на совершенно других условиях. — Медье благодушно смеется. — Стоит только дать себя убить, а об остальном позаботятся, можете не волноваться. Я тот человек, который готов взвалить на себя все остальное, — шутит он. — И для начала принес вам подарочек.
Медье извлекает из дипломата бутылку шампанского и водружает на тумбочку.
— Очень рекомендуется для восстановления сил. Выпейте за свои будущие успехи. Я покидаю вас. Заглянул к вам буквально на ходу.
Сильвен удерживает его, схватив за запястье.
— Какие у вас новости о Даниеле Марсьяле?
— Ну что ж… он задержан, и его допрашивают.
— Его не посадят в тюрьму?
— Думается, это зависит от вас. Вы намерены свидетельствовать против него? Если стрелял в вас он, то кому лучше знать об этом, как не вам?
— Я все забыл.
Медье понимающе хихикает.
— Меня это дело не касается, — изрекает он. — Давайте выздоравливайте скорее, дорогой Сильвен. Мы ждем вас.
Сильвен остается наедине со своими проблемами. Но в сущности, дилемма проста: или сказать им правду, или пусть считают, что на него совершено покушение.
«Если я признаюсь, что хотел покончить самоубийством, то потеряю все — рекламу, контракты, свой шанс вернуться на экран. Если же буду молчать, возможно, Даниелю грозит тюрьма».
При таком раскладе все выглядит хуже некуда, и Сильвен убеждается, что напрасно ищет логику там, где она неуместна. Начать с того, грозит ли Даниелю тюрьма. Комиссар, само собой, будет долго кружить вокруг этого своеобразного любовного треугольника — жены и двух ее мужей. Все трое — актеры, а значит, мастаки по части комедийного розыгрыша. Кто из троих лжет? А может, лгут все трое? Он станет донимать их вопросами, но так ничего и не обнаружит, поскольку обнаруживать-то нечего. А значит, Даниелю ничто не угрожает. Так что ему лучше всего молчать, чтобы не спугнуть славу.
У Сильвена хорошее самочувствие. Он кладет руку на кучку газетных вырезок. Он уже не горит желанием их читать. Они просто кучка бумажек, доставляющих ему радость. Лицо очарованного принца обросло щетиной, как у бродяги, под глазами синяки, напоминающие грим, волосы слиплись от пота. И все же он улыбается самому себе при мысли, что его фото снова у всех перед глазами.
Сильвен впервые спит, не прибегая к помощи снотворного, и хирург, который приходит его перевязать, удивляется темпу заживления раны.
— В добрый час, — говорит он. — С такими ранеными, как вы, работать одно удовольствие. Только берегите себя, ладно? Благоразумие все еще необходимо…
Изучая кривую температуры, он спрашивает Габи:
— Визиты его не слишком утомляют?
— Нет. Я получаю от них большое удовлетворение, — заявляет Сильвен.
— Тем лучше. И все же я бы не хотел, чтобы наш пациент увлекался разговорами. Визиты — да, но не конференции. Все это убрать.
Хирург указывает на трубки, штативы с колбами. Он, как обычно, спешит. Кивок — и кортеж исчезает за дверью.
Не дождавшись возвращения Марилен, Сильвен просит Габи одолжить для него бритву и снимает с лица ужасный лишайник, которым оно поросло. Взмах гребешка. Умывание туалетной водой на скорую руку — и вполне можно показываться на людях.
Габи протягивает Сильвену зеркало. Он долго рассматривает себя. Не бог весть что, мой мальчик. Жалкая мордаха, отмеченная перенесенным испытанием. Но глаза блестят. В конечном счете жизнь — прекрасная штука! В особенности когда ты сумел удержаться на волоске от того, чтобы потерять ее глупейшим образом. Теперь, когда кризис миновал, он не может понять, как его угораздило… То был другой Сильвен, и он умер. Возможно, он уже многие годы вынашивал мысль о самоубийстве.
Габи приносит утренние газеты. На первых полосах все еще муссируется таинственное преступление в Нейи. Но уже выдвигается гипотеза, которая не могла не прийти людям на ум.
«Преступление на почве страсти?
Общеизвестно, что Сильвен Дорель и Даниель Марсьяль ненавидели друг друга. Даниеля Марсьяля допрашивают в полиции. Любые новые данные способны подтолкнуть расследование».
«Какие такие новые данные?» — задается вопросом Сильвен. Уж не обнаружили ли письмо и пистолет? «Новые данные» не могут быть ничем иным. Внезапно тревога стиснула ему грудь, разбередила рану. А он-то и думать забыл про эту угрозу. Кому-то известно, кто-то держит в руках доказательства того, что он — обманщик. Будь им Даниель, он бы давно уже предъявил эти доказательства, чтобы отвести от себя вину. Тогда, может, это Николя? Николя был бы рад-радешенек устроить западню брату, нет — сводному брату, который открыто его презирает. Но если к Николя и попали случайно в руки письмо и пистолет, он не так глуп, чтобы взять их и отдать за здорово живешь. Он прибережет их, пока ему не представится случай извлечь из этого выгоду.
Нет! «Новые данные» — нечто совсем другое. Но что именно? Что? Сейчас он это узнает, поскольку комиссар Шатрие объявился снова. На сей раз он приветлив, пожимает Сильвену руку, осведомляется о здоровье. Усаживается. Похоже, никуда не спешит.
— Надеюсь, — не без иронии говорит он, — ваша память восстанавливается?
— Нет.
— Ну что ж, в таком случае попытаемся обойтись без нее. У меня есть доказательства, что Даниель Марсьяль приходил к вам незадолго до вашего возвращения домой. В самом деле, я додумался прослушать ваш автоответчик и обнаружил такую запись — помню ее наизусть: «Не в моих правилах получать пощечины и не давать сдачи. Либо ты объяснишь, почему ты накинулся на меня, либо я расквашу тебе физиономию. Я направляюсь к тебе и предупреждаю: если ты откажешься мне открыть, я учиню скандал. До скорого». Ясно или нет? Из этого я делаю вывод, что Даниель Марсьяль звонил вам вскоре после вашей стычки. После чего пошел к вам домой и выстрелил в упор. Так что признайтесь, господин Дорель, что все произошло именно так, хитрить бесполезно. Потеря памяти тут не сработает. Вы не хотите изобличать бывшего товарища — я склоняюсь перед вами, но мое мнение уже сложилось.
Он наблюдает за Сильвеном, который испытывает явное замешательство.
— Как видите, — добавляет он, — мне есть в чем обвинить Марсьяля. Но я не понимаю вас обоих, ни того ни другого. Вы утверждаете, что ничего не помните. А он клянется, что не виновен. Вопреки всякой очевидности.
— И что же он говорит? — спрашивает Сильвен.
— Он признает, что звонил вам, — хорошо еще, что он не подвергает сомнению факт записи автоответчика. Но, по его словам, идти к вам передумал. Он счел, что гнев — плохой советчик и такая встреча может плохо кончиться. Для меня это уже полупризнание вины. Так что, вернувшись к себе, он сел за бутылку — тоже судя по его словам — и так, от стакана к стакану, забыл про свою решимость. Разумеется, свидетеля и вообще никакого алиби у него нет. Но вы, господин Дорель, ведь вы не видели его у себя с револьвером в руке? Так признайтесь же чистосердечно. Что толку его покрывать?
— Господин комиссар, даю вам слово, я не прослушивал свой автоответчик.
— Ага! — ликует Шатрие. — Вот деталь, которая пришла вам на память.
— Да нет. Дело совсем не в этом. Вы же понимаете, что, прослушав такое сообщение, я запер бы все двери. Насторожился. Из новой дискуссии между нами ничего хорошего получиться не могло.
— Вы так говорите. Но мне очень хотелось бы точно знать мотивы вашей стычки. Даниель Марсьяль утверждает, что он их не знает.
— О-о! Я взъелся на него из-за роли, которую он пытался увести у меня из-под носа. Проблема чисто профессиональная.
Комиссар невольно рассмеялся.
— Решительно вы держите меня за круглого дурака, господин Дорель. Кого вы пытаетесь убедить, что можно устроить мордобой, не поделив роли!
— Будь вы из мира кино, вас бы это не удивило.
— А нет ли между вами соперничества… ну, скажем, из-за женщины?
— Нет!
— Даниель Марсьяль сказал, что вы могли бы способствовать карьере мадам Дорель. Но если бы она не ушла от него к вам, он помог бы ей лучше вас.
— Бредни забулдыги.
— Словом, вы признаетесь в своей нелюбви к Марсьялю?
— Да.
— Впрочем, он тоже не любит вас. И этого не скрывает. Похоже, он и не догадывается, что тем самым навлекает на себя подозрения. Спрашиваю в последний раз: почему вы его покрываете? Что мешает вам говорить? Должно быть, у вас на это есть веская причина. Я хочу ее знать. И можете не сомневаться, узнаю. Нет? Вы предпочитаете молчать? Ну что ж. До скорого, господин Дорель.
Он стремительно встал, плохо скрывая дурное расположение духа. Остановившись в двух шагах от двери, он оборачивается и бросает:
— Вам предстоит давать свидетельские показания в суде, под присягой. Не забывайте этого.
«Гром аплодисментов, — злобно думает Сильвен. — Он хорошо обставил свой уход со сцены! Старый комедиант!» Сильвен не может простить себе, что не прослушал запись на автоответчике. Обычно он никогда не забывал это сделать. И вот достаточно одного раза, чтобы… Он стер бы сообщение Даниеля, и сегодня ему не пришлось бы задаваться вопросом, стоит ли выручать из беды этого чертяку.
Его раздумья прерывает Габи. Она принесла почту. Писем двадцать. Девушка подносит к его лицу продолговатый конверт сиреневого цвета.
— Гм… как дивно пахнет, — говорит она. — Письма ваших поклонниц. Понюхайте.
Сильвен с душевным трепетом вдыхает пьянящий аромат славы.
— Хотите, я зачитаю? — предлагает Габи. Она вскрывает конверт. — Ну, что я говорила!
«Сильвен, я с грустью восприняла, что вы тяжело ранены. Хочу, чтобы на одре страданий (Сильвен не в силах сдержать улыбку) вы знали — у вас есть друг, который мысленно с вами. Все эти годы я следила за вашей карьерой. Ваше фото неизменно красуется в моей спальне. Меня огорчало, что я перестала видеть вас на экране. Сможете ли вы вернуться и воплотить еще один образ рыцаря без страха и упрека, некогда составлявшего объект моей мечты?
Теперь я замужем, но по-прежнему живу в мечтах и всем сердцем желаю вам вернуться на экран, чтобы утешать тех, кто разочаровался в жизни. Скорейшего выздоровления.
Патрисия»— Однако же! Скажите на милость, — бормочет потрясенная Габи.
Она вскрывает другое письмо. Оно написано детским почерком.
«Мсье!
Мне всего тринадцать лет. Моя мама плакала, когда прочла про вас в газете. Она часто говорила мне о вас. Кажется, вы поэт. И как они посмели вас убивать! Мне хотелось бы иметь ваше фото с автографом. Мы повесили бы его в столовой и обе смотрели — ведь мы живем только вдвоем.
Морисетта»— Бедная девочка, — комментирует Габи. — Обещайте, что ответите ей. Я сделаю это за вас, если вы еще не в состоянии писать.
— Согласен. Прочтите-ка еще одно письмо, и достаточно. А завтра постараемся их порадовать.
— Может быть, ваша жена могла бы нам помочь?
— Нет. Она ужасно ревнива.
— Еще бы! Могу ее понять. Я точно знаю: на ее бы месте… Замнем… О, это письмо короче.
«В свое время я любила вас, Сильвен, но не решалась вам признаться. С тех пор жизнь меня не щадила. Она предала и вас. Но может, две несчастные судьбы, слитые воедино, принесут нам крошечку счастья? Прилагаю ключ от моей квартиры. Воспользуйтесь им, когда пожелаете.
Кларисса»— Какое нахальство! — восклицает Габи и, заглянув в плотный конверт, извлекает из него плоский ключик. — Ну и ну! Надеюсь, вы ей не ответите.
— Я принадлежу им всем, — объясняет Сильвен, — точнее, принадлежал. Все это в прошлом. И все же, если в один прекрасный день я окажусь на экране, мне хотелось бы еще разок стать тем, кем я был… своего рода рыцарем без страха и упрека. Чтобы наполнить их мечтания. Габи, унесите все это. И не надо сетовать на судьбу.
Дверь приоткрывается. Появляется глаз и четверть лица.
— Можно?
Дверь открывается… Ева.
— Мой агент, — поясняет Сильвен. — Похоже, речь пойдет о делах. Но мы не переборщим. Обещаю.
Габи, насупившись, удаляется. Сильвен задорно улыбается.
— Глядишь, она приберет меня к рукам, — шутит он. — Ну что ж, как видишь, я понемножечку выкарабкиваюсь. Спасибо, что прибежала.
— Я появилась бы и раньше, — говорил Ева, — но предпочла переждать шумиху… Всех этих фоторепортеров и журналистов. Тебе есть чем похвастать — ты здорово преуспел в саморекламе. Я прекрасно понимаю — ты сделал это не умышленно, но все бурлит на Елисейских Полях. Итак, тебе и вправду лучше?
— Вроде бы. Пуля выбрала себе самую безобидную траекторию. Чудом отклонилась от сердца. Похоже, я вскоре вернусь домой. Последние перевязки мне сделают на дому. Никаких проблем. Ну как, ты встречалась с Медье?
— Ах! Какой же он скупердяй! Спит и видит, как бы подписать с тобой контракт — это теперь, когда ты привлекаешь всеобщий интерес, — но при этом не особенно раскошелиться. Меня тошнит от этих субъектов, которые рвутся делать фильмы, а в карманах у них негусто. Короче, мы поладили.
— Пять картин?
— Держи карман шире. Одна.
— А он ведь обещал.
— Естественно. Обещания дешево стоят. Я на него поднажала и добилась потолка — триста тысяч. Читай проект контракта. Я постаралась, чтобы под тебя не подложили мину, и добилась параграфа, который придется тебе по душе: сценарий подлежит обсуждению с тобой и должен быть тобой принят. О повторении таких номерочков, какие они вытворяли с «Вертером», не может быть и речи.
— Есть ли у него в планах какой-либо конкретный сюжет?
— Пока что нет. Это уже по части Семийона. Что ты хочешь — он на него молится. Кстати, Семийон намерен вскоре тебя навестить. Возможно, завтра.
— А Даниель? Какие новости у него?
— Пока ничего определенного. Но по-моему, его признают виновным. Стрелял в тебя он, кто же еще… Послушай, Сильвен, ведь мне ты можешь сказать все. Эта история с амнезией годится для газет. Я не верила в нее ни единой секунды.
Сильвен мгновенно прикинул: выгодный контракт, свобода выбирать сюжет… от этого по доброй воле не отказываются. А дальше поживем — увидим.
— Между тем это правда, — уверяет он. — У меня отшибло память.
Ева бросает на него опечаленный взгляд.
— Должно быть, у тебя есть свои резоны, — говорит она, — но ты меня знаешь: я не настаиваю. Она не ошибалась, твоя ясновидящая. Блицы, кровь, успех — все подтверждается. Если предстоящий фильм пойдет хорошо, ты вернешься на экран. Удачи тебе, дорогой. — Она по-матерински обнимает его, от нее пахнет одеколоном и табаком.
Сильвен ждет Семийона. Стоит кому-то постучать в дверь, как он весь съеживается и от нетерпения в его груди все замирает. Но это вовсе не Семийон, который так и не появляется, а его мать. Она приносит ему апельсины и плачет, потому что Николя может плохо кончить.
Психиатр, который донимает его вопросами. Тельма, которая шла к нему в больницу через весь Париж, чтобы нащупать его руку, принюхаться к нему. У нее по-прежнему серьезный вид. Она слушает его, но не слышит. Слова имеют для нее двоякий смысл, и истинным является не прямой, а оборотный. Она качает головой, странным, сонным голосом бормочет:
— Да… Да… Возможно, страница и перевернута, но не окончательно. Я по-прежнему вижу вспышки блицев, крики…
— А катафалк?
— Продолжает катить. — Она таращит глаза. — Что я сказала?
— Вы сказали: «продолжает катить» — о катафалке.
— Не обращайте внимания. Клиника — не такое место, где можно сосредоточиться… из-за всех этих людей, страдающих тут от боли.
Потом они принялись говорить о том о сем — просто болтать.
А Семийона все еще нет как нет. Какого черта он не идет! Сильвен не сумел бы объяснить, почему он ждет Семийона с таким раздражением и надеждой, но факт то, что отныне только этот человек что-либо значит для него.
Марилен приходит, когда только может. Приносит газеты, журналы, письма. Сообщает, что у них в кинотеатре повторно демонстрируется «Герцог Энгиенский». Она — вестница успеха, но Сильвен слушает ее вполуха. Он не может признаться ей в том, чего ему постоянно недостает — роли. Он подыхает из-за отсутствия персонажа, в которого готов вложить силы, уже возвращающиеся к нему. Ах, как же он сожалеет об упущенном Вертере!
— Ты меня слушаешь?
— Да, милая, да.
— Я сказала, что вчера вечером ему предъявлено обвинение.
— Кому — ему?
— Даниелю, кому же еще?
— Даниелю предъявлено обвинение?
— Ты невыносим, бедняжка Сильвен. Да, Даниелю предъявлено обвинение. А ведь это имеет к тебе прямое отношения. Если ты и уцелел, то отнюдь не по его милости.
— Как? Он признался?
— Нет. Детали пока не обнародованы. Надеюсь, ему влепят по меньшей мере лет десять. За содеянное. И пусть еще меня поблагодарит. Ведь стоило тебе сказать слово, и…
— Оставим этот разговор.
— Ты чересчур добр, в этом вся беда. Уверяю, на твоем месте я бы…
Сильвен не желает обсуждать эту проблему, но про себя обдумывает ее с разных сторон. Ему кажется очевидным только одно: что бы он ни сказал комиссару, тот ему не поверит. На месте комиссара он рассвирепел бы, услышав: «Да, я пытался покончить с собой, но не могу это доказать, так как мое предсмертное письмо исчезло вместе с пистолетом». Какое-то время он считал, что для оправдания Даниеля достаточно его, Сильвена, искреннего признания. Но вот желал ли бы он снять с него обвинение — вопрос уже другой. И поскольку он по меньшей мере заводила в этой игре, то вправе прикидывать ходы и последствия. Однако игра приняла такой оборот, что он не всегда решается посмотреть правде в глаза. Факт то, что он ничего не может сделать для спасения Даниеля. Отныне надо полагать, что письмо и пистолет исчезли безвозвратно, а значит, Даниеля осудят.
Поцеловав мужа, Марилен уходит. А неотвязная проблема остается сверлить его мозг. Либо «вор» — некто затаивший зло на Даниеля, и в таком случае письмо и пистолет навсегда исчезнут, либо этот человек ненавидит его и в таком случае, используя письмо и пистолет в целях шантажа, станет вымогать у него деньги. Сильвен почувствовал, как почва словно ускользает у него из-под ног. Он закрывает глаза, сжимает кулаки и сосредоточивается на такой мысли: «Допустим, я вор, но меня интересуют не деньги Сильвена Дореля. Мне нужна его шкура. Я начну посылать ему выдержки из злополучного письма и стану доводить его до белого каления, пока он не разоблачит себя сам, опасаясь, что в противном случае я обнародую это письмо. И тогда ему останется либо смолчать, либо заговорить — в любом случае его карьере крышка. Более того, если Сильвен все же говорить откажется, добьюсь, чтобы о его подлости узнали журналисты. Подумать только! Человеку посылают фотокопию письма, с помощью которого он сможет доказать полиции, что хотел покончить жизнь самоубийством, а значит, Даниель Марсьяль не виновен, а он отмалчивается, спасая собственную карьеру. Он способствует осуждению безвинного! Так пригвоздим же подонка к позорному столбу! И пусть люди приходят смотреть на него и плюют ему в физиономию!..»
Сильвена прошиб пот. Он ищет, как бы себя успокоить. Поскольку он не может сказать, кто находится под подозрением — Даниель или же он сам, — это оставляет ему один шанс из двух. Раз вор не подает признаков жизни, тем хуже для Даниеля. Если он так или иначе объявится, это обернется катастрофой. Одно из двух. Орел или решка.
По счастью, подобные разгулы воображения, сжимающие ему горло, длятся не долго. Усилием воли Сильвен преодолевает их. Его мышцы, нервы, кости голосуют за жизнь, и он всплывает на поверхность, но иногда не обходится без повышения температуры, и тогда ему запрещают вставать, хотя вот уже два дня, как, поддерживаемый Габи, он делает свои первые шаги по палате. Ему также запрещено пользоваться телефоном, хотя аппарат у него под рукой и стоит ее только протянуть… эдакое постоянное искушение. В сущности, ему запрещено думать.
Габи лезет из кожи вон: все делает за него, обеспечивает контакты с внешним миром, то есть с падкими на сенсацию журналистами, которые околачиваются в больнице; она снабжает его газетами, в которых тайна дома в Нейи продолжает занимать полстолбца, случается, даже на первой полосе. Внимание публики переключилось теперь на то, что называют «случай Дореля». Неужто Дорель и вправду забыл, при каких обстоятельствах на него совершено нападение, или же он пытается кого-то покрывать? В споре на эту тему невропатологи приводят примеры амнезии, в частности как результат нарушенного кровообращения; в некоторых случаях она бывает продолжительной. Другие хроникеры, напротив, не без сарказма, напрямую говорят о симуляции. Так, например, Габриель Вуазен пишет, что Сильвен Дорель ведет себя благородно, а Гастон Мурье в «Экспрессе» заходит в своей оценке еще дальше. Его статья так и озаглавлена:
«Безупречное преступление
Зачем Сильвену Дорелю скрывать имя человека, покушавшегося на его жизнь? Ответ может быть лишь один: потому что он не может поступить иначе. И если искать обидчика в ближайшем окружении жертвы, расследование не составит никакого труда. Начнем с того, кто является самым близким для Сильвена Дореля человеком, — с его жены. Как установлено, она покинула телестудию не ранее чем через два-три часа после преступления. Врач-криминалист заявил, что жертва долго истекала кровью и была спасена только in extremis.[20] Следовательно, жена Дореля находится вне подозрений. Брат Сильвена Дореля, со своей стороны, провел весь роковой день подле своей матери, что подтверждают несколько свидетелей. Вопрос о его виновности даже не встает. Ищут ли виновного в более широком окружении? Мы припоминаем, что актер работал над фильмом „Вертер“ с его режиссером Жаком Семийоном и сценаристом Густавом Мейером; картину финансировала „Галлия-продюксьон“. Тут также алиби тщательно проверены. Под подозрением остается один Даниель Марсьяль, над которым и нависли тяжелейшие подозрения, но который свою вину отрицает. Если он не виновен, придется допустить, что преступление совершил человек-невидимка. Если же он виновен, то, несомненно, знает нечто такое, что вынуждает Дореля молчать. Вот почему тут уместно говорить о безупречном преступлении. Когда убийца, промахнувшись, оставляет жертву в живых, но заранее уверен, что она не выдаст его, имеешь дело со своего рода криминальным шедевром. Остается узнать, почему Дорель хотел бы пощадить Марсьяля. В этом, несомненно, и заключается вопрос вопросов».
Сильвен долго обдумывает эту фразу — прозрачно-ясную и абсурдную одновременно. Нет, Дорель не хочет пощадить Марсьяля. Что требуется узнать — это почему Марсьяль хочет пощадить Дореля, если только именно он и украл письмо и пистолет. В конце концов, ему было бы достаточно сказать: «Дорель хотел покончить самоубийством. Вот доказательства». А если он этого не говорит, значит, у него нет этих доказательств. И тогда остается одна гипотеза — о человеке-невидимке.
Этот Гастон Мурье, скорее всего, скрываясь под псевдонимом, разложил всю ситуацию по полочкам. Никто, за исключением Марсьяля. Войдя в кабинет мужа, Марилен нашла его там бездыханным, по всей видимости — мертвым, и тут же изъяла доказательства самоубийства, просто-напросто во избежание скандала. В этот момент она и не предполагает, что Даниель угодит в ловушку. И когда эта ловушка захлопывается за ее бывшим мужем, то объявить правду уже слишком поздно. Возможно, она даже и не против того, чтобы Марсьяля арестовали. Наконец-то она отыграется за все унижения, которые претерпела по его милости.
Честное слово, все получается очень складно. Если все это — дело рук Марилен, то он спасен. Но нет, исключено — ведь при таком раскладе она прочла бы письмо и, получив эту страшную пощечину, нанесенную им всем, уже не посчиталась бы ни с каким скандалом.
«Просто не знаю, что и думать. Как же мне все это осточертело! Ну что ж, будем считать, что это дело рук человека-невидимки», — заканчивает свои раздумья Сильвен.
И тут без всякого предупреждения заявляется Семийон. Семийон, который сотрясает воздух еще сильнее обычного. Он сменил дубленку на короткий поношенный макинтош. Швырнув его в изножье кровати, с веселым нетерпением пожимает Сильвену руку.
— Ах, Вертер, Вертер! — укоризненно говорит он. — Какого черта ты чуть было не дал угробить себя приятелю? И все же, понимаешь, я не склонен думать, что это Даниель. Он любитель заложить за воротник, но парень не злой. Ну а в остальном дело вроде бы идет на поправку, а? Хороший цвет лица! Свежая кожа! Ты еще дешево отделался. И когда же они выпустят тебя на волю? Ведь работать в этой конуре — не подарок. Тут нет даже пепельницы. У тебя там, конечно, будет вольготнее.
— Считай, деньков так через десять.
— Ладненько. Потерпим. Это не так страшно.
Схватив за спинку ближайший стул, он усаживается на него верхом.
— Хочу тебе также сказать, старик, что мне пришлось изрядно попотеть в поисках сюжета по твоей мерке. Он тоже хорош, этот Медье! Вообразил себе, что стоит щелкнуть пальцами, и такая история остановится перед тобой, как такси. Но у меня есть наконец недурственная идея.
Отогнув обшлаг рукава и взглянув на часы, он продолжает:
— Я купил по случаю старый «пежо», но у меня вечно нет монеток для автомата, а в некоторых кварталах с парковкой целая проблема. Так что объясню тебе в двух словах. Меня навели на след газеты, когда писали про твою везучесть. Везучесть — такая штука, которая прилипает к человеку раз и навсегда. Это какое-то колдовство. Однако в хорошем смысле слова, понимаешь, к первому встречному-поперечному она не приходит.
— Да это просто-напросто удача, — раздраженно перебивает его Сильвен.
— Не говори так, старик. Ты в этом ничегошеньки не смыслишь. Не такая удача, которая раз-другой выпадает в рулетке. А примета существа исключительного. Везучий человек проходит невредимым сквозь огонь и воду, ему не страшны аварии, он как бы человек, которому на роду написано выжить при любых обстоятельствах. Вот поэтому на сегодня тема везучести очень киношная. Это нечто сверхъестественное, но к религии никакого отношения не имеет. Сечешь?
— Допустим. Ну и что дальше?
— А то, что помимо темы везучести мне также потребовался персонаж, стоящий в одном ряду с теми, каких ты уже сыграл.
— Ты забываешь, что все они кончили очень плохо.
— Да, знаю. Просто я хотел сказать — персонаж симпатичный, элегантный, романтичный сверх всякой меры. Так вот, я нашел его. Более того, я его домыслил. Вообрази себе: герой с отличной фактурой. А? Офицер… И при всем при том — везучий. Не догадался? Это Бурназель, старик. Анри де Бурназель.
— Бурназель? Не тот ли, кто потопил свое судно?
— Э, нет. Ты перепутал войны. Мой Бурназель восходит к войне тысяча девятьсот тридцать третьего года в Марокко. Ах! Я изучил все досконально. Перекопал массу исторических материалов. Похоже, Бурназель был офицером исключительной отваги. Он стремительно бросался в атаку впереди своих солдат, и все вокруг получали ранения, тогда как он неизменно возвращался из сражения цел и невредим в своей форме красного цвета. Скажешь — везуха? Все дело в его одежде. Красный казакин с начищенными до блеска металлическими пуговицами. Доломан.[21] Тут я могу ошибаться, но мне видится такой вот длинный, до пят, китель, разумеется — красного цвета. И к нему синее кепи с маленьким полумесяцем над козырьком. В таком одеянии ты будешь смотреться как картинка, клянусь. Погоди, забыл главное. В один прекрасный день, а именно двадцать восьмого февраля тысяча девятьсот тридцать третьего года, Бурназель получил приказ свыше больше не надевать эту свою яркую форму, которая слишком бросается в глаза неприятелю. Он подчинился приказу и был убит.
Красиво, а? Какой фильм! Ясное дело, на съемки мы поедем не в Риф… А в пески Эрменонвиля, что тоже весьма эффектно. Мы также изменим имена. Мне очень нравится это звучное имя — Бурназель. Но мы не вправе распоряжаться славой национального героя по своему усмотрению. На сей счет Медье очень щепетилен.
— Согласен, — допускает Сильвен. — Идея интересная. Но это всего лишь идея. А не сюжет.
— Да-а! Тут ты просто припер меня к стенке. Потому что жизнь Бурназеля — прямая линия. Ни малейшего отклонения, ни малейшей шалости. Он был не из тех молодцов, которые живут в свое удовольствие. Так что нам придется додумывать. Но у меня как раз есть еще одна идея. Может, ты слыхал про отца Фуко?
— А как же!
— Он прожил бурную молодость.
— Вполне возможно.
— Значит, так… Ты следишь за моей мыслью? Мы берем отрезок жизни отца Фуко до обращения к вере и прививаем его к биографии капитана Бурназеля. У нашего персонажа будет молодость одного — с его проказами и карьера другого — с его везухой. И все останутся довольны. Тут тебе и шуры-муры, и идеалы.
— От целомудрия вы не помрете.
— Какое, к черту, целомудрие! От меня требуют историю. Я ее рожаю. Рожаю — это для красного словца. Мне остается сесть и написать ее, но в общих чертах у нас она есть. И если ты согласен, я пошел за сценаристом.
— За Густавом Мейером?
— Нет. Мейер — барахло. Он всегда воображает, что умнее его нет. А мне нужен сценарист, которому говоришь: делай так, и он делает, как ему сказано. Нет, я подумываю о Жераре Мадлене. Он неплох. Написал две или три вещицы, которые прошли не без успеха. Я приведу его к тебе, когда пожелаешь.
Еще взгляд на часы.
— Черт! Если со штрафом обойдется, считай, что мне повезло. Значит, мой план тебе ясен. Фуко, Бурназель, везуха. Убегаю. Скажи-ка, а ведь эта малышка, которая за тобой присматривает… меня бы долго уговаривать не пришлось. До завтра. Чао!
Тишина в палате восстанавливается. Сильвен обдумывает странный прожект Семийона. Но в сущности, не более странный, чем прожект «Вертера», а ведь он тогда соглашался. Что представляет собой сценарий, правдоподобный с виду, но лишенный стиля и еще не воплощенный в образы?
Это болванка — все равно что деревянный манекен для портнихи. Не следует торопиться, ввязываясь в это дело. Сначала навести справки. Прочесть, что написано об Анри Бурназеле. А потом предоставить действовать этому Семийону, чьей энергии Сильвен завидует. И очевидно, как только контракт будет подписан, объявится человек-невидимка, вымогатель, и потребует свои комиссионные, ибо сомнений нет — за тайной скрывается грязный шантаж в целях вымогательства. Теперь Сильвен в этом глубоко убежден. Из всех гипотез, какие он сформулировал для себя, такая — простейшая, а значит, и самая вероятная. Ну что ж — он заплатит. И снимется в фильме. Сыграет Бурназеля. И почему бы везучести Бурназеля не распространиться и на него самого?
Успокоившись, расслабившись, Сильвен дремлет до прихода Марилен. Милашка Марилен! Она помогает ему приподняться на подушке. Прибирает на прикроватной тумбочке. Какие новости? Так вот. Друзья Даниеля суетятся, пытаясь склонить общественное мнение в его пользу. Даниель выбрал себе адвокатом мэтра Борнава.
— Борнав поможет ему выйти сухим из воды, — говорит Марилен.
— Не скажи. Мне нанес визит Семийон. Он может кое-что нам предложить.
— Мне тоже?
Какой внимательной, какой трогательной она вдруг стала. Глаза преданной собаки, ожидающей ласки.
— Да, я так думаю, — говорит Сильвен. — Но не будем обольщаться. Поищи мне информацию об Анри Бурназеле. Посмотри в историческом разделе «Ларусса». Там найдешь полную справку.
— Кто такой этот Бурназель?
— Объясню тебе, как только разберусь с этим сам.
— Господи, когда же мне дадут стоящую роль?
Ее прямодушие обезоруживает. Она непреложно верит в свой талант. Ей и в голову никогда не приходило, что она ничего особенного собой не представляет. Мила, слов нет, но лишена подтекста, той женственности, какая составляет особую прелесть представительницы женского пола.
Сильвену ужасно хочется сделать ей приятное. Ему никак не удается припомнить, что именно написано о ней в том злосчастном письме. Что-то злое-презлое.
— Я прослежу, — обещает он.
Она присаживается в изножье кровати.
— Понимаешь, мне так хочется получить роль в духе тех, какие играет Фейер.[22]
Сильвен так и подскочил.
— Эдвиж Фейер? Ничего себе!
— А что? Думаешь, мне не сыграть даму из буржуазной среды?
— Я поговорю с Семийоном. Решаю не я.
— Ах! Вот видишь. Ты сразу идешь на попятную.
Сильвен спрашивает себя, а не будет ли он смешон рядом с Марилен. «Как жаль, что не все исполнители в фильме на уровне его сюжета!» Такие слова можно будет прочесть в рецензии. Марилен смажет его возвращение на экран.
— Не мучь меня, Марилен. Прошу.
Марилен направляется к зеркалу в туалетную комнату подновить макияж.
— Кстати, — бросает она, — я опять виделась с Шатрие. — Она произносит слова с паузами, так как одновременно подкрашивает губы.
— Что ему от тебя надо?
— Да все то же.
Она возвращается, глядясь в карманное зеркальце.
— Идиотские вопросы, — продолжает она. — В данный момент ему интересно, в какой позе я тебя застала — свисали ли у тебя руки или они лежали на письменном столе. И потом, не сдвинула ли я что-нибудь на нем невзначай, пока звонила в полицию.
— И что же ты ему ответила?
— Что он начинает мне надоедать. Что правда, то правда. Как будто у меня было время смотреть на то, на се и опять на то. Да я уже не знала, на каком свете нахожусь, и мои руки дрожали так, что я с трудом набирала номер полиции. Как ты глуп со своими вопросами. Стоит мне обо всем этом только подумать, я начинаю плакать. И немудрено.
Приложив к ресницам салфетку, она снова удаляется в туалетную комнату.
— Знаешь, — сообщает она оттуда, — дома тебя ждет обильная почта. О-о! Ничего интересного. Открытки с любезностями. Как если бы эти подонки, которые все эти годы тебя знать не знали, не переставали тебя любить. Считай, что Даниель оказал тебе неоценимую услугу. Кстати, угадай, что сказал мне вчера вечером по телефону Мерсье. «Сильвен наверняка вернется на экран. Эта пуля обернется для него крупным выигрышем!» Он в своем репертуаре, этот Мерсье. Занятный тип.
Марилен появляется снова, как новенькая, и старательно натягивает перчатки.
— Что бы такое принести тебе завтра, зайка?
— Несколько моих фотографий, пожалуйста. Я поставлю на них автографы для тех, кто мне сюда написал.
— Я могла бы сделать это за тебя.
— Мне необходимо хоть чем-то заняться. И подумай о Бурназеле.
Марилен уходит. Габи приходит. Никакой возможности побыть одному.
— К вам пришел какой-то господин и спрашивает, можно ли ему вас повидать. Его зовут Жерар Мадлен.
Сценарист! Он не заставил себя ждать.
— Разумеется. Пусть войдет.
Мадлен подходит к кровати. С виду очень моложав. Производит впечатление человека неловкого и смущенного. «Он робеет», — подумал Сильвен и испытал позабытую радость.
В руках у Мадлена защитный шлем, и он высматривает, куда бы его положить. На нем черная блестящая форма мотоциклиста. Он бесшумно садится на стул, как заблудившийся Фантомас.
— Семийон мне все объяснил, — поясняет он. — И попросил меня прийти.
Мадлен оглядывает палату.
— Вы считаете, мы могли бы приступить к делу прямо здесь?
— Нет, — отвечает Сильвен. — Мы будем работать у меня дома, но подготовить почву можно и тут. Не стану скрывать, у меня слабое представление о Бурназеле. Семийон упоминал про Риф. Что такое этот Риф?
— Сам я там не бывал, — чистосердечно признается Мадлен. — Риф — горный массив где-то на юге Марокко. Своего рода пустыня.
— Наподобие Сахары?
— Ничего похожего. Судя по нескольким снимкам, какие мне удалось раздобыть, там сплошной галечник. Вообразите себе Овернь, но при этом сплошь горные пики, осыпи, сьерры. И ни единой травинки. Потрясная декорация!
— Похоже, она вас очень вдохновляет.
— Это правда. По-моему, чтобы чувствовать себя там в своей тарелке, надо самому быть человеком непредсказуемым, крутым, неуравновешенным… сорвиголовой, один на один с отвесными скалами. Это важная ремарка для характеристики нашего героя.
«Литературщина чистой воды, — говорит себе Сильвен. — Он симпатяга, этот малый, но Семийон быстро отобьет у него всякую охоту разглагольствовать».
— Придется все снимать на натуре.
— Дорогое удовольствие, — возражает Мадлен, — но в нашем распоряжении Испания или Югославия.
— И с кем же сражался там Бурназель?
— Вот этот момент — самый щекотливый. Он сражался с берберами. И сколько бы мы ни переносили действие во времена колониализма, фильм предназначен для современного зрителя, который станет его смотреть сегодняшними глазами. Медье не хочется прослыть империалистом и расистом. Однако у меня есть задумка. Помните голливудскую картину «Пропавший патруль»? Там враг остается невидимым от начала фильма до конца. И это воздействует на зрителя гораздо сильнее, чем если бы на экране мельтешили бурнусы. Так вот, таким приемом можно было бы воспользоваться и нам.
— Но тогда вопрос, кто же убил Бурназеля, навсегда останется без ответа, — удивляется Сильвен. — А вы не боитесь тем самым загубить легенду о Бурназеле?
— В том-то и дело! — вскричал Мадлен. — В нашей истории нет и речи о том, чтобы показать забияку — критики нас за это сотрут в порошок, — но человека, смело идущего на смерь по мотивам, которых я пока что не знаю. Но мотивы эти наверняка любовного характера. Поняли? Так что враг остается у нас чем-то абстрактным, анонимным. В сущности, враг нашего героя — он сам, собственной персоной.
— Словом, вы подменяете сражение на поле боя психологическим конфликтом?
— Вот именно. Разве не такого персонажа вы хотели бы сыграть?
— Да, — задумчиво отвечает Сильвен. — Да, может быть. Я просто задаюсь вопросом, а не займусь ли я тут совращением героя, как совращают малолеток?
Мадлен рассмеялся.
— Да нет же, — говорит он. — Просто мы делаем сегодня фильм с образами прошлого. Иными словами, современный вестерн. Потому что приключения Бурназеля — вестерн чистой воды.
Сильвен перебрался из больницы домой. Ему все еще предписана осторожность. Он должен жить, насколько это возможно, в замедленном темпе. Перед его уходом Габи, расплакавшись, поцеловала его, и между ней и Марилен чуть было не разыгралась сцена, тем более неуместная, что их подстерегали многочисленные журналисты и фоторепортеры. Сильвену пришлось лавировать между вопросами двоякого рода: «А правда ли, что вы собираетесь сниматься?» и «К вам начинает уже возвращаться память?..» Марилен на ходу отвечала за мужа. Когда машина тронулась с места, к дверцам, как осенние листья, прилипли ладони и лица, а вспышки блицев хлестали Сильвена по глазам. Он чувствовал себя усталым и счастливым.
А между тем некоторые газеты все еще обрушивались на него, поскольку Даниель возвещал теперь о своей невиновности пуще прежнего. Мэтр Борнав заявил журналисту, бравшему у него интервью: «Я не подвергаю сомнению чистосердечие пострадавшего, однако не могу заставить себя не считать странной его внезапную утрату памяти, что наносит моему клиенту все больше урона. В конечном счете она оборачивается для него завуалированным обвинением. Не желая сваливать вину на бывшего приятеля, Сильвен Дорель предпочитает молчать, ссылаясь на то, что забыл сцену покушения, — а это позиция двусмысленная, равнозначная словам „я предпочитаю не вспоминать“. Но если Даниель Марсьяль не виновен, вопреки всему тому, что явно говорит не в его пользу, тогда я спрашиваю вас, кого же покрывает Сильвен Дорель?»
Это заявление наделало много шума. И Сильвен подумывает о том, кого однажды назвал человеком-невидимкой. Он ничего не может ни сделать, ни сказать. У него равные основания и для страха, и для надежды. Он подобен одинокому путнику под черным от туч небом. И его единственное прибежище — сценарий о Бурназеле. А тот продвигается ни шатко ни валко, так как Семийон все время разрывается на части. Он то звонит: «Еду!» — и не приезжает. А то ссылается на отсутствие времени, а минуту спустя заявляется впопыхах и удивляется, что Мадлена нет. «Безобразие! Я ему покажу! Завтра мы будем корпеть до тех пор, пока у нас искры из глаз не посыплются».
Сильвен собрал о Бурназеле все, что смог, — несколько статей, книгу. Оказалось, что этот прославленный герой — образ, дающий пищу как сердцу, так и уму. Сильвен живет в его обществе, восхищается им; он ощущает себя перед ним, как начинающий пианист перед Моцартом. Засыпая, он бродит по его стопам в горных ущельях, теснинах Северной Африки и по гребню Антиатласского хребта. Ему хотелось бы стать хищной птицей, чтобы летать над умопомрачительным переплетением оврагов, остроконечных отвесных скал и крутых обрывов в долины, откуда можно обрушиться на конвой горцев, уцелевших при сражениях в Атласских горных кряжах или в Тафилалеге; на шайки свирепых воинов, которые не берут врагов в плен…
Сильвену приходила на ум такая мысль: его папа был бы вполне достоин стать соратником Бурназеля. Возможно, аптекарь относился к людям той же закалки, что и этот офицер. И вот он, презренный Сильвен, воплотит такой характер на экране. Сыграть Вертера было бы куда проще. Передать отчаяние любви каждому по плечу. А вот хладнокровно принести себя в жертву!.. Ибо в конце концов Бурназель взбирался, можно сказать, ступенька за ступенькой по круче Бу-Гафера, заведомо зная, на что идет, не защищенный красным костюмом. Смерть подбиралась к нему все ближе: вот она в двадцати, пятнадцати, десяти шагах…
Сильвен думает о своем жизненном опыте. У него за плечами свой Бу-Гафер. Только он бросился в смерть не очертя голову, а подобно лунатику, который падает с балкона. Тогда как Бурназелю пришлось осознанно идти на неминуемую гибель, заведомо зная, что «это случится там». У Сильвена хватает воображения представить себе эту картину и, съежившись в кресле, оттолкнуть от себя. Нет! Такая роль ему не по плечу. Разве что Семийон придумает, как приблизить образ Бурназеля к нему. Почему бы у этого офицера не могло быть расхожих причин искать смерти? Да-да — резонов мужчины, а не резонов солдата. Но лучше всего было бы предоставить молодому сценаристу свободу действий. В конце концов, возможно, он-то и приближается к истине со своей дерзновенной идеей современного вестерна. Сильвен задает ему сакраментальный вопрос:
— А вы не считаете, что можно представить дело так, как если бы у Бурназеля имелись личные мотивы распроститься с жизнью? Не принизит ли это его образ?
Все трое собрались у него в кабинете. Семийон только что присоединился к ним. Он ест сэндвич.
— Не обращайте на меня внимания, ребятки. С утра некогда было пожрать.
Не переставая жевать свою ветчину, он задумывается и с полным ртом изрекает:
— Не слабо, старичок. Согласен — героизм заключается в том, чтобы умереть по мотивам, которые не являются личными. Но ты спросишь меня, кому нынче это по плечу? Разве что камикадзе, готовому пырнуть себя кинжалом за идею, хотя она и выше его понимания. Так вот, для меня это фанатизм. Фанатик — такой тип, который, проявляя героизм, получает свою долю личного удовлетворения!
— Выходит, — уточняет Сильвен, — вы не верите в самоотверженность?
— Нет. Если бы она существовала, было бы кому рассказывать истории рыцарей «Круглого стола», которые нынче годятся только для детей.
— Я тоже их люблю, — бормочет Сильвен, вздохнув с облегчением.
— Тогда поехали дальше, — предлагает Семийон.
Он встает, стряхивает крошки, прилипшие к брюкам, обходит письменный стол и приглашает Сильвена уступить ему свое место.
— Сначала мне нужно кое-что вам объяснить, — говорит он. — У меня уже давно есть своя теория, но она продолжает работать. Поскольку мы ведем речь об историях, я спрашиваю вас, а что такое история? Заткнись, Мадлен. Я обращаюсь с вопросом к Сильвену.
— Ну как же, — отвечает тот. — История — это рассказ, а что же еще?
— Садись, двойка. Ты не смыслишь в этом ни бельмеса. Чтобы история состоялась, твой персонаж, то есть ты сам, — главный герой. Правильно я говорю? Так вот, он должен натолкнуться на препятствие. Препятствие — вот что движет историей. Не веришь — возьми любой роман, любую пьесу. «Британик»[23] или там «Бубурош».[24] Эта теория находит себе подтверждение на каждом шагу. Ты либо убираешь препятствие со своего пути — пример тому Нерон, отравивший Британика, — либо препятствие не дает тебе вздохнуть — случай с Бубурошем. Я называю это коллизией.
— И что дает эта ваша теория Бурназелю?
— Тут я пас. Для того мы и собрались, чтобы это обмозговать. Первое, что пришло мне в голову, — у нашего героя мог быть карточный долг, вот вам пример препятствия. Не имея возможности его оплатить, он ввязывается в опасную кампанию и расплачивается собственной жизнью. Видишь, несмышленыш, на первый случай это сгодится.
— Именно про это вы и хотите рассказать? — спрашивает Сильвен сценариста.
— Нет, — протестует тот. — Мы не собираемся делать роман в фотографиях. Мы просто хотели вас приободрить. Покуда у нас нет под рукой ничего, кроме главного героя — Бурназеля (назовите его как угодно). Семийон стремится вам доказать, что, танцуя от этой печки, можно построить законченный сценарий, используя прием наплывов.
— Прием коллизий, — поправляет его Семийон. — Проблема в том, что нам неизвестно, какое препятствие не смог бы преодолеть Бурназель.
— А что, если правдоподобного препятствия не существуете?
— Тогда не остается ничего иного, как вернуться к отправной точке, — терпеливо объясняет Семийон, — и сделать Бурназеля оасовцем.[25]
Он раскатисто смеется.
— Ха! Ха! Мой цыпленочек. И кто останется при этом в дураках? Сильвен.
Глянув на часы, он вскакивает:
— Черт! Опять меня оштрафуют. К счастью, транспортные расходы оплачивает Медье. Продолжайте без меня. До завтра.
Они по-приятельски тузят друг друга.
Семийон насвистывает за дверью. С его уходом Мадлену и Сильвену больше нечего друг другу сказать. Только что они чувствовали уверенность. Теперь они во власти сомнений.
— Будь бы только у нас имя взамен Бурназеля, — вздыхает Мадлен. — Что ни говори, а историческое имя впечатляет.
Они ищут подсказку по путеводителю Мишлена… Департамент Дордонь… Носель?.. Не фонтан. Савиньяк? Не пойдет — оно ассоциируется с капитаном Фракассом. Марколес?
— Не звучит, — замечает Мадлен. — Это надо признать.
Имя Бурназель вызывает совсем иные ассоциации.
— Нашел, — кричит Сильвен. — Ламезьер!
Они жуют это имя, пробуют на вкус, осязают языком и губами. Да, Ламезьер, пожалуй, подойдет.
— Может быть, оно звучит недостаточно благородно, — замечает Мадлен. — Отдает нотариусом.
— Или сельским врачом, — отмечает Сильвен.
— Вот именно. Окончание на «…зьер» довольно распространено среди представителей буржуазии.
— А что, если назвать его де ла Мезьер? — предлагает Сильвен. — В три слова.
— Ах! Замечательно! — воодушевляется Мадлен. Но тут же мрачнеет, шевелит губами, вытягивает их, щелкает языком. — Де ла Мезьер, — медленно выговаривает он. — А вы не находите, что на этот раз возникает образ корсара? И даже немножко пирата? Но ведь наша история могла бы с таким же успехом разворачиваться и на воде, верно?
— Де ла Мезьер, — как бы читает по слогам Сильвен с отсутствующим взглядом дегустатора, гоняющимся за решающим нюансом привкуса, и не может удержаться от смеха. — Как будто мы пробуем сыр, — шутит он.
Внезапно у Сильвена сжимается сердце. Ведь покуда письмо и пистолет еще гуляют по белу свету, он не вправе смеяться.
— Ладно, — говорит он. — Проголосовали за де ла Мезьера. Но прошу вас, не станем повторять «Вертера», который в конце концов растягивался во все стороны, как жвачка. Я от этого слишком настрадался. Мы рассказываем историю солдата. И точка.
Они еще немножко поболтали. Мадлен отмечает, что не следует упускать из поля зрения тему везучести героя. Впрочем, Бурназель — он же де ла Мезьер — по собственной воле идет навстречу смерти, отказавшись от красного казакина, который оберегает его от погибели, и тем самым лишается шансов на спасение.
— Я думаю о душераздирающем финале, — в заключение говорит Мадлен. В отсутствие Семийона он не прочь разыгрывать роль режиссера.
Правда, и Семийон сплошь и рядом ворует у Мадлена его привилегии сценариста. Тут уж кто кому сильнее отдавит ноги.
Берта приносит почту, и Мадлен откланивается. Еще одна стопка писем. Но взгляд Сильвена зацепился за голубой конверт — наверняка из магазина стандартных цен, и его сразу осеняет. Адрес выведен палочками наподобие ростков бамбука. Эдакая затейливая китайская иероглифика.
Господину Сильвену Дорелю
30-бис, улица Боргезе
92200, Нейи-сюр-Сен
В конверте всего одна короткая строчка:
Это еще не конец, тоже выведенная бамбуковыми палочками.
Сильвену не хватает воздуха. Он упирается грудью о край письменного стола — в том самом месте, где пытался покончить собой, и замирает, словно боится, что при малейшем движении рана откроется снова. Итак, выбор сделан: принимаются за него, а не за Даниеля. Что же еще не кончено? Нервный срыв, толкнувший его на самоубийство? Выходит, эту фразу следует толковать как угрозу.
Сильвен пытается разгадать смысл подразумеваемой угрозы. «Это еще не конец». Однажды я довел себя до самоубийства. И начну заново? Нет! Скрытый смысл записки вовсе не в этом, с чего бы укравшему его письмо и пистолет стремиться уничтожить человека, который хотел себя уничтожить и без него и ни в ком не нуждается, чтобы все начать сначала? С другой стороны, должен же этот тип соображать, что его угрозы не могут восприниматься всерьез, поскольку адресованы тому, кому прекрасно известно — убийцы нет, а есть только незадачливый самоубийца.
Сильвен сжимает себе виски обеими руками. А не следует ли ему поставить в известность полицейского комиссара? Но ведь фраза-то сама по себе безобидная. Она может значить все, что угодно. Смысл, заложенный в ней, понятен ему одному. Послушайте-ка! А что, если таинственный корреспондент вовсе не тот субъект, который украл письмо и пистолет? Ведь он-то, как и полиция, предполагает, что его убийца промазал. В таком случае почему бы он вздумал рисковать и подменять его собой? Почему бы ему не дождаться момента, когда убийца повторит свой поступок? И более того. Данный субъект, само собой, думает, как и все, что жертва знает, кто покушался на ее жизнь, и не хочет его разоблачать. И поскольку считается, что я-то его знаю, зачем ему посылать мне анонимку? Я бы немедленно установил его личность. В таком случае зачем мне злостно утаивать его имя?
Сильвен чувствует себя заблудившимся в лесу гипотез, в туманных дебрях. Он перечитывает письмо снова и снова. «Это еще не конец». Обманывать себя бесполезно. Шантаж налицо. К чему доискиваться, а кто же украл вещественные доказательства самоубийства. Никто не мог их украсть, кроме человека-невидимки. Неоспоримо лишь одно: они находятся в чьих-то руках. Никто… кто-то! Эти слова дубасят Сильвена, как кулаками.
Появляется Марилен.
— Ну и ну! Я уже пять минут зову тебя обедать. Ты что, не слыхал?
Приоткрыв ящик письменного стола, Сильвен запихивает туда почту.
— Прости, — извиняется он, — я потерял счет времени.
Сильвен садится за стол. Есть ему не хочется.
— Дела продвигаются? — спрашивает Марилен.
— Я бы не сказал. У нас есть отправная точка, но все остальное пока что окутано мраком неизвестности.
Он с отвращением отодвигает коробочку с ампулами, содержащими тонизирующий препарат, который слывет очень эффективным. Тонизирующее средство для Бурназеля — это уже черный юмор.
— Как он — ничего, этот сценарист? — интересуется Марилен.
Она пытается завязать разговор, но Сильвен тянет с ответами. Нет, окончательный контракт еще не подписан. Надо подождать, пока сценарий оформится. Да, это дело нескольких дней. В конце концов, возможно… Все зависит от Семийона. Нет, они не забывают о хорошей женской роли.
— В сущности, — осторожно говорит Марилен, — тебе на это плевать. Да-да, достаточно на тебя посмотреть. Не знаю, о чем ты думаешь.
Она отодвигает тарелку, закуривает «Голуаз» и, выдыхая дым, стелющийся над жарким из телятины, уточняет свою мысль:
— Не знаю, о чем ты думаешь, но наверняка не обо мне. Как прикажешь это понимать: муж неделями не прикасается к жене?
— Ведь я был ранен, — оправдывается Сильвен.
— Хорошенькая отговорка! А теперь, не потому ли, что ты ранен, из тебя не выдавишь и словечка, ты дуешься, самое большее, что от тебя услышишь, — «добрый день — спокойной ночи». Ты витаешь в облаках, как впервые влюбившийся школьник. Любой женщине понятно.
— Понятно что? — вскипает Сильвен.
Марилен раздраженно гасит сигарету о край тарелки; тем не менее она еще сдерживается.
— Понятно, что ты завел любовницу. Она-то и стреляла в тебя, а ты не хочешь ее изобличить. Вот в чем заключается правда! О! Не трудись напускать на себя вид оскорбленной невиновности, бедняжка Сильвен. Уж мне ли не знать ваши мужские повадки. Не забывай, что я жила с Даниелем, который врал на каждом шагу. И он был мастак по части вранья — этого у него не отнимешь. А вот ты! У тебя на лбу написано; «Внимание! Я вру!» Так кто же она, эта любовница? И почему эта баба хотела тебя убить?
Сильвен слушает ее, испытывая чувство, похожее на равнодушное отчаяние. Стол между ними, словно неодолимая преграда. Теперь слова Марилен едва доходят до его сознания.
— Нет у меня никакой любовницы, — раздосадованно отговаривается он, словно имеет дело с придирчивым таможенником.
— Ты считаешь меня круглой дурой?! Прибереги придумку об амнезии для газет. Ты кого-то укрываешь — слепому видно. Если бы тебя ранил Даниель, ты бы давно сказал, ты был бы рад-радешенек от него избавиться. Кстати, посидеть за решеткой ему полезно. Будет время протрезветь.
— Нет у меня никакой любовницы, — твердит свое Сильвен.
Марилен извлекает следующую сигарету из пачки, по-прежнему лежащей возле ее тарелки, рядом с ломтиком хлеба. Ее рука дрожит, и пламя зажигалки тщетно ищет кончик сигареты.
— Заметь, я не делаю из этого драму, — говорит она.
Наконец-то сигарета прикурилась. Прикрыв глаза, Марилен вдыхает дым, словно живительный кислород.
— Я не делаю из этого драму, — продолжает она, — но и не хочу выглядеть кретинкой. Когда приятельницы, облизываясь, спрашивают меня: «Как поживает он, бедняжка? Какой ужас — потерять память в его возрасте», — это звучит так, будто я замужем за слабоумным старцем. Вот почему я спрашиваю тебя еще раз — как друг, а не мегера: кто она?
Сильвен передергивает плечами. К чему спорить? Что тут объяснять? Для придания себе веса он тянется к бутылке. Опережая его, Марилен ставит бутылку рядом со своим прибором.
— Прошу тебя, отвечай, — продолжает она. — И обещаю больше не возвращаться к этой теме. Ладно? Ты завел любовницу. Мне тяжело, однако в конечном счете это всего лишь преходящая неприятность. Но мне хотелось бы услышать, как такой неисправимый эгоист — уж я тебя знаю — умудрился настолько потерять голову, чтобы рисковать своей бесценной жизнью? Роковая любовь?
— Моя бесценная жизнь, — грустно бормочет Сильвен. — Знала бы ты, как мне на нее плевать.
— Давай, — настаивает Марилен. — Смелее. Хочешь, я облегчу тебе задачу? Эта баба приперла тебя к стене. Она предъявила ультиматум: «Я или она!» Но ты готовился играть Вертера. А Вертер и супружеская измена никак не вяжутся. И ты стал увиливать. Как это на тебя похоже! У нее иссякло терпение. И она хотела тебя прикокнуть. А ты играешь на публику, разыгрываешь благородного героя, куда там.
— Какой же ты можешь быть злюкой, — вздыхает Сильвен.
— Любящий становится злым, — объясняет она. — И ты испытал это на собственной шкуре. Взгляни на меня. Я люблю тебя — и я тоже, представь себе. И наверняка сильнее, чем она, коль скоро сношу и твое молчание, и твои выпады. В надежде, что тебе предложат роль, которая сделает тебя счастливым. Я почувствовала бы себя счастливой, зная, что счастлив ты, — да-да, это сущая правда. Ведь мне так мало нужно. Лишь бы сыграть время от времени хоть крошечную роль: горничной, няни, девушки с фермы. Я стала для тебя подобием силуэта, не так ли? Еще шаг, и ты меня забудешь.
Марилен стремительно встает из-за стола. Только бы не расплакаться у него на глазах. Она убегает и запирается в спальне. Сильвен остается один; его пальцы машинально разминают хлебный мякиш.
Послушавшись внутреннего голоса, он пошел бы умолять Марилен открыть ему дверь; все бы ей рассказал: «Я пытался покончить с собой. Нашло какое-то безумие. Прости меня». А она ответила бы ему со своей жестокой улыбочкой, какая была у нее только что: «Ты пустил себе пулю в сердце, потом, спрятав пистолет, уселся на прежнее место, готовый умереть? Такое достойно премии за лучшее исполнение мужской роли!» Он оказался в глухом тупике. И как сказал тот, другой: «Это еще не конец». Короткая фраза, которая сулит все, что угодно: ежечасную тревогу, невыносимые семейные сцены, бесчестье…
Сильвен наливает себе большой стакан вина, звонит Берте, приглашая ее убрать со стола, и уходит к себе в кабинет. Он пытается разобраться в создавшейся ситуации, но мысли разлетаются, подобно листве, опадающей по осени под порывами ветра.
Телефон. Тоска зеленая. Звонит Медье.
— Как поживаете, дорогой Сильвен?
— Мог бы и лучше.
— Да, Семийон так мне и сказал. Он считает, что вы чуточку рохля.
— Что-что?
— Думаю, он хотел этим сказать, что вам не хватает огонька. Нужно привыкнуть к его лексикону. Это правда, дорогой Сильвен? Сейчас не время дрейфить. Все, с кем я говорил о нашем проекте, в бурном восторге. Людям начинает приедаться вся эта серятина, наводнившая наши экраны. Разумеется, о том, чтобы повторить «Трех бенгальских стрелков», нет и речи. И все же почему бы нам не создать что-нибудь значительное и даже выдающееся? Знаете, что сказала мне вчера вечером Одетт Ферра — пресс-атташе в «Парамаунт»? «Вот роль для Дореля. Зря мы не привлекаем его к работе чаще!» Она права. Считайте себя мобилизованным, дорогой Сильвен. Вы нужны кинематографу! Вы еще не совсем оправились после ранения? Тем хуже. Отвечайте, как на перекличке: «Здесь». И вложите в этот фильм весь пыл своего сердца.
— Постараюсь.
— Спасибо. И можете на меня рассчитывать. Всегда готов вас поддержать.
Повесив трубку, Сильвен спрашивает себя: «И что меня дернуло сказать ему „постараюсь“? Я согласился плыть по воле волн. Я тухлятина, плывущая по течению».
Сильвен идет на кухню и, не осознавая присутствия Берты, сам готовит себе чашку растворимого кофе. Он хотел бы напрячь память, но та противится, не давая ему вспомнить точные выражения письма. Он вроде бы написал: «Вы, Медье, вы просто подлец…» Или, пожалуй, еще хлеще: «Вы настоящая сволочь!» Ну и видик же будет у этого Медье, когда письмо обнародуют, чего и следует ожидать. Его письмо — граната, от которой взлетят, к черту, и продюсер и фильм — вся постройка. Так почему бы не опередить события? Почему бы не сойти с трека немедля, сославшись на переутомление?
Сильвен расхаживает по кухне с чашкой в руке. Правда заключается в том, что, хотя надеяться больше не на что, он продолжает надеяться. Все последние годы он питал столько надежд, что это стало порывом, сдержать который в одночасье ему не по силам.
Уже не он цепляется за Бурназеля, а Бурназель цепляется за него. Но Бурназель — везунчик. Везучесть, которая способна охранить их обоих.
Снова телефон. Сильвен реагирует на его звонок, как собака на свист хозяина. «Опять надо идти!» И идет.
— Привет! — говорит Семийон. — Мадлен меня известил. Мезьер — это хорошо. В качестве имени предлагаю Альфонс. Это как раз на середине между Танкредом и Жан-Лу. Не вельможа, но и не плейбой. Потому как в делах подобного рода следует метить в самую точку. Ладно. Теперь вот еще что. Я раздобыл несколько фотографий Бурназеля. Не бог весть каких. Но оказывается, в те времена бравые мужчины носили усы. Генерал Жиро, генерал Катру — все как один усатые. Так что отращивай усы.
— Все, что угодно, — вскричал Сильвен, — только не это! Начать с того, что усы мне не пойдут. На худой конец, согласен на фальшивые, но не более того.
— Фальшивые! Шутить изволишь. На очень крупных планах это всегда бросается в глаза. А я как раз намерен снимать крупным планом под занавес, понимаешь, когда ты идешь на верную смерть. Так что давай! И не ворчи. Отращивай усы. Только без дураков. Не тонкие усики. Ты ведь не Зорро. А наподобие зубной щеточки — мужественно, но не выпячивая. Это дело трех недель. Что касается натуральных съемок, то я подумываю о Южных Альпах. Там есть засушливые места, которые подойдут нам один к одному. Я командирую туда на разведку своего ассистента. Ты, правда, с ним еще не знаком. Я вас познакомлю. Он приходится сыном нашему немецкому партнеру. Славный малый и киноман. Он с ходу загорелся, не в пример тебе.
— Что?..
— Да. Не в обиду тебе будет сказано. Невооруженным глазом видно, что ты никак не раскачаешься. Никак не подключишься к общему делу, как будто ты в него мало веришь. Но это придет. С завтрашнего дня работаем как черти. Мы доканаем эту историю. Кстати, если тебя осенит насчет названия — запиши. Название фильма — магнит, и нужно, чтобы оно притягивало, но ненавязчиво. Я дал такое задание и малышу Мадлену. Он предлагает «Побоище». Но это как раз из тех названий, каких следует избегать. Лично я хотел бы… Не знаю, чего бы я хотел. Что-нибудь броское, но в то же время благонамеренное. «Перст Божий»… «Третий час»… или же «Смерть праведника». Понимаешь, нам требуется благословение, и «Нувель обсерватер», и «Ла Круа». Если у тебя есть мозги, то самое время ими пошевелить. Чао!
Сильвен смутно припоминает, что именно он написал про него в своем письме: «Семийон — ваш сообщник…» Прочтя такую фразу, он озвереет пуще прочих.
Сильвен глотнул кофе. У него был горький привкус желчи.
Семийон является, как обычно, с опозданием. Он извлекает из кармана куртки банан, очищает его, комично напевая гнусавым голосом: «Люблю бананы — они без косточек». Затем плюхается в кресло, вытягивает ноги, зевая, подтягивает к себе пепельницу на ножке и бросает кожуру в ее чашу.
— Семийон до смерти устал, — изрекает он. — Ну так что вы придумали тут нового, ребятки? Что-что? Когда у вас такие физии, мне все ясненько.
Он достает трубку с обугленным бортиком и набивает ее большим пальцем в артритных узлах.
— А между тем все проще простого, и тут вовсе не требуются мозги вундеркинда. Ответьте-ка мне на вопрос, который я задал вам в прошлый раз: «Какое препятствие непреодолимо для нашего Альфонса де ла Мезьера?»
Молчание. Семийон глотает дым маленькими порциями, словно наслаждаясь чем-то вкусным.
— Как? — удивляется он. — Никто ничего не придумал? Послушайте, что такое, как правило, препятствие? А? По-моему, это ситуация, которая вам неподвластна. По причине слабинки в характере… Скажем так: недостатка, возобладавшего над всем остальным.
Семийон смеется утробным смехом, который разбирает его, как спазмы, отчего на сорочку сыплется раскаленный пепел. Он небрежно стряхивает его тыльной стороной ладони.
— Эти слова не мои. Успокойтесь. Так говаривал Мейер. У него была «теория семи смертных грехов», а у меня «теория коллизий». Мы с ним два сапога пара и, бывало, здорово чудили в Высшей киношколе. Заметьте себе, его придумка вовсе не так уж и глупа. В тот вечер мы подвыпили. Ничего крепкого и ровно столько, чтобы поразмыслить над своими возможностями. Мейер принимал себя за Канта. Мы спорили до одури. «Семь, — твердил он, перебирая пальцы и икая, — семь смертных грехов (ик!). Ты имеешь гордыню, зависть, ску… (ик!), то бишь сластолюбие… Сластолюбие — это мерзопакостно…» Он запутался в пальцах. Мне пришлось одолжить ему свои… «Чревоугодие, гордыня… Есть еще седьмой… Этот встречается… (ик!) редко». И он огляделся, словно только что его потерял. Я повел его к себе в библиотеку глянуть в словарь. Седьмым грехом оказалась леность.
Позабыв про все свои тревога, Сильвен от души смеялся. Чего бы он не отдал за такое вот умение балагурить, хорошо подвешенный язык, как у Семийона.
— Ну все, — сказал Семийон. — Хватит трепаться. Вам бы только шутки шутить. Итак: танцуйте от печки — от главного недостатка в характере нашего героя, — и вы получите желаемое препятствие. По Мейеру, существует семь драматических ситуаций, и только семь. Сейчас мы убедимся в его правоте. Начнем с гордыни. Итак, для нашего героя уступить в чем бы то ни было — тут выбор за нами — или не уступить — всегда вопрос чести.
Он стучит трубкой по ладони над пепельницей, и вокруг нее рассыпается пепел.
— Вообразите себе, что наш де ла Мезьер — своего рода сорвиголова. Его отец — высшее должностное лицо, ну, скажем, прокурор республики. Его мать, конечно же, из богатой семьи промышленников. А наш Альфонс отвергает все условности своей среды. Он проводит вечера на танцульках; затевает драки, попадает в аварии. Но все заканчивается для него благополучно. Беда обходит его стороной — не надо забывать про везение. В конце концов он идет добровольцем на военную службу. Но скверный характер остается при нем. Он вызывается участвовать во всех опасных операциях и продвигается по служебной лестнице. Короче, мы выходим на случай с Бурназелем. В моей подаче все это кажется несколько упрощенным. Но когда вы читаете в киноальманахе краткое содержание фильмов, шедевры и те кажутся не бог весть чем.
— А зависть — что дала бы она? — спрашивает Сильвен.
Семийон чешет за ухом кончиком трубки.
— Тут, милаша, дело тоньше. Это почти что твой случай, да не в обиду тебе будет сказано. Марсьяль и ты — приятели еще со школьной скамьи. Вы оба поступаете в театральное училище. Оба заканчиваете ее ex aequo. Оба влюбляетесь в одну и ту же женщину и по очереди женитесь на ней. Перенесем-ка все это на историю нашего героя и заменим кино армией. Там тоже один завидует другому и всячески старается обскакать соперника.
Семийон воодушевляется, вскакивает с места, подносит к глазу руку, закруглив пальцы в виде лорнета.
— Каждый из вас получил приказ взять высоту. Я вижу, как вы продвигаетесь под градом пуль. Чтобы сравнять шансы, Альфонс, сбросив казакин, устремляется вперед. И вот он выполнил задание первым. Но тут его сразила пуля. Великолепный кадр! Как бы это смотрелось! Волей-неволей, а зритель сопоставил бы жизнь и кино. Фильмы с ключом — ничего лучшего не придумаешь!
— Я пойду еще дальше, — изрекает Мадлен, еще не бравший слова. — Главный у нас, разумеется, Дорель. Поэтому нужно найти такой ход, чтобы его соперник, то есть Марсьяль, натолкнул его на мысль сбросить свой казакин, что было бы для него верным средством спровоцировать убийство ненавистного человека.
— Ах! Просто супер! — заходится Семийон. — Видишь, Сильвен… Но ты, похоже, не в большом восторге.
— Гм… дайте подумать… — бормочет Сильвен. — А не станет ли такой фильм похож на некую историю мести?
— Ну и что в этом плохого? — начинает возражать Семийон, но осекается.
Входит Берта с почтой в руках, и Сильвен, похолодев до мозга костей, оглядывает конверты. Ничего подозрительного. Помимо писем пришло два пакета.
— С вашего позволения, — извиняется он и вскрывает пакеты.
Два сценария! Сколько уже месяцев и даже лет ему никто ничего не отправлял, тогда как, бывало, с каждой почтой он получал сценарии, робкие предложения дебютантов или тексты, предоставляемые продюсерами на его суд. Сильвен растроган. Эти две рукописи наводят его на мысль о лососе, который возвращается метать икру в водоем после того, как воду очистили. А между тем в сердце его по-прежнему сплошная муть. Сильвен бережно укладывает пакеты возле телефонного аппарата.
— Итак, мы говорили…
— Мы говорили о грехе зависти, — напоминает Мадлен. — Похоже, ты не загорелся, тогда как мне думается, у нас в руках хороший сюжет, если копать его вглубь.
— Я предпочел бы сначала пройтись по всем вариантам, — настаивает Сильвен. — Что там у нас после зависти?
— Скупость, — сообщает Семийон. — Скупость — дитя тщеславия. К примеру, ты утаиваешь сведения, которые обязан был сообщить своему командиру. Допустим, ла Мезьеру дали задание разведать слабо исследованную территорию…
— Случай Ливингстона, — комментирует Мадлен.
— Точно. Он обнаруживает алмазные россыпи, а у него всего три нашивки и жалкие заработки. Разумеется, я опускаю перипетии, подвергающие его везучесть суровому испытанию: удав, львы — словом, картина тебе ясна. А в придачу на него нападают дикари, которых он непременно должен усмирить, если хочет…
— О! Хватит! — взмолился Сильвен. — Все это из арсенала фильмов категории «Б». А не могли бы мы целиться выше?
— Мы к этому уже подошли, — заверяет его Семийон. — Пока что мы примеряем варианты. Если ты останавливаешься на сластолюбии, то выходишь на избитую историю благородного сердца, загубленного ненасытной любовницей.
— Янингс в «Голубом ангеле»,[26] — говорит Мадлен.
— Отпадает, — сдается Семийон. — Мсье подавай что-нибудь новенькое? Тогда боюсь, что и обжорство нас далеко не уведет. Не сделать же из де ла Мезьера алкоголика? Или жертву ревности: капитан де ла Мезьер дерется на дуэли из-за женщины. Он убивает соперника, но теперь красавица от него с ужасом отворачивается. И тогда он добивается перевода в Марокко, где упорно ищет смерти, однако впустую — ведь он же везунчик.
— Чушь собачья! — решительно отмел Сильвен. — Пока вы не станете принимать эту историю всерьез, ни к чему путному мы не придем.
— Какой же он у нас, однако, сердитый, — говорит Семийон. — Итак, я продолжаю петь свои куплеты. На очереди — леность. Давай, лапочка, успокойся. Пробежимся по дорожке, пока не разогреемся. Меня лично устраивает вариант зависти.
Остановившись за спиной Мадлена, он кладет руки ему на плечи.
— Тебя тоже, а, несмышленыш? Чуешь? В этом что-то есть. Короче, танцуем от соперничества.
Он становится прямо перед Сильвеном.
— Пойми меня правильно, лапочка. Речь идет не о соперничестве мужиков из-за бабы. Или между спортсменами. А о соперничестве высочайшего класса, когда один заявляет другому: «Я значу больше тебя». Соперничество завоевателей полюса, если тебя больше устраивает. Это тебе уже не фильм категории «Б».
— Или соперничество между Маршаном и Кичнером, — встревает Мадлен.
Семийон хлопает себя ладонью по лбу — его осенило.
— Все в порядке. Если танцевать от этой печки, история выстраивается сама собой. Ах, дети мои, на сей раз у нас полный порядок.
Под тяжестью вдохновения Семийон плюхается в кресло. Воздев глаза к потолку и сведя кулаки под подбородком, он шепчет:
— Погодите… погодите… не перебивайте… Сильвен, ты капитан де ла Мезьер… Даниель Марсьяль тоже капитан… Вы знакомы еще со школьной скамьи в Сен-Сире, где готовят офицерские кадры, вы друзья-соперники… Вы поочередно женитесь на одной и той же женщине — следует использовать реальные ситуации всякий раз, когда это возможно. И вам обоим дают задание. Марсьяль отправится во главе колонны в Тимбукту и поднимется на север, навстречу той колонне, которой командует де ла Мезьер. Речь идет о необходимости составить карту дислокации непокоренных племен. Частые стычки с туарегами, везучесть — все это я опускаю… Важно, кто же пойдет скорее, проявит себя лучше, находчивей, смелее. Наконец обе колонны подходят с двух сторон к началу крутого спуска, где прочно обосновались повстанцы. Кто возглавит решающий натиск после многочисленных попыток, потерпевших провал? Победы добьется Сильвен, который и сложит там голову. Вот вам путеводная нить.
Он окидывает Сильвена взглядом портного, который снимает мерку.
— Тебя устраивает?
— В идеале, — вмешивается Мадлен, — хорошо бы, они играли оба. Один против другого. Марсьяль и Дорель! Вот это была бы афиша!
— Умоляю вас! — взмолился Сильвен.
— Он прав, — соглашается Семийон. — Если бы Марсьяля выпустили на свободу за отсутствием улик… И по-моему, все уже идет к прекращению уголовного дела за отсутствием состава преступления. Что бы тогда помешало вам играть вместе? Два соперника, которые примиряются на поле брани. Жизнь их противопоставила. Кино свело их вместе.
Он поднимает руку.
— Помолчи! Возражения потом. А сейчас дай нам заниматься делом. Мне уже видится потрясный сценарий.
Его прерывает телефонный звонок. Сильвен снимает трубку, слушает, шепчет в сторону Семийона: «Из секретариата Бувара».[27]
— Урра! — восклицает Семийон и без спросу хватает вторую трубку.
На другом конце провода слышится приглушенный голос, как бы извиняющийся за бестактность.
— Ходят слухи, что вскоре вы приступаете к съемкам…
— Да, совершенно верно.
— Правда ли, что это будет продукция «Галлия-продюксьон»?
— Правда.
— А не могли бы вы уже сейчас рассказать о распределении ролей?
— Это было бы преждевременно.
— Но вы, несомненно, получите важную роль.
— Конечно. И жена моя также.
— Кто ваш режиссер? Нам сообщили, якобы Жак Семийон.
— Так оно и есть.
— А сценарист — Мадлен?
— Совершенно верно.
— Хорошая творческая бригада. И разумеется, это Марсьяль стрелял в вас? (Смешок пересмешника.) Вы отказываетесь отвечать? А не согласитесь ли вы выступить по радио в программе Бувара?
Семийон мотает головой в знак несогласия.
— С удовольствием, — говорит Сильвен. — Только я все еще не в лучшей форме.
— Ну что ж, вам перезвонят. Спасибо.
— Уф! — выдыхает Семийон, пока Сильвен вешает трубку. — Бувар способен вытянуть своими вопросами всю подноготную, не успеешь и глазом моргнуть. Он Сократ по части светских сплетен. Я вовсе не желаю, чтобы о наших планах прознали слишком многое. Еще чуть-чуть — и он бы выведал у тебя все, как бы невзначай. Но очень хорошо, что они тобой интересуются.
— С вашего позволения, — говорит Мадлен, — я ретируюсь. Завтра я буду трудиться дома. Но послезавтра принесу законченный литературный сценарий. Согласны?
— Ступай, она ждет тебя не дождется, — шутит Семийон. — А тем временем мы, старики, еще немножко покорпим.
Дождавшись, пока Мадлен выйдет в сад, Семийон раскуривает трубку.
— Знаешь, ведь я твой друг, — начинает он. — Именно поэтому я безошибочно угадываю, что на душе у тебя кошки скребут. Давай выкладывай все начистоту, старикан. Без колебаний. У меня создалось впечатление, что ты все еще никак не оправишься после ранения. Возможно, нам следовало повременить, прежде чем привязать тебя к новому сценарию. А? Я прав?
— Да нет, не думаю.
— Тогда что же происходит? Ты перестал выходить из дому. А газеты хотя бы читаешь? Ты даже не осознаешь, что стал звездой, что твоя ссора с Марсьялем — главное событие этого месяца в Париже. Ты просто обязан воспользоваться этим обстоятельством, выходить на люди. О-ля-ля! Я знаю не одного человека, которые охотно поменялись бы с тобой местами. Но ты, похоже, чего-то боишься.
Сильвен молчит. Он с изумлением открывает для себя, что Семийон, быть может, ему и вправду друг. А почему бы и не Медье? И многие другие, кого он беспричинно ненавидел.
— Дело не в этом, — бормочет он.
— Ах! Ты говоришь со мной, как пациент с врачом! — вздыхает Семийон. — Может, тебе не по душе мой стиль работы? По-твоему, я разыгрываю из себя шута? Склонен халтурить? Ты хочешь, чтобы я себя раскритиковал?
— Сейчас я тебе объясню, — начинает Сильвен.
— Валяй! Давно пора.
— Бурназель… Не знаю, как бы это сказать… Я чувствую, что мне до него очень далеко — вот в чем беда. В моей жизни есть много такого, что он бы презирал.
Семийон дает время трубке погаснуть. Он удрученно смотрит на Сильвена.
— Предложи мне сыграть кого угодно, и я бы всей душой, — продолжает Сильвен. — Но только не Бурназеля!
— Начнем с того, — заявляет Семийон, — что Бурназеля больше нет. Есть де ла Мезьер. И потом, какого черта! Много ли ты знаешь актеров, которые сами были на высоте своих прототипов? Ты грезишь, право слово. Эй, проснись-ка, милый! Ты что, собираешься демонстрировать нам свои муки нечистой совести? В сущности, чего мы хотим, ты и я? Создать персонажа, который был бы живым, сложным, с плюсами и минусами, как и любой человек. А не бронзовую статую. Вот почему я думаю, что идея Мадлена хороша. Ты против Марсьяля. Но ты, как таковой, против такого Марсьяля, какого знаешь только ты один, поскольку много с ним общался. Вымысел? Лично мне на это плевать. Какой-то вымысел просто необходим. Но у каждого своя правда. Мне требуется твоя — вот и все. И если я заполучу также правду Даниеля, считай, что наша взяла. Ну как, по рукам?
— Попытаюсь, — смиряется Сильвен.
Он провожает Семийона до калитки, а на обратном пути обдумывает слова режиссера. Правда? Эта история соперничества двух армейских офицеров правду не выявит. Бурназель — человек, который меньше всего пекся о своей персоне. «Я, — думает Сильвен, — был обязан сразу же снять с Даниеля подозрения в покушении на мою жизнь. Что удерживает меня от этого?» Лучше такими вопросами никогда не задаваться.
Сильвен вскрывает несколько конвертов, зевает; он слышит, как в столовой Марилен разговаривает с Бертой. Почему это сегодня его не приглашают обедать? Он бредет в столовую. Марилен уже сидит за столом. Лицо злое. Настроение скверное. У Сильвена нет никакого желания ссориться. Он усаживается, как послушный ребенок, которого отругали. Но вскоре тишина, едва нарушаемая позвякиванием столовых приборов, становится невыносимой. Притворившись, что не замечает враждебности Марилен, он удовлетворенно сообщает:
— Сегодня утром мы славно потрудились.
Марилен не поднимает глаз. Он спешит присовокупить:
— Сценарий все еще не написан, но ты получишь хорошую роль. Хочешь, я тебе расскажу, на чем мы остановились?
Марилен кладет себе на тарелку еще ломтик семги, два листика салата. У нее непринужденные, естественные, чуть скучающие жесты путешественницы, которая обедает в ожидании поезда.
— Я уже говорил тебе про Бурназеля, — продолжает Сильвен. — Так вот, Бурназель…
Он рассказывает жене про жизнь и смерть офицера. Оспаривает ее возражения, как если бы Марилен участвовала в их беседе.
— Да, — говорит он, — такой вопрос невольно возникает. Но я бы ответил тебе… — Или же, силясь рассмеяться: — Такая мысль могла прийти в голову только женщине.
Марилен застыла, как глыба льда. Только ее взгляд переходит от застекленной двери к потолку. Она тут одна. Старательно жует, чтобы не располнеть. Наконец встает из-за стола.
— А десерт? — вскипает Сильвен.
Марилен выходит из столовой, не реагируя. Сильвен, швырнув на стол салфетку, звонит Берте.
— Что с ней происходит? — спрашивает он горничную.
— С мадам? Понятия не имею. Она не в настроении с самого утра. Вам письмо.
— Письмо? Какое еще письмо?
— Письмо как письмо. Мадам велела отдать его вам, когда она уйдет из дому.
— Ну так ступайте же за ним, чего вы ждете?
Берта возвращается и протягивает Сильвену конверт, который он немедля вскрывает. В нем лежит другой, сложенный вдвое. Узнаваемый почерк. Пальцы его дрожат, как при высокой температуре.
Мадам С. Дорель
30-бис, улица Боргезе
92200, Нейи-сюр-Сен
Старательно выведенные палочки. Он извлекает из конверта сложенный вчетверо листок бумаги. Его мысли забегают вперед. Они предприняли атаку на нее. Конец света! Развернув бумагу, он узнает свой почерк.
«Тебя прельстит перспектива выгодных контрактов. Даниель тебя не устраивал. О, этот зубовный скрежет за кулисами того, что вы осмеливаетесь называть „седьмым искусством“. Вы, полные ничтожества…»
Неизвестный принял меры предосторожности и, сняв ксерокопию с письма, рассылает фрагменты. Эти фразы еще сравнительно не так уж оскорбительны. Никакой возможности откреститься: Марилен прекрасно знает почерк мужа и, должно быть, уже извелась, задаваясь вопросом: что же все это означает? У кого находится письмо, предназначавшееся ей, которое Сильвен так и не отправил? Может, он написал его из желания сделать приятное своей любовнице? Ибо это странное письмо со всей очевидностью доказывает, что существует женщина, ради которой он решается писать всякие гадости. Даже купюры дают основание предполагать, что в письме еще немало других издевок. Что ответить ему на такие упреки? Какие оправдания могли бы оградить его от нападок жены?
Сильвен машинально складывает записку и возвращает в конверт. Он вернет его Марилен, жалобно признаваясь: «Я не знаю. Не понимаю». Ему не дает покоя тревожная мысль, неотвязная, как оса. Сколько бы он ее ни отгонял, она больно жалит его. «Признайся!» Но и это не выход из создавшегося положения. Ведь его правда смахивает на шутку сомнительного характера. Если он признается Марилен в том, что хотел покончить самоубийством, это будет не смешно — ведь пистолет исчез. С другой стороны, она вправе рассмеяться ему в лицо, если он попробует утверждать, что забыл про это письмо тоже.
Сильвен вызывает Берту.
— Постарайтесь припомнить, мадам действительно велела вам отдать мне это письмо, когда уйдет из дому?
— Да, мсье.
Внезапное подозрение толкает его в гардеробную. Но нет — оно оказалось ошибочным. Марилен ушла без вещей. В течение ужасной минуты он думал, что жена его бросила. При ее вспыльчивости, задыхаясь от бешенства, прочитав: «Все вы просто ничтожные людишки», она вполне была способна перебраться в гостиницу, а возможно, пойти на крайность.
Сильвену видится лишь один выход из создавшегося положения — отступиться. Отказавшись от роли ла Мезьера без объяснений, он погорит безвозвратно. Что он предпочитает: потерять фильм или потерять жену? Медье ему не простит. Но и от Марилен тоже ничего хорошего теперь не жди. Однако какой же страшный рок преследует его? Может, было бы хорошо посоветоваться с Тельмой? Но у него нет желания узнать про свое будущее. У него нет никаких желаний. Он перечитывает то место из словаря «Ларусса», где говорится о Бурназеле:[28]
«В последние дни перед отъездом на фронт его нервозность заметно растет — он даже и не пытается ее скрыть. Ему не сидится на месте. Им движет какая-то внутренняя тревога, прогоняя из кабинета, заставляя расхаживать по касбе,[29] скакать на коне по пальмовой роще, возвращаться за свой стол, чтобы тут же его покинуть, кружить по командному пункту».
«Я дошел точно до такого же состояния, что и он, я чувствую себя затравленным зверем. Чего от меня ждут? Чтобы я почитал себя за ничтожество? Сам по себе я ничего не значу, это верно. Но мой персонаж? Играю ли я Бурназеля или капитана де ла Мезьера, я не имею права искажать образ своего персонажа. Пусть даже он подается и несколько упрощенно, несколько условно — все равно я обязан оберегать его от искажений. Я имею полное право защищать свой внутренний мир».
Сильвен тоже не находит себе места.
Марилен вернулась поздно. Услышав шаги, Сильвен окликает жену, и она заходит в кабинет. В глазах ее никакого сердитого блеска. Неужто примирение возможно?
— Не знаю, что и думать, — говорит Сильвен, — ты ушла из дому так внезапно.
Марилен спокойно садится. Закуривает «Голуаз».
— Я навещала твою маму, представь себе. Бедная старуха! Ты визитами ее не балуешь.
— Как она поживает?
— Да так себе. Варикозные вены — штука болезненная. Она еле-еле ходит. Все время расстраивается. Из-за тебя. Из-за твоего брата.
Сильвен думает: «Продолжай. Говори. Это помогает преодолеть злобу».
— Приходил инспектор полиции. Наводил о нем справки, — продолжает Марилен. — В связи с угоном машины. Дело темное. Не сегодня завтра он угодит за решетку. И потом, ей хотелось узнать, правду ли пишут в газетах относительно твоего фильма. Знаешь, она страшно гордится тобой. А ведь гордиться-то нечем.
Сильвен протягивает руку — осмотрительно, словно боится вспугнуть птицу, и сжимает запястье Марилен. Она и не высвобождается.
— Читал? — спрашивает она.
— Да.
— Это написал ты?
— Да.
— Неужели ты думаешь, что мне и вправду не хватало Даниеля? Не хочешь отвечать?
— Я не могу.
— Это она вынудила тебя писать эти кусочки письма? Господи, до чего же мужчины глупы. А что это? — Наклонившись к его лицу, она проводит пальцем под носом. — Неужели ты воображаешь, что у нас на глазах пелена? Невооруженным глазом видно, что ты отращиваешь усы. Пока еще под носом у тебя только жалкий пушок, но через месяц ты станешь неотразим. Вот уж она обрадуется. А за усами, несомненно, последует развод? Стоит ли держаться за мужа-ничтожество? Только заруби себе на носу — на развод я не соглашусь. Никогда! И предам гласности письма, которые она не преминет заставить тебя писать.
— Не кричи.
— Но я не кричу.
— Усы мне понадобились по роли.
— Обманщик!
— И этот кусок письма — часть текста, который я набросал для самого себя. В тот день я был зол и подавлен. Одинок.
— Ты не был одинок — ведь кто-то завладел им и теперь шлет мне цитаты. Не станешь же ты морочить мне голову, утверждая, что у тебя его выкрали.
— Согласен, — бормочет Сильвен. — Тут все говорит против меня.
Марилен встает, иронически улыбаясь.
— Хорош он, капитан… как его там величают? Из тех, кто не осмеливается признаться, что заимел подружку, но все же да здравствует Франция.
— Клянусь, что…
— Ясное дело. Когда мужчине нечего сказать в свое оправдание, ему остается одно — давать клятвенные заверения.
Марилен нежно проводит ладонью под его подбородком.
— Милый Сильвен, — изрекает она. — А ведь твоя мама права. Уж лучше бы ты стал фармацевтом. Куда же ты поведешь меня ужинать?
— Разве ты хочешь…
— Ну да. Отныне ты от меня ни на шаг. Пусть она подыхает от ревности.
Странный вечер. Они отправились ужинать к «Липпу». Пожимали там множество рук. Сильвен пребывал как в тумане. «Да, понемножку, мерси… Сущая правда, я возвращаюсь издалека… Худшее уже позади… О! Это всего лишь проект… Ну что же, спросите у Семийона».
Автоматические ответы. Автоматические улыбки.
Марилен блещет всем, чем только можно. Блестят и драгоценности, и глаза. Для всех присутствующих она — олицетворение вновь обретенного успеха. Но пока метрдотель удаляется, она, не переставая улыбаться, шепчет:
— Вон та выдра, справа от меня, рядом с лысеющим толстяком, не говори мне, что это — не она!
В этой игре «обмен шпильками» Сильвен обречен на проигрыш. Он решает отмалчиваться. А Марилен забавляется, продолжая выводить мужа из себя.
— Ты выбрал этот ресторан неслучайно. Уверена, что она тоже находится здесь. Посмотришь — я вычислю ее.
Легкий поклон в сторону вошедшей пары.
— Ты тоже мог бы кивнуть им, — укоряет Сильвена Марилен. — Это же Бельяры. Ну и страхолюдина. Впрочем, все они страшненькие. Надеюсь, у тебя-то со вкусом все в порядке.
— Тебе не кажется, что ты перебарщиваешь?
— Так я всего лишь жалкое создание, — парирует она. — Разве не ты это написал?
Склонив к мужу головку как бы в порыве нежности, Марилен шепчет:
— На какие ласковые слова я вправе рассчитывать в следующем письме?
И тут он вспоминает фразу: «Ты самая бездарная актриса из всех, кого мне дано было встретить».
У Сильвена кусок встал поперек горла. Марилен наблюдает за ним и ехидно улыбается:
— Давай говори, не смущайся.
Он передергивает плечами.
— По-твоему, я уродка? Нет? Дело не в этом? Тогда, значит, ты все еще не простил мне, что я была женой Даниеля? Эта заноза осталась в твоем сердце?
Марилен умолкает, выжидая, когда помощник официанта закончит разделывать рыбу. Сильвен неприметно промокает лоб платочком из верхнего кармашка. Она близка к истине и остро чует запах ненависти, но еще не догадывается о ее силе. А вот после нового письма, которое получит, возможно, завтра и где прочтет: «Ты самая бездарная актриса…» Как можно такого рода оценки предать огласке?
Сильвен прикрывает глаза, пытаясь сосредоточиться. Чего ему, в сущности, страшиться Марилен? Она станет метать громы и молнии, осыпать его упреками. А потом будет вынуждена успокоиться. Она не из тех, кто растрезвонит на весь свет: «Сильвен утверждает, что я бездарь». Ему дышится уже легче. Розовое вино, на которое он налегает сверх меры, прочищает мозги. Сомнений нет — таинственный враг задумал его со всеми рассорить. Он разошлет каждому по порции письма: «Вы, Медье, негодяй каких мало…» или еще: «Мой брат, если бы он только посмел, свистнул бы у меня из-под носа лучшие куски…» Подумаешь! Медье наслушался еще и не такого. Николя не в счет. Значит, задетые персоны поостерегутся разглашать инцидент с письмом. Страшны лишь газеты. Попади его письмо на их страницы — и ему крышка. Но ничто не доказывает, что обладатель письма стремится именно к этому. Зачем ему губить свою жертву, если куда забавнее ее изводить?
Марилен наступает под столом ему на ногу.
— Ответишь ты мне наконец?
Сильвен смотрит на нее, но мысли его далеко.
— Извини, я задумался над нашим сценарием. Это твое соображение о Даниеле, который… Нам следует вернуться к этому разговору. Тема соперничества может быть увлекательной, и если ты не прочь нам помогать…
Сильвен угадывает, что Марилен уже готова сложить оружие. Она тоже одержима кино. Вначале роль. А ревность — увидим потом.
— Способна ли ты рассказать про свою жизнь с Даниелем? Нарисовать объективную картину?
— Конечно. В той мере, в какой это касается Даниеля. Я расскажу Семийону все, что он пожелает. Все же ты странный человек, согласись; тебя не поймешь. И если Семийон меня спросит: «Кто такой Сильвен?» — я буду вынуждена ответить: «Понятия не имею. Я даже не уверена, существует ли такой». Закажи мне мороженое, и вернемся домой. Все эти люди меня утомляют.
В тот момент, когда они позвали гардеробщика, прибежал метрдотель и протянул Сильвену меню.
— Господин Дорель, прошу вас… Для моей дочки. Она будет просто-таки счастлива.
И Сильвен черкает автограф.
— И вы, мадам.
Рука Марилен слегка дрожит.
— Благодарствую.
Домой они возвращаются молча. Сильвен направляется было в спальню для гостей. Марилен удерживает его за рукав.
— Ты покидаешь меня?
— Разве так не лучше?
— Дурачок!
— Сюрпризик от шефа, — объявляет Семийон.
Он приволок объемистый сверток и со вздохом облегчения водрузил его на письменный стол.
— Оттянул всю руку.
— Что это? — полюбопытствовал Сильвен.
— Сейчас увидишь. Подай-ка ножницы.
Семийон разрезает бечевки, туго перехватывающие грубую оберточную бумагу.
— Мой чемодан набит грязным бельем. Пришлось обойтись первым, что попалось под руку.
Расправив обертку, он извлекает на свет божий одежду из красной материи, закрученную в сверток как попало.
— Ваша шинель, мой капитан.
В развернутом виде шинель, придерживаемая за кромку рукавов, кажется впору великану.
— Набрось-ка на себя. И это еще не все.
Он швыряет на спинку кресла доломан, брюки, кепи.
— Придется все хорошенько отутюжить. Немного освежить. Попроси свою бабу… пардон… жену. Я вообразил себе, что мы уже в Африке. Только не вздумай донимать меня вопросами, соответствует ли этот костюм эпохе. Почем я знаю, как одевался этот Бурназель. Он был порядочным оригиналом. Я взял эти вещи напрокат, якобы для бала-маскарада. Как-никак, а костюм помогает создать себе представление о персонаже.
И тут является Марилен. Она еще незнакома с Семийоном. Сильвен знакомит их без излишних церемоний. Марилен сразу растаяла и сложила руки перед костюмом, словно он предназначен ей. Потом взяла шинель и, приложив к груди, очень по-женски, обернулась к Сильвену.
— Давай-ка примерь.
— Ты думаешь?..
— Разумеется, — говорит Семийон. — Нам не терпится посмотреть на тебя в этом облачении.
Он заговорщицки улыбается Марилен, пока Сильвен перекидывает на согнутой руке брюки и куртку.
— Куда пошел? — спрашивает Семийон.
— Я… в спальню.
— Тоже мне, красная девица. Не стесняйся! Он у вас всегда такой?
— Всегда, — шутит Марилен.
Сильвен смущен, счастлив и ворчлив в одно и то же время. Он сердится на них. Он сердится на себя за то, что сердится на них. Он чувствует себя смешным в этих брюках-юбке, которые топорщатся вокруг ног.
Семийон раскурил трубку и отклонил голову, как бы присутствуя при показе мод. Марилен восседает на подлокотнике.
— Что-то не так — материя топорщится вокруг левой лодыжки, — замечает Семийон. — Как ты считаешь?
Он обратился к Марилен на «ты», но тут же спохватился:
— Прошу прощения. На работе я со всеми на «ты». Ты не против?
— Да нет же, нет, — спешит заверить его Марилен.
— Шинель ему великовата, — продолжает Семийон.
— Ее несложно подогнать по фигуре, — успокаивает Марилен.
Они принимаются обсуждать эту проблему, как два профессиональных портных. Сильвен стоит перед ними неподвижно, с глупым видом. Манекен, да и только. Как ему хотелось бы остаться одному перед зеркалом и деталь за деталью выстроить образ своего персонажа.
— Поворачивайся, — велит ему Семийон, — только не спеша. Брючный пояс пришелся тебе явно выше талии. Ладно, сойдет и так. Теперь шинель. Очаровательно! Но со спины она висит. Марилен, у тебя найдутся булавки?
Та бежит в гостиную.
— Примерь-ка кепи, — требует Семийон. — Да нет же, опусти чуточку набекрень. Как Габен… помнишь, в фильме «Сердцеед»? Вот-вот. Отлично!
Марилен возвращается с булавками. Отложив трубку на письменный стол, Семийон опускается на четвереньки.
— Передай-ка мне булавки.
Он медленно ползает, носом касаясь пола, и разговаривает, приоткрывая только уголок рта, как арестант.
— Стой прямо. Тут что-то неладно.
— Вы чересчур укоротили, — замечает Марилен.
И вот она тоже садится на корточки. Сильвен не осмеливается наклонить голову и посмотреть, что у них получилось. Они ползают вокруг его ног, обмениваются советами, позабыв о нем и думать. Забавляясь, как два приятеля.
— Я укололся, — пришептывает Семийон. — Задал же он нам задачу, черт полосатый.
— Осторожно, — молит его Марилен. — Вы колете мне пальцы. Складка выше.
Наконец они отстраняются от Сильвена и по-портняжьи усаживают на паласе.
— Хорош герой — ничего не скажешь, — оценивает Семийон. — Ничего удивительного, если ему всю дорогу везет.
Вскочив на ноги, он хватает двумя пальцами материю, с тем чтобы растянуть шинель во всю ширину.
— Все дело в том, — объясняет он Марилен, — что парень спрятан в пальто, как тореадор за своей мулетой. Бык уже не знает, где же он. Пули тоже. Они наудачу решетят пальто и всякий раз мимо.
— Вы ни во что не верите, — выговаривает ему Марилен.
— Ошибаетесь, моя дорогая. Я железно верю в этот фильм. Мы вылезем из кожи вон, лишь бы попасть в «номинацию»,[30] как выражаются на голливудском жаргоне. Ступай, сынок. Поглядись в зеркало.
Он дружески хлопает Сильвена по заду, как будто подбивая на перевоплощение.
— Присоединишься к нам в столовой, — бросает Марилен. — Вы не откажетесь с нами перекусить? — обращается она уже к Семийону.
— И даже основательно поесть, — снисходит тот. — Я еще даже не пил кофе — забыл купить. Такова участь несчастных холостяков.
Сильвен прикрывает за собой дверь в ванную. Там висит зеркало, в котором человек в красном облачении отражается во весь рост.
— Бурназель, — бормочет он.
Глядя на себя в костюме очередного персонажа, Сильвен всегда волнуется. Он словно меняет кожу. Его мечта постепенно материализуется. Он начинает шевелиться, проверяет зрение, ощупывает рот, щеки. Бурназель оживает в своем облике — в красной шинели, которая вошла в легенду. Подобно Лазарю, он движется в царстве теней. Раздвинув полы, чего доброго, увидел бы еще на своем животе рубцы, а точнее, стигматы добровольного мученика. И к нему приходит желание сопротивляться противнику, вознамерившемуся его обесчестить. Личность, подобная Бурназелю, не капитулирует. Сильвен всматривается в свои глаза. Он силится распознать свою подлинную душу и говорит ей, сосредоточившись всем своим существом: «Я не позволю им превратить меня в посмешище!» И поскольку мальчишество всегда соседствует в нем с волнением, прикладывает руку к козырьку, отдавая честь самому себе.
Заметив Сильвена в тот момент, когда он возвращается за своей одеждой в кабинет, Берта так и застывает на месте.
— Как же вы хороши собой, мсье! Мадам должна вами гордиться. А что мне делать с этим?
Она протягивает Сильвену пакет. Не иначе как подарок. Бывало, он получал массу подарков — портсигары, зажигалки, часы-браслеты. Он разыгрывает пресыщенность перед Бертой, которая все еще смотрит на него восторженными глазами.
— Положите в прихожей. Вскоре последует много других. Не стоит беспокоить меня по мелочам.
— Чья это форма? — интересуется горничная, проводя ладонью по шинели.
— Спаги.[31]
На пороге столовой появляется Семийон с сэндвичем в руке.
— Пойду переоденусь, — докладывает Сильвен.
— Не надо, давай приходи как есть, мы на тебя еще не нагляделись. Клянусь, вдвоем вы способны произвести настоящий фурор.
— Вдвоем?..
— Ну да — ты и твой соперник. Забыл, что ли? Он будет одет в точно такую же униформу. Я только что пересказал наш сценарий Марилен.
Он усаживается на место, отхлебывает кофе.
— Она полностью согласна. Она, Даниель и ты — оживший роман. И я воспользуюсь им! Разумеется, Даниель пока что для нас недостижим. Даже если бы его и освободили из-под стражи, думаю, он отказался бы от роли. А жаль! Но он нам сейчас и не потребуется. Есть Марилен, которая опишет ваш любовный треугольник, расскажет нам все и без него. Понимаешь, главное для меня — узнать все подробности про вашу молодость: как вы встретились, что толкнуло Марилен вначале к Даниелю, а потом к Сильвену. Тебе это неприятно?
— Да, пожалуй, — признается Сильвен и смотрит на жену. — А тебе? Тебе приятно выставлять нашу жизнь на всеобщее обозрение?
— Подумаешь, — передергивает плечами Марилен. — На экране все будет переиначено.
— Вот так! — победно ликует Семийон. — Кинематограф непременно должен черпать материал в реальной жизни, если только мы не хотим возвращаться к пройденному — фильмам типа «Трое из Сен-Сира» или «Четыре белых пера». Что интересует меня — это годы, когда вы были еще студентами и Марилен почему-то два раза подряд выходила замуж за своих приятелей. Ведь в конечном счете все трое вы находились в приятельских отношениях. А приятели слишком хорошо знают друг друга, чтобы сочетаться браком.
— Да-а, — соглашается Марилен, — я знала их как облупленных. Мы вместе готовили сцену, подавали друг другу реплики, бесконечно шлифовали образы. Это все равно что жить голышом.
Сильвен слушает ее, стиснув зубы.
— Извини за вопрос, — говорит Семийон, — и решай, отвечать тебе или нет. Прежде чем стать мужем, Марсьяль уже был твоим любовником?
— Да… И Сильвен тоже. Особого значения это не имело. Когда готовишься к конкурсу, лучше уж заниматься любовью, чем глотать снотворное.
— Выходит, у тебя был выбор. С таким же успехом ты могла сначала выйти за Сильвена. Так почему же ты начала с Марсьяля?
— Лично я знаю, — резко вмешался Сильвен. — Она считала его умнее меня. Думала, он станет вторым Жуве.[32]
— Это правда? — спросил Семийон.
— Да, правда, — призналась Марилен.
— Ты вышла за него из тщеславных побуждений? Мне важно это знать, чтобы не дать маху в плане военной табели о рангах. Ведь два младших лейтенанта вроде бы имеют равные шансы продвижения по служебной лестнице, и все же генералом станет один, а не другой. Ситуация, схожая с «Большими маневрами» Рене Клера. И к тому же реалистичная. Вместо того чтобы стать жертвой игры, женщина ведет ее. Но почему ты бросила Даниеля ради Сильвена? Тоже из тщеславных побуждений?
— Конечно, — ответил за жену Сильвен.
— Тебе слова не давали. Пусть мне ответит Марилен.
— Сказать нелегко, — бормочет Марилен. — Пожалуй, я восхищалась Даниелем. И пожалуй, любила Сильвена. Честно говоря, не знаю. Знаю лишь то, что Даниель меня разочаровал. Он все испоганил.
— Он много пил?
— Да.
— Мне придется подыскать что-то другое, — решает Семийон. — Представляешь, какую морду скорчит Медье. Ба, нетрудно вообразить, что Даниель играет в картишки, залезает в долги.
— Так оно и есть.
— Просто замечательно! — ликует Семийон. — Смотрите, как все складненько получается. У нас фигурирует студентка Института искусств по классу живописи — сохраним богемную атмосферу… Мы потакаем дурным вкусам некоторых зрителей, но тут уж ничего не попишешь. Она частенько встречается с двумя курсантами Сен-Сира. Марилен подаст нам такой образ в лучшем виде. И в первой части фильма мы опишем перипетии отношений в любовном треугольнике.
— Выходит, главную роль играет тут Марилен, — отмечает Сильвен.
Семийон грубовато хлопает его по спине.
— Только послушайте его! Уже склочничает. Вот увидите — когда я представлю ему сценарий, он для сравнения пересчитает реплики, свои и своих партнеров. Ничего подобного, старик. Ведь умираешь у нас ты. Тебя и выбрали потому, что ты уже имеешь такой опыт. Я хочу сказать: ты это уже проходил. Когда актер — твой соперник — закроет тебе глаза в горах на пятачке, усеянном трупами, весь зал будет рыдать. Ах! Какая жалость, что Марсьяль в кутузке! А вас обоих ждет «Сезар».[33]
— Я запарился в этом облачении, — жалуется Сильвен. — Продолжайте работать, а я иду переодеваться.
Ему невмоготу. То ли от жары, то ли из-за того оборота, какой принял их разговор. По пути он хватает пакет, оставленный Бертой на столике в прихожей. Что в нем может быть? Он довольно-таки объемистый и для подарка тяжеловат. Адрес отправителя не указан. Сильвен сует пакет под мышку. Он думает над словами, которые только что изрек Семийон: «Перипетии отношений любовного треугольника». У него опять, и отчетливее прежнего, такое впечатление, что Семийон идет по ложному пути. Человек, который в молодости вел разгульную жизнь, подобно отцу Фуке, а впоследствии на него нашла божья благодать и он стал святым отшельником в пустыне, — таких примеров таинственного обращения к Богу хоть отбавляй. Во всем этом и по сей день остается много неразгаданного. Но в данном случае одно не вяжется с другим — существует натяжка в психологически неоправданном превращении молодого гуляки в человека долга, каким стал герой фильма в зрелом возрасте. Сильвена не покидает ощущение неубедительности: переход от «У Максима» к Сахаре — это еще куда ни шло, но вот от «Лидо» к Рифу — такое ни в какие ворота не лезет. И если поворот от разврата к вере еще допустим, то от некоторых излишеств к безумию героизма — в такое верится с трудом. Бурназель никогда не был распутником. Сильвен, актер Божьей милостью, уверен, что Семийон трактует его образ произвольно. В угоду зрелищности фильма. Правда характеров — это премило. Но есть еще низменная правда — перипетии отношений любовного треугольника. Кроме того, Сильвена волнует мысль, которую он затрудняется сформулировать, но она травит его душу, как ностальгия, утрата… Уже тогда, когда он делал ставку на роль Вертера…
Перерезав бечевку, Сильвен обнаруживает под оберткой коробку, похоже из-под обуви.
«Только бы мне состояться, — думает он. — Не как мужчине — на это он, пожалуй, не способен. Но как актеру. Таков единственный способ вырваться из оков и чего-то достичь…»
Сняв крышку, Сильвен невольно отпрянул, как перед змеей. На ватном ложе в коробке лежит пистолет — тот самый, каким он хотел покончить с собой. Он узнает его шестым чувством. Легкие царапины на рукоятке… и потом… и потом все остальное. Он так часто смотрел на него, снова и снова переживая эту сцену: черный «ситроен», остановившийся перед аптекой. Двое мужчин в черных фуражках с лакированным козырьком, черных шинелях, черных перчатках… Гестаповцы…
Выходит, страшный момент настал. Пистолет — последний из друзей. Бедный папа! Колебался ли он? Ни единой секунды. Сильвену известно, как кончают с собой. Между ним и его отцом, которого он не знал, существует нечто большее, чем кровное родство. Есть соучастие братьев по оружию. Он осторожно вынимает пистолет и тут обнаруживает, что магазин пуст. В стволе ни одной пули. Пистолет обезврежен. Тогда почему враг послал его?
Сильвен возвращает оружие на ватное ложе, напряженно прислушиваясь к всплескам речей Семийона, которые доносятся из столовой. Только бы его не застукали с этой уликой в руке. Он маскирует коробку рядом книг на библиотечной полке. Руки приходят в движение. Он раздевается. Бросает на кресло красную униформу спаги. Почему ему прислали этот пистолет, а не очередную выдержку из его письма? Может, сочли, что настала пора положить конец испытанию? Может, дали понять, что ставят на этом точку и отныне он может жить спокойно? Возможно, маленькая война закончена?
Сильвен машинально натягивает брюки, пуловер. Он пока еще не решается обрадоваться. И не без основания. Ибо его потрясает новая мысль. С этим пистолетом он при желании мог бы доказать полиции, что хотел покончить жизнь самоубийством. Там у них имеются специальные приспособления для опознания оружия, выпустившего пулю, извлеченную из тела. Разумеется, его спросят, а где же находился пистолет все это время. Извините, это уже их не касается. Им придется принять факт как таковой. С того момента, когда он, считавшийся жертвой покушения на жизнь, сдаст полиции револьвер, из которого в него стреляли, и заявит: «Я пытался наложить на себя руки», все встанет на свое место.
Сильвен застывает, как если бы малейшее резкое движение грозило нарушить ход мыслей.
«Да, — говорит он себе, — теперь все объясняется. Я лгал, утверждая, что якобы забыл сцену, разыгравшуюся в моем кабинете. На меня никто не нападал. Я сам поддался импульсу самоуничтожения». Вопрос: «Но как вы умудрились спрятать пистолет?» В ответ — молчание. Пусть комиссар думает что угодно. Вопрос: «Прослушали ли вы сообщение Даниеля Марсьяля, записанное на автоответчике?» Ответ: «Нет». И это сущая правда. Вопрос: «Коль скоро вы могли передать нам пистолет, то почему довели дело до облыжного обвинения Марсьяля?»
Тут ноги Сильвена подкосились, и он был вынужден сесть, не в силах унять бешеное сердцебиение при мысли, что теперь, вновь овладев пистолетом, может неопровержимо доказать факт самоубийства, а значит, и вызволить Даниеля из тюрьмы. Безотлагательно! И что тогда? К воротам тюрьмы устремится свора фоторепортеров, журналистов. Газеты запестрят крупными заголовками: «Невиновность Даниеля Марсьяля наконец признана!», «Судебной ошибки удалось избежать!». На телевидении начнется ажиотаж. И успех опустится на плечи Даниеля, подобно райской птице…
«Нет, только не это», — бормочет Сильвен. Ибо ему видятся еще и другие заголовки на первых полосах газет: «Вероломство Сильвена Дореля»… или же: «Коварство»… или же: «Предательство». Слова, ранящие до крови. Он вспомнил, что однажды, в больнице, угадал то, что происходит с ним сейчас. Но тогда это было умозрительно… и еще терпимо. А вот сейчас…
В соседней комнате гогочет Семийон. Не иначе как хорохорится перед Марилен. Сильвен сжимает кулаки. Он прекрасно видит — его хотят припереть к стенке. Хватит ли ему мужества донести на самого себя? Или же ему следует помочь, толкать его, честного и отважного офицера?
Семийон показывается на пороге столовой.
— Идешь? — спрашивает он. — Нечего переваливать всю работу на мои плечи!
Три дня они работали без передышки. Мадлен являлся каждое утро ровно в девять. Вслед за ним — Семийон, полный бодрости, чертыхаясь из-за неурядиц с контролерами на автостоянке. Марилен, заглянув в кабинет, просила вызвать ее в случае необходимости. И они впрягались. Мадлен сидел за письменным столом, чтобы фиксировать ценные идеи и реплики — не доведи господь что-нибудь забыть; Семийон, не присаживаясь, расхаживал из угла в угол, приставляя ладонь козырьком, словно ему режет глаза яркость его гениальных озарений. Жизнь втроем возобновилась: ее месят, перебирая на тысячу ладов. «А что, если…» — начинает один, предлагая новый краткий вариант содержания, который прочие вежливо выслушивают. «А что, если…» Неужто это наконец та счастливая находка, которая послужит основой сценария? Они спорят до одури, в очередной раз идут по ложному пути. «Это напоминает мне историю», — начинает Семийон. Истории — его слабость. У него полны ими карманы, и он сопровождает свой рассказ жестикуляцией, как если бы кормил голубей. Он заливается смехом, красный как рак, доходя до икоты: «Ну? Ну? Здорово, правда?» А секунду спустя напускает на себя серьезность: «И все это не то! Наша телега что-то никак не сдвинется с мертвой точки».
Он набивает трубку и, сменив тон, доверительно сообщает: «Я нашел ему имя, нашему субчику, — Раймон Вильдье. Чтобы вечно не повторять: Даниель… Марсьяль… Тем более что если Марсьяля даже выпустят на свободу — заметьте, презумпция невиновности еще не есть ее доказательство, — то весьма сомневаюсь в его желании работать с нами. Я предположил такое сотрудничество без всякой надежды на его согласие, сами понимаете. Итак, у нас есть де ла Мезьер и Вильдье. А между ними двоими — девушка, пока еще безымянная. Условно назовем ее Катрин. Так что же может произойти между ними троими? Знаю, в общем и целом мы себе это уже представляем. Но теперь мне нужна раскадровка. Слышишь, Мадлен?»
И они снова погружаются в свои мысли. Сильвен старается не думать о пистолете.
— Неприятность заключается в том, что с офицерами у нас будут связаны руки. Вот имей мы дело со студентами, и они были бы развязаны. Я даже задаюсь вопросом, а не следует ли нам отказаться от армейской среды?
Семийон передергивает плечами.
— Видал, какую морду скорчил наш Сильвен? Он сейчас как рассвирепеет. Однажды ему уже насолили, когда, посулив Вертера в полном объеме — со всеми вздохами и ахами, — потом урезали до карманного формата и под конец отняли самоубийство. Так что сейчас мы одной рукой отнимаем Бурназеля, которого предложили другой!..
Пауза. Наконец Мадлен отваживается:
— Да какие тут могут быть, к черту, свидания? Парни из Сен-Сира большую часть времени безвылазно находятся на полуказарменном положении. Так что судите сами, насколько правдоподобно это соперничество из-за девушки-парижанки!
— Верно, — уступает его доводам Семийон. — Но ведь оба наших молодца, готовясь к поступлению в Сен-Сир, жили в Париже. Я живо себе представляю их на подготовительных курсах. «Генрих Четвертый», или как там — «Людовик Великий»… А значит, любовный роман у них завязался еще в Париже. — Он шагает от стены к стене. Загорается. Перед его глазами уже сменяются кадры фильма. — Куда занятнее, — утверждает он, — если в завязке им по восемнадцать лет.
— И это при всем том, как они выглядят сегодня? — не без ехидства спрашивает Мадлен.
Семийон застывает на месте, словно громом пораженный.
— Зараза! А ведь ты прав.
И все-таки обескуражить его невозможно.
— А мы чуточку состарим. Натянем годков так на двадцать. Подгримируем. Представим дело таким образом, будто они два или три раза не проходили по конкурсу. И даже, слушай сюда, пусть Вильдье поступает в академию на год раньше ла Мезьера. Не в обиду тебе будет сказано, Сильвен. Это же вовсе не означает, что ты осел и мы условились, что ведешь игру ты. Хе-хе, ребятки, все становится на свои места, и вы прямиком выходите на бракосочетание с Вильдье, свадебную церемонию по всей форме — скрещенные шпаги над головой жениха и невесты и прочее. Лучше не придумаешь, уверяю вас. Сынок, пометь-ка все это у себя.
Несмотря на тоску смертную, Сильвен поддается общему настрою. Но теперь он уже твердо знает, что Семийон идет по ложному пути и эти телячьи восторги завершатся дешевкой. Но он знает и то, что его имя во вступительных титрах не появится. Он никогда не станет этим альфонсом де ла Мезьером. Ему было бы нелегко объяснить почему. Такая уверенность пришла к нему постепенно, как приходит заря или сумерки. Никакого отношения к разорванности его сознания это не имеет. Все куда тоньше и проще; его мысли как бы принимают другую окраску. И на душе наступает умиротворение. В нем творится нечто таинственное. Остается дать этому «нечто» созреть. А пока ему забавно внимать Семийону, поддакивать тому кивком — он так нуждается в одобрении, чтобы собраться с силами.
Около одиннадцати Сильвен устремляется в прихожую. Берта как раз выкладывает почту на ломберный столик. Он пробегает глазами адреса. Ничего тревожного. И он возвращается на свое место.
— А что, если… — говорит Мадлен.
Утро близится к концу. Марилен зовет их обедать. Она предпочитает держать их под рукой — если Семийон уводит Мадлена из дому перекусить, до пяти вечера их не жди.
— Сардины в масле, рагу, камамбер. Меню вас устраивает?
— Ты — королева, — отвечает Семийон.
Они шумно рассаживаются в столовой. Семийон самовольно берется раскупоривать бутылки.
— Это напоминает мне одну потрясную историю, — завладевает он разговором. — Я работал тогда у Франжю ассистентом, и мы снимали документальную картину. Действие происходило в Вандее, в средневековом замке — заметьте себе, всамделишный замок, без дураков, с галереей навесных бойниц, подъемными мостами и все такое прочее!
Рассказчик он замечательный. Переходя к эпизоду про лошадь, которая, закусив удила, понесла галопом по настилу, и подъемный мост зашатался, засунув салфетку за ворот, Семийон встает — он и есть обезумевшая, заартачившаяся лошадь. Так и хочется ему аплодировать.
— Пришлось взбивать яичные белки, имитируя пену на лошадиной морде, — в заключение говорит он. — Это была кляча, которую впрягали в катафалк, — ее одолжил нам местный мэр. Другой лошади под рукой не оказалось.
Марилен прыскает со смеху. Она пожирает Семийона восторженными глазами. Наконец-то она заполучила его, своего режиссера. Может, он и приведет ее к триумфу.
— Угощайтесь, — настаивает она. — Вы ничего не едите.
И Семийон ловким движением запускает в рот остатки рагу.
— Кстати, о Даниеле Марсьяле больше ни гуту, — сообщает он Марилен.
— Ах! Это мне больше по душе! — вскричала та. — Даниель тут, Даниель там — я уже сыта этим по горло. Знаете, ведь мне это неприятно.
— Отныне его зовут Раймон Вильдье, — твердо заявляет Семийон. И сурово добавляет: — И с Бурназелем покончено, как с Марсьялем. Первый, кто упомянет эти имена, платит штраф.
Сильвен его одобряет. Он понимает, что Семийон, сам того не желая, сжигает все мосты. С одной стороны ла Мезьер, который перестал его интересовать, а с другой — Бурназель, воплощающий лучшее, что есть в нем самом.
После десерта они устраивают себе длинный перекур с кофе, и Семийон подводит итог.
— Видишь ли, — обращается он к Марилен, — что меня смущает, так это время действия. Эта эпоха так далека от нас. Подумать только, этот Бурна… пардон, ла Мезьер родился в тысяча восемьсот девяносто восьмом, следовательно, в тысяча девятьсот восемнадцатом ему было двадцать. Выходит, я должен показать в картине — как это тогда называлось? — «безумные годы». Ты себе представляешь, какая это работа, какие расходы? К тому же я плохо чувствую эту эпоху. Само собой, вместо войны в Рифе можно было бы подыскать что-либо другое. Существуют Индокитай, Алжир, Латинский квартал в годы войны в Алжире почти что стоит мая шестьдесят восьмого! Наш треугольник мог бы образоваться во время какой-нибудь уличной демонстрации. Только ведь при таком раскладе был бы утрачен эффект красного казакина. Конечно же, рядом с ней белесая форма парашютиста не идет ни в какое сравнение. С другой стороны, признайся, потребуется немалое нахальство, чтобы построить фильм, который держался бы на одном лишь эффекте костюма. Сильвен, тебя не затруднит примерить его еще разок?
Сильвен направляется в кабинет, где на стуле лежит аккуратно сложенная форма спаги. Берта идет следом.
— Я не решилась повесить ее в гардеробной, — извиняется она. — Ведь эти господа приходят сюда каждый день. И еще я не хотела вас беспокоить. На ваше имя пришел пакетик. Его доставили с утренней почтой — в одиннадцать часов. Наверное, подарок. Но мсье не велел себя беспокоить ни по какому поводу. Так что я оставила его на кухне.
— Ступайте за ним.
Он слышит голос Марилен.
— Берта! Сливовой водки! — кричит она.
— Водку принесете потом, — распоряжается он. — Быстрее на кухню!
До возвращения Берты Сильвен успевает снова облачиться в брюки и алый доломан. Она протягивает ему пакетик, и в самом деле малюсенький. Наклейка с машинописной надписью — копия той… Дрожащей рукой он хватает с письменного стола нож для разрезания бумаги. Вспоров упаковку, обнаруживает деревянную коробочку с крышкой, которая скользит по пазам. На ватном ложе, как драгоценность, блестит патрон калибра 7,65. Он прекрасно знает, что именно 7,65. И не только это. Три шага — и он уже в библиотеке, где извлекает из тайника пистолет. Сунув патрон в магазин, без труда досылает его в ствол. Ему приходит в голову безумная мысль: «В меня стреляют». Звучит абсурдно, а между тем так оно и есть. Выждав три дня, несомненно предоставляя ему время прийти с повинной, теперь ему досылают пулю, как бы открывая по нему огонь. Другого толкования нет. Чего от него ожидают, стало ясно как божий день: либо он заговорит и оскандалится на всю оставшуюся жизнь, либо смолчит даже сейчас, и тогда…
Из соседней комнаты его вызывает Семийон:
— Ну какого шута ты там валандаешься? Сколько тебе нужно времени, чтобы одеться?
— Уже иду, иду, — успокаивает его Сильвен. — Минутку.
Оставив револьвер в библиотеке, он набрасывает красное пальто на плечи. «В меня стреляют», — повторяет он про себя.
Когда он входит в столовую, Семийон присвистывает от восхищения.
— Как бы я ни брыкался, — признается он, — а этот костюм продолжает меня потрясать. А вас? В нем определенно что-то есть. Давай ходи! Пока ты у меня на глазах, мне скорее придет на ум, как нам его обыграть.
Сильвен делает несколько шагов, и Семийон его останавливает.
— Не так, старина, ты движешься как манекен, а мы не на показе мод. Этот костюм должен стать для тебя второй шкурой. Доставь мне удовольствие — носи его дома постоянно. Да-да! Работай в нем. Жри. И все прочее.
— У Сильвена утомленный вид, — замечает Марилен. — У тебя что-нибудь не ладится?
— Просто эта штуковина оттягивает ему плечи.
Он доливает в ликер на два пальца водки.
— Держись, капитан! Твое здоровье. Еще один, кого бедуинам не одолеть. Жать, однако, — продолжает он, — что это чертово пальто появится лишь во второй части фильма. Поэтому предлагаю следующее. Мы начинаем с атаки. Свист пуль. Этот… не Бурназель, а как его там? Ла Мезьер. Никак не привыкну. Так вот. Ла Мезьер перезаряжает ружье. Пули уже изрешетили его пальто. Фельдъегерь… Так, что ли, его называют? Словом, парень, который передает приказы свыше. Так вот, он является с приказом капитану сбросить пальто. Мадлен, ты во всем этом потом разберешься. Слышь?! И, лишившись своей везучести, Мезьер смертельно ранен. Перед глазами умирающего проходит вся прожитая жизнь. Flash back.[34] Таким образом, фильм и начинается красным доломаном, и завершается — кто-то накрывает им труп. «Дзинь! Дзинь!» — под занавес играет духовой оркестр. In ze pocket,[35] птенчики мои.
— Flash back вроде бы уже вышел из моды, — не без ехидства ввернул Мадлен.
Похоже, эти двое не больно ладят. Сильвен слушает их откуда-то издалека, из необозримой выси, из недоступного им тайника. Он скорее склонен принять сторону Мадлена-сценариста. Семийон все время по-гурмански причмокивает, пережевывает пресную кашу общих мест. Он пересмотрел на своем веку слишком много фильмов. И уже не знает, где кончаются цитаты, а где начинается оригинальное творчество. Нет, не с ним, как ведущим в связке альпинистов, достигнут они вершины шедевра. Но теперь все это уже не так важно!
Семийон скатывает салфетку и пропускает через кольцо.
— Пошли-ка, ребятки, пора приниматься за дело. Марилен, ты тоже идешь с нами.
Они снова проходят в кабинет.
— Меня не устраивает, — продолжает Семийон, — что ваша история прежде всего история мужчин. Правда, там есть такой эпизод, когда этот… ну как его там… ла Мезьер увел жену Вильдье. Но этого недостаточно.
— Надо, — вмешивается Мадлен, — чтобы женщина была сквозным персонажем, скрытой пружиной всей истории, но я еще не совсем вижу, как это сделать.
— А ты, Сильвен? — спрашивает Семийон. — Ты видишь?
— Нет. Ни малейшего представления. Разве что…
— Давай смелее.
— Разве что она ненавидит обоих мужчин.
— О! — изрекает Семийон. — О! Это вовсе не такая уж бессмыслица. Оборотная сторона любовного романа — все тот же любовный треугольник, правильно? Что ты думаешь по этому поводу, Марилен?
Марилен углубилась в раздумье.
— Это не лишено смысла. При условии, если в этой истории фигурирует вторая женщина.
Она поворачивается лицом к Сильвену:
— У Мезьера есть любовница. Почему бы и нет? И вот она…
«Она ухватилась за такой вариант, — думает Сильвен. — Вторая женщина! При всем том, что и одной-то уже хватает за глаза, чтобы водить их обоих за нос!»
— Нужно копать глубже, — заявляет Семийон, набивая трубку.
Затяжное молчание. Сильвен размышляет.
После первой пули придет вторая, третья. Поначалу в обойме их было семь. Первой выстрелил отец, когда в аптеку ворвались гестаповцы. Второй — он сам, когда промазал в себя. Выходит, оставалось пять. И они прибудут к нему все пять, в хорошенькой коробочке. С интервалом в пару дней. И если он не перестанет сопротивляться, если не сделает жеста, какого от него ожидают, фотокопии его письма начнут ходить по рукам — вот ведь что ему нельзя упускать из виду.
Сильвен позволяет себе помечтать. Он тоже идет на встречу с замаскировавшимся врагом… как Бурназель. Еще двадцать метров… еще десять…
Звонок заставляет его подскочить. Он подходит к телефону.
— Дорель на проводе.
Звонит Медье.
— Ах! Дорогой Сильвен, счастлив услышать ваш голос. Ну как дела? Продвигаются?
Продюсеры опасаются, что киношники бьют баклуши.
— Как вам сказать, — отвечает Сильвен, — мы собрались вчетвером. Похоже, дело продвигается.
— Тем лучше. Как же я мечтаю о красивом фильме! Только что я беседовал с Лелюшем. Ему идея нравится. Он сказал мне: «Для Канн уже поздновато, но для „Деллюка“ — самое время».[36]
— Да, — бормочет Сильвен, плохо скрывая безразличие. — Слова ободряющие.
— Дайте мне Семийона, — просит Медье. — И трудитесь прилежно.
Сильвен передает трубку Семийону, который с ходу заводится.
— Потрясная идея, босс. Потом расскажу. Дорель в форме офицера спаги? Это нечто! Вы заполучите натуру в Марокко? Вот здорово! Это куда лучше Испании. Знаете мой девиз, шеф? Как на суде присяжных: правда! Ничего, кроме правды! Вся правда!.. Что-что? Понадобятся ли нам верблюды?
Семийон вопрошает глазами всех присутствующих, которые, однако, примолкли. Но это его не обескураживает, и он не теряется.
— Да, безусловно понадобятся. Караван, снятый контржуром,[37] бредет по гребню песчаных дюн — зрители это просто обожают. Нет. Окончательного названия у нас пока нет. «Госпожа удача»? Да, мы думали об этом. Лично я опасаюсь, как бы такое название не приняли за имя знаменитой актрисы. Говорят же «госпожа Каллас». Но если вы полагаете… Так или иначе, не берите в голову. Мы уложимся в намеченные сроки.
Он вешает трубку и потирает руки.
— Давайте, зайчики. Поехали дальше.
— В Сахаре, — привередничает Мадлен, — обитают не верблюды, а дромадеры. Одногорбые верблюды.
— Какая тебе разница? — обиделся Семийон. — Подумаешь, одним горбом меньше. Тебе только бы придраться!
И работа возобновляется. Сильвен делает вид, что активно сотрудничает: он подражает трем остальным, а те, глубокомысленно прикрыв глаза, наигрывают на подлокотнике кресла, как на клавишах, меняя позу ног, закидывают одну на другую попеременно — словом, переживают муки творчества. Но его собственные мысли текут в совершенно ином русле. Они хотели, чтобы он был Бурназелем. Он поймал их на слове. Он не умел жить. Не умел любить. Он целиком и полностью отдавался горькой страсти к кино. Щедро оплачиваемая ретушь угодливых фотографов создала ему идеализированный имидж. Некое подобие реального образа. Инфантильная досада толкнула его на мысль эффектно разыграть преждевременную смерть. Марионетка! Зомби! Но теперь все будет по-другому. Наконец-то он нашел роль по себе. Они полагали, что терзают его? Как же они ошибались!
Он пройдет к славе через дверь легенды. И безотлагательно! К чему тянуть?
Сильвен бесшумно встает с места. Открывает дверь своей домашней библиотеки. Другие никак не реагируют. Они блуждают по no man’s land[38] бесплодных поисков. Нужно побыстрее сунуть пистолет в карман.
— Сию минутку, — бормочет он.
Дверь бесшумно за ним прикрывается. Берта на кухне — моет посуду. Юркнув в ванную, он предстает перед своим двойником в зеркале. Фильм умрет одновременно с ним самим. Бедный Медье! И бедная Марилен, обманутая и на сей раз. Все они побежденные. Он смотрит на Бурназеля в зеркало. Бормочет: «По крайней мере, ты… и я вместе с тобой… мы победим».
Сильвен медленно сбрасывает с плеч красное пальто, сжимает в руке пистолет. Посылает своему зеркальному отражению горькую улыбку.
«Везение, — бормочет он, — его не существует в природе». Быстрым движением руки Сильвен подносит дуло пистолета к виску и спускает курок.
— Алло!.. Говорит Медье… Дорогой Даниель, как же я обрадовался, узнав, что вас наконец выпустили на свободу. После самоубийства Дореля это, разумеется, уже не могло заставить себя ждать. Подобная смерть — загадка. И я-то знаю, во что она мне обошлась. Я хотел бы побеседовать с вами на эту тему конфиденциально, и как можно скорее. Погребение отложено из-за необходимости расследовать обстоятельства, произвести вскрытие и других формальностей. Оно состоится наконец-то завтра утром на Пер-Лашез, где у семьи Дорель фамильный склеп. Я вынужден туда пойти, сами понимаете. Будет немало любопытного. Газеты только и пишут, что об этом самоубийстве… и о вас, дорогой Даниель. Все те, кто вас подозревал, теперь спешат выказать вам свое уважение. Это великолепный, неординарный рекламный козырь. Тем более неординарный, что тайна остается неразгаданной. Дорель покончил жизнь самоубийством — достоверный факт, не нуждающийся в доказательствах. Но вот что же произошло с ним в первый раз? В него стреляли? Полиция прямого ответа не дает, разумеется. О! Я спокоен… Ваше дело будет прекращено. И о нем вскоре перестанут говорить. Однако сейчас вокруг него еще много шума, оно у всех на устах. Вот потому-то я вам и звоню. Приличия ради… Но какого черта! Дорель меня жутко подвел. Мне во что бы то ни стало нужно предпринять срочные шаги. Пообедаем-ка вместе завтра, после похорон. Я приглашу и мадам Дорель, поскольку она находится в таком же затруднительном положении, как и я сам. Я был намерен дать ей роль в фильме, который мы готовили, и теперь обязан компенсировать неустойку, поскольку она, как и вы, фигура жертвенная. Все это я объясню вам при личной встрече. Ах, дорогой Даниель! От какого же превосходного фильма я вынужден отказаться! Фильм, трактующий проблемы чести и мужества. Но самоубийство Дореля свело все мои усилия на нет. Я подумал было, не попросить ли вас сыграть его роль, но это все равно что напялить на вас башмаки покойника. Газеты обрушатся на нас со своими нападками. Что ж, тем хуже… У Семийона есть в запасе идея получше. Вот увидите. У него задатки крупного кинорежиссера. Я доверяю его суждению, но мне не хочется вас дольше задерживать. Свидание завтра, у меня. Так будет удобнее. Я объясню вам суть моего проекта. Он понравится вам — уверен. До завтра… Договорились!
— Алло, Даниель! Здравствуй, дорогуша… Что? За ночь ты перестал узнавать мой голос? Проснись, ленивец. Ты приобрел в тюрьме скверные привычки… Нет! О том, чтобы идти к тебе, не может быть и речи. Мы должны держаться осмотрительно и еще немножко переждать. Нас не должны засечь вместе. Нельзя дать им повод думать, что Сильвен, возможно, убил себя по моей, по нашей милости. Одному Богу известно, что люди могут напридумать! И глядишь, ненароком попадут в самую точку. Но мы могли бы вместе пообедать, ничем не рискуя. Медье приглашает нас к себе. Он говорил мне о таком проекте, что я до сих пор не приду в себя. Он всячески рекомендовал мне не проболтаться, но это сильнее меня. Знаешь, о чем он подумывает? О новой постановке «Графа Монте-Кристо», не более и не менее. Он утверждает, что позволительно экранизировать этот роман Дюма каждые двадцать лет. Он дает тебе роль Эдмона Дантеса, безвинно пострадавшего пленника замка Иф, кем ты сейчас и являешься в глазах широкой публики. А я — я буду твоей неверной Мерседес. Его постановщик, этот коротышка Семийон, вбил ему в голову, что фильмы с тайной — самые кассовые. Представляешь себе, дорогуша, какое везение! Правда, ты его предусмотрел, но тем не менее — какая роль для меня. Для нас обоих, куда там!.. Ты знаешь, похороны в одиннадцать. Без отпевания, естественно. Все будет улажено в два счета… Итак, свидание в половине первого, у Медье. Только ни гугу! Я тебе не звонила. Ты ни о чем не знаешь. До скорой встречи, любовь моя!
Даниель приметил горстку людей справа от центральной аллеи. Он взволнован и останавливается перед утопающей в цветах могилой Аллана Кардека. Старая женщина сосредоточилась на своем, взывая к этому апостолу спиритизма. «Может быть, она верит, что он тут, рядом с нею, незримый, но внимательный, готовый прийти на помощь. В конце концов, а что я знаю о мертвых?.. Если ты меня слышишь, Сильвен, я хотел бы кое-что тебе сказать. Хотя все это организовал я, тем не менее подлинная вина не моя. И не Марилен. У тебя еще не было достаточно времени на то, чтобы порвать все нити, связывающие тебя с землей. И мне нужно помочь тебе оторваться от нее».
Поодаль сверкали блицы фотоаппаратов. Марилен выдавливает из себя две слезинки и падает в обморок, поддерживаемая Евой, которая вернулась из Лондона к самой развязке. «Какая замечательная актриса! А ты и не подозревал, Сильвен. Ты считал ее бездарной, и с этого слова все пошло-поехало. Я должен тебе объяснить, бедная душа! Это Марилен обнаружила твой „труп“ по возвращении со студии. Она сочла тебя мертвым. Прочла письмо, оставленное тобой. Какой удар! Потеряв голову, она тотчас позвонила мне. Да-да! Ты не мог знать, что мы с ней… Понимаешь ли, кончилось тем, что мы и не переставали быть супругами. А ты? Ты так мало уделял ей внимания!»
Даниель отходит в сторону, пока немолодая особа в трауре кладет на могилу букетик полевых цветов. Он вспоминает про телефонный звонок Марилен, который застал его врасплох. Что оставалось ему делать? «Что сделал бы на моем месте ты, Сильвен? Ведь если бы твое письмо предали гласности, ответственность за твое самоубийство пала бы на нас. Выходит, его следовало скрыть. Но следовало также изъять пистолет — так или иначе, а твое самоубийство вовлекало нас в ужасно скандальное дело. В таких случаях мысль срабатывает молниеносно, и я в один миг обозрел все аспекты проблемы. Если письма больше нет, если оружия больше нет — полиция окажется перед лицом таинственного преступления, а твоя смерть утратит характер личной драмы, рискующей погубить нас в общественном мнении. Я диктовал Марилен линию поведения. Мы оба считали свое дело правым. Но как на беду, существовал эпизод с автоответчиком, и меня арестовали. Вот с этого момента я и задумал всех перехитрить. Прости меня, Сильвен!»
Даниель прошелся среди могил. Как тяжело вести тяжбу с мертвым. «Ты должен верить мне, Сильвен. Я сразу сообразил, что если дело примет для меня плохой оборот, то при посредстве Марилен я всегда сумею выкрутиться, предъявив письмо в доказательство твоего намерения покончить с собой. Следовательно, мне нечего было страшиться, и я мог отсиживаться, ограничиваясь заверениями о своей невиновности. Ты прекрасно видишь, какая сложилась ситуация. Я был уверен, что время работает на меня. Между нами, Сильвен, да разве бы ты и сам не отказался от подобной удачи, когда вся пресса занята тобой одним? Наоборот, ты подпитывал бы такую рекламу. Вот и я тоже — я позволял расти ставкам на этом аукционе.
Я хорошо знал, что в тот день, когда полиции станет известно, что ты хотел себя убить, ты сможешь считать себя конченым человеком. И тогда уж мы — Марилен и я — возьмем реванш. Да вот только Марилен было этого мало. Ты приводил ее просто в бешенство. И в конце концов она пожелала, чтобы ты наложил на себя руки. Ведь ты ужасно ее унизил. Так что око за око — тебе тоже надлежало испить всю чашу унижения до дна. Вот почему она так изводила тебя, бедный мой старик».
Внизу толпа начинает редеть. Даниель скрывается в боковой аллее. Он видит издали, как с кладбища уходит Марилен, приложив платочек к губам, сгорбившись, опираясь на Еву. Даниель выжидает еще с минуту и, когда воробьи снова завладели кладбищем, наклоняется подобрать гвоздичку среди цветов, возложенных на свежую могилу Аллана Кардека, и направляется к розовому склепу Дорелей. Он долго собирается с мыслями и наконец кладет цветок на могильную плиту.
«Пистолет, — бормочет он, — пуля… Это придумал не я…»
Тетя
Mamie (1983)
Перевод с французского Т. Ворсановой
Часть первая
Тень за окном, колеблясь, как ветвь на ветру, перечеркнула стекло сверху донизу. Взрезанное, оно осыпалось, и рука в перчатке нащупала задвижку. Окно растворилось, и фигура, еще более черная, чем сама ночь, ступила в коридор. Застыв на какое-то время в полной неподвижности, человек вслушивался в тишину. Наконец тоненький луч света, как белая тросточка, протянулся перед ним, и неуверенной походкой слепого он двинулся по коридору. Дверь. Еще одна дверь. Вздох облегчения. Спальня Амалии. Тень остановилась. Это здесь.
За перегородкой тяжело дышала спящая женщина. Луч света выхватил из темноты дверную ручку. Ее ловко, не торопясь, повернули, фонарь погасили. Комнату слабо освещал ночник. Шаг. Еще один шаг. И еще. Человек явственно увидел Амалию, прижимающую к себе своего ребенка. «Как трогательно!» — подумал он.
Открытая дверь вела в детскую. Он остановился на пороге, снова зажег фонарик и обшарил лучом стены. Красивые ковры. Ветряные мельницы, парусники, дельфины. Все голубое и розовое. Луч опустился ниже, выхватил из темноты две колыбельки и сладко спящего в одной из них младенца, с кулачком у губ.
Человек склонился над кроваткой, повесил фонарик на пуговицу куртки и откинул одеяльце. Подложив одну руку ребенку под голову, а другую под ягодицы, он поднял его, не разбудив. Затем, держа ребенка как приношение, снова прошел мимо кровати Амалии и, сделав считанные шаги, добрался по коридору до окна. Раздался тихий свист. Соучастник, сидевший на самом верху приставной лестницы, взял ребенка на руки и исчез. Вслед за ним в темноту нырнул, как пловец, и похититель.
— Еще раз спасибо, дорогой мой, — сказал Клери. — Мы вас увидим на будущей неделе?
— Никак не раньше субботы, — ответил нотариус. — У меня сейчас дел по горло.
Жак Клери закрыл дверцу и опустил стекло.
— Постарайтесь притащить Бельереса. Этот юноша просто очарователен.
Нотариус склонился к самому уху Клери:
— Ирен сегодня выглядит очень усталой.
— Ничего, это у нее пройдет, — проворчал Клери.
Ирен закурила. Она сделала вид, что ничего не расслышала.
— И все-таки будьте поосторожней! — снова заговорил нотариус.
— Знаю, знаю, — или пить, или водить… — пошутил Клери. — Ну ладно! Всего доброго, Альбер.
Он рывком тронулся с места. Нотариус смотрел на удаляющиеся огни роскошного «порше», затем поднялся по ступенькам крыльца; на лицо ему упала капля дождя, и он взглянул на затянутое тучами небо.
— Опять дождь пошел, — сказал он, вернувшись в гостиную.
— Ну что, — спросила его жена, — как там дела? У нее все та же похоронная мина.
— Все та же, разумеется. Другой у нее про запас нету. — Он заговорил, обращаясь к Бельересу: — Это нечто особенное. Уверяю вас. Вот вы ее первый раз видели, и какое у вас от нее впечатление?
Архитектор отставил свой бокал с шампанским на столик возле дивана.
— Мне она показалась несколько зажатой, — сказал он.
Мадам Тейсер снисходительно улыбнулась:
— Муж ваш не хочет говорить лишнего. Ну а вы, Ивонна, скажите честно…
— Мне, признаюсь, она показалась несколько… странной. А главное, по-моему, они не очень ладят между собой.
— О! — воскликнул Шарль Тейсер. — Они совсем не в ладах.
— Мой муж их пользует… как давно, Шарль?
— Шесть лет… Ну да, с тех пор как они поженились. Тогда-то все и началось.
— С ума сойти, как они оба изменились, — заметил нотариус. — Он ведь был просто хорош собой, правда, Сюзанна? Молодцем он никогда не казался, но всегда весел, легок на подъем, в общем, у него было все, чтобы нравиться женщинам. А она… Ну, я всегда считал, что она вполне в моем вкусе.
— Вот так кое-что выясняется, — пошутил доктор. — Ай да Альбер!
— Не торопитесь с выводами, — запротестовал нотариус. — Сейчас она себя совсем забросила. Вы же видели… Даже губы не подмажет, и одета бог знает как. А в свое время была весьма элегантна.
— Это правда, — сказала Сюзанна. — Я должна признать, что она была очень соблазнительна. И потом, про нее было известно, что она отлично ездит верхом. А это… привлекает мужчин… Я ведь не ошибаюсь, Симон?
Архитектор положил руку жене на колено.
— Я познакомился с Ивонной на манеже, — сказал он. — Вот вам и доказательство вашей правоты.
Нотариус погрозил ему пальцем.
— Сюзанна забыла главное. Ирен была блестящей спортсменкой. И выиграла не один конкур, она и в Лa-Боле[39] получила главный приз.
— Черт побери! — с восторгом сказал архитектор. — Это не пустяк.
— Именно там она и познакомилась со своим будущим мужем. Он ведь тоже прекрасно ездит верхом. Вы, впрочем, сами сможете в этом убедиться, если примете его приглашение.
— А разве его надо принимать? — хором спросили Ивонна и Симон.
И, смеясь, посмотрели друг на друга.
— У нас, по крайней мере, полное взаимопонимание, — снова заговорил архитектор. — И мне кажется, что мы оба не прочь покататься на лошадях в Ла-Рошетт.
— В замке Лa-Рошетт, — уточнила его жена. — Бедный мой, бедный, тебе придется строить и строить дешевые дома, чтобы мы могли когда-нибудь купить свой Ла-Рошетт.
— И там не только замок, — добавил врач. — Прибавьте еще сотню гектаров леса и окрестные луга, уж не говоря о двух или трех фермах. Они очень богаты.
— Она очень богата, — уточнил нотариус. — Состояние-то ее. Он тоже не нищий, но главное, в брак он принес свое умение делать дела…
— …и свое имя, — добавила Мадлен Тейсер. — Клери де Бельфон де Лез.
Врач пожал плечами.
— Знаешь, — сказал он, — в наше время…
— Ну да, ничего подобного. Она очень дорожит своим именем. И титулом… Баронесса Клери де Бельфон де Лез.
— Урожденная Додрикур, — добавил нотариус. — У ее отца были большие мукомольные заводы в округе Ман. Сколотив состояние, он купил это огромное хозяйство — Ла-Рошетт, и, поскольку он очень любил лошадей, стал коннозаводчиком. Вот и вся история, Мадлен, хотите еще немного шампанского?
— Спасибо, нет.
Она обернулась к мужу.
— Шарль, пора и честь знать. Уже время возвращаться домой.
— Да ну, — сказал нотариус. — Вам же некуда спешить. Во-первых, идет дождь. Подождите, пока он утихнет. А потом, как я вижу, наши друзья хотят нас еще кое о чем порасспросить. Нет? Или я угадал?
— Да, — ответила Ивонна. — Так вот, кажется, у этих людей есть все, чтобы быть счастливыми. Они богаты. Обожают лошадей и занимаются ими в свое удовольствие.
— Сколько, кстати, лошадей у них, на их конном заводе? — перебил ее муж.
Нотариус глянул на врача, как бы советуясь с ним.
— Сколько? — переспросил он. — Тридцать, пожалуй… И полдюжины верховых, для прогулок. Конечно, есть конные заводы куда более крупные. Но Ла-Рошетт котируется очень высоко.
— Ну, так в чем же дело, — снова заговорила Ивонна, — чего же им не хватает?
— Радоваться жизни они не умеют, — сказал врач. — Я сейчас объясню.
Он тяжело сел на диванчик и зажег тонкую длинную сигару.
— Простите меня. Я подаю дурной пример, но табак помогает мне забывать про ревматизм. Возвращаясь к супругам Клери, я прежде всего полагаю, что брак этот устроил старый Додрикур. Чтобы хозяйничать в таком имении, нужен был человек с твердой рукой. Вы, вероятно, догадываетесь, что торговать лошадьми — дело очень непростое. Если в тебе нет маклерской жилки, тебя обязательно облапошат. А Клери сразу пришелся к месту. Наверно, в нем пробудилась какая-нибудь капелька крестьянской крови. И он очень быстро стал таким, каким вы его видели: крепкий славный малый с лицом, закаленным свежим воздухом и пропущенными стаканчиками — и так, просто, и на деловых попойках. Тип, похожий на героев Мопассана, его не очень любят те, кто у него работает, потому что он очень требователен и даже суров. Однако, зная его хорошо, я думаю, что на самом деле человек он вовсе не плохой, но разочаровавшийся в жизни.
— А его жена? — спросила Ивонна.
— Вот именно. Это она — владелица всего состояния. Что она и не замедлила дать почувствовать бедному Клери. Она стала относиться к нему, как к своему управляющему.
— Ну, может быть, не совсем так, — заметил нотариус.
— Положим, я слегка преувеличиваю.
— А мне представляется все совсем не так, — сказала Мадлен Тейсер. — Это не она его унизила. Наоборот, это он почувствовал себя униженным, это у него создалось впечатление, что он на службе у жены. Он принес имя; она — деньги. Он полагал, что имя дает ему право на деньги, а она, со своей стороны, считала, что деньги вполне стоят имени. Ну, в общем, что-то вроде того.
— Таким образом, каждый был уверен, что смог бы обойтись без другого, — заключил врач.
— И от этого ощущения они так и не избавились, — снова вступил в разговор нотариус. — Мадам ездила с одних конных состязаний на другие. Мсье бегал по делам и за каждой встречной юбкой — во всяком случае, так говорят. А потом у них родился ребенок. Она, правда, его не хотела. Но ведь и так тоже бывает. Ребенку сейчас восемь месяцев. Это мальчик, она назвала его Патрисом… Ну, Шарль, рассказывай, что было дальше.
Врач осторожно положил сигару на край пепельницы.
— Дальше?.. Не буду вдаваться в детали. Роды были очень тяжелые. Вот так. Это и есть то, что было дальше. И бедную женщину предупредили: беременность, если таковая случится, поставит ее жизнь под угрозу. С тех пор у меня твердое впечатление, что она воспринимает своего мужа как врага, от которого держаться надо на расстоянии.
— И это у них так далеко зашло? — спросила Ивонна недоверчиво. — Но ведь теперь есть же способы избежать несчастной случайности.
— Дорогая моя, — сказал врач, — от навязчивых идей не спасают ни пилюли, ни пружинки. А у нее — настоящая идефикс: муж — это опасность. Я не выдаю профессионального секрета: однажды вечером она здесь нам в этом призналась. Мы сидели вчетвером: Сюзанна, Альбер, Мадлен и я. Она решила найти у нас убежище: другого слова и не подберешь. Муж ее вернулся домой пьяным и хотел… короче… она влетела к нам, когда только девять пробило. И все рассказала… Такое, чего мы и вообразить не могли; что ребенок у них с рождения слабенький, по вине мужа… Если б он меньше пил и меньше шлялся, ребенок был бы крепче. Ну, что еще?
— Что ей приходится на ночь запираться в своей спальне, — продолжила Мадлен.
— Ну да. Что она подумывает, конечно, о разводе.
— А потом она стала каяться, что она — плохая мать. И чего только нам не наговорила! Что у нее нет материнского инстинкта, что она не должна была доверять малыша заботам своей служанки. Да, но мы же вам еще не рассказали об Амалии. Нет, решительно, эти Клери — целый роман. Чуть-чуть шампанского, Ивонна?
Врач раздвинул занавески в маленькой гостиной.
— Слышите, что делается, — сказал он. — Настоящий потоп. Святой Медар и на этот раз не обманул ожиданий, примета верная. Счастье еще, что ваша гостиница неподалеку. Во всяком случае, мы вас отвезем, дорогой Симон. Но прости, Альбер. Я тебя перебил. Ты собирался рассказать нам об Амалии.
— Ах да! — продолжил нотариус. — Ирен повезло, что возле нее оказалась эта Амалия. Она — португалка, лет десять назад приехала во Францию. Человек она славный, хорошо говорит по-французски. И вообще довольно приличная особа.
— И тоже в твоем вкусе, — лукаво заметил врач.
Нотариус призвал всех остальных в свидетели:
— Ну и дурной же он, когда к чему-нибудь вот так привяжется! Нет, правда — она красивая женщина. Совсем не смуглая и не худышка. Скорее похожа на роскошных баб, которых лепил Майоль. Три или четыре года назад она вышла замуж за своего соотечественника, Жезю Перейру, и случилось так, что он стал работать у Клери. Он был… точно не знаю… конюхом или конюшим… но не важно. Беднягу лягнул конь и убил наповал.
— Но это же ужасно! То, что вы рассказываете, — вскрикнула Ивонна.
— Хм, тут уж ничего не поделаешь. Амалия была беременна. Клери, который, как я уже говорил, неплохой малый, оставил ее у себя, и она стала у них вроде гувернантки. Непонятно, чем она должна была заниматься в доме, но главное, она кормилица маленького Патриса. Ну да, она ведь родила почти одновременно с Ирен Клери. Вот она и кормит обоих, что очень на руку Ирен, у которой насчет груди не так чтобы богато.
— Альбер! — закричала на него жена. — Ну как ты можешь так говорить…
— Наш Альбер сегодня расшалился, — нарочито серьезно заметил врач.
— Так надо же иногда и пошутить, — снова заговорил нотариус. — Практически ребенок на руках Амалии. Ирен им почти не занимается.
— А чем же она тогда занята? — спросил Симон Бельерес. — Катается на лошадях?
— Тоже нет. Потеряла вкус ко всему. Читает, курит, гуляет в парке, если можно назвать это парком; луг начинается сразу за замком, и все, до самого горизонта, принадлежит Клери. Когда идет дождь, она гадает себе на картах. Или часами рассматривает своих рыбок. У них в гостиной великолепный аквариум. Вот увидите, она непременно покажет его вам. Очень грустная у нее жизнь, поверьте мне.
— А отец? — спросила Ивонна. — Он хоть немного ребенком занимается?
— У него совсем нет времени. Но он, по-моему, очень привязан к сыну, а, Сюзанна?
— О да! Во всяком случае похоже на то. Но не так-то просто знать, что там у них на самом деле. Она еще, когда ей уж очень плохо, позволяет себе выговориться, да и то невольно задаешься вопросом, не нарочно ли она так сгущает краски, Ирен ведь любит, чтобы ее жалели. А вот что скрывается за его жизнерадостностью, что он на самом деле думает? С виду он — человек прямолинейный, ну, цельная натура, что ли. Но мне, правда, кажется, что он очень сложный человек. А вот у Альбера совсем другое мнение. Ладно. Буду рада, если я не права.
— Еще один вопрос, — сказал молодой архитектор. — Не то чтобы я был страшно любопытным, но если нас будут принимать в замке, то лучше бы нам знать точно, как держаться. Особенно с людьми, уже настроенными друг против друга. Мадам Клери открыто объявила мужу о том, что хочет развестись с ним, или предложила развод со злости, и из этого заявления ровно ничего не следует?
— Конечно, — поспешил заметить врач. — Просто сотрясение воздуха.
— Но все-таки он ведь ей изменяет? И она знает об этом?
— Да, но ей совершенно безразлично, что ей изменяют, — сказала Мадлен Тейсер. — Зато он оставляет ее в покое.
— Ну, — сказал нотариус с большим сомнением, — как еще посмотреть. Она — гордячка, и я бы такой безропотности удивился. Но тут мы, наверно, слишком далеко заходим. К тому же все это нас не касается.
— Вы с ними очень близки? — спросила Ивонна.
— Ну как, видимся-то мы часто. По воскресеньям мы с Сюзанной устраиваем небольшие конные прогулки. У Клери отличные, послушные лошадки, и он их очень охотно предоставляет. Когда будете там, скажите ему, что вы, с моей подачи, хотите взять Клерона. Отличный конь, он доставит вам настоящее удовольствие. Зато в плохую погоду они приезжают к нам. У них есть еще друзья в Шато-Гонтье, с которыми они видятся изредка, но от Лa-Рошетт до Лаваля поближе. А в Ла-Рошетт, когда идет дождь, совсем невесело. Мы стараемся развлечь их. Приглашаем людей, вот как вас, например, — тех, кто неравнодушен к конному спорту. Мужчины говорят о лошадях. Дамы… — Он обернулся к жене: — Кстати, Сюзанна, а о чем вы разговариваете?
— О чем могут говорить дамы, — засмеялась Сюзанна. — О спектаклях, о книгах… Ирен Клери весьма культурный человек, она покупает много романов. Дает их читать нам. Потом мы их обсуждаем. Это очень приятно. Вырвавшись из замка Лa-Рошетт, который она называет своим «замком Иф», Ирен может быть очень веселой; вернее, могла. Ведь ей вообще-то всего тридцать два.
— А ему? — спросила Ивонна.
— А сколько вы бы ему дали?
— Не знаю. Его старит лысина, пусть и небольшая.
— Ему сорок один, но выглядит он и правда старше.
— Плохой возраст, — снова заговорил врач. — Клери как раз из тех мужчин, которые бегом бегут к инфаркту. Алкоголь, табак, женщины. Давление — двести. Я его предупреждал, но он никого не слушает. Добавьте к этому, что он гоняет на автомобиле, как сумасшедший. Бедная Ирен! Я скорее вижу ее вдовой, чем разведенной.
— Добро бы у нее еще была родня, — сказала Мадлен Тейсер. — Так нет. Родители умерли, а брат живет в Ирландии. Он тоже разводит лошадей, что не удивительно. До сестры ему куда меньше дел, чем до своих кобылок. А у Клери жив только отец, старик пенсионер, поселившийся где-то возле Грасса. Так что Ирен права, когда называет Лa-Рошетт своим «замком Иф».
— Но она же все-таки там не в заточении?
— Нет. Но практически в одиночестве. Считайте вместе со мной: Амалия, супруги Мофран, он — камердинер, она — кухарка. Им что-нибудь около ста двадцати пяти лет на двоих. И еще сторожа, Дени и Тереза Жюссом, он заодно и садовник. Их домик расположен прямо возле ограды. Так что народу не много. И уж никак не скажешь, что в замке мало места. Там больше двадцати комнат. Пустынно и тихо, как в музее. Так что, если вы время от времени будете наезжать к ним, сделаете доброе дело.
— Хорошо, договорились, — сказал архитектор, вставая. Он слегка похлопал по плечу жену. — Идем, Ивонна. Я думаю, что мы злоупотребили терпением хозяев. И большое спасибо, дорогие друзья, за ваши рассказы об этом городке, Лаваль — вовсе не такая дыра, как нам расписывали… Да, невозможно же приехать в Ла-Рошетт с пустыми руками. Что могло бы понравиться мадам Клери? Цветы — это слишком банально, да к тому же у нее ведь есть садовник. Может, лакомства какие-нибудь?
— Нет, — ответила жена нотариуса. — Подарите ей маленькую рыбку.
— Рыбку? Но где же я вам возьму рыбку?
— У Метивье, на набережной Сади-Карно. Там продается все для рыбной ловли и рыбки для аквариума. Она мечтает о «коридорас леопард». Жуткое существо, белое с черным, как извещение о смерти. Но о вкусах не спорят!
— Быстро! — позвал врач. — Дождь почти кончился. Я вас везу в своем «рено». Потеснимся немного… Так что, до будущего четверга?
— Договорились, — сказал нотариус. — Но только ничего особенного, чур, не устраивать. Что Бог пошлет, то и ладно.
Клери выругался.
— Чертов домкрат! Все время выскальзывает.
«Порше» стоял на обочине. Клери снял куртку и галстук. Брюки на коленях были запачканы грязью, он, стоя в траве на четвереньках, тщетно пытался подставить домкрат под заднюю ось. Как только он начинал крутить ручку, механизм всякий раз съезжал с места. Клери выпрямился, тыльной стороной руки вытер пот со лба.
— Поторопитесь, — сказала Ирен. — Мне бы очень хотелось вернуться домой.
— Мне бы тоже. Что вы себе там навоображали? — закричал он, сорвавшись. — Вы что, не видите, что я уже весь вымок?
— Почему же вы не пытаетесь двинуться вперед?
— Потому что, как только я трону, колесо отлетит. И в конце концов, прекратите приставать ко мне.
Он злобно огляделся. Ни огонька. Помощи ждать неоткуда. Клери разрыл каблуком землю, набрал пригоршню мелких камней и гравия и принялся подкладывать их под основание домкрата. Один поворот ручки, другой. «Порше» дрогнул и медленно поднялся.
— Все на ощупь приходится делать, — проворчал он. — Черт знает что.
На этот раз домкрат держал хорошо. Колесо засосало так глубоко, что из рытвины оно высвободилось с громким хлюпаньем. Клери отпустил ручку домкрата, снял колпак и принялся вывинчивать болты. Собрав все, он положил их в карман брюк. Самое трудное было сделано. Снять поврежденное колесо, поставить на его место запасное — это несложно.
— Думаю, все будет в порядке, — сказал он.
Рубашка прилипла к спине. Капли дождя стекали с носа. Ему зверски хотелось курить. Он пристроил колесо, вымазанное в жирной глине. Оставалось завинтить болты. Первый сразу же вошел в паз. Второй тоже. Третий выскользнул у него из рук.
— Черт!
Болт тихо шлепнулся в траву. Быстрым движением, ориентируясь на звук, словно он хотел поймать зверька, Клери прижал ладонь к земле. Пусто. Он ощупал траву вокруг. Опять пусто.
— Но, черт подери, что же это со мной сегодня происходит? Он же точно здесь.
Клери принялся ощупывать двумя руками мокрую землю. Болт ведь не булавочная головка. Ирен опустила стекло.
— Ну так как же? Мы скоро поедем?
— Дайте мне зажигалку. Она в моей куртке. — Он облокотился о дверцу. — В левом кармане. — И пока она искала добавил: — Если бы вы были болтом, куда бы вы спрятались, чтобы отравить мне жизнь?
Она тут же разозлилась.
— Прошу вас, Жак, разговаривать со мной другим тоном. Вот она, ваша зажигалка.
Клери снова нырнул под автомобиль и попытался осветить траву маленьким пламенем, которое ветер пригибал к земле. Дрожащий свет терялся во тьме. Ни намека на металлический отблеск. Зажигалка начала жечь руку. Клери погасил ее. Не везет так не везет! Этот мерзкий болт, верно, закатился дальше, чем он мог предположить.
— Включите фары на полную мощность, — выкрикнул он.
Быть может, в ярком полотне света что-нибудь блеснет в траве? Ирен включила и дальний, и ближний свет.
— Вы догадываетесь, который теперь час? — спросила она.
— Плевать я на это хотел.
— Половина первого. Я беспокоюсь о малыше.
— Но малыш спит без задних ног. Вы, кажется, опять за свое.
— Мне не по себе.
— Ладно, ладно. Прощай, мой болт. — Он бросил все инструменты в багажник и занял свое место за рулем. — Только учтите. Ехать я буду шагом. И портить колесо я не собираюсь.
— Разумеется. Ваша шина гораздо важнее Патриса.
Он вздохнул и медленно тронул «порше».
— С меня довольно этих вечерних поездок в гости, — сказала она.
— Если я правильно понимаю, с вас всего довольно. Бедная моя, веселой вас действительно не назовешь.
Они замолчали. Ирен, включив отопление, рассматривала знакомый пейзаж, не спеша возникающий перед ними. Наконец сквозь сетку дождя стала видна решетчатая ограда парка. Клери остановился прямо перед воротами и пошел отпирать. Машина двинулась по аллее к дому.
— Могли бы и закрыть, — сухо проговорила Ирен.
— Здесь воров нет! — ответил он. — Немедленно горячую ванну. Я совершенно продрог.
— Сейчас приду, — сказал Клери. — Ну идите же… идите, раз вы так спешите.
Он зажег люстру в холле и вытащил из кармана сигарету, но тут же яростно швырнул ее, поняв, что она мокрая. Сел на вторую ступеньку лестницы и принялся стаскивать промокшие и запачканные грязью туфли.
— Спокойной ночи, — сказала Ирен, перегнувшись через перила.
— Да, да. Спокойной ночи.
Он пошевелил ожившими ступнями и начал стягивать прилипшие носки.
— Не скоро мне забудется этот вечер! — злобно пробормотал он.
Ирен поднималась на второй этаж, на ходу снимая пальто. Войдя в свою спальню, она бросила его на кровать, затем, бесшумно толкнув дверь в детскую, сунула туда голову. Слабый верхний свет едва достигал двух колыбелек. В соседней комнате слышно было ровное дыхание Амалии. Ирен подошла к кроватке Патриса. Она была пуста.
«Взяла мальчика к себе, — подумала Ирен. — Должно быть, он капризничал».
Она повернулась ко второй колыбельке, чтобы убедиться, что другой малыш крепко спит. Одеяльца были отброшены. Ребенка там не было.
«Наверно, Патрис плакал и разбудил Жулиу, — решила она. — Чтобы ей было спокойно, Амалия обоих положила к себе в постель. Не люблю я этого».
Дверь в комнату, где спала Амалия, была приоткрыта. Ирен толкнула ее и в свете ночника разглядела лежащие рядышком головы: головку своего ребенка и служанки. Но Жулиу видно не было.
Ирен обошла кровать, сунула руку под одеяло. Странно! Где Жулиу? Она вернулась в детскую, в недоумении постояла между пустыми колыбельками, пытаясь что-нибудь понять. Если бы Жулиу был болен, Амалия предупредила бы ее. Уходя куда-нибудь вечером, Ирен всегда на всякий случай оставляла номер телефона того дома, где собиралась быть. Нет. Ничего не произошло. Да и потом, если бы что-нибудь случилось, Амалия не спала бы так безмятежно. Ирен услышала, что муж поднимается по лестнице, и вышла к нему.
— Жак, — сказала она вполголоса, — идите сюда скорей.
Клери поднялся, неся в руках свои туфли, как убитую дичь.
— Что там еще?.. Мне очень повезет, если я не заболею бронхитом. В июне — и бронхит!.. Ну так что? Чего вы хотите от меня?
— Маленького Жулиу нет. Патрис спит вместе с Амалией. Похоже, что Жулиу исчез.
— Вздор!
— Ну хорошо, посмотрите сами.
— Подождите хоть минуту, черт возьми! Я полагаю, пижаму надеть у меня время есть!
Ирен вернулась в свою комнату. Она очень разнервничалась. Самым простым было, конечно, разбудить Амалию, но Патрис услышит шум и начнет плакать. Лучше подождать.
Клери остановился на пороге.
— Ну что? — спросил он, застегивая пижамную куртку. — Вы нашли мальчишку?.. Я бы очень удивился, если бы в свои восемь месяцев он куда-нибудь убежал.
Он пошел сквозь комнату в детскую.
— Тише, — сказала Ирен. — Не шаркайте своими тапочками.
Он пожал плечами. Она шла за ним на порядочном расстоянии до самой спальни, где Амалия по-прежнему мирно спала, не догадываясь, что какие-то тени движутся вокруг нее.
— И точно, — прошептал Клери. — Его нет.
На цыпочках он вернулся в комнату Ирен, снова надел тапки и сел на кровать жены. Каминные часы показывали без десяти минут час.
— Должно быть, для всего этого существует очень простое объяснение, — сказал он. — Может, малыш ее расплакался. И она уложила его в гостевой комнате…
— Нет. Амалия ни за что этого не сделает.
— Что вы об этом знаете? Вы же не пошли и не проверили. Идемте. У меня будет спокойно на душе.
Он пошел вперед по коридору, включив там все бра. И тут же заметил, что в конце коридора открыто окно.
— Черт побери! — закричал он. — Кто-то вошел таким образом.
Клери подбежал к окну, перегнулся вниз и обнаружил лестницу. Потом увидел, что одного стекла нет.
— Что случилось? — спросила подоспевшая Ирен.
— Смотрите сами. Все достаточно ясно. Кто-то побывал здесь.
— Вор?
— Вор, конечно.
— Боже мой! Мои драгоценности!
Он схватил ее за руку.
— Сейчас разберемся. Но думаю, что драгоценности ваши тут ни при чем.
— А что же тогда?
— Они явились, чтобы выкрасть ребенка.
— Жулиу?
— Нет, Патриса.
— Но Патрис же здесь. Вы что, с ума сошли?
— Подождите! Я, кажется, начинаю кое-что понимать.
— Отпустите меня, вы делаете мне больно.
— О, простите.
Он закрыл окно и прижался лбом к стеклу. Дождь прекратился, но холодный, пахнущий мокрой травой ветер дул сквозь дыру в окне.
— Вор вошел в спальню к Амалии, — медленно сказал Клери. — Он решил, что ребенок, которого она прижимает к себе, — ее собственный сын. Разве не логично?.. Стало быть, другой, там, в детской, мог быть только нашим. Он выкрал его. Ничего другого произойти не могло.
— Надо разбудить Амалию.
Ирен почти кричала. Клери приложил палец к губам.
— Тише. При всем том я могу и ошибаться. Все это так невероятно… Давайте отойдем отсюда. Здесь очень холодно.
— Что мы будем делать?
— Сначала выясним, не пропало ли у нас что-нибудь. Но пришли наверняка не за картинами и не за серебром. Позвольте я надену халат.
Они спустились в холл, из которого открывалась анфилада комнат: гостиная, библиотека, столовая и, в самой глубине, — кабинет Клери. Осмотр много времени не занял. Ничего не тронуто.
— Я в этом не сомневался, — сказал Клери. — Ситуация теперь ясна. Мы должны приготовиться к тому, что потеряем не один миллион.
— Но, в конце-то концов… Но это же невозможно, — запротестовала Ирен.
Она опустилась в кресло возле аквариума, где в водорослях среди ракушек мелкий народец искал, казалось, чем поживиться.
— Я схожу с ума, — простонала она. — Где у нас доказательства, что похитить хотели Патриса?
— Тем не менее это очевидно. Ну, задумайтесь на минуту.
— Вы собираетесь предупредить полицию?
Сцепив пальцы, он постукивал ими о подбородок.
— А надо ли предупреждать полицию? Что лучше? Ждать?.. Звонить в комиссариат… Чтобы сказать, что Жулиу исчез?
— Разумеется.
— Но… разве надо оповещать бандитов, что они ошиблись?
— Как? Вы колеблетесь?
Клери, заложив руки за спину, медленно обошел гостиную, затем остановился перед Ирен.
— Согласен, — сказал он. — Завтра полиция, телевидение, газеты объявляют, что воры украли не того ребенка. Неужели же они не насторожатся?.. Я задаюсь вопросом. На их месте я бы заподозрил какую-нибудь хитрость и оставил бы заложника при себе. Но предположим…
— О! Довольно, — закричала Ирен. — Сейчас не время для предположений.
— Позвольте мне договорить. Предположим, что бандиты поверят, что они украли ребенка, который ничего не стоит… Вы что, всерьез думаете, что они откажутся от него? Я уверен, что они найдут другое решение.
— Они убьют его?
— Это вполне вероятно. Тогда как…
Ирен заткнула уши.
— Хватит! — закричала она. — Хватит!
Клери подошел к ней, схватил ее за руки и грубо встряхнул.
— Нет, вы меня выслушаете!.. Я вынужден рассмотреть все возможные варианты. И это не для собственного удовольствия. Я прекрасно знаю, что, даже если Жулиу будет подкинут живым и здоровым на порог какой-нибудь лавчонки или на помойку, мы не перестанем дрожать за Патриса. Это-то вы понимаете, а? Бандиты так легко от своей затеи не откажутся. А мы не сможем бесконечно обеспечивать охрану Патриса.
— Так что же вы тогда предлагаете?
— Я предлагаю… вести себя так, как если бы похищенным ребенком был действительно Патрис. Возможно, это единственный способ спасти Жулиу и обеспечить безопасность Патрису.
— И вы согласитесь заплатить выкуп за ребенка, который для нас ничего не значит?
— У нас нет выбора.
— А если не предупреждать полицию? Во всех подобных делах бандиты всегда угрожают убить заложника, если полиция будет оповещена.
— Знаю, — сказал Клери. — Но так или иначе, полиция всегда бывает в курсе, а заложников уничтожают крайне редко. С течением времени у киднеппинга тоже появились свои правила. Грустно, но это так.
— И, по вашему мнению, заплатить нужно будет много?
— Вероятно. И тут тоже образовалось нечто вроде тарифа.
Ирен вздрогнула.
— Но откуда же вы думаете взять деньги?
— Еще не знаю. Там видно будет.
Ирен зябко ежилась, стягивая на груди пиджак.
— Я боюсь, — прошептала она. — Боюсь за Патриса. Это ужасно. Почему именно у нас? А?! Я прекрасно знаю, чьих это рук дело.
— Ну нет, — вскричал Клери. — Неужели вы опять за свое?
Они уставились друг на друга. Смотрели в упор, так, будто сейчас подерутся.
— Не время об этом разговаривать, — сказал Клери. — Кому интересны наши ссоры. Я позвоню в комиссариат. А потом, ничего не поделаешь, — разбужу Альбера. Он может помочь нам.
Клери на шаг приблизился к жене.
— Ирен, прошу вас. В интересах ребенка вы должны быть на моей стороне. Я могу на вас рассчитывать?.. Хорошо. Сделайте кофе. Это сейчас очень кстати.
— А с Амалией как же? — спросила Ирен.
Клери, двинувшись было к телефону, остановился.
— Да, правда. Я и забыл. Я ее охотно разбудил бы, но вы еще подумаете… Красивая женщина, совершенно разомлевшая во сне, которая, разумеется, тут же примется голосить! Это ведь совсем неподходящее зрелище для мужчин вроде меня, разве нет?.. Простите, бедная моя Ирен. Я не хотел на вас снова нападать. Жду вас здесь. Пусть она накинет халат и идет сюда. Я попытаюсь ее уговорить. Поддержите и вы меня. Теперь все зависит от нее.
Он посмотрел вслед Ирен, подходившей к лестнице. «Отчего она так несговорчива, упряма и замкнута? Она, как скорлупа каштана в руке, вся в колючках. Если бы только то, что случилось, могло спасти нас!»
В поисках пачки сигарет он прошел к себе. В одном из ящиков стола в кабинете он нашел несколько разбросанных сигарет «Голуаз» и, нетвердой рукой поднеся зажигалку, сразу же закурил одну из них, остальные сунул в карман. Часы показывали половину второго. Полиция, конечно, приедет не раньше, чем через сорок минут. Способна ли Амалия ломать комедию перед инспекторами? Она ведь человек простодушный; ей будет очень нелегко представить себе, что ее просят обращаться с Патрисом так, словно это — Жулиу. И в присутствии полиции она не должна показать, насколько она расстроена. Обеспокоена, и всерьез, но не более того. Исчез сын хозяев. Полиция все возьмет в свои руки. Не из-за чего заливаться слезами. Это возможно лишь при условии, что она твердо усвоит, что речь идет о ребенке хозяев, а не о ее собственном. Наверно, это слишком — ждать от нее такой выдержки. Но ведь другого выхода нет.
Он прислушался, стараясь уловить звуки шагов наверху, стоны, но тишину нарушал только ветер, бьющийся о ставни. Клери подошел к лестнице, тщетно напрягая слух. «Что она там делает?» — совсем тихо произнес он. Он прикинул, что необходимо посвятить во все Мофранов и Жюссомов. Это уже много. Может, Жюссомов и необязательно. Они живут чуть поодаль, в своем домишке, и наверняка не различали, где Жулиу, а где Патрис, когда Амалия гуляла с детьми в парке. Мофраны, те не спутают. Но они целиком преданы Ирен и ни за что не проговорятся. И все же! Игра еще далеко не сыграна. А если полицейские обнаружат, что их обманули…
Клери прикурил сигарету от непогашенной. «Я действую честно, — повторял он сам себе. — И сделаю все, чтобы спасти Жулиу. Но не разоряться же нам. Никто не может от меня этого потребовать». И подумал, что ему наверняка придется заложить имение или продать ферму, потому что с лошадьми он ни за что не расстанется.
Откуда пришла беда? Вероятно, это конюх, которого прогнали. Видимо, тут не обошлось без мести. И мести изощренной. Ведь так несложно было, например, поджечь конюшни. Или застрелить его самого, почему бы и нет, когда ранним утром, слегка пришпорив Мордашку, он манежным галопом скачет в Заячий лес. Но нет. Требовалось, чтобы он страдал. «Ну так я страдаю, черт побери! Но из-за этой несчастной Амалии!»
Вдруг наверху, заплакал ребенок, и вскоре Азалия и Ирен появились на площадке лестницы. Амалия держала Патриса на руках. Она машинально укачивала его и, похоже, еще не вполне проснулась.
— Пусть он замолчит, — распорядился Клери. — Ничего же не слышно.
Ирен взяла Патриса, и он разревелся еще пуще. Мальчик совсем зашелся в крике, ручки его конвульсивно сжались в кулачки, маленьким беззубым ротиком он ловил воздух.
— Вы же прекрасно видите, что он не хочет идти ко мне, — сказала Ирен.
Амалия подхватила ребенка с материнской нежностью.
— Ай-ай-ай… — проговорила она. — Да, да, сейчас попьем… и будем очень послушными.
Она спускалась по лестнице, воркуя над ухом младенца и нашептывая ему нежные слова.
«Черт возьми, — подумал Клери. — Она ничего не поняла».
Когда Ирен оказалась рядом с ним, он прошептал:
— Вы сказали ей?
Ирен раздраженно пожала плечами.
— Разумеется.
— И это так слабо на нее подействовало? Вы не сумели ей всего объяснить.
— Я такая несуразная. Слава Богу, что вы здесь.
Она потащила Амалию в гостиную и усадила ее рядом с собой на диван. Задремавший было ребенок снова заревел. Тогда Амалия распахнула халат, расстегнула ночную рубашку и обнажила такую белоснежную грудь, что ее хотелось потрогать. Сосок она вложила в ротик ребенка, и он, мгновенно успокоившись, принялся сосать; ручонкой, похожей на маленькую звездочку, он пытался еще ближе притянуть к себе знакомый шар.
— Мсье Бебе хотел пить, — объяснила Амалия.
Клери смотрел на нее с уважением.
— Амалия, — прошептал он, — вы знаете, почему вас разбудили?
Чтобы не беспокоить Патриса, она ответила только глазами. И посмотрела на Клери.
— У меня хотели его отнять, — сказала она, глянув на малыша с нежностью, взбесившей Ирен.
— Но похитили вашего ребенка, — сказал Клери.
— Они очень быстро поймут, что ошиблись, — спокойно ответила Амалия. — Мсье достаточно сказать правду.
— Вот именно! — начал Клери.
И замолк, не понимая теперь, как быть с этим слепым доверием, которое она ему выказывала. Она должна была плакать, кричать, а она сидит перед ним, почти ни о чем не просит и смотрит на него с той слепой верой простодушных людей, с какой они доверяются своему святому заступнику.
— Именно, — повторил он. — Мне не поверят. Ну-ка, Амалия, расскажите нам, как прошел вечер. Когда мы уходили, вы умывали детей. Что было потом?
— Потом, — сказала она, — я их уложила. Но мсье Бебе плакал. Зубки его мучают. Я его покачала. А в конце концов взяла к себе в постель.
— А Жулиу? Где он был?
— В своей кроватке, конечно.
— А его кроватка в детской?
— Да, мсье Бебе заснул, но я не хотела его тревожить. И оставила у себя.
— Никакого шума вы не слышали?
— Нет. Я немного устала и уснула следом, спала, пока мадам меня не разбудила.
— Таким образом, — заключил Клери, — тип, который проник в вашу спальню, подумал, что вы прижимаете к себе собственного сына. Кто бы не ошибся? Он ведь не знал, что, когда нас нет, вы спите в комнате, смежной с детской, и для удобства ставите кроватку своего сына рядом с колыбелькой Патриса.
— Да что вы так привязались к Амалии, — вскричала Ирен. — Она же все это знает.
— Позвольте. Это самое главное. Я хочу, чтобы вы правильно поняли: различить детей похититель был не в состоянии. Поэтому, если я теперь заявлю, что он ошибся, преступник подумает, что это — хитрость, что таким образом его хотят заставить вернуть ребенка, и мы не сумеем доказать ему обратное. На пеленках вензелей нет, а такие маленькие дети, разумеется, все на одно лицо. Вы ведь понимаете меня, да?.. Дело мы имеем с людьми решительными, я уверен, что тут действует не один человек. Такое в одиночку не устроишь. Что же они станут делать дальше?
Амалия подняла голову. У нее были огромные, непроницаемо черные глаза, как на картинах Пикассо. Только приглядевшись, можно было увидеть в самых уголках островки белого цвета. В ее эмалевых глазах отражался свет плафона.
— Что они станут делать? — повторил Клери. — Я скажу вам. Либо они отдадут нам ребенка, получив выкуп, либо — извините мне мою грубость — избавятся от него.
Амалия не шелохнулась, целиком погруженная в кормление, но на лице ее отразилось вдруг болезненно-сосредоточенное внимание.
— Нет, — выговорила она. — Нет. Этого не может быть. Мсье что-нибудь придумает.
Клери не смог удержаться и положил руку служанке на плечо.
— Амалия, милая, — сказал он, — я сделаю невозможное. Но при одном условии. Что вы, мы и все, кто здесь есть, позволим полиции и газетам считать, что выкрали действительно Патриса, нашего сына. И уверяю вас, бандиты позаботятся о ребенке должным образом, если будут знать наверняка, что получат за него выкуп.
— Мсье заплатит за моего маленького Жулиу? — прошептала Амалия жалким, покорным голосом.
Свободной рукой она утерла глаза, потом очень осторожно отняла от груди малыша и, полная достоинства, привела в порядок свою одежду.
— Мсье так добр, — сказала она. — Я согласна работать, ничего не получая.
— Но об этом и речи нет. Вы в случившемся не виноваты. Все, что от вас требуется, — предоставить нам свободу действий, чтобы все хорошо обошлось. Скоро прибудет полиция. Вам только надо вести себя так, словно Патрис — ваш сын. Уверяю вас, другого пути нет.
— Мы хотим спасти Жулиу, — вступила Ирен, — и обеспечить безопасность Патрису. Они отдадут нам Жулиу и исчезнут, таким образом все уладится.
— Договорились? — спросил Клери.
Неожиданно Амалия зарыдала. Она утвердительно кивала головой, не в силах произнести ни слова.
— Ну-ну! Ну-ну! — сказал Клери. — Успокойтесь, милая Амалия.
— Это я виновата, — бормотала она.
— Да нет же. Укладывайте Патриса и ждите, пока вас позовут. А вы, Ирен, приготовьте кофе. Мофранов сейчас будить незачем. Я им потом все объясню. Иду вызывать полицию.
Он пошел было к себе в кабинет, но остановился на пороге. А не получается ли все-таки, что в каком-то смысле он приносит Жулиу в жертву Патрису? Как бы все предусмотреть и не опуститься до низости? Зазвонил телефон. Все трое застыли.
— Это они, — тихо сказал Клери, словно боялся быть услышанным.
— Ну так чего же вы ждете? — спросила Ирен.
Он снял трубку.
— Да, это я… Да, я вас прекрасно слышу.
Ирен медленно села. Амалия остановилась на пороге гостиной с уснувшим ребенком на руках.
— Четыре миллиона! — вскрикнул Клери. — Вы совсем сошли с ума. Да у меня почти нет живых денег.
Ирен обернулась к Амалии.
— Четыре миллиона франков, — прошептала она, — это же четыреста миллионов сантимов. Это немыслимо.
— Бедный мой маленький Жулиу, — пробормотала служанка.
— Да-да, ваш бедный маленький Жулиу, — сухо повторила Ирен.
— Послушайте, — говорил в это время Клери. — Попытайтесь понять. Вы вынуждаете меня одалживать деньги. Это займет много времени. И все мои действия станут известными… Но я же, черт побери, ничего с этим поделать не могу. Банкиры насторожатся. Я согласен не предупреждать полицию, но она все равно будет предупреждена. Как только запрашивается большая сумма в маленьких купюрах, все сразу понимают, что речь идет о выкупе… Что-что?
Из телефонной трубки доносились отзвуки раздраженного голоса. Клери нервно схватил со стола линейку и стал постукивать ею по ноге.
— Мне нужно несколько дней, — заговорил он. — И предупреждаю вас… если будете плохо обращаться с моим ребенком, я с вас шкуру спущу.
Связь была резко прервана. Клери вернулся в гостиную.
— Вы слышали?.. Четыре миллиона! Это какое-то безумие… Укладывайте малыша, Амалия. Вы здесь не нужны.
— Мсье не сможет заплатить, — сказала Амалия.
— Еще посмотрим.
— Я думаю о Жулиу.
— Но мы тоже, Амалия. Мы тоже думаем о нем.
— Мсье надо сосредоточиться, — сказала Ирен. — Не терзайте его. Идите к себе. — Она закрыла дверь за служанкой и спросила: — Кто это был?
— Мужской голос, — ответил он. — И не очень угрожающий. Но полный решимости. Счастье, что вы обе ничего не слышали. Он сказал: «Если не заплатите, своего ребенка больше не увидите». Вот так… Спокойно. О! Я буду торговаться… Чудовищно это звучит. Но что поделаешь! Речь идет именно о торге, и они это знают.
— Он еще позвонит?
— Конечно.
— А в таких случаях полиция разве не ставит телефон на прослушивание?
— Думаю, что да. Ирен, будьте так добры. Чашечку кофе, очень крепкого. Я смертельно устал. И вовсе не уверен, что нам удастся вернуть этого несчастного мальчишку. Они, пожалуй, уже увезли его куда-нибудь далеко. Даже если полиция будет прослушивать телефон, вряд ли это что-нибудь изменит.
— Я сейчас вернусь, — сказала Ирен. — Подождите меня, не звоните пока в комиссариат.
Клери закашлялся и схватился за сигарету. Он затянулся и сел перед аквариумом. Это зрелище успокаивало. Клери смотрел, как рыбки поднимаются на поверхность, мягкими губами хватают пузыри и снова устремляются вниз, плавно пикируя в песок.
Четыре миллиона! Стоимость фермы у Трех Дорог. Ни за что!
Клери ответил сонный голос:
— Похищение? Вы в этом уверены?.. Откуда вы звоните?
— Из замка Ла-Рошетт.
— А где это?
— Ну, между Лавалем и Шато-Гонтье. Да все знают наше поместье! Приезжайте скорее.
— Да… но это так быстро не делается… Вы же понимаете, который теперь час. Я дам знать комиссару.
— Скажите ему, что речь идет о сыне мсье Клери де Бельфон.
— Подождите. Как это пишется?
— Пишите как хотите. Только поторапливайтесь. — Клери раздраженно грохнул трубкой. — Убивать таких надо, — сказал он.
Ирен принесла кофе. Клери сурово посмотрел на жену.
— Мне кажется, я принял правильное решение. И не думайте потом упрекать меня.
— Но… я же ничего не говорю.
— Всегда хорошо действовать заодно с полицией. Да, я знаю, о чем вы подумали. Если бы похитили Патриса, а не Жулиу, я бы не очень спешил ставить власти в известность. Так ведь или нет?
— Пейте, пока горячий, — напомнила Ирен безразличным голосом.
Клери задумчиво прихлебнул кофе.
— В любом случае я отступил, чтобы лучше прыгнуть. Все равно мы были бы вынуждены открыться друзьям. А вы знаете Альбера. Он бы заставил нас предупредить полицию. Но черт побери, да скажите же что-нибудь! Сидите здесь и смотрите на меня, как судья. Я пытаюсь действовать как можно толковее.
Он отдал свою чашку Ирен, и она поставила ее на поднос.
— Это Мария, — сказала она. — Без всяких сомнений, она.
— О! — вскричал Клери. — Я был бы удивлен, если бы вы не приплели сюда Марию. Но Мария здесь совершенно ни при чем.
— Вы ее защищаете?
Клери встал, сжав кулаки. В ярости прошагал до двери гостиной.
— В конце концов, — сказал он, — мне плевать. Думайте, что хотите. Но я запрещаю вам первой говорить о Марии. Когда полицейские будут допрашивать нас, отвечать буду я… Ладно. Я оденусь и пойду к Мофранам и Жюссомам.
Ирен, оставшись одна, налила себе чашечку кофе и, свернувшись, забилась в угол дивана, подобрав под себя ноги. Мария! Жак прав, конечно. Это не могла быть она. Она бы ни за что не спутала детей. Она их слишком хорошо знала. Но как было бы славно отомстить ей. Шлюха! Потаскуха, которой нравилось соблазнять этого несчастного простофилю и, словно гарцуя, играть бедрами и выставлять грудь, когда случалось проходить мимо него. Она была точно в его вкусе — пухлая, черноволосая, с пышной грудью, нахально предлагающая себя. Некрасивая! Больше, чем красивая! Кобыла, порой безумная, как эта Мордашка, любимая лошадь Жака, которую он ни за что не согласится продать. Она заставит его это сделать, потому что потребуется не одна жертва, чтобы раздобыть эти четыре миллиона. Долой всех баб! Если бы Амалия не была кормилицей, без которой не обойдешься, с каким бы удовольствием она выставила ее за дверь, да, и ее тоже. Разве мать может дрыхнуть, когда являются украсть ее дитя?
Бледный свет прочертил полоски вверху окна. Уже день! Ирен взглянула на часы. Скоро пять. Она, должно быть, на несколько минут будто провалилась куда-то и теперь, с затекшими ногами и с горечью во рту, медленно выбиралась из этого почти бессознательного состояния. Не может же полиция так медлить! Она поднялась, споткнулась и удержалась на ногах, схватившись за спинку дивана. Что там делает Жак? Неужели ему так трудно было договориться с Мофранами и Жюссомами?
Она поняла вдруг, что растрепана, помята и постарела от выпавших на ее долю испытаний. Но, помимо всего этого, у нее было ощущение запачканности, грязи, оттого что в доме ее свершилось зло, насилие. Навсегда отныне поселится здесь страх. И при каждом поскрипывании паркета она будет вздрагивать. Услышав шаги мужа в холле, она привела в порядок прическу.
— Они сейчас будут, — сказал он. — Я всем все объяснил. Тут можно не волноваться. Я иду их встречать. Будьте внимательны. Не допустите ни малейшей оплошности. Похитили Патриса. Говорите мало. Вы без сил от обрушившейся на вас беды. Мне не больше вашего нравится этот спектакль, но это необходимо, ради Жулиу.
Машина остановилась перед крыльцом, и Клери побежал открывать дверь.
— Комиссар Маржолен, — представился старший. — А это лейтенант Крессар, из полиции.
Рукопожатия. Шаги. Ирен придумывает себе позу. Взглянув на двух мужчин, здоровающихся с ней, она пытается сориентироваться, пока Клери быстро представляет ей их. Комиссар — ему лет сорок, плохо выбрит… дешевый костюм с отвисшими карманами… запах трубочного табака. Второй — молодой… в очках… густые усы, свисающие каким-то злобным полумесяцем… джинсы и кожаная курточка, вся потрескавшаяся.
— Мы приехали так быстро, как только могли. Итак? Что же произошло на самом деле?
И Клери рассказывает, рассказывает. Комиссар что-то записывает.
— Я бы хотел все осмотреть, — говорит он. — Покажите мне дорогу. И вы, мадам, проследуйте за нами, если это не слишком, просить вас об этом. Итак, вы поднялись по лестнице… Я иду за вами.
— Тише, пожалуйста, — просит Клери. — Ребенок нашей служанки спит.
Делегация проходит через спальню Ирен и идет в детскую. Комиссар крутится возле кроваток.
— Вы, естественно, ни до чего не дотрагивались?
— Ни до чего, — отвечает Клери. — Патрис спал здесь, а Жулиу — там.
— Хорошо. Так вы, мадам, убедились, что обе кроватки пусты.
— Да. Но меня это не встревожило. У Жулиу режутся зубки, а Патрис плохо спит, и я подумала, что Амалия взяла обоих к себе в постель, чтобы они поскорее заснули. Но я все-таки решила это проверить и зашла в спальню к Амалии.
— Надо вам сказать, — перебивает ее Клери, — что наша служанка спит здесь, когда мы уходим, чтобы наш ребенок не оставался один на этаже. Вообще-то она со своим ребенком спит на третьем этаже.
— Ага, вот это важно, — отметил комиссар. — Воры, стало быть, были в курсе. Я могу войти?
— Прошу вас, — сказал Клери. — Амалия здесь. Можете допросить ее.
Оба полицейских остановились на пороге. Комиссар обернулся к Клери.
— Амалия, а как дальше? — шепотом спрашивает он.
— Амалия Перейра.
— Испанка?
— Португалка.
— Гражданство?
— Натурализованная француженка.
Комиссар кивает головой и идет вперед. Амалия сидит на кровати и держит Патриса на коленях.
— Это ваш малыш Жулиу, — говорит комиссар. — Сколько ему?
— Восемь месяцев, — отвечает Амалия, серая от страха.
— В котором часу вы легли?
— В десять. Но Жулиу плакал, из-за зубов, ему было больно.
Амалия ищет глазами хозяев: она в нерешительности.
— Итак, вы берете Жулиу к себе в кровать, — говорит комиссар, — а что вы делаете с Патрисом?
— Он спал в детской, — отвечает за нее Клери, немного раздраженно.
— Да, — более уверенным голосом подтверждает Амалия. — Жулиу успокоился, и я заснула. Вот и все.
— Вы ничего не слышали?
— Нет. Но когда я сплю, меня не разбудишь.
— Понятно, — говорит комиссар. — Короче, прекрасно осведомленный вор явился прямиком сюда, бесшумно прошел сквозь комнату, схватил Патриса, и все это не заняло у него больше двух-трех минут. Как был одет ребенок?
— На нем комбинезончик, — отвечает Амалия.
— Простите, я обращаюсь к его матери. Комбинезончик, да, мадам? На его белье ничего не вышито? Никакого вензеля нет?.. Так… У вас есть фотография малыша?
— Нет, — отвечает Ирен. — Но вы же знаете, в этом возрасте все дети похожи друг на друга. — Она бросает мимолетный взгляд на Амалию и на своего мужа, потом указывает на Патриса. — Вот на кого примерно похож наш сын.
Комиссар, приблизившись, изучает ребенка, затем спрашивает у Амалии:
— Вы ведь кормите грудью ребенка, мне так только что сказал мсье Клери. Но я полагаю, похитители будут его кормить теперь из бутылочки. Он, по крайней мере, не слабого здоровья?
— Он никогда не болел, — заявляет Амалия.
— Но он все-таки перенес желтуху, — уточняет Ирен. — И остался довольно слабым.
Амалия вот-вот потеряет хладнокровие.
— Я уверен, что он выдержит, — заявляет полицейский. — Это дело нескольких дней. Ребенок — это же заметно. Он всегда кричит.
— А этот нет, — говорит Амалия, чуть не плача.
Комиссар поворачивается к Ирен.
— Мы вернем его вам, мадам. И в добром здравии, вот увидите. Посмотрим теперь, как сюда проник преступник.
Все идут по коридору и останавливаются перед окном, которое комиссар внимательно обследует.
— Чистая работа, — признает он. — Окно ведь выходит в парк за домом?
Он открывает окно. Сквозь листву розовеет небо. С крыши еще падают капли.
— А откуда взялась эта лестница?
— Из-под навеса, — отвечает Клери. — Мой садовник, мастер на все руки, часто ею пользуется.
— Там, внизу, должны быть следы, — говорит комиссар. — Крессар, малыш, спускайся и обследуй землю. Раз уж здесь есть лестница, ее и возьми. А потом беги к автомобилю и объяви общую тревогу. Нельзя терять ни минуты. Люди, путешествующие с ребенком, всегда обращают на себя внимание. Я почти уверен, что здесь замешана женщина… Вы никого не подозреваете?
— Нет, — отвечает Клери.
— Да, — говорит Ирен.
— Ой-ой-ой! — вскрикивает комиссар. — Надо было договориться между собой. Давайте спустимся вниз. Мне, безусловно, понадобится телефон.
Они возвращаются в гостиную.
— Итак, — атакует комиссар, — поговорим о той, которую вы подозреваете.
— Моя жена подумала о горничной, нам пришлось прогнать ее, потому что она обкрадывала нас, — говорит Клери.
— Ее имя?
— Мария Да Коста.
Комиссар заносит это в свою потрепанную записную книжку.
— Возраст?
— Двадцать шесть лет.
— Национальность?
— Португалка.
— Подождите-ка. Как и ваша кормилица. Они родственницы?
— Вовсе нет. Во всяком случае, я так думаю. Амалия живет во Франции много лет, а Мария приехала совсем недавно.
— Все это еще надо проверить, — говорит комиссар. — Ее приметы?
— Не очень высокая. Брюнетка. Незамужняя.
— Привлекательная, — добавляет Ирен.
— О! Привлекательная!.. Ну, если вам так угодно, — соглашается Клери.
Комиссар бросает на них беглый взгляд и, углубившись в размышления, созерцает бурную жизнь рыбок в аквариуме.
— Как она себя вела, когда вы ее выставляли? — снова задает он вопрос.
— Она была в бешенстве, естественно, — говорит Клери.
— Но угроз-то она не выкрикивала?
— Только этого еще не хватало, — взрывается Ирен.
— Кто из вас подписывал ей увольнение?
— Конечно я, — сказала Ирен. — Моего мужа никогда не бывает дома.
— То есть я часто отсутствую, — спокойно заявляет Клери. — С моим конным заводом… Поставьте себя на мое место. Ирен, вы бы предложили чего-нибудь горячего мсье Маржолену. Так сыро. Хотите чашечку кофе, комиссар?
— Спасибо.
— Спасибо да или спасибо нет?
— Спасибо да.
— Вот и прекрасно.
Ирен удаляется, и Клери склоняется к комиссару.
— Жена моя ее терпеть не могла, но мы в ней нуждались. После рождения малыша Ирен была очень слаба, нам срочно нужна была помощница. Я дал объявление, и явилась Мария.
— Она действительно крала?
— Честно говоря, мне об этом ничего не известно. На меня все эти дела со слугами наводят тоску. Но я представить себе не могу, чтобы Мария участвовала в такой жуткой истории.
— Поговорим теперь о вашей прислуге. Кто у вас тут работает? Я имею в виду здесь, в замке.
— Прежде всего Мофраны, кроме Амалии. Леону Мофрану шестьдесят пять лет. Это мой камердинер. Его жене Франсуазе — шестьдесят. Она — наша кухарка. Прежде чем поступить на службу к нам, они работали у моего тестя. Это люди, которым можно доверять полностью. Есть еще Жюссомы, они живут в небольшом домике у ворот. Они — сторожа, но Дени к тому же — садовник, а Тереза помогает Амалии по дому, на ней стирка и уборка… Ну, вот и все.
— Какого они возраста?
— Ему пятьдесят один, а ей, думаю, лет сорок семь — сорок восемь. Они из Шато-Гонтье. Преданность у них просто в крови. Все они в курсе случившегося. Я сразу им все рассказал, потому что у они у нас вроде как члены семьи.
— Остаются ваши конюхи. Их много?
— Всего я нанимаю шесть человек.
— Вы можете дать мне список?
— Пройдемте ко мне в кабинет, если вы не против.
Мужчины проходят в соседнюю комнату, Клери достает из бюро список и кладет его на стол. Пока комиссар что-то выписывает, Клери закуривает и делает несколько затяжек так, будто вдыхает свежий воздух. Самое трудное позади. Амалия вела себя очень хорошо. Маржолен ни в чем не сомневается.
— Со всеми этими людьми никаких неприятных эпизодов не было? — спрашивает комиссар.
— Нет. Все они местные. Прежде чем нанять кого-нибудь, я, как вы понимаете, всегда навожу справки.
— И все же. Мы их возьмем на заметку. Лошадей на соревнования вы не выставляете?
— Нет. Это слишком хлопотно.
— А с клиентами у вас никаких размолвок не выходило? Никто из них не намеревался отомстить вам за что-нибудь?
— Нет. Здесь меня все знают. В делах прямее меня человека нет.
Комиссар встает. Он покусывает карандаш, потом резким движением захлопывает записную книжку.
— На первый взгляд, — говорит он, — мне, конечно, самой подозрительной кажется эта Мария. Но вернемся к тому телефонному разговору, о котором вы мне только что рассказали. У вас требуют четыре миллиона? Это вам по средствам?
Клери таких вопросов не любит.
— Это важно, — продолжает комиссар. — Либо мы имеем дело с человеком, который мог оценить размеры вашего состояния, и тогда его надо будет искать среди ваших приближенных. Либо же речь идет о бандите, который назвал эту цифру наугад, и вовсе не уверен, что вы в состоянии столько заплатить. Вы скоро поймете, как обстоит дело, потому что они наверняка не замедлят вам перезвонить. Меня вот что удивляет: обычно детей похищают по преимуществу у людей, располагающих очень большой суммой денег, которые всегда под рукой, — это промышленники, банкиры… Но землевладелец вроде вас, даже если у него большой капитал, не может реализовать его в один-два дня.
— Как раз мой случай.
— Вот именно! Четыре миллиона — это нереально. Я склонен думать, что вашего ребенка похитили люди недалекие. И буду просто уверен в этом, если вам удастся заставить их значительно уменьшить выкуп. Может, и не сразу, но в конце концов они поймут, что требуют слишком много.
— Но что будет с Патрисом все это время?
Комиссар, заложив руки за спину, обходит вокруг стола.
— Буду откровенен, мсье Клери, — говорит он наконец. — Начинается партия игры в покер. Выиграет тот, кто дольше сохранит хладнокровие. Когда они позвонят вам… не бойтесь. Все ваши разговоры будут прослушиваться… постарайтесь воздержаться от споров или угроз. Взамен одних цифр предлагайте другие. И спокойно. Как будто ставка здесь — не ваш сын.
Клери качает головой. Он знает, что жизнью Жулиу рисковать не будет.
— Мы запишем голос вашего собеседника, — продолжает комиссар. — Короче, сделаем все, что обычно делается в таких случаях.
— А газеты? — спрашивает Клери.
— Мы заставим их молчать. Во всяком случае, некоторое время. Теперь-то они научились держать язык за зубами. Единственное, о чем я вас прошу, — это держать нас в курсе самых незначительных происшествий… Что на меня производит прекрасное впечатление и даже придает уверенности, так это то, что и вы, и ваша жена прекрасно владеете собой. Я боялся, что услышу здесь крики и увижу слезы, а встретил борцов. Это хорошо. Это очень хорошо.
Он останавливается возле фотографии, висящей на стене, это поместье, снятое с высоты птичьего полета. Ногтем он делает пометки в нескольких местах.
— За вашим поместьем наблюдение установить трудно. Стена, окружающая его спереди и по бокам, еще куда ни шло, но Лa-Рошетт большей своей частью выходит в поле. Кто угодно может проникнуть оттуда и, естественно, так же исчезнуть. Для очистки совести я организую патрули, но это ничего не даст, потому что похитители вряд ли вернутся сюда погулять, зато вашим людям будет спокойней. К тому же наши будут очень деликатны. Дорожки, которые я вижу за парком и вокруг пруда, будут изучены с лупой. Насчет Крессара можете не сомневаться. От него ничего не ускользнет. Мы не должны пренебрегать никакими мелочами… А, Крессар. Я только что говорил о тебе.
— Все в порядке, — докладывает Крессар. — Все завертелось. — Он запыхался и расстегивает свою кожаную курточку. — Я просил особое внимание обращать на машины с прицепом, — продолжает он. — Это идеальный способ прятать мальчишку.
— За домом никаких следов нет?
— Под лестницей, похоже, топтались, но дождь все смыл. Тем не менее есть большая вероятность, что их было двое… Где-то возле пруда их, должно быть, ждал автомобиль. На всякий случай завтра мы все там облазим… — Он смотрит на часы. — А точнее, сегодня утром. Уже половина седьмого. День, похоже, обещает быть прекрасным.
Возвращается Ирен с подносом в руках. Клери освобождает два маленьких столика и помогает ей расставить чашки, сахарницу и блюдо с тостами.
— Угощайтесь, комиссар.
Короткие минуты передышки.
— По моему разумению, — говорит комиссар, — они не должны быть очень далеко. Звонить они могли из Лаваля. Теперь же повсюду есть автоматы. А потом засели в каком-нибудь укромном уголке, о котором заранее позаботились, вот оттуда-то они никуда уж не денутся. Я так думаю, что у них там все под рукой: белье для младенца, еда, ну, в общем, все, что надо. В их же интересах вернуть вам ребенка в добром здравии, это же ясно. Если с ним что случится, они ведь знают, на что обрекают себя, с нынешними-то судами присяжных. Вы можете на нас рассчитывать, мадам. Скоро увидите своего малыша.
Он залпом выпивает кофе, ждет, пока лейтенант догрызет гренок.
— Давай, старик. Мы уходим.
Они прощаются с Ирен. Клери провожает их, жмет им руки.
— Не отходите от телефона, — повторяет комиссар. — Может, они предпочтут вам написать, но я бы этому удивился. Они не могут не знать, что у нас есть техника, которая заставляет письма говорить. Есть у вас кто-нибудь, кому вы могли бы передать дела, ну, кто в курсе и кому вы доверяете?
— Да. Это Шарль Жандро. Моя правая рука. Безупречно честный человек.
— Прекрасно. Скажите, что плохо себя чувствуете, и попросите заменить вас на некоторое время. И все-таки еще раз подумайте: может, у похитителей здесь есть сообщник? Держитесь, мсье Клери. До скорого.
Они хлопают дверью и отъезжают. От травы поднимается пар. На ясном небе еще горит одинокая звезда. Клери опускает голову. Четыре миллиона — и речи быть не может! Но на какую же сумму можно согласиться, чтобы не обречь на смерть ребенка Амалии? Он медленно идет к себе и сталкивается с Франсуазой Мофран, пришедшей за подносом.
— Где мадам?
— Она только что пошла наверх. Потому что эта несчастная Амалия… В прошлом году муж у нее помер. А теперь вот сын исчез. Все это очень грустно.
— Да, да… Конечно. Это очень грустно… Не застревайте здесь, Франсуаза. Вы можете понадобиться мадам.
Он возвращается к себе в кабинет. Он злится: на Амалию, на Ирен, на себя самого, на все, что происходит. Он звонит Жюссомам.
— Алло, Дени?.. Проследите, чтобы нас никто не беспокоил. И Терезе скажите то же самое. Если кто-нибудь появится, говорите, что мадам плохо себя чувствует, а меня нет дома. Ну, если это не полицейский, само собой.
— А что, у этих господ из полиции надежда есть? — спрашивает Жюссом.
У Клери возникает сильное желание послать его куда-нибудь подальше.
— Разумеется, — ворчливо отвечает он. — Да, Дени, прежде всего возьмите малолитражку и съездите за сигаретами для меня в Шато-Гонтье. Блок «Стивесан». И не забудьте: самое главное, виду не подавайте, что вам есть что скрывать. В Лa-Рошетт ничего не произошло, ясно? Ничего.
Он кладет трубку и сразу же звонит Жандро.
— Прошу прощения, Шарль. Сейчас немного рановато. Но я вынужден обратиться к вам. Немного устал. И очень плохо спал. Вы могли бы принять Гримбера вместо меня? Разберитесь сами, что он умеет делать. Я немного опасаюсь этих молодых ветеринаров. И еще, предупредите Марселена. Бетарама я по-прежнему намерен продать, но мы вернемся к этому через пару недель. А сейчас я нуждаюсь в отдыхе.
— Это не очень серьезно?
— Да нет. Я потом вам объясню. Мне многое придется объяснить. Не беспокойтесь.
Клери садится за стол и опускает голову на руки. Это правда, он очень устал. Это правда, Мария была его любовницей. Это правда, и, возможно, именно он в ответе за то, что происходит. Он готов заплатить. Но это будут деньги его жены. Он никогда больше не осмелится посмотреть на себя в зеркало.
В ванной комнате Ирен помогает Амалии купать Патриса. Обычно она довольствуется тем, что заглядывает в щелочку и спрашивает: «Все в порядке? Он себя хорошо ведет?» Но сейчас ей хочется разделить тревогу служанки. Она чувствует себя виноватой. Не Патрис, а Жулиу должен был лежать на столе, пока Амалия расстилает чистые пеленки. И потому она, ненужная, мешающая, неловко-торопливая, чувствует себя обязанной быть здесь.
Она подает коробочку с тальком, английские булавки. Ребенок болтает ручками и ножками, словно черепаха, передернутая на спину. Он очень худой. У него большая, будто из хрупкого фарфора голова, пухлыми губками он пытается поймать руку, мелькающую над ним. Амалия обращается с Патрисом вроде бы жестко, но с какой-то необычайной нежностью. Ирен в восхищении, но в то же время ей немного страшно. Когда она сама берет ребенка на руки, у нее это выходит робко и неуклюже. Амалия припудривает Патриса тальком, хватает его за лодыжки и поднимает маленькое тельце, будто это ободранный кролик. Облачко белой пудры садится на попку и ножки малыша, на крохотную свечечку между ними. Несколько точных и быстрых движений, и ребенок в белой пижамке. Амалия расправляет ее, теперь он похож на тот белый боб, который до сих пор еще находят в пирогах Бобовые короли. Она наклоняется над личиком ребенка и носом касается кругленькой кнопочки малыша: он пытается улыбнуться, пускает слюни. Ирен вдруг чувствует сильную зависть. Где Амалия выучилась этому грубоватому искусству, все это похоже на то, как самка обнюхивает своего котенка или щенка.
А ведь Патрис появился не из ее чрева. Это чужая плоть. «Он — мой», — думает Ирен, совершенно изумленная тем, что ей хочется потребовать обратно свое дитя, будто Амалия может отнять его у нее. И тут же ей в голову приходит странная мысль: «Она любит его так же, как Жулиу. Лишь бы был у нее ребенок, которого можно умывать, кормить и укачивать. До остального ей дела нет».
И она смотрит с каким-то стыдливым отвращением на то, как ее служанка смеется вместе с ребенком точно так же, как он. А теперь Амалия вытащит свою огромную грудь, все с той же чудовищной естественностью. Любовь, роды, кормление — почему же все это такое липкое? Это омерзительно. Ирен силилась сказать что-нибудь приятное. Но быстро вышла и у себя в комнате надушила руки. Затем она заставила себя, дабы соблюсти приличия в нынешних обстоятельствах, вернуться. Недопустимо оставлять Амалию в такое время. Ребенок сосет с закрытыми глазами. Ирен садится возле служанки.
— Комиссар верит, что все будет хорошо, — говорит она. — Он принял все меры. Остается только ждать.
— Мсье нипочем не будет платить, — говорит Амалия.
— Это зависит от… Полиции, может быть, удастся быстро арестовать виновных. Они уже ищут Марию.
— Марию? Она слишком хорошо знала Жулиу. Она бы не спутала.
— Да, это верно. Но она могла просто навести сообщников. Вот вы ее хорошо знали, какое у вас осталось от нее впечатление?
— Мы мало разговаривали.
— Она вам временами много плохого обо мне говорила?
Амалия колеблется. Ее впервые вызывают на откровенный разговор, доверительный разговор двух женщин. Она благодарно смотрит на Ирен.
— Да. Она… Она говорила, что мадам очень строга.
— А что еще?
— Она говорила, что мадам злая.
— А что вы ей на это отвечали, Амалия?
Вопрос ошеломляет служанку.
— Ой, я? Я отвечала, что если она недовольна, так может уйти. А она говорила, что долго не выдержит, что с нее довольно, хватит с нее торчать в этой дыре. И что в Париже она будет больше зарабатывать.
— О, так она вам говорила о Париже?
— Много раз.
— Надо будет, чтобы вы повторили это комиссару.
Ребенок заснул. Амалия осторожно утирает ему ротик.
— Дайте его мне, — говорит Ирен. — Боже мой, да он совсем легкий. Сейчас меня это поражает. Жулиу намного полнее, мне кажется.
— Немного полнее, — поправляет ее Амалия. — Может, на два или три фунта. Но мсье Бебе наберет их, когда у него прорежутся зубки. Мне с ним гулять в парке, как всегда?
— Конечно. Нет никаких причин держать его взаперти.
Ирен медлит. Ей хочется поболтать с Амалией, хотя обычно она этого избегает.
— Где вы научились обращаться с детьми? — спрашивает она. — Кажется, будто вы занимались этим всю свою жизнь.
— У меня было два маленьких брата. Мать у нас умерла, а отец целыми днями отсутствовал. Он на судоверфи работал, а когда у него выпадали выходные, занимался профсоюзными делами. Однажды его арестовали, и мы его так больше и не видели. Один из наших дядюшек, с материнской стороны, взял тогда моих братьев. Он их увез к себе, в Аргентину. Они совсем маленькие были.
— И что с ними сталось?
— Не знаю. Я захотела остаться в Лиссабоне. Я у соседки работала, она держала бакалейную лавочку, ну а потом я встретила Эстебана, который приехал в отпуск. Он увез меня во Францию, где жил уже много лет. Мы поженились. Но мадам ведь все это знает.
— Да, но в самых общих чертах.
Ирен не рискует признаться, что она в свое время даже не обратила внимания на слова мужа, когда он сказал ей, что нашел супружескую пару, которая им очень подходит. Она время от времени где-то возле конюшен встречала невысокого человека с очень смуглым лицом, но он остался в ее памяти каким-то пятном. Амалия была для нее всего лишь иностранкой, нанятой, чтобы кормить ребенка. Теперь Ирен поняла, что она действительно существует и что именно она спасла Патриса.
— Бедная моя Амалия, — шепотом говорит она, — жизнь вас не баловала.
Ирен представляет себе нищенское детство, девочку, продающую пастилки и выросшую как сорняк в городе, который Ирен видела только по телевизору, когда показывали революцию гвоздик. Наверно, лучше было в кормилицы выбрать какую-нибудь женщину из местных. В голове у нее туман, и думать она сейчас не способна. В чем Ирен уверена, так это в том, что для спасения Жулиу они сделают все возможное. И никаких причин для угрызений совести у нее нет.
— Мадам будет держать меня в курсе дел?
— Ну, разумеется, Амалия. Можете на нас рассчитывать. Как только что-нибудь станет известно, я сообщу вам. Знаете, уложите-ка Патриса. А потом надо еще кое-что простирнуть…
Она передает ребенка Амалии. Он сосет палец. Он бледненький, но у него красивые ресницы, ресницы маленького жеребеночка. Почему же ей так нравятся животные и так безразличны человеческие детеныши? Вдруг раздается телефонный звонок, Амалия прижимает к груди ребенка.
— Боже мой! — говорит она. — Может, это меня? Мадам не против, если я подойду вместе с ней?
— Послушайте! — отвечает Ирен. — Мсье будут звонить многие. Не можете же вы торчать целый день в гостиной. И я уже сказала вам, что вы будете все знать. Хватит! Мы все должны сохранять хладнокровие.
Она спускается одна и отворяет дверь в кабинет. В комнате голубая завеса. Ирен машет рукой, отгоняя от себя табачный дым.
— Бедный мой друг! Как вы это выносите! Позвольте, я приоткрою окно.
Клери, с сигаретой в зубах, устремив глаза в потолок и поставив ногу на стол, внимательно слушает.
— Кто это? — шепотом спрашивает Ирен.
Клери мотает головой, давая понять, что нет, это не они. Она облокачивается на кресло, пытается отгадать, кто звонит.
— Лучше бы вы приехали, — говорит Клери. Ладонью прикрыв трубку, он произносит вполголоса: — Это Альбер! — И продолжает, обращаясь уже к нему: — Они мне больше сорока восьми часов не дадут. Поэтому время не терпит.
У него очень усталый вид. Она вдруг замечает, как он постарел. Она жила рядом, а его не видела. На самом деле она никого не видела. Спряталась в кокон, свитый из собственной скуки. И вот, несколько часов назад только и открыла глаза. Она напоминает стоп-кадр, внезапно пришедший в движение. И человек, разговаривающий сейчас по телефону, — это ее муж. У него залысины на висках, слегка навыкате глаза теперь ввалились чуть ли не до скул и стали похожи на глаза спаниеля. В этом лице, когда-то привлекательном, есть некая удрученность. Нос обвис. Маленькая бородавка прицепилась прямо у его основания, будто гриб под кустом. Разве она и раньше была?
— Да, — говорит Клери. — Возможности у меня есть. Но это потребует отсрочек. Вот в чем сейчас загвоздка.
Может ли так быть, что она его еще чуть-чуть ревнует? Но ревность вообще ей свойственна. Совсем маленькая, она уже…
— Спасибо, Альбер. Я жду вас. Да, вот еще что. Скажите Бельересам, что я плохо себя чувствую. Помните?.. Они должны были приехать к нам в воскресенье. Отложим их визит на недельку. Надеюсь, к тому времени со всем этим будет покончено.
Он вешает трубку и с места в карьер начинает заранее отбиваться от возможных нападок Ирен.
— Но ведь мне же надо было его предупредить. Не забудьте к тому же, что он обязан хранить профессиональные тайны. Так что с этой стороны нам бояться нечего. А кто лучше нотариуса может помочь нам разобраться с банками? Он из них, бедняга, не вылезает.
— Но… вы сказали ему правду о Патрисе?
— Я ему сказал точно то же самое, что и комиссару. Похитили Патриса… Я что, не должен был?
— Я уже ничего не понимаю.
Клери тяжело встает, держась за бок. Смотрит на жену.
— Вы тоже не в лучшей форме. Да, Альбер сделает ради Патриса то, чего он не сделал бы для Жулиу. А полиция! И все вокруг! Ну, что вы хотите? Ничего не поделаешь. Альбер будет здесь через час. Посмотрим, что можно продать.
Он подходит к плану усадьбы, качает головой.
— Под луга у Гран Кло можно взять ссуду. Хотя, разумеется, они нас общиплют здорово.
Он гладит пальцами фотографию поместья, ласкает каждую изгородь, каждую крутую дорожку. Наконец он оборачивается, пожимает плечами.
— Если б шла речь о Патрисе, я бы, правда, не колебался. Но ведь с другой-то стороны, это же ради Патриса и делается. Не важно, что мы должны раскошелиться из-за ребенка, который нам никто. Я и так из кожи вон лезу, но такое нелегко пережить. Если еще учесть… Вы, может, об этом не подумали?
— О чем?
— Ну, в общем, представьте себе… Заметьте, что я сгущаю краски…
— Да говорите же, — кричит Ирен. — Как вы умеете действовать на нервы!
— Представьте, что с маленьким Жулиу что-нибудь случится. Это маловероятно, и все же… Понимаете, что из этого следует. Официально, для властей, исчезает не Жулиу. Исчезает Патрис. С точки зрения закона он больше не существует, такого гражданина нет.
— О!
Ирен, поняв смысл сказанного, с ужасом смотрит на мужа.
— Это невозможно, — говорит она. — Надо будет рассказать тогда, что произошло на самом деле.
— Догадываетесь, какой скандал разразится. Те, кто нас не любит, а таких немало, поспешат сделать вывод, что мы вступили в сговор, чтобы вместо Патриса выкрали Жулиу. Согласен, версия несостоятельна. Но люди ведь злы. К счастью, это всего лишь мое предположение. Однако выход у нас один: со всем этим надо покончить как можно скорее. Я собирался спорить, торговаться… Я, конечно, попытаюсь что-нибудь выгадать, но вряд ли мне много удастся. А что Амалия? Как она?
— Лучше, чем можно было ожидать. Только она все время путается под ногами. Как только услышит звонок, тут же мчится.
— Можно ее понять, — говорит Клери. — Поставьте-ка себя на ее место.
— Если бы я была на ее месте, то отдавала бы себе отчет, что разоряю хозяев. Но это ей, естественно, и в голову не придет.
Клери подходит к ней.
— Ну, Ирен, не будьте злой, один раз в жизни.
Он обнимает ее за плечи. Она живо высвобождается.
— Прошу вас, прекратите!
— Да это же дружески, — бросает Клери.
— Ага. Знаю я, как это у вас получается. Вы думаете задержать Альбера до обеда?
— Может быть. Это зависит от того, что мы с ним решим. Но если он и захочет остаться, то мы что-нибудь перехватим на ходу.
— Знаю я ваше «на ходу». Пойду предупрежу Франсуазу.
Она идет через холл, который подметает дядюшка Мофран, в буфетную к Франсуазе. Та, глядя на мрачное, как в самые черные дни, лицо Ирен, вопросов ей задавать не рискует. Впрочем, она лучше Ирен знает, что мсье хотел бы видеть перед собой на столе, когда он голоден, а голоден он всегда. Мясо, это само собой разумеется. «Как положено», — говорит мадам. Это значит: с кровью. И жареная картошка, много жареной картошки. Цикорий с чесноком. А для начала, ясное дело, всякие копчености. Ну и паштет, колбаса, холодная гусятина. Вино, конечно, выбирает Клери. И пусть его съедает беспокойство, он найдет время пошарить в кладовой, погладить рукой этикетки, отдаться удовольствию предвкушения.
— Рассчитывайте скорее на час, чем на половину первого, — добавляет Ирен.
Она поднимается к себе в спальню. Наводит порядок в ванной, прежде чем встать под душ. Закрывает дверь на ключ, как обычно. Раздевшись, она изучает себя в зеркале на внутренней стороне двери. Самолюбования в ее взгляде нет; точно так она оглядывала молодую кобылу, пока конюх седлал ее. Как далеки эти времена! Утренние прогулки, когда она рано-рано галопом неслась через пастбища к Майенне, где первые солнечные лучи загорались на воде. Потом появился Патрис, а с ним усталость, что-то похожее на предательство всего организма.
Она рассматривает шрам от кесарева сечения. Будто это у нее тоненькая застежка-«молния»; ей всегда кажется, что живот ее закрыт только до поры. И, быть может, стоит ей сделать неосторожное усилие, как все эти липкие, голубоватые гадости, этот карман, в котором, как опухоль, растет зародыш, все прорвется наружу и ничего от женщины в ней не останется. Что это будет, смерть или освобождение? Почти каждый день задает она себе этот вопрос, когда ступает ногой в ванну.
Сейчас, стоя под горячим душем, а она так любит теряться в этом тумане, все заволакивающем вокруг, Ирен задумывается, действительно ли ее занимает судьба Жулиу. Амалия создана для того, чтобы иметь других детей. А потом первая печаль пройдет и…
Это все тени мыслей, вяло тянущихся у нее в голове. За такие шальные бредни ответственности не несешь. Их рассматриваешь вроде бы со стороны, как тех мелких тварей, которые засели в водорослях аквариума. Жак, тот будет бороться. Он воспринимает это похищение как вызов. Жулиу-то он толком и не видел. Почти понаслышке ему известно, что у Амалии есть ребенок, настолько он живет в доме, как заезжий гость. Но он ведь никогда не потерпит, чтобы наложили руку на то, что принадлежит ему. А Жулиу — тоже его, как и его лошади. Да и кто защитит ребенка ради любви к нему? Только ради любви? И что такое — любовь?
Ирен рассеянно намыливается, рассеяно задает самой себе вопросы. Даже миллионы, которые она вот-вот потеряет… конечно, это неприятно… но на самом-то деле… от гнева у нее пылает кожа, но не сердце. Это сердце так и пробьется спокойно всю жизнь, до самого конца не дав сбоя. Сердце без сердца! Только и годное на то, чтобы раскармливать спокойную, тихую тоску. Что поделаешь, такова обыденная жизнь!
Ирен смывает с себя пену, вытирается, трогает груди, красивые и пустые. Одевается, мажется — ни для кого, даже не для себя. Изучает лицо в зеркале. Наносит голубые тени на веки. И румяна на скулы. Будто дорисовывает портрет. Она не шепчет: «Вот так хорошо». Она говорит: «Пристойно», — и удаляется.
Она не заходит в детскую, боясь встретиться с Амалией, а идет через спальню мужа, в которой царит беспорядок, — у Леона со зрением все хуже и хуже, и он не справляется с уборкой. Да, Мофраны определенно стареют. Скоро их придется уволить. Спускаясь по лестнице, она думает, что, быть может, не такое уж это большое зло — воспользоваться случаем, чтобы все продать… ну да, даже конюшни, но в самом-то деле, почему бы и нет? А потом развестись, уехать из этого захолустья, где ее держит только инерция. Ла-Рошетт — это спокойно и красиво, если смотреть с дороги. Но после похищения это всего лишь развалюха.
Она останавливается в гостиной, Жак не закрыл дверь в кабинет. Она слышит, как он спорит с кем-то, и узнает голос мсье Марузо. Она сыплет в аквариум немного корма, смотрит на рыбок, оживившихся вдруг необычайно… Какое счастье быть рыбкой!.. Она стучит в дверь.
— Можно войти?
Альбер идет ей навстречу, жмет ей обе руки, прикладывается к ним губами.
— Бедная вы моя… Я потрясен. Когда подобное происходит в Париже или в Лионе — и то ужасно. Но когда это случается здесь, и с нами, это уж чересчур… Как вы себя чувствуете? О! Представляю себе ваши ощущения. Ребенок — ваша радость и гордость… Но мы вернем его, я обещаю вам.
Клери курит сигару, стоя возле бюро. На столе разбросаны груды документов.
— Мне надо было рассказать все Лавалле, — говорит нотариус.
Ирен знает Лавалле. Это директор Банка Индо-Суэц. В таком городишке, как Лаваль, влиятельных людей не так много, и все они раньше или позже были гостями в Ла-Рошетт: кто приезжал охотиться, а кто — покататься на лошадях. Здесь, в этом обществе, таком же закрытом, как клуб, привыкли держаться друг за друга. И все же неприятно, что новость расползается быстро, как масляное пятно.
— Он — сама сдержанность, — уверяет нотариус. — Думаю, что мы сможем собрать средства за сорок восемь часов… ну, максимум за три дня, скажем. А потом мы все устроим. Все знают, что вы платежеспособны, это очень облегчит дело. Заимодавцев будет найти не трудно, естественно, под большой процент. Я позволил себе набросать список нескольких земельных участков, которые вы без труда могли бы продать. Волчьи Делянки, например. Давным-давно их Мерлон домогается. Ему нужны земли для завода, чтобы расширить производство.
— Делайте как лучше, — говорит Ирен. — У меня сегодня голова к делам непригодна.
Альбер с изумлением смотрит на нее. Она произнесла это так равнодушно. Не в ее привычках быть такой безразличной, когда речь идет о чем-либо, имеющем отношение к поместью. Должно быть, судьба сына заставила ее забыть обо всем.
— Главное, — снова заговаривает она, — чтобы это как можно скорее кончилось и осталось в тайне. Вы, разумеется, с нами обедаете. Я вас покину. Работайте оба с толком. Франсуаза принесет вам кое-что. Тут один, мне кажется, уже мечтает о стаканчике виски… Сюзанна все знает?
— Когда она увидела мое смятение, — объясняет нотариус, которого застали врасплох, — мне пришлось… вы ведь понимаете? Но она не проболтается, не бойтесь.
Ирен, однако, уверена, что все уже идет своим чередом. Сюзанна звонит Мадлен, а Мадлен рассказывает обо всем Ивонне… Было бы смешно, если журналистское ухо не попыталось бы уловить ползущий шумок… и тогда машины любопытствующих будут сновать туда-сюда вдоль решеток ограды… И фотографы со своими «кодаками», нацеленными на ворота, тоже будут бродить тут… О! Ужас перед этой толпой, жаждущей острых ощущений и потянувшейся на запах паленого, словно мухи в поисках трупа. Она резко встает.
— Если я вам понадоблюсь, — говорит она сухо, — я в гостиной.
Она закрывает за собой дверь. И в ту же минуту слышит, что кто-то звонит. День едва начался, а вот уже и докучливые посетители. Она проходит сквозь холл и замечает Амалию, которая, перегнувшись через перила, смотрит вниз со второго этажа.
— Это не ваша забота, Амалия. Когда что-нибудь будет известно, я вам сообщу.
Она становится несносной, эта несчастная Амалия! Ирен открывает комиссару, который даже не думает извиняться. Он ведет себя так, будто замок — это придаток уголовной полиции. Он входит.
— Я должна позвать мужа?
— Нет. У меня просто несколько вопросов к вашей служанке. Собственно, может, и вы объясните мне. Что дают детям, когда их отнимают от груди? Предположим, вы решили прекратить кормить своего маленького Патриса грудным молоком. Чем вы его замените?
— Я об этом не думала. Наверно, «Блэдином». Или чем-нибудь в этом роде.
— Вы обратитесь в аптеку?
— Да. Несомненно.
— Значит, я дал верную команду всем жандармериям не спускать глаз с аптек. Именно там есть надежда схватить похитителей. Весь район под наблюдением, можете быть спокойны. Этим мерзавцам далеко не уйти. Из Франции, как вы понимаете, они не выедут, раз хотят получить выкуп. Они окопались поблизости: как только им понадобится что-нибудь для ребенка, питание или медикаменты, мы будем предупреждены… Я могу видеть Амалию?
— Идемте.
— Нет. Если позволите, я бы предпочел, чтобы вы не присутствовали при нашем разговоре. Она при вас, как я заметил, очень стесняется.
— Хорошо, я позову ее.
Ирен поднимается на несколько ступенек.
— Амалия!
Ее душит беспокойство.
— Амалия!.. Амалия, господин комиссар хочет видеть вас… Нет, нет, идите к себе в комнату.
Она оборачивается к полицейскому:
— Не шумите… у нее ведь ребенок.
Как только комиссар доходит до комнаты Амалии, Ирен, в свой черед, поднимается по лестнице, пробирается вдоль коридора, приникает ухом к двери. Хоть бы эта идиотка Амалия не запуталась в именах и не принялась рыдать! Комиссар говорит шепотом, и Ирен не удается разобрать слов. Ей стыдно. Она вспоминает, как была совсем маленькой. Она подслушивала точно в такой же позе, согнувшись пополам. Это была ее манера выслеживать. Всех. Слуг. Мать. Отца. Всех, кто ей говорил: «Это тебя не касается. Это не для маленьких девочек». А потом… отец застал ее на месте преступления. И теперь ей всегда кажется, что за ней самой следят, что у всех дверей есть уши. Она закрывает глаза. Прогоняет прочь воспоминания. Вслушивается изо всех сил. И мысленно умоляет Амалию: «Не ошибись. Похитили Патриса. Не Жулиу!» На лбу у нее выступил пот, и она становится на одно колено, чтобы дать роздых ногам и спине. Ей кажется, что будет чудовищно, если вдруг обнаружат, что Парис жив и здоров. И не только по тем причинам, о которых говорил Жак. По другим, гораздо более мрачным. Будто сама она подала мысль бандитам похитить ребенка служанки, а не ее собственного. Будто ее ребенок куда больше значит, чем любой другой. Да. Будто за другого надо платить, потому что он тяжелый, щекастый и крепкий… Но это же неправда! Ну, что я копаюсь во всем? Я люблю Патриса, вот и все. Это и есть любовь. Но почему я все время ищу этому доказательства?
Она резко встает. Комиссар только что сказал: «Спасибо. Мы найдем его в конце концов обязательно».
Она молча удаляется от двери и ждет полицейского на лестничной площадке.
— В общем-то, — говорит комиссар, — она толком ничего об этой Марии не знает. Амалия вам предана, конечно, но мало что соображает. Я могу видеть вашего супруга?
— Он у себя в кабинете с нашим нотариусом, мсье Марузо.
Комиссар спускается по лестнице. Если смотреть на него сверху, у него не больно грозный вид и реденькие волосы тщательно зачесаны назад. Рука небрежно скользит по перилам. Он носит тяжелый перстень с печаткой, на которой выгравированы его инициалы. Через плечо он бросает Ирен:
— Выкрасть ребенка, конечно, затея женская. И потому мы надеемся на хороший исход. Это любители. Если мсье Клери будет действовать толково, они в наших руках.
Ирен смотрит на своих рыбок. Подсвеченный сзади, аквариум купается в лунном свете. Она доставила себе удовольствие, разместив на дне крохотные амфоры, словно в древние времена затонула здесь какая-нибудь галера. Ей еще хотелось купить совсем маленького водолаза в скафандре, склонившегося над сундуком, но Жак сказал ей: «Бедная моя Ирен, когда же вы повзрослеете?», и она отказалась от своего водолаза, как и от многих других вещей. Вокруг столбика из пузырьков в углу аквариума кружатся вьюны, красные и черные вуалехвостки, они держатся почти вертикально и раздувают жабры так, будто обмениваются новостями. А есть еще алесты, выискивающие что-то невидимое среди кустиков. Над ними плавает золотая рыбка. Они беззаботны, заняты своими делами и притворяются, что не видят друг друга, даже когда сталкиваются. Рядом проскальзывают танихтисы, они не больше гольянов, и кажется, что их всегда кто-то преследует. Но самый любимый — скалярий с большими плавниками, на голубом фоне у него сплошь черные пятнышки. В профиль он похож на хоругвь. Но стоит ему повернуться передом, он оказывается таким маленьким, что тут же словно исчезает на месте, и только глаза таращит, подслеповатые и будто одурманенные.
Ирен глядит и глядит без устали на аквариум. И как бы сама переносится туда, она и коралл, и актиния, и даже эта глубина, на которой теряются все очертания. Очень далеко, в кабинете, слышен гул голосов: там говорят об исчезнувшем ребенке, говорят так, будто без конца рассказывают друг другу историю о Мальчике с Пальчик и людоеде. Ирен словно кочует из одних грез в другие. Вдруг молчание взрывает телефонный звонок. Она вздрагивает, хватается за грудь. Это они!.. Нет никаких сомнений. Она буквально отрывает себя от дивана, вскакивает, но судорога сводит ей икру. Она узнает голос Жака.
— Да, это я… Да, я один.
Она, прихрамывая, идет вперед и замирает на пороге. Нотариус держит отводную трубку, его голова почти касается головы Клери. У обоих на лице написано омерзение. Клери взял грозный тон, будто он может произвести впечатление на соперника, но сам он знает, что играет на проигрыш.
— Нет, — с нажимом говорит он. — Я полицию не предупреждал.
Ирен делает знак нотариусу, что тоже хочет слышать весь разговор. Он бесшумно отступает и передает ей трубку. И тогда она слышит так близко от себя, что даже невольно отшатывается от телефона, голос похитителя.
— За вами следят. Если вы дорожите жизнью своего ребенка, делайте точно то, что я скажу…
В его тоне нет ненависти, он говорит спокойно, как врач, объясняющий, что именно он прописывает.
— Вы возьмете купюры по сто франков. И чтобы номера у них были не по порядку. Все это вы положите в большой чемодан, и через двадцать четыре часа…
— Это невозможно, — говорит Клери. — Прежде всего у меня нет четырех миллионов ни наличными, ни в банке…
— Я повторяю: четыре миллиона.
— Да подите вы к чертовой матери! — кричит Клери голосом, дребезжащим от ярости. — Три с половиной я еще, может, и смог бы… Хотя и это не наверняка. Поймите же, от меня это не зависит. Мне надо все устроить, переговорить с людьми… Сейчас, если вам угодно знать, у меня есть три миллиона… Они в вашем распоряжении, хоть сейчас…
В трубке раздаются короткие гудки.
— О! — вскрикивает Клери. — Если бы я мог свернуть шею этим сволочам!
Нотариус пытается успокоить его.
— Вы были великолепны. Как вы предложили им эти три миллиона… это вышло так естественно! Они знают, что время работает против них. И потому три миллиона сейчас или четыре через неделю… на мой взгляд, им нечего колебаться.
Клери медленно кладет трубку.
— Мне не нравится, как они обрывают разговор, — говорит он. — Это ведь значит, что они не согласны ничего обсуждать, разве нет?
— Я скорее думаю, что они размышляют. Держу пари, что они позвонят вам еще до вечера. Моральное преимущество на вашей стороне. Да, да. Я в этом убежден. А вы нет?
Нотариус обращается к Ирен, которая все еще держит отводную трубку. Клери кладет трубку на место.
— Может быть, — говорит она. — Жаль, что комиссар ушел. Он бы нам что-нибудь посоветовал.
— Этот разговор записан, не сомневайтесь, — уверенно заявляет нотариус. — Он будет детально изучен и разобран. У полиции есть такие возможности, о которых мы и не подозреваем.
Долгое молчание. Каждый углублен в свои мысли. Леон Мофран приглашает к столу.
— Я что-то не голоден, — говорит мсье Марузо.
— Давайте пойдем, — просит Клери. — Я сыщу отменного бургундского, и оно слегка освежит нам мозги.
Это похоже на траурную трапезу. Слышен только приглушенный звон приборов. Одно-два слова, не больше. Старый Мофран, великолепно вышколенный, скользит за спинами обедающих, подает приборы с некой грустной доброжелательностью. Разлив кофе по чашкам, он исчезает, и Клери идет за коробкой сигар.
— Все, что мы можем сделать, — заключает он, будто мысли их развивались в одном русле, — прежде всего позаботиться о том, чтобы большая часть суммы была в купюрах по сто франков. А потом посмотрим, что будет.
— Если позволите, дорогой мой Жак, — начинает нотариус, — я скажу, что тут меня беспокоит… Оглядываться назад, конечно, незачем… Но все-таки, между нами говоря, следовало ли обращаться в полицию?.. Пока что я был с вами полностью согласен. Но теперь я все время задаюсь вопросом, может, надо было действовать тайно. Я знаю… решение принималось мгновенно. И будь я на вашем месте… если бы сына похитили у меня… Да, что бы я сделал, если бы моего сына украли? Пожалуй, лучше таких вопросов избегать.
Альбер берет сигару, разминает ее и перед тем, как зажечь, нюхает. Ирен с досадой смотрит на него. Он с наслаждением пускает клубы дыма.
— Давайте покончим с цифрами, — говорит Клери.
Мужчины возвращаются в кабинет, а для Ирен начинается ожидание. Она привычна к праздности, когда не жаль убивать время. Идешь куда тебя ноги несут, то к пруду, то к конюшням. Взгляд вытеснил мысль. Он блуждает в пространстве, фиксируя то полет бабочки, то форму облака. И пара капель дождя вовсе не противна. Прислоняешься к дереву. Она вспоминает… Все это было раньше. Есть такие лягушки, которые ползают по коре деревьев. А вот уже скоро пора и чай пить. Тут и вечер наступает. Но сейчас! Вместо этой огромной пустоты, в которой мир отражался как в кристалле, вдруг ощущаешь, что у тебя живой организм, в нем течет кровь и есть нервы, все в нем взбунтовалось и зажило собственной жизнью, а в данную минуту он к тому же навязывает состояние паники. Бесполезно делать вид, что тебе на это наплевать, и уговаривать себя, что «все как-нибудь устроится. Я ничем помочь не могу». Дыхание перехватывает. Как можно забыть, что они сказали: «За вами следят». Значит, они здесь, засели в засаде у ворот, а может, и в парке, среди деревьев? Но Жюссомы видят все, что происходит на дороге. И ничего необычного они пока не заметили. Да и кто осмелится прятаться на дереве, так близко от замка?
И все-таки Ирен хочет все выяснить. Она знает, что это впустую, что она просто теряет время. Но она должна двигаться, делать хоть что-нибудь, как-то участвовать, даже если от этого не будет никакого толку, в борьбе с неуловимым врагом. И потому она спешит в свой, как она его называет «музей», чтобы взять там бинокль, служивший ей в свое время, когда ее приглашали на главные конные испытания: соревнования на Приз Триумфальной арки или на Приз Америки. Ее «музей» — это маленькая комната напротив спальни, где стоят ее трофеи. Она реже и реже заглядывает туда. И не испытывает никаких сожалений. Желание соперничать, бороться, побеждать мало-помалу исчезло совсем. Разве что на фотографии лошадей, которые помогали ей приходить первой, она порой еще дружелюбно поглядывает. Все это принадлежит давно минувшему прошлому, прошлому до Патриса.
Она достает бинокль из футляра и поднимается на чердак, его освещают лишь несколько слуховых окошек, к которым дождь и ветер прилепили опавшие листья. Она не без труда — дерево сильно рассохлось — открывает круглое оконце: отсюда виден и парк, и пруд, и огромный луг, где недавно появившийся на свет жеребенок тянет шею к материнскому животу, чтобы напиться благодатной влаги. Как только бинокль наведен, весь пейзаж в красно-коричневом обрамлении бросается в глаза. Спрятаться можно только в ветвях каштана, одиноко растущего перед лесом, оттуда все прекрасно обозревается. Но ничто не шелохнется в его кроне. Сквозь просветы в листве нетрудно разглядеть все большие ветви. Никто там не засел. Наблюдают, стало быть, не оттуда. И не с деревьев на опушке — там тополя и березы, на них слишком неудобно забираться. Откуда же тогда? Возле пруда все пустынно. А дальше — это слишком далеко. Все сливается в неясные штрихи. Никто ни за кем не следит. Это блеф.
Приложив пальцы к глазам, Ирен успокаивает горящие веки, затем смотрит на аллеи, ведущие к пруду. Обычно Амалия останавливается на полдороге, в беседке, увитой ломоносом, садится там, легонько покачивая ногой коляску, в которой спят оба ребенка. Но сегодня Амалия не выходила. Однако исчезновение Жулиу не повод, чтобы Патрис не гулял. Она бросает последний взгляд, оценивающий обстановку. Они солгали.
Ирен чувствует себя несколько увереннее, на душе спокойней, и она может заняться Амалией. Она идет в «музей», кладет бинокль в футляр и подходит к детской. Теперь, когда она знает, что никто не наблюдает за ними, даже больше: никто не может за ними наблюдать, ей дышится легче. Надо быть помягче с Амалией, убедить ее, что она может выходить без страха, что бояться ей нечего, прогулка и ей не повредит, ей самой полезно глотнуть свежего воздуха.
Патрис спит. В соседней комнате Амалия лежит на постели. Завидев Ирен, она приподнимается.
— Мадам, простите меня, — шепчет она. — Я не знаю, что со мной. Мне тут больно.
Она массирует себе живот. Ирен тут же думает, что у нее аппендицит. Только этого еще не хватало! С этой несчастной Амалией надо быть готовой решительно ко всему. Ирен берет ее за руку, прикладывает ладонь к ее лбу. На нем испарина.
— Так что у вас болит?
— Какая-то тяжесть, и потом, здесь у меня колет.
— Разденьтесь.
— Чтобы я…
— Давайте, давайте… скорее… Мне бы не хотелось вызывать врача… Представляете, как это сейчас некстати!
— Но я не виновата.
— Никто и не говорит, что вы виноваты. Не будьте смешной. Повернитесь на бок.
Сильно нажимая, она пальпирует живот служанки, Амалия стонет. Под ребрами Ирен обнаруживает болезненную точку.
— Здесь… Ведь здесь, да? Я знаю, что это. Печенка, черт побери. У меня было то же самое после рождения Патриса. Вы просто слишком нервничаете, вот в чем дело.
— А мне вернут Жулиу?
— О! Вы, ей-богу, несносны. Раз я вам говорю, значит, так и будет. Можете мне верить.
— Мсье согласится заплатить?
— Придется. Выкиньте это из головы, Амалия. Это наши дела. И без вас они не так просты… Ладно. Все, что от вас требуется, это чтобы вы позволили вас лечить. Я вами займусь. Ни о чем не беспокойтесь.
В аптечном шкафчике Ирен берет таблетки. Она растворяет их в стакане воды, возвращается, на ходу взбалтывая питье.
— Выпейте вот это. Это безобидное обезболивающее лекарство. Потом поспите. Франсуаза приготовит вам пюре.
— Я не хочу есть.
— Да, но Патрис…
Ирен вовремя прикусывает язык. Она хотела сказать: «Патрис-то хочет есть».
— Послушайте, — говорит она, — необходимо продолжать кормить малыша. Нельзя же так просто лишить его грудного молока. Я позову доктора Тейсера.
— Но мсье Бебе такого хрупкого здоровья, — возражает Амалия.
— Что поделаешь, немножко и он пострадает. Может быть, чуть-чуть помучается, но что уж тут поделаешь, мы все мучаемся. Вы что думаете, я не страдаю?.. Отдыхайте хорошенько. Если Патрис заплачет, я им займусь.
И она уходит, а в гостиной уже сидят ее муж и комиссар. Дом становится театром. Один актер уходит. Появляется другой. Достаточно отвернуться, и картина меняется.
— Так вот, — продолжает комиссар, — я говорил мсье Клери, — запись разговора я конечно же прослушал, — я говорил ему, что похитители, похоже, не профессионалы… Складывается такое впечатление… ну, не знаю… голос, тон… кто-то очень грубо работает… Вы должны по-прежнему настаивать на своем. Когда они позвонят снова, попросите доказательства, что ваш сын жив… Это будет означать, что вы согласны на переговоры, но решили не идти у них на поводу. И заметьте, мадам, вашему маленькому Патрису ничего не грозит. Он для них слишком ценный капитал. Но в подробных делах необходимо дойти до какого-то предела. Мсье Клери совершенно со мной согласен.
Клери кивает, и пепел сигареты оставляет серый след на его галстуке.
— И продолжайте не колеблясь утверждать, что в полицию вы ничего не сообщали. С людьми этого сорта нечего думать о чести или о том, чтобы держать данное слово. Со своей стороны мы все, что нужно, сделали. Наши люди, а их много, совершенно незаметны, они уже начали, прибегнув к различного вида маскировке, прочесывать весь район частым гребнем. Мой помощник, Крессар, в высшей степени деликатно занимается вашим персоналом. Пока что ничего особенного по этой линии не выявлено. Когда у вас будут деньги?
— К вечеру, — отвечает Клери. — Может быть, к завтрашнему утру. Деньги привезет мне мой нотариус.
— Отлично. С этого момента о нас вы больше не беспокойтесь. Досконально следуйте инструкциям, которые вам продиктуют бандиты. Мы будем сопровождать вас, будем возле. И вот увидите. Мы возьмем их с поличным.
Ирен ждет, пока уйдет комиссар. Как только муж возвращается, она начинает расспрашивать его:
— Чего он хотел?
— Хотел знать, не был ли маленький Морручи — помните такого?.. его нанял Жандро, — не был ли он связан с Марией. Поскольку он ушел от нас через несколько дней после того, как уехала Мария, вполне может быть, что это было неспроста. Но я думаю, что тут дело в другом. Комиссар хоть и делает вид, что он искренен, нам не верит. Вас это удивляет? Подумайте. Он не может помешать нам заплатить, но, с другой стороны, у него есть приказ: выкуп не должен быть вручен. И потому он вынужден вести двойную игру. Он и с нами, и против нас. Он хотел бы одновременно быть и у нас, и у себя в кабинете. О! Опять телефон. Сколько можно это терпеть…
— Быстрее, — сухо говорит Ирен. — Мне надо еще позвонить Шарлю. Амалия больна. Ну, скажите на милость…
Жак бежит к телефону.
— Алло? А, это вы, дорогой председатель… Я как раз собирался предупредить вас. Я никак не могу присутствовать на совещании… Нет, это не очень серьезно. Так, некоторое затруднение… Я заранее присоединяюсь к решениям комитета… Да, конечно. Я объясню вам.
Он кладет трубку.
— У меня есть другие заботы, помимо кантональных выборов, — говорит он. — Итак, Амалия больна. — Он вздыхает. — Все валится нам на голову. Подождите… Я звоню Шарлю. — Он набирает номер, обращается к Ирен: — Я скажу ему, чтобы он зашел как можно скорее? Хорошо?.. Алло! Шарль? Вы не могли бы прийти еще до вечера? К Амалии, нашей кормилице… А! Вы уже в курсе?.. Да, это чудовищно. Ирен потрясена, как вы понимаете. Да и я не меньше ее… Спасибо… До скорого. — Он кладет трубку на рычаг. — Ну и жизнь! Черт возьми, что это за жизнь?
— А кто виноват? — говорит Ирен. — Вы спите с Марией. Я ее выставляю. Она мстит, похищая нашего ребенка. Но ее сообщники ошибаются… А вы, вы рассказываете полицейским, что украли Патриса… Мы по горло во лжи.
Клери бессильно опускается в кресло.
— Не усугубляйте ситуацию, — кричит он ей. — Согласен. Я кругом виноват. Мария наверняка не имеет никакого отношения к этой истории с похищением, но это моя вина. Я сказал полиции, что украли Патриса; я был не прав… И что бы я ни сделал, я всегда буду не прав. Ведь это именно так, не правда ли?
Ирен тоже садится. Они изучают друг друга. Клери откидывает голову на высокую спинку кресла и закрывает глаза. Неожиданно наступает тишина. Тепло. Слышно, как жужжит муха, попавшая в плен, — она не может выбраться из складки в шторах. Каминные часы съедают минуту за минутой. Ирен думает о Патрисе. Будет ли он похож на своего отца? Неужели он превратится в такого же краснорожего волосатого человека? Волосатость приводит Ирен в ужас. Если бы она знала, что у ее мужа заросшая грудь и спина, она бы отказалась выйти за него. У лошадей шерсть — это одежда. Совсем другое дело. Но вот шерсть, постыдно напоминающая о далеких предках, только начинавших ходить на задних лапах, вызывает у нее одновременно и страх, и тошноту. Почему она согласилась на совместную жизнь с этим человеком, от которого, несмотря на дорогой одеколон, так дурно пахнет? А если ребенок, похожий сейчас на голого кролика, через какие-то годы обрастет бородой и грязной шевелюрой, как нынешние молодые люди, вот ужас! Как воспитать его должным образом, исцелить от этих диких манер, которыми так кичатся юноши? Она-то прекрасно знает, что сила и твердость — вещи разные. Некогда, участвуя в конкурах, она легко справлялась с лошадьми, просто постукивая кулаком или коленом. Как вырастить Патриса и спасти его от влияния этого сельского Дон Жуана, которому кровь бросается в голову, едва кто-нибудь пытается спорить с ним. Может, он ей просо отвратителен?
Она слишком устала, чтобы ответить себе самой. Да и вопрос этот потерял свою остроту, оттого что она его так долго мусолила. Она опять смотрит на Клери, смотрит глазами студентки-медички, изучающей рану. Он дремлет. Дышит тяжело и глубоко. Своими широкими ладонями он крепко вцепился в подлокотники кресла. Он уселся ждать. Ей не терпится, чтобы телефон зазвонил, заставил его вскочить, чтобы он здорово напугался, почувствовал, что он не хозяин положения; и, быть может, оглянулся в поисках чьего-нибудь спасительного присутствия.
Неожиданно она слышит, как возле крыльца останавливается машина. Это Шарль Тейсер. Она идет открывать дверь. Врач целует ее.
— Бедная Ирен. Я все знаю. Какое жуткое испытание. Рассказывайте.
Пока они поднимаются на второй этаж, Ирен быстро излагает ему версию, известную полиции.
— Я восхищен вашим самообладанием, — говорит Шарль. — А Жак?.. Он тоже хорошо держится? Сын для него так много значит!
— Ну, он, — отвечает Ирен, — вы же его знаете. Его сокрушить — это с одного раза не выйдет. Нет, меня беспокоит Амалия. Сюда, пожалуйста.
Она садится в углу комнаты, а врач тихим голосом разговаривает с Амалией. Пока он прослушивает ее, она время от времени тихо стонет. Доктор делает вывод:
— Так. Это не очень страшно. Сильный приступ колита.
Ирен подходит ближе.
— Это может затянуться надолго?
— Учитывая обстоятельства, да, это может быстро не пройти. Пока ваш сын не будет возвращен, ей трудно прийти в себя. Колиты, язвы — это болезни психосоматические. Можно пригасить болезнь, но гораздо сложнее устранить ее причину.
Он берет Амалию за руку и говорит ей по-дружески ворчливо:
— Ну-ну!.. Возьмите себя в руки, черт побери! Самая несчастная здесь — ваша хозяйка. Подумайте-ка, ведь могли похитить и вашего Жулиу тоже… Итак, не усложняйте все еще больше. Обещаете?
Он уводит Ирен в коридор.
— Диета и обезболивающее, — говорит он. — И речи нет, разумеется, чтобы она кормила своего ребенка. Приступ может продлиться дней восемь-десять.
Ирен не в силах скрыть беспокойства.
— А ребенок? — спрашивает она. — Чем он рискует?
— Да ничем. Он вполне в том возрасте, когда отнимают от груди. Идемте. Я выпишу рецепты для обоих. Эти простые женщины хуже волчиц. Когда дело касается их малышей, они теряют голову. Я уверен, что для нее между Патрисом и Жулиу разницы нет.
— И все-таки, а вдруг Жулиу плохо это перенесет?
— Да не беспокойтесь вы, милая моя. Я вот думаю о вашем сыне. Но о нем наверняка хорошо заботятся.
Конечно, надо принять все предосторожности. Но природа — не мачеха. Два-три дня, и никаких мучений, дети обычно очень хорошо это переносят.
Он идет обратно и, стоя на пороге, говорит Амалии:
— Вам незачем лежать, раз у вас нет температуры. Наоборот, лучше вам подвигаться. Подышите воздухом. В саду вам будет лучше, чем дома. Завтра я снова приеду. Главное, не распускайтесь. Тут, знаете ли, не вас надо жалеть.
Звонок телефона перебивает его.
— Боже! — вскрикивает Ирен. — Не могу больше слышать, как он звонит, ноги у меня тут же делаются ватными.
— Обопритесь на меня.
Они медленно спускаются по лестнице. Судя по голосу, Клери в ярости.
— Это опять они, — шепчет Ирен.
Она высвобождается и первой входит в кабинет.
— Нет. Больше я сделать ничего не могу, — отчеканивает Клери. — Три миллиона или вообще ничего… Что ж, тем хуже. Но если хоть один волос упадет с головы моего мальчишки, вам от расплаты не уйти… Да говорите громче, черт возьми… Я один в комнате… Да, понял… чемодан… Я записываю… Да, я выеду завтра в полдень, хорошо… Остановлюсь в Меле-дю-Мэн, на Соборной площади… Кафе Корнийо, отлично. Понимаю… Я скажу хозяину… Нет, он меня никогда не видел. Я в таких заведениях не бываю… Скажу ему, что моя фамилия Мартен и что я жду звонка… А потом?.. Я получу новые инструкции? Как вам угодно… Я вам еще раз повторяю: полиция не в курсе. Я же не последний идиот. Только если вы затянете эту миленькую игру, я ни за что не отвечаю. В банке уже были поражены, когда я такую сумму запросил наличными… Но взамен… Ах, вы это предвидели… Предупреждаю вас… если я утром не получу письма…
Короткие гудки.
— Банда говнюков, — бросает Клери, выведенный из себя. — Они говорят, что посылают мне фотографию малыша в доказательство своих добрых намерений. Они еще имеют наглость говорить, что у них добрые намерения. Сволочи! Хоть бы одного удавить. Насколько бы стало легче!
Ирен впоследствии, вероятно, часто вспоминала, что происходило потом. Сначала был длинный разговор с комиссаром по телефону.
— Выслушайте меня, мсье Клери, — настаивал Маржолен. — Мы лучше вас знаем, как надо поступить. Совершенно ясно, что эти люди все больше и больше спешат. Обычно похитители тянут до последнего, чтобы их жертвы потеряли волю к сопротивлению. Этих мы опасаемся, потому что они готовы на все, тогда как…
Клери пытался вставить хоть слово, но комиссар не давал ему такой возможности.
— Прошу вас. Я делюсь с вами собственным мнением. Но все у нас думают так же. Даже префект согласен с нами. Завтра утром группа захвата окажет вам вооруженную поддержку. Все меры нами приняты… Алло! Послушайте, мсье Клери, прекратите бурчать Бог знает что. Наши люди окружат Меле-дю-Мэн. У нас есть машины без опознавательных знаков, они будут вас сопровождать, хотя вы и не будете об этом догадываться. Ведь нужно же, чтобы негодяи назначили вам место свидания. И вот тут-то и настанет наш черед вступить в игру.
— А если за чемоданом явится какой-нибудь второстепенный персонаж?
— Мы предвидим и такой вариант, мсье Клери. Все, понимаете, буквально все предусмотрено. Поэтому я еще раз прошу вас: набейте свой чемодан старыми газетами, чтобы по этому поводу не волноваться. Потерять деньги было бы слишком глупо! Видите, мы обо всем думаем. Вы выйдете из дому в половине двенадцатого и спокойно отправитесь в путь.
— Но… если все сорвется?
— Не сорвется! Это не может сорваться, потому что мы имеем дело с людьми не из преступного мира, а с какими-то жалкими типами, действующими по наводке вашей бывшей служанки. С дилетантами. Мсье Клери, вы что же, не верите, что мы не меньше вас думаем о вашем сыне? Даю вам слово, это так, мы тысячу раз взвесили ситуацию. Мы же не наугад все делаем. Сохраняйте хладнокровие и позвольте действовать нам. Победа предрешена. Я могу на вас рассчитывать?
— Хорошо.
— Вы не повезете деньги?
— Нет… Но это в ваших интересах, не ошибиться. Если же!..
Клери обедать не стал. Он ходил взад-вперед по комнате, как хищник в клетке. Ирен, приняв снотворное, в девять часов отправилась к себе. Амалия спала. Патрис лежал с открытыми глазами и сосал палец. Ирен прошла мимо кровати не остановившись, чтобы не привлечь внимания ребенка. Не успела она дойти до своей спальни, как Патрис заплакал. Это было начало ужасной ночи. Когда стонет животное, его хочется погладить. Когда пищит ребенок, его хочется побить. «Пусть покричит! — подумала Ирен. — В конце концов все равно успокоится». Но скоро ей пришлось понять, что он не замолчит. В своих завываниях он черпал силы для того, чтобы вопить еще пуще. Он захлебывался криком. И вдруг, неожиданно испугавшись, она поняла: «Ему не хватит дыхания. Он задохнется». Но как пловец, запасшийся воздухом перед тем, как нырнуть на большую глубину, он громко дышал и хрипел, до кашля, и уже готовился издать новый вопль, режущий ухо, словно скрип мела по доске. Ирен сжимала кулаки, она чувствовала, что гнев зреет в ней, будто фурункул. Кто же окажется сильнее? Ирен уступила и взяла ребенка на руки. Амалия по-прежнему спокойно спала, оглушенная снотворным, и Ирен пришлось сдержать себя, чтобы не обругать ее.
«Ля… ля… ля… бай… бай… бай». Она попыталась изобразить нежный тон, и ребенок удовлетворенно посмотрел на нее, взгляд его был похож на взгляд взрослого хитреца. Ирен тихонечко ходила по комнате: она видела, что так делала Амалия. Однако вскоре, устав, она с бесконечными предосторожностями положила ребенка в кроватку. Он тут же побагровел, неистово задергал головой из стороны в сторону и издал такой пронзительный вопль, что его было слышно на весь дом. На площадке раздались тяжелые шаги Клери. Он с размаху открыл дверь.
— Ну что, спектакль кончился, нет?
— Что же вы хотите, чтобы я сделала?
— Но, Господи, вы же мать. Придумайте что-нибудь, а если не справитесь, придется мне его заставить замолчать. Я работаю, и работаю ради него. Так что у каждого свои занятия. Я не желаю его больше слышать.
Дверь хлопает. Раздраженные шаги все дальше и дальше. Ирен плачет от злости. Она хватает Патриса. «Маленькое чудовище! Если бы ты знал, чего избежал, может, вел бы себя потише!»
Она принялась снова прогуливаться с Патрисом на руках из своей спальни в детскую и обратно. Потом, сдавшись, она положила ребенка рядом с собой, как это делала Амалия. От него довольно резко пахло, но она была слишком усталой, чтобы перепеленывать его. Она потихоньку успокоилась, но, лежа на спине, не осмеливалась устроиться поудобнее из страха потревожить ребенка. Поглядывая искоса, она наблюдала за ним. Он лежал по-прежнему с открытыми глазами и, будто маленький тупой зверек, упорно запихивал себе в рот кулачок. Как охотно заплатила бы она требуемый выкуп и даже больше, чтобы вернуться назад, в те времена до замужества, когда она была свободна и телом, и душой. Она тогда не понимала, как была счастлива… Она властвовала над лошадьми, они дарили ей свою силу и свою легкость. Теперь ей помнились только праздничные дни, музыка, рукоплескания. А после этот гном начал расти в ее чреве и отнял у нее радость жизни. Как в жестокой сказке все кончилось вместе с первым криком новорожденного.
Она с осторожностью попробовала улечься на бок, но, как только удобно устроилась и пригрелась, ребенок принялся стонать, а потом дергаться, как маленький звереныш, попавший в ловушку. Ирен обернулась.
— У тебя болят зубки, — прошептала она. — Ты решил не давать мне спать.
Когда он застонал еще громче, она просунула палец в открытый ротик и почувствовала, что десны распухли. Она легонько почесала их.
— Ну, не сжимай же так сильно мой палец, маленький грубиян. Ты мне делаешь больно.
Он попытался сосать ее палец и вдруг, разозлившись, заорал снова. Она поспешно встала, взяла его к себе на плечо, и изнурительные прогулки вокруг спальни затянулись так надолго, что она и не знала, сколько на самом деле прошло времени. «Так себя губить ради этого, — думала она между двумя зевками, когда у нее на минуту наступало просветление. — И к тому же мне еще и стыдно, потому что я вижу, какая я. Это слишком несправедливо!»
Чтобы не оплошать совсем, она попыталась вполголоса заговорить с ребенком, слушавшим ее как-то беспощадно внимательно. «Тебе Амалия больше нравится, да? Я тебе чужая. Мне ты никогда не улыбаешься. Я себя доить не позволяю. У меня не та грудь и жесткие руки. Ты уже сейчас противный маленький мужичок. О! Нечего таращить так глаза. Ты точно такой, как твой отец».
Она стукнулась об угол кровати. Сил у нее больше не было. Двигалась она как сомнамбула. В голову ей лезла всякая чушь, которой она делилась с младенцем, даже не замечая, что он наконец закрыл глаза. «Это тебя должны были похитить… Мне бы это причинило боль… вероятно… но я бы могла спать. Надо хотя бы отдыхать, если приходится мучиться… В три часа утра уже никто никого не любит… Ну и пусть, хватит с меня… Если сейчас не лечь, я упаду».
Она села на кровать, среди разбросанных одеял нашла удобное местечко, оперлась плечом, и, забыв о ребенке, расслабилась.
Измотанные, оба они не заметили, как рассвело. Клери рано утром спустился в кухню. Он проглотил чашку обжигающего кофе, закурил свою первую, лучшую, сигарету, затем, застыв на пороге, жадно вдохнул рассветные ароматы. Изнуренный заботами, он втягивал в себя запахи травы и ветерка, как зверь втягивает запахи равнин, прежде чем вернуться в лес. Еще несколько часов — и конец игры. Кто будет победителем? В эту минуту он чувствовал, что он сильнее. Надо будет передать свою силу Патрису, научить его быть сильным. Его слишком балуют. Не Ирен. Ирен как раз недостаточно его балует. Но вот Амалия слишком щедра, слишком она мать. Как только без нее можно будет обойтись, лучше ее уволить. Впрочем, зная, как дорого ее сын стоил ее хозяевам, она, бесспорно, предпочтет сама уйти. Жаль, в каком-то смысле. Если бы она в своем вдовстве не была такой недотрогой, он бы охотно…
Ну ладно. Время сейчас для мечтаний неподходящее. Он пошел к себе в кабинет и занялся составлением длинной деловой записки для Жандро, потому что его самого, возможно, не будет весь день.
В половине девятого Леон принес ему почту. Один из конвертов сразу привлек его внимание, потому что адрес был написан крупными буквами. В письме был очень короткий текст и фотография. Ребенок лежал на подушке. И развернутая газета для наглядности была положена рядом. Вчерашняя «Западная Франция» — доказательство, что ребенок жив. Нормально. Бандиты не настолько глупы, чтобы плохо обращаться с ним. Посмотрим, что за письмо.
«Кафе Корнийо в Меле-дю-Мэн. Телефонный звонок между 12.05 и 12.10. Попросят мсье Мартена. Если вы выполните все, что вам скажут, ребенок будет завтра освобожден. Если появится полиция, тем хуже для него. Эту записку уничтожьте немедленно».
Клери посмотрел на открытый чемодан, стоявший между двумя креслами. В нем были пачки старых журналов, тщательно обернутые и перевязанные. Он уже ловчил. Играл в орлянку на жизнь Жулиу. Амалия положилась на него, а он положился на полицию. А на кого положилась полиция? На случай? Нет, все-таки не совсем. Он еще раз взвесил свои шансы, вспомнил все хорошо окончившиеся случаи киднеппинга.
«Довольно! Переключаюсь на другое, — решил он. — Меня просят сдаться. Что ж, это дело решенное. Я сдаюсь… Временно!» И он взялся за дела: разбирал счета, отвечал поставщикам, нервно куря одну сигарету за другой, несмотря на данное себе слово быть спокойным.
В десять он позвал Франсуазу.
— Мадам еще не вставала?
— Нет еще. И Амалия тоже.
— Приготовьте мне три-четыре сандвича. Я дома обедать не буду. Ветчина, цыпленок, все что угодно. И бутылку минеральной воды.
— Минеральной воды?
— Да. Один раз в счет не идет. Пакет положите в малолитражку.
В одиннадцать часов терпение у Клери иссякло. Накинув на руку плащ, он взял чемодан и бесшумно подошел к гаражу. Кроме Жюссома, который толкал перед собой по аллее тачку, Клери никого не встретил. Он помахал ему рукой в знак приветствия и выехал на малолитражке из гаража. Он решил не спешить и быть осторожным.
После Лаваля он свернул на 159-е шоссе и без пяти двенадцать остановился возле кафе Корнийо. В зеркальце он ни разу не увидел никакой подозрительной машины. В кафе, похоже, никаких таинственных лиц тоже не было: почтальон, несколько лавочников, явно здешних завсегдатаев, громко разговаривавших с хозяином, мгновенно оказавшимся за стойкой бара перед Клери.
— Что вам угодно?
— Стаканчик виски. Я жду телефонного звонка. Попросят мсье Мартена. Это я.
Телефон стоял в самом дальнем конце стойки. Клери терпеть не мог говорить в присутствии третьих лиц, но подумал, что ему ведь придется отвечать лишь: да… понял… хорошо… В общем, ничего особенно компрометирующего. Никто его и не вспомнит. Он не успел даже опорожнить стаканчик. Раздался звонок, и хозяин снял трубку.
— Да. Даю его вам.
Клери узнал этот голос, глухой, затуманенный, нарочито измененный до неузнаваемости.
— Вы меня слышите хорошо?
— Да.
— Будьте внимательны! Повторять я не собираюсь. Вы сейчас едете в Сабле. В два часа зайдете на почту. В окошке «До востребования» вас ждет письмо. Там все инструкции. Им и следуйте. Мы вас из виду не теряем. Кладите трубку.
Клери послушался. Он был в бешенстве оттого, что с ним обращаются, как с мальчишкой на побегушках. Бросив на стойку мелочь, он вышел на улицу. По видимости, за ним никто не следит. Прекрасный летний день, очень теплый. На автостоянке вокруг площади все машины пусты. Похоже, что никакого хвоста нет. Должно быть, они очень ловки, и преследователи, и преследуемые. Клери поехал в сторону Сабле. Время было обеденное, и дорога была свободна; несколько прицепов с первыми отдыхающими, две или три скотовозки да парижане, продлевающие себе каникулы на Троицу.
Вдруг у Клери оказалось много времени. И зачем есть безвкусные сандвичи в машине, когда можно заехать в маленький ресторанчик «Два монаха» на берегу Сарты? Чтобы показать невидимым противникам, что ему не страшно и что он воспринимает это похищение как заурядную аферу, он выбрал столик на террасе, в тени веселого зонта, и заказал обед, который напомнил ему некоторые его любовные эскапады в Фужере или Анжере. Ему всегда нужна была женщина, когда он заключал выгодную сделку. Из этого ровно ничего не следовало, и Ирен совершенно напрасно чувствовала себя оскорбленной. Бифштекс с перцем был волшебной нежности, а вот «вувре» могло быть помягче. Сигара. Кофе. Коньяк. Какое еще шутовское действо учинят над ним эти подонки? Сколько бы они ни тянули, все равно же настанет момент, когда чемодан надо будет где-нибудь оставить. И как они поведут себя, чтобы завладеть им? Накинутся ли полицейские на них сразу же? Он впадал в какое-то оцепенение и застыдился этого. Без четверти два. Он оставил свою малолитражку на стоянке и пешком отправился на почту. Женщина на почте лукаво улыбнулась ему, отдавая письмо. Она, конечно, решила, что он пришел за любовным посланием! Он нервно вскрыл его и мигом прочел.
«Езжайте на вокзал в Лe-Мане. Оставьте чемодан в ячейке камеры хранения. Ключ возьмите с собой. Купите скотч. Езжайте по улице генерала Леклерка до ее пересечения с улицей Пелуз. Там, возле перекрестка, вы увидите телефонную кабину. Сделаете вид, что звоните, а сами под полочку приклеете скотчем ключ от чемодана. Пробудете четыре-пять минут в кабине, чтобы и вас было видно, и в то же время можно было оглядеть все окрестности. Вот и все. Поедете не оборачиваясь. Ребенка вам вернут, как только деньги окажутся в надежном месте. Письмо заучите и немедленно уничтожьте!»
Клери пожал плечами. Это становилось похоже на игру, а ему уже паясничать надоело. Выходя из почты, он демонстративно порвал письмо. Он считал, что план этот не очень хитроумен. По всей вероятности, полиция установит наблюдение за камерой хранения, и как только кто-нибудь подойдет к сейфу, он будет окружен. И поскольку этот кто-то, безусловно, — лицо эпизодическое… продолжение легко можно себе представить.
Клери отъехал. Через полчаса он въезжал в Юин и тихими улочками приближался к вокзальной площади. Грузовик, перевозящий мебель, оказался здесь явно случайно. Он еще заметил мотоциклиста, появлявшегося время от времени у него в зеркальце, но потерял его наконец из виду и решил не смотреть больше по сторонам, так как все подъезды к вокзалу были запружены. Любой прохожий мог быть из полиции или из банды. Он не без труда пристроил машину на стоянке и, осторожно прижимая к себе чемодан, пошел выбирать ячейку. Номер 27, почему бы и нет? Мелочь у него приготовлена. Он поставил чемодан в самую глубину, закрыл дверцу, повернул ключ. Затем медленно, чтобы его не потерял из виду следящий за ним, пересек холл.
На вокзале была толчея. Перекрывая голоса из громкоговорителей, гудели поезда. Вообще-то место выбрано неплохо. Если вору повезет, если он ловок и решителен, может, он даже сбежит из мышеловки. Короче, одно из двух: либо полиции удастся схватить его, и тогда в отместку главарь бандитов убьет Жулиу. Либо вор с чемоданом, набитым старыми бумажками, ускользнет, и тогда в отместку главарь бандитов все равно убьет Жулиу. Клери ошибся, связавшись с полицией. Ему нужно было тайно общаться с похитителями, и он бы так и сделал не колеблясь, если бы речь шла о жизни Патриса. Это будет грызть его всю жизнь. Он уже не один час мучился угрызениями совести. Всю ночь он без конца обдумывал ситуацию. Он даже едва не позвонил комиссару, чтобы сказать ему правду. Потом, устав, он от этой идеи отказался.
В писчебумажном магазине Клери купил ленту скотча. Перекресток был поблизости. Он зашел в кабину. Нагнулся над полочкой, чтобы не было видно, что он там делает руками. Два кусочка ленты, крест-накрест. Ключ прикреплен надежно. Конечно, Клери оставалось только вернуться обратно. Может, надо было сделать вид, что он звонит, подчиняясь инструкциям, но к черту инструкции, к черту бандитов и шпиков.
Он пересек перекресток и выпил две кружки пива в «Брассри дю Коммерс», потом, не оборачиваясь, сел в свою малолитражку, проехал мост над Сартой и в конце улицы Робийяр выехал на дорогу в Лаваль. Странным образом он, всегда такой стойкий, почувствовал себя совсем без сил. Он ехал со скоростью шестьдесят километров, и люди в машинах, его обгонявших, оглядывались и смеялись над ним.
Он поехал еще медленнее, когда над оградами показались крыши замка, сверкающие на солнце. Амалия, наверно, ждет его, как в агонии. Если с ребенком случится несчастье, если она узнает, что он попытался расплатиться с похитителями старыми газетами… Что ей можно сказать в таком вот случае? Что объяснить? И как оправдаться?
Он тормознул, потом заметил, что ворота открыты. Жюссомы плохо справляются со своим делом. Он дал короткий предупредительный гудок. Тереза появилась на пороге своего домика. Краешком передника она утирала глаза.
— Ну что еще? — закричал Клери. — В чем дело?
Она подошла к дверце автомобиля.
— Амалия, — прошептала она.
— Ну что Амалия?
— Да вот из-за малыша… Мадам позвонила доктору.
— Зачем?.. Малыш заболел?
Она покачала головой. Нет, дело не в этом. Но волнение мешало ей говорить.
— Ну же, Тереза. Возьмите себя в руки.
— Я не виновата. Клянусь вам, мсье. Никто ничего не видел. Они сзади проникли.
— Да кто же, черт побери!
— Те, кто похитил Патриса.
— Патриса…
Клери подогнал автомобиль и чуть не задел тачку Жюссома, брошенную у крыльца с вилами, торчащими из навоза. Мотор еще не заглох, а он уже выскочил из машины и взбежал по ступенькам.
— Ирен! Ирен!
В гостиной никого. В кабинете тоже. Шум голосов в буфетной. Они были там, Мофраны и Жюссом, возле Амалии, в полуобморочном состоянии сидевшей на стуле. Завидев Клери, они умолкли. Амалия попыталась встать. Франсуаза прижимала салфетку к ее лбу.
— Она ранена, — сказала Франсуаза.
Клери подошел и осторожно приподнял салфетку. Он увидел большой кровоподтек от виска до щеки, наполовину закрывший левый глаз.
— Вы можете говорить? — спросил он. — Хоть несколько слов… Это правда, что Патриса похитили?
— Да, — прошептала служанка.
— Когда?
— Совсем недавно. Я была в беседке с мсье Бебе в колясочке. Он спал, и я, может быть, тоже… немножко… А потом меня ударили. Не знаю кто… А когда я пришла в себя, мсье Бебе в колясочке не было, а возле меня в траве сидел Жулиу.
Клери посмотрел на нее со всей высоты своего роста.
— Нет, нет, — заговорила Франсуаза. — Они вернули Жулиу и утащили Патриса. Жулиу там, наверху, в спальне Амалии. Он в полном порядке.
— А мадам?
— Она закрылась у себя.
— А как она восприняла… это?
— Я ей все сказала и отдала письмо.
— Какое письмо? — вспылил Клери. — Это похоже на сумасшедший дом. Итак, если я правильно понимаю, Амалия спустилась, как обычно, после обеда в парк. Она гуляла с Патрисом. Он лежал в коляске. Так ведь?
Амалия кивнула, и лицо ее исказила гримаса боли.
— Затем она уселась в беседке и заснула… Я ни в чем вас не упрекаю, бедная моя Амалия. Я просто констатирую, что вы спали, когда кто-то оглушил вас и схватил Патриса. Так. А что было потом?.. Вы обнаружили своего сына. Это значит, что бандиты поняли, что спутали ребенка. Пока что все становится ясным. Но что же это за письмо?
— Это письмо лежало в коляске вместо ребенка, — сказала Франсуаза. — Когда Амалия пришла в сознание, она позвала на помощь. Я мыла посуду с Леоном. Мы к ней кинулись бегом, как мсье, конечно, понимает. Амалия была как безумная, а в коляске лежало письмо.
— Ну, — вскричал Клери, — так дайте же мне его. Чего вы ждете?
— Оно у мадам.
— Вы мне сразу не могли это сказать?
Клери поспешно вышел из буфетной. По мере того как он поднимался по лестнице, ему приоткрывалась истина… вот почему похитители так торопились… вот почему согласились не торгуясь уменьшить выкуп… Черт побери! Они быстро обнаружили свою ошибку и с большой ловкостью отправили всех: полицейских, жандармов и его самого — в сторону Ле-Мана по следам чемодана, что давало им полную свободу действий в замке. Теперь у них тот самый заложник. Условия будут ставить они, и на этот раз о том, чтобы хитрить, не может быть и речи. Клери постучал в застекленную дверь.
— Ирен! Откройте мне…
Он услышал, как прошелестели тапочки, и дверь открылась. Он ожидал увидеть женщину, обезображенную слезами. А перед ним было мертвенно-бледное и спокойное лицо, такое для опознания могли показать ему в морге.
— Мне там, внизу, все рассказали. Где это письмо?
Она показала ему рукой на кровать. Клери развернул листок. Все та же дешевая бумага, те же каракули.
«Нас интересует ваш сын. И никто другой. Он стоит дороже теперь, когда вы попытались нас обмануть. И вас предупреждали, чтобы вы ничего не сообщали полиции. Приготовьте пять миллионов. Вам дается три дня».
Он опустился на кровать и машинально перечел письмо.
— Я думаю, как это они разобрались?..
— Мария, — обрезала Ирен. — Это точно она. Только она могла узнать Жулиу.
Голос ее почти не дрожал. Но глаза блестели от сдерживаемых слез.
— Надо было вести честную игру, — снова заговорила она. — Но вы не желали меня слушать.
— Прошу вас, — сказал Клери. — Сейчас не время для…
— Ну, почему же.
— Тогда пожалуйста! Нам надо было сказать им: «Послушайте, у вас сейчас Жулиу. А не Патрис!» Вы же говорите чушь! А полиция? Не надо было их предупреждать?
— Вы же видите, к чему это привело, — заметила Ирен. — Теперь они знают, что мы едва не принесли в жертву Жулиу, чтобы спасти Патриса. Поставьте себя на их место. С их точки зрения, сволочи-то — мы.
— Спасибо, — сказал Клери. — У вас всегда найдется слово утешения.
Он резко встал и прошел мимо жены, не взглянув на нее.
— Куда вы?
— Сообщить обо всем комиссару.
— О чем обо всем? Он же с самого начала убежден, что похитили Патриса. Для него ничего не изменилось. Речь по-прежнему идет о том, чтобы освободить Патриса.
Клери вернулся обратно.
— Да, это верно, — сказал он. — Я решительно выхожу из строя. Дайте мне, пожалуйста, таблетку аспирина. И поверьте мне. Вы не одна страдаете.
Под вечер пришел комиссар.
— Они испугались, — сказал он, пожимая руку Клери. — За кабиной телефона-автомата и вокзалом по-прежнему ведется наблюдение, но я теперь уверен, что никто и не явится.
Клери увел его к себе в кабинет.
— У вас усталый вид, — продолжал комиссар. — Вы ожидали быстрой развязки?.. Не бойтесь. За ней дело не станет. Но в подобного рода делах всегда наблюдают друг за другом, друг друга прощупывают. Наши злоумышленники просто хотели знать, сопровождают ли вас. Это честный прием. Через несколько часов они к этому вернутся. Будьте готовы.
— Вы уверены, что вас не засекли? — с горечью спросил Клери.
— Совершенно уверен, — вскричал комиссар. — Конечно нет. Просто они очень осторожны, и я их понимаю. Но с другой стороны, должны же и они понимать: время-то работает против них. Когда вы сказали, что в банке заинтересовались тем, что вы хотите получить деньги в мелких купюрах, вы ведь их встревожили. Послушайте, они вполне отдают себе отчет, что слухи-то расползаются насчет Лa-Рошетт. И уже недалеко то время, когда газеты сами займутся расследованием и новость о похищении станет известна всем. Впрочем, я и пришел отчасти из-за этого.
Клери подвинул к нему коробку с сигарами.
— Спасибо, — сказал Маржолен.
Где-то вдалеке послышались приглушенные детские вопли.
— А! Маленький Жулиу, — заметил он. — Как поживает мадам Клери?
— Плохо.
— Ну, естественно. Хотя у меня было впечатление, что она хладнокровия не теряет. Но его всегда хватает ненадолго. Да, хотел вас предупредить. Со вчерашнего дня газеты начеку. Как вы понимаете, наши визиты в замок, расспросы персонала… не остались в тайне. Короче, мне пришлось собрать представителей прессы, вот только что, буквально, и ввести их в курс дела. Они прекрасно поняли, насколько положение деликатное; и потому пообещали молчать двадцать четыре часа. А затем, чтобы не распространялась безответственная болтовня, они сделают новость достоянием общественности.
— Но ведь тогда, — прошептал Клери, — все пропало.
— Да нет. До сих пор мы действовали совершенно тайно, обычные кордоны на больших магистралях, привычный дорожный патруль, и то они не показываются. А тут в одну минуту. Полная мобилизация! Немедленно начнется большая игра, подключится пресса, радио Майенны будет регулярно передавать сводки, и мы, конечно, будем активнее, чем когда бы то ни было…
— Они вообще скроются, — резко сказал Клери. — А Патрис не выдержит всего этого. Нет, комиссар, я выхожу из игры.
— Но послушайте…
— Нет, повторяю вам. Я выхожу из игры. Я снова свободен в своих действиях.
— То есть? Что вы этим хотите сказать?
— Что я пойду на те условия, которые они мне поставят, и ни с кем советоваться не буду. Жизнь моего сына для меня важнее вашего продвижения по службе.
Они оба вдруг неожиданно враждебно посмотрели друг на друга.
— Вот как вы заговорили, совсем по-новому, — сказал полицейский. — Допустим, тревога и усталость измучили вас и вы заметались. Ладно… опустим это. Только я позволю себе заметить, что к моему продвижению по службе все это не имеет ни малейшего отношения. Но вы забываете, что прежде всего мы обязаны задержать бандитов.
— Даже если это будет стоить Патрису жизни?
Комиссар склонился к Клери и дружески взял его за руку.
— Мсье Клери, поверьте… Мы бьемся за то, чтобы спасти вашего сына. Вы думаете так: освободим ребенка, а там посмотрим. Нет. Надо вот как сказать: арестуем похитителей, и тогда ребенок будет освобожден. И потому не пытайтесь держать нас на расстоянии. Вы себе все испортите.
Клери высвободил руку, раздавил потухшую уже сигару в массивной пепельнице и закурил «Голуаз». С потерянным видом он размышлял.
— До этого вечера вы были куда смелее, — снова заговорил комиссар. — Что это вам вдруг стало страшно? Дела идут нормально, если я могу позволить себе произнести это слово. Все похищения похожи одно на другое. Торгуются, выжидают, вступают в переговоры, договариваются, иногда целыми неделями.
— Не тогда, когда от этого зависит жизнь ребенка, — сказал Клери с яростью. — Он ждать не может. Во всяком случае, не Патрис. С ним… Это особый случай. Он не выдержит. Я же его знаю все-таки! Это мой сын.
— Успокойтесь, мсье Клери. И хорошенько подумайте.
— Я все обдумал. А вы действуйте как вам угодно.
— Но ведь это вы нас позвали.
— Я ошибся.
Комиссар поднялся.
— Не вставайте. Я дорогу знаю. Надеюсь, вы поймете, что для вас лучше. Не ошибитесь, кто вам друг, а кто враг, мсье Клери.
Широко шагая, комиссар вышел из комнаты, а Клери уже звонил нотариусу. Он не забыл, что телефон прослушивается. Полиция запишет его разговор. Ну и пусть!
— Алло!.. Альбер… Все сорвалось. Они не появились. Я вам расскажу. Потом, позже. Сейчас я совершенно вымотан. И, кроме того, я только что выставил за дверь Маржолена… Наверно, я не должен был… Мы все совершили ошибку… Да… Нечего было скряжничать и сквалыжничать… Жизнь Патриса стоит дороже трех миллионов.
— Но ведь…
— Я знаю. Знаю. Но я решил предложить больше, чтобы покончить с этим… Я дойду до пяти миллионов.
Он понял, что нотариус подскочил на месте, и положил конец его возможным возражениям.
— Вы мне опять очень нужны, Альбер. Помогите мне собрать еще два миллиона… и очень быстро! Может, это идиотизм — предлагать им больше, когда они об этом не просят… Но все переменилось… Да, я вам позже объясню… Займите… продайте… Я вам доверяю… Еще одна деталь: новость, увы, начинает получать огласку. Так что скажите друзьям, чтобы они не пытались звонить нам. Мы без сил… Спасибо, Альбер.
Клери хватался за сердце и дышал так, будто он только что бежал. «Это правда, я вышел из строя!» Рукой он шарил в поисках пачки сигарет. Подняться и рассказать обо всем Ирен? Нет, об этом и речи не может быть. «Мне наверняка запрещено показываться там, наверху. Я ведь виноват в том, что случилось».
Он глубже сел в кресло, положил ноги на стол и наконец нашел время подумать о своем сыне, представить его себе в руках негодяев. Если бы еще оказалось, что похитила мальчика и в самом деле Мария, она бы позаботилась о нем. И еще… Неужели ей не надоест его плач? Она способна и побить его… Клери сжимал кулаки, измученный нестерпимыми видениями. В то же время странные мысли приходили ему на ум. Не надо было выбирать такое имя: Патрис. Может, юноше бы оно подошло, но не ребенку, это же смешно. Получалось, что это маленький старичок, Патрис, Патриций. Нужно было придумать какое-нибудь прозвище, чтобы это было выражением нежности. Бедный мальчик был обделен, ему не хватало настоящего имени. И вообще какой-то жизненной силы в нем не было. Амалия наверняка придумала для Жулиу какое-нибудь любовное, уменьшительное, тайное имя, что-то вроде признака родной крови. В овечьих стадах, в колониях пингвинов, думал Клери, мать сразу же узнает своих детенышей, потому что те отзываются на особую модуляцию ее голоса. Как будто они бывают и Вилли, и Бобами, и Жожо, и Фредами… А мне, мне никто не отвечает. Я всего лишь старая скотина, способная только предлагать миллионы. Ну, хватит! Я становлюсь совсем идиотом.
Он позвал Франсуазу.
— Передайте мадам, что мне надо поговорить с ней.
Франсуаза в нерешительности замерла.
— В чем дело?
— Мадам сказала, что к обеду она не спустится. И еще она сказала, что не желает слышать маленького Жулиу. Амалия со своим ребенком поднялась к себе наверх.
— Как она?
— Не очень хорошо. У нее бок немного болит. И очень болит голова. Она еще не пришла в себя после случившегося.
— Хорошо. Я сам поднимусь.
Мсье Клери мог колотить в дверь сколько ему угодно. Ирен даже не пошевелилась.
Она лежала, растянувшись на кровати. В руках она сжимала носовой платок. Глаза ее были сухи. Она была совершенно уверена, что Патрис умрет. Это было словно тихое откровение, почти успокоение. Он не мог выжить. Незачем обманывать себя. Он слишком слаб. За ним ухаживать не сумеют. Значит, теперь к этой мысли надо приспособиться. Она не страдала. Ей просто нужна была тишина. Тиканье каминных часов — это уже слишком много. Похрустывание балочных перекрытий — тоже слишком. Забраться бы ей в самую сердцевину такого одиночества, чтобы ничто не могло ее отвлечь, оторвать от этой, столь непостижимой, мысли: он умер. Что должно произойти, когда мать понимает, что ее ребенок умер? Обычно спасают слезы, отвратительные беспрестанные оханья, крики, отвергнутые слова утешения, которые занимают сердце, втягивают его в траурное действо, притупляющее самую невыносимую боль. Но он «умер», и вот с этим надо свыкнуться и не обманывать себя. У меня больше нет Патриса. Я хотела бы почувствовать, что умираю сама, но это неправда, я убита. У меня боль во всем теле. Но что там, глубже? В душе? Она пуста. И покорна уже давно. Всю жизнь. Где-то в глубине я всю жизнь знала, что Патриса нет, никакой маленький мальчик нигде не прячется, тот, который когда-нибудь обвил бы мне ручонками шею и сказал бы: «Мама».
Слово это заставило Ирен вздрогнуть. Ну же, не будем глупить. Это всего лишь слово. Я на него права не имею. Она шевелит губами, словно в молитве, но она грезит, ей видятся металлические растения, укрепленные копьями, дюны под белым солнцем. Вот она, мертвечина. Вот что надо принять. «Мама» — это слово из рая, чистое как родник. На краю ресниц образуется слеза, она медленно стекает к углу рта, и там ее слизывает язык. Соленая, как море. Шум у двери.
— Не хочет ли мадам чуть-чуть бульона?
Что? Да который же час? Что, уже вечер?
— Нет, спасибо, — говорит Ирен.
Шаги удаляются. Она встает, слегка шатаясь, идет умыться. Она почти счастлива, что прогнала скорбь, что нервничала, ну, не очень, но вполне достаточно, и теперь обещает себе стать такой, чтобы не стыдно было смотреть в зеркало. Это ужасно, но это честно. Она возвращается к себе в спальню, оборачивается, делать ей нечего. Как восстановить порядок будней? Что она будет делать, вязать, как вдовы, до потери сознания, сидя в углу у окна за занавеской, поглядывая порой на дроздов, прыгающих на крылечке? А может, она погрузится в туманные мечты, глядя как поблескивают в аквариуме ее любимые рыбки? Или будет без конца раскладывать карты, как она уже часто делала: дама рядом с королем, масть, подобранная в столбик, гаданье, позволяющее предвидеть, каким будет день, удачным или нет. Вранье! Каждый день следовал один за другим… Ничто не предвещало несчастья.
Ирен села на кровать, уперлась локтями в колени, скрестила руки, как преступница, ожидающая приговора. Потихоньку наступил вечер, теплый, с гоняющимися друг за другом в прощальном свете сумерек стаями стрижей в вышине. Пора принять снотворное, чтобы прекратить все до утра.
— Ирен?.. Можно войти?.. Только на минутку.
Она поворачивает ключ в дери. Он там, сгорбленный, пропахший потом и стылым табаком.
— Спасибо, — говорит он. — Я не буду вам надоедать, я пришел, чтобы отчитаться. Во-первых, я порвал с Маржоленом. С ним все, пусть сам разбирается как хочет. Я со своей стороны буду действовать, ничего ему не сообщая. Дела пойдут быстрее.
— Вы не сможете и шага сделать, чтобы у вас на хвосте не висели два-три инспектора.
— Возможно. И не только я, но и все наши друзья. Но я попытаюсь как-то выкрутиться. Это еще не все. Теперь и пресса в курсе. Надо быть готовыми к тому, что нас будут осаждать телефонными звонками и анонимными письмами. Я охрану обеспечу, но мне хотелось вам сказать об этом.
Кивком Ирен показывает, что она ему благодарна.
— Дело станет достоянием гласности завтра, — продолжает Клери. — Но я очень надеюсь, что воры снова объявятся, и на этот раз я буду в точности исполнять их волю. Вы согласны со мной?
— Разумеется.
— За дом я спокоен. Жандро все взял в свои руки. Это действительно стоящий молодой человек. И потом, погода опять хорошая, и все лошади на лугу. Тут никаких проблем. Теперь меня беспокоите вы.
— Не надо мной заниматься.
Они смотрят друг на друга. И молчат. Патрис — последняя ниточка, соединяющая их, и возможно, ниточка уже порванная.
— Я очень надеюсь, — говорит Клери.
— Я тоже, — вежливо отвечает Ирен.
Он собирается уходить. Она увидит его только завтра утром.
Он показывает ей письмо.
— Вот. Прочтите. Отсутствием воображения они не страдают.
«Маршрут: Сабле, Лa-Флеш, Шато-Ла-Вальер, Тур, Шенонсо. Будьте там завтра, ровно в пятнадцать часов. Деньги вы оставите в своей машине, а ключи — на щитке. Вы смешаетесь с толпой, а на стоянку вернетесь только после того, как побываете в замке. В ваших же интересах держать полицию, которая попытается нас преследовать, на расстоянии. Не забудьте: пять миллионов. Нам с вашим сыном приходится нелегко».
— В это время года, — откомментировал Клери, — в Шенонсо — толпы народа. Это идеальное место для такой операции. И поскольку Маржолену я ничего не скажу, у нас все должно получиться. Намек на Патриса в письме — это для того, чтобы произвести на нас впечатление. Патрис вполне выдержит двадцать четыре часа… положим, тридцать шесть… и даже сорок восемь, если придется. В таком возрасте есть силы, чтобы выжить.
— А что газеты?
— Пока ничего. Но так долго тянуться не может.
— А деньги?
— Альбер мне их раздобывает. Он, бедняга, думает, что я по собственной воле увеличиваю сумму выкупа… И, естественно, не одобряет меня. И ничего не может понять.
— Когда вы завтра выедете?
— Примерно в половине первого. Ехать две сотни километров. Времени мне вполне хватит.
— И все-таки. Не слишком гоните. — И добавила, чтобы он правильно ее понял: — Меня беспокоит Патрис.
Начинается бесконечный день, долетающий до нее только эхом, потому что она отказывается спускаться вниз. Но с одиннадцати часов она слышит телефонные звонки. Окна гостиной и кабинета открыты настежь. Порой до нее доносятся обрывки фраз: «Я этого не знаю… Спрашивайте у полиции… нет, повторяю вам, я ничего не знаю…» Клери обороняется от любопытных, подглядывающих, вынюхивающих тухлятину. Проходят часы, он держится хорошо, и ей, чтобы не жалеть его, время от времени приходится напоминать себе: «В конце концов, во всем виноват он сам».
Около четырех часов он поднимается. Она оставила дверь открытой. Он забыл побриться. У него мешки под глазами, и от пота на лбу слиплись волосы.
— Безумие какое-то, вдруг стало так жарко. Я с вашего разрешения позволю себе небольшую передышку.
Он исчезает в ванной комнате, говорит издали, не переставая плескаться под краном.
— Звонят без конца. Можно было в этом и не сомневаться.
— А кто?
— Ну, прежде всего газеты. Конечно, это их хлеб, хотя… Знаете, эти дурацкие вопросы: «Что вы переживаете?.. Как вы выносите это испытание?», будто читатели питаются нашим душевным состоянием. Я, разумеется, всех отправляю к Маржолену.
Он снова появляется, с распахнутой грудью, на шее — махровое полотенце, волосы взлохмачены.
— Кстати о Маржолене, — продолжает он, — не знаю, что он предпринял. У него, должно быть, есть свои осведомители в банках… но он и в курсе того, что делает Альбер. Вот он и скандалит. Поскольку он не знает, что произошло, то воображает, что я сам увеличил выкуп бандитам, без принуждения. Только что простофилей он меня не называет. Говорит, что такого похищения никогда не видел… Что бы он сказал, если бы знал правду… О! Надо же… Послушайте!
Телефон звонит настырно. Клери кончает вытираться.
— Я уж не говорю обо всех тех, кто якобы видел похитителей. Раз Маржолен поставил наш телефон на прослушивание, пусть он и берет их на заметку. Один тип позвонил даже из Мобёжа.
— Но каким образом новость могла распространиться так быстро? — спрашивает Ирен.
— Благодаря одному экстренному сообщению по Радьо-Майенн. Через час дело уже гремело на всех волнах. И все, кого оно затронуло, пришли в ужас. Гонятся за ребенком, как будто открылся сезон охоты. Могу сказать вам, что один гад осведомился, какова награда. Что за убожество! А я еще обязан выслушивать это.
— Снимите трубку, пусть лежит.
— Да нет. Эти мерзавцы еще захотят дать мне последние указания, даже зная, что телефон прослушивается полицией. Разве можно все предугадать? Ладно. Я возвращаюсь к себе. Не двигайтесь отсюда никуда. Уверяю вас, это самое лучшее, что вы сейчас можете сделать.
Он приглаживает волосы на висках и, тяжело шагая, удаляется. Ирен идет прикрыть за ним дверь. Как противна эта его манера никогда не закрывать за собой, ничего не класть на место, не по небрежности, скорее по рассеянности, тогда как она всегда следит, чтобы всюду был порядок. Где бы он ни был, все тут же превращается в свалку. Можно сколько угодно повторять ему… Она ложится на кровать. Он никогда не слушает: не слышит.
Ирен сдается, истерзанная, будто избитая. Вначале она думала, что жить вместе — это счастье. Она не знала, что это значит — жить бок о бок. Но к чему переживать одно и то же? С минуту она дремлет. Где-то в глубине, в ее растрепанных мыслях, тихо существует Патрис. Из далекого далека возникает грызущее чувство, которое изматывало ее во время бесконечной беременности, будило ее резким сотрясением всего организма… утренние рвоты… И боязнь родов. Это у нее, никогда не страшившейся падений, смело подымавшей на дыбы лошадь перед препятствием, ожидание разрешения вызывало ужас. В то же время ей было как бы стыдно рожать, погибая от запаха крови и внутренностей. Она словно стирает с лица усталой рукой паутину воспоминаний, затем в конце концов проваливается в бессознательное состояние.
Когда она открывает глаза, то видит мужа рядом.
— Вы боитесь меня?
— Вы меня испугали. Я думала… А который теперь час?
— Скоро семь. Не волнуйтесь. Франсуаза все приготовила… Вы к ужину спуститесь?
— Посмотрю еще. Все звонят по-прежнему?
— Несколько притихли. Мне самому пришлось звонить всем нашим друзьям. Догадываетесь, что они говорят… Они очень милы, но когда тебе в десятый раз желают быть мужественным, хочется кусаться. Пришел Крессар.
— Крессар?
— Да, помощник Маржолена. Он принес мне чемодан, набитый старыми бумагами, который он взял в камере хранения… холодно… сдержанно. Полиция к нам нежных чувств больше не питает… Да, я и забыл, час назад пришел Шарль, к Амалии.
— Мог бы со мной поздороваться.
— Он не хотел вас беспокоить. Он теперь думает, нет ли у Амалии к тому же язвы? Он намерен послать ее на рентген.
— Ну, конечно, — закричала Ирен. — А кто будет заниматься ее ребенком?
— Она сама, естественно. Никто ее в кровать не укладывает. Она, бедная, потрясена тем, что произошло. Ее послушать, так она сейчас бы ушла от нас, настолько чувствует себя виноватой.
— Но вы велели ей остаться, разумеется.
Клери уловил в ее тоне намерение обидеть его.
— А что, не надо было?
— Да нет! Вы же, в конце концов, ее нанимали.
Клери удерживается от резкого ответа. Выжидает минуту и повторяет спокойным тоном:
— Вы к ужину спуститесь?
— Нет. Мне не хочется есть, когда Патрис, может быть, умирает от голода.
— Чушь, — сквозь зубы говорит Клери.
Он пожимает плечами, с раздражением шаркает ногой по ковру, будто отшвыривает что-то на нем валяющееся, и выходит. Он зовет Леона.
— Можете накрывать на стол.
За длинным столом он сидит один. Отказывается от супа. Леон приносит мясо, Клери обмазывает его горчицей. Он ест жадно и время от времени между двумя кусками хватается за сигарету, одиноко догорающую на краю пепельницы, которую он поставил между бутылкой кетчупа и вазочкой с корнишонами. Перед глазами у него карта округа… Сабле, Лa-Флеш, Шато-Ла-Вальер, Шенонсо… Но нет никаких доказательств, что гонка закончится здесь и что в машине он не найдет нового послания. Тогда где же?..
— Нет, спасибо. Сыра не надо. И десерта не надо. Крепкого кофе мне в кабинет.
Ему придется еще заняться счетами, найти лучший способ заделать огромную брешь, пробитую в состоянии Ирен. Если бы она еще была благодарна ему за это! Он снимает телефонную трубку, чтобы ему не мешали, включает настольную лампу, сидеть ему, вероятно, далеко за полночь. Зажигает сигару. Ему трудно примириться с мыслью, что именно из-за него случилась вся эта чудовищная история. Он открывает свои досье, начинает размышлять.
…А потом он слышит, как кто-то скребется в дверь, и просыпается. Он лежит на диване. Он не помнит уже, когда вынужден был из-за усталости оторваться от работы. Леон приносит поднос и газеты.
Он отодвигает разбросанные на столе бумаги, ставит туда поднос и кладет трубку на рычаги. Клери уже развернул «Западную Францию». Его портрет — на первой полосе. Он гладит лошадь по голове. На заднем плане виднеется замок. Большой заголовок: «Киднеппинг в замке Ла-Рошетт». У него нет никакого желания читать статью, в другие газеты он даже не заглядывает. Новость гремит повсюду. В этот же час во всей стране открывают «Фигаро», «Ле Матен», «Ла Депеш де Тулуз», «Нис Матен», «Ла Монтань»… Обсуждают событие, а кофе с молоком стынет в чашках. «Надо было бы их расстрелять… нет больше справедливости… Бедный мальчик! Хоть бы он уцелел!» Клери кажется, что он слышит шум голосов.
— Леон! Если мадам спросит газеты, скажите ей, что я их увез.
— Хорошо, мсье.
— Она еще не звонила?
— Нет, мсье. Я полагаю, она еще спит. Я могу позволить себе задать один вопрос?
— Ну, конечно, Леон. Не крутитесь вокруг да около. Что такое?
— Вот что. А если мадам обратится к ним с просьбой? Я читал, что иногда, когда напрямую обращаются к гангстерам… это производит на них впечатление.
— Мадам! — говорит Клери. — Обратится к ним с просьбой? Вы должны бы ее знать, и давно.
Он едва не добавляет: «Ей было бы слишком страшно выставить себя на обозрение». Но ограничивается тем, что произносит:
— Дело это я улажу сам, один.
Леон уходит. Клери звонит Марузо.
— Я заеду к вам через час. Беру деньги. Вы мне дадите остальные. Я подумал, что, если выехать так рано, у меня будут все шансы обмануть шпиков, которые, должно быть, наблюдают за Ла-Рошетт. До скорого.
Теперь он спешит. Хватит ждать. Я сейчас буду, маленький мой Патрис. Чемодан, дорожная карта на всякий случай. Он садится за руль «порше» и, как только выезжает на дорогу, резко дает полный газ. Если где-то за углом прячутся полицейские, они не успеют среагировать и потеряют его из виду. Движения еще нет. «Порше», будто подстегиваемый свежим воздухом, катит быстро… 120, 130… «В ваших интересах держать полицию на расстоянии». Фраза рассеянной барабанной дробью отдается у него в ушах. Виражи Гранд-Кот возникают один за другим на полном ходу. Но когда машина за последним крутым поворотом вылетает на длинную прямую дорогу, ее вдруг начинает мотать из стороны в сторону. А! Болт! Болт, потерянный в траве, который он забыл заменить. «Если колесо отлетит!» Это его последняя мысль. Он видит перед собой платан, пытается вырулить.
Грохот такой, что крестьянин, больше чем в километре от случившегося, останавливает свой трактор, прислушивается и вполголоса говорит:
— Ну все, старичок!
Труп Патриса был обнаружен через сорок восемь часов после смерти Клери. Его подбросили в кабину телефона в Туре, неподалеку от Луары. Ребенок умер из-за плохого обращения с ним. Похитители, поняв, что потерпели неудачу, немедленно избавились от него и сбежали.
Отец и сын были похоронены в один и тот же день на кладбище в Лавале. Ирен до конца присутствовала на церемонии. Под руку ее держал Альбер Марузо, и она принимала соболезнования, отвечая легким кивком головы, порой довольно нетерпеливым. Все восхищались тем, с каким самообладанием и достоинством она держалась. Никто не сомневался, что она приняла большую дозу транквилизаторов и будто отсутствовала. Перед ней словно разворачивали гобелен со множеством лиц. Она механически говорила «спасибо», и протянутая рука уже начинала болеть. Нотариус на ухо называл ей шепотом имена. Она делала над собой усилие, чтобы узнать какую-нибудь даму. «Как же она плохо одета! — думала она. — И мыслимо ли так мазаться!» Могилы были освещены солнцем, а на аллеях прыгали птички. Она цеплялась за все, что видела, лишь бы отвлечься и оттянуть тот момент, когда толпа рассеется и ей придется возобновлять свои отношения с жизнью. Но с какой жизнью?
Еще несколько рукопожатий. «Бедная Ирен… Какое ужасное несчастье… Но мы с вами… Если понадобимся вам…» Все то, что говорят, когда надо что-нибудь сказать.
— Идемте, — позвал нотариус. — Вам давно пора отдохнуть.
Она позволила проводить себя к машине, как слепую.
— Поживите несколько дней у нас, — настаивала Сюзанна Марузо. — Пока не придете в себя, как-то соберетесь. Нельзя вам прямо сейчас возвращаться в Ла-Рошетт. Что вы там будете делать, совсем одна?
Но Ирен как раз и хотела скорее остаться совсем одна, потому что кое-чего она до конца понять не могла, а ей нужна была в этом ясность. Потому что ведь, в конце концов, исчезновение Жака не такое уж большое несчастье… А Патриса?.. Вот тут она больше ничего не понимала: она была слишком усталой. Она всегда знала, что когда-нибудь Жак уйдет из дома. И никогда не думала, что он оставит ей Патриса. Так что это двойное исчезновение удивить ее не могло. Почему же она чувствовала себя такой опустошенной, настолько, что даже лекарство и то перестало на нее действовать? И кто объяснит, почему она одновременно и разрывается на части, и безразлична ко всему? Разве этому нет названия? Того сложного названия, которое Шарль Тейсер однажды произнес при ней?
Она согласилась пообедать, но едва притронулась к еде. Нотариус пытался завладеть ее вниманием.
— Лошадей вы думаете сохранить?.. Так было бы лучше. Для вас это интересное занятие. Жандро — человек серьезный и хорошо знает свое дело. Вы сможете на него опереться.
— Может быть, — отвечала она. — Да, может быть.
Они были милы, эти Марузо, но надоедливы. И как надоедливы!
— И не мешает вам, — подхватывала эстафету Сюзанна, — немного попутешествовать, Надо проветриться. А то станете неврастеничкой.
— И к счастью, — добавил Альбер, — деньги не пропали. Кстати, дорогая Ирен, мне на сей счет нужна ваша подпись, мы ведь должны реконвертировать эту массу купюр. Но это я говорю просто к тому, что от материальных забот вы свободны. Так не оставайтесь же пленницей в собственной крепости.
Ирен покачала головой.
— Да, да, может быть.
— Почему бы вам, — продолжала Сюзанна, — не позвать с собой путешествовать Амалию? Она очень милая, эта девушка. И потом, ее малыш.
Нотариус раздраженно посмотрел на жену, и она замолчала.
Ирен, похоже, проснулась.
— Мне Амалия больше не нужна, — сказала она с какой-то злостью. — Через некоторое время я попрошу ее уйти. Не сразу. Я против нее ничего не имею. Мы не ссорились. И не потому, что у нее выкрали Патриса… Она, конечно, не виновата… А потом, все это уже из области прошлого. Но пусть она лучше уйдет.
На минуту она задумалась. Они в молчании смотрели на нее. Наконец она грустно улыбнулась.
— Ла-Рошетт, — сказала она, — не подходящее для ребенка место.
— Немного кофе? — поспешно предложила Сюзанна.
— Нет, спасибо. Я бы хотела вернуться сейчас домой.
— Я отвезу вас, — сказал нотариус.
Женщины поцеловались.
— Я буду звонить вам каждый вечер, — пообещала Сюзанна. — Это прекрасно — слышать дружеский голос.
Она проводила Ирен до машины, сама закрыла дверцу и вытерла слезы на глазах.
— Альбер, — сказала Сюзанна, — не гони, пожалуйста.
Она слишком поздно поняла, что опять допустила оплошность. Машина отъезжала.
— Наша бедная Сюзанна совершенно потрясена, — заметил нотариус. — Вы же понимаете, как близко касается нас все, что случилось у вас.
Все последующие минуты он изо всех сил старался поддержать какое-то подобие разговора, рассказывал о ходе следствия. Разбитый «порше» был тщательно обследован, эксперты обнаружили, что заднее правое колесо еле держалось. Там не хватало болта, и все остальные были плохо закреплены. Вредительство? Или авария произошла из-за потрясения, которое пережил Клери? Или это простая небрежность?
— Я вспоминаю, — сказала Ирен. — У нас шина лопнула, когда мы от вас возвращались, и Жак, ставя запаску, потерял болт.
— Вот, значит, что. Он забыл починить ее. Я скажу полицейским.
Они проезжали то самое место, где сломалась тогда машина. Ирен закрыла глаза. Все началось с этого. Если бы она не торопила Жака ехать… если бы… если бы… Каждое предположение обвиняло ее; постепенно ей становилось ясно, что она виновата во всем. Она мысленно призвала две тени и подумала: «Видите, я возвращаюсь в свою тюрьму. Я из нее больше не выйду. Мы останемся там втроем».
Нотариус рассказывал, что полиция создала портрет-робот Марии, виновность которой кажется все более вероятной. Ирен слушала его, кивала, не переставая играть с мыслью о пожизненной тюрьме, без надежды на прощение. Это было не больно. Это было каким-то загадочным образом даже утешительно. И она обрадовалась, увидев в конце аллеи знакомые контуры замка. Мофраны ждали ее у крыльца.
— Мадам, что-нибудь нужно?
— Я сам о ней позабочусь, — сказал нотариус.
Он проводил ее в гостиную, огляделся вокруг, будто впервые видел эти безмолвные комнаты.
— Итак, вы собираетесь жить здесь… Бедная моя Ирен… Я знаю, погода стоит хорошая. У вас есть и сад, и парк. Но что же вы будете делать целыми днями? Когда вам надоест читать или смотреть на своих рыбок?.. Может, вам снова заняться верховой ездой? И к тренировкам можно вернуться.
— В моем-то возрасте? — сказала она. — Я чувствую себя такой старой.
— Не говорите ерунды.
Марузо думал, что ему еще сказать ей. Ему казалось подлым вот так, здесь, посреди пустынной гостиной, оставить эту женщину в трауре.
— Хотите, я скажу Шарлю, чтобы он навестил вас сегодня вечером?
— Я не больна… Вы очень милы, Альбер, но, уверяю вас, все обойдется. Возвращайтесь к себе. Подумайте о клиентах, которые вас ждут.
Она прислушалась к звукам его удалявшихся шагов, потом к шуму отъезжавшего автомобиля и медленно села. Теперь ей только и оставалось спокойно ждать, год за годом. Если считать часы, она растеряется. Надо хитрить со временем. Она умела это делать… когда они оба были живы. Это было нетрудно. Но теперь?
Она сняла перчатки, шляпку. Раздеться? Переодеться? Зачем? А почему бы и нет? Что вообще теперь важно? Хотя нет, кое-что важное есть. Она позвала Франсуазу.
— У меня к вам просьба, Франсуаза. Я хочу, чтобы вы сложили все вещи мсье: белье, костюмы, в общем, все. И отнесите свертки на чердак.
Франсуаза поднесла платок к глазам.
— Прошу вас, — сказала Ирен. — Ничего тут трагичного нет. И отдайте Амалии все вещи Патриса. Нет никакого резона, чтобы все это пропадало. И коляска тоже пусть у нее останется.
— Да, мадам. Амалия будет очень рада.
— А за то, — продолжала Ирен, — пусть она все устроит так, чтобы Жулиу я не слышала. Я хочу, чтобы было ясно: ребенка здесь больше нет.
Франсуаза не могла скрыть своего изумления.
— Да, мадам… Но ведь ребенку нужен свежий воздух.
— Ну, так в парке места вполне достаточно. Пусть проходит через буфетную. Я, естественно, ужинать буду в столовой. В доме все должно быть по-прежнему. Да, еще, будьте добры, подходите к телефону.
Главное, чтобы ничего не менялось, чтобы время катилось по привычно наклонной плоскости, без потрясений, от рассвета до сумерек.
Ирен поднялась к себе в спальню, разделась, надела костюм в деревенском стиле из ткани, похожей на монашескую мешковину, села, откинув голову на спинку кресла и закрыв глаза. Она совсем дошла. Неужели же ей всего тридцать два года? Она уже представляла себе, как друзья говорят ей по телефону: «В тридцать два года жизнь еще не кончена, вот увидите! Все снова устроится». То есть, иными словами: «Вы снова выйдете замуж». Спасибо. Одного раза ей хватило. Или еще будут давать советы: «Надо всюду бывать, стать полезной». Полезной для чего? Для кого? Посвятить себя какому-нибудь делу? Стать чем-то вроде агента по социальному обеспечению. А может, поступить в «службу доверия»? В общем, стать человеком, который сам себе больше не принадлежит. Но она еще не хотела отказываться от себя. Потом видно будет. А сейчас она должна заняться своими ошибками. Она разведет сад, в котором будет выращивать угрызения совести. И будет жить среди них. И ухаживать за ними до тех пор, пока они не перестанут источать яд. Это будет долго. Она теперь лучше понимала, каких упреков она заслуживала… сколько безобразных сцен она устроила Жаку… по поводу Марии, хотя бы… Конечно, она их никогда не заставала… но даже если бы и напоролась на них вместе, надо было вести себя по-другому, а не обращаться с несчастным, как с последней сволочью. И была связь между всеми ссорами и катастрофой. И с обнаруженным крохотным замученным тельцем. Она представляла себе опять и опять два гроба рядом, большой и тот, другой, похожий на скрипичный футляр.
Неплохо бы стереть все эти воспоминания и воскресить память об ушедших. Жак… да… его черты еще можно было восстановить… как он вытягивал губы, зажигая сигару, как ребром ладони водил по щеке, разговаривая с каким-нибудь занудой по телефону, и потом, как он шел своей медвежьей походкой, размахивая длинными руками. Его она еще помнила. Но вот Патриса? У нее перед глазами только бледное пятно вместо лица. Он утонул в забвении. В памяти остались только нелепые, вызывающе крошечные, будто лягушечьи лапки, пальчики на груди у Амалии. И сколько она ни силилась… Нос… должно быть, кнопка… она мысленно представляла себе нос, и он был неизвестно чей, нос ребенка, неизвестно где увиденный. А брови? Она даже не знала теперь, были ли они у него. С ушами было чуть лучше, потому что они были розовые, и сочетание формы и цвета было вполне органичным. Перевязочки на руках она тоже могла вспомнить, и еще смешной маленький пупочек штопором. Но пройдет еще немного времени, и эти бледные воспоминания будут неуловимее призраков.
Она еще раз мысленно перебрала эти воспоминания. Остатки воспоминаний! Мусор, оставшийся от любви. Нет ничего, что могло бы питать отчаяние, которое становится привилегией или чем-то вроде гордости вдовства. Она подумала: начнем сначала. Начнем все сначала, с того времени, когда мы еще были женихом и невестой. Где тот перекресток, за которым начались их ссоры и была допущена первая ошибка? Она двигалась на ощупь в полутьме своей памяти. Несколько раз они ссорились из-за денег, из-за каких-то вложений, которые он считал более стоящими, чем она. Но нет, искать надо был не здесь. Деньги их не разделяли никогда. Зато из-за имени у них были очень неприятные споры. Почему надо, чтобы тебя называли просто Клери, как простого мужика? Почему, когда он хотел ее задеть, всегда говорил ей: «Моя дорогая баронесса»? Но склока уже поселилась у них в доме. Конечно, было оскорбительное воспоминание о первой брачной ночи. Но если бы она любила его, ее ничто, разумеется, не оскорбило бы. Все было испорчено раньше. А раньше она целиком принадлежала себе, никто ее и пальцем не мог тронуть. Она была мадемуазель Додрикур, самая богатая партия Западной Франции. Когда она появлялась на своем гнедом скакуне, ее приветствовали аплодисментами, потому что знали, что она победит. До того дня…
Перелом наступил, быть может, именно тогда… Все было хорошо до того дня, когда этот мужлан, которого она не знала, нанес ей точный удар в сердце, обойдя ее в трудном конкуре, сразу отодвинув ее на второй план. В Экс-ан-Провансе — новое поражение, и опять из-за него. Но у себя, в Лe-Мане, он в прямом смысле слова очутился на земле, и она с хитрой улыбкой в уголках глаз сказала ему, как она огорчена его неудачей. Да, чем больше она об этом думала, тем больше уверялась, что их соперничество и породило ту любовь-ненависть, которая сблизила их, как боксеров, которые, соединяя в знак дружбы руки, уже присматриваются, куда бы нанести удар. Когда приглашенные подняли бокалы за счастье новобрачных, каждый из них подсознательно чувствовал, что другой уже был лишним. За ней бы осталось последнее слово, если бы она оказалась бесплодной. Последнее слово — это вовсе не значит, что они были противниками в битве повседневной жизни. Речь шла о том, чтобы не позволить себе оказаться на втором месте. У кого тверже характер, долго было не ясно. Она проиграла из-за Патриса.
Ну что же! Ужин подан. Вечер идет к концу. Она страдала, но скучно не было. Наоборот, она совсем не чувствовала себя в изгнании, в замке она ощутила что-то похожее на нежное тепло любимой одежды. Она спустилась, была мила с Леоном и даже, чтобы сделать ему приятное, попросила вторую порцию десерта. Потом позвонила Марузо… все хорошо… Им не о чем беспокоиться… Потом Тейсерам… Да, она устала, но вполне выдержит… О! У Амалии язва… или дуоденит! Ну ничего, мы ее вылечим. Это же не так ужасно, язва… Между нами, и как это у такой здоровой тетехи такое хрупкое здоровье? Ирен засмеялась, давая понять, что она-то имеет все основания падать с ног. Прежде чем подняться к себе, она позвала Франсуазу.
— Все эти пепельницы… и трубки… Уберите все… Это грязь. Теперь, как вы понимаете, здесь будет мой кабинет.
Она обошла всю комнату, очень медленно. Эту мебель она здесь не оставит. И ковры повесит другие, попросит Жюссома, чтобы он развел цветы в этой комнате. В саду полно цветов, они имеют право поселиться и здесь. Она еще раз прогулялась по комнате, остановилась возле своих рыбок.
— Я собираюсь вами серьезно заняться, — сказала она.
Сколько же ссор было из-за этого аквариума!
— Бедные, милые мои, — тихо сказала она.
Она проиграла из-за Патриса, но ей больше не хотелось возвращаться к своим мрачным воспоминаниям. Потом! Отныне вся ее жизнь будет отложена на сплошное «потом».
Она рано легла, и это стало началом монотонно серого периода, похожего на зимнюю спячку в разгар лета, длившуюся как сон, без чего бы то ни было примечательного, если не считать нескольких визитов и некоторого разнообразия дней, бывших то солнечными, то затянутыми сеткой дождя. По утрам она принимала Жандро, который давал ей отчет в делах. Она всегда одобрительно кивала головой, пустив все на произвол судьбы. После обеда болтала по телефону. Альбер рассказывал ей новости о ходе следствия, топтавшегося на месте. Марию найти не могли и, без сомнения, не найдут никогда. Ирен не осмеливалась сказать Альберу, что для нее это теперь значения не имело. Она спускалась в сад, рвала цветы, слушала пластинки. Рассеянно бродила, словно отринув свое сердце, как отшвыривают собаку.
Она решила перенести свой «музей» в кабинет, где теперь висели новые ковры и стояла новая мебель, и вдруг заметила — забытая мелочь, — что некоторые трофеи принадлежали ее супругу. Она хотела было позвать Франсуазу, но зачем ее беспокоить, она ведь может и сама унести эти, затерявшиеся здесь, кубки. Она сложила их в корзинку и поднялась на чердак. Поставила их на полки, где Жюссом хранил зимние груши. Она попросит Леона чистить их время от времени. Уважение к серебру у нее было.
Она машинально подошла к слуховому окошку, откуда открывался вид на парк. Первые опавшие листья золотом легли на лужайки. Она смотрела на пруд, там некогда отец по осени охотился на уток. Тогда она была счастливой маленькой девочкой. У нее был пони, белый с рыжим. Его звали… но как же его звали?.. Вдруг легкий шорох отвлек ее от воспоминаний. Она наклонилась и увидела Амалию, державшую на руках… Боже! Этот голубой костюмчик!.. Секунду ей казалось, что она видит Патриса… Но нет. Это на Жулиу были вещи Патриса.
Ирен, еще не справившись с охватившей ее дрожью, следила глазами за служанкой, которая шла к беседке. Как же он вырос за несколько недель! Как он красив! Амалия опустила его на траву и села рядом. Кончиками пальцев она щекотала его под подбородком, и он заливался смехом. Несмотря на большое расстояние, Ирен слышала его. Радость! Чистая радость ребенка, который накормлен, здоров, кувыркается в траве и пытается ловить ручками проходящие по небу облака. Она схватилась за бок. Ей стало плохо. Бинокль! Живо. Бинокль. Бегом она кинулась за ним, немедленно вернулась, будто боялась, что больше не найдет матери с ребенком. Но они были здесь, играли на солнце с какой-то невинностью животных, восхищавшей Ирен. Она навела бинокль и увидела Жулиу прямо перед собой. Жулиу, одетого, как Патрис. Или это Патрис, переодетый Жулиу?
Нет. Ни то, ни другое. Это ничей младенец, на которого она не могла наглядеться. Он такой смешной, с такими круглыми щечками, что из-за них почти не видно носа, когда он показывается в профиль, и ушко у него как нежная ракушка, и кулачки крохотные, а в них спрятаны большие пальчики… Бинокль медленно двигался, вот совсем близко его личико, взгляд Ирен задержался на темных глазах, в которых играло блестками летнее солнце, спустился по длинному крепкому тельцу до кругленьких гладких ножек, увлеченно крутивших несуществующие педали, и Ирен пришлось опереться плечом на оконную раму.
«Что это со мной? — подумала она. — Да… Допустим… Это удачный ребенок. Ну и дальше что?» Она снова поднесла бинокль к глазам. Там, внизу, ребенок лежал на боку и пытался встать, но колено скользило по траве. Амалия хохотала, слегка подталкивая его. Вдруг он рассердился, и она взяла его под мышки, подняла над головой будто представляла его деревьям, цветам, всей природе. Он болтал руками и ногами, не находя опоры, и наконец расплакался.
Ирен опустила бинокль. «Что за дуреха!» — сказала она вслух.
Рассерженная, она ушла с чердака, положив бинокль. Вернется ли она сюда? Во всяком случае, не скоро. И вообще ребенок Амалии ей не интересен.
До самого вечера у нее было плохое настроение, из-за которого любое занятие становилось бессмысленным. Она попробовала читать. Муж выписывал много журналов, и она, зевая, листала их. На политику ей было плевать. Финансы… Она по привычке бросала взгляд на те страницы, где печатался курс акций, и тут же перелистывала их… Мода? Да, некоторое любопытство просыпалось, но тут же угасало… Как же поручилось, что у этого малыша такой белый цвет лица? Родители ведь очень смуглые? И волосы у него скорее темно-русые. Ну, точно не поймешь… Бинокль, может, немного искажает цвета.
Она ухмыльнулась, сдерживая ярость. Еще чего! Не будет же все-таки она, чтобы развлечься… Лисица караулит у гнезда, заранее предвкушая… это еще куда ни шло… Но она!.. То есть я! Чего я ищу? Я так придирчиво к себе отношусь… что же меня здесь привлекло? И что я от себя скрываю?
Наутро она встретилась с Амалией в вестибюле.
— Как вы поживаете, милая Амалия? Идите сюда, давайте поболтаем немного… Вы страдаете от своей язвы?
— Да, мадам. Это очень больно. И доктор сказал, что долго не пройдет.
— Он вам дает порошки… белые порошки?
— Да. И еще он делает мне уколы… Я хотела спросить мадам… Жулиу вам не мешает?
— Да нет. Не будем об этом.
— Мадам так добра к нам. Я бы хотела, чтобы… Я бы предпочла уехать, если мой малыш напоминает мадам…
— Но кто же вам велит уезжать? Напротив, вы мне очень нужны. Не беспокойтесь, Амалия. Ничего не изменилось.
«Неужели я становлюсь подлой?» — подумала, оставшись одна, Ирен. Она быстро позавтракала, на минуту остановилась возле аквариума. Может, она бы закурила, если бы сигареты были у нее под рукой. Теперь она понимала, почему Жак так много курил. Беспокойство. Страх перед тем, что будет, перед тем, чего хочешь или боишься, что призываешь и чего избегаешь. «Нет уж, — думала она, — я наверх больше не пойду. Прежде всего, что мне там делать?» Она пошла за картами, начала раскладывать пасьянс, получится ли? И вдруг рассмеялась. Да у меня уже ничего не получилось! Будто что-то еще могло получиться! Она смешала карты и даже не дала себе труда сложить их. Как можно бесшумнее она поднялась на чердак. Она старалась приглушить шаги не из-за кого-нибудь. Из-за себя самой, чтобы не слышать себя и не задавать себе вопросов.
Она подошла к окошку. В саду было пусто. Еще слишком рано. Она села на большой чемодан, покрутила бинокль и снова заняла свой наблюдательный пост. Никого. «Но что, интересно, она делает? Сейчас самое время гулять. Воздух нежен и приятен. Она не знает, как надо обращаться с ребенком».
Ирен обошла чердак, остановилась перед кубками, на основаниях которых были выгравированы названия городов, где Жак одерживал победы: Брюссель… Экс-Лa-Шапель… Виши… В Виши ее кобыла два раза дала сбой, а у Жака был триумф. Забавно, она больше не сердилась на него за это, ну, почти нет. В конце концов, он ведь тоже все потерял из-за Патриса. И теперь тайна навсегда останется между ними. Патрис!
Она услышала, как катится по гравию коляска, и поспешила к окну. Амалия усадила ребенка, обложив его подушками, и он, глупо улыбаясь, хлопал в ладоши. Ирен пожирала его глазами. Волосы у него были действительно темно-русые, и изящные завитки вились над его лбом. Он схватил свой палец и запихнул его в рот, вдруг став очень серьезным и сосредоточенным. Движение коляски укачивало его. Он смыкал глаза, уже охваченные сном, но еще упорно сосал палец. Амалия направлялась к беседке, где, конечно, собиралась сесть и повязать. Ирен подтащила старый чемодан к окошку и удобно устроилась. Но Амалия миновала беседку и пошла дальше, к пруду. Бинокль был все время нацелен на спящего ребенка. Но картинка становилась все меньше и меньше. Ирен отняла бинокль от глаз. «Могла бы и оставить мне его», — подумала она. Решение было принято, пока она спускалась по лестнице. Она позвонила нотариусу.
— Альбер, помните, вы мне недавно предлагали, если я захочу погостить у вас несколько дней…
— Ну конечно же. Как только вам будет угодно.
— Я подумала… А если бы… сейчас… вы бы смогли меня принять? Я устала от этого дома. И потом, здесь меня осаждают воспоминания.
— Ну так дорогая моя Ирен, считайте, что мы договорились. Сюзанна заедет за вами.
— Нет! Нет! Не беспокойте ее. Меня отвезет Жюссом. Спасибо. Вы, правда, оба очень любезны. Я вам не надоем, будьте спокойны. Три-четыре дня, не больше. Просто чтобы немного отвлечься.
Она в спешке собрала чемодан.
— Я понимаю, мадам необходимо общаться с людьми, — сказала Франсуаза. — Лa-Рошетт — это немного тоскливо. И потом, мадам здесь ничего не держит.
Жюссом уже подкатил к крыльцу.
— Счастливо, — снова заговорила Франсуаза. — Пусть мадам развлечется немного. Доброго пути.
Часть вторая
Три дня все было спокойно. Ирен и Сюзанна бродили по улицам, останавливаясь то перед ювелирным магазином, то перед модной лавочкой. «Смотрите-ка, Ирен, вот этот костюмчик… Как он пойдет вам! Не будете же вы всю жизнь ходить в черном!» Была прекрасная погода. Было прекрасно обо всем забыть. Где-то за кулисами жизни продолжалось следствие. А Ирен не хотела и знать о нем. Ей нравилось, что ее повсюду водят, радостно было скромно смешиваться с толпой и замечать в витрине собственный силуэт, будто дружелюбную спутницу. Но потом, на четвертый день, поджидая Сюзанну, которая покупала журнал «Элль», Ирен рассеянно поглядела на одну из витрин. Там было бесконечное множество детских одежек: комбинезончики, пальтишки, чепчики, пижамки, а дальше, на прилавке — вязаные башмачки, украшенные голубыми ленточками. Ирен не могла оторвать от них глаз.
— Идемте же, — позвала Сюзанна.
Ирен покорно пошла за ней. Говорить ей не хотелось.
— Давайте выпьем по чашечке чаю, — предложила Сюзанна. — Вы устали.
Они вошли в кондитерскую, и Ирен согласилась съесть ромовую бабу.
— Простите меня, — заговорила она. — Я все думаю про эти маленькие туфельки.
— Ну что вы, — сказала Сюзанна, — не надо так болезненно реагировать.
— Да нет. Не в этом дело. Совсем не в этом. Я говорила вам, что отдала Амалии все вещи Патриса? Так я теперь не знаю, правильно ли я поступила. Что она обо мне подумала? Конечно, она меня поблагодарила. Но в глубине души… Вам не трудно вернуться со мной в этот магазин? Я бы купила что-нибудь для ее сына.
— Честно говоря, Ирен, я не понимаю вас.
— Ну как же. Я вам сейчас объясню. Амалия не может простить себе, что не смогла защитить Патриса. А я… Господи, все это очень сложно… Ну вот, если так понятнее, я бы на ее месте, получая эти вещи, подумала бы: «Не презирает ли она меня, вот так избавляясь от всех этих вещичек, сплавляя их мне?..» Понимаете? Так вот, если сейчас я сделаю подарок Жулиу, я сглажу прошлое… На Жулиу мне плевать. Но я не хочу, чтобы его мать считала меня не такой, какая я есть.
— О! Бедная моя, как же вы умеете себя мучить. Ну хорошо, идемте покупать этот подарок.
Они долго выбирали, получая от этого удовольствие.
— Чудесно! — говорила Сюзанна. — Я прямо бабушкой себя чувствую.
Ирен купила вязаные башмачки и чепчик, который Сюзанна нашла восхитительным.
— Завтра, — сказала Ирен. — Надеюсь, Амалия будет довольна.
— Завтра? — удивилась Сюзанна. — Но, послушайте, вы ведь не собираетесь покинуть нас так быстро? Мы хотели, чтобы вы у нас хоть неделю пожили.
— Да, но… во-первых, я не хочу быть в тягость, а потом, когда я уезжаю из Лa-Рошетт, мне чего-то не хватает.
Сюзанна не настаивала. Ирен почувствовала, что между ними пробежал холодок, и постаралась быть милой и спокойной, но вечер тянулся бесконечно. Нотариус пригласил Тейсеров. Все старались развлечь Ирен. Подавая время от времени доброжелательные реплики, Ирен беспрестанно думала: «Что я здесь делаю? Они очень милы, но мне скучно. Боже, как мне скучно. Так скучать просто невыносимо».
У нее было ощущение, что она ждет свидания, так когда-то она считала часы до встречи с Андре. Ей было четырнадцать; а Андре — пятнадцать. Он провожал ее в Институт имени Жанны д’Арк и шел дальше в свой лицей. Им особенно нечего было сказать друг другу, но они шли бок о бок. Радостно было порой коснуться друга плечом. Радостно было перейти на «ты». Радостно было, наконец, ждать друг друга возле книжного магазина Жермена и смеясь идти вместе по улице. Они ни разу не осмелились поцеловаться. Сначала им казалось, что это глупо. Они обменивались мужественными рукопожатиями. «До завтра». — «Привет!» Но глаза их светились любовью.
Ирен не слышала, что сказал нотариус.
— Прошу прощения, — прошептала она. — Я немножко отвлеклась.
— И часто это с вами случается? — осведомился врач.
— Нет, это с тех пор, как я в трауре…
— Бросьте, Ирен, это не имеет значения. Вам пора ложиться.
Она хотела сразу же заснуть. Не тут-то было. Жарища страшная. И разнервничалась она ужасно. Почему вдруг вспомнился ей этот юноша, о котором она и думать не думала? И тем не менее какие-то забытые волнения не давали ей спать. Она встала, чтобы принять снотворное. Маленький пакет, купленный в магазине «Все для новорожденных», лежал на каминной полке, рядом с ее сумкой. Коробка была перевязана лентой, а узел затейливо украшен розой из завитков. «Это в подарок?» — спросила продавщица. Если бы Ирен была одна, она бы ответила: «Нет, это для меня!»
Зубами она развязала ленту и открыла плоскую коробку. Очень бережно развернула шелковистую бумагу, в которую были упакованы башмачки, и взяла их кончиками пальцев. Радостно улыбаясь, она разглядывала маленькие вязаные туфельки. Ну да, это и было ее свидание. Ей хотелось поиграть в них. Она просунула по пальцу в каждый башмачок и рукой провела их балетными шажками по каминной полке.
Вспомнилось замечание мужа: «Ирен, когда же вы повзрослеете?», но это воспоминание не ранило ее. Когда она была маленькой, то кукол терпеть не могла. И вовсе не детские переживания всплыли сегодня. Пока туфельки неловко взбирались по ее сумке, она попыталась разобраться в своих чувствах. Она ведь думала не о Патрисе и вовсе не о сыне Амалии. Скорее о ребенке, которого пока не было на свете, но представление о нем вырисовывалось у нее все четче, подобно тому, как вначале на ощупь рождается произведение романиста. Эти туфельки, чепчик, который она надела на кулак, и теперь медленно поворачивала его из стороны в сторону, разве это не обещание новых родов? Никто ее не видит. Никто не смог бы ничего прочесть в ее сердце. И она вольна придумывать себе любую сказку, где сама будет волшебницей.
Она снова легла, положив рядом с собой спрятанные обратно в коробку туфельки и чепчик, которые отныне будут оберегать ее сон. Спала она без просыпу до утра.
Около десяти за ней приехал Жюссом. Она пообещала супругам Марузо часто наведываться к ним и села рядом с садовником.
— Вид у мадам лучше, — констатировал Жюссом.
— Да, я себя хорошо чувствую.
— А вот Амалия нет. Язва ее мучает. И потом (он с грустью покачал головой) после того, что случилось, она теперь совсем другая. Ей действительно здорово досталось… Счастье еще, что у нее есть Жулиу… Ой, простите, мадам. Я как-то упустил…
— Да будет вам, Дени. Не извиняйтесь. Она вправе гордиться своим сыном.
— Он такой милый, — снова заговорил Жюссом. — Никогда не плачет. И так растет! Быстрее, чем у меня спаржа. Для нас, стариков, это прямо отрада.
Он замолк, решив, что слишком разболтался. Но вообще-то! Хозяйка не бессердечная. И кто знает, может, где-то в глубине души она и сама находит утешение в том, что есть здесь этот маленький человечек, который все же был молочным братом ее ребенка? После приличествующего обстоятельствам молчания он заговорил о лошадях, потом опять прикусил язык, потому что лошади были предметом всех разговоров бедного мсье. В конце концов говорить нельзя было больше ни о чем. Он поехал быстрее и без всяких сожалений оставил мадам у ступенек крыльца.
Покормив своих рыбок и обойдя весь первый этаж, чтобы удостовериться, что всюду чисто, Ирен с прекрасным аппетитом позавтракала. Она решила спуститься сегодня в сад. Никаких биноклей! Что за подсматривание! Эта игра в прятки и так затянулась. Она осмелится подойти к ребенку. Стыдиться ей нечего.
Она была не очень расположена ко всяким дамским занятиям, но какое-нибудь вышивание у нее найдется, вот она его и закончит. Так оно будет приличнее. Она откопала в глубине одного из шкафов давно заброшенную вышивку и к половине третьего неспешно, но в то же время нетерпеливо, открыла дверь, выходящую в сад. Амалия сидела в беседке, возле нее в колясочке был Жулиу. Ирен подошла, жестом запретив Амалии вставать.
— Мне стало слишком жарко, — сказала она. — Здесь, по крайней мере, есть чем дышать.
Она положила работу на один из гнутых металлических стульев и взяла себе другой.
— Что же он рассказывает, наш маленький Жулиу?
Амалия изумленно посмотрела на хозяйку, пытаясь угадать причину такого неожиданного благорасположения, а Ирен уже склонилась к малышу и щекотала ему шейку и за ушком. Ребенок вовсю заулыбался ей, и в этой улыбке было столько света, что-то было такое доверчивое и доброе, что она отдернула руку, будто обожглась.
— Он начинает узнавать мадам, — сказала Амалия.
Ирен немного подождала, пока перестанет колотиться сердце, и сделала вид, что ребенок ее больше не интересует. Она спросила Амалию, помогает ли ей лечение. Амалия, обрадовавшись доверительному разговору, болтала без умолку, и Ирен оставалось только кивать в знак согласия. Краем глаза она все время рассматривала Жулиу, вспоминая маленькое блеклое личико Патриса. Жулиу, напротив, был настоящий призовой ребенок, упитанный, щекастый, по всему видно, что свежий, и будто лишенный какой бы то ни было наследственности; и как представить себе, что с возрастом в нем проступят потихонечку черты, выдающие его происхождение? Еще несколько лет, и это будет маленький португалец, у которого будет акцент, может, даже и грубые манеры, если оставить его матери. Ирен на ходу перехватила эту странную мысль: «Если оставить его матери. Ну, разумеется. Но как жаль!» Вокруг коляски стала кружить оса, и Ирен не выдержала.
— Можно я? — спросила она слегка сдавленным голосом.
Она расстегнула ремень, удерживавший ребенка, и взяла его на руки. Он неистово болтал ногами и пытался поймать Ирен за нос. На нем была только рубашечка и пеленка, и потому она тут же ощутила его нежную кожу, в руках ее оказалось крепкое и настолько гибкое тельце, что она едва не выпустила малыша из рук. Она больше не слышала Амалии, которая надоела ей со своей язвой. Она прижала к себе ребенка, опустила голову и прикоснулась губами к довольно жесткой шевелюре, пахнувшей теплой шерстью. Почему она не имеет права шептать в каждый завиток над его ухом: «Маленький мой! Малюсенький мой!» Неожиданно резким движением она передала его Амалии.
— Возьмите его. Он у меня выскальзывает. — Ирен сделала вид, что смотрит на часы. — Боже мой, а ведь я жду звонка. До свидания, Амалия.
Она почти бегом поднялась по аллее к дому и уселась в гостиной. Леон наполовину прикрыл ставни, чтобы солнце не жгло занавески. Она вытянулась на диване. В полутьме рыбки иногда словно загорались ярко-белым светом. Она подумала: «Я схожу с ума. Пусть она убирается, с мальчишкой вместе. Пусть она меня в конце концов оставит в покое!» Но снова и снова Ирен переживала ту минуту, когда под пальцами ощутила нежную кожу ребенка. Такое волнение, и в ней! Так все в животе похолодело!.. Это неизвестно что такое, может быть, это и есть подступ к наслаждению… Это переворачивало вверх дном все предрассудки, все приличия, все представления о морали, но ведь человек наг. И ему хорошо. Да. Буря миновала, и теперь хорошо. И ничего не жаль. Мертвый муж, мертвый ребенок, все это было в другой эпохе. «В те времена, когда я спала, — думала Ирен с некоторой еще горечью. — А теперь?»
Она поднялась, потому что ей показалось, что, встав, она будет более благоразумной. Что же теперь? Она привяжется к этому малышу? Но это уже произошло. Почему не дать времени идти своим чередом, не пытаясь забегать вперед? Она, конечно же справится с этой странной страстью, которую, без всякого сомнения, любой невропатолог легко объяснит. «И даже, — сказала себе Ирен, — было бы разумно его посетить».
Но развития это намерение не получило ни назавтра, ни потом. Она садилась в беседке рядом с Амалией, возле коляски, и все послеобеденные июльские часы отдыха обе женщины болтали вполголоса, не отрывая глаз от ребенка. Когда первое недоверие у Амалии прошло, она стала охотно рассказывать о свой родине, на которую мечтала когда-нибудь вернуться.
— Успеете еще, — говорила Ирен. — Вас, может, ждет там безработица. А потом, вы же там никого теперь не знаете.
— Это правда, — соглашалась Амалия. — Но когда Жулиу вырастет…
И разговор переходил на Жулиу. Ирен брала его на руки, подбрасывала его.
— Обещай нам, что ты никогда не вырастешь, — смеясь, вскрикивала она. — Твоя мама уже сейчас хочет от тебя избавиться. Правда, какая нехорошая?
Малыш терся головкой под ухом у Ирен, и она прижимала его к себе, гладя рукой по спине.
— Мадам устанет от него.
— Да что вы, милая Амалия. И вот увидите… мы прекрасно им займемся. Мне теперь делать нечего, я его буду водить в школу… Да я же вся мокрая, ах ты маленький безобразник. Ничего, это не беда.
— Я его переодену, — предложила Амалия.
— Нет, я. Мне ведь пора этому научиться, как вы считаете?
Это была чудесная игра — переменить пленку, пощекотать малыша, который млел от блаженства.
«Мадам слишком добра», — повторяла все время Амалия, раздражая этим Ирен.
Признаться, впрочем, присутствие служанки она вообще едва выносила. Амалия была бесхитростна, но ее манера все без конца проверять просто бесила Ирен. Ей хотелось сказать: да, он, конечно, сухой. Да, я хорошо пристегнула ремень коляски. Да, я тоже умею за ним ухаживать.
Тем не менее она была любезна, и между ними установилась некая атмосфера интимности, которая порой выводила Ирен из себя, но приходилось вести себя именно так, если она хотела быть рядом с Жулиу. Амалия вроде бы по-прежнему выказывала ей почтение, даже немного раболепное, однако в то же время она сделалась фамильярной, задавала вопросы о вещах, которые ее не касались, к примеру, о том, как идет следствие у комиссара, или расспрашивала Ирен о друзьях, о докторе Тейсере, который, по мнению Амалии, плохо ее лечил. Ирен очень хотелось поставить ее на место, но Жулиу ласково улыбался, и она терпела ради него. До того дня, когда чуть-чуть не устроила скандала. Погода, уже с утра предвещавшая бурю, грозила совсем испортиться, и у Ирен начинала разыгрываться мигрень.
— Я иду домой, — сказала она. — Приму аспирин.
Жулиу качался на руках у матери и что-то мурлыкал. Амалия взяла его ручку и помахала ею Ирен.
— Скажи тете до свидания… До свидания… До свидания…
Тетя! Дальше ехать некуда! Будто бы Ирен — одна из тех маленьких седеньких тетушек, которых можно встретить в клубах для пожилых! Совершенно очевидно, Амалия толком не знает, что значит это слово. Что ей вовсе не мешает произносить его, да еще говорить с ней на равных, как Перейра с Перейрой. «Честное слово, она воображает, что мы с ней — родственницы, под тем предлогом, что она одалживает мне Жулиу. Тетя! Нечего с ней миндальничать».
Ирен закрылась в своей спальне, и всю ночь гроза так и не дала ей уснуть. О! Она теперь поняла, каковы намерения Амалии: принимать все ее любезности, делать вид, что они ее трогают, но не допускать никаких посягательств на Жулиу, будто его кто-нибудь собирается разлучать с матерью. «Уж во всяком случае, не я, — думала Ирен. — У меня отняли сына. Так что я знаю, что это такое. Ну и что же? Ребенок этот живет у меня, возле меня, так что, я не имею права быть с ним нежной? И вовсе не как пожилая родственница, балующая дитя, которую называют „тетя“, чтобы было ясно, что она не совсем член семьи и ей лишнего ничего не позволят, ну просто как… как…»
Она попыталась найти более точное слово, потом раскаялась и плакала в подушку. Когда гром перестал греметь и первые птички возвестили рассвет, она успокоилась и вдруг сделала резкий поворот, начав упрекать себя. Если бы она была на месте Амалии, разве не вела бы она себя точно так же? Разве не ревновала бы к каждой улыбке, которую сын дарил кому-нибудь другому? Но ревновала ли Амалия? В своей простоте и бесхитростности разве не гордилась она тем, что хозяйка полюбила ее дитя? И чтобы выразить свою признательность и расположение, она и сказала: «Скажи тете до свидания». Если подумать об этом хладнокровно, это было вполне естественно и даже довольно трогательно. Откуда же в ней такой гнев, такая злоба? Терзаясь этими вопросами, Ирен и заснула.
Проснулась она усталой, с отвращением к жизни, но с твердым решением начать борьбу с Амалией, потому что, несмотря на свои добрые намерения, служанку она ненавидела. Это чувство поселилось в ней незаметно, но разрослось в эту грозовую ночь так бурно, как дикая крапива, и побеждать его теперь было уже поздно.
Ирен, впервые за очень долгое время, размассировала себе лицо и тщательно навела макияж. «Я пока еще тетушка вполне презентабельная», — сказала она своему отражению в зеркале. Слегка надушилась за ушами, как на вечерний бал. Птенчику должны нравиться духи. Она улыбнулась и поднялась на третий этаж. Амалия была в своей комнате. Она что-то шила. Жулиу, лежа на кровати, изо всех сил старался стянуть с ноги вязаную туфельку.
— Простите меня, Амалия, но я тут вот о чем подумала. Вы совсем одна на этом этаже, а я совсем одна на своем. Вам ночью не бывает немного страшно?
— Ой, еще бы, — призналась тут же Амалия. — Особенно с тех пор, как… Мне все еще снится это в кошмарах.
— Так почему бы вам не переехать обратно в вашу комнату на втором этаже? Жулиу мы поместим в детской и будем чувствовать друг друга совсем рядом. Мне кажется, так будет лучше.
— Если мадам не против.
— Но ведь я же вам это и предлагаю. Я предупрежу Леона. Он поможет вам переехать.
— Спасибо, мадам.
В тот же вечер Жулиу спал в детской. Амалия оставила дверь приоткрытой. Ирен тоже. Каждая могла слышать, как ребенок, будто маленькая зверушка, шебуршился в своей колыбельке. И вот дыхание Амалии стало тяжелее. Ирен ждала этой минуты. Она знала, что Амалия, побежденная сном, откажется от своих привилегий, забудет о них, устранится и, отдавшись снам, будет где-то далеко от Жулиу. И теперь победа за той, которая не спала и могла встать, склониться над кроваткой и смотреть на ребенка с закрытыми глазками, время от времени жадно шевелящего губами. Очень бережно она прикрыла немного кривоватые ножки простыней. Вернулась в свою постель, устроилась на боку, повернув голову в сторону колыбельки. Она успокоилась и была довольна, что никому ничего плохого не сделала. А закрыв глаза, дала себе слово подарить завтра Амалии туфельки и вязаный чепчик. Теперь ей это было безразлично. Детство какое-то. Теперь у нее есть кое-что получше. Рядом — малыш.
…А лето клонилось к закату. И Ирен, несмотря на несколько ремиссий, становилось все хуже. Со стороны казалось, что она выходит из траура, что эта энергичная женщина сумела взять себя в руки. Она принимала друзей. Приглашала их кататься на лошадях, как это было заведено раньше. Случалось ей даже принимать комиссара, у которого всегда находились к ней новые вопросы. Но вот Амалию она воспринимала крайне болезненно, это стало ее навязчивой идеей, и она принялась строить планы, как бы ей выкраивать минуты, чтобы побыть наедине с Жулиу. Хватит ей быть здесь гостьей, обязанной следить за собой и не позволять себе быть слишком нежной. Пустота и незанятость длинных дней предоставляли ей массу времени для всяческих проектов, и она без конца носилась с ними; устав от одного, кидалась к другому, но постепенно поняла, что все ее расчеты ни к чему не ведут: у нее с этим ребенком общего будущего нет. Если Амалии взбредет в голову найти другую работу, ей ничто не помешает уйти, взяв с собой сына. Затаив злобу, она была терпелива и обращалась с Амалией по-дружески. Даже сделала еще один шаг и натолкнулась на отказ, который возмутил ее.
— Но послушайте, Амалия, будьте благоразумны. Примите то, что я вам предлагаю для Жулиу… Он очень вырос, ну, смотрите… ему все становится мало.
Амалия дала себя уговорить и назавтра взяла машину, чтобы ехать в Лаваль.
— Оставьте мне Жулиу, — предложила Ирен. — Он будет мешать вам.
— О нет! — ответила служанка. — Это, наоборот, развлечет его. А то он же тут совсем никого не видит.
«Я, конечно, никто, — подумала Ирен вне себя от бешенства. — И она еще не постеснялась заявить мне это напрямик».
Амалия вернулась вечером, обвешанная свертками, которые она стала разворачивать при Ирен. С торжествующим дурновкусием она накупила вязаных розовых вещичек для девочки, бездарно и пышно расшитых, и теперь, ликуя, демонстрировала их.
— Он будет очень красив, мой Жулиу, правда, мадам?
— Но почему же все розовое? — удрученно спросила Ирен. — Почему не голубое?
— Потому что я люблю розовое.
— А все эти вышивки, вы не думаете, что…
Она замолчала, поняв, что Амалия хотела дать своему ребенку то, чего не имела сама.
— Да, — сказала она. — Жулиу будет очень красив.
Она порадовалась, что не отдала чепчика и туфелек, но решила, что оденет Жулиу более подходящим образом, и этот новый проект занял ее не на один день.
Почти тайно она съездила в Лаваль, попросив Леона отвечать на телефонные звонки и говорить, что она пошла прогуляться; она купила маленький набор вещичек, который стоил ей очень дорого. Затем она зашла в свою любимую ювелирную лавку.
— Я бы хотела купить цепочку, — сказала она. — Что-нибудь изящное и роскошное. Для совсем маленького ребенка.
Продавщица открыла футляры. Ирен никогда не была такой счастливой. Она рассматривала свешивающиеся у нее с руки цепочки, восхищалась их блеском, долго сравнивала одну с другой.
— Вам еще надо приобрести медальончик, — посоветовала продавщица.
— Да, конечно.
— С выгравированным именем?
— Разумеется.
— Какое имя?
Захваченная врасплох, Ирен быстро соображала. Не Патрис! Не Жулиу! О, ужас, Жулиу!.. Джулито!.. Вот, вот, Джулито!.. Очаровательно, ласково. Имя только для него одного… и для меня. И как это имя раньше не пришло ей в голову?
— Выгравируйте, пожалуйста: Джулито.
Выйдя из магазина, она остановилась и прислонилась к стене. Радость распирала ее. Вернувшись, она спрятала покупки в самый дальний угол шкафа… Теперь надо ждать случая. Как бы разлучить мать и ребенка на час или на два? Амалия повсюду таскала Жулиу за собой. Ирен прикидывала все возможные варианты. Она плохо спала и искала решение возле ребенка, каждое дыхание которого было ей наградой и обещанием. Из своей комнаты она вслушивалась в громкое дыхание спящей служанки. Садилась возле колыбельки. Как ты еще поведешь себя, мой маленький Джулито? Ты хотел бы побыть со мной вместе после обеда, правда? Вот увидишь, когда придешь ко мне, какие красивые вещи я тебе купила. И эту красивую цепочку. Это секрет, Джулито. Твоя мама не должна ничего знать. Она будет недовольна.
К счастью, вмешался случай. Позвонила Сюзанна Марузо и попросила Ирен о небольшой услуге. У Бельересов… Она не забыла их? Да, архитектор… Ну, так вот, его жена плохо себя чувствует, а служанка бросила их, даже не предупредив… Не могла бы Амалия их выручить? Это не надолго… Наверняка не больше недели. Если б Амалия приходила к ним часа на три в день, желательно после обеда… Немного убраться… немного постирать… Кое-что купить… Ничего трудного. Ирен дала согласие.
Поначалу Амалия насторожилась.
— Мне придется оставлять Жулиу здесь?
— Амалия, милая, мы все присмотрим за ним. Жюссом отвезет вас к двум часам в Лаваль, а в пять за вами вернется. Жулиу ведь обычно немного спит после обеда… Вот увидите. Ему некогда будет скучать.
— Он будет плакать без меня.
— Да нет. Я буду гулять с ним. Знаете… я поведу его к конюшням. Он посмотрит на лошадок. Я уверена, что ему это понравится.
Амалия почувствовала, что не должна отказываться, иначе это будет расценено как неблагодарность. На следующий день Жюссом повез ее. Прощались у крыльца так, будто навсегда.
«Ну и кретинка, — думала Ирен. — Если бы она его потеряла, своего малыша, как я, и то, верно, меньше бы переживала!» Малолитражка скрылась из виду. Ирен бегом взбежала по лестнице.
— Джулито, мой маленький. Просыпайся. Мы свободны!
Что за прекрасный праздник! Ирен раздела малыша. Он сопротивлялся, как котенок выкручивался, смеялся, ловил свои ноги и пытался запихнуть их в рот. «Ну-ка, — говорила она, — сиди тихо, козленочек мой, и дай мне свою лапку». Она надевала на него крохотную рубашечку, щекоча его. «Я тебя съем. Ням-ням…» Она целовала его животик, и он задыхался от радости, вертя головкой из стороны в сторону. «Ну, ну, — шептала она немного странным голосом, — будем себя хорошо вести». Она не торопилась одевать его, руками она перебирала теплые одежки. Потом посадила его на кровать и стояла перед ним на коленях. «Держитесь пряменько, мсье, доставьте такое удовольствие маме».
Она прикусила язык, потом вдруг схватила его и прижала к себе. «Мой малыш… мой собственный малыш», — и она стала раскачиваться так, словно укачивала непреодолимую боль. Ребенок начал вырываться, дергать руками и ногами, она положила его и посмотрела на него долгим взглядом. «Если бы ты знал», — сказала она. Он широко улыбнулся ей и захлопал в ладоши. Она улыбнулась в ответ: «Маленький мой пингвиненок, иди, я надену тебе твою цепочку… Видишь, какая красивая, Джулито?.. Ты ведь хочешь быть моим, Джулито?»
Она застегнула изящный замочек сзади на шее, где вился черный локон, и поднялась, прижимая ребенка к груди. Она подошла к большому зеркалу и показала пальцем на отражение в нем. «Это — ты, кочерыжкин, это именно ты… И не соси, пожалуйста, медальон. Хорошо воспитанные мальчики медальоны не сосут…» Она, обычно такая молчаливая, болтала без устали и, слыша слова, которые сама выговаривала, не переставала им удивляться. Будто забил в ней источник поэзии и нежности и совершенно истощил ее силы.
Она вздрогнула, когда вспомнила, что надо посмотреть, который час. Бог мой, уже скоро вечер. Надо было снимать праздничные одежды с маленького принца. Раздевая его, она плакала и приговаривала, не видя, что он хочет спать: «Ты тоже, кролик мой, не должен плакать. Мы будем сильными, оба… Я обещаю тебе, что завтра ты опять придешь ко мне… Мы пойдем смотреть больших лошадок… Когда ты вырастешь, я подарю тебе одну… Самую красивую… белоснежную, и ты угостишь ее сахаром. Я научу тебя, как это делать».
В половине шестого Амалия снова завладела Жулиу.
— Он себя хорошо вел? — спросила она, беря его на руки.
Она не осмелилась нюхать его, но, по тому, как она его целовала, заметно было, что в ней пробудилось какое-то животное беспокойство, будто она учуяла у своего ребенка некие подозрительные флюиды.
— Он прекрасно себя вел, — холодно сказала Ирен. — Мне не пришлось им заниматься… А как вы, Амалия? Не слишком устали?
— Устала все-таки. Силы у меня уже не те. Эта язва меня прямо доканывает. Не знаю, смогу ли продолжать работать у мадам Бельерес.
Ирен изобразила самую дружескую озабоченность.
— Главное, — сказала она, — будьте осторожны. Но, с другой стороны, перемена обстановки вам полезна. Хуже вам от этого быть не может. Идите-ка скорей отдыхать.
Назавтра Амалия уехала опять, и перед Ирен снова открылись двери счастья. Она унесла ребенка в свою комнату и закрылась на ключ.
— Вот так никто не придет за тобой. Знаешь, в этом доме крадут детей… Злые женщины!.. Ой, как же ты причесан!
Очень нежно, легкими прикосновениями щетки она навела некоторый порядок в буйной шевелюре. Время от времени она прерывалась, чтобы прикусить одно ушко, потом другое. Ребенок жадно тянул ручонки к флаконам, коробочкам и баночкам, расставленным на туалетном столике.
— Нет, нельзя, — сказала Ирен. — Никаких хорошо-пахнуть для Джулито, — его мать будет недовольна. Она повсюду все вынюхивает, его мать.
Ирен показала, как хрюкает поросенок, и этот новый для него звук привел ребенка в восторг, он радостно вскрикнул несколько раз.
— Давай, давай, поговорим, — сказала Ирен.
Она посадила малыша верхом к себе на колени и склонилась к его лицу.
— Скажи мне что-нибудь… Скажи: мама… Я знаю, когда она вечером заправляет тебе в кроватке одеяльце, ты ведь говоришь ей: мама… А мне нет? Я этого не заслуживаю? Ну, посмотри на меня… ма… ма… ма…
Малыш внимательно смотрел на нее и стал пускать пузыри.
— Ты большой лентяй, — снова взялась она за свое. — И не очень хороший. Маленькие мальчики, которых зовут Джулито, все говорят: мама.
Долго-долго она держала его, обняв, на руках. Она не могла заставить себя оторваться от него, хотя часы на столике возле кровати тихонько напоминали ей, что она должна спешить со своей любовью. Не в силах больше здесь оставаться, она взяла ребенка и вышла.
— Пойдем смотреть коней. Там есть один почти твоего возраста… и знаешь, как его зовут: Пузырек, потому что он прыгает, как козленочек.
Головка ребенка уткнулась в голову Ирен. Он бурчал что-то вроде нежного монолога, время от времени то вскрикивая, то хлопая в ладоши, а она улыбалась, будто «Мадонна с младенцем» у церковной паперти. Ей встретился Жандро, наблюдавший за тем, как одну из лошадей загоняли в закрытый фургон для отправки куда-то. Он приблизился к ней.
— Вас тут не часто встретишь, мадам, — сказал он. — А я этого молодого человека не знаю?
Ирен не могла решиться сказать ему, что это сын Амалии. И решила отделаться шуткой.
— Это, быть может, найденыш. Кто знает? Мы собираемся зайти в гости к жеребенку.
— А! К этому, — обрадовался Жандро, — он просто необыкновенный… Заходите… Он в своем боксе, потому что я жду покупателя. Иначе я бы оставил его пастись на лугу.
Услышав их, жеребенок повернулся и положил голову поверх дверцы. Жандро дружелюбно потрепал его по лбу, а Ирен свободной рукой погладила его.
— Я вас оставлю, — сказал Жандро. — Я совсем утонул в своих бумагах.
Малыш очень сосредоточенно разглядывал жеребенка.
— Потрогай, — сказала Ирен. — Не бойся. Вот так… Видишь, как это приятно.
Жеребенок резко встрепенулся и забил копытами по подстилке.
— Тебя это рассмешило, — воскликнула Ирен. — Ты будешь отличным всадником.
И вдруг замолчала. «Я теряю голову!» — подумала она.
Весь огромный двор, где разворачивался фургон для перевозки лошадей, был залит солнцем. От сильного запаха из конюшен кружилась голова. Все здесь было непереносимо реально, и Ирен почувствовала себя сомнамбулой, которую вдруг разбудили. Что тут самое настоящее? Небо? Деревья? Эта нелепая природа? Или этот ребенок у нее на шее, которому она обещала еще неродившуюся лошадь?
— Уйдем отсюда, — сказала она. — Дома нам будет лучше.
Но все было теперь так, будто волшебство исчезло. Она отдала ребенка Амалии без малейшего трепета в сердце. «Я навсегда останусь для них всего лишь тетей». Фраза мучительной болью отдавалась у нее в голове. Что еще можно сделать? Ей приходили на память какие-то обрывки книжных воспоминаний… Лет восемь или десять ей тогда было… На одной картинке были изображены два человека, они сделали себе по глубокому надрезу на плечах и терлись ранами друг о друга, чтобы стать братьями… Еще был полуголый мальчик, который говорил медведю, а может быть, пантере: «Мы одной крови, ты и я». А что должна разорвать она, чтобы иметь право сказать ему, что в некотором смысле произвела его на свет?
…Текли дни. Часы горькой печали и минуты счастья. Теперь ребенок буйно радовался, как только замечал ее. Тянул к ней руки. Как мог, рвался к ней, и это переворачивало ее душу. Она бежала с ним к себе в комнату, она хотела бы забаррикадироваться там. Сладострастно отдаваясь нежности, к возвращению Амалии она бывала совершенно обессилена. Вечером она ужинала одной тартинкой и выпивала чашку чаю. Потом глотала большую дозу снотворного, чтобы крепче спалось, и затягивала сон допоздна. Но все равно до обеда оставалась уйма мертвого времени, и она бродила как неприкаянная из сада, срывая там два-три цветка, в гостиную, возясь со своими рыбками. Иногда она слышала, что где-то в доме плачет ребенок, и чувствовала животом такую живую и резкую боль, что так и оставалась стоять на месте, не в силах сделать и шага.
— Мадам неважно выглядит, — заметила Франсуаза.
— Да, правда, — согласилась Ирен. — Жара меня измотала. Но теперь это пройдет.
И настал последний день. Симону Бельересу Амалия больше была не нужна. Служанка снова завладеет Жулиу. И Ирен опять превратится в гостью, там, в беседке, даже хуже… не в гостью, а в тетушку, которую снисходительно терпят. В последний раз Ирен унесла ребенка к себе, но у нее уже недостало смелости вытащить праздничные одежки и цепочку. Она села на ковер, а ребенку позволила ползать на четвереньках вокруг себя. Он пытался стоять, вцеплялся в нее, ножки у него дрожали, и он тут же падал. Она гладила его по головке. И думала, что первые свои шаги он сделает к другой. Ирен подхватила его, удержав от слишком рискованного падения.
— Сиди спокойно, Джулито. Иди сюда. Ты же видишь. Мне тяжело.
И вдруг она нащупала на спине застежку бюстгальтера, распрямилась, сняла блузку и обнажила грудь. Она не знала толком, как именно держать ребенка, и не сразу пристроила его у груди. Почувствовав сомкнувшиеся на соске губы малыша, она откинула голову и не смогла сдержать какого-то дикого рыдания.
— Я тоже! — кричала она. — Я тоже!
Но своего голоса она не слышала. Она впала в какое-то жуткое состояние и словно разрывалась на части от ужаса и блаженства.
— Мой Джулито, — бормотала она. — Мой ребенок.
Пришла в себя она оттого, что жадный ротик усиленно и тщетно пытался сосать. Ребенок сердился, крохотным кулачком бил по пустой груди. Красный от ярости, он укусил ее, и Ирен застонала от боли.
— Пусти, прошу тебя. Ты мне сделал больно.
Она с трудом оторвала его, постаралась успокоиться.
— Ужасный маленький мужчина, — сказала она. — Давай поплачь. Может, это тебя чему-нибудь научит.
Она пошла в ванную и посмотрела на свой распухший сосок, который стал похож на ягоду малины. Ей было больно, но зато она испытала неведомый восторг. Она помылась, и жжение немного утихло. Подняв голову, она посмотрела в зеркало и была потрясена: настолько изменились у нее черты лица. Она была худая и торжествующая, немного растерянная, пылающая и будто светящаяся изнутри какой-то страстью, которая никогда теперь не угаснет. Она застегнула блузку, потрогала свою истерзанную грудь. Пусть она подольше болит. И хорошо бы остались следы от твердых, как кость, десен Джулито.
— Джулито, маленький мой!
Ирен вернулась к малышу. Лежа на спине, он в задумчивости пересчитывал свои пальцы. Она положила его на кровать и поцеловала, сдержанно и серьезно.
— Ты хороший мальчик, — прошептала она. — У тебя славный характер. Обещай, что никогда не будешь на меня сердиться… потому что… я тебе сейчас скажу… это — сюрприз… мне только что пришло в голову…
И она нервно засмеялась каким-то пьяным смехом.
— Знаешь, нет, — снова заговорила она. — Я не смогу так долго ждать.
Она подхватила ребенка под животик, как щенка, унесла его, болтающего ногами, в кабинет, посадила к себе на колени и, сняв трубку, набрала номер.
— Алло, Сюзанна? Это Ирен… Да, все в порядке… Я могу поговорить с вашим мужем?
— Подождите. Сейчас соединю вас с конторой.
Малыш страшно заинтересовался огромной черной и блестящей штукой с колесиком и потянулся к ней рукой.
— Не трогай, — шепнула ему Ирен. — Она кусается.
Нотариус взял трубку.
— Альбер? Простите меня. Вы очень заняты?
— Да. А что случилось?
— Я бы хотела задать вам один вопрос.
— Это не терпит отлагательств?
— Знаете ли… Дело в том, что мне тут одна мысль пришла в голову, и я никак не могу от нее отделаться. Скажите, я имею право усыновить ребенка?
— Это вы серьезно? Или из простого любопытства спрашиваете?
— Это очень серьезно.
Марузо задумался. Ирен оттащила малыша от телефонного провода, к которому он рвался.
— Будь умницей, — прошептала она. — Слушай, что говорит мсье. Это тебя тоже касается.
— Алло, — сказал нотариус. — Вы меня застали несколько врасплох. И знаете, это не телефонный разговор.
— Конечно, — согласилась Ирен. — Но в принципе, у меня такое право есть?
— Я думаю, да. Вы — вдова, то есть решение принимаете сами. Вам больше тридцати, у вас вполне достаточные средства к существованию, хорошее здоровье, ведь так? Этот момент крайне важен… На первый взгляд вы удовлетворяете всем требованиям.
— Но вы, кажется, не согласны.
— То есть, я… признаюсь, я крайне удивлен.
— Не представляете меня в роли приемной матери?
— Нет, не в этом дело… Но… сказать вам честно, что я думаю?.. У меня не было впечатления, что вы привязаны к детям… Ирен, дорогая, знаете, я сейчас немного замотан. Давайте назначим свидание?.. На следующей неделе?
— Мне бы хотелось раньше.
— Черт возьми! Вы так спешите?.. Тогда я должен предупредить вас: процедура усыновления невероятно долгая… Люди годами ждут.
— Это не важно. Я бы хотела как можно скорее с вами встретиться… Сегодня вечером, например?
— Сегодня вечером! О, вы прямо, как Сюзанна. Когда она что-нибудь вобьет себе в голову… Ладно. Договорились. Я к вам заскочу. После ужина.
— Спасибо, Альбер… Вы настоящий друг.
— Надеюсь. Но, пожалуйста, Ирен, дорогая, не слишком увлекайтесь этой идеей. Вы меня немного пугаете.
Он повесил трубку. Ирен отставила от себя телефон.
— Видишь, Джулито. Он ничего не понял. Он думает, что я хочу усыновить любого ребенка. А я хочу усыновить тебя. И только тебя.
Она гуляла с малышом до возвращения Амалии и была с ней особенно любезна.
— Он совсем не плакал, ваш маленький Жулиу. Это прелесть. Вам повезло! И еще раз спасибо. Вы нам оказали огромную услугу. А теперь хорошенько отдохните.
Слова эти ничего ей не стоили. Никакой грусти она больше не испытывала. Смотря, как Амалия удалялась с Джулито, она легонько поглаживала грудь.
«Люди годами ждут», — сказал нотариус. Почему бы и нет? Живость, которую она ощутила в себе, эту забытую радость ходить, останавливаться и нюхать цветы, сдерживать в горле уже готовый вырваться из груди напев, желание даже вечернее небо призвать в свидетели — вот что такое надежда. И она наконец согласилась поужинать так, как хотела Франсуаза: суп, рыба, пирожное и бокал муската, который так ценил бедный мсье.
Нотариус приехал в девять, и Леон принес в гостиную бутылку «гран-марнье» и два бокала. В виде исключения мадам согласилась в этот вечер выпить капельку ликера.
— Итак, — бросился в атаку Марузо, — вы мне сказали о вашем проекте усыновить кого-нибудь… и мы очень долго обсуждали это с Сюзанной.
— И что она об этом думает? — живо спросила Ирен.
— Она склонна вас одобрить. У вас больше не может быть детей, и раз вы подумываете о том, чтобы усыновить ребенка, вы, очевидно, не собираетесь больше выходить замуж. А вы молоды, и вполне естественно, что вы хотите создать что-то вроде новой семьи.
— Все обстоит именно так.
— Тогда, подав заявление с просьбой об усыновлении, вы теоретически имеете все шансы на удачный исход дела. Но я уточняю: теоретически. Потому что на практике все не так просто. Для выяснения мотивов вашей просьбы проводится целое дознание, очень тщательное и малоприятное.
— Но, — перебила его Ирен, — я вполне готова…
— Я понимаю. Но как человек, связанный с законом, я обязан осветить все стороны вопроса. Администрация пришлет к вам агента по социальным делам, и та будет допрашивать вас, как полицейский. Она захочет выяснить, не пытаетесь ли вы из эгоистических соображений заменить этим ребенком того, которого потеряли.
— Альбер, вы же меня знаете!
— Я-то да. А комиссия по социальному обеспечению нет. Они безжалостно отказывают, и это можно понять, всем женщинам, у которых мотивы не совсем альтруистические… И я, на этот раз как ваш друг тоже вас спрашиваю: ваши намерения совершенно чисты? Может, бессознательно, они возникли из-за некоторых угрызений совести, ведь Патрис был не совсем тем ребенком, которого вы хотели бы иметь, разве нет? Сам я уверен, что вы избавились от этого чувства вины. Но предупреждаю вас, они будут все вынюхивать, они хотят быть спокойными. А женщина, которая пережила киднеппинг со смертельным исходом, неизбежно остается травмированной. Вот что они подумают.
Ирен пожала плечами.
— Ладно, — сказала она. — Будем разговаривать с ними. Это меня не волнует. Я хочу, чтобы вы объяснили мне, в чем именно состоит процедура.
— Существует несколько брошюрок по этому вопросу. Я вам одну пришлю. Но в общих чертах дело обстоит так. — Он слегка пригубил ликера. — Прошу прощения, что изображаю профессора, — снова заговорил он. — Придется вам потерпеть. Есть два вида усыновления, простое и полное. При простом усыновлении ребенок сохраняет связи со своей семьей.
— Но… главным образом он ведь будет связан со мной, я полагаю.
— Разумеется. Но только с вами. А с вашими родственниками нет.
— Ну, хорошо, это мне вполне подходит.
— Подождите. Простое усыновление разрешается только в том случае, если ребенок совершеннолетний или слишком большой, чтобы его можно было полностью усыновить. Я думаю, что это не то, что вам нужно. Вы же хотите, чтобы ребенок был только ваш.
— Конечно.
— Тогда будем говорить о полном усыновлении, которое возможно, только если ребенку меньше пятнадцати лет… Видите, какой широкий простор… Так что безо всяких проблем вы можете усыновить совсем маленького ребенка, а можете и подростка. И тогда вы полностью становитесь его матерью. Приемный ребенок — ваш законный ребенок, и это означает, что все существовавшие связи с семьей по рождению разорваны окончательно. Никто не может отнять его у вас. Как только объявлено полное усыновление, все кончено. Обратно пути нет.
Ирен задумалась, пытаясь представить себе, какой именно путь подходит ей, ибо возникший в горячке замысел еще не вполне был ей ясен.
— Знаете, — сказала она, — есть кое-что, чего я никак не могу усвоить. А где же берут этих детей ну, которых усыновляют? В комиссии по социальным делам?
— В основном это дети, находящиеся на государственном обеспечении, — терпеливо отвечал нотариус. — Они подчиняются службе социальной помощи детям. Есть еще дети, признанные судом «подкидышами».
— А… с семьей никак нельзя договориться?
— Закон предусматривает и такой случай. Если родители по рождению, а в случае их отсутствия семейный совет, согласны на усыновление, никаких сложностей нет. Но я думаю, что это бывает очень редко. Усыновление — это нотариально заверенный акт, разумеется. Либо в судебной инстанции, либо…
Ирен заткнула уши.
— Остановитесь! — закричала она. — Не усложняйте. И так все тяжело.
— И это далеко не все ваши мучения, бедная моя Ирен. Прежде всего вы должны отправиться в службу социальной помощи детям и письменно сформулировать свое прошение об усыновлении ребенка. Но не бойтесь. Я буду рядом и помогу вам. А потом будет дознание, о котором я вам уже говорил, обязательное посещение врача, беседа с психиатром, разнообразные вопросники, и, кроме того, вы должны будете заполнить целое досье… Настоящая полоса препятствий; покоя вам не будет.
— Но почему все это так?
— Потому что, хотя детей, которых нужно пристроить, и много, просьб об усыновлении куда больше. И власти хотят действовать наверняка.
— Мне кажется, что я предоставляю все гарантии.
Нотариус улыбнулся и похлопал Ирен по плечу.
— В этом никто не сомневается. И если вы не откажетесь от своего намерения, я свяжусь с компетентными органами. Но вы, кажется, разочарованы?
— Нет, нет, — быстро сказала Ирен. — Меня вот что тревожит, если я правильно вас поняла, в службе социального обеспечения они сами указывают, какого ребенка мне усыновлять.
Нотариус допил свой бокал и стал медленно вращать его перед собой, будто спрашивая ответа у волшебного кристалла.
— Вы, конечно, отдаете себе отчет, дорогая моя, — сказал он наконец, — что рынка детей не существует. Если бы приемные родители могли наводить справки, выбирать того или другого ребенка, все это быстро стало бы гнусностью. Но несмотря на все, вам никто не мешает высказать пожелание во время дознания, кого именно вы хотите взять, мальчика или девочку, при условии, что вы четко изложите свои мотивы.
— Но вот, — настаивала Ирен, — если взять случай, когда человек уже знает ребенка… Я не о себе говорю. Я просто пытаюсь предусмотреть все варианты.
— Тут, — сказал нотариус, — я вас не понимаю. Хотя нет… Ну, может быть… Конечно, есть особые случаи. Представим себе, например… Не важно, что я буду говорить… Представим себе, что ваша служанка Амалия скончалась. Вы ее сына хорошо знаете, тем более что он был вскормлен вместе с вашим. Вне всякого сомнения, вы могли бы его усыновить. Но вы же согласитесь со мной, что это — случай из ряда вон выходящий. А впрочем, может, все было бы и не так легко, как кажется. Если хотите знать мое мнение, брать приемного ребенка — это лотерея. Так что взвесьте как следует все «за» и все «против». Ну а я по мере возможностей постараюсь устранить возможные трудности.
— Спасибо, Альбер… Правда, спасибо. Я буду думать. Еще один вопрос. Если я все даже и затею, меня ведь это ни к чему не обязывает?
— То есть как?
— Я хочу сказать, что я по ходу дела в любой момент могу отказаться. Раз эта процедура так долго тянется, даже если я подам прошение на следующей неделе, у меня будут еще недели и недели, чтобы испытать себя, оценить, если хотите, свои силы.
— Отлично. Завтра я пришлю вам брошюру. У вас таким образом еще будет время толком поразмыслить. На этом, если позволите, я вас покину. У меня сегодня был очень трудный день, и потом я хочу посмотреть по телевизору «Поезд даст три гудка». Обожаю вестерны, дорогая Ирен, вы же знаете. У всех свои слабости.
После его отъезда Ирен обошла сад, сорвала несколько цветков и, нюхая розу, медленно вернулась в дом. Марузо очень ясно расставил все по местам. Либо Амалия соглашается разлучиться с Жулиу, а она, разумеется, откажется это сделать, либо она должна исчезнуть. А со всем остальным — с юридической дребеденью — Альбер справится.
«Знать бы, — думала Ирен, — способна ли я… Речь идет о счастье Джулито, и прежде всего о нем. Если я оставлю его матери, чем он станет? В свой черед конюхом? Он, такой умный. А я могу дать ему блестяще положение. Не она ему нужна. А я».
Она улеглась, но как ни накачивалась снотворными, уснуть не могла. Уже принятое решение она без конца пересматривала и снова приходила к нему. Время от времени она вставала, шла к двери в детскую и слушала, как спит ребенок. Еще дальше слышно было сонное дыхание Амалии. Она возвращалась к себе, бросалась в кресло. Как же сделать, чтобы не осталось никаких следов? Чтобы все было благопристойно? Она давала волю своему воображению, грезила наяву, бредила, резко опоминалась. «Я никогда не смогу поднять на нее руку. Это не в моем стиле». И однако в тот же миг она понимала, что, может, это и не очень трудно. Когда-то она читала…
С босыми ногами она спустилась в гостиную, стала рыться в книжном шкафу.
«Тереза Дескейру». Она улеглась на диване и начала читать. Шли часы. Ей было холодновато, но она почти ничего не чувствовала. Когда она дочитала роман, глаза ее были полны слез. Она дала им волю. Плакала она не над Терезой Дескейру, а над самой собой.
Мышьяк был у нее под рукой. Небольшой запас его всегда хранился в помещении для седел, у конюшен. Поскольку фураж привлекал мышей и полевок, Жандро время от времени посыпал дорожки, по которым бегали грызуны беловатым порошком. Когда эти зверушки умывали свои лапки, они слизывали яд и умирали. Впрочем, мышьяк ли это? Ирен не могла вспомнить сейчас, что говорил Жандро, но он точно сказал, что яд этот не имеет никакого вкуса.
В субботу после обеда Жандро не работал. Она прошлась возле конюшен, погладила, проходя мимо боксов, одну-другую лошадку, дружески протягивавшую ей свою морду, и зашла в помещение для седел. Мышьяк, конечно, был на месте. Две красные коробочки на полке. Одна из них — початая. Ирен принесла с собой кофейную ложечку и флакон из-под таблеток. Наполнила его порошком. Жандро не из тех людей, которые могут подумать: «Смотри-ка, а тут его стало меньше». И еще: обычно ему всегда некогда.
Дрожа от нервного возбуждения, Ирен вернулась к себе, омертвелая от страха и в то же время гордая оттого, что она так решительна и так прекрасно владеет собой. Она спрятала флакон в глубине шкафа, за бельем, закрыла шкаф на ключ и выпила большой стакан воды. Уж теперь все будет так, как хочет она. Времени у нее — масса. Днем она получила брошюру, обещанную нотариусом, и решила не идти в беседку к Амалии. Раз Джулито теперь — ее, ну, почти, чувства она может приберечь на будущее. Главное было — до мелочей рассчитать все свои действия. Для начала ей предстояло выбрать: что лучше, идти в службу социальной помощи детям или послать туда письменное прошение. Она побаивалась разговора с глазу на глаз, не вполне была уверена в своих словах, в лице, в своем поведении, тогда как письмо — это диалог, который можно вести по своему усмотрению.
После ужина она села за стол в кабинете, положив перед собой раскрытую книжечку. Фамилия, имя, возраст, профессия, гражданство, адрес… Все это писалось само собой. Крупные, слегка наклонные буквы ложились на веленевую бумагу, украшенную в левом углу короной. Семейное положение: это легко, надо только без лишних слов обрисовать двойную трагедию. В брошюре рекомендовалось излагать все, насколько возможно, просто и ясно. Оставался последний пункт. Объяснить глубинные причины своего намерения взять приемного ребенка. Глубинные причины? Как бы их обрисовать? Она же не может признаться, что сердце ее открыто только для Джулито. Остальные дети ей совершенно безразличны. А почему же Джулито нет? Но ведь человек, который будет читать ее письмо, вовсе не ждет, что в нем окажется что-нибудь, кроме самых, в общем-то обычных, резонов: желание составить счастье ребенка, соединить два одиночества. Вот эту тему и надо развить, избегая всяких пылких интонаций. Она ограничится тем что изложит свои добрые, альтруистические намерения, выкажет скромное великодушие и горячую, но сдержанную преданность. Никаких сложностей. Она вполне владеет пером, чтобы найти верный тон, а уж врать ей никакого труда не составит.
Она писала, зачеркивала, начинала снова и получала удовольствие оттого, что целый час изображает человека, который настойчиво домогается ребенка, в то время как наверху спит маленький мальчик, уже принадлежащий ей. Она тщательно выписала адрес: Генеральная дирекция медико-санитарной и социальной помощи детям. Отдел социальной помощи, и так далее.
Все это было слишком напыщенно и торжественно. Те, кто под сенью префектурной администрации заседают, решают и разрешают… она прекрасно всех их знает, встречалась с ними на коктейлях, ленчах, балах и на охоте… Ей нечего их особенно опасаться. Они сделают вид, что разбирают ее просьбу со всей беспристрастностью, но в кулуарах друзья, конечно, уж постараются. Альбер уже сейчас прикладывал какие-то усилия. Она наверняка выиграет это дело, и быстрее, чем любая другая женщина. А вот Амалия…
Ирен принялась строить планы. После обеда она шла к Амалии, гулявшей в саду. Джулито, возившийся в траве на четвереньках, тут же полз к ней. Она брала его к себе на колени и всякий раз, ощущая его маленькое тельце так близко, загоралась решимостью. Она смотрела на Амалию, сидевшую за шитьем, и не понимала, как бы это устроить. Подмешать яд в еду было невозможно. Она ела в буфетной, вместе с Мофранами.
— А что вам сейчас дает доктор Тейсер, Амалия?
— Да! Все то же самое. Что-то похожее на штукатурку и еще таблетки, которые надо принимать за едой.
— И боли это успокаивает?
— Нет, не очень-то.
— Но вы точно следуете его инструкциям?
— По-разному получается. Не в наших привычках это было у нас там, на родине, за собой следить, а ведь как хорошо себя чувствовали.
— Вы не благоразумны, Амалия, знаете ли. Язва — это очень серьезно.
— Не люблю я собой все время заниматься.
— А все-таки, если понадобится операция?
— Мадам хочет сказать, что меня разрежут. Нет. Это я скажу нет. Оно и так само прекрасно пройдет.
— А если я возьмусь вам помочь? Если сама буду приносить вам лекарства? Потому что сложно именно это. Я сама такая же. Мне лень за собой ухаживать. К счастью, меня заставлял все делать бедный мсье. Ну а сейчас я могу, в свой черед, говорить вам: «Пора, Амалия». Давайте-ка… разберемся… Эту известку вы когда должны принимать?
— Утром, натощак… Потом в полдень и на ночь.
— Это все не так уж и трудно.
— Да, но нужно все перемешивать. Это бесконечно, и мне очень противно.
— Видали, какая! Ну ладно, я буду размешивать. Нельзя же так мучиться. Вы похудели. Осунулись.
— Да, правда, я не слишком твердо стою на ногах.
— Амалия, милая, когда вы чувствуете, что устали, предупреждайте Франсуазу и ложитесь отдыхать.
Ирен вовсе не хотела, чтобы она страдала, она просто хотела, чтобы ее не было, чтобы она тихо исчезла. Вот почему, прежде чем сделать первый шаг, она колебалась еще несколько дней. Может, у нее не хватит сил продолжить это дело, если Амалии будет очень плохо. Она кончиком языка попробовала яд, капельку, чтобы знать, какой он. Немного пощипывало язык, самую малость, похоже было на сильно разбавленный лимонный сок. И вовсе не неприятно. Оставалось подобрать нужную дозу. Слишком большая вызовет сильную реакцию, слишком малая со временем выработает что-то вроде иммунитета. И еще: средство, предназначенное для мышей, подействует ли оно на человека?
Ирен рискнула. В маленькую коробочку из-под пилюль, украшенную сердечком, она насыпала пол кофейной ложечки порошка и пошла в семь часов будить Амалию. На столике возле кровати стояла бутылка минеральной воды и стакан, рядом лежали пакетики с лекарством. Пока Амалия приходила в себя, Ирен смешивала порошки и взбалтывала питье.
— Давайте-ка… Выпейте… Залпом… Пробовать тут нечего. Надо глотать.
Ноги у нее дрожали, но голос оставался твердым.
— А теперь полежите немного, чтобы лучше подействовало.
В полдень она пришла в буфетную и заставила Амалию выпить лекарство при ней. Вечером, в половине десятого, зайдя к Амалии, она убедилась, что та уже легла, и посмотрела, как безропотно она опустошила свой стакан. Пол-ложечки яда на двадцать четыре часа — это явно мало. Если ничего не произойдет, надо будет попробовать ложечку, и предпочтительно натощак, потому что ей казалось, что ночью таинственная работа органов идет куда активнее. Проходя через детскую, она погладила под простыней нежные ручки Джулито. «Это для тебя, мой дорогой», — прошептала она.
Перед сном она перечитала некоторые параграфы брошюрки: «Если родители умерли (Это именно тот случай. Тут все ясно.), семейный совет должен прислушаться к мнению того человека, который занимается ребенком во время процедуры усыновления». Тот человек — это, само собой, — я. Но ведь никакого семейного совета быть не может, Амалия даже не знает, живы ли ее братья. И что тогда? Должно быть, обходятся без семейного совета, потому что закон имеет разъяснение: «Вовсе не обязательно, чтобы семейный совет сам выбирал усыновляющего. Этот выбор может быть оставлен за компетентной комиссией по усыновлению».
Ирен бесплодно терзалась: станут ли совать нос во все ее дела? Придется ли ей сражаться с какой-то администрацией? Конечно, она очень доверяла своему нотариусу. Но хотела-то она, и это было так просто и так естественно, чтобы Джулито немедленно принадлежал ей без всяких бумажек и дерганья. Она же не какой-то «усыновляющий». Нет! Она, наоборот, идеальная мать, богатая, независимая, молодая, образованная, и к тому же она без ума от этого маленького существа, которое дает ей все, чего она была лишена и о чем не хотела знать. К несчастью, невозможно же сказать Альберу: «Устройте как хотите, чтобы мне отдали Жулиу». А если ей укажут на другого ребенка!.. В конце концов она провалилась в сон и во сне плакала.
Быстро выяснилось, что пол кофейной ложечки недостаточно. Никакого беспокойства Амалия не выказывала. Она страдала от своей язвы, но страдала как обычно. Ирен увеличила дозу. Она начинала терять терпение. Погода испортилась. Первые осенние дожди уже бушевали в парке, и о том, чтобы выйти гулять, не могло быть и речи, она почти не видела малыша, сидевшего с матерью в ее комнате. Просьба об усыновлении отправлена была уже довольно давно. Один день был похож на другой. Шло какое-то медленное погружение в беспросветную серость. Напрасно друзья звонили Ирен, она отказывалась от всех приглашений. Две матери, как две волчицы, кружили возле колыбели.
— Мадам слишком добра, — говорила Амалия, глотая питье.
А Ирен думала: «Ну хоть бы что-нибудь у нее проявилось! В лице бы что-нибудь дрогнуло! Я бы знала наконец, к чему я иду!» Каждое утро она осматривала служанку, как внимательный врач. Вокруг глаз у Амалии были лиловые синяки. На щеки тоже легли тени. Может, это самый лучший способ, медленное истощение, съедение изнутри? А сколько времени можно на это положить? Болезни, может, месяцы потребуются на полную победу. А вдруг просьбу об усыновлении удовлетворят? Ирен хваталась за грудь. Что, если в один прекрасный день ей предложат ребенка? Виски ее от беспокойства покрывались потом. Она без сил опускалась в ближайшее кресло. То она вдруг хотела остановить время, то мечтала, чтобы оно мчалось быстрее. Нельзя же сказать Альберу: «Не прикладывайте усилий, чтобы сделать мне приятное. На самом деле никакой спешки нет». Но так же точно нельзя и спровоцировать смертельный приступ, немедленно удвоив или утроив дозу. Как Шарль Тейсер ни бесхитростен, он сразу же заподозрит неладное и откажется выдать справку для погребения. «Кончится тем, — думала Ирен, — что заболею я». Тревога больше не оставляла ее, она сидела в ней, как заноза. Ирен стала пользоваться ложечкой чуть побольше и выжидать. Наконец то, чего она так ждала, произошло.
Утром у Амалии началась рвота, и Франсуаза кинулась звонить врачу. Он ответил, что приедет через полчаса. Амалия была мертвенно-бледна. Она тихо стонала, жаловалась на желудок, говорила, что ей холодно, и Ирен смотрела на нее с жалостью, смешанной с ужасом. Она была не в состоянии прийти ей на помощь, и это Франсуаза решила дать ей грелку и заварить ромашку, «чтобы промыть нутро». Но первый же глоток отвара вызвал новые приступы рвоты. Еле дыша, потеряв все силы, Амалия прошептала:
— Унесите Жулиу. Пусть он меня не слышит.
С помощью Франсуазы Ирен отнесла кроватку в свою комнату. По дороге Франсуаза извинялась:
— И что мы вчера вечером ели? Овощной супчик, омлет, сыр… Ведь все это не могло у нее такого вызвать. Я бы не хотела, чтобы мадам подумала…
— Идите откройте, — прервала ее Ирен. — Я слышу, машина приехала.
Она встретила врача на площадке лестницы.
— Давно у нее приступов не было, — сказал Шарль. — Но небольшая вспышка меня не удивляет.
Он сел на краю кровати, взял Амалию за руку.
— Кровью ее не рвало? — спросил он.
— Нет.
— Посмотрим, какое у нее давление.
Закрепляя манжету на руке больной, он спросил:
— А температура какая?
— Мы не подумали, что ее надо измерить, — сказала Ирен. — Мы что-то растерялись.
Пока из манжеты со свистом выходил воздух, все молчали.
— Сто… на шестьдесят, — констатировал доктор. — Не очень блестяще, конечно… Дайте ей термометр.
Они отошли к окну.
— Она все делает, что надо? — спросил он.
— Я сама даю ей порошки, — ответила Ирен. — Так я хоть уверена, что самое необходимое она принимает. А другие лекарства ей дает Франсуаза.
— Да, — сказала Франсуаза, — я заставляю ее их принимать. Если бы мы не следили, она бы забывала.
Врач снова подошел к кровати, взял термометр и посмотрел его на свет.
— 36,3… Мне это не очень нравится.
Он отбросил одеяло и принялся ощупывать живот пациентки.
— Скажете, когда вам будет больно… Здесь?.. И тут?..
Амалия легонько вскрикнула.
— Именно здесь, ведь верно… Или чуть-чуть выше?
— Перестаньте, — простонала Амалия.
Доктор выпрямился.
— Тревожиться особенно нечего. Это язва опять взялась за свое. Ну-ка, Амалия. Не волнуйтесь. Мы вас от этого избавим. До завтра — диета. А потом, потихонечку, легкое что-нибудь, но питательное.
Он дружески потрепал ее по плечу, и Ирен проводила его в кабинет. Он начал выписывать рецепты.
— Эти язвенные дела, — бормотал он, пока писал, — нечто бесконечное. К тому же надо признать, что и больная у нас не легкая. Она из тех людей, которые пускают все на самотек, фаталистка. Эти крепкие бабенки очень часто опадают, как омлет. А ведь с такой язвой, как у нее, достаточно только взять себя в руки, и с ней, черт побери, можно справиться.
Он протянул Ирен листочек.
— А вы, дорогая моя, вы-то как?.. Вот кто, по крайней мере, держится мужественно. После того, что вы перенесли, теперь еще превратиться в сиделку! Но не переусердствуйте. А то в один прекрасный день сами свалитесь. Через два-три дня я заеду. Она меня, собственно, не очень тревожит, но все-таки кое-что меня беспокоит.
Он первым вышел в вестибюль.
— Приходите к нам хоть изредка, — сказал он. — Ваша просьба об усыновлении ребенка всех дам знаете, как заинтересовала! Все желают вам красивого малыша. Вы это заслужили.
Ирен долго стояла на крыльце. Над лужайками повис туман. Вот и осень, цвета печали. Сколько же еще дней осталось до развязки? С течением времени Шарль, пожалуй, докопается до истины. Может, он уже вертится где-то возле.
Она вернулась в дом. Отступать было слишком поздно. И потом, даже если Шарль уже говорил себе: «Все это странным образом похоже на отравление», он откажется от этой мысли, потому что в замке нет человека, который был бы заинтересован в смерти Амалии. Эта версия не выдерживала никакой критики. Мофраны были вне всяких подозрений. Она сама, старая их приятельница… несчастная, потерявшая своих самых дорогих… Нет… она была безупречна. Шарль смирится с тем, что ему ничего не понятно. И даже нечего бояться, что он захочет посоветоваться с каким-нибудь собратом по профессии. Во-первых, он побоится, что решат, что он уже слишком стар и ему пора на пенсию, и еще потому, что подумает: «Нечего мне организовывать консультацию. Это — дело Ирен». Когда она поднялась наверх, Амалия уже спала.
— Рецепты в кабинете, — сказала Ирен Франсуазе. — Пошлите Жюссома в Шато-Гонтье.
Она бесшумно прошла в детскую и занялась туалетом ребенка. Вознаграждение! Мгновение счастья! Нежное шушуканье и приглушенные поцелуи.
— Ш-ш-ш! Мой Джулито. Не разбуди ее.
Он стоял у ее коленей, перетаптывался с ноги на ногу и пытался сделать самостоятельно хоть один шаг, но тут же плюхался задом.
— Ах ты, толстый увалень! Я в твоем возрасте уже повсюду бегала. Ты меня не знал маленькой. Я была прелестна, знаешь ли. Не такой пузанчик, как ты. И не ворчи, пожалуйста. Сейчас будет тебе твоя кашка.
Об Амалии она больше не думала. С ребенком на шее она спустилась в буфетную.
— Оставьте, Франсуаза. Я сама им займусь.
Все было радостью, но все где-то глухо отдавалось болью: салфетка, повязанная вокруг шейки, каша, которую надо было попробовать… «Да, да, обжора, это для тебя!» Широко открытый, как у гусенка, рот, ручки, норовящие схватить чашку. «Если ты не перестанешь, я рассержусь». При Франсуазе она не осмеливалась сказать вслух слово: мама. Она бормотала его себе под нос.
А Франсуаза, оставаясь наедине с мужем, говорила: «Бедная мадам. Мне больно слушать ее…»
Когда настал вечер, Ирен тщательно отмерила дозу яда. Пол-ложечки и еще чуть-чуть. Как раз, кажется, чтобы не вызвать рвоты, но вполне достаточно, чтобы кислота продолжила свою разрушительную работу. Она представляла себе слизистую оболочку как некую губчатую массу, медленно поддающуюся разъеданию. Но вот однажды в ней неизбежно должна образоваться дыра, и это будет смерть.
…Наступила зима. Амалия угасала, но это было так незаметно, что нужен был зоркий глаз Ирен, чтобы видеть, как прогрессирует болезнь. Руки Амалии похудели. Шея потеряла округлость, и под кожей стало видно каждое усилие мускулов и сухожилий. А главное, глаза у нее теперь были совсем другие. Они утратили свой яркий блеск: взгляд потускнел. Как доктор ни пытался связать вместе все симптомы: легкая перемежающаяся диарея, головные боли, спазмы, рвоты, он не был уверен в диагнозе, потому что признаки эти проявлялись достаточно слабо и наводили на мысль, что это все же не болезнь, а тяжелое психосоматическое расстройство.
— Если бы слово не вышло из моды, — ворчал он, — я бы сказал, что мы имеем дело с истерией. Конечно, язва существует. Ее нетрудно прощупать. Но есть что-то еще. Я бы предпочел положить ее на полное обследование.
Амалия категорически отказалась лечь в клинику. Она плакала, клялась, что ей уже лучше. Она не хотела разлучаться со своим маленьким Жулиу.
— Я и сейчас почти ничего не делаю как мать, — сказала она.
Ирен показалось, что в голосе служанки прозвучал упрек, и она чуть не закричала: «Я для вашего сына делаю все, что могу». Чуть позже она призвала в свидетели Шарля: «Видите, какая она, — злобно сказала Ирен. — Все, что делаешь для Жулиу, тебе еще как бы в упрек ставится».
Когда подошел вечер, она заметила, что флакон почти пуст. Забыла пойти к конюшням и запастись. И потому утром она пошла туда, но ее заметил Жандро.
— А, мадам! Я как раз хотел вас позвать… Тут надо решить вопрос с фуражом.
Ей было наплевать, но она выслушала Жандро и была вынуждена вернуться, не имея возможности подойти к помещению для седел.
Амалия спала спокойно, и за долгое время впервые явила Ирен отдохнувшее лицо. Значит, как только яд приостанавливал свое действие, у больной немного восстанавливались силы. Необходимо было во что бы то ни стало возобновить «лечение». Подобные слова мелькали у Ирен в голове, а она даже не сознавала их жестокости. Жандро на месте не было, а работники не обратили на нее никакого внимания. Она наполнила порошком свой флакон. На этом можно продержаться три месяца. Но Амалия столько не протянет. Если только…
Ирен задумалась. Через три месяца будет май, хорошая погода, и Амалии вполне может стать лучше. Пожалуй, неплохо бы увеличивать время от времени дозу, через неравные промежутки, чтобы вызвать приступы, нерегулярность которых загонит доктора в тупик. В тот же вечер она приготовила смесь, рассчитанную, на ее взгляд, очень точно.
Ночью случился приступ. Две или три небольшие рвоты, а потом — страшная слабость. Тейсер, за которым послали на рассвете, быстро сделал все необходимое, чтобы поднять давление, и долгие минуты выслушивал Амалию. Затем он отвел Ирен в сторону.
— Я не опасался за ее сердце, — шепотом сказал он. — А между тем именно оно сыграло с нами злую шутку. Мы должны действовать в этой области. Язва, конечно, язвой, я ее из виду не упускаю. Но всему свое время. Прежде всего мы займемся сердцем. После обеда я пришлю за ней санитарную машину, и мы сделаем ей в Лавале кардиограмму.
— Это так неотложно?
— Как знать? Я могу только сказать, что она начинает меня тревожить всерьез.
«Если бы это могло быть правдой! — подумала Ирен. — Если бы эта несчастная могла вот так отойти, враз, в одночасье потеряв сознание. Вот было бы облегчение. Хватит с меня смотреть, как она мучается!»
Она с нетерпением ждала результатов обследования. Врач рассказал ей о них по телефону. Да, у Амалии с сердцем что-то не в порядке, и довольно давно. Она и не догадывается, а у нее, возможно, инфаркт. Во всем этом еще надо разобраться. А пока больной нужен полный покой. Шезлонг. И никаких усилий. «Завтра, — добавил под конец Тейсер, — я вам все объясню».
Ирен получила ребенка целиком в свое распоряжение. Старая Франсуаза научила ее вязать, и она первым делом взялась за шерстяные носочки. Это было восхитительное развлечение, настоящее развлечение для мам, и ребенок жил своей маленькой, но шумной жизнью возле ее кресла на ковре. «А ну-ка, покажи свои ножки. Я опять что-то напутала в своих петлях». Амалия дремала неподалеку. Но вот уже некоторое время ей было ни до чего. Она так побледнела, что временами казалось, будто кожа у нее голубого оттенка. Ирен больше не решалась заговаривать с ней. Они едва обменивались несколькими словами. «Вам ничего не нужно?» или «Вам пора принимать ваши капли». Амалия молчала, когда по вечерам она протягивала ей полный стакан отравленного питья.
Дни стали длиннее. Джулито уже ходил, хватаясь за что попало. Ирен купила ему брючки с разноцветными подтяжками и не могла удержаться от смеха, глядя, как идет к ней этот крохотный мужчина, покачиваясь, крича от радости и чуть не падая с ног. Она примеряла ему новую кофточку, когда Жюссом принес ей письмо из префектуры. Сердце у нее сжалось. Ответ!
«Мадам,
Вы выразили желание взять с целью усыновления приемного ребенка из числа воспитанников одного из моих департаментов. Чтобы перейти к рассмотрению вашей просьбы, мы обязаны получить от вас должным образом заполненный вопросник, который и прилагаем. После того, как у вас дома побывает агент службы социального обеспечения, вас попросят заполнить досье, которое будет представлено в Государственный опекунский совет по делам детей, находящихся на государственном обеспечении, единственный правоспособный орган по делам об усыновлении. Предупреждаю вас также, что ввиду большого количества просьб, относительно которых положительное решение уже принято, но еще не удовлетворено, так как детей для усыновления не хватает, вы, в случае удовлетворительного решения опекунского совета, должны будете ждать не один месяц, пока вам доверят ребенка.
Прошу вас принять мои уверения в…»
— Джулито, ты слышишь, милый?.. Получается.
Она жадно поцеловала малыша, перечитала письмо. Ну, конечно, все еще было впереди. Но первый шаг уже сделан.
В вопроснике ничего сложного не было. Все та же песня: фамилия, имя, адрес и телефон, дата и место рождения, все тому подобное. А, вот кое-что новое: «Во что оценивается ваше движимое и недвижимое имущество… У вас собственный дом или вы снимаете жилье?.. Вы — домохозяйка?.. Живы ли ваша мать и ваш отец?.. Есть ли у вас братья и сестры?..» А потом шли самые интересные вопросы: «Пол и возраст желаемого ребенка?.. Укажите, пожалуйста, чем вы при этом руководствуетесь… Когда вы задумали усыновить ребенка и почему?»
— Когда, мой Джулито?.. Ты-то знаешь, а? Я не могу им сказать, что любовь с первого взгляда между женщиной и ребенком тоже существует. И даже это и есть единственная, настоящая и самая сильная любовь. Мы им ответим вместе.
Почти того не желая, Ирен удвоила дозу. Амалия незаметно умерла на рассвете, в полном одиночестве. Шарль примчался, осмотрел труп и бессильно пожал плечами.
— Сердце подвело, — сказал он. — Вы были здесь, когда случился приступ?
— Нет, я еще спала.
— И она не позвала?
— Нет.
— Странно… Конечно, то, что я вам скажу, — нелепо. Но у меня такое впечатление, что она дала себе умереть, что она не сопротивлялась… ну, поймите меня… А! Впрочем, не важно. Вы, бедная моя, сражались за двоих. Но теперь… конец! Отдых! Отдых! И еще раз отдых! Не хватает еще, чтобы и вы слегли. Самоотречение — это прекрасно. Но всему есть предел.
…И начался страх.
Каждый вечер Ирен укладывала ребенка с собой в кровать и запиралась с ним на ключ. В темноте она вслушивалась в его легкое дыхание. Иногда находила его сжатый кулачок. За стенами комнаты — пустынный дом. Мофраны живут так далеко от нее! Кто помешает тени, как это было когда-то, бродить в ночи по коридорам, выискивая спящего ребенка? В конце концов она засыпала, и ей снилось, что Амалия все еще жива и приходит за своим сыном. Она сильно вздрагивала, кричала: «Нет!» — таким странным голосом, что, открывая глаза, не знала, говорила ли она сама во сне или кто-то спрятался у нее в комнате. Сердце успокаивалось долго. Углом простыни она отирала с лица пот. Это был всего лишь кошмар. Амалия уже больше ничего не могла сделать. Она покоилась рядом со своим мужем на кладбище в Шато-Гонтье, и каждое воскресенье Ирен возлагала цветы у склепа Клери де Бельфонов и на могиле служанки. Она молилась. И просила: «Не надо отнимать его у меня. Кроме него, у меня в целом свете никого больше нет».
Это в ней говорил тихий отголосок детских суеверий. И все же, не произнеси она этих слов, целые дни она бы жила в тревоге. Она приносила букет сирени на могилу. Амалия любила сирень. Почему не доставить ей это удовольствие? Джулито, которого она оставляла Франсуазе, ждал ее в машине. Потом, когда она сможет привести его за руку, она подведет его к могиле. И скажет ему: «Там лежит тетя. Она тебя очень любила».
Прежде всего она хотела быть справедливой. После этих посещений кладбища она проводила воскресный день очень спокойно, слушала пластинки, присматривала за Джулито, который все пытался дотянуться до аквариума. «Не трогать. Мама не разрешает». Она брала ребенка на руки, подходила с ним к рыбкам. «Посмотри вот на эту, большую, какая она красивая». Малыш водил пальцем по стеклу, палец загибался крючком, мальчик пытался поймать неуловимую штучку, а Ирен хохотала, кружилась, будто в вальсе, и приговаривала: «Какой ты смешной, мой малыш». Но ночью призраки возвращались. Уложив Джулито, она спускалась в гостиную выкурить сигарету. Она закурила после смерти Амалии и пыталась думать как попало, вразброд, почти мечтая. Со стороны семейства Перейра никаких признаков жизни никто не подает. Нотариус предпринял какие-то шаги, но тщетно.
— Знаете, что было бы самым разумным, — сказал он ей по телефону, — вы хотите взять ребенка. А Жулиу — сирота. Почему бы вам не усыновить его?
Она вспоминала, что именно ответила ему, изображая изумление.
— Вы так полагаете?
— Разумеется. С тех пор как вы занимаетесь им, он уже наполовину ваш приемный ребенок… Он соответствует всем вашим пожеланиям… Если, конечно, вас что-нибудь в нем не смущает.
— Нет. Вовсе нет. Я даже очень привязалась к нему.
— Ну, вот видите.
— Да, но у опекунского совета может быть другое мнение.
— В любом случае состояние этого ребенка должно быть урегулировано. Если позволите, я схожу к Массулье. Он был министром. Должно же это хоть на что-нибудь пригодиться. У этого типа колоссальные связи, а я ему оказал одну услугу… Да, я прекрасно знаю. Инстанции сдвинуть с места очень трудно. Но тут ведь случай в некотором роде исключительный.
Вся дрожа от радости, она поблагодарила его. И теперь ждала. Думала о вещах, весьма неопределенных. Этот малыш, позже… Она вполне представляла его себе выпускником политехнической школы… Но если ему придется жить за границей? Инженеры… Поговаривали, что заводы будут строиться в Африке, в Южной Америке… Она почувствовала холод одиночества. И стала считать. Двадцать лет, двадцать пять… Джулито двадцать пять лет… Целый капитал дней, который можно тратить возле него. А потом? Но никакого потом не будет… Она обещала себе, что сумеет вовремя умереть.
Иногда она засыпала в углу дивана, и горящий пепел сыпался ей на руки; в оцепенении она вставала и шла укладываться возле ребенка. Зачем загадывать наперед? Он был здесь, разгоряченный сном, целиком принадлежащий ей. Наоборот, скоро она получит официальное письмо, в котором будет признана единственной настоящей матерью. И у нее будет право переименовать его… Джулито Клери… Джулито Патрис Клери де Бельфон… или Патрис Джулито… Господи Боже, сделай это скорее!
Но не письмо пришло ей, к ней пришла женщина. Молодая, и представилась:
— Мадлен Ларма. Я агент по делам социального обеспечения. Вы подали прошение об усыновлении, и я пришла поговорить с вами…
Сразу возникла безумная идея: «Ее прислала Амалия!» Ирен, заняв оборонительные позиции, стала очень любезной, провела посетительницу в гостиную.
— Если вам доверят ребенка, — заметила Мадлен Ларма, — я вижу, что здесь он несчастным не будет.
Ирен показалось, что в ее голосе были колючие интонации. Она едва не ответила: «Я не виновата в том, что богата», но с достоинством произнесла:
— Все, что здесь есть, будет принадлежать моему приемному сыну.
Мадлен Ларма удовлетворенно кивнула головой и заговорила вновь:
— Как вы понимаете, я не собираюсь устраивать вам допрос. Расскажите мне просто о себе, ничего не утаивая.
Ирен была готова. Она знала, что ей предстоит эта встреча, и ответ свой подготовила. Она начала:
— Я была счастливой маленькой девочкой…
Совершенно ни к чему говорить, что она ужасно боялась своего отца, что у нее никогда не было настоящих подруг и что доверяла она только лошадям.
— Но откуда у вас такая любовь к лошадям? — спросила женщина. Что-то ей было тут непонятно и казалось довольно странным. — Не было ли это у вас компенсацией какой-то неудовлетворенности?
«Она — идиотка, — подумала Ирен. — Напичкана психологией и не догадывается какая нежная и умная морда у лошади».
— У меня же все было, — сказала она. — Чем это я была не удовлетворена? Так мне продолжать?
— Прошу вас.
Стало быть, надо теперь коснуться брака. Ирен постаралась рассказать как можно короче. Союз в общем-то удачный… полное согласие во всем… Женщина была настороже. Она ведь здесь специально для того, чтобы уловить любую фальшивую нотку, и, продолжая говорить, Ирен думала: «Вы меня не поймаете. Не заставите признаться, что я испортила все… И прежде всего потому, что это не так».
Она рассказала о своей беременности, о трудном рождении Патриса.
— И из-за этого ребенка вы теперь бесплодны?
Это слово вызвало судорогу у Ирен, губы ее свело.
Она хотела возразить, но посетительница продолжала:
— Ведь это для того, чтобы доказать себе, что вы нормальная женщина, вы хотите усыновить ребенка, не так ли?
— А в чем тут меня можно было бы упрекнуть? — спросила Ирен сухо. — Но уверяю вас, мне ничего не надо себе доказывать.
— Простите меня, — сказала Мадлен Ларма. — Мы должны взвесить и рассмотреть все возможные мотивы. Эгоизм умеет прекрасно маскироваться.
— Желаю вам когда-нибудь стать матерью, — прошептала Ирен.
— Ваш будущий ребенок не должен страдать под грузом вашего прошлого, — настаивала молодая женщина. — Он должен быть счастлив.
— Он счастлив, — выкрикнула Ирен. — Я хотела сказать, будет счастлив.
— В настоящее время вы занимаетесь ребенком… малышом, мать которого умерла.
«Вот мы и добрались», — подумала Ирен.
— Могу ли я его увидеть?
— Ну, конечно, — сказала Ирен с горячностью, прозвучавшей несколько фальшиво. — Он же не в заточении. Сейчас он в саду, буквально по пятам ходит за моим садовником. Пойдемте.
Они вышли. Джулито крутился вокруг тачки, куда Жюссом кидал траву. Посетительница долго смотрела на него.
— Вы бы хотели оставить его? — спросила она. — В самом деле, это было бы проще всего. — Она повернулась к Ирен: — А, собственно, почему нет? Знаете, мы всегда пытаемся как-то все уладить. Ладно. Мне пора возвращаться, я многое должна успеть написать в своем отчете. Не сердитесь на меня за бестактность. Это моя работа.
Она приходила еще не один раз, ей показали все комнаты замка, конюшни, парк, она записала адреса друзей Ирен и посетила доктора Тейсера, чтобы из его уст услышать, как Ирен перенесла удар, когда стала жертвой киднеппинга.
— Все идет хорошо, — говорил по телефону нотариус. — Все эти вопросы — дело обычное. Не беспокойтесь. А когда пойдете к Кермински — это невропатолог, доверенное лицо администрации… выложите ему все, безо всяких колебаний, надо, чтобы у него осталось хорошее впечатление.
Несколько дней Ирен была спокойна. Время от времени она задавалась вопросом: «Что они хотят, чтобы я сказала им? Что все это значит? Эгоизм умеет прекрасно маскироваться. Будто я представляю угрозу для малыша». Но Джулито сворачивался клубочком у нее на руках, и она забывала обо всем. Он начинал говорить. Послушно повторял: «Ма… Ма…» и пытался произносить другие слова, какие-то свои, часто сердясь, что его не понимают. Она качала его на руках: «О-ля-ля… Не надо быть таким раздражительным… Слышишь: тик… так… Маленькая зверушка у меня на руке… Это для Джулито, если он будет послушным».
И вдруг он улыбался ей так широко, что пускал слюни, и она нежно целовала его веки; упивалась его черными глазами. Она чувствовала себя сильнее всех врагов, а она знала, что окружена врагами… Эта девица, Мадлен какая-то, этот Кермински… а за всеми ними не дремлет Амалия.
— Чего вы боитесь, — говорил ей нотариус. — Я хорошо его знаю, этого Кермински. Я ему о вас рассказывал. Он вас не съест. А потом ваше досье будет закрыто.
— Не люблю я, когда копаются в моей жизни.
— Но к чему в ней что-то выискивать? Речь идет о быстром осмотре, для проформы. Если вы хотите, я могу назначить с ним свидание.
Доктору Кермински было лет шестьдесят, за очками в тонкой оправе — острый взгляд, руки как у прелата, в общем, тип скользкий.
— Мсье Марузо ввел меня в курс дела. Но я знаю по прессе, жертвой какой трагедии вы стали в прошлом году. И если она, наложила на вас свой отпечаток, я должен буду, естественно, об этом сообщить.
Ирен с опаской наблюдала за ним.
— Дело в том, что кое-что меня настораживает, — снова заговорил он. — Ваша просьба об усыновлении так быстро последовала за трауром, словно вы хотели избавиться от прошлого, во всяком случае, от какого-то своего прошлого.
— Нет, нет, — сказала Ирен. — Уверяю вас.
— Поймите меня правильно, мадам, дорогая. Ребенок, о котором вы мечтаете, не должен быть зацепкой в жизни. Ваша поспешность нуждается в объяснении. Усыновление ребенка может быть для вас чем-то вроде лекарства, чтобы отторгнуть в забвение все, что вы испытали, потеряв мужа и сына.
— Нет, — твердо ответила Ирен.
— Но, — настаивал врач, — ваше прошлое, такое близкое и такое мучительное, разве не тревожит вас в форме кошмаров или коротких приступов депрессии?
— Никогда.
— А у вас были хорошие отношения с мужем? Я обязан задать вам этот вопрос, потому что очень часто случается, что просьба об усыновлении свидетельствует о неудовлетворенности морального или физического характера, а бывает и то и другое вместе.
— У меня был нормальный брак, — поспешно сказала Ирен. — Порой ссорились, но не более того.
— А с сыном никаких сложностей не было?
— Нет.
— Я знаю от своего друга Марузо, что вы не можете больше иметь детей. Это у вас бурной реакции не вызвало?
— Нет.
— А ребенок, которого вы потеряли, был именно тем ребенком, какого вы хотели иметь? Это очень важно. Если вам доверят ребенка, нельзя, чтобы вы каждую минуту сравнивали его с тем, который был у вас.
— В общем, — сказала Ирен, — вы все думаете, как бы защитить его от меня.
— Такова моя роль. А теперь поговорим о ребенке, о котором было сообщено агенту по делам социального обеспечения. Вы именно его хотели бы усыновить? Почему?
Ирен собрала все свои силы, крепко сжала сумку руками, чтобы они не дрожали.
— Потому что он молочный брат малыша, которого я потеряла, — прошептала она.
— А его мать согласна?
— Она умерла. Но я знаю, что она согласна.
Врач покачал головой и подумал с минуту.
— На этом, мадам, мы пока остановимся. Вы возбуждены, устали, и я вижу, что вопросы мои вас смущают. Поверьте, случай ваш особый, да, особый. Но что желает знать администрация? Что вы способны принести счастье сироте. Я в этом, со своей стороны, убежден. И дальше нам разбираться незачем. Так будет лучше. Можете успокоить Марузо.
Ирен пришлось зайти в кафе и выпить портвейна, чтобы вновь обрести хладнокровие. Последнее препятствие позади. О чем догадался этот врач? Но было ли ему, о чем догадываться? «Я такая же нормальная, как и любой другой человек, — думала она. — И ведь не потому, что…»
Поджидая Жюссома, который должен был отвезти ее обратно в Лa-Рошетт, она выкурила полпачки сигарет «Голуаз». Несколько часов она не могла справиться с бившей ее дрожью. Потом транквилизаторы победили эту нервную панику, и она вернулась к своей привычной жизни, старательно отделываясь от беспокойства, застоявшегося в ней, как дым от плохо погашенной сигареты.
Весна, не торопясь, близилась к концу. Личико Джулито уже теряло детскую округлость. Он изобрел свой странный язык, в нем мелькали знакомые всем слова, и благодаря им он, как мог, объяснялся с Мофранами и Жюссомами. «Какой же он смышленый, — говаривала Франсуаза. — Если бы его бедная мать могла его видеть!» И Ирен задумывалась, не настало ли ей время расстаться со своими слугами. Она мечтала обосноваться где-нибудь в другом месте, нанять новых слуг, которые будут держаться на почтительном расстоянии. Но пока вопрос об усыновлении не будет урегулирован, она прикована к Ла-Рошетт. И потом, цены на лошадей стали падать, и хоть Жандро блестяще знал свое дело, одновременно быть и в конторе, и на конюшне он не мог. Ирен старалась как могла, а ребенок все время вертелся возле. «Я вижу, у вас есть помощник», — шутил ветеринар, а порой и новые покупатели, приехавшие посмотреть жеребят, гладили малыша по щечке: «У вас прелестный ребенок, мадам». Она смаковала эти слова, как конфету, которая медленно тает. Но вечером она не могла утерпеть и опять звонила Альберу Марузо.
— Увы, бедный мой друг, — отвечал нотариус. — Массулье следит за тем, как продвигается дело, доверимся ему. Я ведь вас предупреждал, что это будет долго. Терпение. Все, что надо, сделано. Вы соответствуете всем требованиям. Я думаю, что, по всей вероятности, все будет хорошо. Поверьте, если отчет агента по социальному обеспечению — в вашу пользу и аттестация психиатра положительная — это победа.
— Но я хочу Жулиу. А не кого-нибудь другого.
— Ну что вы, Ирен, немного хладнокровия. Служба социальной помощи пока что, на сегодняшний день, его у вас оставила, не так ли? Не для того же, чтобы теперь отобрать. Будем логичны.
Мало успокоенная, Ирен шла в комнату к Джулито, где приходилось поднимать ноги, чтобы не раздавить какую-нибудь игрушку. Разболтанная малолитражка вышла из строя. Она купила «Рено-5» и стала возить ребенка в долгие поездки, чтобы потихоньку знакомить его с людьми. Она бывала с ним в гостях у друзей в Лавале. И как-то само собой выходило, что все говорили ей «ваш сын», говоря о Джулито.
— Я бы, — сказала ей Сюзанна Марузо, — на вашем месте называла его по-другому. Когда Жулиу вырастет, он захочет узнать, откуда у него взялось это имя. Почему бы вам не звать его Патрисом?
— Я об этом подумывала, — сказала Ирен. — Но пока не осмеливаюсь.
— Что вас останавливает? Прошлое есть прошлое.
Ирен долго повторяла про себя эти слова. Для Мофранов и Жюссомов ребенок оставался мальчиком Амалии. Они были бы оскорблены, если бы у него отняли его имя. И сама она колебалась, словно боялась навлечь на себя несчастье, произнеся: Патрис.
Вечером Иванова дня она была в саду с Джулито, который пытался ловить майских жуков.
— Мадам, вас к телефону, — позвала ее Франсуаза.
— Иду. Присмотрите за малышом.
Может, это Альбер, и он узнал что-нибудь новое. Немного запыхавшись, она взяла трубку.
— Алло, — сказал голос, и сначала она даже не узнала его. — Это комиссар Маржолен. Мое почтение, мадам. Вы не могли бы принять меня прямо сейчас? Это очень срочно. Я вас надолго не задержу, но тут дело такое, что по телефону я о нем говорить не могу.
— Речь идет о моем сыне?
— Да. Я буду у вас через полчаса.
Маржолен повесил трубку, а Ирен, как слепая, добрела до дивана. Значит, вопрос об усыновлении решен? Да нет. Не комиссару же сообщать ей об этом. И не в восемь часов вечера. И вдруг она поняла. Маржолен знал, как умерла Амалия. Он шел ее арестовывать. Нет, это невозможно. Тоже не выдерживает никакой критики. Голова у нее шла кругом. Почему комиссар намекнул на то, что речь идет о Жулиу? Может, отдел социального обеспечения решил отобрать его? Она металась от одной гипотезы к другой чувствовала, что все больше запутывается, но понимала, что сейчас произойдет что-то очень важное. «Если у меня отнимут его, я покончу с собой». Так всегда говорят, чтобы подавить панику и не утонуть в слезах.
Когда пришел Маржолен, она сидела, свернувшись в клубок и поджав ноги. Ну прямо бездомная нищенка.
— Вы пришли за Жулиу? — прошептала она.
— Вовсе нет, — удивленно сказал комиссар. — Я же только что ясно вам сказал, что речь идет о вашем сыне… Патрисе.
— Но он мертв.
— Да, конечно. Но вы скрыли от нас немало подробностей, связанных с его похищением. Я здесь для того, чтобы немного во всем разобраться. Знайте, что Мария Да Коста задержана сегодня днем в Тулузе при проверке документов. Она прибыла из Португалии, где отсиживалась с прошлого года после неудавшегося киднеппинга. Разумеется, никаких документов, оскорбления, сопротивление… Ладно, опустим… Кончилось тем, что она во всем призналась… Созналась, что была любовницей вашего мужа, что вы выставили ее за дверь, что она хотела отомстить за себя с помощью двух испанцев, которые, впрочем, скрываются до сих пор. Но нас сейчас интересует не это. Мария рассказала моим коллегам в Тулузе историю такую поразительную, что они немедленно связались с нами для ее подтверждения. Мария представляет дело так, будто ее сообщник, проникший сюда, спутал ребенка и утащил сына Амалии. Это правда?
Ирен медленно оживала. Она распрямилась и закурила сигарету.
— Правда, — сказала она. — Когда тот тип увидел, что Амалия прижимает к себе ребенка, он подумал, что это Жулиу. А это был Патрис, которого Амалия взяла к себе, потому что он был не совсем здоров… Мы сразу поняли, почему он ошибся.
— И должны были нас предупредить. Я не знаю, насколько вы отдаете себе во всем отчет, мадам. Я даже не говорю о том, что вы нанесли оскорбление властям; судебный следователь в свое время этим займется… Но я думаю о последствиях.
— Каких последствиях?
— То есть как это каких? Вы уж, мадам, не сочтите за труд немножко задуматься. Мария прекрасно знала маленького Жулиу. Не было никаких причин держать его у себя; но поскольку ей очень нужны были деньги, она подумала — тут я вам повторяю то, что мне сказали коллеги из Тулузы, — она подумала, что, потребовав выкуп, что-нибудь получит: Клери заплатят за сына своей служанки. Но когда она поняла, что для того, чтобы спасти своего сына, вы готовы, — и ваш муж, и вы, скрыть правду и бросить на произвол судьбы Жулиу — других слов я не нахожу, — она рассвирепела. Что бы вы сделали на ее месте?
— Прошу вас, комиссар. Ни за что мы бы не бросили Жулиу. Но ведь торговаться нам не было запрещено.
— Именно это и показалось ей гнусным. И вот, в тот день, когда ваш муж поехал отвозить чемодан на вокзал в Лe-Мане, в день, когда Ла-Рошетт остался практически без всякой охраны, она, осмелев, отправилась с Жулиу к Амалии. И задурила ей голову, что было, без сомнения, несложно, вы ведь заставили бедную женщину играть роль противоестественную. А главное, Мария предложила Амалии обменять ее сына на Патриса. Какая мать не согласилась бы на это?.. Амалия даже согласилась, чтобы ее ударили кулаком по лицу, и здорово ударили. Надо же было сбить вас с толку.
— Что?.. Амалия стала сообщницей…
— В каком-то смысле, да.
— И она будет признана виновной в смерти моего мужа и моего сына?
— Виновной, это, может, слишком громко сказано. Но она этому попустительствовала, а после трагедии сама сгубила себя. Впрочем, выбора у нее не было. Видите ли, мадам, если бы вы с самого начала говорили правду, мы бы немедленно сообщили средствам массовой информации… Мария и ее сообщники оставили бы в покое Жулиу, потому что дело их не выгорело, и вы бы не были в трауре.
Ирен не поднимала глаз, чтобы не выдать своей радости. Амалия виновата! Какой подарок! Конец угрызениям совести, ночным страхам. Амалия предала. И заплатила за это. А все остальное? Да какая разница! К усыновлению Джулито все это отношения не имеет.
— Правильно ли вы меня поняли? — снова заговорил комиссар. — Завтра пресса во всех подробностях расскажет об аресте Марии Да Коста и воспроизведет все ее заявления. Вас, в свою очередь, тоже допросят. И возможно, вам не простят того, что сначала вы предпочли жизнь вашего сына жизни Жулиу.
— Ну это все-таки было бы слишком, — возразила Ирен. — Мы, наоборот, действовали в интересах Жулиу. Вспомните, мы уже были готовы заплатить.
— Я счел нужным вас предупредить, мадам. Дело будет иметь широкую огласку.
— Послушайте, комиссар. Давайте будем серьезны. Я потеряла мужа и сына. Служанка моя, если верить вам, была соучастницей грабителей. Так в чем же меня можно было бы обвинить? И еще я забыла сказать, что ребенком Амалии занимаюсь я.
Полицейский встал.
— Через несколько дней, — сказал он, — вас вызовут. И вам придется точно мотивировать все ваши поступки. Нельзя, чтобы у народа создалось впечатление, что богатым позволено все. Поверьте мне, мадам, все это я говорю в ваших же интересах.
И он раскланялся с Ирен, слегка опустив подбородок, а она не осмелилась пойти проводить его. Она чувствовала себя усталой и счастливой. Она замирялась с Амалией. Каждая из них на свой лад боролась с другой, а теперь все было хорошо. Газеты, конечно, подогреют общественное мнение. Будут трудные моменты. Потом заговорят о другом, и через несколько месяцев, когда все забудется, она получит наконец письмо, текст которого она знает по брошюре, присланной Альбером, и знает наизусть.
Мадам,
Я имею удовольствие сообщить вам, что совет вынес решение разрешить вам усыновление ребенка… и так далее.
«Надо все рассказать Альберу, — подумала она. — Он мне что-нибудь посоветует».
На пороге стояла Франсуаза. За руку она держала ребенка.
— Он не хочет сидеть со мной, — сказала она.
— Ну ладно, оставьте его мне… Веди себя хорошо, Джулито. Поиграй на ковре, пока я поговорю с мсье.
Нотариус тут же подошел к телефону.
— Бедный мой дружище, несчастья наши далеко не все еще позади. У вас есть минутка… Только что от меня вышел комиссар Маржолен. Похоже, Марию арестовали… И вот, она такое понарассказывала… никто не должен был знать об этом… мы даже от вас это скрывали.
— Вы меня пугаете, — закричал нотариус. — Что же произошло?
— Произошло… то, что было подряд два похищения… Первый раз украли Жулиу, потому что сообщник Марии спутал детей… а во второй раз, при соучастии Амалии, они утащили Патриса в обмен на Жулиу, которого отдали матери.
— Погодите! Погодите! Не так быстро… Что еще за история? Послушайте, Ирен, объясните мне все это спокойно, со всеми подробностями.
Ирен подтащила к себе кресло и села. Ребенок тут же забрался к ней на колени, и, изображая рукой самолет, стал водить ею вокруг ее лица.
— Будь умницей, дорогой мой, — сказала Ирен. — Алло?.. Альбер?.. Да на самом деле все очень просто…
Она пересказала ему вкратце все события, время от времени повторяя: «Ну, а как еще можно было поступить? Поставьте себя на наше место». Когда она кончила говорить, наступила долгая пауза.
— Но, в конце концов, меня ведь ни в чем нельзя обвинить, — вновь заговорила Ирен, вдруг забеспокоившись.
— Я потрясен, — шепотом сказал нотариус. — Я теперь понимаю, почему Жак столько торговался. Выкуп казался ему чрезмерным, потому что речь шла не о его сыне. Отсюда все и пошло. Он ожесточил похитителей… Но, черт возьми, почему же вы не сказали правду?
— Мы не знали, что Жулиу был похищен друзьями Марии. Мы думали, что он в опасности.
— Да, да. Я прекрасно понимаю. Но теперь-то Марии ничего не стоит утверждать, что Жулиу ничего не грозило, а вы, вы были готовы на все, лишь бы ваш сын был в безопасности… В этих случаях, знаете ли, хитрить полагается полиции. А не семье. В общем, вы обманули всех на свете, и вам этого не простят.
— Но ведь, Альбер…
— О, разумеется, преследовать вас в судебном порядке не будут. Меня не это беспокоит.
— А что же тогда?
— Можно откровенно?.. Боюсь, как бы ваша просьба об усыновлении не была отклонена.
— Боже мой!
— Откроем глаза, дорогая моя. Неужели вы думаете, что администрация, учитывая то, что мы теперь знаем, сможет решиться? Главное, чего они хотят, это отдавать детей в семьи, где нет никаких проблем… А это не тот случай. Я уже знал от Массулье, но счел за лучшее вам об этом не рассказывать, что комиссия долго размышляла по поводу трагедии, которую вы пережили. С этим все еще могло обойтись. А вот теперь… Эта история грозит обернуться скандалом, если какая-нибудь газета решит устроить кампанию…
Ирен прижимала к себе Джулито.
— Я не перестала быть жертвой, — сказала она.
— Вот именно. Это несчастные люди, вроде вас, которым отказывают в праве усыновить ребенка. Получается, что я жесток, мне, право, очень жаль. Но что поделаешь? Факты остаются фактами. А то, что Амалия стала соучастницей Марии и что она ответственна за похищение Патриса, — это факт. Я сейчас рассуждаю как комиссия. И факт, что, не выдав Марии, она явилась косвенной причиной смерти вашего мужа и Патриса. И вы имели бы полное право ее возненавидеть. А именно ее сына, Жулиу, вы и собираетесь усыновить… В общем, сына своего врага.
— Я люблю его, — пробормотала Ирен.
— Сейчас да, — продолжал нотариус. — А потом? Через пять, через десять лет… Когда вы обнаружите, что он — копия своей матери, как говорят. Я приношу вам боль и сержусь на себя за это… Но будьте мужественны, Ирен. Мы проиграли. Откажитесь от Жулиу. Придет день, когда решат, что вам можно без всяких опасений доверить ребенка. Я в этом совершенно уверен. Но только не Жулиу. Не после того, что выяснилось… Алло! Ирен? Ирен, послушайте меня.
Она бесшумно положила трубку. Она плакала. Джулито пальчиком водил по дорожкам от слез на ее щеках. Он мурлыкал: «Мама бобо… мама бобо…» Потом поднес пальчик ко рту и задумчиво стал пробовать его на вкус.
— Шеф, — сказал таможенник, — подойдите на минутку, пожалуйста. Тут одна женщина… Она ждет неподалеку, с ребенком… У нее только удостоверение личности. А насчет малыша, так она, похоже, вообще растерялась. Она говорит, что это ее сын. Может, оно и так, конечно. Но меня бы это удивило. И еще она говорит, что не знает, как долго пробудет в Женеве. Шеф, помните развод супругов Мадлен? Того мальчишку, которого бабушка выкрала, потому что не хотела отдавать его отцу… Ей прямо на месте не сиделось… И курила она без конца… Вы тогда сами сказали: «Какая-то она чокнутая…» Ну так посмотрите на дамочку, вон там. Ну что? Похожа на ту… Вот увидите шеф. Это окажется еще одна история с киднеппингом.
Спящие воды
Les Eaux dormantes (1984)
Перевод с французского А. Райской
Старина! Ты мне все, бывало, говаривал: «Из того, что тебе пришлось пережить, вышла бы прелюбопытная история. Поделись со мной своими воспоминаниями — ну, а я уж берусь сделать из них роман». Вот мне теперь и вздумалось поймать тебя на слове. Я прочел твою последнюю вещь. Это просто здорово! Так что я готов довериться тебе. Если ты еще не передумал — за мной дело не станет. Времени, увы, у меня нынче в избытке. Знал бы ты, как впустую проходят целые дни…
Но только не жди от меня связного рассказа. Я не хочу сказать, что буду писать обо всем, что взбредет мне в голову; но все же позволь мне не слишком себя стеснять. Что бы могло мне сейчас помочь, так это прежде всего возможность выговориться. Ведь я так одинок! Ты сам решишь, что можно обнародовать, а что должно остаться между нами. Не обессудь, если я иной раз и повторюсь. Или, наоборот, позабуду упомянуть какие-то подробности, без которых, по-твоему, нам не обойтись. Все это мы уладим после.
Ну так за дело. Только вот с чего начать? Не стану рассказывать, почему я решил стать В.Б.Г., то есть «врачом без границ». Это ты и так знаешь. Нам с тобой довелось обсудить мои первые шаги. Землетрясение в Лиме… Эпидемия на Мадагаскаре… Резня в Бейруте… В свои двадцать семь лет я повидал всякие раны, болезни и страдания. Так, во всяком случае, мне казалось. Ну, а потом были «плавучие гробы»; с них-то я и начну, если ты не против, — начну с того, что меня потрясло до глубины души, наложило на меня свой отпечаток, и, если можно так выразиться, — мумифицировало, как это бывает с теми, кто подвергся воздействию атомного взрыва. Отныне моя жизнь распалась на «до» и «после». До того я был хорошим специалистом. Сейчас я объясню. Хороший В.Б.Г. — это не тот, кто, вдруг проникшись состраданием к страждущим, больше не желает оставаться равнодушным при виде голодных, покинутых, обездоленных. И не тот, кто, подобно миссионерам, верит, что он призван принести свою жизнь на алтарь человечности. И уж конечно это не пылкий искатель приключений, рвущийся навстречу людским страданиям, словно неукротимый землепроходец. Думаю, нечего и говорить, что это также и не убежденный защитник «третьего мира». Это лишь досужие домыслы публики, узнающей о нас из случайного репортажа. На самом деле все совсем не так. Для нас настоящий профессионал — это прежде всего хороший врач, опытный специалист, способный, помимо всего, оказаться полезным и в смежных областях медицины. Я, к примеру, специализировался по так называемым «колониальным заболеваниям», но могу при случае выполнять несложные операции или даже заменить анестезиолога. Разумеется, независимо от обстоятельств, то есть от опасности, которой мы подвергались. Короче, истинный профессионал в любой области — тот, кто ставит свое дело превыше всего, тот, кто при виде пожара или маньяка, захватившего заложника, деревни, в которой свирепствует чума, — скажет: «Я должен туда пойти».
Более того, профессионал в истинном смысле слова — это пилот авиапочты, готовый лететь на любом «кукурузнике» с ворохом визиток. Да, пожалуй, я был достойным профессионалом.
Ну, а потом наступила пора ловли… трудно даже слово подобрать. Мы, как мусорщики, бороздили залив. Вдруг видишь нечто, чудом держащееся на воде, больше похожее на фургон, чем на корабль; а на нем — куча изможденных, окровавленных тел. Лица мертвецов с открытыми глазами. И даже здесь, в море, вьются тучи мух. Страшная вонь предупреждала заранее о появлении этих «плавучих гробов»; от них несло даже не тлением, а скорее помойкой, свалкой, смесью старых коробок, грязного тряпья, дохлятиной и трупными червями. Смерть достойна уважения. Ее оплакивают. Нечистоты сжигают. Но нам-то приходилось рыться в этой мусорной куче, ощупывать, сортировать, выуживая то, что еще могло выжить. Переживать было некогда — вдали уже виднелась очередная посудина, иной раз окруженная веселой стайкой акул. Зато потом целыми днями ничего… Эти погребальные шествия подчинялись каким-то таинственным законам. Уцелевшие быстро оправлялись, и иногда мы диву давались, узнав, что один был раньше адвокатом, другой учителем. Они пытались втолковать нам, что их к этому привело, но сами так радовались своему спасению, что не могли говорить без смеха, и мы мало что понимали в их разъяснениях. Да мы особо и не прислушивались. Куда важней нам казалось выяснить, сколько дней они провели в море, чем питались и тому подобное.
И мы вели записи — кучу записей: не думай, что мы просто санитары «Скорой помощи». Мы еще и эксперты, наблюдатели, от которых требуют отчета. Разумеется, десантники, но также и клерки, счетоводы, статистики, архивариусы смерти. Ну да ладно, хватит об этом. Существуют превосходные книги о «врачах без границ». Я же возвращаюсь к своему рассказу, а это не так просто, потому что рассказывать почти нечего. Только прошу тебя, не надо никакой литературщины, когда будешь описывать то, о чем теперь пойдет речь. Так вот, сначала та встреча. Полузатонувшая скорлупка. Мешанина тел. Блуждающие взоры тех, кому еще достало сил приподняться, чтобы взглянуть, кто к ним причаливает. Пираты? Друзья? Они тут же опускали голову, словно ничего более страшного с ними случиться уже не могло. Мужчины все вымерли.
Часто им не удавалось протянуть столько же, сколько женщинам. Оставалось еще несколько старух, настолько потрясенных пережитыми лишениями и страхом, что они могли лишь, сбившись в кучу под какими-то отвратительными лохмотьями, шевелить губами, пытаясь вымолвить то, что их душило. Я сел в шлюпку, чтобы оказать первую помощь: нередко случалось, что бедолаги умирали, едва завидев надежду на спасение, подобно тому, как люди, погребенные во время землетрясения, гибнут как раз тогда, когда их удается откопать. И вот под кучей вонючего тряпья я нашел ее. У меня перехватило дыхание. Представь себе археолога, который, перелопатив целую груду камней, вдруг натыкается на статую, нетронутую временем и словно явившуюся ему из тьмы — почти из небытия. Моя статуя была здесь, передо мной, — веки сомкнуты, щеки фарфоровые. Лицо евразийского типа — такое чистое, умиротворенное; жизнь еще не окончательно покинула его. Я тут же сделал все необходимое. Руки у нее, бедняжки, были тонкие как спички. Даже страшно колоть. Мой санитар устроил ее как можно удобнее у меня в каюте. Я твердо решил ее спасти. И знаешь, я тут же стал проявлять к ней больше интереса, чем следовало. Такая юная: всего лет пятнадцать — шестнадцать. И она была красива. Но я привязался к ней не из-за этого. Я пытаюсь понять, в чем было дело. Похоже, она меня боялась. Она пришла в себя и так на меня смотрела…
Как ни старайся, я не сумею этого объяснить. Ее много раз насиловали пираты, разграбившие их судно. Об этом я узнал от своего санитара-вьетнамца: с ним она еще о чем-то говорила. Но только не со мной. Впрочем, в ее молчании не было ничего враждебного. Не чувствовалось в нем и протеста. Скорее, это напоминало смирение бессловесной твари, которая отдается в руки ветеринару, словно чувствуя, что он все равно возьмет верх, да и время для сопротивления упущено. Думаю, она видела во мне мужчину, то есть собрата тех, кто ее насиловал, а мне, чтобы ей помочь, приходилось возиться с нею, как с грудным младенцем. Она не противилась, точно неживая, и это значило: «Ты здесь, но меня-то здесь нет». Чудное у нее было имя: Ти-Нган. Бывало, я пытался ее растормошить. «Ради Бога, Ти-Нган, принимай то, что я тебе даю. Ты должна мне помочь!» И в ответ — этот ее мягкий взгляд, будто из черного бархата, она не сводила с меня глаз, словно это я был причиной всех ее бед. Физически она не так уж пострадала. Но насилие вызвало сильный шок: если бы я мог поместить ее в больницу и применить все средства, которыми мы располагаем в обычных условиях, я бы наверняка ее спас. Но что можно поделать на корабле, переполненном больными и ранеными? Нас, «врачей без границ», было двое, снаряжения не хватало, нас просто разрывали на части, а до берега — три или четыре дня пути. Чудом мне удалось найти для Ти-Нган более или менее спокойный уголок, да и там до нее доносились стоны, крики, мольбы о помощи вперемешку с шумом двигателя и плеском волн, так что о настоящем покое говорить не приходилось. Как только выдавалась свободная минутка, я присаживался рядом с ней. Я брал ее за руку. Она и не пыталась ее отнять. Я знал, что она умирает. Она сама решила уйти из жизни, как уходят из гнусного притона. Может, ей даже было немного жаль меня. И вот однажды вечером это свершилось — очень тихо, деликатно и сдержанно. Ее кулачок понемногу разжался, словно раскрывающийся бутон. Глаза перестали видеть, и тогда я понял, что познал Зло. Да, представь себе, я утверждаю, что возможно познание Зла — внезапное озарение, словно внутри у тебя что-то лопается. Я стоял там, как Христос с пустыми руками. Ничего-то у меня не получилось. Потому что… да потому, что сделать вообще ничего нельзя. Пусть даже Божественное откровение снизойдет на поэта или писателя у врат собора Парижской Богоматери или на пороге церкви — тем лучше для них. Я-то все равно останусь у изголовья несчастной девочки, погибшей потому, что она сказала «нет»; и эта смерть предъявляла обвинение и мне, делая меня, в конечном счете, соучастником грандиозного обмана. Я не умел ясно выразить того, что чувствовал, но только я сам не прочь был сказать «нет». «Нет» — всему. Палачам и их жертвам. Погибшим от наводнений. Заваленным во время землетрясений. Голодающим. Истощенным детишкам с головами марсиан. Как же ты была права, маленькая Ти-Нган. Ты не издала ни единого стона. Ни единого рыдания. Даже головы не повернула. Просто ушла, оставив меня в этой грязи. В какой-то момент я подумывал об отставке. Ничто меня здесь не удерживало. Сколько ни бейся, все равно так и будешь подбирать доходяг. Глупо бороться в одиночку. Короче, всю ночь я провел рядом с телом Ти-Нган. К утру я превратился в старика. Как она, бедняжка, я был теперь и здесь и там. Думаю, это значит, что всякое чувство, всякое биение сердца замерло во мне. Я снова занимался своим делом, пожалуй, даже с большей отдачей, если можно так назвать вечную суету, выпавшую нам на долю, — перевязки, уколы, раздачу лекарств, которые больные перепродавали у нас за спиной за дозу кокаина. Стоит только вспомнить лагерь в Арания Пратет. Разумеется, это не лагерь смерти. Но в каком-то смысле там было еще хуже, еще гаже. Из-за скученности и недоедания люди здесь оказались доведены до состояния простого сырья, зловонной грязи под ногами. Полуразложившаяся, вонючая свора впавших в отчаяние мужчин и женщин. Чтобы пройти куда-нибудь, там приходилось то и дело перешагивать через тела, а то и вязнуть в дерьме. Но меня все это не трогало. Разве иной раз напомню себе: «Сам ведь этого захотел. Вот ты и здесь». Мое неприятие защищало меня от сострадания — словно твердая корочка, с каждым днем нарастающая на ране. Я перестал следить за собой. Не стоило так пренебрегать своим здоровьем. «Считай, тебе крупно повезет, если не подцепишь какую-нибудь заразу», — бывало, говаривал мне доктор Мейнар, славный малый, которого призвание В.Б.Г. нашло в Сен-Флуре. И он был совершенно прав: я подцепил амеб. Эти твари буквально высасывают тебя изнутри. От упырей помогают чеснок и молитва. Но от амеб, сказать по правде, мало что помогает. Друзья насильно запихали меня в «боинг», следовавший в Париж. Посадка в Париже. Я едва держался на ногах. У меня даже не было сил сообщить о своем приезде домашним. На такси я добрался до нашей парижской миссии. Избавлю тебя от трогательного описания моей встречи с друзьями. Там были… но к чему называть тех, кого ты все равно не знаешь. Многие, как и я, оказались здесь проездом. Они направлялись в Чад или в Ливан. Или в Руайа, в Виши — подлечиться в санатории. Мне бы не помешало побывать в Шательгийоне: тамошние воды, говорят, особенно хороши при амебиазе. Но мне вдруг захотелось вернуться к себе, в Керрарек. Я расскажу отцу о том, что произошло у меня с Ти-Нган. Он-то наверняка поймет. Я отобедал с Давио — нашим секретарем, казначеем, советником, нашим всем. Если бы не он, не его авторитет и доброта, пожалуй, наше маленькое войско рассеялось бы по белу свету, а затем бы и вовсе исчезло — не думай, что у нас нет причин для раздоров. Никто не желал повиноваться беспрекословно. Одни хотели бы, чтобы их прикомандировали к Красному Кресту. Другие мечтали основать постоянные госпитали, например в Таиланде; ну а самые юные и пылкие рвались в короткие опасные поездки в самую гущу катастроф. Нередки были и стычки между чересчур разными людьми. Давио повел меня в маленькое тихое бистро, где мне подали блюда, подходящие для моих расстроенных внутренностей. Он подробно расспрашивал меня о «плавучих гробах». И вдруг сказал:
— А сам-то ты как? Что у тебя на душе?
Он протянул руку через стол и дружески похлопал меня по лбу. Я пожал плечами.
— Ну да ладно, — бросил он, — не буду тебе надоедать. Когда почувствуешь, что готов вернуться к работе, сообщишь… Можешь не торопиться. Лечение займет немало времени. Наверняка несколько месяцев. С амебами шутить не приходится. Ты отсюда поедешь домой?
— Завтра в полдень я буду в Нанте. Там у меня пересадка до Сен-Назера, и старик Фушар встретит меня на машине. Похоже, от Бангкока до Парижа я добрался быстрее, чем теперь от Парижа до Керрарека… Зато какой там покой!
— Кстати, — заметил Давио, — кабы знать… Твой отец прислал нам для тебя письмо. Он не знал, где тебя искать, вот и обратился ко мне, а я передал письмо малютке Лилиан. Она — стюардесса на «боинге», который как раз летел туда… Вы с ней разминулись совсем чуть-чуть. Ты уехал позавчера… а письмо… Хотя неважно. Нам его перешлют со следующим рейсом. Получишь его дней через пять-шесть… Тебя ведь, кажется, не баловали письмами. Разве не так?
— Так…
Отец никогда не любил писать. В последнем письме он сообщал мне о кончине тетушки Антуанетты… Тут уж ему некуда было деться… Может, и на этот раз кто-нибудь умер.
— А ты им даже не позвонил? Хочешь, звякни теперь.
Я не сдержал улыбки.
— Какое там! Ведь скоро одиннадцать. В замке уже все спят. Завтра утром пошлю им телеграмму, чтобы встретили. Ну и будет с них. Я ведь наперед знаю, что меня ждет прохладный прием. Не со стороны отца, конечно… С ним-то мы друзья. Зато матушку я так и слышу: «Ты вспоминаешь о семье, только когда болен».
— Да что ты! Не преувеличивай! Давно ты с ними не виделся?
— Около двух лет.
— Неужели так долго! Мне как-то не приходило в голову… Ну тогда тем более. Они заколют жирного тельца.
На сей раз я не удержался от смеха.
— Ты только представь меня, с моими-то больными кишками, за столом перед телячьим жарким? Нет уж. Мною займется тетя Элизабет. Она всех пользует лекарственными травами. Я стану для нее желанной добычей. Она и так была обо мне невысокого мнения из-за моих дипломов. То-то теперь потешится, видя меня в таком состоянии!
— Бедняга Дени. Право, больно все это от тебя слышать. Невеселое тебя, видно, ждет выздоровление.
— Да нет. Ведь у меня будет Лабриер… Лабриер — это покой, это отдых. Там меня поджидает моя лодка-плоскодонка. Надеюсь, там мало что изменилось. Я смогу плавать по воде, не натыкаясь на утопленников. Тишина, Давио. Умиротворение. Ласточки. Стрекозы. Ветер свистит в камышах… Знаю. Я выгляжу идиотом. Хотя я и не склонен к романтике. Но мне необходимо опуститься до уровня… ну, скажем, до уровня животного… Собаки, которая принюхивается, чует окружающие запахи… хотя нет… Собаку не назовешь невинной… Ей ведь тоже нужна добыча.
— Ну ты даешь! — воскликнул Давио. — Да так ты, пожалуй, скоро буддистом заделаешься. Непротивление злу насилием! Руки прочь от вшей и личинок!
— Нет, не шути.
Беседа затянулась. У Давио всегда был философский склад ума. Обо мне такого не скажешь. Но наступает минута усталости, когда спор ударяет в голову, точно алкогольные пары. Я поздно уснул и утром чуть не опоздал на поезд. С Монпарнаса отправил телеграмму графу де Лепиньеру, в поместье Keррарек, через почту в Эрбиньяке, департамент Атлантическая Луара. «Приезжаю сегодня четырнадцать часов Сен-Назер. Целую. Дени». Телеграфистка злобно покосилась на меня. В наше время «граф де Лепиньер» звучит вызывающе. Хотя я тут и ни при чем. К тому же, сказать по правде, мы далеко не богачи. Сидя в купе второго класса, я перебирал образы, воспоминания. Впрочем, тебе как-то довелось побывать в Керрареке. Я в ту пору учился на первом курсе медицинского, а ты, если не ошибаюсь, на первом курсе юридического. Как давно это было! Замок произвел на тебя впечатление. Что ж, признаюсь, издалека, со стороны, он выглядит недурно. Но вблизи! И тем паче изнутри! Тебя принимали в жилой части, а она, ничего не скажешь, выглядит вполне презентабельно. Но ведь есть еще все остальное — крыло XVI века, чердаки… особенно чердаки… Чтобы все это привести в порядок, потребуется целое состояние. И подумай, их там только шестеро. Считай сам: мои отец, мать, сестра, тетя Элизабет и чета Фушар. Вот и все. Я не беру в расчет пауков и привидения. Что же касается доходов… Ну да чего греха таить? Земли вокруг замка почти ничего не приносят. И если бы не две наши фермы да не две виллы в Лa-Боле, не представляю, на что бы они жили. Слава Богу, матушка моя неглупая женщина и знает, как с толком распорядиться своими владениями. И тем самым дает отцу возможность наслаждаться праздностью. Он очень недурно рисует, охотится на болотную дичь, которая в изобилии водится в окрестностях замка. Ловит рыбу, как заядлый браконьер. У него в роду было немало моряков, и, как мне кажется, он бесится, чувствуя себя на приколе.
Он жалеет о том времени, когда воевал в ВФВ[40] и стрелял по немцам, засевшим в Сен-Назерском мешке. Это его героическая эпоха.
Можешь себе представить, мои родители по сию пору буквально взвиваются, как только речь заходит о тех временах. Дело в том, что давным-давно дальний родственник моей матери сражался на стороне эмигрантов и во время высадки в Кибероне[41] попал в плен. И естественно, был расстрелян. Вот почему она терпеть не может республиканцев, «палачей». Однажды она сказала отцу: «Живи ты в то время, ты был бы на их стороне». Разумеется, все это бред. Но, как и всякий бред, он имеет глубоко скрытые корни. Возможно, мне удалось угадать причины тайной неприязни, всегда отравлявшей их отношения, когда я узнал о смерти тетушки Антуанетты.
Знаешь, как это бывает… Вдруг нахлынут воспоминания. Начинаешь сопоставлять то, о чем раньше и не задумывался… и вдруг тебя осеняет. Надо тебе сказать, что тетя Антуанетта терпеть не могла отца. Я тебе все это рассказываю, потому что мы все равно сидим в нантском поезде, и у нас есть время поболтать. Припоминаю кое-какие ее реплики. Как-то раз мы сидели за столом и поджидали отца — он никогда не отличался пунктуальностью. Заслышав в вестибюле его шаги, она усмехнулась и бросила (слышал бы ты, с каким презрением это было сказано): «А вот и Пикассо». Подобные замечания вдруг всплыли у меня в памяти. В другой раз она сказала матушке в моем присутствии: «Бедная Сабина! Чего еще ждать от этих Майаров». Ну, а теперь держись. Мое объяснение покажется тебе совершенно невероятным, но матушка моя происходит из старинного и знатного рода. Уже в средние века были известны Куртенуа — военные наместники или епископы. В XVIII веке маркиз де Куртенуа командовал конным полком и погиб при Фонтенуа[42]. Барон де Куртенуа был избран в Генеральные Штаты, прежде чем пасть под ножом гильотины.
Луи Сезар, граф де Куртенуа, сражался под знаменами Шаретта в Вандее и Кадудала в Бретани[43]. Впоследствии он стал пэром Франции и т. д. и т. п.
Я мог бы продолжить. Сам понимаешь, как все это отразилось на самомнении моей матушки. Что до отца, он происходит из семьи Майар, а Майары еще в XVII веке были добропорядочными нантскими буржуа, разбогатевшими на колониальной торговле. Впоследствии, при Людовике XV, Пьер-Луи Майар — негоциант и судовладелец — женился на дочери магистрата из Сан-Доминго, за семьдесят пять миллионов франков приобрел должность Королевского секретаря и тем самым получил наследственное дворянство. Зазнавшись, он заодно купил и замок Лепиньер и взял себе его имя (этого замка больше нет). Отныне он по праву именовался Пьер-Луи Майар, сеньор де Лепиньер. Известно так же, что некий Рауль де Лепиньер, капитан-лейтенант, участвовал в Трафальгарской битве и впоследствии написал «Заметки о двухштурвальных судах» — труд, снискавший ему некоторую известность. И наконец, Рауль-Эд-Арман Майар де Лепиньер — мой отец. Как видишь, не слишком блестящая родословная. С одной стороны, правнук торговца, а с другой — гордая своим происхождением знатная дама старинного дворянского рода, ничем не обязанного деньгам. А знаешь, от кого я узнал все эти подробности? Представь себе, старина, от нашего славного Фушара. Мои родители не стали бы попрекать друг друга происхождением. До этого не дошло. Но Фушары, на свой лад, не меньшие аристократы, чем Куртенуа, ведь они служат им из поколения в поколение. Вот как бывает у нас на Диком Западе. Ну, а папаша Фушар ни в чем не уступит иным специалистам по генеалогии. Когда он брал меня с собой на болото и учил бить рыбу острогой — бывало, выберет минутку, набьет себе трубочку и заведет разговоры о прошлом. Вот чертов зануда! Подвиги моих предков влетали мне в одно ухо и вылетали в другое. Уже тогда я задумал дать деру из замка. Я ощущал себя больше Майаром, чем Куртенуа. Впрочем, к этому я еще вернусь. Это важно. Но когда я услышал, что умерла тетя Антуанетта, мне вдруг вспомнилось ее восклицание: «Чего еще ждать от каких-то Майаров!» Она полагала — как, вероятно, и моя матушка, — что для представительницы рода Куртенуа это был неравный брак. Ты скажешь, что она и до замужества прекрасно знала, кто такие Майары. Почему же в таком случае она вышла за отца? Я ее никогда об этом не спрашивал, сам понимаешь. Полагаю, отец ей нравился. Красивый мужчина, любезный, веселый, короче, почему бы и нет? Тем более что моя мать немного засиделась. Обе ее сестрицы так и остались самыми натуральными старыми девами. Надо думать, ее страшила подобная участь.
У меня есть основания считать, что поначалу они жили счастливо, но несколько лет спустя все пошло прахом. Со временем я стал догадываться, что отец позволял себе связи на стороне. При мне это не обсуждалось. Их ссоры напоминали грохочущий в отдалении гром. До меня доносились лишь его отголоски. А потом родилась Клер — нежеланный ребенок. Она намного моложе меня, очень хороша собой, но, называя вещи своими именами, она умственно отсталая. По неизвестной мне причине, ее ум так и не развился. У нее разум двенадцатилетней девочки, а ведь ей уже двадцать два, скоро двадцать три года. Так и слышу, как судачат мои тетушки: «Если бы только он меньше гонялся за юбками!» Для них — как, впрочем, и для матери — сомнений нет. Во всем виноват он. Ясно, что от выходца из семьи Майар не приходится ждать ничего хорошего. Видишь, как все это запутано и мелко. А тем временем на другом краю земли люди гибнут от голода и террора. Вот почему я не любил Керрарек. И я решил стать «врачом без границ», чтобы убраться оттуда подальше. Женская часть семьи так ничего и не поняла. Ну а отец? Сам не знаю. Возможно, в глубине души он мне завидовал. И, однако, повинуясь какому-то инстинкту, больной душой и телом, я возвращался домой. Так лосось возвращается умирать в тот ручей, где ему довелось появиться на свет.
Как видишь, я пребывал в задумчивости. Смотрел, как мелькали за окном все еще привычные мне картины. Когда проехали Анжер, на фоне пастельного неба показалась Луара; она живописно извивалась между крутыми берегами, которых уже коснулась весна. Но только, когда будешь об этом писать, не вздумай сказать, что я был взволнован. На самом деле совсем наоборот — я остался на удивление равнодушным. Светлый месяц май, типичный для провинции Анжу ласковый пейзаж, городишко Лире — оставим все это певцам Луары. Мои руки пропахли кровью и гноем, а перед глазами все еще стояла картина, которой не суждено стереться. Я чувствовал себя опустошенным, словно скотина, из которой выпустили кровь. И в то же время мною все больше овладевала злоба при мысли, что мне предстоит выслушивать их замечания. «Бедняжка, ты совершенно измучен. Мы знаем из газет, что там творится. Признайся, что они дикари. И стоило ради них жертвовать собой!» И тому подобные благоглупости. А напоследок тетя Элизабет поднесет мне чашечку отвара бурачника, прошу прощения, «Borrago officinalis», так как моя любезная тетушка изрекает всю эту чушь по-латыни.
Добрый старый Фушар встречал меня в Сен-Назере. В одежде егеря, держа в руках фуражку, он распахнул передо мной дверцу дряхлого «пежо».
— Ну-ка, обними меня, — сказал я ему. — Что за церемонии.
Он заикался от волнения. Возможно, вспоминал, как когда-то подбрасывал меня на коленях.
— Дело в том… Господин граф…
— Ради Бога, не надо титулов. Зови меня просто господин Дени.
— Да, только… Ведь вы не знаете про господина графа.
— Что случилось?
— Господин граф уехал.
— Куда это?
— Неизвестно. Он исчез.
— Как исчез? Вряд ли он уехал далеко.
— Вот уже четыре дня его ищут.
— Поехали. Что мы стоим?
Я сел в машину.
— Так что все-таки стряслось? Слушай… Постарайся понять, что мне ничего не известно. Я только что приехал. Три дня назад я был в самолете. И вдруг слышу, что отец уехал и еще что он исчез. Это все-таки не одно и то же. Он что, куда-нибудь собирался? Готовился к отъезду?
— В том-то и дело, что нет. Часа в три он вышел, словно хотел пройтись, и больше не вернулся.
Я вспомнил про письмо, о котором мне говорил Давио, — ну помнишь, то, что гонялось за мной уже несколько дней. Так и должно было случиться. После очередной особенно яростной стычки отец решил уйти из дома. Другого объяснения я не находил.
— Поехали, — сказал я. — Думаю, ничего страшного не произошло. Сказать по правде, я сам во всем виноват. Перед отъездом из Бангкока надо было предупредить, что я выезжаю, тогда бы отец такого не выкинул. Только не спеши. Я бы хотел по дороге взглянуть на болото.
Небо затянуло тучами. Я испытывал симпатию к этим откормленным облакам, чьи легкие тени плясали на шоссе у нас перед глазами. Западный ветер. Самый подходящий, чтобы половить линей и угрей. Я снова видел, как слабый ветерок клонит камыши, как темноводные ручейки бьются у подножия пней. Еще несколько часов — и я не удержусь, сяду в плоскодонку и снова отправлюсь заключать союз с Лабриер. А отец… ну что ж. Остается только подождать, пока он вернется.
— А что думает матушка? Она в ярости?
— Ох, господин Дени. Госпожа графиня конечно же очень встревожена.
— Что она сказала, получив мою телеграмму?
— Она сказала…
— Ну давай, выкладывай.
— Она сказала: «Он, конечно, выбрал самый подходящий момент».
— Фушар, остановись-ка на минутку. Я пересяду к тебе, а то ты то и дело вертишь головой за рулем — это может плохо кончиться.
Он затормозил, и я уселся рядом с ним. Не удивляйся, что я зову его Фушар, а не Дезире. Зато к его жене все обращаются по имени: «Эжени». Таков старинный обычай.
Мы проехали Сен-Андре-дез-О, и за развилкой Сен-Этуаль я приметил справа от дороги первые заросли тростника. Они колыхались, словно пшеничное поле. Высоко в небе, будто воздушный змей, зависла хищная птица. Я возвращался в свое детство.
— По воскресеньям приезжает много народу, — сказал Фушар. — Туристы катаются по каналу. Но это подальше, ближе к Сен-Жоашему. Скоро там будет как в городском парке.
Он вздохнул. Я посматривал на него сбоку. По-прежнему крепкий. Весь в морщинах, точно старый индеец. И все же он немного сдал. Плечи устало опущены. Я обдумывал замечания матушки.
— Между нами, Фушар… Только откровенно… Мать не в восторге от моего приезда?
Чтобы легче было возражать, он даже снял с руля одну руку:
— Нет, нет, господин Дени. Не надо так думать. Госпожа графиня очень гордится вами. Как, впрочем, и все мы. Надо быть мужественным человеком, чтобы лечить прокаженных.
— Это не совсем прокаженные, Фушар. Даже хуже. Потом объясню. А пока расскажи-ка мне, как поживает Клер.
Фушар озабоченно покачал головой.
— Вы ее не узнаете. Совсем взрослая. Из нее вышла красивая девушка, но она по-прежнему витает в облаках… Иной раз она больше похожа на ручную лань, чем на приличную барышню.
— Что ты имеешь в виду?
— Не знаю, как вам объяснить. С ней бывает непросто, вот в чем беда. Когда господин граф рядом, еще ничего. Она всюду ходит за ним следом. Со мной то же самое. С ней надо обращаться очень ласково. Лучше уж сразу сказать, господин Дени, — бывают неприятные сцены. Иногда на нее находит. И если что ей не по нраву, убегает прямо на болото — она его знает как свои пять пальцев. Ну а чтобы ее сыскать, когда она прячется и не хочет возвращаться, поверите ли, господин Дени, нужны загонщики с охотничьими рожками.
— Как же вы справляетесь?
— Ну, господин граф подплывает с одной стороны, а я с другой… Каждый в своей плоскодонке. И зовем ее, словно хотим поиграть. «Ага, вот я тебя вижу! Попалась!» И вроде как в шутку, подбираемся поближе. Приходится смеяться, не делать резких движений, чтобы ее не спугнуть. «Ну, иди сюда, моя милая… Иди к старому Фушару… Я расскажу тебе сказку… Жил-был один король». Чтобы ее поймать, приходится рассказывать сказки.
Он умолк, стараясь справиться с волнением.
— Все это очень печально, — продолжал он наконец. — Слава Богу, вы теперь здесь. Может, вам удастся ее подлечить.
Мы как раз минули Сен-Лифар. Дальше дорога шла немного вверх, и передо мною открылись бескрайние заросли диких трав и листвы, среди которых там и сям поблескивала выбивавшаяся на поверхность вода, и необъятное небо, уже позабытое мною.
— Могу остановиться, — предложил Фушар.
— Нет. Едем дальше. Я думал о Клер.
— Она не сумасшедшая, господин Дени… Я, конечно, не врач, но я это чувствую… и, если позволите, окажу, что, по-моему, ей нужно… Нужно, чтобы ее любили… такую, какая есть… Не надо пытаться ее обучать, заставлять работать. А ваша тетушка, представьте себе, хочет, чтобы она писала диктанты, решала задачки… Бедняжка! Дайте ей вздохнуть свободно.
— А как она отнеслась к исчезновению отца?
— Плохо. Вчера весь вечер не возвращалась домой. Не знаю, где она пропадала. Словно животное, которое ищет своего детеныша. Только она-то искала отца. Ага! Вот и имение Белло.
Он был рад перевести разговор на другое.
— Вы ведь помните супругов Белло, да, господин Дени? Их дом достроили еще в прошлом году. А вот тяжба все тянется.
— Какая тяжба?
— Как? Разве господин граф вам не писал?
— Нет. Отец мне вообще почти не пишет.
— Из-за права на проезд. Когда господин граф продал Белло землю, на которой они теперь построили дом, не было никакой договоренности относительно пути, ведущего к дому Белло и к парку Керрарека. И мало-помалу отношения обострились. Г-жа Белло, настоящая мегера, настроила-таки своего простака мужа. Так что дело дошло до суда — заказные письма с уведомлением о вручении, гербовая бумага, и все это тянется уже много месяцев. Уж если женщины затеяли войну, греха не оберешься. Г-жа Белло злится на г-жу графиню, ну а г-жа графиня, ясное дело, тоже ее не жалует.
— Видишь, а я ничего не знаю. Смутно припоминаю, что отец говорил мне что-то о продаже земли. Но я тогда проходил практику при больнице. У меня голова была забита другим. А чем занимается этот Белло?
— О, это крупный мебельный фабрикант. Очень богатый. У них яхта в Круазике, а теперь еще эта вилла… Он приезжает с друзьями пострелять уток там, у Пьер-Фандю. Да у вас еще будет случай с ним познакомиться. Сейчас ему строят специальный гараж, потому что его американский автомобиль занимает больше места, чем повозка с волами. Вообще-то он неплохой. Очень вежливый. Пожалуй, ваша помощь ему бы не помешала. Он тощий как гвоздь.
— Сколько ему лет?
— Около шестидесяти. Он определенно намного старше жены, ей я бы дал не больше тридцати восьми — сорока… Она хороша, ничего не скажешь.
Тут машина угодила в выбоину, и я уцепился за приборную панель.
— Дожди размыли дорогу, — сказал Фушар. — Весь этот поворот нуждается в ремонте. Но дорожному ведомству на это плевать. К счастью, мы уже подъезжаем.
И я увидел Керрарек — раньше он казался мне больше и внушительнее. Он хранил отпечаток печали и строгости эпохи своего возникновения. При Ришелье в Бретани жилось несладко. Высокие холодные окна, суровый фасад. Но угловая башня облагораживала его.
Фушар нажал на клаксон. Тут же показались четыре женские фигуры и встали в ряд перед входной дверью. Матушка со своей сестрой и Эжени Фушар, обнявшая Клер за плечи. Машина остановилась, и, прежде чем подняться к ним, я разглядел их получше. Клер весело помахала мне рукой. Она была одета, как девчонка, которая путешествует автостопом: водолазка, выцветшие джинсы, кроссовки. Волосы собраны в конский хвост. Настоящая дикарка. Матушка вся в черном. Ладони сжаты, прямая как палка; зато тетя надела соломенную шляпу и длинный фартук для работы в саду. Я понял, что мать предупредила их: «Никакой торжественности. Я — другое дело: я его встречаю. А вы должны быть одеты как обычно». И она одна спустилась на две ступеньки мне навстречу. Она поцеловала меня, будто клюнула, в правую и левую щеку, как офицер, вручающий рядовому награду.
— Как доехал, мой мальчик?
К моему удивлению, она выглядела взволнованной. Ее серые глаза смотрели на меня с такой заботой, что я был тронут. Но я похож на нее: терпеть не могу выдавать свои чувства. Я тут же повернулся к тетушке, которая осмотрела меня с ног до головы, придерживая за плечи, и сказала:
— Бедный Дени, не знаю, как тебя кормили в Тонкине, но выглядишь ты неважно. Придется тобой заняться.
Тут Клер бросилась мне на шею. Фушар нисколько не преувеличивал. Потрясающая девушка, соблазнительная, цветущая. Но вела она себя, как ребенок: скакала передо мной на одной ножке, когда мы шли в гостиную. Напрасно славная Эжени бранила ее: «Веди себя прилично, не то я рассержусь!» Клер лишь напевала и делала вид, будто играет в классики на черно-белом полу вестибюля. Мать взяла меня под руку.
— Она возбуждена… Не смотри на нее. Скоро успокоится… Фушар тебе рассказал?
— Да. Я был потрясен.
— Мы как раз собирались тебе сообщить через вашу миссию в Париже. Какое совпадение! Но почему ты вернулся во Францию?
— Чтобы подлечиться. Я схватил амебиаз.
— Это опасно?
— Шутить с этим не стоит. Да вы не беспокойтесь. Как идут поиски?
Мать вдруг остановилась.
— Какие поиски? Уж не воображаешь ли ты, что я буду за ним бегать?
— Он ничего не оставил? Даже записку?
— Ничего.
— И ничего не взял с собой?
— Нет.
— А вдруг с ним что-то случилось? Может, ему стало дурно. Потерял сознание и свалился в болото.
— Не выдумывай! Такой крепкий мужчина, как он!
— Так или иначе, но нам придется предупредить полицию.
— Только не это! Чтобы вся округа о нас судачила!
— Но ведь если он вскоре не объявится, Бог знает что о нас подумают.
Тетка, которая все время шла впереди, обернулась к нам.
— Вы говорите о Рауле, — сказала она. — По-моему, он сбежал. Клер вот частенько убегает. От кого она могла это унаследовать, если не от отца?
— Прошу тебя, — взмолилась матушка.
— Ладно, ладно. По-вашему, я всегда не права. Держу пари, Дени с утра ничего не ел.
— Мне и не хочется, — заверил я.
— У него амебы, — пояснила матушка.
Тетка усмехнулась.
— Все, что ему нужно, — это хорошее глистогонное. Чашечка Sanguisorba officinalis перед сном. Если бы вы только меня послушали!
Я сразу узнал запах гостиной — запах старой обивки и мастики. Мне показалось, что я вхожу в картину Рембрандта: игра света и тени. Комнату пересекал солнечный луч, пробившийся сквозь неплотно прикрытые ставни. Там и сям на старинной мебели видны были отблески света. А на стенах угадывались полотна: мундиры, рука, сжатая на эфесе шпаги, половина напудренного лица… Наш музей. В тишине я вдруг отчетливо услышал жужжание мухи. И знаешь, этот звук… мне пришлось присесть. Сразу вспомнились суда с горами трупов… Я с трудом перевел дыхание.
— Да ты совсем выбился из сил, мой мальчик, — сказала матушка.
— Извини. Это все дорога. Мне очень жаль. Я бы, пожалуй, соснул.
— Идем. Комната для гостей уже готова. А вечером вернешься в свою. Эжени ее прибирет.
Квартет довел меня до второго этажа. Голубая комната. Приветливый дневной свет. Тетушка задернула шторы.
— Если что-нибудь понадобится, вот звонок.
И впрямь рядом с кроватью на стене, словно в пьесе Лабиша, висела лента от звонка.
Я давно забыл про нее. «Боинг» компании «Эр Франс» заставил меня пересечь не только пространство, но и время. Я приземлился в другом столетии. На столике стоял стакан, графин с водой и сахарница. Кровать с балдахином принадлежала еще моему деду. Вандейский шкаф мы унаследовали от кого-то другого — может, от Антуана де ла Жоливери. А шезлонг… Короче, все здесь было историческим и дико скрипело: двери, полы, матрац, когда я на него улегся. Я с ног валился от усталости и при этом чувствовал, что не сомкну глаз. Меня трясло от возбуждения, и я никак не мог взять себя в руки. Меня, будто перепуганное животное, лишившееся привычной среды и утратившее ориентиры, снедала тревога. Лучше бы я сразу поехал в Шательгийон. Мне нужен был переход. И что теперь станется со мною — рядом с матерью, с ее застарелыми обидами, теткой, с ее дикими причудами, и сестрицей, живущей в выдуманном мире?
Я посмотрел на свои руки: их била нервная дрожь. Бедные труженицы, привыкшие колоть, резать и шить по живому, они не могли свыкнуться с неожиданной праздностью. Долго ли нам с ними суждено мыкаться без дела? Но разве в Керрареке хоть кто-нибудь приносил пользу? Поначалу, чтобы заглушить тревогу, я говорил себе: «Отец вот-вот вернется». Но что, если ему в конце концов прискучило переделывать одни и те же пустые дела, пережевывать одни и те же мысли? Лабриер может отвлечь на время. Возвращаешься в эти места и поддаешься их очарованию. Но когда они овладеют тобой до глубины души, тебя охватит тоска от этих сонных вод, вечно колеблемых камышей, таинственных голосов, вопрошающих, зачем ты живешь на свете и для чего ты здесь, среди птиц, рыб и цветов, которым от тебя ничего не надо…
Если ты и впрямь надумал написать обо мне роман, придется тебе приехать и провести здесь несколько летних месяцев.
Итак, я попытался соснуть, но тело, привыкшее к случайным ночлегам, не могло смириться с мягким матрацем, свежими простынями, благоухавшими лавандой, и мне все не удавалось принять удобное положение. К тому же теперь меня терзала мысль, что отец покончил с собой. Наконец я не выдержал, крадучись спустился вниз и пробрался в просторную комнату, служившую отцу мастерской, библиотекой и кабинетом. С одной стороны она выходила в коридор, по которому я и пришел, а с другой — в вестибюль. Мать и тетка, должно быть, сидели в необъятной кухне, откуда можно выйти прямо в огород. Ну а Клер…
Я решил, что займусь ею как можно скорее. Когда я готовился к отъезду в Таиланд, мне сказали: «Она немного отстает в развитии, но доктор Неделек считает, что это пройдет». Увлеченный своими замыслами, я ни о чем не спрашивал. Но теперь приходилось признать очевидное: состояние сестры гораздо хуже, чем я думал, а одиночество, в котором она живет, может ей только повредить. Ладно. Всему свое время. Сначала займемся отцом.
Я обошел всю комнату. Прямо на полу, лицом к стене, стояли картины — главным образом акварели; отец, всю жизнь рисовавший Лабриер, пытался передать приглушенный молочный свет — что-то среднее между небом и мечтой, и лишь с помощью акварели удавалось ему выразить то, что я назвал бы эманацией оболочки: вода, сгущавшаяся в болотную жижу, сочившаяся влагой почва, которой питается сомнительный народец — угри, саламандры и тритоны. Я не знаю, как лучше выразиться, чтобы ты понял, о чем речь. В Провансе камень — это камень. А здесь то, что кажется камнем, может обернуться лягушкой. Улавливаешь? Тогда представь, что ты давным-давно ходишь по лугам, где то и дело увязают ноги, а взгляд теряется в высоких колышущихся травах, где до твоего слуха доносится лишь завывание западного ветра на одной и той же ровной, пронзительной ноте, и подумай: не стал бы и ты в конце концов жить мечтами, не укрылся бы на ничейной полосе неясных стремлений, смутных неутоленных желаний, полузабытых разочарований? Я ясно это почувствовал, переходя от одной картины к другой — от ив к камышу, от камышей к скрюченным дубам и к соснам — и возвращаясь к тростникам, по пути, тысячекратно пройденному отцом в поисках неведомого и вечно ускользающего откровения. Я присел за письменный стол. Календарь все еще открыт на понедельнике. Выходит, они решили повременить, не стали тревожить соседей и знакомых. А сегодня пятница. Прошло четыре дня. Через четыре дня можно было бы заявить в полицию. Но я слишком устал, чтобы затевать расследование. Вызвать жандармов по телефону? Чтобы их машина переполошила всю округу и люди говорили: «Смотри-ка, не иначе как они едут в Керрарек». Мать бы мне этого не простила. Но что же делать?
Я выдвинул ящики письменного стола. Порылся. Ничего, что бы позволило мне нащупать хоть какое-то объяснение. Рядом с календарем лежала початая пачка «Житан» и коробок спичек. Хотя я почти не курю, я зажег сигарету и устроился в кресле, обдумывая очередную гипотезу.
Вдруг я вздрогнул от неожиданности, потому что кто-то положил мне на плечо руку. Клер бесшумно прильнула ко мне, и я понял, что она вновь заняла свое привычное место, как во времена, когда отец сидел в кабинете. Она улыбалась, слегка откинув голову. Я заглянул ей в глаза. Взгляд был очень мягкий, словно затуманенный.
— Совсем меня раздавила, — сказал я. — Тяжелая ты, однако.
Она ничего не ответила, лишь теснее прижалась ко мне. Почему мне тут же вспомнилась Ти-Нган? Усталость была тому причиной или боль — не знаю, но в тот же миг на глазах у меня показались слезы. То, чего я напрасно ждал от юной вьетнамки и чего так и не смог от нее добиться — беспредельного доверия, полной самоотдачи, все то, что я не умел выразить словами, теперь без всякой задней мысли предлагала мне эта беззащитная девочка, совсем еще дитя, но уже женщина! Тогда я встретил поруганную невинность. Теперь передо мной была невинность цветущая.
Хоть меня и не назовешь страстным, у меня, как и у всех, были любовницы. Не много, но вполне достаточно, чтобы убедиться, что им не следует доверять. Между ними и мной всегда стояло зеркало, в котором они любовались своей привязанностью ко мне. Но между мною и Ти-Нган его уже не было. То была полная откровенность двух отчаявшихся людей. А между Клер и мной зеркала еще не было. Она была слишком юной для этого, слишком простодушной и слишком прекрасной, распахнутой мне навстречу. Она требовала ласки, как кошка, свернувшаяся клубком у хозяина на коленях. Она ничего не говорила. Ей было хорошо.
Вдруг послышался голос матери:
— Клep, где ты? Почему не откликаешься?
Шаги смолкли. Мать сменила тон.
— Значит, вы здесь.
Она подошла поближе, и вдруг у нее вырвались поразившие меня слова:
— Клер, ступай… Иди поиграй!
И Клер послушно поднялась и вышла из комнаты.
— Если ей позволить, — продолжала матушка, — она ни на шаг от тебя не отступится. Ее бесполезно бранить или уговаривать — она никого не слушает.
— Послушай, мама, не хочешь же ты сказать, что она в двадцать с лишним лет все еще играет в куклы или в продавца?
— В двадцать два, уже почти двадцать три, — уточнила мать.
Она уселась против меня.
— Мой дорогой, нам с ней очень трудно… Ты ведь ничего не знаешь. Ты предпочел уехать, чтобы лечить чужих детей… Для тебя это было важнее… Я не осуждаю твой выбор. Но что касается Клер, тебе следует знать… Не скажу, что у нее дурной характер. Она очень привязана к нам. С ней можно разговаривать о простых, повседневных вещах. Она помогает по дому. Но у нее есть странности. Иногда она без всякой видимой причины впадает в ярость. Вернее, причина есть. Ей хочется, чтобы с ней постоянно возились. Твой отец еще может с ней ладить, потому что ее завораживают краски: правда-правда, я не преувеличиваю. Но она не может удержаться, чтобы не трогать кисти, тюбики, так что всякий раз это плохо кончается: он ее прогоняет. Тогда она топает ногами и ложится под дверью. Я не могу брать ее с собой в наш заповедник. Может, отец тебе не писал об этом… Я там работаю на полставки. Приходится возиться с бумагами, но кто, кроме нас, позаботится о Лабриере, который принадлежит нам испокон века? Многим бы хотелось его заполучить. Ты меня слушаешь?
— Извини! Я задумался о Клер… Значит, она остается одна?
Она кольнула меня взглядом.
— С ней тетя и Фушар. Главное, Фушар… Она ходит за ним как привязанная.
— Вы даете ей успокоительное?
— Успокоительное? Только этого не хватало.
— Вы когда-нибудь показывали ее невропатологу?
На сей раз ее терпение лопнуло.
— А почему бы не психиатру? — возмутилась она. — Надеюсь, ты приехал не затем, чтобы нас попрекать?
— Нет-нет, мама. Я просто спросил. Как Клер отнеслась к папиному исчезновению?
— Она выглядела встревоженной, подавленной… Кажется, даже всплакнула.
— Но ни о чем не спрашивала?
— Нет. Да она никогда ни о чем и не спрашивает… Принимает вещи такими, какие они есть. Она может выкинуть из головы то, что ее беспокоит. Тем лучше для нее.
— Ну а ты, мама? Давай спокойно все обсудим. Что ты сама об этом думаешь? По-твоему, он мог вот так, ни с того ни с сего, взять и уехать — просто потому, что ему надоела здешняя жизнь?
Мать поднялась.
— Поговорим о другом, — сказала она. — Что тебе приготовить на ужин?.. Мне нужно предупредить Эжени.
Сам понимаешь, я постарался ничем не выдать своих чувств. Мне удалось разыграть любезность.
— Ничего особенного. Овощной отвар, вермишель, что-нибудь молочное… Лекарства я привез. Не стоит беспокоиться.
— Обед ровно в семь. Не забудь.
Меня так и подмывало сказать, что там, откуда я приехал, я сам отдавал приказы… Но я предпочел промолчать.
Столовая… Теперь надо описать тебе столовую. Я далек от критики. Да и с какой стати? Просто припоминаю. К тому же это действительно прекрасная комната: двадцать четыре гостя могут здесь усесться за массивным столом — Бог весть какой эпохи! Надо будет выяснить. Когда я был маленьким, меня все это не удивляло. Тогда я еще не научился жить в тесноте. И не мог оценить простор.
Итак, большая красивая комната: с одной стороны свет льется сквозь стеклянные двери, выходящие в парк, с другой, противоположной, стороны два окна смотрят во двор, который матушка все еще именует парадным. Всюду деревянная обшивка, даже на потолке с выступающими балками, и все прочно заделано кирпичом — работа нашего славного Фушара. Ты, верно, думаешь, что на стенах висят отцовские работы. Ничего подобного. Они изгнаны отовсюду, кроме его кабинета и спальни. Сам замок, все его службы, прилегающие земли, угодья — все принадлежит матушке. У отца не было ничего, никакой собственности, кроме ренты; так что на стенах столовой ты увидишь лишь натюрморты, то есть изображения неживой природы — мертвее не бывает. Ими всегда можно полюбоваться в провинциальных магазинах: ну там, кувшинчик, три груши, гроздь винограда, непременный фазан в золотистом красно-коричневом оперении; или же карп и щука, а по бокам — серебряные подсвечники.
Отец всегда глядел поверх всего этого антуража. Целых тридцать лет.
Да, я еще забыл назвать великолепный старинный камин, вечно набитый огромными поленьями. Зимой мы ели на кухне — ее легче отапливать.
Так вот, в тот вечер мы собрались в столовой: матушка на месте хозяйки, тетя слева от нее, я — справа, а Клер рядом со мной. Стул напротив меня был опрокинут на передние ножки, спинкой на край стола. Все встали. И тут я спросил: «Мы кого-нибудь ждем?» Оскорбленное молчание. Наконец матушка процедила: «Это стул тети Антуанетты».
Элизабет поднесла к губам носовой платок. Она была взволнована.
— Клер! Веди себя прилично.
Клер, откусившая было от своей краюшки, положила ее рядом с тарелкой и снова выпрямилась, словно аршин проглотила. После краткой молитвы мать пристально поглядела на Эжени, ожидавшую дальнейших распоряжений рядом с сервировочным столиком, и наконец уселась. Мы последовали ее примеру. Я заметил, что на противоположном конце стола стула не было. Выходит, отца не числили среди пропавших без вести. Дезертиры здесь не в почете. Признаюсь, я не мог дождаться конца этого мрачного застолья, когда разговаривать никому не хотелось. Но матушка, памятуя о своих обязанностях, расспрашивала меня о моей жизни за границей. В ее воображении рисовалась фигура главного врача, в белом халате, со стетоскопом за ухом и прочими принадлежностями.
— Да, да, — вежливо соглашался я, — что-то вроде этого, хотя, пожалуй, условия там более примитивные.
Тетушка Элизабет прислушивалась к моим словам с некоторым недоверием.
— Все эти люди, — сказала она, — надо думать, коммунисты?
Впрочем, она тут же спохватилась:
— Конечно, дорогой, то, чем ты занимаешься, все же очень важно. Только не ешь так быстро. После этого нечего удивляться, что у тебя болит живот. Ты думаешь, все эти снадобья, которые лежат возле твоей тарелки, тебе помогут?
У тебя еще будет случай узнать, что Элизабет — большая мастерица перескакивать с одного на другое. Только не подумай, что она идиотка. Да и не вредная. Сам посуди: телевизора в замке нет. Только транзистор, да и тот, кроме отца, никто не слушает. Здесь получают только местную газетенку, в которой извещения о смерти и цены на рыбу занимают больше места, чем политические новости. Так что, по правде говоря, ей даже неизвестно, что этот мир существует. Она живет как в заповеднике — вроде ценных животных, которые вот-вот исчезнут. Я вовсе не суров к ней. Я просто прохожий, человек ниоткуда. Я описываю вещи такими, какими их вижу. Ну, а ты вправе потом кое-что сгладить.
Ладно! Пора кончать с этим церемонным обедом. В восемь я вышел из-за стола. Благодаря лишнему часу летнего времени сумерки здесь во Франции тянутся на удивление долго, и косые лучи солнца все еще проглядывали сквозь деревья, так что мне захотелось пройтись. Я выбрал длинную аллею, по которой можно добраться до заброшенной заводи. По обеим сторонам дороги стоят великолепные тополя, похожие на парусники во время регаты. Как я люблю неумолчный шелест листьев! Сам не знаю почему, только для меня это и есть счастье. Счастье, как в десять лет, когда я, навьючив на себя тяжелые снасти, отправлялся на рыбалку. Так, прижимая рукою бок, потому что мой желудок с трудом справлялся с обедом, я шагал, окруженный воспоминаниями. И вдруг, словно видение, возникшее из сумерек, рядом со мной появилась Клер. Она взяла меня за руку, словно маленькая девочка, которую ведут в школу, и приноровилась к моему шагу.
— Спорим, что ты удрала без спросу, — сказал я.
Она не ответила. Я не знал, как с ней говорить, опасаясь, что не найду верный тон. Вдруг это будет чересчур по-детски или, наоборот, слишком серьезно для нее. Ее застенчивость, скрытая внешней бесцеремонностью, казалась мне лишней помехой. Вместо этого я ускорил шаг, стараясь внести в наши отношения задор и веселость, которых вовсе не испытывал, она тут же, смеясь, вступила в игру. Вскоре я решился задать дурацкий вопрос:
— Знаешь, как меня зовут?
— Дени.
— Я твой брат?
— Да.
— Я тебе нравлюсь?
— Да.
— А еще кого ты любишь? Папу?
Она указала рукой в глубь аллеи.
— Папа во-он там.
Представь себе мое волнение.
Нетрудно догадаться, что я почувствовал при этих словах. Она потянула меня за собой, и вскоре мы очутились на топком песчаном берегу пересохшего ручейка. Рядом были привязаны плоскодонка из замка и каноэ, по которому не мешало бы разок пройтись лаком.
— Твое? — спросил я.
— Да.
Отпустив мою руку, она встревоженно оглянулась.
— Папа, — шепнула она.
И снова позвала вполголоса, так, что у меня защемило сердце: «Папа! Папа!»
Я притянул ее к себе.
— Не бойся. Я с тобой. Посмотри… Никого нет.
— Он злой, — сказала она.
— Думаешь, он нас поджидал?
Она закивала в ответ.
— Пошли отсюда, детка. Только не плачь.
Я вытащил носовой платок.
— Приподними-ка мордашку.
И, зажав ей нос, я потребовал:
— Ну-как высморкайся. Посильнее.
Она уже забыла свой недавний испуг и засмеялась. Темнело.
Слезы блестели у нее на глазах, как звезды. Я обнял ее за плечи.
— Пошли-ка домой. Уже пора. Ну, давай. Завтра снова придем сюда.
— А ты еще будешь здесь?
— Ну, конечно. А пока идем спать.
Матушка поджидала нас.
— Как она себя вела? — спросила она.
— Превосходно.
Она повернулась к Клер.
— Ступай наверх… Не забудь почистить зубы.
Она положила вязание, сняла очки.
— С ней ни о чем нельзя забывать. Попробуй, не скажи ей, чтобы она умылась, приняла душ… Хотя все это должно делаться инстинктивно.
— Кто подарил ей каноэ, которое я сейчас видел?
— Ну конечно отец. Разве можно делать такие подарки? Да к тому же такая лодка стоит дорого. Но он вечно твердил: «Хочу, чтобы она чувствовала себя свободной!» И упрекал меня и тетю в том, что мы ее отупляем. Он употреблял именно это слово. Отупляем! Да если дать ему волю, он бы сделал из нее какую-то цыганку.
— А что, тетя уже легла?
— Нет. Она пошла наверх вместе с Клер. Немного приберется и спустится.
Дверь в гостиную открылась. Появилась тетушка.
— Дени, не мог бы ты подняться к сестре. Она хочет, чтобы ее поцеловали на ночь. Она всегда этого требует.
— Сейчас иду.
Не без труда я поднялся по лестнице. Я и впрямь здорово устал. Глаза у Клер были закрыты. Она уже спала. Я склонился над ней.
— Спокойной ночи… Это я, Дени.
Она пробормотала сонным голоском:
— …покойной ночи, папа.
Я постарался очень подробно пересказать тебе этот день. Ручаюсь за точность диалогов. Что же касается атмосферы, с этим сложнее. Но теперь ты знаешь достаточно, чтобы понять мою обеспокоенность. Я не психиатр, но все же различил в поведении Клер кое-какие симптомы шизофрении. Исчезновение отца еще больше усложняло ситуацию.
Я долго расхаживал по своей комнате — кстати, вновь оказавшись в ней, я не испытал ни радости, ни печали. Сказать по правде, она показалась мне совсем чужой. Главное сейчас — это избрать себе линию поведения. Возможно, мне поможет старый доктор Неделек. Я подумал также о дяде Юбере, брате моего отца. А что, если он сумеет мне объяснить, что творится в Керрареке? Я еще расскажу тебе о нем подробнее, ведь скоро он займет свое место в этой истории, но пока я просто спрашивал себя, писал ли ему отец о причинах своего отъезда. Я усматривал связь между смятением, охватившим Клер, и таинственным исчезновением моего отца. Спать я лег незадолго до полуночи, вконец измотанный.
Наутро, взяв наш мопед (отец пользовался им для ближних поездок), я отправился в Эрбиньяк к доктору Неделеку. Мне придется кое-что порассказать тебе и о нем, и о его доме, чтобы твое описание было более убедительным. Ему, наверное, около шестидесяти восьми лет. Очень прямой, зимой и летом носит твидовый пиджак, бриджи для верховой езды и сапоги из кожи или парусины, всегда ходит с непокрытой головой; волосы у него белые как снег, а глаза словно незабудки.
Лабриер он знал не хуже, чем хороший садовник свой сад, или, если хотите, священник свою паству. Он распахнул мне объятия и усадил рядом с собой на скамью в тени огромной морской сосны, развесившей над нами свои разлапистые ветви и иглы. Не буду пересказывать начало нашего разговора… его удивление, радость встречи… Все это понятно без слов. Так же, как и его расспросы о Вьетнаме, Таиланде, беженцах, лагерях… Он и так много читал и был прекрасно осведомлен, но все же мой рассказ потряс его.
— А как ты? Как здоровье?
— У меня амебы.
— Знаешь, я так и подумал — ты неважно выглядишь. Надеюсь, желудок не затронут.
— Нет, и кровотечения тоже нет… Принимаю антибиотики, метронидазол — в общем, обычное лечение. Я крепкий. Справлюсь и с этим, разве что не так скоро.
— Ты здесь проездом или думаешь погостить какое-то время?
— Вы для нас почти как член семьи. И конечно, понимаете, что у меня есть обязанности.
— О да, сынок. Отлично понимаю.
Он вынул из кармана кожаный кисет, трубку-носогрейку и принялся набивать ее пожелтевшим от табака указательным пальцем. Я смотрел на его ослепительно белый дом под черепичной крышей. Как, должно быть, приятно жить там, среди цветов и птиц. Красивый полосатый кот лениво подошел к нам, принюхался, выслеживая ос.
— Я — его постоялец, — пошутил доктор. — Он довольно добродушный, если, конечно, не занимать его кресло.
Он выпустил тонкую струйку дыма и продолжал:
— Тебя беспокоит сестра?
— Да.
— Она у тебя что-то украла?
— Украла? С чего вы взяли?
Доктор покачал головой.
— Извини меня, — продолжал он. — Я старый дурак. Забыл, как долго тебя здесь не было… Да успокойся, ничего страшного не случилось. Твоя сестра — клептоманка. Точнее, она и раньше этим страдала, просто никто не обращал внимания. Знаешь, как это бывает: то ключ пропадет, то зажигалка, в общем, всякая мелочь. Где она только прячет все это? Где-нибудь в замке? Или на болоте? Надо бы за ней проследить. Хотя это все равно что выслеживать ласку. Твой отец было попробовал…
— Так он знает?
— Ну, конечно.
— А мать?
— Мать тоже. Но она едва не выставила меня за дверь, когда я с ней об этом заговорил. Как же, девушка из рода Майар де Лепиньер — и вдруг воровка! Что за кошмарная женщина! По ней, лучше совсем не лечить бедную девочку, чем показать ее невропатологу. Я тут бессилен. К тому же и с твоей тетей я в ссоре. — Он раскурил погасшую было трубку, пожал плечами и произнес: — Таких, как она, больше не делают — и слава Богу! Да ты и сам знаешь, что твоя тетка воображает, будто лекарственными травами можно излечить что угодно. Так вот, в последнее время она повадилась навещать некоторых моих пациентов — в Сен-Жоашеме, в Кроссаде, в Керфей — и, как бы между прочим, давать им врачебные советы. Самое интересное, что ей известны такие вещи, о которых я уже позабыл… синеголовник от геморроя, сок подлесника при ожогах, крестовник от болезней кожи… И мне на старости лет пришлось подучиться, чтобы не выглядеть полным идиотом, а главное — не дать ей наделать глупостей. Признайся, это уж чересчур.
Он выбил трубку о каблук и поднялся.
— Выпьешь чего-нибудь?
И тут же сел снова.
— Да что это я! Тебе ведь нельзя спиртного. Даже вина. Только минеральную воду. И нужна строгая диета. Ты сможешь соблюдать диету в Керрареке? Твоему отцу это наверняка не понравится — у него завидный аппетит.
— Отцу… Но его там нет.
— Как? А где же он?
— В том-то и дело, что это неизвестно. Он исчез. С прошлого понедельника его никто не видел. Потому-то я к вам и пришел… Да, именно поэтому. Чтобы спросить у вас совета.
— Если тебя беспокоит его здоровье, то тут я сразу могу тебя успокоить. Недели две назад я встретил его в Геранде. Мы с ним даже перекинулись словечком, и я, помнится, сказал ему, что он прекрасно выглядит. Нет, с этим-то у него все было в порядке. Он взял с собой какие-то вещи, одежду, деньги? Понимаешь, что я имею в виду?
— Мне это тоже приходило в голову, вот только… Нет, он ничего не взял.
Доктору явно было не по себе.
— Твои родители не очень-то ладили, — сказал он. — Как ни крути, а прежде всего возникает мысль о внезапном разрыве. Такое нередко случается через двадцать — тридцать лет совместной жизни… В один прекрасный день это происходит само собой, просто потому, что лопнуло терпение… Вот только как быть с Клер? Твой отец ее бы не бросил… Хотя… Даже за это я не поручусь. А он ничего не оставил? Никакой записки?
— Оставил. Он написал мне на прошлой неделе, но я тогда уже улетел из Бангкока, и теперь письмо гоняется за мной. Ну да скоро уже придет.
— Тем лучше, — с явным облегчением воскликнул доктор. — Дождемся письма, и все разъяснится. Но ты, похоже, думаешь иначе.
— Возможно, это было прощальное письмо.
— Как? Так ты считаешь, что… — Доктор долго размышлял, словно обдумывая диагноз. Наконец покачал головой: — Нет. Конечно, я могу ошибаться. Но нет. В это я не верю. Предположение первое: он уехал с какой-то женщиной. Не стоит стесняться в выражениях. На это можно возразить: будь у него любовница, об этом знала бы вся округа. Здесь ничто не проходит незамеченным. Предположение второе: он покончил с собой. Возражение: когда мы с ним виделись в последний раз, он вовсе не выглядел человеком, уставшим от жизни. Возможно, это звучит неубедительно, но поверь, у меня есть кое-какой опыт. Третье предположение: произошел несчастный случай. Он часто ходил на рыбалку. Неловкое движение. Он падает в воду, запутывается в траве, тонет. Возражение: такой человек, как он, ловкий и сильный, как браконьер, не мог утонуть. Кроме того, тогда бы нашли его лодку. Так что остается предположение четвертое. А почему бы и нет? Что, если ему вздумалось немного отдохнуть от семейных уз? Пара недель холостой жизни, в полном одиночестве, чтобы выкинуть из головы своих женщин. У него ведь есть брат, Юбер, он живет в Сенте… Я знаю, они в ссоре… Но братьям и помириться недолго. Может, он к нему поехал. Ты туда звонил?
— Нет.
— А следовало бы… Хочешь, сейчас позвоним? Только отыщу в справочнике его номер и позвоню сам.
Извини, старина. Ты вправе сказать: «Если так пойдет и дальше, сам пиши свой роман». И верно: я увлекаюсь. Все это по-прежнему стоит у меня перед глазами, вот я и не могу отвлечься от подробностей. Помню, пока доктор звонил, я расхаживал по комнате. Вскоре он вернулся, разводя руками в знак своего бессилия.
— Он ничего не знает. Конечно, страшно удивился. Наверняка он почувствовал, что я что-то недоговариваю, но вопросов не задавал. Так что тут мы уперлись в стену.
— По-вашему, следует сообщить в полицию?
— Ну нет! Ни в коем случае. Раз ты скоро получишь отцовское письмо, стоит обождать. Еще успеем… Предположим, отец тебе написал: «Я ухожу из дома. Хочу быть с женщиной, которую люблю», — и ты будешь локти себе кусать, что обо всем рассказал жандармам. Знаешь, чем дольше я думаю, тем больше убеждаюсь, что предположение один бис не стоит отбрасывать. Твой отец садится на междугородний автобус, встречается со своей возлюбленной в Нанте, где его уже ждет чемодан, и готово — он вырвался на свободу. Нет, лучше дождаться письма. А матери ты о нем говорил?
— Еще нет.
— Правильно сделал. И не говори. Она собирается обратиться в полицию?
— Нет. Пока не собирается.
— Тем лучше. Ну и дела! А ведь у вас все могло быть так хорошо. Нет, правда. Стоило лишь немного постараться.
— А как же Клер?
— Да, конечно. Но ее можно вылечить. А теперь, когда с ней ты… — Он схватил меня за руку и встал передо мной. — Дени… вот что я тебе скажу… Мне уже пора на покой. Хочу, чтобы ты стал моим преемником… Не будешь же ты всю жизнь скитаться по свету, а у меня здесь хорошая практика. С твоим именем, с твоей репутацией — в Лабриере знают о твоей работе за границей — ты бы горы мог свернуть. Я уже давно это обдумываю… Вот, пользуюсь случаем сказать тебе… Как ты, не против?
Я оказался в страшно неловком положении. Каково будет мне, бродяге, обосноваться здесь… Погрязнуть в рутине, провожать взглядом вечных странников — диких гусей, — самому оставаясь на привязи…
— Я очень тронут, — пробормотал я, — в самом деле, почему бы и нет? Но мне надо все обдумать, а пока, сами понимаете, у меня и без того забот хватает.
Мы распрощались чуть позже, после того как он показал мне дом. Ведь в этих краях, со все еще живущими по старинке обитателями, сохранились свои традиции, не лишенные очарования, — разумеется, если времени у вас в избытке. Обычаи гостеприимства здесь соблюдаются столь же неукоснительно, как у арабов, и бедный доктор весь извелся, оттого что не мог угостить меня стаканчиком мюскаде. Я обещал держать его в курсе дела. И вот я снова в Керрареке — точнее в парке Керрарека. Просто мне, прежде чем вернуться в замок, необходимо было побыть одному, чтобы обдумать то, что сказал мне доктор. Я напрямик вышел к пруду. Плоскодонка и каноэ стояли все там же, причаленные бок о бок. На часах — половина одиннадцатого. У меня оставалось время для прогулки. Без особого труда я спустил лодку на воду — она сама скользила по набухшей земле. Взял в руки длинный шест и легко вспомнил все, чему научился когда-то. Скоро протока стала шире, и я попал в заболоченный рукав, в котором отражалось утреннее небо. Забираться дальше ни к чему. Лабриер везде один и тот же. Сразу же теряешься в буйных зарослях, которые с равным успехом могли бы находиться в Бар-Эль-Газале. Тут же возникает странное ощущение, будто ты очутился в чужих краях. Ты один — и в то же время за тобой словно наблюдают тысячи глаз. Пение, крики птиц, плеск воды мгновенно стихают на твоем пути. Но они снова раздаются у тебя за спиной, как только невидимые обитатели чащи оправятся от испуга. Я сел, позволив лодке самой выбирать себе путь там, откуда, сквозь камыши и тростник, словно тропинки в лесу, звездой расходились водяные дорожки. На болоте вдруг стало очень жарко, и я скинул пиджак. Моя память бережно хранила топографию этих мест. Вот тут, где дно полого понижалось, водились лини, а там, на стремнине, Фушар забрасывал свои сети… а вон расщелина, у которой мы, бывало, часами ждали клева карпов, могучими и плавными рывками дергавших за крючок. Несмотря на прошедшие годы, все здесь, можно сказать, оставалось на своих местах. Чудилось, что я прикоснулся к вечности, и меня вдруг охватила паника, как если бы я боялся внезапно превратиться в старичка, без конца пережевывающего воспоминания молодости. Столь многого я ожидал от этого возврата в прошлое — а теперь вот ощущал лишь глубокую грусть, острую, как колотье в боку. Я задыхался. Поспешно оттолкнувшись шестом, я направил лодку, поднявшую тяжелую темную волну, в протоку, ведущую к шалашам, в которых, с наступлением холодов, охотники подстерегали уток. Шалаши были на месте. Два почти целые, а третий, похоже, вот-вот развалится. Шорох листьев за спиной предупредил меня, что неподалеку прячется какое-то животное. Я заметил, как слегка качнулись соцветия рогоза и камыша. Может, я спугнул выдру. Пролетел зимородок. Между кувшинками струилась вода, и вдруг я впервые услышал кукушку. То была пора гнездования, нереста, любовного брожения, которое вызвало у меня брезгливое чувство. Я повернул назад и, отталкиваясь шестом, подплыл к берегу. Оседлал свой мопед. Время приближалось к полудню. В прежние времена матушка бы меня отругала: «Где ты был? Разве не знаешь, что пора садиться за стол?» Честное слово, я заторопился. Во мне вдруг проснулся на славу вымуштрованный мальчуган. Я зашел в библиотеку и набрал номер нашей парижской миссии.
— Алло, Давио, это ты?.. Говорит Дени. Да-да, вполне терпимо… конечно, колики и сильное изнеможение… ах да, моя семья. Я тебе после расскажу… Ну уж чего-чего, а неприятностей у меня по горло. Я просто хочу предупредить, что постараюсь сократить свой отпуск. Торчать здесь долго я не намерен. На то есть свои причины. Месяца три, не больше. А то и меньше. А если у тебя вдруг не хватит людей… ну, будет прорыв, немедленно вызывай меня. Хочу, чтобы ты знал, что я здесь не застряну. Ни в коем случае! До скорого… Да, еще, как только получишь отцовское письмо, сразу же пошли его мне. Это очень срочно… Спасибо.
Ты не можешь себе представить, насколько мне полегчало после этого звонка. Теперь я мог спокойно ждать, что будет дальше. Словно я здесь проездом. Это всего лишь посадка в аэропорту — пусть долгая, томительная, но такое случалось и раньше; зато небо у меня над головой оставалось чистым. Будут и другие рейсы, новые перелеты. В столовой меня поджидали мои родные — точнее родственницы; они уже с нетерпением поглядывали на настенные часы. Судя по виду моей матушки, было ясно, что она думает: «Ну, весь в отца! Тоже вечно копается. Уж если ничем не занят, так можно хотя бы не опаздывать». Но я не стану подробно рассказывать тебе о наших обедах, днях, вечерах. Ты это домыслишь сам, придерживаясь заданного мной направления. И если тебе придет в голову какая-нибудь неожиданная или живописная деталь, будь уверен, что ты недалек от истины. Приведу пример: я как будто уже упоминал, что тетушка пыталась заниматься с Клер. Как-то раз после полудня я заглянул в кухню — на один час в день она превращалась в классную комнату — как раз когда бедняжка Клер сражалась с текстом из «Истории мифологии». Тетушка расхаживала у нее за спиной. «Дуб, увитый необычайно густой омелой… необычайно». Она склонилась над тетрадкой, метнула из-под очков неодобрительный взгляд и, призывая в свидетели висевшие на стене кастрюли, воскликнула: «Омела, а не омла… Ты ведь знаешь омелу! Я тебе ее давала от коклюша. Ну же, будь повнимательней… Поставь „е“ после „м“.»
Клер, уткнувшись носом в тетрадку, приоткрыв рот, словно прилежная ученица, склоняя голову то на одно, то на другое плечо, написала после «м» «Е». Тетушка взвилась:
— Да не «Е» заглавное, дуреха.
В ярости она обернулась ко мне:
— А ты что здесь торчишь! Не видишь разве, что ты нам только мешаешь?
— Прошу прощения, — извинился я, — но вы правда думаете, что от этого будет толк?
Она громко захлопнула книгу и сказала, обращаясь к Клер, сидящей к ней спиной:
— Раз твоему братцу лучше известно, что тебе нужно, пусть он сам о тебе и заботится.
И вышла вон с видом вдовы, бросающей вызов самой скорби. Клер заплакала. Я погладил ее по головке и присел рядом.
— Хочешь, я расскажу тебе сказочку… про козочку господина Сегена… Ты, верно, ее никогда не слышала.
Я отодвинул тетрадь, пенал. Она скрестила руки на столе и оперлась подбородком о запястье, засунув в рот большой палец. Эти детские жесты потрясли меня. Я не придумал ничего лучше, чем рассмеяться.
— Козочка… понимаешь… козочка…
Выставив вперед два пальца, я показал Клер рожки, но ей было не до смеха. Она полностью вошла в роль. Она была козочкой и заблудилась в горах. Невозможно было остановиться, сказать ей: завтра дорасскажу. Она была слишком обеспокоена. Предчувствовала, что вот-вот появится волк и будет очень страшно. Пришлось мне превратить волка в трусливое, жалкое, грязное животное, и вскоре он бросился наутек под могучими ударами рожек беленькой козочки. Побледневшая от страха Клер захлопала в ладоши и чмокнула меня в ухо, при этом грудь ее напряглась, как у женщины, готовой отдаться любовнику. Подобное простодушие вызвало у меня чувство болезненного протеста. Мне самому уже хотелось прикрикнуть на нее: «Будь повнимательней!» На следующий день она вновь пожелала послушать сказку про храбрую козочку.
— Сразу видно, — сказала матушка, — что ты не умеешь обращаться с детьми. С ними надо быть твердым.
После столь удачного начала спор не мог не перерасти в ссору. От упреков и обид мы перешли к психическому состоянию Клер.
— Ноги психиатра не будет в этом доме, — торжественно заявила матушка. — Это тебе всюду мерещатся сумасшедшие. Там, откуда ты приехал, их наверняка было вдоволь. Но в моей семье этому не бывать.
Бедняжка Клер! Я был уверен, что необходимое лечение восстановит ее душевное равновесие. Но потребовалось бы немало терпения и упорства. Лишь время приносит исцеление, мы же, «врачи без границ», всего лишь чернорабочие, латающие прорехи. Если бы не отцовское письмо, я бы тут же застегнул свой чемодан, и к черту Керрарек!
Но мне удалось сдержаться, и обстановка в доме разрядилась. Вскоре тетушка предложила мне осмотреть ее ботанический сад — а это значит, что она решила предать забвению мою выходку. Попытайся ты представить себе обстановку, в которой я оказался, вряд ли бы додумался до чего-либо подобного, но тем не менее это так — тетушка развела позади огорода ботанический сад. Одетая, как лаборантка, — в соломенной шляпе, длинном фартуке с карманом на животе, в сабо и, естественно, с секатором в руках, — она продемонстрировала мне лучшие свои экспонаты.
— Humulus lupulus… С папоротником и отварным ранетом это эффективное средство от меланхолии. (Подразумевается: вот что нужно Клер.) А вот корень Hypericum perforatum, или, если хочешь, лекарственный зверобой… Он отгоняет нечистую силу.
Она медленно проходила между грядками. Я шел чуть позади, потрясенный, но готовый выразить свое восхищение перед чем угодно. Чувствовал себя иноземным монархом, учтиво принимающим парад войск. Она склонилась над неказистым растеньицем.
— Когда еще не существовало этой вашей химической дряни, — пояснила она, — эта травка считалась лучшим средством от сердца.
И она почтительно пробормотала:
— Leonurus cardiaca, или пустырник.
Потом, остановившись передо мной, указала на грядку, заросшую буйной растительностью.
— Здесь все мои сиротки, — объявила она. — Сплошь непризнанные растения… Matricaria Parthenium, незаменимая при зубной боли… Plygonatum officinale… наилучшее средство от нарывов… Я им вылечила одну женщину с острова Пантий, у которой…
Вдруг она умолкла, сообразив, что сболтнула лишнее.
— Очень интересно, — отозвался я.
— О, я прекрасно знаю, что ты мне не веришь, — продолжила она через минуту. — Но в этом — вся моя жизнь.
Время от времени у нее, как и у матушки, прорывались искренние нотки, из которых постепенно складывалась картина подлинного разочарования. Помни, в замке никто не был счастлив. За случаем в ботаническом саду последовал другой: тебе бы и в голову не пришло такое. Я расскажу тебе о нем, по-моему, он этого стоит.
Как-то утром матушка отозвала меня в сторону, как всегда, с самым таинственным видом: взгляд налево, взгляд направо и, не побоюсь этого слова, ушки на макушке.
— Ты когда-нибудь вспоминаешь о тетушке Антуанетте? — спросила она шепотом.
— Ну, говоря по правде…
— Если я правильно понимаю, тебе даже в голову не пришло возложить цветы на ее могилу. А следовало бы.
— Хорошо, — отозвался я примирительно. — Решено: я схожу на кладбище.
— Если это тебе в тягость, то лучше не ходи.
Попался! Скажу «нет» — буду негодяем. Скажу «да» — окажусь ханжой.
— Давай пойдем вместе, — предложил я. Один-ноль в мою пользу. Этого она не ожидала. С минуту она присматривалась ко мне, пытаясь понять, насколько я искренен.
— Ладно, — сказал она наконец. — После завтрака. Тетушка присмотрит за Клер.
В Эрбиньяке кладбище — истинное «место успокоения», где растут цветы и порхают дрозды и пчелы. Там и сям по могильной плите пробежит ящерка, добавив к полустертому имени лишний штрих. Мне тут же вспомнились общие могилы, бульдозер, уминавший негашеную известь, которой были засыпаны тела. С яростью и болью в сердце я смотрел на ухоженные ряды крестов, на содержавшиеся в идеальном порядке часовни.
Во всем мире, там, где есть стена, обязательно появляется надпись, содержащая угрозу, оскорбление или непристойность. И только на кладбищах до сих пор стены остаются нетронутыми.
— Это здесь, — сказала матушка. Я позабыл это место, как позабыл прежние Дни всех святых[44], они стерлись у меня в памяти под мелким моросящим дождиком, скрадывавшим очертания фигур. И все же… Только представь себе: нечто вроде домика с решеткой, несколько ступеней ведут вниз, в сумрак подземного зала, над которым возвышается Святая Дева, из рук ее исходит сияние; по обе стороны склепа расположены друг над другом могилы, словно нары в лагере для военнопленных.
Последнее жилище членов семьи Куртенуа. Не всех. Лишь последних обитателей Керрарека. Матушка перекрестилась.
— И мы с Элизабет будем здесь покоиться, — прошептала она.
Мы поднялись по ступенькам, распахнули решетку.
— А отец? — спросил я.
Кивком матушка указала мне могильную плиту поодаль.
— Это для него, если он еще не передумал. Ему все равно, что там он будет лежать один.
Она ненадолго задумалась, шевеля губами. Вероятно, молилась или привычно разговаривала сама с собой. Я же пытался представить себе невыносимую совместную жизнь этого мужчины и этой женщины и, в особенности, то безысходное противостояние, которое вынудило их желать этого посмертного раздела. Вообрази, как они, по-видимому сидя в гостиной, методически составляют нечто вроде протокола происшествия. Майар против Куртенуа. Майару не место среди Куртенуа. Каждому — своя могила. И так да пребудут они во веки веков. Разъединены на вечные времена. Все это они высказывают ледяным голосом, с ненавистью взирая друг на друга. И как же я был прав, когда предпочел врачевать тяжелораненых во Вьетнаме, чем оставаться с тяжелобольными из Керрарека.
Но здесь я вынужден вернуться к тому, что до поры до времени оставалось в тени. Извини, что я продвигаюсь вперед зигзагами. Столько всего нужно сказать! Хочу коснуться моих отношений с отцом. Между матушкой и мною всегда сохранялась дистанция, и понемногу мы совершенно отдалились друг от друга. Это шло изнутри. Я зародился в ее утробе помимо ее воли, словно еще зародышем я чувствовал, когда ее тошнило по утрам, и это меня вконец озлобило. Там, в ее чреве, я был незваным гостем, чью жизнь постарались сделать невыносимой. Такова печальная участь всех нежеланных детей. Что касается отца…
Нужно было уметь читать у него в душе. Внутренне зажатый человек с подавленными желаниями. Рак-отшельник, мягкий, слабый, укрывшийся в первой попавшейся раковине, под маской художника, влюбленного в природу, жаждущего спокойной размеренной жизни. Проводивший время то на природе с ружьем наперевес, с блокнотом для эскизов в кармане, то взаперти, в своем кабинете, куда всем был закрыт доступ. Но его глаза не умели лукавить, и я всегда знал, что он меня любит. Когда я зашел поцеловать его на прощание, прежде чем отправиться в первую свою поездку, он привлек меня к себе. «Ну а теперь, — сказал он, — ты должен пожелать удачи мне». Бедный мой старый папа! В душе мы с ним всегда были заодно.
Или вот еще одна история. В молодости, во время войны, он выучил английский — это был один из видов сопротивления оккупантам. И я, когда учился в коллеже, всерьез занялся английским, кстати, эти познания сослужили мне хорошую службу в моих странствиях. Так что иногда отец в шутку заговаривал со мной по-английски, неизменно вызывая негодование матушки. Хотя, конечно, она ничего не имела против самого английского. Просто не могла смириться с тем, что мы могли прямо у нее под носом сказать друг другу что-то, чего она не понимала. Ей чудилась в этом насмешка. Когда отец, разумеется по-английски, говорил мне за столом, что мясо переварено или рыба слишком пресная, она привставала.
— Если вы намерены продолжать в том же духе, — восклицала она, — я лучше пойду на кухню.
Папа лишь посмеивался. Эти легкие уколы служили ему утешением после стычек, к сожалению, слишком частых, от которых он искал спасения среди своих книг и картин. Я бы мог привести тебе сколько угодно таких случаев. Они то и дело приходили мне на ум, когда я вышагивал вокруг письменного стола в библиотеке, в свою очередь служившей мне укрытием, — но исчезновение отца по-прежнему оставалось для меня тайной. Я уже все перерыл. Мне попались лишь ненужные бумажки, вроде счетов из гаража или квитанций на оплату электроэнергии. Ничего интересного. Я же искал банковский счет или что-то, что могло бы стать уликой в моем расследовании. Наконец от папаши Фушара мне удалось узнать кое-что полезное. Отец покупал краски в Лa-Боле, у торговца, державшего лавку напротив пляжа. Я заскочил в Ла-Боль. Не так просто оказалось что-то вытянуть из этого славного и любопытного увальня. Вскоре уже он сам задавал мне вопросы. Как, господин граф куда-то отлучился, не оставив адреса? Удивительно! Тем более странно, что он готовился к ежегодной летней выставке. Значит, он никак не мог отлучиться надолго. Словом, толку от моего собеседника было мало. Я зашел в картинную галерею, где выставлялся отец. Но и здесь не узнал ничего нового. Хотя нет: узнал, что отцовские картины пользовались всевозрастающим спросом. Из чего я заключил, что где-то у него был тайник, из которого он мог брать деньги до своего возвращения.
Шли дни. По-прежнему ничего нового. Каждое утро я выходил навстречу почтальону. Но почты было не много: местная газетенка, каталоги, письма — всегда срочные — из Лa-Редута, Труа-Сюис, реклама магнитных браслетов, заговоренных крестиков, кулонов в виде знаков Зодиака. Клер вырезала самые привлекательные картинки. Куда она их прятала? Вот мы и вернулись к Клер.
Нет, плохой из меня рассказчик. Как-то в детстве мне довелось увидеть жонглера-китайца, крутившего тарелки на конце палочки из бамбука. У него было восемь или десять таких палочек, выстроенных в один ряд, и ему приходилось то и дело перебегать от одной к другой, чтобы вновь раскрутить тарелки, готовые остановиться. Львы, слоны, воздушные гимнасты, клоуны забылись, но китаец, метавшийся от одной палочки к другой, по-прежнему стоит у меня перед глазами. Я — как этот китаец. Бросаюсь от матушки к тетке, потом к Клер, потом к Неделеку. Но если я не упомяну кого-то из них, ты потеряешь нить рассказа. Пусть, на твой взгляд, я буду неумелым жонглером, пусть я то и дело бью тарелки и меня следует освистать. И все же давай вернемся к Клер. Я не стал пересказывать матушке то, что сообщил мне доктор относительно клептомании моей сестры. Но я принял кое-какие предосторожности. Запирал свою комнату на ключ и наблюдал за больной, что было нетрудно, так как она всегда держалась поблизости. Можно даже сказать, что она вечно таскалась за мной, так что мне пришлось изловчиться, чтобы улизнуть от нее в Лa-Боль.
По утрам я еще мог располагать собой, потому что поднимался очень рано, но, стоило Клер проснуться где-нибудь в половине десятого, как она тут же прибегала ко мне, и все было кончено. Она глаз с меня не спускала. Если ты читаешь газету, твоя кошка разваливается между ней и тобою. Если пишешь, она ложится прямо на бумагу и потягивается, жмурясь от удовольствия. Клер вела себя почти так же. Разве что не мурлыкала, зато наслаждалась каждым моим движением. Копалась в моих вещах, включала электробритву, нюхала зубную пасту. Я следил за ее руками, но пока что она ничего у меня не стащила. Быть может, чувствовала, что за ней наблюдают. Или просто у меня в комнате польститься было не на что. Впрочем, что я знаю о клептомании? Возможно, толчком могло послужить волнение, или же тут все зависело от лунной фазы, а то и от капризов погоды. Я ослабил бдительность, и у меня пропал кошелек. Маленький кожаный кошелек на молнии, самый что ни на есть обыкновенный. В десять он еще лежал на камине вместе с носовым платком, тюбиком с таблетками, карманными ножницами, в общем, со всякой чепухой. Клер, как обычно, порыскала по комнате, затем ее позвала мать, и она вышла. Но она отсутствовала не больше четверти часа. Выходит, тайник был где-то в доме. Но вот вопрос: зачем ей понадобился кошелек? Может, Клер привлекали кожаные вещицы? Или клептоманы склонны воровать какой-то один вид вещей? Я притворился, будто исчезновение кошелька прошло незамеченным. Клер, видимо, тоже не ощущала ни малейшей неловкости. Но на следующее утро, едва проснувшись, я тщательно обследовал все пустующие комнаты на первом и втором этаже. Поставь себя на ее место. Она ворует сама того не ведая. Крадут ее руки. Ее воля в этом не участвует. И вряд ли она станет придумывать какой-то хитрый тайник, тем более что ее никогда никто не беспокоил. Наверняка она воображает, что все пропажи остались незамеченными. К этому следует добавить, что крадет она не затем, чтобы время от времени любоваться похищенным. С нее довольно того, что добыча сложена где-то в укромном углу. Так я рассуждал, заглядывая под мебель, шаря за креслами. И в то же время я обдумывал план. Если Клер особенно привлекает кожа, то наживкой может послужить футляр для карт или очков, что-нибудь в этом роде. А затем я попытаюсь ее выследить. Я мучился от безделья. Не забудь, что я пребывал в полной праздности. Скука, беспокойство, вечно снедавшие меня, словно холодок, бегущий по телу, вместе с раздражением отравляли мне буквально каждую минуту. К тому же я страдал мучительными приступами усталости, вынуждавшими меня прислоняться к чему угодно, к дереву или к стене. Так что слежка за Клер вносила в мою жизнь приятное разнообразие. Знать бы тогда, куда это меня заведет!
Как-то раз, когда Клер на минутку отвлеклась, мне удалось съездить в Геранду. Вот до чего дошло! Я купил красный кожаный футляр для ключей. Такой опытный рыболов, как я, не мог не знать, как сильно красный цвет привлекает окуньков, голавлей, всякую мелкую рыбешку. Так отчего же не мою сестренку? Но когда я собирался свернуть на частную дорогу, ведущую к нашему парку, в меня едва не врезалась мощная американская машина. Мы оба резко затормозили. Мопед занесло. Я оказался сидящим на земле почти у самых ног весьма элегантной особы, которая протянула руку, чтобы помочь мне подняться. Как видишь, китайский жонглер снова на сцене: здесь я вынужден, не откладывая, открыть очень пространные скобки, чтобы заключить в них рассказ о г-же Белло. Да, ты прав. То была она. И не моя вина, что она так внезапно вторглась в мое повествование. Я излагаю события так, как они происходили. Все случилось в соответствии с их логикой, а не по моей воле. Униженный и злой, я вскакиваю на ноги. Мы швыряем свои имена друг другу в лицо, словно оскорбления.
— Дени Майар де Лепиньер.
— Ингрид Белло.
— Вы превысили скорость.
— А вы держались левой стороны.
— Я здесь у себя дома.
— Я в этом не уверена.
— Как! Вы утверждаете…
— Послушайте… Возможно, это я во всем виновата. Вы не ушиблись?
— Нет. Чуть-чуть оцарапал руку.
— Тогда давайте заедем ко мне. Я живу в двух шагах отсюда. Я вас перевяжу, и может быть, мы завяжем добрососедские отношения.
Отказавшись, я бы поступил в высшей степени невежливо. Когда ты дойдешь до этого эпизода, тебе захочется узнать, как выглядела г-жа Белло.
На мой взгляд, без этого можно обойтись, ведь самый лучший портрет уступает плохонькой фотографии, ну да будь по-твоему. Представь себе роскошную шведку (во всяком случае, я ее принял за шведку из-за имени Ингрид). Оно напомнило мне Ингрид Бергман. Что-то такое в ней в самом деле было. Прекрасные серые глаза. Высокий лоб. Нос четко выделяется, все черты резко очерчены, но ничего мужского в них не было, если только ты понимаешь, что я имею в виду. Высокая, крепкая женщина, похожая на спортсменку-пловчиху. Впрочем, в строгом сером костюме она выглядела весьма элегантно.
Да, чуть не забыл. Разумеется, блондинка. Волосы заплетены в косы и искусно уложены короной. И я рядом с ней — тощий, плохо одетый, жалкий. Задрипанный граф, больше смахивающий на бродягу. Я ненавидел ее всем сердцем, но все же сел к ней в машину. Фушар меня не обманул. У Белло был прекрасный дом, окруженный соснами, скрытый от посторонних взглядов — образцовый дом, выстроенный профессионалом, дизайнером архитектурных ансамблей, одним из тех, что работают для иллюстрированных журналов. Я вдруг почувствовал, что могу гордиться Керрареком. Вероятно, у Ингрид были деньги, зато у меня… Но что это я! Во мне взыграла кровь Куртенуа. Все-таки я истинный сын своей матушки.
Ингрид провела меня в шикарную living-room — то есть гостиную. Как видишь, я знаю современный жаргон. Великолепная комната с камином посередине, настоящей английской мебелью, звериными шкурами на полу, выложенном большими черно-белыми плитами. Туда заходишь почтительно, снимая шляпу и вытирая ноги у входа.
— Что вы будете пить?
— Ничего. К сожалению, мне сейчас нельзя ничего спиртного.
— Да, я знаю, — сказала она. — Вы ведь «врач без границ». О вас много говорят, и не только здесь, но и в Нанте. Я восхищаюсь вами, г-н де Лепиньер.
Разговор сразу же принял неприятный для меня оборот. Чтобы не показаться деревенщиной, я наконец согласился выпить чашечку кофе.
— Муж очень огорчится, что не застал вас, — продолжала она. — Он так переживает из-за того, что его разногласия с вашим отцом никак не разрешатся. Ведь так просто было бы привести в порядок ту дорогу, на которой я вас чуть не сбила. Вам, конечно, все известно.
— И да и нет. Понимаете, я ведь здесь ненадолго. Так что я предоставляю отцу разбираться с размежеванием земель самому.
— Все же было бы неплохо, если бы вы с ним переговорили. Мы не будем чувствовать себя дома, пока все не уладится. Это совсем несложно — стоит лишь захотеть.
— Хотелось бы сделать вам приятное, — сказал я. — Но, к несчастью, отец сейчас в отлучке. К тому же я вспомнил… Тот участок принадлежит матери.
Ингрид отхлебнула чаю, стараясь выиграть время.
— Могу я быть с вами откровенной?
— Прошу вас.
— Если бы все зависело только от вашего отца, мы бы с ним наверняка договорились: они с моим мужем неплохо ладят. О себе я не говорю, предпочитаю держаться в стороне от этих раздоров. Но вот г-жа Лепиньер… вы ее хорошо знаете… помогите же мне.
— С ней бывает нелегко.
Ингрид улыбнулась.
— Вы, как сын, называете это так, — вздохнула она. — Вся беда в том, что она нас не любит. Похоже, она не может нам простить, что мы купили землю, назначенную к продаже. Подите поймите ее. Но мне не хотелось бы утомлять вас этими разговорами. Вы снова собираетесь ехать туда?
— Туда или еще куда-нибудь. Я как иезуит. Сам себе не принадлежу. Еду туда, куда призывает меня людское горе.
Я тут же сам на себя разозлился за эти громкие слова. Нет, я не унижусь до того; чтобы бахвалиться перед этой дамочкой, от которой за версту несет большими деньгами. Я встал.
— Вы ведь не торопитесь, — сказала она. — Пойдемте… Я покажу вам дом. Теперь, когда вы знаете дорогу, я надеюсь иногда вас здесь видеть.
Что за неприятная обязанность, старина. Тяжкая светская обязанность. «Ах, это и в самом деле очень красиво… Все говорит об отменном вкусе… А что за дивный вид на лес, просто глаз радуется…» Я вкладывал в свои похвалы злую иронию, которой она, казалось, не замечала. Она шла впереди меня, распахивала двери, вежливо сторонилась, прилежно играя роль гида. Она что, дурочка? Осмотр завершился в гараже, забитом досками, мешками с цементом, электрическими проводами. Здесь я узнал, что, по желанию владельца, двери гаража распахивались автоматически, реагируя на свет фар. В целом — боевая ничья. У Белло были деньги, у меня — имя. Возможно, именно эту мысль она и старалась мне внушить. Она отвезла меня обратно на перекресток, где на траве валялся мой мопед. Приложила палец к губам.
— Не говорите дома, что вы упали. Меня обвинят в том, что я нарочно все подстроила. Не стоит еще больше обострять отношения. — Кокетливо наклонив голову, она протянула мне руку. — Скажем друг другу «до свидания»?
Что бы ты ей ответил на моем месте? «Ну разумеется» или что-нибудь в этом духе. Признаюсь, я так и сделал. Она проводила меня взглядом. Неловко было ощущать себя объектом ее настойчивого внимания. Для нее «врач без границ» — что-то вроде панды или утконоса. Она так и осталась стоять посреди дороги, и я перестал ее видеть в зеркале заднего обзора, только когда свернул на частную аллею, ведущую к Керрареку. Но то утро поистине было утром встреч. Передо мной на велосипеде ехал почтальон. Заслышав меня, он остановился, покопался у себя в сумке и протянул мне конверт. «Г-ну Дени де Лепиньеру. Это из Парижа». Я притворился, будто мне это безразлично. Только не показывать вида при почтальоне — он здесь не последний из тех, кто влияет на общественное мнение. Но сердце у меня забилось сильнее. Я положил в карман конверт со штемпелем нашей постоянной миссии в Париже. Давио, как всегда осторожный и скрытный, засунул отцовское письмо во второй, с виду самый обычный конверт. Я пошел по тропинке, ведущей к пруду. Хотелось побыть одному. Я присел на сваленные в кучу бревна и разорвал верхний конверт. На втором было множество вычеркнутых надписей. Просто чудо, что письмо не затерялось. Нервничая, я развернул его.
My dear Дени…
Я сразу же понял, что отец пытался вернуться к доверительному тону, которым были отмечены периоды нашей самой задушевной близости. «My dear Дени» служило сигналом «SOS». Затем он продолжал по-французски:
«Я долго колебался, прежде чем написать тебе это письмо. Будь ты сейчас в Керрареке, вместо того чтобы жить в местах, которые мне даже трудно себе представить, куда проще было бы самому рассказать тебе обо всем. Верно, я бы тогда сказал тебе: „Ты знаешь, что за жизнь мне приходится вести рядом с твоей матушкой и ее сестрицей (вторая, слава Господу, умерла). Они меня ненавидят. Зато Клер любит меня слишком сильно. Втроем они просто душат меня. Не раз я был на грани самоубийства“. Но нет. Окажись ты здесь, рядом со мной, я сказал бы иначе. Наверное, так: „Недавно я встретил женщину, которую очень любил, когда мне было двадцать. И мы поняли, что наша любовь все еще жива. Поэтому мы решили уехать вместе“. Это и есть правда — в чистом виде, без прикрас. Считай: двадцать мне было году в 44-м — 45-м. Да. В самом конце войны. Она тогда жила в Сен-Жоашеме, то есть в Сен-Назерском кармане, который прочно удерживали немцы, а я служил в Поншато, в В.Ф.В., и сражался в окрестностях Лабриера. И не раз рисковал жизнью, чтобы повидаться с ней. Ромео и Сирано надо было только подняться на балкон. Мне же приходилось пробираться через болото, словно выдра, прячась от патрулей, подвергаться смертельной опасности, чтобы на мгновение сжать ее в объятиях… А потом нас разлучили. Я угодил в ловушку, женившись на твоей матери. Но сияние моих двадцати лет не угасло для меня. И если я писал Лабриер, как, пожалуй, никто другой, так это потому, что для меня он не такой, как для всех. Здесь, словно в заколдованной стране, жили мои воспоминания; здесь, в этом краю без берегов и почти без тверди, я потерял Франсуазу. Сынок, то была безумная любовь. Но любовь и должна быть безумной. И вот, раз уж, к своему стыду и великой радости, я имею честь вновь быть без ума от любви, я решился уехать со своей чудом обретенной Франсуазой. Через несколько дней я покину Керрарек. Что касается планов на будущее, они пока самые неопределенные. Мы не знаем, как станем жить дальше. Главное — это оказаться в другом месте. Прежде чем уехать, я оставлю твоей матери записку, чтобы она не вздумала всполошить полицию. Хотя она будет слишком оскорблена в лучших чувствах, чтобы поднять шум из-за моего исчезновения. Прошу тебя, не говори ей об этом письме. После я позабочусь о разводе; я не собираюсь покинуть Клер. Но пока я не могу позаботиться о ее лечении. Твоя мать упорно отказывается признать, что бедная девочка страдает неврозом. Само название, подобно сифилису, кажется ей неприличным. Но я надеюсь, что развод, который я намерен получить, сгладит все трудности. Бедной Клер придется нелегко, да и мне самому тяжело расставаться с ней, тем более что я не могу ей все объяснить. Боюсь, она уже и так что-то заподозрила. Я предпочел обойтись без сборов, лишь бы ее не настораживать. Но она — словно кошка: заранее чувствует, когда от нее что-то скрывают. Из-за нее ты вправе думать, что я поступаю дурно. В чем-то это, возможно, и так. Как знать, не позволю ли я очертя голову втянуть себя во что-то постыдное? Но ты ведь посвятил себя заботе о жертвах, любых жертвах — будь то пострадавшие от пожаров и наводнений или от восстаний и войн… Неужели ты откажешься протянуть мне, как и им, руку помощи? На свете есть не только лагеря, колючая проволока, сторожевые вышки. Существуют еще и старые замки, из тех, что так охотно фотографируют туристы, и не подозревая, какой холод и мрак царит внутри. Целую тебя, дорогой Дени.
Твой старенький, наконец-то счастливый папа Рауль».
Признаться, я чуть было не усмехнулся. Отец в роли влюбленного лицеиста! Это не укладывалось у меня в голове. Да он, бедняга, и правда верит в любовь! Так и хотелось его предостеречь. «Берегись! „Ты для меня все… ради тебя хоть в огонь“, и прочие глупости — даже пятнадцатилетние девчонки уже не верят в эти басни. А для тех, кому, как мне, довелось пожить среди разрухи, в грязи и сукровице, с этим покончено. Мы не теряем голову из-за пустяков. Тебе бы не мешало послушать о смерти Ти-Нган — тогда бы ты понял, что значит конец всему и что единственное стоящее чувство — это жалость. А тебя мне действительно жаль, бедный мой старик!»
Я бережно спрятал письмо в бумажник и не спеша отправился в Керрарек. Меня поразило, что матушка ничего не сказала мне о записке, которую оставил отец. Тяжело сознавать, что она могла быть до такой степени скрытной. Да и не одна она, а вместе с тетушкой — ведь они все говорили друг другу. С содроганием я воображал себе их шушуканье, их замечания, их злобные сплетни по поводу этого письма, которое они, должно быть, затвердили наизусть. В замке шла подготовка к штурму. Матушка и тетка совещались перед запертой на ключ дверью бедняжки Клер. В двух шагах от них Фушар с женой ждали приказов. Поверь, я нисколько не преувеличиваю. Мне вспомнилась одна фраза из отцовского письма: «Сам знаешь, каково мне приходится между твоей матерью и ее сестрицей». Я подошел поближе, готовый ответить уколом на укол.
— А, вот и ты, — сказала матушка.
— Да. Вот и я. Я что, чем-то провинился?
— Клер не желает выходить из комнаты.
— Почему?
— Потому что ты не взял ее с собой.
— Ну, с меня довольно, — возмутился я. — Если так будет продолжаться, я переберусь в гостиницу. Оставьте меня одного. Да. Подите-ка отсюда. Ступайте! Убирайтесь!
Тетушка разинула рот. Мать вцепилась ей в руку. Даже старик Фушар был потрясен моей выходкой. Все четверо отступили. Я присел на корточки перед замочной скважиной.
— Клер… Клер, открой-ка.
Из-за двери до меня доносилось ее дыхание. Последовала долгая пауза. Обернувшись, я резким взмахом руки велел им разойтись. Они исчезли на лестнице.
— Клер, так ты откроешь?
— Папа, это ты?
— Нет. Это Дени. Впрочем, какая разница… Дени, ты же знаешь. Ну, помнишь, беленькая козочка… Открой.
— Нет. Расскажи.
— Ну так вот, видит она волка, и тут…
Молчание. Я осторожно продолжаю:
— Если выйдешь, я дорасскажу… Волк был очень хитрый. А козочка и подавно.
Молчание. Наконец ключ медленно повернулся и дверь приоткрылась. Показался краешек лица, настороженный взгляд. Я развел руками.
— Вот видишь… Это я… Пришел за тобой. Пойдем поедим, а после погуляем вдвоем.
Она сделала несколько шагов и озиралась, словно искала кого-то. Я придал себе таинственности:
— Идем со мной.
И на цыпочках пошел к себе в комнату, нарочно ступая огромными шагами; она тут же включилась в игру, задирая ноги повыше, чтобы было похоже на меня. Прижав палец к губам, я показал ей, что шуметь нельзя, и она, смеясь, тоже поднесла к губам палец. Я осторожно постучался в дверь, и она прыснула от смеха.
— Т-шш!
Я вошел первым, она за мной. Я сделал вид, что вытираю пот со лба.
— Да, было жарко! Выпей чего-нибудь. Садись.
Я быстро накапал в стаканчик для полоскания зубов успокоительное, которое принимаю сам, когда меня мучит бессонница.
— Знаешь, это так вкусно… Очень-очень вкусно.
Она взяла стаканчик и доверчиво выпила. Я взглянул на часы. Четверть первого. Пора садиться за стол, а она того и гляди заснет. Не стану тебе рассказывать об этом мрачном завтраке. Мы обменивались взглядами, словно выстрелами, но матушка воздержалась от резких замечаний. Стычка произошла уже в гостиной, когда спавшую на ходу Клер отвели в ее комнату. Тетушка вязала. Мать перебирала чечевицу. Она никогда не доверяла эту работу другим, и если кому и попадался камешек, он предпочитал промолчать — матушкина сноровка не ставилась под сомнение. Я заговорил первым:
— Я дал ей успокоительное… И я хотел бы…
Матушка сухо оборвала меня:
— Не сделай твой отец того, что он сделал, она бы оставалась такой, как прежде. Верно, Элизабет?
— Ну еще бы.
— Она была послушная, покладистая и все такое… Ну, а теперь она словно обезумела.
— Так оно и есть, — отрезал я. — И если ее серьезно не лечить…
— Об этом следовало бы сказать твоему отцу. Тебе-то он, наверное, сообщил о своих намерениях.
— А тебе о них ничего не известно?
Тут мы с ней словно сцепились врукопашную. Я был доведен до предела. Я пододвинул свое кресло поближе.
— Послушай, мама. Я надеюсь, вы не станете вымещать на Клер то, что натворил отец. Клер больна… и уже очень давно. Ее необходимо лечить… и как можно скорее.
Она покосилась на меня поверх очков.
— Поместить ее в частную клинику? Это ты предлагаешь? Да-да, конечно, ты врач. И я не запрещаю тебе ее лечить. Но Клер счастлива здесь. Она прекрасно выглядит. Гуляет сколько душе угодно. Чем ей будет лучше в клинике? Разве только лекарства?
У тетки вырвался презрительный смешок.
— Что же, — продолжала матушка, — дело твое. Достань ей, что считаешь нужным. Но Клер останется с нами. В конце концов она забудет, что она сирота.
— Бедное дитя! — добавила тетушка.
Я был вне себя от злости. Мне хотелось их ударить. Хлопнув дверью, я решил поискать прибежища на болоте. Отвязал плоскодонку и позволил ей плыть по воле волн. Верно, ты считаешь, что царящий в природе покой, однообразный пейзаж, медленное движение лодки — все это способствует тому, чтобы в подобную минутку вернуть себе самообладание и хладнокровие. Так вот, ты ошибаешься: теперь я был полон негодования против отца. Ему нравилось видеть в себе жертву. Дезертир — вот кто он такой! Мне приходится разбираться с моей ненормальной матерью, ненормальной теткой и ненормальной сестрицей. Конечно, ничто не удерживало меня в Керрареке.
Стоит только позвонить Давио — и до свидания! Но довольно того, что один Майар де Лепиньер ударился в бега. Я же решил принести себя в жертву, как сказала бы эта дура, Ингрид Как-ее-там.
Эта странная мысль заставила меня улыбнуться. Мне вдруг захотелось мучить ее, причинять ей боль, раз я не сумел добиться уважения от своих домашних.
Здесь мне хотелось бы втолковать тебе то, в чем я сам так и не смог разобраться до конца. Для матери и тетки я, в сущности, так и остался мальчишкой; и пусть я продвинулся по службе — для них я так и не вырос из коротких штанишек.
Зато Ингрид — представь себе — видела во мне высшее существо, что-то вроде посланца Божия, человека исключительного, перед которым нельзя не склониться. Мне вдруг стало казаться, что одна женщина должна расплачиваться за другую. Это было нелепо, более того, гнусно. И все же эта мысль, словно жук-древоточец, проникла в какой-то участок моего мозга, на который мне бы следовало обращать побольше внимания.
Теплый ветерок гнал мою лодку вдоль протоки, над которой, едва не касаясь кувшинок, вились черные с синим зимородки. Понемногу мои обиды поутихли. Забавно будет сыграть перед Ингрид роль этакого энергичного господина, непреклонного дельца, но готового договориться с ней насчет этого права на проезд. Матушку я и не подумаю ставить в известность. Довольно будет коротких визитов. «Вы должны дать больше… Подумайте, насколько от этого возрастет ценность вашей виллы…» Дурное обращение, которому я подвергался дома, я сумею обратить против Ингрид, изводя ее ради собственного удовольствия.
То были не ясные намерения, не расчеты, не даже задние мысли; всего лишь смутные мечтания, легкий туман воображения, которому неяркий свет, проникавший сквозь высокие травы, придавал что-то призрачное. Да и кто из нас, в конце-то концов, сказал другому «до свидания»?
Я вернулся домой немного пьяный от солнца, от усталости, от скуки. В замке на всех этажах на меня дулись. Я не стал делать никаких шагов к примирению. Напротив, сел в нантский автобус, даже не предупредив никого из них, куда я еду. Я еще выдрессирую этих баб! На самом-то деле я ехал за лекарствами, которые, по-моему, были необходимы Клер. Не стану их тут перечислять, но если, по-твоему, подобные детали могут пригодиться в романе, я пришлю тебе список.
Я немного поболтался по городу, который показался мне почти неузнаваемым. Потрясающе красивый благодаря царственной реке, на которой он стоит, украшенный стрелами кранов и мачтами, словно прорисованными пером. Сделав покупки, я из чистого любопытства отыскал мебельный магазин Белло. Признаюсь, я был удивлен. Шесть этажей, заполненных всевозможной мебелью, роскошные выставки, витрины с множеством канапе, чайных и карточных столиков, маркетри, красное дерево, палисандр. Все здесь выдавало неслыханный торговый оборот. Так что мои надежды обвести ее вокруг пальца выглядели просто смехотворными. Сам лишь недавно явившись из мира, где лачуги строились из консервных банок, толя, картона и засохшей грязи, перед этими ярко освещенными стендами душой и сердцем я почувствовал себя партизаном.
— Вы пришли меня навестить? — раздался у меня над ухом голос, заставивший меня вздрогнуть. Я резко обернулся.
— Вы?
— Помилуйте, — смеясь проговорила Ингрид, — что же тут странного. Я здесь живу и как раз иду домой.
— Извините, — начал было я.
— Да за что же, Господи! Вы проходили мимо, мы встретились! Тем лучше! Теперь мы так просто не расстанемся… Могу я вас куда-нибудь подбросить?
— Спасибо, нет. Я поеду на автобусе.
— Ни в коем случае! Я сама сейчас еду на виллу и захвачу вас с собой… Поднимемся на минутку наверх. Только переоденусь во что-нибудь попроще — и в путь! Ну же! Не делайте недовольное лицо!
Ее жизненная сила буквально засасывала меня. Я пошел за ней. Отдельный лифт. Шикарная квартира.
— Сейчас переоденусь, и я к вашим услугам… Бар вон там. Угощайтесь.
— О, только стаканчик минеральной воды, — сказал я.
— Да, я знаю. Амебиаз… Доктор Неделек мне все рассказал.
— Но какое он имел право…
— У него это само вырвалось. Бедняга после второго бокала портвейна уже не может себя контролировать.
— Выходит, он говорил с вами обо мне?
— Очень много. И с такой любовью… Он, не колеблясь, утверждает, что вы незаурядный человек.
Она скрылась в соседней комнате, оставив дверь открытой, так что ее голос доносился до меня приглушенным, как по телефону, и я еще яснее различал в нем нарочито ласкающие нотки. Ошибиться было невозможно. Она старалась придать нашим отношениям дружеский, задушевный характер. Непринужденный тон… и еще что-то такое, чего я не мог не ощущать всей кожей.
— Если бы вы только предупредили, — продолжала она, — что собираетесь в Нант, было бы еще проще. Я провожу на вилле четыре дня в неделю, слежу за работами, и три дня здесь — из-за парикмахера, дантиста и прочих мелких повинностей, которые вы наверняка презираете. Ведь так?
— И потом, — добавил я коварно, — есть еще и г-н Белло, с которым все же следует немного считаться.
— Еще бы! — рассмеялась она. — А вы как думали? И с ним бы считались еще больше, не будь он вечно в разъездах.
Вдруг она показалась снова — в простеньком платьице, в джемпере без всяких затей, через руку перекинут легкий плащ. Я взглянул на часы.
— Уже поздно, — сказала она. — Но мы все же могли бы пообедать, например в Поншато.
Я почувствовал, что она ловит удобный случай на лету и что, не повстречайся я ей, она бы осталась в Нанте. В душе она уже предвкушала приятное приключение, которому неожиданность придавала особую прелесть. Отсюда на обед в Поншато, а затем… На подземной стоянке нас ждал кадиллак. Ингрид вела его опытной рукой.
— Почему вас назвали Ингрид? — поинтересовался я.
— Потому что мать у меня шведка. Отец был французом, но он давно уже погиб в автокатастрофе. Ингрид — красивое имя, верно?
— Чересчур звучное.
— Ну, если придумаете что-нибудь получше, не стесняйтесь.
Как ты, верно, уже догадался, она не преминула поведать мне историю своей жизни. Ничего захватывающего. Да и рассказывать было почти не о чем. Училась на медсестру. Проходила стажировку во Франции. Была секретаршей у парижского врача. Познакомилась с Белло и пять лет назад вышла за него замуж. Конечно, она не сказала ничего, что позволило бы определить ее возраст, но я дал бы ей лет тридцать пять — судя по тому, как она умела пользоваться жизнью, обладала опытом и привычкой в обращении с вещами и с людьми, а может, и по некоторым признакам увядания; во всем этом было что-то смутное, раздражающее и в то же время весьма привлекательное. Я понял, что ее явный интерес к моей персоне объяснялся ее знакомством с миром медицины, и вскоре смог в этом убедиться, когда настал ее черед задавать вопросы. Я заблуждался на ее счет. Она вовсе не видела во мне диковинного зверя. Скорее ее привлекала загадочность, которую она мне приписывала. Почему молодой человек довольно приятной наружности, обладатель титулов, о которых другие могут только мечтать, вдруг решается уехать в далекие края, посвятив себя отверженным? Не из-за денег. Не ради славы. Не во имя веры. В чем же тогда причина? В несчастной любви? Советую тебе развить эту тему. Когда женщина стремится разобраться в характере мужчины, чье поведение представляется ей необъяснимым, несчастная любовь — первое, что приходит ей в голову. И вот она уже увлечена, задета за живое. Ей хочется быть ему другом. Он должен рассказать ей обо всем… Она поймет. Она утешит. Старина, при малейшем намеке на утешение советую тебе спасаться бегством. А не то ты пропал. Как видишь, я остерегался. И все же, движимый любопытством и праздностью, опустошавшей мне душу, я лукаво позволил ей думать, будто уклоняюсь от ответа… Да, пока я не хотел бы об этом говорить, но я покинул Францию по причинам, которые… «Прошу вас, оставим этот разговор… Мне все еще больно вспоминать об этом…» При этих словах она даже перестала следить за дорогой. В природе самцы, обольщая самочек, рядятся в самые яркие перья. Мое же оружие — черные, траурные одежды. Меня это даже позабавило. Бедняжка Ингрид! Ведь в действительности я был бесконечно далек от нее, и все ее маневры оставляли меня равнодушным. Что ж, она сама затеяла эту игру. Не стану ей мешать. Мы пообедали в благоухающей сиренью беседке, словно влюбленная парочка. Красивая лампа со светло-желтым абажуром, какие встречались раньше в вагонах-ресторанах. Три розы в вазе с длинным горлышком. Метрдотель, внимательный как исповедник. В ночном воздухе жужжали насекомые, а из глубин моей памяти, словно обвиняя меня, всплывали далекие образы.
— Как вы сказали, дорогая мадам?
Скоро я стану ее звать «дорогая Ингрид». Все это ни к чему меня не обязывало. Блики от лампы скользили по ее лицу, зрачки вдруг вспыхивали огнем. Я был для нее частью обеда. Она смаковала морской язык по-дьепски и мелкими глоточками поглощала меня, пока я отвечал на ее вопросы. Вопросы обо всем — о моем детстве в замке, об учебе, о родителях, о друзьях… но задавала она их так мило, тактично и в то же время смело, словно мы с ней давно потеряли друг друга из вида и теперь вот радовались нежданной встрече. Если я вдруг упускал нить разговора, она не нарушала молчания, а лишь подвигала свою руку поближе к моей, словно стараясь помочь больному, который пытается справиться с приступом. После десерта настало время отъезда.
— Ведь я вас пригласила.
— Прошу вас, позвольте мне.
Короче, обычная сценка перед блюдцем, на котором лежит аккуратно сложенный счет. Ингрид ни разу не взглянула на часы. Она действовала по плану, который был мне ясен. Она ехала не торопясь, и я, что греха таить, наслаждался мягким, я бы даже сказал, убаюкивающим ходом машины, похожим на покачивание гамака. Я закрыл глаза.
— Вы устали, Дени. Верно, я злоупотребляю вами.
Я усмехнулся. Пока еще нет, но скоро непременно злоупотребит. Наконец она плавно притормозила и вдруг воскликнула:
— Боже мой, Дени, да вы знаете, который час?
— Нет. И знать не желаю.
— Четверть двенадцатого. Что подумают ваши домашние?
— Пусть думают, что хотят.
— Послушайте… На вилле есть комната для гостей, ей еще никогда не пользовались. Вы можете там переночевать. А завтра, если спросят, скажете, что ночевали в Нанте.
— Меня и не спросят.
— Так значит, да.
В голосе ее звучала радость. Мне даже захотелось дружески похлопать ее по плечу, приговаривая: «Отлично сыграно!» Здесь я предоставляю тебе полную свободу. Хочешь написать пикантную страничку — делай это на свой страх и риск. Я не уверен, что читателям так уж нравятся подобные вещи. Эротика лишь прикрывает внутреннее убожество, и мне трудно представить тебя подсматривающим в замочную скважину с мокрыми от волнения руками. К тому же все произошло так просто! Ингрид нравилось заниматься любовью так же, как есть морской язык по-дьепски, запивая его эльзасским вином. Ну а я был к ее услугам, словно любезный и хорошо воспитанный дорожный попутчик. Я соглашался участвовать в ее забавах, но и только. Все остальное, самое лучшее, мое сердце — если тебе вздумается внести в свое описание лирическую ноту — было похоронено там, далеко, рядом с той, которая отвергла меня. А знаешь, самое приятное в подобной ситуации — это лежать в постели чуть позже, испытывая легкую усталость и звон в голове. Тебе прикуривают сигарету. Шепчут: «Милый, выпьешь чего-нибудь?» Это «милый» поначалу производит странное впечатление. Ты морщишься. На тебя заявляют права, и это тебе не нравится. Но потом ты успокаиваешься. Дело не зайдет дальше, чем тебе бы хотелось. Она лежит рядом. Тихонько размышляет вслух:
— Я думаю, когда мы снова сможем увидеться.
Ведь она уверена, что у нас теперь любовная связь. О случайном приключении и речи быть не может. Она будет смертельно оскорблена, если я отнесусь к ней как к женщине легкого поведения.
— Муж возвращается послезавтра, а когда он не работает, от него не отвяжешься.
Я улыбаюсь, и она пихает меня в бок локтем.
— Похоже, тебя это нисколько не трогает.
— Только не говори, что он ревнив.
— В том-то и дело. Он чудной. С клиентами — сама любезность, сплошные улыбки, живое воплощение доверия. Зато дома — брюзга, эгоист, ворчун. Вспомни, какой шум он поднял из-за этого несчастного права на проезд.
— В таком случае остается Лабриер, охотничьи сторожки.
— И не стыдно шутить? Довольно об этом.
В девять я явился в Керрарек — с непроницаемым лицом, чтобы отбить у них охоту задавать вопросы. Но достаточно веселый, как человек со спокойной совестью. Все три женщины сидели за завтраком. Они буквально застыли, когда я вошел. Мать окидывает меня взглядом и в одно мгновение все замечает, все запоминает. Она наклоняется к тетке и говорит: «Все они одинаковы…»
Если позволишь, здесь я прервусь. Не то чтобы я выдохся. Напротив, в этом повествовании есть для меня горькая отрада; мне хотелось бы сделать его как можно подробнее, чтобы сказать себе: все это уже позади. За прошлое, причинившее мне столько страданий, теперь отвечает другой. Неважно, хорошо или плохо он об этом расскажет — лишь бы освободил меня от этой ноши. Но тут (и это уже не впервые) я сам себе противоречу: я буду разочарован, если ты слишком уклонишься от истины. И мне совсем непросто объяснить даже самому близкому другу, чем была, скажем, моя «связь» (хотя я терпеть не могу это слово) с Ингрид — по крайней мере вначале. Ты уже понял: я ее не любил. Но она-то да! С каким-то веселым задором, в простоте душевной, которая порой казалась мне неуместной, оттого что у меня самого внутри будто все выгорело. В ее любви было что-то праздничное, была потребность заразительно смеяться, на ходу менять планы. Я же, что называется, человек серьезный. Поведение Ингрид казалось мне вульгарным, оттого что она так неприлично радовалась жизни. К тому же она сразу стала фамильярной, и это меня бесило. Она не понимала, что быть любовниками не значит быть сообщниками. И все же я без особых угрызений совести позволял ей втягивать меня в свои игры. Мы встречались ежедневно — то рано утром, то после наступления темноты, когда в замке еще спали или готовились ко сну. Я пробирался к ней украдкой, словно браконьер. Мне даже не хотелось знать, кто я — дичь или охотник. Просто я желал ее. Вернее, хотел раствориться в ней, забыться, больше не слышать, как весь мир зовет меня на помощь. Я никогда не оставался у нее надолго. Случись мне задержаться, у меня возникло бы ощущение, что я участвую в супружеской измене. Можешь смеяться надо мной, но так оно и было. Я позволял себе провести с Ингрид всего час или два. Это можно было объяснить неосторожностью, слабостью и в конце концов извинить. Позволь я себе забыться надолго, я бы чувствовал себя как… ну, словом, я бы скверно себя почувствовал. Пока я просто навещал ее, это у нее был любовник. Но если бы я расслабился, любовница была бы у меня. Вот так-то. Звучит это глупо. Но подобная ложная щепетильность помогала мне мириться с самим собой. Все же мне случалось переживать:
— А вдруг твой муж узнает…
— Муж? А ты думаешь, сам-то он стесняется?
— Ты ведь говорила, он ревнивый.
— Думала, тебе это польстит. И ты больше будешь меня ценить.
— Выходит, ты солгала.
— А ты об этом жалеешь? К тому же он и правда меня ревнует… Временами. Когда его бросит очередная подружка…
Она накрыла мне рот ладонью.
— Погоди-ка… Не шевелись… У тебя тут угорь… Это никуда не годится. — И она выдавливала его ногтями, словно блоху. Она обожала изучать меня, проводила пальцами вдоль морщинок, уже прочертивших мое лицо, выдергивала волоски. — Бедняжечка, да ты седеешь. Вот до чего доводят путешествия к канакам. Молчу, молчу. Ты вправе быть для них добрым Боженькой. Я люблю тебя таким, какой ты есть. К тому же немного седины на висках — это даже шикарно.
Такие вот речи я слышал от нее — и отвечал ей тем же. Не спорю, это не Бог весть что, но благодаря им я узнал, что такое «близость». Как тебе объяснить? Вот, например, дикие звери — ты наверняка видел по телевидению. Они ласково прижимаются друг к другу, трутся головами, жмурятся, тихо урчат. Это и есть животное удовольствие от близости. Нечто такое, чего я не знал до встречи с Ингрид. Мне незачем было ей отвечать. Я к ней почти и не прислушивался. Чтобы утратить бдительность, мне довольно было того, что она жила и дышала рядом, касалась меня пальцами. Она чутко улавливала момент, когда я становился беззащитным.
— А дома ты говорил, что мы встречаемся?
— Ни к чему. Мать и так все поняла.
Так оно и было. Аромат счастья действовал на нее, словно тошнотворная вонь. Она знала, что я встречаюсь с женщиной. Не знала только, с кем, и вместе с тетушкой мучилась догадками, но в моем присутствии не позволяла себе ни малейшего намека, который мог бы спровоцировать вспышку. Молчаливый и недвижный, как стоялая вода, Керрарек был неотличим от окружавших его болот. Мой отец исчез. У сестры помутился разум. Я скрывал свои любовные дела. А мы с Ингрид обменивались безобидными репликами, за которыми лишь изредка, словно воронки на воде, скрывались недомолвки.
— А старый папаша Фушар ничего не подозревает? Когда гуляю, я его частенько вижу.
— Ну уж он-то нас не выдаст.
— Такой верный слуга? Даже не верится.
— Это не верность. Это преданность. Он — наш, и этим все сказано.
— Ты хочешь сказать, преданный как пес.
Очарование рассеялось. Одно неуместное словцо — и я готов был показать зубы.
— Ну нет, не как пес. Скорее как послушник своему аббату. Как… хотя нет… ты права… Мы здесь живем по старинке… Я и сам не понимаю. Все, что я могу сказать, — это что если бы Фушар застал нас в постели, он бы меня не осудил.
— Ну а меня? Что бы он подумал обо мне?.. Ага, вот видишь! Тебе нечего сказать.
Я прикрыл глаза. Так я давал себе еще несколько минут блаженной передышки в тепле и покое, прежде чем вернуться в свой собственный мир, совсем не похожий на мир Ингрид. Потом я одевался. Два-три прощальных наставления:
— Так не забудь: не звони мне ни под каким видом. Помни, что там за мной следят. Если тебе придется вернуться в Нант, оставь мне в дупле записку.
Признаться, это была до того глупая выдумка, что я бы предпочел о ней умолчать. Рядом с перекрестком, на котором, если помнишь, мы с ней встретились, стоял засохший дуб с дуплистым стволом; вот я и додумался использовать его в качестве почтового ящика. Место вполне надежное, и, будь нам по пятнадцать лет, меня еще можно было бы извинить. Но ты только вообрази себе, как я, бесконечно уставший от жизни, роюсь в этом дупле в поисках любовных посланий. Полная нелепость! Но Ингрид эта затея привела в восторг. Она не оставляла в тайнике настоящих писем. Нет, она бросала туда аккуратно сложенные листки, усеянные красными отпечатками полуоткрытых губ. Таким образом я едва ли не каждый день собирал урожай поцелуев. Это напоминало мне ту пору, когда мы с отцом ходили по грибы, и я вскрывал эти пустые послания с болью в сердце. Короче, за все время — а времени, по-моему, прошло немало, хотя я за ним и не следил, — нас ни разу не потревожили. Ни одного нежелательного свидетеля. Вообще никого подозрительного. Ингрид жила на вилле одна.
— Тебе здесь не страшно? — бывало, спрашивал я.
— А чего мне бояться? — отвечала она. — Кто сюда забредет? К тому же у меня есть оружие.
— Ты шутишь?
— И не думаю. Внизу стоят ружья моего мужа.
— А ты умеешь из них стрелять?
— Ну конечно. Мы с мужем уже стреляли в уток. Дорогой Дени, за кого ты меня принимаешь?
Понемногу я рассказывал ей о своей жизни в Таиланде. О Ти-Нган, разумеется, ни слова. Этого никто не должен был знать. Но постепенно, урывками, она узнала все остальное. Она умела слушать, держалась по-товарищески, к месту задавала вопросы. Мне пришло в голову, что там, на месте, она, как бывшая медсестра, была бы мне полезна. Помнится, как-то раз я даже сказал:
— Жаль, что ты замужем… А то бы я взял тебя с собой, когда поеду обратно.
Я сболтнул это просто так, не придавая никакого значения сказанному; но со временем ты узнаешь, какую важную роль сыграли мои слова. Впрочем, все, о чем я тебе пишу, чрезвычайно важно. В этой истории любая деталь похожа на зуб крутящейся шестеренки. Итак, лишь какое-то время спустя произошло событие, перевернувшее мою жизнь. Между тем лечение, предписанное мною Клер, начинало давать результаты. Она стала не такой взбалмошной, или, если хочешь, уже не изображала из себя неразумное дитя. Понятия не имею, какова была доля притворства — разумеется неосознанного — в ее обычном поведении, да это и не важно, ведь я не невропатолог. Все, чего я хотел, это чтобы она не донимала меня с утра до вечера. Я готов был гулять с ней, кататься на лодке — она обожала эти долгие путешествия по протокам, где она помнила каждый поворот, — но иногда я нуждался в одиночестве. В такие минуты я бросался на кровать и размышлял об Ингрид, об отце, о матушке, о своем положении, день ото дня все более запутанном. Я считал, что поступаю как трус, предоставив событиям идти своим чередом вместо того, чтобы отрезать по живому. Мне бы следовало порвать с Ингрид. Эта нелепая связь все равно не могла продолжаться долго и наверняка привела бы к печальным последствиям; из-за нее я не решался открыто заявить матери: «Давай поговорим о письме, которое оставил тебе отец. Ты знаешь, что он потребует развода. Как ты намерена поступить?» Меня бы ждал немедленный и жестокий отпор. «А что намерен делать ты сам с той тварью, с которой встречаешься? Достойный пример для твоей сестры!» Требуется крепкое здоровье, чтобы вынести подобные сцены; мое же было слишком подорвано, чтобы противостоять матушке и тетке. Зато я мог пользоваться обходными путями, что и сделал, не откладывая. Я пожаловался на то, что в моей комнате слишком сыро.
— Это что-то новенькое, — недовольно заметила матушка. — Раньше она тебе нравилась.
— Возможно. Но теперь она мне уже не нравится. В ней я плохо себя чувствую.
— Так что же ты хочешь?
— Папину комнату. Там окна так удачно расположены, что всю вторую половину дня светит солнце.
Матушка с теткой переглянулись. Я продолжал как ни в чем не бывало:
— Этой комнатой сейчас никто не пользуется, и очень жаль… Думаю, папа не скоро вернется… если он вообще вернется.
Пауза. Затем матушка пробормотала:
— Что за дикая мысль!
Ясно было, что мой план пришелся ей не по вкусу. Пока я жил в своей прежней комнате, я оставался сыном… блудным сыном, с которым мирятся с большим трудом, и все же, вопреки очевидности, — малолетним мальчуганом в коротких штанишках, которому нечего лезть в родительские дрязги. Если же я переберусь в отцовскую комнату, это сразу придаст мне нежелательный вес, и, возможно, тогда придется ответить на мои вопросы.
Сам понимаешь, все это высказывалось в смягченной, завуалированной форме — лишь брошенные невзначай намеки на мысли.
— Там лежат все его вещи, — продолжала матушка.
— Что ж, я их перенесу в свою комнату.
— Я думала, ты приехал всего на несколько недель?
— Чуть больше, чуть меньше, — возразил я, — что от этого меняется. Если, когда папа вернется, я еще не уеду, я, конечно, уступлю ему место.
«Папа вернется!» Я почувствовал, что эти слова действуют на нее, как игла шприца, нащупывающая вену. Но ей удалось сдержаться; вместо нее поморщилась тетка. В тот день я не стал развивать полученное преимущество, но больше не сомневался, что в конце концов вызову их на откровенный разговор. Бедный отец! Он и правда нуждался если не в соратнике, то в адвокате. Я долго катался на плоскодонке вместе с Клер, орудовавшей шестом как заправский лодочник. Она гнала лодку по водным дорожкам, о существовании которых я и не подозревал. Тростники хлестали нас по лицу, а она хохотала.
— Рассказать тебе сказку о маленьком принце?
Нет. Это ей было неинтересно. Захваченная нашим опасным плаванием, она зорко, как болотный зверек, озиралась вокруг. Кому будет поручено воспитание этой дикарки после неизбежного развода? А пока суд не вынесет решение и не кончится бракоразводный процесс, ее отправят в психиатрическую клинику. При чем же тут я? Что мне следует предпринять?
В тот же вечер я поведал о своих сомнениях Ингрид. Впервые я заговорил с ней о своем необычном семействе. Конечно, многое я скрыл и вообще старался не выдавать свое беспокойство. Сам понимаешь, я не показывал ей отцовское письмо. Просто упомянул, что он в отъезде и, вероятно, вернется еще не скоро, коснулся психического состояния сестры и той удушливой атмосферы, которая царила в замке. Выговорившись, я ощутил огромное облегчение. Если бы рядом не оказалось Ингрид, я бы, верно, излил душу деревьям, тростникам, притаившимся обитателям болот. Она слушала меня с напряженным вниманием.
— Даже не верится, — сказала она. — Настоящий роман.
Забавно, не правда ли? Ты говорил мне то же самое. Стоит мне откровенно рассказать кому-нибудь о своих родных, — осечки не бывает. Всем кажется, что я живу с героями романа.
— А как же твой отец, — продолжала она, — он ведь уехал не насовсем? Ты знаешь, как с ним связаться?
— В том-то и дело, что не знаю.
— Как же так? Выходит, он исчез бесследно?
— Пожалуй, это самое подходящее слово.
— Возможно, в этом замешана женщина?
Помявшись, я только пожал плечами.
— Разве он не был бабником? — настаивала она.
— Что за вздор! Кто тебе это сказал?
— Да нет. Я просто пытаюсь понять. Из-за чего мужчина мог вот так вдруг оставить свою семью? А твоя мать не заявила в полицию? Я бы на ее месте… Ох, извини… Я веду себя так, точно речь идет обо мне. Твоего отца я знаю только со слов мужа. У меня о нем сложилось благоприятное впечатление. Но что это доказывает? Вообще-то мужчины — жалкий народец! О тебе я не говорю… пока. Но вот Роже! Иной раз меня просто тошнит от его секретарш, клиентов… Теперь вот новая выдумка — надумал открыть магазин в Бордо. Он хочет, чтобы я поехала туда с ним на будущей неделе.
Я резко встал.
— В самом деле, бывают дни, когда ничего не ладится. Когда ты уезжаешь?
Она обняла меня.
— Останься! Ты еще не дорассказал…
— Когда ты уезжаешь?
С внезапным раздражением она отодвинулась и закурила сигарету.
— Понятия не имею. С ним всегда так: все решается в последнюю минуту… Насчет отца держи меня в курсе. И не надо сердиться. Если мне придется уехать, я оставлю тебе письмо. Не хочу, чтобы ты беспокоился.
Она потушила сигарету и прислонилась ко мне головой.
— Значит, я все-таки тебе нужна? — прошептала она. — А то иногда мне кажется, что… Ну да ладно… Ступай… Ты дуешься… Я вижу, ты не хочешь понять. Ты свободен. А я нет.
— Это надолго?
— Нет. Думаю, дней на пять-шесть.
Буду краток. Я вернулся в Керрарек в дурном настроении, не в силах ответить на мучивший меня вопрос. Дорожу ли я ею? Нет… Мне нравится с ней болтать. Но и только. Пусть уезжает, если хочет… А через пять минут я снова пытался понять: нужна ли она мне? И так без конца. Сказать по правде, даже сейчас я не сумел бы ответить на этот вопрос… Как адвокат, ты должен знать, что иногда любовь долгое время едва теплится. Мы забываем, что свет — это все-таки пламя, даже если его почти не видно. И все-таки я не доверял себе. Не забудь упомянуть, что меня одолевали сомнения. Настаивай на этом. Не бойся настаивать.
Прежде чем лечь спать, я собрал свои вещи, — они даже не заполнили чемодан. Как солдат, я вернулся во Францию с одной походной сумкой. Мне не составит труда перебраться в другую комнату. Тут я заметил, что исчез футляр для ключей из красной кожи, который я купил как приманку для Клер. Она его украла. Наверняка прямо у меня под носом, быстро и ловко, словно профессиональная воровка. Когда это произошло? Признаться, и на сей раз я не был достаточно бдительным. Голова была забита другим. Но я тут же решил возобновить слежку. Раз мое лечение ей на пользу, мне, возможно, удастся избавить ее и от этой мании?
На следующее утро я, никого не спрашивая, обосновался в комнате отца. Распахнул настежь окно, выходившее на юго-запад, в сторону Сен-Назера: в ясную погоду его корабельные краны прочерчивали небо, словно царапины. Комната была обставлена почти скудно. Отец никогда не придавал особого значения удобствам. Узкая кровать, шезлонг, кресло с потертой обивкой и громоздкий вандейский шкаф, в котором вполне поместился бы скрывающийся от погони шуан. Одежды там было не много: охотничья куртка, дубленка, два городских костюма и несколько пар брюк. Белье хранилось на верхней полке. Обувь сельского образца. Хорошо бы узнать, во что он был одет, когда уезжал из замка. Его выходной костюм висел тут же, на плечиках… Серый, Совсем новый на вид. Не забывай, что отец ехал к женщине. Следовательно, его не могло не интересовать, как он выглядит. Вряд ли бы он оделся, как деревенщина. Ты скажешь, что он боялся наткнуться на мать или на тетку. Да и Клер ходила за ним по пятам, как собачонка. Не беда! Влюбленные изобретательны. Я снял пиджак с плечиков. Дорогой материал. Хороший, хотя и строгий покрой. Очевидно, сшито на заказ. Надо будет расспросить папашу Фушара. Я не довел расследование до конца. Уж он-то наверняка что-нибудь видел или слышал. Отца не могли не заметить в обществе Франсуазы. К тому же он не мог совсем не готовиться к отъезду. Кое-какие его шаги вряд ли остались незамеченными. А с этим костюмом придется разобраться. По логике вещей, его здесь быть не должно. Разве что у отца был другой костюм, который он хранил где-нибудь в чемодане, вместе с запасом белья. В таком случае он мог встретиться со своей возлюбленной в Сен-Назере или в Нанте. Переоделся бы в гостинице и, преобразившись, пустился на поиски приключений.
Я машинально порылся в карманах… Носовой платок, перочинный нож, во внутреннем кармане — сложенный вдвое конверт. На нем был указан адрес туристического агентства на Торговой площади в Нанте. Волнуясь, я открыл его. Меня уже терзало предчувствие…
Я нашел два билета первого класса до Парижа и два авиабилета до Венеции, один на имя Рауля де Лепиньера, другой — Франсуазы Хинкль.
Пытаюсь подобрать слова, и мне в голову приходит только одно выражение: «меня точно громом поразило». Отец никуда не уезжал. Он был мертв.
А раз он мертв, значит, его убили. Словно ток высокого напряжения, моя мысль мгновенно связала одно с другим. Мозг пылал, как в огне. Я присел на кровать. В дрожащих руках я держал раскрытые веером билеты. И тут, хотя от горя у меня перехватило дыхание, я не смог удержаться от смеха. Венеция! Бедный, глупый отец. Бедненький папа! Вот о чем он мечтал! Должно быть, уже много лет. Венеция! Это бы ему возместило все. Оказаться в Венеции рядом с любимой женщиной, да еще по фамилии Хинкль! Где только он откопал такой нелепый, ребяческий план? В каком-нибудь романе прошлого века? Похоже, в нашем злосчастном семействе все буйнопомешанные.
Несколько минут я рыдал как маленький. Потом, справившись с отчаянием, я осмелился, если можно так выразиться, взглянуть прямо в глаза подстерегавшим меня гипотезам. Прежде всего, отца никто не убивал. Это невероятно. Верно, я сам рехнулся, раз мог вообразить такое. Что же тогда произошло? Очевидно, в последний момент он передумал. Чувствуя, что за ним следят, притворился, будто идет на прогулку, как обычно, и отправился к этой Франсуазе Хинкль, скорее всего в Сен-Назер, откуда они вместе отбыли в неизвестном направлении. Это и есть самое простое решение. Отбрасывая его, я вновь сталкивался с теми трудноразрешимыми, точнее, вовсе неразрешимыми проблемами, перед которыми уже остановились мы с доктором Неделеком. Это не было бегством. И это не мог быть несчастный случай. И не самоубийство. Да откуда мне знать? Разве человек, который заранее позаботился о билетах на поезд и на самолет, мог в последний момент передумать, отказаться от путешествия, сулившего ему столько радостей, чтобы скрыться вместе со своей любовницей в каком-то медвежьем углу? Уж легче представить себе внезапную размолвку, разрыв с возлюбленной, приведший его к роковому шагу. Ладно. Но в таком случае где тело? В Бриере нередко тонули люди. Но их всегда находили. Другое дело — убийство! Жертву легко зарыть. Но тогда кто? Кто это сделал? Я так растерялся, что готов был просить пощады. Спрятав билеты в свой бумажник, я повесил пиджак обратно в шкаф. Затем мне пришло в голову сверить даты, и я снова достал билеты.
Значит, я приехал в Керрарек четырнадцатого, в пятницу. Отец исчез за четыре дня до того, то есть десятого, в понедельник. Билеты на поезд были на одиннадцатое число, а на самолет — на тринадцатое. Два дня он собирался провести в Париже. Мы бы могли столкнуться в метро! Печаль душила меня. Сопоставление дат не дало мне ничего нового. Отец исчез накануне того дня, когда он рассчитывал уехать. Какой вывод можно было из этого извлечь?
Я перечел письмо. Повторил про себя слова, в которых, возможно, крылся ключ к разгадке: «Чтобы ее не насторожить, я предпочел отказаться от сборов». Да, конечно, ни в понедельник, ни в воскресенье никаких сборов не было. Должно быть, они ездили к обедне: отец за рулем старенького «пежо», матушка справа от него, Клер и тетка — на заднем сиденье. Мне было так легко, представить себе всю сцену: женщины причащались, отец тихо дремал. Он никогда мне об этом не говорил, но я и так знал, что религия оставляла его равнодушным. Разумеется, он не имел ничего против. Но узкий матушкин конформизм, строгое соблюдений всех обрядов, не говоря уже о навязчивом благочестии свояченицы, нередко выводили его из себя.
Во всяком случае, в то воскресенье он должен был соблюдать особую осторожность, быть подчеркнуто любезным, говоря себе, что с этим покончено и можно сделать последнее усилие. Ну, а за неделю до этого? Ясно, что он встречался со своей возлюбленной. И кстати — извини, что я так перескакиваю с одного на другое, но это неплохо передает душевное смятение, которое я тогда испытывал, — во что был одет отец, когда сопровождал женщин в церковь? Внезапно я ощутил уверенность, что на нем был тот пиджак, в котором я только что рылся. Наверное, он нащупывал сквозь ткань конверт с билетами. Нет, он не дремал. Скорее всего, мысленно он был уже в Венеции. Мне стоило неимоверных усилий собрать свои мысли воедино. Они, если можно так сказать, просто валились у меня из рук. Пытаясь четко сформулировать вопросы, которые я собирался задать Фушару, я почему-то вдруг вспомнил о своей наследственности. Что во мне было отцовского? Я — отнюдь не мечтатель. Но откуда тогда эта страсть к перемене мест? И еще — мой сдержанный, скрытный нрав. Даже, пожалуй, недоверчивый. Эти билеты у меня в руках — я уже знал, что не покажу их матушке. По крайней мере, пока не покажу. Сначала мне надо хоть как-то во всем разобраться. Поговорю с нашим старым слугой, попробую связаться с этой Франсуазой. Раз отец познакомился с ней еще до войны, значит, дяде наверняка что-то об этом известно, потому что в те времена они с отцом еще ладили. Вот с него-то я и начну. Он расскажет мне, что знает, или захлопнет дверь у меня перед носом, смотря по настроению. Придется попытать счастья.
Я снова убрал билеты в бумажник и тщательно ополоснул лицо. Кстати, упомяну еще об одном. Отец давно уже не пользовался ванной: его жена и свояченица добились этого своими постоянными мелочными придирками. Он довольствовался тазом и кувшином с водой. А чтобы помыться более основательно, отправлялся в прачечную: там он мог плескаться в свое удовольствие. Так что я тоже пользовался тазом. И мне почудилось, что его лицо где-то совсем рядом с моим и я сейчас узнаю все, что до сих пор было от меня скрыто. Ополоснувшись, я вынул свои вещи из чемодана и убрал их в шкаф. Я уже немного успокоился. Слава Богу, я волен распоряжаться собой и могу вести расследование, ни перед кем не отчитываясь. Да, я, как видно, куда больше, чем мне казалось, похож на своего отца. К счастью, я не такой сентиментальный. Никогда ни одна женщина не заставит меня…
Я знаю. Сейчас ты мне напомнишь об Ингрид. Но она для меня — всего лишь товарищ, к тому же способный дать добрый совет. Ей-то я и расскажу все, что знаю, и покажу билеты. Мои размышления прервал стук в дверь. Вошла Клер.
— Но где же папа? — растерянно спросила она.
Теперь дело за тобой, дружок. Я не стану досконально описывать тебе продолжение этого дня. Представь себе Клер растерянной и встревоженной, шпионящей за нами, как будто она догадалась, что мы от нее что-то скрываем. То же самое можно сказать о моей матушке и тетке, не столь чутких душевно, как Клер, но более наблюдательных, чем она. Я не умею как следует притворяться и потому обычно напускаю на себя озабоченный и вместе с тем рассеянный вид, приобретая при этом легкое сходство с инженером, доводящим до кондиции непокорное изобретение. Таким образом я ухитрялся уклониться от наиболее опасных вопросов, тех самых, что неизбежно влекут за собой ответ, а затем — недоверчивые комментарии. «Ты выглядишь утомленным сегодня утром… Не захворал ли снова?» В данном случае следует сказать: «Нет. Все в порядке». Тотчас же эти слова взвешивают, пробуют на ощупь, вплоть до невидимых вибраций. Если в их тоне слышится больше раздражения, чем усталости, родные переглядываются: «Чем же мы ему насолили? В чем он может нас упрекнуть?» Сразу же чувствуешь себя в неком насыщенном электричеством поле, готовом разразиться грозой. Итак, никаких сцен. Просто удираешь. Клер направляется вслед за мной.
— Останься, — говорит мать. — Ты же видишь, что он не хочет брать тебя с собой.
Я жаждал поговорить с Ингрид, рискуя наскучить ей своими семейными раздорами. В дупле дуба лежало письмо. Не какой-то зацелованный листок, а настоящее письмо, с которым я тебя ознакомлю. Сейчас, когда я пишу эти строки, оно все еще передо мной.
«Дорогой Дени!
Я вынуждена отлучиться на недельку. Когда мы расставались, я уже знала, что придется вернуться в Нант, но ты казался таким сердитым… Я не решилась поставить тебя в известность. По правде говоря, у нас с мужем ничего не ладится. Это тянется уже давно. Он все время меня обманывал. Признаться, у меня тоже было несколько приключений, так, обычных интрижек, за исключением одного давнего романа. Все это позабыто из-за тебя, дорогой. Тебя, такого прямого и честного человека, однолюба. Тебе-то я могу сказать: ненавижу соблазнителей, певцов серенад, сбегающих под утро через балкон. Роже из их числа. Он горазд дурачить любовниц и помыкать женой. Представь себе, что когда он не берет такси, я у него за шофера. Если ему нужен „кадиллак“, чтобы съездить в Бордо, он вызывает меня. До нашей встречи такое могло ему сойти. Теперь с этим покончено, так как я люблю тебя. Скоро я с ним объяснюсь. Взамен я ничего от тебя не требую. Лишь бы ты не покинул меня, пока будешь во Франции, ведь я знаю, что ты сейчас во мне нуждаешься. Милый, неделя покажется мне долгой, но хотелось бы надеяться, что для тебя она пролетит быстро. Что потом?.. Ничего не желаю знать о нашем будущем. Для меня важно лишь то, что я тебя люблю.
До скорой встречи, любовь моя.
Твоя Ингрид».Хочешь — верь, хочешь — нет. Казалось бы, я должен чувствовать себя польщенным, тронутым, растроганным, что там еще? Так вот, ничего подобного. Я чуть было не закричал: «Нет! Не все сразу!» Дело в том, что фраза относительно «нашего» будущего резанула мне слух, не как угроза, конечно, а как замечание, внушающее тревогу. Я не предполагал, что Ингрид настолько ко мне привязана, или, если тебе больше нравится, не считал ее способной на подлинную нежность. Возможно, я покажусь тебе глуповатым. Мне все равно. Главное для меня — изобразить для тебя мою жалкую особу. Ведь Ингрид старалась быть жизнерадостной, порой немного циничной, и я вскоре стал обращаться с ней по-свойски. А теперь она как бы говорила: «Я собираюсь бросить ради тебя мужа». Я почувствовал себя дураком. В сущности, я совсем не разбираюсь в женщинах. Где же мне было их узнать — не возле же матери, тетки или сестры… Ти-Нган, умершая у меня на руках, была моим мистическим опытом, своего рода антилюбовью, принесшей мне покой и даже больше: чуткое безразличие врача, одержимого временем и страданием. Не собиралась ли Ингрид научить меня слабости и угрызениям совести — всему тому, что пронзает сердце насквозь?
Честно говоря, я скорее рассердился. Я сунул письмо в карман, и дальше в моей памяти — провал. Затем я обнаружил, что сижу на берегу пруда, в ожидании Фушара. Возвращался ли я в замок? Кто мне сказал, что старик отправился на рыбалку? В моем фильме не хватает кадров. Это заурядные мгновения вроде тех, что вырезают при монтаже, когда хотят сократить повествование.
Я сидел на бревне у топкого берега, где лежала на отмели байдарка Клер. Показался папаша Фушар на своей плоскодонке, тащившейся по инерции. Он отложил в сторону шест и приподнял вершу, в которой копошились угри.
— Негусто, — сказал он. — Как вспомнишь, сколько, бывало, добывали.
Старик спрыгнул на землю, и я помог ему вытащить лодку на берег.
— Поглядите-ка на это. Ума не приложу, куда подевалась крупная рыба. Определенно все летит к черту… А у вас, господин Дени, все в порядке?
— Не особенно. Присядь-ка рядом… Твои угри подождут. Я хотел бы поговорить с тобой об отце.
Фушар не спеша вытащил трубку и кисет грубой кожи. Я чувствовал, что он предпочел бы оказаться в другом месте.
— Ну-ка, — сказал я, — постарайся припомнить. Не так уж давно это было… Отец исчез десятого, в понедельник, после обеда… Верно? Ладно. Не ты ли видел его последним?
— Нет, я в этом уверен. Эжени… Она видела, как господин граф удалялся по большой аллее. А я копался в гараже. Он был таким, как всегда.
— Во что он был одет?
— Жена не обратила внимания.
— А когда вы забеспокоились?
— Вечером. Это я предложил сюда заглянуть.
Не выпуская трубки, он обвел широким жестом окрестные заросли травы и камыша.
— А плоскодонка? Отец ее брал?
— Нет. Она стояла тут, рядом с пирогой. (Фушар никак не мог назвать лодку байдаркой.)
— А потом? Что ты предпринял?
— Я взял плоскодонку и осмотрел те места, где господин граф часто бывал. Он сидел так же, как мы, и курил, глядя в даль. Он забывал о времени. Но в тот раз его нигде не было.
— Скажи честно, что ты подумал, когда все поняли, что отец в самом деле исчез?
Старик призадумался, снова раскурил свою трубку и сплюнул на землю под ноги.
— Господин граф был свободным человеком, — произнес он наконец.
— Неужели у тебя нет ни малейшей догадки? Послушай… Ты же один из наших. Не заметил ли ты чего-нибудь? Я никому не скажу, но ничего не знать — такая пытка. Может, он должен был с кем-то встретиться?
Старик покачал головой. Это означало не только то, что он ничего не знает, но прежде всего, что он ни о чем не собирается рассказывать. И все же я продолжал допытываться.
— Отец брал машину на прошлой неделе?
— Меня здесь часто не бывает, господин Дени… В таком случае…
— Не мог ли он поехать в Нант?
— Как знать.
Я выждал минуту. Старик решил, что разговор окончен, и встал.
— А если он умер? — тихо сказал я.
Фушар осел, словно я подрезал ему сухожилие, и уронил трубку.
— Господин Дени… Нет… Не надо… Во-первых, это неправда… Я ничего не знаю…
Продолжая бормотать, он подобрал трубку, вершу и быстро поднялся.
— Простите, господин Дени… Некоторые слова могут накликать беду.
Фушер удалялся, сгорбленный, постаревший, и я спрашивал себя, не болен ли он.
— Эй! Не беги так быстро, — окликнул я его.
Старик оглянулся, сдвинув на затылок свою помятую соломенную шляпу. Я догнал его.
— Может, отец с кем-нибудь повздорил?
— Нет. Вовсе нет. Его очень уважали. Была, правда, тяжба с семьей Белло за право проезда через наши земли, но то была местная дрязга, и не более.
— Вот еще что. Часто ли отец ходил на охоту?
— Понемножку, в сезон. И никогда после закрытия. Я это знаю, так как сам лично чищу ружья.
Он постучал ладонью по верше.
— Мне надо отнести рыбу Эжени, господин Дени.
— Хорошо. Еще только один вопрос. Моя мать расспрашивала тебя об отце?
— Ни разу. Она слишком…
— Говори уж: слишком гордая.
— Я бы не осмелился.
— А моя тетка?
— То же самое. Ни слова.
— Спасибо. Видишь ли, я веду расследование. Такое странное исчезновение. Ну, беги!
Он стоял в нерешительности.
— Господин Дени…
— Да?
— Я хотел бы вас поблагодарить, если позволите… за малышку. Ей гораздо лучше. А мы с этой малышкой…
— Конечно, Фушар. Ты мне тоже был как дедушка. Тебе прекрасно это известно.
— Спасибо, господин Дени.
Я надеюсь, ты начинаешь понимать старика. Заметь, у него были свои маленькие слабости. При случае он слегка закладывал за воротник, грубо обращался с женой и браконьерствовал без зазрения совести, чтобы заработать на карманные расходы. Трактирщики заказывали ему, за неимением лучшего, несколько щук для свадебного пира или трапезы по случаю первого причастия. Отец всегда закрывал на это глаза. Разве болото не было неистощимым кладезем рыбы?
Однако, возвращаясь к моей проблеме, следует признать, что я не подвинулся ни на шаг. Часом позже, запершись в кабинете, я позвонил своему дяде. Мне ответила женщина. Ее звали Клеманс, и она служила у него экономкой. Что ж! Я поостерегся выказывать свое удивление. Во-первых, я доложил ей, что мое имя — доктор де Лепиньер, и во-вторых, что я намереваюсь заглянуть к дяде — о! не более чем на час, чтобы навести у него некоторые справки семейного характера. Я чувствовал, что ее распирает от любопытства. Она сказала, что дядя ушел осматривать свои ульи, но, без сомнения, он будет рад меня видеть. Я договорился о встрече на следующий день после обеда. Да будет тебе известно, что мой дядя никогда не был женат, и время от времени, когда одиночество становилось совсем невыносимым, он нанимал экономок. Жил он, как заправский крестьянин, неподалеку от Сента, в небольшом имении Мен-Андре, и разводил там пчел. Его мед славился по всей округе, и он старался посещать все ярмарки в своем департаменте. У него там был собственный прилавок, что помогало заключать неплохие сделки.
— Торгаш Лепиньер, — говаривала моя мать с кислой миной.
— Да еще с фургоном, — добавляла тетка.
Мы с ним не виделись несколько лет. Я взял в Боле напрокат «рено» и выехал после обеда, прикрываясь предлогом, вызвавшим у матери издевку.
— Как истинный врач, — замечала она, — ты печешься только о себе! В конце концов, тебе виднее… Клер, прошу тебя, не вздумай хныкать. Это бесит твоего брата. Может быть, в другой раз он возьмет тебя с собой.
Всегда, когда мы с матерью были вместе, не обходилось без бряцания мечей. Я поспешил нажать на газ и вздохнул, лишь добравшись до Сен-Назера. Затем, переправившись через Луару, доезжаешь до Ла-Рошна-Йоне и Люсона, минуя Вандею. Оставляешь позади Ла-Рошель и Рошфор. Чрезвычайно приятная прогулка! Мен-Андре находится в нескольких километрах от Сента, в направлении к Тайбургу, совсем рядом с Шарантой. Прежде чем ты опишешь эту сцену, я советую тебе туда прокатиться. Место напоминает Турень, и порой там гуляют сильные ветры, налетающие с моря.
Я приехал в Мен-Андре примерно в половине пятого, то есть слишком рано для того, чтобы дядя соблаговолил пригласить племянника на ужин. Он поджидал меня, удерживая за ошейник огромного охотничьего пса, которому я, очевидно, не слишком приглянулся.
Дядя был в клетчатой рубашке, вроде тех, что носят в ковбойских фильмах, и поношенных бархатных брюках. Он курил тяжелую изогнутую трубку и, не выпуская ее изо рта, бросил мне: «Здравствуй, племянник». Чуть позади стояла женщина лет сорока, с грубым бесцветным лицом и волосами, собранными в пучок, но у нее были красивые глаза. Дядя подтолкнул экономку вперед и сказал:
— Клеманс.
Затем он представил ей меня:
— Доктор де Лепиньер, эдакий доктор Швейцер, как поговаривают.
Мне очень не нравился такой издевательский тон, но дядя, неизвестно отчего, презирал всех тех, кто жил в Керрареке. Я поспешил поставить точки над «i».
— Я проезжал мимо, — сказал я, — и не мог миновать Сент, не поздоровавшись с тобой.
— Ладно, входи.
Он принял меня в просторной кухне, пропахшей воском и дровами для очага, с чисто шарантийской обстановкой. Я уселся напротив него, за столом, где, должно быть, когда-то кормили работников после молотьбы или сбора винограда. Мимо проносились, жужжа, пчелы; одна примостилась возле моей руки.
— Не обращай внимания, — сказал дядя. — И главное — не гони ее. Они все время летают по дому… Их привлекает запах меда… А также из любопытства… Люди интересуют их не меньше, чем цветы… А потом эти маленькие твари сплетничают. Да что ты об этом знаешь!
Клеманс принесла бутылку и стаканы.
— Это пино, — пояснил дядя. — Особого приготовления. Сейчас попробуешь.
— Только пригублю. У меня довольно скверный желудок.
— Садись здесь, рядом со мной, — сказал дядя, обращаясь к Клеманс.
Затем он наполнил стаканы, снова набил свою трубку и скрестил на груди руки.
— Ну, валяй… Что ты хочешь спросить?
— Это связано с отцом. Он исчез.
— Между нами, — ответил дядя, — ничего лучшего он не мог придумать. — Обращаясь к Клеманс: — Если бы ты знала мою невестку, то поняла бы, в чем тут дело. — Мне: — Он прихватил с собой какую-нибудь пастушку?.. Прости. Я вижу, что тебе не до шуток. Ладно. Рауль уехал и что дальше?
— Он оставил мне письмо, где рассказывает о некой Франсуазе… которую встретил во время войны, то ли в сорок первом, то ли в сорок втором.
— В сорок первом, — уточнил дядя. — Думаешь, я не помню! Твой отец мне тогда частенько писал. — Обращаясь к Клеманс: Я тебе сейчас растолкую. Мы, Лепиньеры, жили в Анжере. Наш отец был главным редактором местной газеты. Когда он увидел, какой оборот принимают дела — даже в Анжере снабжение было никудышным и, кроме того, отец боялся за нас, — он отправил нас с братом в деревню. Рауля отправили к одной его приятельнице в Геранду, а меня доверили нашей дальней родственнице, жившей в Жонзаке. Несколько месяцев спустя наших родителей арестовали, и с тех пор никто о них больше не слышал.
Воцарилась тишина. Увы, все эти детали были мне известны. Я поспешил вернуться к прежней теме.
— Как звали ту приятельницу из Геранды? — спросил я.
— Эбрар… Ивонна Эбрар. Она владела лавкой церковной литературы, рядом с собором… Заметь, что я никогда не был в Геранде… Все эти подробности я узнал от Рауля.
Тыльной стороной ладони дядя грубо отогнал пчелу, пытавшуюся сесть на край стакана.
— Эта — не из наших! — воскликнул он.
Затем, уже другим тоном, продолжая подмигивать Клеманс, он возобновил свой рассказ.
— У этой госпожи Эбрар была племянница, сбежавшая из Парижа к тете. Она была моложе Рауля… Франсуаза?..
— Франсуаза Хинкль, — живо подхватил я.
Дядя покачал головой.
— Нет… Не Хинкль.
Он сделал вид, что роется в памяти, ясно, чтобы меня подразнить.
— Франсуаза?.. Погоди-ка… В то время ее, кажется, звали Меж… Ну да, Меж. — Обращаясь к Клеманс: — Если верить брату, роскошная девица. Он писал мне лишь для того, чтобы поговорить о ней. Конечно, мне-то ему нечего было сказать… Ну, ты знаешь, что такое первая девушка, с которой встречаешься, особенно если ты — Рауль… — Мне: — Ведь твой отец — отъявленный кролик… кролик-трубадур, да будет тебе понятен мой намек… Нацеленный на главное, но прежде всего на романтику.
— У тебя, случайно, не сохранились его письма?
— По правде сказать, нет. Я не кропал стишков, а торговал на черном рынке, если хочешь знать.
Он рассмеялся с мрачным видом и снова наполнил свой стакан.
— Что стало с этой Франсуазой? — спросила Клеманс.
— Ну, думаю, она снова встретилась с моим братом, и они оба вырвались на волю. — Мне: — Я не прав?.. Проклятый Рауль!.. А ты что, за ними гоняешься?
Я с трудом сдерживался, чтобы не выпалить ему в лицо: «Твой брат мертв!», а затем заставил себя выпить глоток ликера.
— Да, — повторил я, — что стало с этой Франсуазой?
— Опять-таки если верить Раулю, после бомбежки Сен-Назера они укрылись втроем в Сен-Жоашеме, на самом болоте. Затем пришли американцы. Тогда же Рауль присоединился к партизанам из Гаврского леса. Немцы же взяли Сен-Назер в капкан. Франсуаза по-прежнему оставалась в Сен-Жоашеме вместе с теткой. У Рауля уже почти не хватало времени мне писать. Его красотка оказалась в капкане, а он умирал от любви по другую сторону реки.
— Зря ты насмехаешься, — сухо бросил я, — отец сражался. Он невероятно рисковал, пытаясь переправиться через Бриер и добраться до Сен-Жоашема.
Дядя пожал плечами.
— Полегче! Ты забываешься. Конечно, повсюду стреляли. Но ведь все понимали, что война скоро кончится, а немцы капитулируют. Поэтому их более или менее оставили в покое.
— И все же отец…
— Да ладно… Не кипятись. Рауль был героем, настоящим романтическим героем, раз уж тебе так нравится. Впрочем, эта история действительно хороша… Парень, пробивавшийся тайком через оккупированный район, чтобы свидеться с подружкой, поцеловать ее и опять упорхнуть… ведь расстояние-то было нешуточное. Да, история хороша, но закончилась она скверно. Перед самым перемирием брат подхватил вирусный гепатит. Его положили в госпиталь в Нанте, и он провалялся там несколько месяцев.
— А Франсуаза? — спросила Клеманс.
Дядя взял ее за шею и нежно встряхнул.
— Ты смотришь в корень… Франсуаза… пропала! Она села на один из первых поездов и вернулась домой, в Париж. С тех пор от нее ни слуху ни духу. Ты не жил в то время… Половина страны разыскивала другую половину… письма пропадали… Короче говоря, как только Рауль набрался сил, он начал розыск… По крайней мере, так он мне говорил… Я-то полагаю, что брат довольно быстро сдался. В конце концов он позволил себя женить. Семейство Куртенуа прибрало его к рукам. Я так до конца и не понял, что же произошло. Мне надо было жить своей жизнью… О чем ты еще хотел спросить?
— Я думал, что ты сможешь мне больше рассказать об этой женщине.
— Да что ты! Раз уж отец потрудился тебе написать, неужели он не сообщил, как снова с ней встретился?
— Как раз нет.
— А тебе не пришло в голову порыскать в Геранде?
— Но я не знал, что Франсуаза жила в сорок первом в Геранде.
— Ну, на твоем месте я отправился бы туда, поискал, поспрашивал. Что ты вообразил? Что привезешь кающегося отца в Керрарек? Ты же знаешь, что они далеко. Как! Ты не можешь оставить их в покое? Послушай, я — не любитель давать советы, но поверь мне: возвращайся к своим зулусам и забудь про все остальное. Я всегда полагал, что мой брат — простофиля, подкаблучник и даже, скажу тебе прямо, классический представитель подневольного мира мужей… Но если он сбросил цепи, отпусти его с миром, черт побери! Он вправе быть счастливым. — Обращаясь к Клеманс: — Не так ли, моя козочка? — Мне: — Теперь, раз ты спешишь, не забывай о часах. Приезжай и другой раз… Запасись временем… Мы осмотрим ульи. Это захватывающее зрелище, вот увидишь.
Так закончилась наша встреча. Я постарался ничего не забыть. Несколько выпитых капель спиртного все больше давали о себе знать, и я решил переночевать в Сенте. Из окна своего номера я смотрел, как ночь опускается на реку. Франсуаза! Может быть, это она убила отца? Я так устал, что самые безумные предположения казались мне приемлемыми. Представлялось очевидным, что бедному старику помешали уехать. Способов удержать кого-либо не так уж много. Его куда-то упрятали или уничтожили. Упрятали? Это смешно. Значит…
Зажглись фонари. На поверхности воды множились блики. Я наполовину дремал, предаваясь ленивым мечтам. Франсуаза… почему она не попыталась разыскать отца после освобождения? И когда, тридцать семь лет спустя, случай свел их вместе, была ли она вне себя от восторга, как решил отец?
«Простофиля», — сказал дядя. Нет. Однако однообразие будней его сломило, заставило потерять голову…
Я принял снотворное, чтобы положить конец раздумьям. Завтра я отправлюсь в Геранду и наведу там справки. Разумеется, у меня ничего не получится. Я вернусь в Керрарек и никогда не узнаю правды. Ах! Лучше бы я остался в Таиланде!
На следующий день я снова собрался в дорогу и поехал в противоположном направлении. Я не строил никаких иллюзий. Конечно, Франсуазы Меж в тех краях уже нет. Как знать, возможно, она тоже исчезла, не оставив следа. А я гоняюсь за призраками. Между тем в этот солнечный день поля, деревья и цветы казались более реальными и насыщенными светом, внушая мне смутную надежду на то, что Франсуаза где-то существует и я не теряю времени зря.
Геранда — ты был там вместе со мной и должен помнить — это что-то вроде уменьшенной копии Сен-Мало; она теснится вокруг собора.
Я быстро отыскал книжную лавку, о которой упоминал дядя. Книжная лавка Эбрар носила прежнее название, невзирая на время, и, без сомнения, предлагала тот же выбор религиозных книг, что и раньше. Но бывшая владелица Ивонна Эбрар, вероятно, препоручила магазин кому-то из близких родственников, никогда не слышавших о Франсуазе Меж. Внезапно я осознал, что Франсуаза была стареющей женщиной, примерно одного возраста с моим отцом. С самого начала я представлял ее себе девушкой, так как история отца была историей двух юных влюбленных, и на пороге лавки меня охватил страх. О чем я буду спрашивать? Как опишу приметы этой женщины? Брюнетка или блондинка? Высокая или маленькая?.. Можно ли было ее узнать тридцать семь лет спустя?
Я вошел, робея, как актер, позабывший свою роль. Я ждал, стоя позади священника, тихо беседовавшего с немолодой женщиной. Наконец он ушел.
— Могу ли я поговорить с госпожой Ивонной Эбрар? — спросил я.
— Мне очень жаль, сударь. Она умерла. С тех пор магазин перешел ко мне.
— О! Простите. Я разыскиваю одну женщину… Так вот… Во время войны госпожа Эбрар приютила здесь свою юную племянницу — парижанку; ее звали тогда Франсуаза Меж… Это имя вам что-то говорит?
— Да, конечно. Я не раз о ней слышала.
— Вы когда-нибудь ее видели?
— Нет. Но мне известно, что не так давно она была в Лa-Боле. Отдыхающих еще не много, и слухи распространяются быстро. Одна из моих давних клиенток встретила ее случайно… Франсуаза как раз выходила из гостиницы… Постойте… гостиницы «Эксельсиор»… Вы могли бы туда съездить.
— Проще всего позвонить, — сказал я.
Мое нетерпение было так велико, что я не стал дожидаться ее ответа и набрал номер гостиницы.
— Можно поговорить с госпожой Хинкль? Франсуазой Хинкль… Если только она еще у вас.
— Госпожа Хинкль… Да, она здесь второй месяц.
— Вы можете меня с ней соединить?
— Она только что вышла… Желаете что-нибудь передать?
В гостинице «Эксельсиор» мне сообщили не много нового. Госпожа Франсуаза Хинкль жила в номере сто двенадцать. Она приехала в конце апреля, много гуляла, всегда в одиночестве. Переговорив с ней, швейцар понял, что она — француженка.
— Вы не знаете, куда она могла пойти?
— О! Вы наверняка найдете ее на пляже. Дама в сером, под красным зонтом. Народа пока негусто. Я даже сомневаюсь, что…
Швейцар подозвал посыльного.
— Проводи этого господина. Надо лишь пройти через бульвар. Будет очень странно, если вы ее там не увидите.
Здесь ты можешь дать волю описаниям и, по своему усмотрению, держать читателя в напряжении. Я же только предлагаю тебе свой, так сказать, вахтенный журнал. Но голые факты иногда — довольно волнующая вещь. Нет смысла ничего добавлять.
Красный зонт был, конечно, там, недалеко от пенистой кромки лениво набегавшего прибоя. Сначала я направился к воде, а затем повернул в сторону дамы в сером, чтобы она видела, как я приближаюсь, и не испугалась. Женщина вязала и была настолько поглощена своим занятием, что подняла голову, лишь когда я смущенно остановился в нескольких шагах от нее. Сдвинув очки на лоб, она посмотрела на меня в упор и уронила свое вязание.
— Вы — его сын! — пробормотала она.
Клянусь тебе, все так и было. Затем она добавила:
— Как вы на него похожи!
Признаться, я был ошеломлен и не мог выдавить из себя ни слова. Тогда женщина спросила:
— Ведь вы Дени, не так ли? Дени де Лепиньер?
— Да… Я ищу госпожу…
Она не дала мне договорить.
— Это он вас послал?.. О! Ему незачем извиняться. Теперь я понимаю, почему он не пришел.
Ее лицо когда-то, видимо, было красиво. Особенно темные, но искренние глаза. Эта женщина не умела лгать. Чтобы скрыть свое смущение, я сел рядом с ней на горячий песок. Франсуаза слегка отодвинулась.
— Никто меня не посылал, — сказал я. — Когда я приехал, отца уже не было. Ладно, давайте по порядку. Вы, конечно, знаете, что я работал в Таиланде? Отец ведь успел рассказать вам обо мне?
— О да! — воскликнула она. — Он вами очень гордится.
— Да… Так вот… Я там заболел и вернулся домой, не успев сообщить о своем приезде. Если быть точным, я приехал четырнадцатого, а отец ушел из дома десятого при довольно загадочных обстоятельствах.
Я замолчал в нерешительности. Следовало ли показать ей билеты? Я решил подождать.
— Но куда же он отправился? — живо спросила она.
— Не знаю. Но я прочел о его планах в одном письме… Вы должны были уехать вместе одиннадцатого. Почему же тогда он исчез десятого? Вот что я пытаюсь выяснить.
Франсуаза казалась очень взволнованной, нервно сжимая и разжимая руки.
— Мне кажется, Рауль одумался, — сказала она. — В последний момент он, видимо, понял, что мы оба сошли с ума. Простите. Это сильнее меня.
С трудом сдерживая слезы, женщина поспешно стала искать в сумочке носовой платок.
— Особенно он, — продолжала она. — Сколько я ему ни говорила…
— Давайте вернемся к самому началу, — предложил я. — Отец никогда мне о вас не рассказывал до этого письма. Я ничего не знаю о вашей…
Я запнулся, подыскивая подходящее слово. Не «связь», не «роман»…
— Я ничего не знаю о вашей истории, — закончил я.
— Вы ошибаетесь, — произнесла она твердым голосом. — Мы были помолвлены, но… (ее голос снова дрогнул) это было военное время… этой помолвкой мы хотели взять реванш над всеми лишениями, продовольственными карточками, талонами… И потом, мы были так молоды. Посчитайте! Кроме того, оба беженцы. Разве ваш отец никогда не упоминал о том времени?
— Иногда. Он любил вспоминать о том, как сражался. Мы всегда над этим немного посмеивались.
— Совершенно напрасно. Это правда. Сначала, спасаясь от оккупантов, он несколько месяцев прятался в Бриере. После бомбежек Сен-Назера мы с тетей укрылись в Сен-Жоашеме и с огромным трудом снабжали Рауля провизией. Как только стало возможно, он ушел к партизанам. Затем произошла высадка союзников. Вы слышали о Сен-Назерском кармане?
— Да! А как же!
— Ну вот, Рауль каждую неделю, в любую погоду пробирался туда с риском для жизни, чтобы провести со мной часок.
— Но… можно спросить вас, что…
Она оборвала меня движением руки, смахивавшим на присягу.
— Я понимаю, что вы имеете в виду. Нет, в то время девушки были обязаны себя блюсти. Противозачаточных таблеток еще не было. Вдобавок тетя не спускала с меня глаз. Да и жили мы в атмосфере постоянного возбуждения, где всего было намешано: страх, любовь, желание выжить, нужда и безумное ожидание неясного будущего.
Внезапно я вспомнил о лагерях беженцев и взял ее за руку.
— Прошу вас… Я знаю… Ладно… Война закончилась. Что было дальше?
— Я вернулась домой, в Париж.
Она машинально взялась за свое вязание, подобрала укатившийся клубок шерсти и положила его к себе на колени. Мой взгляд упал на ее обручальное кольцо с бриллиантами. Я продолжал допытываться:
— Затем… мой отец тяжело заболел. Вам это было известно?
Франсуаза долго молчала. Трое всадников проскакали по берегу у самой воды, разбрызгивая пену и вздымая песок. Пляж был окутан голубой дымкой. Теперь она могла говорить. Мы были одни.
— Рауль меня понял, — пробормотала женщина. — Я ему все объяснила.
Мне очень не нравилось, когда Франсуаза говорила: Рауль, как будто она была нашей родственницей, несмотря на то, что…
— На самом деле, — сказал я, — вы не пытались снова с ним встретиться. Почему?
— Вам не кажется, что нет смысла ворошить былое?
— Возможно. Но я расспрашиваю вас исключительно для себя. Кое-что мне неясно… Девушка была по уши влюблена, и вдруг она не подает признаков жизни.
— Неправда. Я писала тете, но безуспешно. А в Париже мне приходилось крутиться. Мы с матерью сидели без денег. Конечно, это была уже не прежняя нищета мрачных военных лет. Скорее наоборот, поскольку все изменилось… как вам сказать? Мы еще нуждались во всем и в то же время — я этого никогда не забуду — жизнь кружила мне голову. Я словно заново родилась и каждый день стремилась к обновлению, махнув рукой на прошлое. Я не пытаюсь оправдываться. Вам не кажется, что обстоятельства влияют на наши чувства? У меня это так… По воле случая я встретила американского солдата Вальтера Хинкля, получившего увольнение. Ну, и вот… Я вышла за него замуж. Он увез меня к себе, в Лонгвью, штат Вашингтон.
— Представляю.
— Как? Вы там бывали?
— Нет. Но если где-то происходит извержение вулкана, землетрясение, наводнение или начинается война, меня тут же мобилизуют. У меня в голове — карта горячих точек. Я наслышан о вашем вулкане и о близлежащей местности.
Я засмеялся, чтобы показать ей, что не воспринимаю наш разговор слишком серьезно. Франсуаза стала миссис Хинкль… Ладно… Разве я сам не способен бросить Ингрид, а ведь она мне небезразлична. Меня беспокоила только судьба отца, и больше ничто на свете.
— Мой муж работал директором целлюлозно-бумажной фабрики, — продолжала она. — Мы были счастливы. Видите… Я ничего от вас не скрываю. Я потеряла мать и не думала больше о Франции.
— У вас не было детей?
— Нет. А затем, в прошлом году, умер мой муж. И как-то так получилось, что я снова стала вспоминать Париж, Геренду и Бриер…
— Может быть, и моего отца?
— Да, но как потерянного друга, свидетеля другой жизни.
— Вы не знали, что он женился и живет в Керрареке?
— Понятия не имела. Поверьте, я решила поехать во Францию не из-за ностальгии. Просто пора было сменить обстановку, как все делают. Времени и денег хватало. Мне очень хотелось попутешествовать. И вот я провела две недели в Париже, а затем сняла комнату в Лa-Боле.
Я лег на спину, скрестив руки на затылке. Я в самом деле страшно устал. Бедный отец! Какая досада! И любовь на фоне всемирного абсурда, что за нелепая шутка! Сколько сердец бьются впустую! Я слышал крики чаек, резвившихся неподалеку и гомонивших, как куры на птичьем дворе.
— В один прекрасный день вы снова его встретили, — сказал я с иронией. — Снова по воле случая.
Опустив глаза, женщина посмотрела на меня с упреком.
— Вы мне не верите. И все же это так: по воле случая. Как-то раз, с утра пораньше, я бродил по рынку… Люблю французские рынки… Там отдыхаешь душой от наших гигантских универсамов, как вы их, называете. Рауль тоже бродил там. Мы столкнулись. Он поклонился мне, извиняясь, и…
— И… что?
— И мы поцеловались среди капусты и салата. Вот так. Сразу… Вскоре нам стало неловко. Целая жизнь пролегла между нами, как пропасть… Потом мы зашли в кафе. Он держал меня за руку. Мы смотрели друг на друга, как раньше, но говорили сегодняшним языком… Это грянуло как взрыв. Мне трудно вам объяснить… Я была потрясена, а Рауль и подавно… Поймите меня правильно… Как он ни старался весьма великодушно затушевать прошлое, я все же оставалась предательницей… Меня не покидало острое чувство вины перед ним, и поэтому я уже не могла его удержать… Понимаете…
Франсуаза замолчала на миг, а затем продолжала:
— С каждым днем Рауль становился все более неспокойным… Он предлагал все начать сначала, а я, одинокая, свободная и праздная женщина, внимала ему, если быть совершенно откровенной, с волнением и скепсисом… Знаете, как мы слушаем речистого проповедника, заражающего нас своей верой на час.
— Простите… Вы сказали: «с каждым днем». Значит, вы встречались каждый день? Это меня удивляет.
— Все было как во время войны. Рауль принимал невероятные меры предосторожности. Мы снова играли в любовь. Я садилась на первый утренний автобус в направлении Сен-Лифара. Я-то ничем не рисковала: меня никто не знал… а он приезжал ко мне на лодке. Вероятно, все в замке еще спали, когда он ускользал.
Я подумал о своих собственных проделках. Мой отец с его Франсуазой. Я с Ингрид… У них — плоскодонка; у нас — дуплистое дерево. Итак, я объехал полсвета, чтобы, вернувшись домой, повторить на свой лад этот нелепый роман!
— Ладно, — недовольно произнес я, — отец к вам приезжал. Что же было дальше?
— Рауль вез меня через болото по едва заметным каналам и говорил, говорил… Рассказывал мне обо всем. Прежде всего о вас — он так сильно вас любит. Затем о своей жене, свояченицах, дочери… А также о своих картинах… Нередко Рауль внушал мне жалость, но большей частью завораживал, так как жизнь, которую он описывал, была не похожа на жизнь других.
— Неужели вас не засекли?
— Ни разу. Иногда он внезапно умолкал и жестом приказывал не двигаться. Мы слышали какое-то шуршание в камышах, либо взлетала птица… Рауль шептал с улыбкой заговорщика: «Кто-то браконьерствует неподалеку».
— Когда же он предложил вам бежать?
— В тот день, когда я сказала, что мой отдых подходит к концу. Мы как раз находились между островом Пандий и Пьер-Фандю. Стоял сплошной туман. Рауль загнал лодку в камыши и сел рядом со мной. «Хочешь, чтобы мы в самом деле потерялись?» — спросил он и посвятил меня в свой план. Ваш отец все продумал. Он твердо решил покинуть замок, семью… всех. Я не могла ему сказать: «Рауль, я очень тебя люблю… Но, в конце концов, вспомни, сколько нам лет… Мы уже не дети…» Я пыталась найти другие аргументы. Он отметал их один за другим. «Ведь ты меня любишь!» — повторял он снова и снова. Я уже предала его один раз и была не в силах его разочаровать.
Женщина сложила руки на своем вязании и устремила взгляд вдаль, на пустынную гладь моря.
— Тут есть и другая причина, — прошептала она. — По-своему это было прекрасно — стремление не отрекаться от счастья, пусть даже призрачного счастья. Я всегда жила приземленно. В то время как он…
— И вы не стали ему мешать? — спросил я.
— Да, — ответила она. — Так было честнее, пусть это слово вас не шокирует. Но я поклялась себе открыть ему глаза немного позже, когда… ну, скажем, после того, как утихнет первый огонь. В любом случае он хотел уехать… Безысходность лишь разжигала его любовь. Я ничего не могла поделать… Он хотел, чтобы мы непременно отправились в Венецию, а я…
Я прервал ее:
— Что он намеревался делать после Венеции?
— Думаю, рассчитывал последовать за мной в Америку.
— Это не укладывается в голове. Там же куча всяких формальностей. Нужна виза…
— Это бы его не остановило.
— Допустим. Я снова задам вам вопрос: почему он уехал один? Расскажите мне о двух-трех предшествующих днях… Вы сказали, что отец выглядел возбужденным. Что это значит?.. Возбужденным от счастья или от болезни? Если он был в критическом состоянии, то мог устроить истерику либо потерять память.
Эта мысль, до сих пор меня не посещавшая, тут же показалась мне весьма убедительной. Больные амнезией встречаются часто… и многих из них не удается разыскать довольно долго. Почему Клер была не совсем нормальной? Гены! А я сам, если уж на то пошло!.. Моя голова буквально лопалась от догадок.
— Нет, — сказала Франсуаза, подумав. — Нет. Я могу утверждать, что он был счастлив.
— Что вы придумали?
— Я — ничего. Это Рауль все устроил. Он решил покинуть Керрарек без всяких приготовлений, чтобы не тревожить вашу сестру. Он должен был присоединиться ко мне в Нанте и предполагал купить в Париже все, что могло ему потребоваться для длительного путешествия. Одиннадцатого, как мы условились, я ждала вашего отца в Нанте. Он должен был разыскать меня на вокзале, но не пришел. Вечером, садясь в поезд, я ужасно переживала. К счастью, мой номер в гостинице не был занят. На следующий день я вернулась в Сен-Лифар, повторяя: «Рауль там. Он все мне объяснит…» Но его не было. Прошло три дня. Тогда я перестала ждать. Я подумала: он наконец понял, что мы мчались к пропасти. Когда людей с богатой фантазией припирают к стене, они — что?..
— Как вы рассудительны! И все же вы, наверное, страдали.
Я встал на колени, чтобы лучше ее видеть.
— Разве не так? — настаивал я. — Вы безропотно покорились?
— Я отвечу вам как врачу, — сказала женщина, — ведь вы задали мне вопрос как врач. Нет… Я не знаю, что такое страсть. Возможно, мне не дано… Как вы полагаете?
— Понятия не имею, — ответил я. — Мне еще не доводилось так любить… разве что один раз, маленькую вьетнамочку, умершую у меня на руках. То была мертворожденная страсть. И все-таки это больно… Однако давайте вернемся к отцу. Ваше предположение оказалось неверным. Его нет в Керрареке, и никто не может мне сказать, где он. Моя мать уверена, что отец пустился в загул, выражаясь ее языком.
— Вы не думаете, что он?..
— В таком случае нашли бы тело.
Последовало долгое молчание. Я заговорил первым:
— Вы все еще намерены вернуться в Париж?
— Какой смысл здесь прохлаждаться? Что кончено, то кончено. Держите меня в курсе. Я пробуду в гостинице «Эксельсиор» до конца месяца.
Вот как! Франсуаза предпочитала в очередной раз потихоньку исчезнуть, как раньше. Может быть, она опасалась расследования? Или скандала? Скорее всего, эта женщина просто исчерпала свой эмоциональный запас. Я ее в этом не винил.
Поднявшись, я стряхнул с себя песок.
— Договорились. Я буду держать вас в курсе.
Здесь миссис Хинкль, бывшая Франсуаза Меж, уходит со сцены. Когда ты возьмешься за перо, добавь немного местного колорита. Я представил тебе драму в разрозненных сценах, как механический прибор, который покупатель должен собрать, читая инструкцию. Но при этом не следует забывать о шуме ветра и усиливавшемся волнении моря, а также о забытой на песке газете, бившейся словно раненая птица. Рядом со мной сидела женщина: она была красивой и спокойной; я даже не помню, как она была одета. Вокруг нас бурлила жизнь… облачные замки плыли в июньском небе. Все это важно. Все это усугубляло мои страдания. Я больше не увижу отца. Он растаял вдали, как легкий завиток тумана тает в первых солнечных лучах. Я уже был уверен. Навязчивая идея терзала меня пуще прежнего, когда я ставил машину в гараж. Мой отец мертв, его убили.
Я нашел в замке только Эжени: она пекла на кухне сладкий пирог. Служанка поведала мне, что мать и тетка уехали в местный парк, а ее муж отправился на поиски Клер.
— После вашего отъезда, господин Дени, малышка закатила нам истерику. Отказывалась есть. А сегодня утром взяла свою маленькую лодку и теперь прячется где-то на болоте.
Тыльной стороной локтя Эжени вытерла лоб. Ее щека была перепачкана мукой. Я сел рядом с ней.
— Фушар наверняка привезет ее домой, — сказал я. — Я не могу все время быть дома… Я начал расследование по поводу исчезновения отца.
Молчание. Эжени усердно месила тесто.
— Вы не заметили ничего, что могло бы мне помочь?
— Нет, — смущенно произнесла она. — Я почти никуда не хожу.
— Зато ваш муж много передвигается. Вы же разговариваете между собой.
— С ним? Из него и слова не вытянешь! Он и раньше-то был неразговорчив, а с тех пор, как пропал господин граф, Фушар словно язык проглотил. Это чистая правда.
— А вы?.. Выкладывайте свое мнение на этот счет. Думаете, мой отец вернется?
— Я молю Бога, господин Дени, молю Бога.
Я чуть не крикнул этой мастерице увиливать от ответа: «Да плевать мне! Плевать тысячу раз!» Но я сдержался.
— Это не ответ, голубушка Эжени.
— Но я ничего не знаю, господин Дени. Клянусь вам.
— Берегитесь! Мой отец исчез, и граф де Лепиньер теперь я.
Женщина испуганно застыла, не вынимая пальцев из теста.
— Итак, вы должны мне ответить. Понимаете? Расскажите-ка об обеде… да… его последнем обеде. Вы подавали на стол. Как отец выглядел?
— Как обычно. Ел он не много.
— Не повздорил ли он, к примеру, с моей матерью или теткой?
— Нет.
— Немного позже вы видели, как отец уходил… Он спешил?
— Нет. Наоборот. Озирался по сторонам.
— Как будто со всем прощался, — пробормотал я. — Не обращайте внимания. Продолжайте.
— Он выломал себе палку из ограды… Вот и все.
— Короче говоря, граф отправился на прогулку?
— Да.
— А мать? Где была она?
— В гостиной.
— Тетка?
— Тоже.
— Сестра?
— В своей комнате. Она была не в духе. Такое часто на нее находит без всякой причины. Господин граф говорил…
Женщина смущенно запнулась, не зная, кого теперь считать хозяином.
— Что говорил отец?
— Что не стоит обращать внимания на плохое настроение Клер.
Таким образом, отец оказался на болоте один. Он грустил и в то же время радовался, что уходит из замка. Я был уверен, что он ни на миг не пожалел о своем решении. Что же произошло потом? Похищение? Чепуха! Нежелательная встреча? Нападение? Но в Бриере все друг друга знают. Мне надоело пережевывать одни и те же догадки.
Старина, сказал я себе. Главное — не суди со своей колокольни. Так ты ничего никогда не раскопаешь. Кроме того, самое важное для тебя — это дорога, чудовищно трудная дорога, которая в конце концов приведет нас к разгадке. Видишь, теперь я выбрал кратчайший путь.
Клер возвращается и бросается мне на шею, разве что не виляет хвостом и не носится кругами с лаем. При этом она такая красотка. Как только отец решился ее бросить? А часом позже являются, чуть ли не сияя, мать и тетя. Они спрашивают, удачно ли я съездил. И все же одна фраза меня покоробила:
— Ты должен был предупредить, когда вернешься. Здесь тебе не гостиница.
Жизнь возвращается на круги своя. Мимоходом отмечу одно происшествие. Несколько дней спустя у папаши Фушара случился легкий сердечный приступ от переутомления, с давящей болью в груди и чрезвычайно низким давлением.
Я долго сижу у изголовья больного. Эжени тут же, у него в ногах. Курить запретили. Больше ни глотка мюскаде. Рыбалка отменяется до нового предписания. Эжени горячо поддерживает все эти меры, словно хочет отыграться на муже.
— Давно ли он заболел? — обращаюсь я к женщине (с Фушаром говорить бесполезно).
— Это началось, — отвечает она, — на другой день после того, как пропал хозяин.
Фушар ворчит, он обеспокоен.
— Неправда, — бормочет он.
— Как это неправда, — восклицает его жена. — Он мне даже сказал: «Что-то в боку покалывает. Надо будет сходить к Неделеку».
На сей раз Фушар бурно выражает протест и даже пытается сесть.
— Она рассказывает невесть что, — возмущается старик.
— Тихо! Тебя будут лечить, ослиная башка. Ничего страшного, но ты должен меня слушаться.
— Только бы вы остались с нами, господин граф, — говорит Эжени. — Мы такие же забавные, как ваши китайцы.
Я думаю, ты понимаешь, куда они потихоньку, слово за слово, клонят. Неделек уже прозондировал почву. Удержать меня дома, не выпускать. Сохранить привычный ход вещей. Отец исчез, но сын еще лучше справится с делом. Может быть, он останется, если они сумеют скрыть от него то, что он пытается выяснить? Как знать, не заодно ли с ними мать, несмотря на свою резкость… Другие, возможно, тоже. Для всех мое место здесь — внезапно я отчетливо это осознал. Истинный Лепиньер не уезжает к дикарям. Он вообще не должен никуда уезжать.
О! Все еще было покрыто мраком, но общий замысел уже начинал вырисовываться. Впервые до меня дошло, что, вероятно, вокруг исчезновения отца был устроен заговор молчания. Что ж, все они жестоко заблуждались, надеясь прибрать меня к рукам!
— Ты еще больше похудел, мой бедный любимый. Это твои женщины тебя довели?
Первые слова Ингрид. Улыбка Ингрид. Словом, ее присутствие. Ее руки, обвившие мою шею. Ее аромат. Ее флюиды. Я чувствовал, что за несколько последних дней, проведенных в одиночестве, когда я совсем не думал о моей любви, она сама собой, тайком, словно зерно, одержимое жаждой жизни, пустила корни, силу которых я теперь с удивлением ощущал.
Было поздно. Ингрид только что приехала и еще не разобрала свой багаж. Но мы уже рассказывали друг другу о своих бедах в один голос и расхохотались, радуясь новой встрече.
— Смех без причины! — сказал я. — Ну, начинай… Как прошло объяснение с мужем?
— Плохо.
Ингрид приподняла волосы, и я увидел ссадину возле уха. Я обхватил голову своей возлюбленной.
— Он тебя ударил?
— Да. Кулаком. У меня искры из глаз посыпались. Он был вне себя.
Я легонько потрогал кровоподтек.
— Болит?
— Немного. Не стоит пока прикасаться к этому месту расческой. Но это не страшно. Я думаю, он уже пожалел. Он — импульсивный человек и вдобавок слегка выпил. Мне не следовало поднимать вопрос о разводе.
Освободившись от моих объятий, Ингрид закурила и присела на ручку кресла.
— Какая сцена, — продолжала она. — Просто мерзость! Его любовницы, значит, не в счет. Он называет это случайными связями. Я же не имею права на личную жизнь. Ну вот, представь себе этот поток ненависти и угроз: «Шкуру спущу твоему любовнику!»
Я вздрогнул.
— Он так сказал?
— Это и многое другое. Не стоит обращать внимание. Жалкий тип! В сущности, он не так уж опасен. Единственно, муж и слышать не хочет о разводе. Как же он надоел мне со своими сценами, вообще все надоело… В конце концов он поймет, что закон — на моей стороне… Конечно, он станет меня всячески донимать… Дени, ты меня слушаешь?
С минуту, похолодев, я пытался отмести внезапно нахлынувшие подозрения.
— Ингрид, скажи откровенно… Вы с мужем общались с моим отцом по поводу права на проезд?
— Да.
— Если мне не изменяет память, ты говорила, что держалась в стороне.
— Да.
— Значит, ты не встречалась с моим отцом?
— Только один раз, в самом начале, у нотариуса. Это был простой обмен любезностями. Твои отец и мать, с одной стороны, и мы с мужем — с другой.
— Следовательно, между отцом и тобой не произошло ничего, что могло бы вызвать ревность твоего мужа?
Потушив сигарету в бокале, Ингрид привлекла меня к себе.
— Ты что, тоже спятил?
— Отец мертв. Я уверен, что его убили. Ты все сейчас узнаешь, но, предупреждаю тебя, это будет долгий рассказ.
Я изложил ей в общих чертах все, что тебе известно, показал письмо, которое написал мне отец, и купленные им билеты. Также я поведал Ингрид о встрече с дядей и беседе с Франсуазой. По ходу рассказа мне становилось ясно, что пронзившая меня догадка была сущей глупостью.
— Прости меня, Ингрид. Меня поразила твоя недавняя фраза, точнее угроза твоего мужа: «Я шкуру спущу твоему любовнику». Ведь моего отца убили… Кто?.. Кто-то из соседей. За что?.. Как раз из ревности.
— Знаешь, ты становишься невыносимым, милый Дени. Как же так, в конце концов? Твой отец собирался уехать вместе с этой Франсуазой! Да или нет? В чем же дело? При чем тут мой муж?.. И тем более я?
Я наклонился к Ингрид и поцеловал ее возле раненого ушка.
— Ладно, — пробормотал я. — Я действительно дурак… Давай не будем об этом. Мне уже пора бежать, а ты должна спать.
— Да, — сказала Ингрид. — С вами, мужчинами, даже самыми милыми (она погладила меня по щеке), надо держать ухо востро. Подожди! У меня для тебя кое-что есть.
Порывшись в чемодане, среди белья, она протянула мне небольшой предмет, завернутый в шелковистую бумагу.
— Это всего лишь игрушка. Видишь… Но я не хотела возвращаться с пустыми руками… Посмотри. Это тебя позабавит.
Развернув, я увидел кубик, недавно вошедший в моду, кубик Рубика. Здесь будь осторожен. Вероятно, роман, который ты напишешь, увидит свет только года через два, и тогда уже все позабудут об этой штуке. В таком случае потрудись объяснить читателю, что речь идет о некой игрушке в виде куба, в свою очередь состоящего из разноцветных кубиков поменьше. Кубики следует двигать таким образом, чтобы они выстроились в ряд по цвету: красные, голубые и т. д. Существует множество всевозможных вариантов, и, если ты не гений, можешь играть и играть… Но ты, наверное, знаешь это не хуже меня. Я тебя предупреждаю, так как ты мог бы сказать: «Ну его, этот кубик, найдем что-нибудь другое». Какая разница, какой подарок, если читатель не заподозрит подмены? Нет, старик, об этом не может быть и речи. Кубику Рубика суждено сыграть решающую роль в моей истории. Стало быть, надо его сохранить. Я уже говорил тебе: именно незначительные детали составляют ткань судьбы.
— Ты такой нервный, — продолжала Ингрид, — да-да, ты нервничаешь… Достаточно глянуть на тебя… Ты все время тянешь себя за пальцы, хрустишь ими… Ну вот, теперь будешь играться с этим кубиком и вспоминать обо мне.
Я поцеловал ее.
— Прости меня за недавнюю оплошность. Исчезновение отца не дает мне покоя. Если он мертв, значит, его убили… Но ведь никто не мог его убить! Поэтому не надо сердиться, если я слегка не в себе.
— Ну конечно, дорогой, — сказала Ингрид. — Мы поговорим об этом, когда захочешь. Ступай отдохни.
Я унес кубик и немного поиграл с ним перед сном.
На следующий день мне позвонил Давио. Центр искал добровольца в Бейрут, где недавно во время бомбежки был ранен Блезуа.
— Это не смертельно, — пояснил Давио, — он выкарабкается. Но нам нужен там опытный человек вроде тебя. Временно, на неделю, дней на десять… Потом я пришлю Жирардена; он только что вернулся из Чада.
Я чуть было не согласился, чтобы избавиться от всех обязанностей, уже начинавших меня тяготить. Знаешь, я чувствовал себя как муха. Она задевает лапкой липкую нить, пытается освободиться, цепляется за паутину крылышком, затем другим, а за ней следят глаза… У меня же была своя паутина; ее нити звались Керрарек, Клер, Ингрид… Но где затаился паук?
— Сможешь? — спросил Давио.
Внезапно я решился.
— Нет. Рановато. Мне немного лучше, но если я свалюсь, прилетев в Бейрут…
— Ладно, ладно. Понятно.
— Кроме того, мне надо уладить серьезные семейные проблемы. Но я думаю, что через месяц…
— Отлично, я позвоню. Удачи тебе.
Я сказал: через месяц. Но возможно, через месяц ничего не изменится. Клер все так же будет гоняться за миражами; мать и тетка все так же будут смотреть на меня с осуждающим видом, а во взгляде Ингрид застынет немой вопрос: «Что ты намерен делать со мной?» И, главное, аллеи парка и протоки болота будут шептать мне: «Его здесь больше нет. Он погиб».
Я всегда любил мгновенно принимать решения, теперь же нерешительность подтачивает меня, как амебиаз. Я старался видеть Ингрид как можно чаще. Этот период сохранился в моей памяти довольно смутно. Возможно, недели две… Впрочем, неважно сколько. Я помню лишь вечера, такие длинные, что было еще светло, когда я украдкой пробирался в замок. О чем или, вернее, о ком мы говорили с Ингрид? Как ты догадываешься, о ее муже и моем отце. В основном об отце. Ингрид не разделяла моих опасений. По ее мнению, отец должен был исчезнуть, чтобы успокоиться после пережитого потрясения. Он понял, что в его возрасте такие приключения ни к чему хорошему не ведут. Разве не мог он, после внезапной вспышки страсти, так же внезапно охладеть к женщине, прекрасно обходившейся без него в течение тридцати семи лет?
— Подобные повороты случаются чаще, чем ты полагаешь, — говорила Ингрид.
Я качал головой. Нет и еще раз нет! Все это только слова!
— Ладно, как тебе будет угодно, — раздраженно подводила итог Ингрид. — Но почему ты уклоняешься от объяснения с матерью? Возможно, она знает правду.
И тут я вспомнил одну деталь, которая уже давно должна была меня поразить. Отец писал — я помнил эту фразу наизусть, как и весь текст: «Прежде чем уйти, я оставлю твоей матери записку, чтобы она не вздумала оповестить конную полицию». Я рассказал об этом Ингрид.
— Заметь-ка: «Прежде чем уйти». А ведь отец должен был уехать одиннадцатого. Доказательство тому — билеты. Перед самым уходом, одиннадцатого, он должен был оставить письмо матери. Но он исчез десятого. Значит, одно из двух…
Ингрид улыбнулась, и я чуть было не рассердился.
— Ты считаешь это смешным!
— Нет! Но вы, мужчины, горазды «алгеброй поверить» то, что одновременно истинно и ложно. Продолжай.
— Так вот, если отец исчез по собственной воле, то десятого он позаботился оставить матери письмо. Если же, напротив, отец исчез не по собственной воле, то он не успел оставить письма. Ты понимаешь, куда я клоню? Если мать получила записку, значит, отец ушел добровольно. Если же нет, значит, его убрали. Или, если хочешь, он не ожидал того, что с ним случилось.
Привычным жестом Ингрид потрепала меня по щеке.
— Да, доктор, — сказала она. — Вы — великий логик.
Она закурила и принялась расхаживать по комнате, затем остановилась передо мной.
— Эта мысль не приходила тебе раньше?
— Ни разу. Меня осенило во время нашего разговора.
— А! Видишь, как я нужна тебе… теперь-то, полагаю, расспросишь мать.
— Конечно.
— Послушай. Не говори мне, что это будет нелегко… Иногда мне кажется, что ты ее боишься. Ты не обязан спорить с матерью. Просто задашь вопрос, было письмо или нет.
— И это будет означать: жив отец или мертв.
— Да, получается, что так.
Ингрид была права; иногда я действительно боялся собственную мать. Этот страх возник давно, из животного чувства неудовлетворенности, о котором я тебе уже говорил. Я никогда не держал во рту материнской груди. Малыш, которого вскармливают из соски, похож на отбившееся от стада животное, ему разве что не дают околеть.
Я выждал, когда мать останется одна. Обычно после обеда тетя уходила к своим растениям, а Клер, слегка осоловевшая от транквилизаторов, которые я ей прописал, ненадолго засыпала. Я увидел мать, сидевшую в гостиной с корзинкой для рукоделья. Ее спицы мелькали с такой скоростью, что казалось, она вяжет изделие из света. Я уселся напротив нее.
— Я не помешаю?
Мать окинула меня прицельным взглядом из-под очков.
— Ты у себя дома.
Чтобы выиграть время, я проявил показной интерес к ее работе.
— Как красиво! Что ты вяжешь?
— Сам видишь. Свитер.
— Для кого?
— Да для тебя же. Может быть, ты забыл, но зимы здесь зачастую суровые.
— Что? Ты надеешься меня удержать?
Я опешил, и краска гнева тотчас бросилась мне в лицо.
— О! — мстительно произнесла она. — Я никогда никого не держала.
Я принял мяч на лету.
— Даже папу. Я должен поговорить с тобой о нем.
Мать приподняла голову, готовая дать отпор, но ее пальцы продолжали двигаться сами по себе, как хорошо вышколенные рабы.
— Он не оставил тебе перед уходом письма?
— Ничего подобного. Он слишком спешил к этой особе.
— Какой особе?
— Ну, той, с которой встречался на болоте. Как будто такие вещи могут пройти незамеченными! Ты тоже так считаешь, мой бедный малыш. В твоем возрасте это еще… Словом, я надеюсь, что ты знаешь, что делаешь, хотя…
Мне следовало догадаться раньше. Мать была в курсе всего. Но каким образом? Кто ей донес? Неужели за мной следили из-за каждого дерева, из-за каждой ограды, каждого пучка камыша?
— Речь не обо мне, а о папе, — отрезал я. — Он умер.
На сей раз ее руки замерли. Мать посмотрела на меня в упор, не выказывая ни малейшего волнения.
— Я этому не верю, — сказала она. — Такие люди, как он, живут долго, заставляя страдать других. Кто тебе сообщил?
— Не важно. Просто я знаю.
Мать вновь принялась вязать, теперь уже медленно, с остановками. Глядя на свитер в зачаточном состоянии, который терзали ее спицы, она спросила:
— Где он похоронен?
— Понятия не имею.
— Тебя вызывали в полицию?
— Нет.
Я не мог показать ей билеты, потому что не имел права выдавать Франсуазу Хинкль, так же как не мог дать прочесть такое пылкое и отчаянное письмо отца. Я не был настолько злым.
— Короче говоря, — продолжала мать, — ты ничего не знаешь, это лишь предположения.
— Я делаю выводы.
— А! Вы слышите: он делает выводы. Мой сын делает выводы.
Мать смеялась, уткнувшись носом в свой клубок шерсти, так как ее учили смеяться вежливо.
— До чего же ты бываешь наивным, — продолжала она. — Это немыслимо: доктор медицинских наук, и такой олух. Ты знаешь, почему я молчала? Потому что я уверена, что он скоро вернется. Через несколько недель эта женщина ему надоест, как мы ему надоели… Да, мы! О! Слушай, я ведь могу тебе сказать… Возможно, это откроет тебе глаза… Мы были тремя девушками на выданье, и отец спешил нас пристроить. Поэтому Рауль оказался желанным гостем, можешь себе представить. Он влюбился во всех трех сразу… чуть было не женился на бедной Антуанетте, а потом остановился на мне. Но Елизабет ему тоже очень нравилась.
Мать прижала вязанье к груди и закрыла глаза.
— Мы невероятно ревновали друг к другу, — произнесла она сквозь зубы.
— И все же вы очень любили друг друга.
Она бросила на меня сердитый взгляд.
— Одно другому не мешает.
Мать утерла веки полой недовязанного свитера.
— Когда мы с твоей тетей ругаемся, — продолжала она, — а такое случается, — она дает мне понять, что, если бы захотела, Рауль был бы ее любовником. Мы все еще обвиняем друг друга, как ненормальные. После стольких лет!..
Сделав невероятное, как я почувствовал, усилие над собой, мать принялась считать свои петли. Я же тем временем представил себе трех сестер, никогда не теряющих бдительности, постоянно шпионящих друг за другом, не спуская при этом глаз с моего отца. Это было ужасно. Тем более… Мне нечего от тебя скрывать… Тем более я был почти обязан спросить себя, не одна ли из них убила моего бедного отца… Кто же именно? А может быть, даже обе? Я приблизился к истине, блуждая впотьмах… Я был совсем рядом, уже почти прикасаясь к ней. Чтобы приподнять край покрывала повыше, я спросил:
— А если бы он вернулся, что бы вы стали делать?
— Ничего, — сказала мать.
— Ты бы его простила?
Она молча пожала плечами. Я продолжал настаивать.
— Ведь вы же с тетей — примерные христианки.
Мать приосанилась и, сдвинув очки на лоб, устало откинулась на спинку кресла. Неожиданно она показалась мне очень спокойной.
— Видишь ли, милый, — тихо сказала она, — я всегда верила в то, чему учит Евангелие. Христос изведал все страдания, это так. За исключением одного: супружеской измены. Я знаю, что это такое… А теперь оставь меня и никогда больше не говори мне о нем.
— Прости, мама. Но допустим, он вернется. Что тогда?
— Что тогда? Да ничего. Я его не увижу. Я не стану с ним общаться. С призраками не разговаривают.
Она снова взялась за работу, а я тихо удалился. В тот день я отправился на болото с тяжелым сердцем. Поставь себя на мое место. Мне приходилось лечить гнойные раны. Но та, из которой только что у меня на глазах сочилась кровь, была самой жуткой из всех.
Я вел лодку куда глаза глядят. Мой опрокинутый силуэт вырисовывался в воде: сумрачный гребец, повторявший за мной все движения, словно в насмешку. Как он был прав! Что я делал в Керрареке? Мое призвание — не вершить правосудие, а облегчать людям боль; я же, возможно, вызывал новые страдания. Говорят, что скорпион, которого бросают в центр огненного круга, пронзает себя жалом и умирает. Я тоже находился посреди огненного круга. Единственным выходом было уехать. Немедленно. В Бейрут, в Чили, куда угодно.
Я попал, видимо, в старое русло с мертвой водой, где ласточки носились над самой водой, навстречу друг другу. Внезапно меня окликнул чей-то голос:
— Дени! Эй! Эй! Дени!
Бесшумно раздвигая камыши, байдарка Клер поравнялась с моей плоскодонкой. Сестра, одетая как мальчишка, смотрела на меня с хитрой улыбкой.
— Вот ты и попался, — сказала она. — Я шла за тобой следом. Почему ты не взял меня с собой?
— Ты же спала.
— Неправда. Я не спала. Ты — гадкий. Расскажи мне какую-нибудь сказку.
Бриз подогнал наши лодки, борт к борту, к небольшому холму. Клер спрыгнула на берег с поразительной ловкостью. Она примяла ногой траву, присела и, слегка похлопав по земле, сказала: «Сядь сюда».
Я пристроился рядом с сестрой и обвил ее плечи рукой.
— Знаешь, ты слишком большая, чтобы тебе рассказывали сказки.
Клер прижалась ко мне. В ее волосах застряла паутина. Я с трудом выбирал тонкие нити.
— Куда ты лазила?
— На чердак, — сказала сестра. — Ну, давай, рассказывай.
С некоторых пор ей полюбились басни Лафонтена. Например, о цапле. Клер тянула себя за нос, как бы превращая его в клюв, трясла локтями, словно крыльями, и смеялась, как девчонка. То она пыталась рычать, как лев, то квакала, как лягушка, и порой в ответ раздавался дрожащий зов жабы. Тогда сестра заливалась смехом. Однако она могла так же легко расплакаться оттого, что волк слопал ягненка. Моя бедная Клер безудержно давала волю своим эмоциям.
— Я мало о тебе забочусь, — очень нежно прошептал я, — у меня столько хлопот.
— Ты скоро уедешь? — спросила сестра.
— Да нет. С чего ты решила?
— Ой, смотри!
Она показала на след щуки, преследовавшей плотву, и приподнялась, чтобы лучше разглядеть.
— Готово, — воскликнула она, — щука догнала… А ты, ну-ка, поймай меня!
Клер живо забралась в свою байдарку, более юркая, чем выдра.
— Эй! — закричал я. — Погоди! Погоди!
Несколько взмахов весла, и сестра исчезла, унеслась в водовороте образов, увлекавших ее разум в неведомые дали. Если бы мне пришлось уехать, я не смог бы оставить Клер в Керрареке. В конце концов она сошла бы с ума. Увы, я был всего лишь врачом неотложной помощи. Ей же требовалась помощь специалиста, невзирая на сопротивление матери.
Я медленно поехал назад, скорее с болью в душе, чем в теле. Байдарка валялась на песчаной отмели. Я огляделся по сторонам, но Клер нигде не было. Скорее всего она уже поджидала меня дома, радуясь тому, как здорово меня разыграла.
Сделав крюк, я наведался к засохшему дереву, но в дупле не было весточки. Я написал на обратной стороне старого рецепта (в моем бумажнике всегда хранилось множество ненужных бумажек): «Мать не нашла записки. Значит…» Ингрид все поймет, и, возможно, ее осенит какая-нибудь догадка, связанная со смертью отца. Я же решил выйти из игры.
И все же я пока не сдавался. Растянувшись на кровати (у нас ужинали в восемь), я мог спокойно подумать. Не в моих ли интересах, спрашивал я себя, втайне ото всех оповестить о случившемся полицию Эрбиньяка. Доктор Неделек, скорее всего, не откажется проводить меня и подтвердить мои слова.
Я протянул руку, чтобы достать из ящика тумбочки волшебный кубик. Мне нравилось машинально вертеть его в руках, когда я пытался сосредоточиться, подобно тому, как верующие перебирают четки. Однако я шарил напрасно и, рассердившись, стал искать по всей комнате. Кубика нигде не было.
Клер! Черт возьми, конечно, это она украла мой подарок! Красивый разноцветный предмет заворожил ее с первого взгляда, и она сцапала его украдкой. Но на сей раз я не собирался оставаться в дураках. Внезапно я вспомнил об обрывках паутины в волосах сестры. Возможно, я не очень умен, но не лишен интуиции. Тайник наверняка был где-то на чердаке. Я поднялся туда, ступая на цыпочках.
Наш чердак обширен, глубок и мрачен, как трюм древнего корабля. Раздвоенные вверху стояки подпирали крышу. Все сделано из дуба и прочно. Бури оторвали в некоторых местах черепицу, и в зияющие дыры в это время года проникали ласточки. В глубине чердака обосновался целый птичий базар. Я осторожно продвигался вперед.
На разветвлении самого дальнего стояка лежал чемодан. Подражая пернатым, Клер устроила там свое гнездышко. Она забралась так высоко, подставив табуретку.
Это был небольшой чемоданчик с кожаными застежками, из тех, что носили когда-то сельские врачи. Откинув крышку, я обнаружил клад. Чего только не было внутри, помимо волшебного кубика: серебряная игральная кость, «бобы» из королевских пирогов, игрушечные зайцы и пупсики в пеленках, Мальтийский крест, два десятка мелких фарфоровых осколков, пуговицы, коробочка почерневших леденцов, красная блесна для ловли окуней, а также фотографии, вырезанные из журналов, множество снимков с изображением животных. Там хранилась даже разорванная открытка, бережно склеенная липкой лентой, на которой красовались три дельфина, прыгавшие в один ряд через обручи.
Я посмотрел на оборот открытки, и мой взгляд тотчас же наткнулся на подпись: «Ингрид».
«Дорогой Рауль!
Мы приехали в Антиб только вчера, а я уже изнемогаю. Подруги смеются надо мной. Они намерены добраться до Флоренции. Я же возвращаюсь завтра в Париж. Буду по-прежнему вдали от тебя, но Париж в августе благотворно действует на одинокие души. Я не смею надеяться, что ты вскоре приедешь ко мне в Париж, как обещал. Помни! До тебя у меня никого не было. Я люблю тебя. Ингрид».
Ни числа, ни адреса. Отец порвал конверт с открыткой и бросил обрывки в корзину для бумаг. Бедная дурочка! И другие ей под стать, все эти простушки, верившие, что… Браво, папочка! Именно так с ними надо обращаться. Ингрид ничем не лучше прочих. Переспать и смыться. Как бы не так! Несмотря ни на что, я жестоко страдал. Помнится, я кричал, сидя на табуретке со сжатыми кулаками: «Мне плевать! Плевать!», а встревоженные птицы порхали вокруг. Я чуть было не схватил чемодан, чтобы выбросить все в одну из форточек: и злополучный кубик, и кучу прочих мерзостей. Но открытку я положил в бумажник. Смешно, не правда ли?
Под крышей было ужасно жарко. Я обливался потом, и мои ноги задрожали от внезапной слабости. Ингрид меня все-таки купила своими записочками, полными поцелуев. А я, как жалкий кретин… Я, воображавший себя защищенным от любви… Ах! До чего же меня обидели и унизили… Его любовница стала теперь моей! Я уже не понимал, кто кого обманывал: отец — меня или я — отца. Будучи не в силах пошевелиться, я услышал, как мать и тетка переговаривались у меня под ногами.
— Нет, — говорила мать, — он не у себя. Я только что заглядывала в его комнату.
— В саду его тоже нет, — отвечала тетка.
— Что же, — решила мать, — будем ужинать без него. Мы не должны подстраиваться под его настроение.
Шаги удаляются. Я не голоден. Зато меня мучает жажда — я бреду через раскаленную пустыню. После первоначальной вспышки ярости я начинаю бредить. Ингрид, черт бы ее побрал, проведала — неважно каким образом, — что отец собрался сбежать с Франсуазой, своей бывшей возлюбленной. Она подстерегла его на болоте и застрелила из ружья мужа. Что тут сложного! Нет, это шито белыми нитками…
Надо тебе сказать, что в детстве я любил играть сам с собой в карты и шашки. Переходишь на другую сторону доски, придумываешь ходы, которые не сможет парировать твой жалкий противник, и возвращаешься обратно, вновь преисполненный самодовольства. Азартное занятие! Теперь, на чердаке, где умирала моя любовь, я с неистовым усердием вновь отдался своей детской игре.
Это было шито белыми нитками, потому что Ингрид не смогла бы похоронить тело… Эй, извините, теперь — мой ход… Не забывайте, что она крепко сложена, и копать очень просто. Ого! Минутку! Выстрел из ружья в Бриере разносится далеко. Следовательно… Вот именно! Как знать, не слышал ли папаша Фушар… Он явно что-то скрывает… Я дошел до того, что мысленно завопил: «Хватит! Заткнитесь же наконец, вы оба!» Конечно, я сгущаю краски. Мне стыдно, когда я снова все это переживаю.
Я принялся тщательно обдумывать слова на открытке. Память уже мне изменила, заменяя некоторые выражения на другие, более безобидные. В наказание мне следовало запомнить этот текст наизусть. Снова открыв бумажник, я стал заучивать каждую фразу, словно речь шла о дипломатической ноте, сообщении, от которого зависел мир или война.
Во-первых, очевидно, что открытка была написана несколько лет тому назад. На эту мысль меня навело жуткое уточнение: «До тебя у меня никого не было». В таком случае сколько же тянулась их связь? Отец обещал Ингрид приехать к ней в Париж. Сдержал ли он слово? Разумеется, нет. Иначе я бы об этом знал… Затем Ингрид упоминала о подругах. Это явно говорило о том, что она была еще незамужем. Ну и что, даже после свадьбы она могла при желании встречаться с моим отцом. Доказательство: чего ради Белло стал бы покупать участок земли рядом с Керрареком, если бы его не подвигла на это жена? Любовники были в сговоре. Дрязга вокруг платы за проезд служила только предлогом. Благодаря ему Ингрид могла оставаться на своей вилле несколько раз в неделю… Какое же место следовало отвести в этой интриге бегству в Венецию вместе с Франсуазой?..
Ночь пробралась на чердак. Я все еще был подавлен. Мысли мои метались от одного вопроса к другому, как сумасшедшие. В конце концов я запихнул обратно в чемодан все то, что разбросал по полу. Внезапно я стал гадать, прочла ли открытку Клер. Она умела читать, и скупые строки были довольно разборчивыми. Но, поразмыслив, я решил, что это маловероятно. Заметив в кабинетной корзине для бумаг трех прыгающих дельфинов, сестра, как видно, пришла в восторг, извлекла обрывки и тщательно их склеила, даже не поинтересовавшись обратной стороной открытки. Впрочем, глядя на все эти предметы, которые я выгреб, прежде чем обнаружил дельфинов, можно было побиться об заклад, что Клер давно позабыла про свою находку, покоящуюся на дне чемодана.
Я спрятал открытку. Она должна была послужить мне вещественным доказательством против Ингрид, и я твердо решил ею воспользоваться. Мой отец умер. Я был убежден, что «американка» здесь ни при чем. Поневоле оставалась только Ингрид. Ингрид — лгунья, нагло утверждавшая, что ничего не знает об обитателях Керрарека.
Внизу заходили. Пора было ложиться спать. Через полчаса путь будет свободен. Я бесшумно приоткрыл форточку. Вечерний воздух пах скошенным сеном и тиной близлежащих болот.
«Хватит, — подумал я. — Теперь все кончено. Возьми себя в руки и перестань страдать. Ты спокойно поговоришь с Ингрид. Скажешь ей, что она — сволочь и шлюха, но тебе это все равно. Нужно только, чтобы она объяснила, как был убит отец. Дальше будет видно».
Я снова водрузил чемодан на вершину стояка. Клер не заметит, что его открывали. Когда все звуки внизу смолкли, я спустился и выскользнул из дома как тень. Теперь оставалось лишь пробежать по аллее, которая вела к развилке, где я впервые повстречал Ингрид.
Я подошел к ее дому. Светилось окно гостиной. Наверное, Ингрид смотрела телевизор. Поднявшись на невысокое крыльцо, я постучал, как обычно. Ингрид сразу же открыла дверь. В тот вечер она сменила свой всегдашний наряд — джинсы и блузку — на домашний халат.
— Я тебя не ждала, — сказала она. — Ты не предупредил заранее. Что-нибудь стряслось?
Пройдя через комнату, я выключил телевизор и повернулся к Ингрид.
— Вот что я нашел.
Я протянул ей открытку.
— Что это такое?
Она узнала дельфинов издали и, взяв открытку медленным жестом, даже не удосужилась ее прочесть.
— Что я должна сказать? — устало произнесла Ингрид.
— Ты была его любовницей?
— Сам видишь.
— Когда?
Она опустилась в ближайшее кресло.
— Не помню. Я еще была медсестрой. Скажем, лет десять тому назад, по меньшей мере. Хочешь, чтобы мы поссорились, не так ли?
— Ты мне солгала.
— О! Только и всего! Ладно, я тебе солгала. В конце концов, я не должна была перед тобой отчитываться.
Я приготовился к возражениям, возможно, воплям и слезам. До чего же я был наивен! Спокойная, грустная Ингрид смотрела на меня дружелюбно. Да, дружелюбно.
— Я знаю, о чем ты думаешь, — сказала она.
Я не мог больше сдерживаться и завопил:
— Отец! Это ты его убила?
Мне никогда этого не забыть. Ингрид встала так резко, что кресло отлетело к стене, бросилась к двери, чтобы открыть ее.
— Вон! — сказала она хриплым голосом.
— Не горячись. Я задал тебе вопрос.
— Давай разойдемся. Так будет лучше.
— Поклянись мне, что ты здесь ни при чем.
— О! Клятва! — пробормотала она. — Неужели ты еще в них веришь?.. Ладно, клянусь.
Я поставил кресло обратно и пригласил ее жестом занять место.
— Стоит ли, — сказала Ингрид. — У меня нет желания оправдываться.
Однако она снова присела и, почувствовав, что гроза миновала, долго рассматривала открытку.
— В то время я была такой дурочкой!
Прочтя текст вполголоса, она покачала головой.
— Это правда: до него у меня никого не было. Если я тебе все расскажу, обещаешь не волноваться?
— Я слушаю.
— Нет, — возразила она. — Если будешь разговаривать тоном прокурора, давай на этом остановимся.
— В конце концов, Ингрид, поставь себя, хотя бы на миг, на мое место.
— А я? — спросила она. — Ты думаешь, я не переживаю?.. Короче говоря, вот как это случилось… У меня было две приятельницы: одна в штате профессора Дегийя, а другая… Впрочем, не важно, их звали Мод и Габи. Габи только что купила малолитражку, и нам хотелось взглянуть на море. Мы обосновались в Ла-Боле. В гостинице я случайно натыкаюсь на туристский журнал и читаю статью Раулья де Лепиньера. Там было несколько цветных репродукций его картин. Загоревшись желанием больше узнать о Бриере, я отправляюсь в галерею, где он выставлялся летом… Мы встречаемся… Вот и все. Я надеюсь, что ты — не сексуальный маньяк, и этого достаточно.
— Сколько времени это длилось?
— О! Совсем недолго. Когда мои подружки поняли, что я делаю глупость, они утащили меня на юг, но было уже поздно.
— Что я слышу! Неужели отец был настолько… обворожительным?
Ингрид снисходительно улыбнулась.
— Ты, часом, не ревнуешь? Да, он был обходительным. Он умел говорить.
Признаться, я потерял дар речи от изумления. Ведь дома отец мог за целый день не проронить ни слова.
— Как тебе объяснить, — продолжала Ингрид. — После больничной среды с шуточками студентов-медиков, грубыми окриками больных… ну, сам знаешь, — я мгновенно переносилась в необычайно странное место, где меня начинал обхаживать внимательный, тонкий, чувствительный человек, вдобавок художник… Тебе нечего мне возразить. Ему оставалось лишь подобрать меня.
— Не надо, — взмолился я. — Не надо. Прошу тебя.
— Прости меня, Дени. Я не собираюсь причинять тебе боль. Я лишь пытаюсь… Словом, мне хотелось бы, чтобы ты почувствовал…
— Не стоит говорить об этом!
— Легко сказать. Порой мне казалось, что он несчастлив, и это меня расстраивало. Кроме того, он мне кое-что обещал.
— Приехать к тебе в Париж? Да? И ты ему верила?
— Ты что, никогда не был влюблен? Разве сейчас ты не влюблен, разве ты не бредишь мной?
Ингрид по-дружески взяла меня за запястье.
— Ладно, тем лучше, раз ты не знаешь, что такое любовь.
— Прости, — возразил я, — просто можно любить и не быть при этом дураком.
Отпустив меня, она схватила пачку сигарет у себя за спиной.
— Это то же самое, что говорить о красках со слепым. Хорошо, я была дурой. Поэтому я ждала его в Париже, а он, естественно, так и не приехал.
Ингрид задумчиво закурила «Голуаз».
— Тогда, — закончила она, — я поняла, что вы, мужчины, наши исконные враги. О! Только не ты… Возможно, ты не такой, как все… Но, согласись, мы — ваши скрипки… Вы развлекаетесь, играя на нас свои куплеты, а затем выбрасываете инструмент на свалку.
— В таком случае зачем ты меня завлекла?
— Он еще спрашивает!.. Да потому, что ты похож на него. Представь себе, что в первый раз, когда я тебя увидела, у меня был шок. Ты так на него похож — тот же нос, те же глаза, вдобавок ты неуклюж, и это так мило.
— Прекрати, пожалуйста.
— Да, ты пришел, так как хотел заставить меня признаться, что я отомстила твоему отцу. Я подговорила мужа купить это имение, чтобы беспрепятственно встречаться с любовником, который меня околпачил. Обнаружив соперницу, я уничтожила предателя… Вот, в общих чертах, что ты вообразил. Мне очень жаль, мой бедный Дени. Твой отец исчез десятого, не так ли? А ведь десятого муж был на выставке-ярмарке в Клиссоне, а я — в Нанте, у друзей. Могу даже назвать тебе их имя: Рагено. Они живут на набережной Фос. Можешь справиться.
Ингрид тщательно потушила сигарету и посмотрела на меня, склонив голову, как будто оценивала товар.
— Теперь, мой милый Дени, — пробормотала она, — будь лапочкой, возвращайся домой. Я от тебя устала. Показывай свой цирк в другом месте.
Мои подозрения, гнев, злоба — все то, что переполняло меня яростью, лопнуло, как воздушный шарик. Я отчетливо осознал, что она говорит правду.
— Сколько раз ты с ним встречалась, с тех пор как здесь поселилась?
— Ах! Какой упрямец! Повторяю, один раз, один-единственный раз, у нотариуса. Если хочешь знать, мы раскланялись. Я уже была для него посторонним человеком.
— А он для тебя тоже был чужим?
Она грустно пожала плечами.
— Нет, Дени. Мужчина, которого ты держала в объятьях… Существует память тела, и с этим ничего нельзя поделать. Но если ты хочешь меня обидеть…
Я ушел, как солдафон, хлопнув дверью. Меня снова обуяла ярость. Конечно, Ингрид невиновна в смерти отца, и в глубине души, в самой глубине, я всегда был в этом уверен. Мои обвинения… Я прибегнул к ним, чтобы позабыть, что она с ним спала. Но нет… Мне никогда этого не забыть… Если бы меня тогда заставили объясниться, поначалу я не мог бы четко связать и двух слов, а затем, возможно, сказал бы, что это чудовищное событие казалось мне своего рода инцестом. Предположим, я вел себя глупо, как сумасшедший, но я ничего не мог поделать с преследовавшими меня омерзительными образами.
Вместо того чтобы вернуться домой, я сел в плоскодонку и почти вслепую ринулся в болото. Слегка отталкиваясь шестом, я скользил по лунной дорожке, минуя темные места. Я еще никогда не бывал ночью на Бриере. Промозглая сырость мягко омывала мне лицо, понемногу охлаждая мой пыл. Внутреннее напряжение постепенно сменилось ломотой в теле, как будто я был избит. Да, в некотором смысле меня и правда отделали.
Охая, я присел, и лодка остановилась посреди канала, где небо отражалось в темной воде. Я улетел далеко. Здесь меня уже не было. Я пообещал себе завтра же позвонить Давио, чтобы он отправил меня навстречу подлинным страданиям, страданиям, а не позору. В конце концов я уснул, скорчившись, с коликами в желудке. Неплохая героическая сцена для тебя!
Настало утро. Лодку отнесло к реке. Я заснул в зарослях камыша, отупевший от усталости, с одеревеневшими мышцами, более одинокий, чем беглый каторжник, но умиротворенный. Да будет тебе известно, что рассвет — это благословенное время. Хищники отдыхают. Браконьеры разошлись по домам. Разве что голова карпа покажется подчас на поверхности воды, из глубины молчаливого водоворота. Я уже ни на кого не сердился. Я просто смотрел на свет, льющийся из болота, и ждал, когда послышатся шум птичьих крыльев и первый тихий зов жабы, чтобы тоже стряхнуть с себя оцепенение. Как только ранние голоса стали перекликаться, я двинулся в путь.
С наслаждением я ощущал удивительное безразличие ко всем женщинам на свете. И если бы кто-то в этот миг мне сказал: «Вот как погиб твой отец», я бы, наверное, принял решение уехать, удовлетворив свое любопытство. Лишь гораздо позже, днем, я понял, что мне еще далеко до спасения. Я не знаю, что чувствует курильщик, давший себе зарок не курить, или пьяница, полагающий, что бросил пить. Я же, проснувшись, попытался отказаться от Ингрид. Долой Ингрид! Долой признания, порождающие гораздо больше вопросов, чем ответов. Я ничего не имел против Ингрид, но ненавидел любовницу своего отца.
Это наступило так же неожиданно, как «ломки» наркомана от абстенентного синдрома. Я лежал на своей кровати, в то время как Клер, как всегда возбужденная, слонялась вокруг. Внезапно я захотел Ингрид. Не поговорить с ней, не расспросить ее еще раз. Захотел ее, понимаешь? Разумеется, я — не психиатр, но есть чувства, скрытую подоплеку которых легко распознать. Дело в том, что я желал превратиться в отца. Мне казалось, что полюби я Ингрид, подобно ему, и мне удалось бы освободиться от нее. Он-то сумел! Что я себе ни говорил, как ни старался более или менее здраво оценить свое желание, оно по-прежнему оставалось безудержным. Мне следовало немедленно связаться с Ингрид.
— Подожди меня здесь, — сказал я Клер. — Я сейчас вернусь.
Спустившись в кабинет, я позабыл о всяческой осторожности и позвонил Ингрид. Я шептал, озираясь вокруг, как взломщик, который никак не решится взяться за свои инструменты.
— Алло, это ты?.. Да, Дени… нет, я не могу говорить громче…
Я уже не помнил, что хотел ей сказать. Впрочем, мне было нечего ей сказать. Просто я должен был любой ценой услышать ее голос. Голос являлся частью ее плоти, а дыхание в трубке было ее жизнью.
— Я хочу извиниться, — пробормотал я. — Я ушел вчера как хам. Мне очень жаль. Могу я прийти сегодня вечером? Обещаю вести себя как культурный человек. Но у меня еще много вопросов…
— Нет, — отрезала Ингрид. — Больше никаких вопросов.
— Ладно, в таком случае больше никаких вопросов… Ой! Я слышу, идет сестра… Целую… Знаешь, может быть, я не показываю вида, но я тебя люблю. До вечера.
Я повесил трубку в тот самый момент, когда Клер вошла в комнату.
— Кто это был? — спросила она, указывая на телефон.
— Один приятель. Ничего особенного. Пойдем прогуляемся.
Перед свиданием у меня оставалось много времени для раздумий. То, что со мной случилось, имеет название. Это называется страстью. И меня паче чаяния не миновала чаша сия. Я-то думал, что скорблю по малышке Ти-Нган. Я считал, что любовь — обман. Старина, возможно, ты уже догадался: тебе предстоит написать роман о моей глупости. Имей в виду, что каждые пятнадцать минут я поглядывал на часы. Это я-то!..
Не стану подробно описывать тебе продолжение. Это слишком нелепо. Тем не менее наваждение продолжалось неделями или, может быть, всего несколько дней, не помню. Лица вокруг меня мешались. Двигались люди… мать, сестра, тетка, просто какие-то люди… Также старый Фушар с женой. Здравствуйте, спокойной ночи… Это были даже не люди, а тени. Кроме того, оставалась Ингрид. Вдали от нее я терял голову. Я носил повсюду в памяти ее обнаженное тело, как беременные носят свой живот. Это тело в большей мере являлось моей сущностью, чем я сам. Я мечтал о бесконечном соитии, и, несмотря на получаемое удовлетворение, а может, как раз из-за него, жуткая фраза: «У меня до тебя никого не было» — отдавалась болью в моем сердце. Я с трудом удерживался от таких вопросов: «С ним тебе было лучше, чем со мной?» либо: «Вы трахались на болоте? Где именно? Пошли туда!» В то же время я понимал, что отец умер, и наши объятия пробуждали в больном мозгу картины зловещих плясок смерти.
Бесспорно, я был болен. Не столько амебиазом, который странным образом, когда я забросил лечение, казалось, начал проходить, вытесненный любовью, безраздельно завладевшей моим организмом, сколько Ингрид, ее заботой и нежностью. Раз уж мы добрались до самых интимных признаний, я должен уточнить один момент. Ты можешь подумать, что мы безудержно предавались разврату. Ничего подобного. Ах! Это сложно объяснить.
Возьмем, к примеру, любой наш вечер. Я приходил к Ингрид. Она ждала меня на пороге. Мы шли в гостиную. Она целовала меня и потом, как примерная жена, спрашивала, как прошел день, каким образом мне удалось провести своих тюремщиц — именно это слово она употребляла, — а также интересовалась здоровьем папаши Фушара. «Ему нездоровится. Он меня беспокоит», — отвечал я. Кроме того, мы говорили о ее муже, который ходил советоваться с адвокатом и становился все более агрессивным. И вот приближался миг, когда… Как тебе лучше объяснить?.. Я был абсолютно уверен, что отец просто-напросто овладел Ингрид решительно, бесцеремонно, по-крестьянски. Однако в ту пору она была девушкой, конечно, искушенной девушкой, но все же беззащитной. Мне же пришлось иметь дело с женщиной, прекрасно разбиравшейся в мужчинах и неизменно приправлявшей свои ласки толикой иронии. Поэтому я играл, в глубине души сгорая от страсти, роль господина, умеющего прекрасно владеть собой и не выказывающего ни одной похотливой мысли, того, который скорее ждет от любовницы телесного избавления от страданий. Ингрид великолепно удавалось амплуа утешительницы, и она умела с безукоризненным тактом переходить к любовным прелюдиям. Не женщина-вамп, не сестра милосердия, а просто нежная подруга, разделявшая со мной в равной мере сдержанно и самозабвенно, исступление, которому отдает должное всякое искреннее чувство. Только вот я-то не был с ней искренним. Насколько Ингрид старалась с помощью своей любовной дипломатии отстранять от нас всяческое воспоминание об отце, настолько я, напротив, настойчиво стремился к этому воспоминанию, одновременно усиливавшему мое наслаждение и мою печаль. Однако я ревниво хранил это пристрастие про себя.
Когда мы лежали рядом, она говорила: «Кто бы мог подумать, видя тебя и слыша твой голос, что ты — такой страстный любовник?.. Ты здорово дурачишь своих!» Я только молча улыбался. Мог ли я признаться Ингрид, что в моих любовных порывах было больше затаенной злости, нежели подлинного чувства? Моя страсть была сродни пламени метана в глубине шахты. Она неизменно опаляла мне лицо. Но когда кто-нибудь спрашивал меня: «Как видно, ваше здоровье не слишком быстро идет на поправку?», я поспешно возражал: «Усталость еще не совсем прошла, но скоро я смогу вернуться обратно».
Если мать или тетя случайно слышали мой ответ, они лишь многозначительно переглядывались, совсем как присяжные в суде, не имеющие права совещаться, но заранее знающие приговор.
Расставаясь, мы с Ингрид обменивались супружеским поцелуем.
— Береги себя, — говорила она, постукивая меня по лбу, — и не давай волю воображению.
Я обещал, но стоило мне добраться до развилки, как демоны, терзавшие мою душу, буквально набрасывались на меня, и я принимался снова отсчитывать часы, остававшиеся до следующего свидания. Когда Ингрид отлучалась, уезжая в Нант к своему парикмахеру или зубному врачу, я уединялся в лодке и говорил, обращаясь к стрекозам и зимородкам: «Мне плевать на ее волосы. Плевать на ее зубы. Я только хочу, чтобы она сказала, где мой отец!»
Порой я падал духом и, скрестив руки, вершил над собой суд. «Какого черта, — говорил я себе, — ведь я — врач! Доведись мне наблюдать подобные припадки у постороннего человека, я живо поставил бы диагноз. Должно быть, в прошлом кто-то из Лепиньеров закладывал за воротник. Клер — тому подтверждение… И теперь я, мешающий в одну кучу любовь, смерть, возмездие и отвращение. Ну да, отвращение…»
Плоскодонка носила меня от одного берега к другому, шатаясь по прихоти моего запойного отчаяния. Я возвращался в Керрарек, где меня охватывали порывы нежности к сестре. Прижимая Клер к себе, я рассказывал ей басни, населенные рыбами, лисами, медведями и голубями.
— Я вернусь, — шептал я ей на ухо. — Роман с другой женщиной продлится не долго. С тобой же буду всегда.
Клер внимала мне с серьезным видом. Что она понимала из моих слов? Это меня не волновало. Главное — я должен был говорить с ней. Сестра была рядом. Только ее присутствие имело для меня значение.
Когда мой словесный запас иссякал, я принимался курить. Ингрид заразила меня этой страстью. Я устраивался в библиотеке, положив ноги на стол. Пора было дать волю угрызениям совести. Ах, Таиланд, Бейрут! Я представлял, как каждый миг по всему миру падает замертво, хватая ртом воздух, какой-нибудь бедолага. И нет рядом никого, кто бы мог облегчить его страдания. Просто закрыть ему глаза. Доктор Дени де Лепиньер покуривал «Голуаз», ожидая часа трапезы. Доктора Дени де Лепиньера следовало осудить за дезертирство.
Мать заглядывала в комнату.
— Будешь есть жаркое из мерланов?
Я покорно кивал. Мерланы так мерланы, чтоб мне подавиться этой чертовой рыбой!
Теперь тебе известны основные сюжетные линии. Развивай их, сохраняя определенный стиль. Для меня это важно. Только, ради Бога, не пиши детектив. Такой удар ты не можешь мне нанести! Это моя история. Она лишена шума и ярости, в отличие от известной тебе книги[45]. Ее гнусная сущность не выпирает наружу.
Итак, я снова выбираю кратчайший путь. В последние дни Ингрид что-то от меня скрывала. Я догадывался об этом по ее молчанию и по тому, как она избегала моих взглядов. Наконец она осмелилась открыть мне правду. Ее муж решил продать их имение. Представь себе, как я был потрясен.
— Он вправе это сделать?
— Конечно. Все записано на его имя.
— Что будет с тобой?
— Мне придется уехать.
— Когда?
— Он посадит здесь сторожиху, которая будет принимать гостей. Я рассчитываю уехать через несколько дней.
— Куда?
— Я сниму квартиру в Нанте.
Я не смел спросить ее: «Чего ради?»
Ингрид надеялась, Ингрид ждала от меня ласкового жеста или возгласа: «Я свободен! Ты тоже скоро будешь свободной. Тем лучше. Я на тебе женюсь!» По правде сказать, я застыл, парализованный ощущением бессилия и возмущения. Во-первых, я не был свободен. «Если бы во мне не нуждались как во враче», — думал я, цепляясь за благородный предлог.
— Да ведь я от тебя ничего не требую, — произнесла Ингрид оскорбительным тоном.
Затем, смягчившись, она задумчиво сказала:
— Наша идиллия подошла к концу. Бедняжка Дени. Боюсь, теперь наши пути расходятся.
— Нет, погоди. Дай мне подумать.
Однако было ясно, что Ингрид права. Разве что я соглашусь круто изменить свою жизнь, уволиться и сменить доктора Неделека на его посту… Если вдобавок представить, что мать будет относиться к Ингрид как к самозванке… Клер, скорее всего, ее невзлюбит, и, кроме того, между нами всегда будет стоять тень умершего.
— Придется искать работу, — сказала Ингрид. — Самое разумное — заняться прежним ремеслом.
— В Нанте это будет трудно.
— Ну что ж, поеду в Париж.
— Ты меня бросишь?
— Да ты хуже ребенка, — вскричала Ингрид. — Кто же станет меня содержать, а?.. Даже если мне дадут небольшое пособие, придется выкручиваться самой.
Она следила за мной, ожидая протестующего жеста. Я должен был выдержать самое трудное испытание и не мог отделаться неопределенным взмахом руки. Наши поцелуи и ласки были уже не в счет. Я стоял перед важным выбором. Мой отец от него уклонился. Я заговорил дрожащим голосом:
— Послушай, Ингрид… Мне кажется, ты можешь мне доверять. Правда? Ну, дай мне подумать до утра, чтобы я смог оценить ситуацию…
— Что это изменит? — уныло сказала Ингрид. — У тебя — своя жизнь. У меня — своя. Ладно, иди… По крайней мере, у нас останутся прекрасные воспоминания.
Она закурила. Я тоже. Наша любовь понуро стояла между нами, как лошадь с путами на ногах, из-за которой торгуются двое барышников.
— Я не понимаю, — сказал я, — каким образом это могло решиться так быстро, за несколько часов. Вчера ты вовсе не выглядела обеспокоенной. И вдруг…
— Муж позвонил мне сегодня утром, — пробормотала Ингрид. — Он принял все меры и крепко меня держит.
— Он знает… о нас?
— Да, знает. Я этого не скрывала. Мне нечего тебя стыдиться.
— А если он явится в Керрарек и устроит скандал? Видишь, в какое положение ты меня поставила.
— Ты, как всегда, любезен, — произнесла Ингрид с презрением. — Возвращайся к себе, Дени. Никто не станет оскорблять тебя дома. И раз тебе нужно время, чтобы разобраться в предельно простой ситуации, приходи завтра. Ладно?.. Я думаю, что все еще буду здесь.
Я взял ее за плечи.
— Ингрид, умоляю тебя.
Она вырвалась.
— Ну хорошо, хорошо… Я на тебя не сержусь… И главное — не вздумай меня жалеть. Со мной и не такое случалось.
В ту ночь я не сомкнул глаз. Разве мог я потерять Ингрид? Я пытался представить свою жизнь без нее. Провести своего рода репетицию предстоящего вдовства. Не будет больше ни ночных побегов, ни доверительно-самозабвенных вечеров. Останется только мое одиночество, запертое в стенах Керрарека. Это было вполне возможно, но невыносимо. Я должен был удержать Ингрид! На первый взгляд, такое решение казалось самым простым. Но что стало бы с нашим союзом через год или два? Нет, дело не в этом. Мысль о том, что мой отец обошелся с Ингрид как прохвост, неизменно ранила мое самолюбие. А я, я, столько прощавший этому бедолаге, собирался поступить с ней точно так же, как он. Нет уж, дудки!
Как тебе объяснить? Речь шла не о том, чтобы восстановить справедливость. Я не говорил себе, что должен искупить вину перед Ингрид, не бичевал себя из-за угрызений совести, как в мелодраме. Один Лепиньер платит долги другого. Нет, просто мне хотелось быть честным по отношению к Ингрид и самому себе. Но заметь: честным в смысле чувств, а не долга. Любил ли я настолько сильно, чтобы на ней жениться? Не уверен. Любил ли я настолько сильно, чтобы с ней уехать? Да, несомненно. Мы бы поселились в Париже и доверились течению времени. Возможно, наша связь оказалась бы благополучной; возможно, благодаря ей мы позабыли бы прошлое, навсегда. Если, напротив, наш роман закончился бы крахом, я, по крайней мере, утешал бы себя тем, что сделал все возможное, чтобы все было хорошо. И я и отец — мы оба были бы с Ингрид в расчете.
Моя комната наполнилась дымом. (Я уже почти прикончил пачку «Голуаз».) Я смертельно устал, но понемногу в моей голове начал вырисовываться некий план. С помощью Давио мы с Ингрид без труда нашли бы работу. Стало быть, обустройство в Париже не заняло бы много времени. За Ингрид я был спокоен. Но что делать с Керрареком? Мать и тетка смирились бы со свершившимся фактом. Они были бы вынуждены смириться. А как быть с Клер?
И тут, внезапно, явное совпадение поразило меня в самое сердце. Я ломал голову над теми же самыми трудностями, с которыми столкнулся отец, готовясь к отъезду. Я собирался в буквальном смысле последовать по стопам покойника. Нам с Ингрид предстояло детально разработать свой побег. Я должен был водить за нос домашних с самым любезным видом. Разумеется, избегая всяческих приготовлений. Я оставил бы матери записку, а затем… суждено ли мне было тоже исчезнуть? В тот же миг у меня слегка закружилась голова, словно я заглянул в очень глубокий и темный колодец. Но я уже не мог отступить. Выбор был сделан.
Следующий день показался мне ужасно долгим. Я собрался было приобрести на вокзале Сен-Назера два билета в Париж, чтобы бросить вызов судьбе, року, всем невидимым силам, вероятно управляющим нами. Однако нет смысла на этом задерживаться. Я знал расписание движения автобусов и поездов. Мы должны были отправиться девятичасовым автобусом из Эрбиньяка. Уехать открыто, не таясь. Мне предстояло покинуть замок, подобно отцу, держа руки в карманах, и ждать Ингрид на автобусной остановке. Все это казалось настолько просто! Поистине, незачем было делать из мухи слона.
Вечером я пошел к Ингрид и объявил, что уеду вместе с ней.
— Ты хорошо подумал? — спросила она.
Я обнял свою возлюбленную. Радость обжигала меня, как спиртное. Ингрид вела себя более сдержанно. Она учинила мне форменный допрос, напоминавший досмотр судна перед дальним рейсом. Подумал ли я об уходе, который требовался Клер? Подумал ли я…
— Да, — воскликнул я, — да. Хватит. Все уже решено.
Мы отметили утверждение нашего плана в постели.
— Хочешь, — спросила Ингрид, — чтобы мы уехали послезавтра? Сегодня суббота, и в понедельник было бы в самый раз.
— В понедельник? А ты помнишь, что в этот день — ровно два месяца со времени исчезновения отца?
— Ну и что? Ты вроде не суеверен.
— Нет… И все же это немного меня смущает… Впрочем, ты права, почему бы и нет? Я оставлю записку Мари-Жанне. Она увидит ее в понедельник после обеда, когда придет убирать в доме. Возьму с собой только самое необходимое.
Перехватив инициативу, Ингрид решила, что проще всего сказать, будто меня вызвали в Париж к начальству. Раз я твердо намерен уехать, лучше сделать это как можно естественнее, в качестве военного врача, назначенного в дальнюю командировку. При этом я мог бы взять с собой некоторое количество вещей, не вызывая подозрений.
— Не хочешь? Кажется, это тебе не по душе.
Вот именно. Это было мне вовсе не по душе. Лгать, ссылаясь на профессиональные доводы, казалось особенно гнусным. Я собирался запятнать свою честь врача. Что бы подумал обо мне Давио?
— А если бы я помог тебе устроиться медсестрой через моего приятеля Давио? — спросил я. — Если бы мы и вправду уехали?
— Что ж, хорошая мысль! Только надо подождать. Ты еще не в состоянии вернуться к работе. А пока я предлагаю прибегнуть к маленькой, вполне невинной хитрости, что позволит тебе спокойно уехать. Можешь даже пообещать, что скоро вернешься.
— Фушар захочет меня проводить на вокзал.
— Фушар сделает то, что ты ему прикажешь. Все-таки ты хозяин в замке. Если решил ехать автобусом, это твое дело, не так ли?
Ингрид планировала, устраивала, распоряжалась. Было бы очень непросто объяснить, почему ее предложение меня не вдохновляло. Я не представлял себе, что покину Керрарек пешком, с чемоданчиком в руке, словно торговый агент, которого вежливо выставили за дверь. Я предпочел бы уйти не прощаясь, как отец. Но Ингрид уже оседлала своего конька. У нее был практический ум, и она этим гордилась.
— Я полагаю, — продолжала она, — ты ходишь со своими в церковь на службу?
— Да, конечно.
— В какое время?
— В одиннадцать.
— Значит, давай договоримся: я позвоню тебе завтра в половине десятого. Жди возле телефона. Мы немного поговорим, о чем угодно, лишь бы ты потом мог сказать, что тебя вызывает секретарь миссии и ты должен как можно скорее прибыть в Париж. Чем меньше мы тянем, тем легче проходит расставание.
Ингрид была права, но в то же время она не понимала меня. Она не чувствовала, что режет по живому, собираясь вырвать меня из Керрарека. Отец уходил тайком, чтобы не обрывать резко все нити, связывавшие его с замком. Ингрид не представляла, что мне придется вести споры с матерью и теткой, которые наверняка доведут Клер до слез и отравят мне последние минуты перед отъездом. Если я уеду не в духе, затаив злобу, как знать, смогу ли я когда-нибудь сюда вернуться?
— Согласен?
— Да. Договорились. В половине десятого.
Помнится, она проводила меня до рощи. Небо обложило тучами, и если бы я не знал дорогу, как свои пять пальцев, то быстро бы заблудился, настолько было темно. Я ступал осторожно, прикидывая, что в понедельник мне придется выйти довольно рано, чтобы поспеть в Эрбиньяк к девяти. К счастью, Клер в это время еще не проснется. Автобус останавливался возле «Платанового кафе». Я подожду Ингрид внутри, взяв какой-нибудь напиток. Когда она появится, я буду вести себя с ней как учтивый сосед, не более того. Зачем давать пищу для толков? Я снова перебрал в памяти все детали. Отец с Франсуазой, вероятно, тоже тщательно продумывали каждый шаг. В такой-то час, в таком-то месте. Затем они поцеловались, как только что мы с Ингрид… Не подозревая, что целуются в последний раз. Возвращаясь в замок, отец, возможно, подобно мне, чувствовал себя ошарашенным и подавленным — такое состояние охватывает нас вслед за принятием чрезвычайно важных решений. Я знал, что отныне тень отца будет преследовать меня повсюду.
Я уже почти дошел до крыльца, когда кто-то окликнул меня:
— Господин граф!
Я узнал голос Фушара.
— Что ты там замышляешь? Подойди сюда.
Я различал только силуэт, но красный отблеск трубки указывал на то, кому он принадлежит.
— Дышишь свежим воздухом? Знаешь, уже перевалило за полночь.
— Мне не спалось, господин граф.
— Господин граф! С каких это пор? Что на тебя нашло? Разве я больше не Дени?
— Конечно, господин Дени.
— Послушай, ты заговариваешься. Объясни-ка мне, зачем ты здесь, точно поджидал меня. Сядь-ка рядом… Да, на крыльцо. Мне не спится, тебе тоже… Это правда? Ты меня ждал?
Фушар вытряхнул свою трубку, постучав по каблуку, и тяжело опустился возле меня.
— Случается, я малость задыхаюсь лежа, — сказал он. — Тогда выхожу проветриться.
— Ты уверен, что дело только в этом?
Чтобы выиграть время на раздумье, старик снова принялся набивать свою трубку. Я догадался об этом по его осторожным движениям.
— Вот что я вам скажу, господин Дени… С тех пор как понаехали курортники, мне не по себе. Странные люди бродят по болоту. Только позавчера в Сен-Жоашеме стащили мопед. Ну, раз уж мне не спится, я посматриваю вокруг.
— Надо же, — улыбнулся я. — Несешь полевую вахту глубокой ночью. Неужели ты воображаешь, что я тебе поверю?
— Однако…
— Ты здесь из-за меня. Признайся, упрямец… Выкладывай все начистоту. Что тебя тревожит?
Старик колебался. Он брал одну спичку за другой, чиркая впустую. Я схватил его за руку.
— Фушар, ты должен мне все рассказать, слышишь? Решайся.
— Ладно, это из-за одной дамочки, — пробормотал старик. — Простите, господин Дени; мне от этого тошно. Я ничего не вижу, ничего не хочу знать, но вынужден слушать.
— Что именно?
— По всей округе идут толки. Всем интересно, что происходит в замке. Как же, все-таки это замок! Люди заметили, что нет господина графа. А теперь еще эта женщина… Мари-Жанна, та, что работает по дому, от нее ничего не скроешь… Мне неприятно, когда я узнаю всякие гадости…
— Какие, например?
— Нет уж, предпочитаю об этом молчать. Но мне бы не хотелось, чтобы люди начали забывать, как вы трудились в колониях… Если такое имя, как наше, станут марать грязью…
Старик заикался от волнения. Я обнял его за плечи.
— Спасибо, дружище Фушар. Я забыл, что ты тоже — один из Лепиньеров. На свой лад. Послушай… Если я уеду…
— Так было бы лучше, — произнес он более твердым голосом. — Только не насовсем… иначе малышка сойдет с ума… Скажем, до зимы… Потом вы вернетесь и, может быть, поселитесь здесь навсегда… Это заставит умолкнуть злые языки. Все, о чем болтают, будет уже не важно.
Я размышлял, прислонив голову к рукаву его фуфайки, пропахшей потом, табаком и старческим духом.
— Я об этом подумаю, — сказал я наконец. — Но если я уеду, мне хотелось бы быть уверенным, что ты по-прежнему в форме. Ну-ка, скажи, на что ты, собственно, жалуешься?
— Что-то давит вот здесь, в середине груди. Я даже боюсь дышать.
— Часто ли так бывает?
— Довольно часто.
— Давно?
— Не очень.
— Эжени мне говорила, что это началось после исчезновения моего отца.
Фушар не решался ответить, и я пробормотал:
— Видишь, все-таки ты что-то знаешь.
Старик вздрогнул, как будто его ударили.
— О нет! — вскричал он. — Нет!
— Значит, просто совпадение?.. Что же, может быть… Ладно, в понедельник сходишь к доктору Меро в Сен-Назер. Это хороший кардиолог. Он сделает тебе электрокардиограмму и назначит лечение. В твоем возрасте легкая стенокардия — в порядке вещей, но береги себя. Я уеду лишь в том случае, если буду уверен, что ты, как всегда, в строю. Обещаешь?
— Обещаю, господин Дени. Только уезжайте быстро и ничего не говорите. Ничего не говорите.
— Да-да. Ладно. Спокойной ночи. И убери свою трубку. Понял? Никакой трубки.
Я не стану рассказывать, как провел эту ночь, вернее, остаток ночи. Нет смысла толочь воду в ступе. Я сердился на Ингрид, затем принимался за себя, проклинал наш злополучный край и, наконец, впадал в прострацию, из которой меня выводили внезапные приступы страха. Я предчувствовал, что вскоре со мной должно что-то произойти. Скорее всего мне никогда больше не увидеть Ингрид. И моя страсть разгоралась с новой силой. В конце концов я выпил снотворное.
Вдали раздавалась телефонная трель, но я никак не мог стряхнуть с себя сонный дурман. Внезапно я вскочил, смахнул на пол часы, торопливо подобрал их и сначала взглянул на циферблат с обратной стороны. Нет, это не телефон, лихорадочно пронеслось в голове… И тут я увидел время: полдесятого. Господи! Ингрид! Я бросился в коридор и помчался по лестнице, сражаясь с не желавшим поддаваться рукавом пижамы. Скорее в библиотеку! Клер держала трубку и говорила: «Да, мадам». Я довольно резко оттолкнул сестру, и она заупрямилась, пытаясь перехватить у меня трубку.
— Перестань, — закричал я. — Это меня. Да перестань же!
Клер немного отошла и надулась.
— Алло… Да, это я… А! Я ему нужен?.. Надолго?
Ингрид молчала на другом конце провода, слушая, как я ломаю комедию. Поглядывая на Клер, я говорил первое, что приходило на ум.
— О! Я могу уехать очень скоро. Да, мне гораздо лучше… Если необходимо, могу быть в Париже завтра… Хорошо, договорились. Рассчитывайте на меня. До свидания.
Я повесил трубку и взял Клер за талию, придав лицу беззаботное выражение.
— Видишь ли, душенька. Меня вызывают в Париж. Звонила секретарь нашей миссии… Я отлучусь на несколько дней. Ты будешь послушной девочкой, правда? Я скоро вернусь.
Клер слушала меня с кислой миной, как дети в ожидании укола, и мне хотелось сказать ей тоже: «Тебе не будет больно… Поверь».
Послышался голос матери:
— Где вы?.. Кофе стынет… Вечно приходится за вами гоняться…
Я потащил Клер в столовую, где нас поджидали мать с тетей.
— Что с тобой, Клер? — спросила тетка. — Ты снова надулась.
Я пустился в заранее подготовленные объяснения. Всех врачей якобы отзывали из отпуска и отправляли в Ливан. Мне хотели поручить сопровождать судно с беженцами.
— Я уеду завтра, но вернусь через… Ну, там будет видно… Во всяком случае, в скором времени.
Мать намазывала маслом бутерброд, глядя на хлеб.
— Ты едешь один?
Я не мог отказать себе в удовольствии поиздеваться над ней.
— Нет. С нами поедет медсестра. Так принято.
— Хорошо, — подытожила мать, — надеюсь, что на сей раз ты заранее сообщишь нам о своем приезде.
К моему великому изумлению и облегчению, на этом обмен колкостями закончился. Мать лишь добавила:
— В последнее воскресенье ты мог бы сходить с нами к обедне.
В данном пункте моей истории мне хочется попросить пощады. Зачем я рассказываю тебе все это, как будто последние часы, проведенные в Керрареке, заслуживают детального описания! Мы посетили службу. Все взгляды в церкви были прикованы ко мне. Затем мы пообедали. Затем я позвонил доктору Неделеку, чтобы попросить его наблюдать за Фушаром, а также приглядывать за Клер. Затем я спросил себя, не следует ли оставить матери более недвусмысленное письмо? Нет, не стоит. Позже, когда мое столь неопределенное будущее начнет проясняться, мне предстоит известить ее о своих намерениях.
В связи с этим я хочу вернуться назад, чтобы сообщить тебе одну любопытную деталь. Моя мать с виду такая набожная… я полагал, что она причащается каждое воскресенье, как заведено у людей с чистой совестью. Ничего подобного… Ни она, ни ее сестра, ни Клер не ходили к мессе. Мои домашние, уткнувшись в требники, твердили молитвы, но вдали от Бога. Затем…
Хватит изводить тебя всяческими «затем». Отмечу только, что я совершил долгую прогулку в лодке, прощаясь с болотом. Я был рассеянным, но не терял бдительности. Я плыл в зарослях камыша, с грустью внимая бесчисленным звукам, доносившимся из береговых зарослей, и в то же время остерегался, как будто рисковал пойти ко дну на каждом изгибе очередного рукава. Ведь мой отец уже… Если бы я не робел, то позвал бы его. Больше всего меня удручало то, что отец не был, в некотором смысле, ни живым, ни мертвым. Он как в воду канул. Возможно, мне следовало продолжать поиски, а не бежать с этой женщиной, его бывшей… Ах! Последние часы были мучительными.
Короче. Ужин. У всех — похоронный вид; вечерние поцелуи — я долго целовал мою милую Клер, которой так тяжело будет переносить мое отсутствие, и, наконец, моя комната, где я закрылся на ключ. Уф! Теперь, как говорится, можно перевести дух. Будильник заведен на семь утра. Чемодан собран. Дезертир готов к бегству.
Наутро, в половине восьмого, я выскочил из дома. Длинная аллея, тянувшаяся до самой дороги, тонула в тумане. Каждый шаг давался с трудом, настолько сильным было чувство, что я совершаю не только глупость, но и подлость. Чтобы немного приободриться, я принялся вспоминать письмо отца. «Это безумная любовь, мой дорогой сын. Однако любовь всегда безумна. И раз, на радость или горе, мне выпала честь снова потерять голову, я решил уехать… Главное — оказаться в другом месте». И последняя фраза, похожая на припев: «Есть такие же старые дома; их фотографируют туристы, не подозревая, насколько холодно и темно внутри».
И вот настал мой черед уйти. Отец обогнал меня в тумане. К какому же горизонту мы стремились?
Я выбрался на дорогу. Вообще-то с таким же успехом можно было подождать Ингрид на развилке. Но, безусловно, чтобы соблюсти приличия, лучше было прийти на автобусную остановку порознь.
В кафе сидели лишь двое рыбаков, болтавших с хозяином. Он видел меня впервые и подал кофе с рассеянным видом. Было полдевятого. Я закурил. Легко ругать табак, но не стоит забывать, что он приходит тебе на выручку, когда чувствуешь себя пустым, как засохшее дерево.
Первые четверть часа тянулись еле-еле, но в конце концов стрелки показали без четверти девять. Ингрид должна была вот-вот подойти. Я курил одну сигарету за другой, и мои руки взмокли. Без десяти девять я вышел на улицу.
— Не волнуйтесь, — сказал хозяин. — В понедельник автобус никогда не опаздывает.
Позолоченный туман клубился над деревьями. Теперь было видно довольно далеко, но дорога по-прежнему оставалась пустынной.
— Пойдет ли утром другой автобус? — спросил я.
— Да. В полдень, но только до Ла-Боля.
Без пяти девять. Если Ингрид сейчас не появится вон там, перед водокачкой… Ну, и что тогда? Что ты от этого потеряешь? Я упорно искал, к чему бы придраться… Мы бы пошли в гостиницу и как-нибудь выкрутились… И все же она могла бы постараться явиться вовремя. Все было сплошным обманом. Я пытался сбить себя с толку, но вредный Дени нашептывал мне: «Франсуаза тоже ждала… И никто так и не пришел».
В конце дороги послушался гудок.
— Вот и он, — сказал хозяин.
Он положил на тротуар несколько свертков. Двое рыбаков поспешно осушили свои стаканы. Автобус остановился прямо перед нами.
— Привет, Жюльен.
— Привет, Гастон.
Водитель и хозяин вошли в кафе. В салоне автобуса виднелись только две пожилые женщины. На дороге по-прежнему никого не было. Водитель вернулся, вытирая рот рукавом.
— Садитесь, мсье… Скоро отправляемся.
Чувствуя себя неловко, я сказал: «Поеду на следующем автобусе. Мне не к спеху».
Водитель равнодушно махнул рукой, взобрался на сиденье и наклонился к окну:
— Эй, Гастон! Хороши, верно? Щучки не для меня. Это на свадьбу.
Автобус уехал, а я остался на краю тротуара, с чемоданом у ног. Мое сердце билось тяжело и глухо. Я сказал хозяину кафе, чтобы не упасть в его глазах:
— Мне хочется немного задержаться в Эрбиньяке. Здесь так спокойно. Вы не могли бы порекомендовать мне гостиницу?
— «У Луизы» — неплохое заведение, как раз на другой стороне площади.
Четверть десятого. Ингрид уже не могла прийти.
Хоровод предположений в очередной раз закружился в моей голове, когда я повернул обратно в Керрарек. Ингрид не пришла на свидание — значит, наверняка случилось что-то серьезное. Она — не из тех женщин, кто забывает о времени. Но, возможно, внезапно нагрянул ее муж. Возможно, у них разыгралась бурная сцена. Я не мог придумать другого объяснения, и меня охватил страх. Муж Ингрид был вспыльчивым человеком, как она говорила. Однако, черт возьми, Ингрид была способна постоять за себя. Нет, напрасно я воображал самое худшее. Тем не менее я ускорил шаг. Через несколько минут мне предстояло узнать правду. Итак, вслед за отцом, — моя любимая! Мне никак не удавалось установить связь между двумя этими… вещами, нет, двумя этими… фактами, нет, двумя этими исчезновениями — следовало произнести именно данное слово, хотя у него не было точного значения. И все же чутье подсказало мне, что произошло нечто ужасное. Раз Ингрид не пришла, несмотря на то, что сама все устроила, было совершенно ясно, что в последнюю минуту ей помешали. Как и отцу… когда у него уже лежали в кармане билеты.
Но Белло уехал в Классон. Нет, Белло тут ни при чем… Я ошибался. На миг я остановился, чтобы вытереть лицо. Я шагал так быстро, что весь покрылся потом и даже дрожал от усталости. Снова подхватив чемодан, я дошел до развилки и повернул направо. Тут же передо мной предстала вилла Ингрид. Ставни не были заперты. Ничего особенного, ведь домработница должна была прийти утром. Ничего особенного, что открыт гараж. С тех пор как прервали строительные работы, он вечно был завален досками и стремянками. Белло держал свой «кадиллак» в Нанте, Ингрид мне сама рассказывала. Что же я ожидал увидеть? Беспорядок, взломанные двери, кровь?..
Фасад дома никогда не был таким приветливым. Я позвал вполголоса: «Ингрид! Ингрид!» Дрозд порхал передо мной по аллее. Я подошел к входной двери. Она была открыта. «Ингрид! Ингрид!» Конечно, она должна быть дома. Если бы Ингрид ушла, она закрыла бы дверь, ведь у Мари-Жанны есть запасные ключи.
Я прошелся по первому этажу. Мебель, безделушки, глубокая тишина безмятежного дома… Напрасно я озирался по сторонам. «Ингрид! Ингрид!» — закричал я во весь голос и побежал вверх по лестнице.
На втором этаже было тихо. Я влетел в комнату Ингрид. Никого. Нет, не совсем. Ее чемодан лежал на кровати, а кровать не была разобрана. Если бы Ингрид здесь спала, она не стала бы застилать кровать, предоставив это Мари-Жанне. Где же моя любимая провела ночь?
Я спустился в кухню. Все было тщательно прибрано. Никакого беспорядка, говорившего о приготовлениях к завтраку. Я пришел в замешательство. Чемодан свидетельствовал о том, что Ингрид собралась в дорогу еще накануне. Это было в ее духе — не дожидаться последнего момента с его суматохой. Значит, она положила чемодан на кровать, и что за этим последовало? На кухне не только не было следов завтрака, но ни малейших признаков ужина, а Ингрид не жаловалась на аппетит. Если бы она оставалась дома в час вечерней трапезы, то что-нибудь обязательно съела. Видимо, она вышла, скучая без дела, немного прогуляться. Ведь я тоже долго блуждал по Бриеру. Но Ингрид не вернулась.
Мне нечего было возразить на этот довод. С отцом и любимой случилось одно и то же, точно зыбучие пески поглотили обоих. Однако в болоте нет зыбучих песков.
Я обшарил все закоулки дома, хотя заранее был уверен, что поиски будут тщетны. Ингрид действительно собиралась уехать со мной — чемодан служил тому доказательством, но произошло необъяснимое. Что мне оставалось делать? Вернуться в Керрарек и сказаться больным. Печаль и страшная тоска, охватившие меня, должны были подтвердить, что я не лгал. Мне предстояло ждать дальнейшего развития событий, и это было нетрудно предвидеть. Обнаружив чемодан, Мари-Жанна примется искать Ингрид повсюду; возможно, она наведет справки в Эрбиньяке и в конце концов известит мужа Ингрид. Белло позвонил в Керрарек, ведь он знает о нашем романе. Безусловно, я с ним поговорю. Затем он сообщит о случившемся в полицию… Одним словом, грядет что-то страшное. При условии, что поиски приведут к какому-либо результату. А к чему они могли привести? Ингрид нигде не было, как и моего отца. Мне следовало лишь молчать и зевать, притворяясь глухим и слепым. «Госпожа Белло?» Я качаю головой. «Между вами что-то было?» Я снова качаю головой. «Вы собирались куда-то уехать?» Опять качаю головой. «Когда вы видели госпожу Белло в последний раз?» Я лишь качаю головой. Отныне мне предстояло стать медведем, мизантропом, старым холостяком, уклоняющимся от любых вопросов. Ладно, так и поступим. Я вернусь в замок, и мать скажет: «Я почти закончила твой свитер».
Здесь мы прервемся. Дай мне передохнуть. Вспоминая эти события, я снова чувствую себя обессиленным, на грани нервного срыва, между жизнью и смертью. Тем, кто будет читать твою книгу, недостанет ни времени, ни сил посочувствовать моему горю и безымянной боли, навалившейся на меня непомерной тяжестью по пути домой. Читатель с нетерпением будет ждать торжествующей радости трех моих женщин и хорошенькой перебранки, маячащей впереди.
А вот и нет! В Керрареке царило уныние.
— Ты как раз вовремя, — сказала мать.
— Почему? Что случилось?
— У Фушара — сердечный приступ. Я позвонила Неделеку. Он-то, по крайней мере, всегда на месте, когда нужна его помощь.
— Я не вижу Клер.
Мать вяло махнула рукой.
— За ней не углядишь. Проведай Фушара.
Фушары занимали три комнаты с западной стороны. Милая квартирка, обставленная, как принято в Вандее, сияла патологической чистотой. Папаша Фушар лежал в шезлонге, опираясь на подушки.
— Он утверждает, что задыхается в кровати, — неодобрительно заметила моя тетя.
Она держала дымящуюся чашку с бесцветной жидкостью.
— Что это еще такое?
— Целебная настойка Pulmonaria officinales… Очень помогает при сердцебиениях.
— Выбросьте к чертовой матери, — завопил я. — И пусть все выйдут. Я хочу спокойно осмотреть больного.
Эжени Фушар утирала слезы. Она сидела возле мужа и держала его за руку.
— Вы тоже, — мягко обратился я к ней. — Оставьте меня с ним наедине. Обещаю сделать все возможное.
Фушар осторожно дышал, положив руку на грудь.
— Тебе очень больно?
Он ответил «да», смежив веки.
— Главное — не двигайся. Отвечай тем же способом. Только «да» или «нет». У тебя кружится голова?
(Нет.)
— Легкий обморок?
(Да.)
— Когда?.. Час назад?
(Да.)
— Та же боль, что и раньше, но более сильная?
(Да.)
— Здесь?.. В плечах?.. В шее?
(Да.)
Моя походная аптечка с инструментом лежала в чемодане, который я держал в руке, входя в комнату. Я поспешил достать оттуда свой стетоскоп, уже зная, что у Фушара — инфаркт миокарда. Постоянная сжимающая боль в области груди, отдающая в челюсти… страдальческий взгляд… Сомнений быть не может… Давление было крайне низким. Я надеялся, что у доктора Неделека найдется тринитроглицерин. Но в любом случае требовалась госпитализация. Я уже не думал об Ингрид. Я снова превратился в профессионала, о чем мне никогда не следовало забывать. Надо было срочно позвонить доктору Меро и заказать место в больнице.
Я быстро сделал все необходимое. Скоро должны были прислать машину «Скорой помощи». Между тем пришел Неделек. Беглый осмотр. Укол. Я мимоходом отмечаю все детали, которые тебе будет выгодно обыграть, так как читатель обожает все, что связано с медициной. Он всегда слегка страдает нездоровым любопытством. Раз уж данному рассказу суждено с твоей помощью стать вымыслом, не бойся дать волю своему перу. Санитары, носилки, машина «Скорой помощи», старая Эжени в слезах, мать и тетка, пытавшиеся ее утешить… По правде сказать, я тоже был довольно сильно взволнован, так как положение казалось серьезным. Лишь провидец мог бы предсказать, чем все закончится. Разумеется, я поехал вместе с больным. Каждый толчок причинял мне больше страданий, чем Фушару, а от Керрарека до клиники — неблизкий путь. Старик был неспокоен. Я понимал, что он хочет мне что-то сказать.
— Господин граф…
— Молчи.
— Не вы… Господин граф…
— Ты хочешь поговорить со мной об отце?
— Да.
— Время терпит. Если будешь нервничать, я за тебя не отвечаю.
Фушар закрыл глаза, и слезы потекли по его лицу к ушам. Он прошептал еще несколько слов. Мне послышалось: «Госпожа тоже», а затем он задремал.
В клинике я дождался первых результатов обследования. Черт побери, что же собирался поведать мне об отце Фушар? И отчего этот старый толстокожий шуан заплакал?
— Далеко не блестяще, — сказал мне доктор Меро. — Артерии у него тонкие, как стеклышки. Каким-то чудом еще ничего не лопнуло. В любом случае никаких посетителей. Полный покой. В конце концов, вы в этом разбираетесь не хуже меня. Он что, недавно сильно понервничал? Такое впечатление, что больной — в шоковом состоянии.
— Нет, не думаю. Я спрошу у его жены.
— Вы хотите скоро уехать?
— Как только будет возможно. Но прежде мне хотелось бы знать, что Фушар поправится. Видите ли, это старый друг.
— Я понимаю. Моя секретарша будет звонить вам каждый день.
Старшая медсестра задержала меня на миг, чтобы напомнить, что больному потребуется чистое белье и я должен его принести. «Знаю, — ответил я. — Пижамы или ночные рубашки, носовые платки, полотенца и так далее. Завтра я вам все доставлю».
Я ответил коллеге не раздумывая, но, проходя через больничный двор, учинил себе суровый допрос. Я ответил, что собираюсь уезжать, как только будет возможно. Не лукавил ли я?
Зайдя в кафе, я заказал бутерброд. Это была моя первая остановка после Эрбиньяка. Утро уже казалось мне призрачным сном. Ингрид не явилась. Можно сказать, что она ушла из моей жизни вслед за отцом… А теперь вот Фушар. Я напоминал себе докучливого и бесполезного больного, ожидающего в Керрареке выздоровления. В таком случае, зачем было задерживаться в замке? Мне следовало попытаться разговорить бедного старика Фушара, если он выживет. К тому же, признаться, тайна обоих исчезновений уже почти перестала меня занимать. Ну, и как ты заставишь читателей в это поверить? Возможно ли, что за несколько часов человек ударился из одной крайности в другую?
Продолжая вяло жевать кусок безвкусной ветчины, я спрашивал себя, может ли страсть… этот непонятный недуг, черное солнце, испепеляющее наше сердце, исчезнуть в мгновение ока, как бы под влиянием решения, принятого другим человеком? Кто же нашептывал мне на ухо: «С Ингрид покончено! Твой отец — в прошлом. Забудь об этом!» В самом деле, я уже почти не страдал, имея в виду страдание, разрывавшее меня на части, когда я думал: «Она была любовницей отца».
Ингрид стала теперь просто образом, расплывчатым воспоминанием. Она буквально улетучилась из меня. Казалось, можно было бы ожидать новых истерик или внезапного бреда. Ничего подобного. Я чувствовал, как во мне воцарилось неведомое спокойствие, спокойствие «нелюбви», если можно так выразиться. Я спустился на землю. Меня забавляли звуки, раздававшиеся в кафе, и шум, доносившийся с улицы. Погиб пожилой человек. Обычный случай! Исчезла молодая женщина. Обычный случай! Сердечник был при смерти. Банально! Оставалась лишь моя недавно обретенная свобода, мое единственное достояние в этом мире, и никто у меня этого не отнимет. Клянусь!
Я сел в такси и вернулся в Керрарек. Клер была дома. Она бросилась мне на шею, в то время как мать, тетка и Эжени забрасывали меня вопросами. Я утешил их, как мог, даже попытался объяснить им, что такое инфаркт.
— Вот сердце, — говорил я, показывая свой кулак. — Здесь и там, вокруг него, пролегают артерии…
— Его спасут? — спрашивала Эжени.
— Я надеюсь… Видите ли, если эта артерия закупорится…
— Ну конечно, — подхватила тетка, — мы в курсе.
В конце концов я их оставил и ушел к себе. Никогда еще у меня не возникало такой настойчивой потребности принять душ, хотя вода очищает только кожу.
Однако мать вошла в комнату вслед за мной.
— Почему ты так быстро вернулся? — спросила она без предисловий и, не дожидаясь ответа, продолжала: — Я знаю, мы с тетей ничего для тебя не значим. Но ты мучаешь сестру, то уезжаешь, то приезжаешь, как тебе вздумается… Она любит тебя сильнее, чем ты полагаешь, и живет в постоянной тревоге… В то время как твой отец… Слушай, если тебе надо уехать, уезжай. Если хочешь остаться, оставайся. Но перестань играть в прятки. У тебя своя жизнь, это меня не касается. Но ты живешь здесь, с нами, и мы заслуживаем уважения.
Мать удалилась, напоследок пригвоздив меня к стене взглядом. Даже если бы в Керрареке бушевал пожар, думаю, у нее и тогда хватило бы сил выйти из замка в перчатках, с гордо поднятой головой, чтобы соблюсти приличия. Мне же на приличия… Я — деревенщина, мамочка, и не признаю никаких приличий. Я признаю только одну вещь — необходимость.
Я окунул голову в воду и, быстро причесавшись, постучал в комнату Эжени. Необходимо было выяснить, как случился этот инфаркт, в результате какого потрясения, а также почему Фушар хотел поговорить со мной об отце. Однако Эжени ничего не знала.
— Так… Это случилось сегодня утром. В какое время? Около восьми. Муж встал немного раньше семи и сказал, что неважно себя чувствует. А затем, когда он стал пить кофе, то упал лицом в чашку. Я позвала госпожу графиню. Мы хотели его уложить, но он предпочел шезлонг.
— А как он выглядел вчера?
— Я не обратила внимания. Он ушел после обеда и вернулся поздно. Даже есть отказался.
— А! Это почему же?
— Муж послал меня подальше, когда я у него спросила. Вид у него был озабоченный. Он выкурил трубку на пороге кухни. Я слышала, как при этом он разговаривал сам с собой. Он даже сказал: «Это не может больше продолжаться». Но когда Фушар не в духе, его лучше не трогать.
— Вы его когда-нибудь видели таким взволнованным?
— Да, но не настолько… Когда исчез господин граф.
— Когда Фушар уходил прогуляться, он не говорил вам, куда направляется?
— О! С какой стати? Муж всегда ходил в одно и то же место… на болото… пострелять птиц… посмотреть гнезда… И вечно возвращался по колено в грязи. Посмотрите. Я не успела почистить его обувь.
Эжени вернулась с парой башмаков, перепачканных илом и торфом, с прилипшими травинками.
— Вот как он их отделал, — ворчливо сказала она и тихо добавила: — Бедный мой старик! Ведь мы так любили друг друга…
— Черт возьми! — вскричал я. — Еще не время плакать. Фушар пока жив.
Женщина села за стол и закрыла лицо руками.
— Полно, голубушка Эжени. Вы же знаете, что я здесь. Я позабочусь о вашем муже. Послушайте, сперва я должен собрать для него узелок с бельем. Не беспокойтесь. Я привык к подобным мелочам.
Оставив женщину наедине с ее горем, я прошел в комнату и открыл шкаф. Слева лежало белье Эжени, посредине — груды простыней и справа — вещи Фушара. Я отложил две рубашки, две пижамы и несколько носовых платков. Носки лежали в глубине и, шаря на ощупь, я наткнулся на тяжелый сверток с чем-то жестким. Быстро его вытащив, я обнаружил револьвер, завернутый в засаленную замшу. Боевое оружие крупного калибра… производство Смита и Вессона… барабан с пятью ячейками… Не хватало двух пуль.
Две! Одной был убит отец, другой — Ингрид. Это было очевидно. Фушар ходил на охоту с ружьем. Значит, револьвер предназначался для других целей. Времени на «почему» и «как» не было. Я сунул оружие в карман и унес белье. Правда ослепила меня, как луч прожектора, направленный в глаза.
— Соберите узел, — приказал я. — Через час я буду в клинике.
Фушар — убийца? Это было настолько невероятно и настолько ошеломляюще! Я был просто убит. Старик, наверное, потерял голову. Он сошел с ума. Нет, извините. Два психоза уже смахивали на умысел, на план, настойчиво и методично воплощенный в жизнь. Как же заставить Фушара говорить? Сам по себе револьвер ничего не доказывал. Для меня он был равносилен признанию. А для полиции? Тем более что Фушар славился безупречной честностью и прямотой.
Я вывел из гаража «пежо» — этой машине было суждено отныне осуществлять связь между Керрареком и клиникой. Эжени протянула мне сверток.
— Поцелуйте мужа за меня, — пробормотала она.
Я обнял ее за плечи.
— Мужайтесь. И присмотрите за Клер. Мне бы не хотелось, чтобы она сейчас путалась под ногами.
Я был уверен, что мне не позволят расспросить Фушара. Тем более что вопросы, которые я собирался ему задать, сразили бы и здорового человека. Что же делать?..
В самом деле, мне разрешили взглянуть на него только издали, да и то лишь потому, что я — врач.
— То, о чем вы хотите спросить больного, действительно очень важно? — осведомился доктор Меро.
— Да. Боюсь даже, что это заинтересует полицию.
— В его состоянии наверняка придется подождать несколько дней.
И тут начался один из самых мучительных периодов в моей жизни. Вообрази мое положение. Дважды в день наведываться в клинику и поджидать кого-нибудь из собратьев-врачей или санитаров, чтобы узнать о состоянии больного… Встанет ли он на ноги? Результаты анализов были неутешительными. Бедный старик дышал на ладан. Я же сходил с ума от нетерпения. В сущности, мне нужно было задать Фушару только один вопрос: «Это ты, не так ли?» Я заранее был уверен, что он ответит «да». Но мне хотелось услышать это из его уст, чтобы покончить с последними сомнениями. Пустая формальность, так как со временем я все яснее понимал, что толкнуло его на преступление. Я мусолил свою догадку вновь и вновь, гуляя вдоль Верденского бульвара, рассеянно глядя на танкеры, поднимавшиеся к Донжу. Я почти что бредил…
Это было настолько невероятно! Славный Фушар мог убить только вследствие своей преданности. Им двигали не злоба и не корысть; его побуждения не были низменными. Все объяснялось гораздо проще: старик узнал, что отец собирается бежать с женщиной. А это могло опозорить всех и прежде всего его, верного слугу, сторожевого пса, наследника рода Фушаров, испокон веков служившего роду Куртенуа. Некоторые из Фушаров сражались против Синих на стороне Белых[46], одни попали в тюрьмы, другие были расстреляны… Лепиньер, приносящий себя в жертву ради женщины, это предатель, которого убивают без суда и следствия.
Я говорил себе все это, в то же время размышляя: «Слишком красиво, чтобы быть правдой». В самом деле, мне казалось, что мой рассказ напоминает сказку или сценарий красочного представления. Но как же хорошо сочетались между собой детали! Авантюристка Ингрид вознамерилась совратить с пути истинного последнего из Лепиньеров, человека в белом халате, почти святого. Она тоже должна исчезнуть. Меня пощадили лишь потому, что я — последний представитель рода, но посоветовали уехать, чтобы положить конец пересудам, грозящим замарать нашу репутацию. А бедный старик, защитник идеалов, готов был сохранить свою тайну, и если его сердце не выдержит, тем лучше для него.
Этого не могло быть и в то же время казалось очевидным, при условии, что вы живете в Керрареке, — возможно, я недостаточно заострил внимание на данном аспекте. Мать и тетка… кажется, я изобразил их неприятными особами, закосневшими в своей злобе. На самом деле это не просто люди, а музейные экспонаты. Поди узнай, не догадались ли они о чем-нибудь. Спрошу себя напрямик: о чем-то, от чего они отвернулись, хотя, в сущности, были с этим согласны.
Я слонялся возле доков Пеное, выкуривая за день по два десятка сигарет, и наблюдал, как портальные краны проворно собирают корпус чудовищно огромного судна. Фушар — хранитель семейного очага. Этому обитателю болота ничего не стоило подстеречь отца или внезапно напасть на Ингрид. Ей-богу! Его заляпанные грязью башмаки были башмаками могильщика. А револьвер? Конечно, я не был знатоком, но тем не менее мог поклясться, что оружие было современным. Не особым пистолетом тридцать восьмого калибра, но и не допотопным оружием уставного образца. Фушару, видимо, было непросто найти его в продаже; он должен был, по крайней мере, предъявить удостоверение личности, чтобы получить разрешение на оружие. Но старик был слишком осторожным.
Я вернулся в клинику. Состояние больного оставалось без изменений. Родных к нему не допускали во избежание малейшего волнения. И снова — наш мрачный замок. Затем — первая статья в «Уэст-Франс» под названием «Загадочное исчезновение». (Я вырезал все, что может тебе пригодиться. Ты лишь перелистаешь материалы, следующие за моим досье.) Муж Ингрид сообщил в полицию. То, чего я опасался, должно было вскоре произойти. Полиция в Керрареке! Возможно, полицейские явятся и в клинику. Фушар такого не вынесет. Мне же не терпелось задать ему вопрос: «Это ты, не так ли?»
Я начал было поучать Клер: «Если кто-нибудь тебя спросит…», но тут же осекся. Зачем волновать сестру? Зачем учить ее лгать? Разве правда и вымысел уже не перемешались в голове Клер? Следовало смириться. Может быть, буря обойдет нас стороной.
И все же она нас слегка коснулась. Некий капрал допрашивал мать по поводу тяжбы с Белло. Но дальше дело не продвинулось. Может быть, полиция кое-что разнюхала про нас с Ингрид. Так или иначе, меня не стали беспокоить. Я был «врачом без границ», то есть человеком безупречной репутации. Я посмеивался над этим объяснением. Безупречной репутации! Доктор Меро наверняка так не считал, ибо было совершенно очевидно, что в клинике меня не жалуют. Я напрасно упомянул слово «полиция» в разговоре с Меро — оно произвело тот же сокрушительный эффект, как слово «проституция» в четырехзвездочном отеле. Кроме того, кем я был в глазах этого большого начальника? Жалким лекарем, чья преданность своему делу не компенсировала его посредственности; шарлатаном со стетоскопом, годным лишь на то, чтобы лечить головорезов. Мне не давали перекинуться с Фушаром хотя бы словом. Дескать, он слишком слаб… Почем мне было знать? Я мог пожать ему руку, но медсестра всегда была рядом, и разговаривать с больным не разрешалось.
Это продолжалось с неделю, если мне не изменяет память. Я все так же курсировал между Керрареком и клиникой, беспрестанно размышляя над проблемой револьвера. Выстрел из ружья — вот что было бы в духе Фушара. Револьвер же попахивал убийством. Однако мне не следовало забывать, что никто не должен об этом знать. Фушар был вынужден действовать быстро. Шуан, убивающий своего хозяина, дабы помешать ему нарушить традицию — нет, увольте. Такой сюжетец хорош для какого-нибудь Рене Базена или Бордо. Я же чувствовал, что благородство в превосходной степени граничит с глупостью. Пора было покончить со всеми этими туманными раздумьями.
И вот неизбежно пришло время, когда Фушару разрешили ненадолго принимать посетителей, по-прежнему в присутствии медсестры. Естественно, первой была Эжени. Последовали слезы и объятия. «Это ты собирала мне белье?» Черт побери! Фушар не терял головы и беспокоился о своем револьвере. Затем его навестили моя мать, тетя и сестра, но они, как всегда, говорили шепотом, и тайна исповеди была соблюдена. Наконец, сгорая от нетерпения, я узнал, что недалек тот день, когда нам вернут Фушара. Дома ничто не должно было мне помешать.
Когда старика выписали, мне пришлось выслушать целую лекцию Меро об опасностях возврата болезни. «Не мне вам рассказывать…» или же «Как вам, безусловно, известно» — подобные благодушные присказки предваряли каждую фразу, а я со всем соглашался, как прилежный ученик, мысленно посылая коллегу ко всем чертям. С каждым часом все настойчивее звучал во мне вопрос: «Это ты, не так ли?»
Наконец настал миг, когда я смог задать его Фушару. Эжени чистила на кухне морковь, и скрежет ее ножа доносился до меня сквозь приоткрытую дверь. Я уселся напротив Фушара, снова возлежавшего в шезлонге.
— Я нашел револьвер, — пробормотал я. — Это ты, не так ли?
— Нет, — ответил он, запинаясь, — как вы могли такое подумать?
— В таком случае кто же?
Слезы потекли из глаз Фушара. Он раздражал меня своей старческой сентиментальностью.
— Кто это? — настаивал я. — Никто не узнает. Ну, говори же… Что? Не слышу.
Я приложил ухо к губам старика, и теперь пришел мой черед вздрогнуть, как от выстрела в упор.
— Малышка? — спросил я, выпрямившись. — Что? Какая малышка?
— Клер.
— Моя сестра… Она…
— Да. Это правда. Клянусь.
Фушар прижал к груди кулак, и я повторил его движение. Мы смотрели друг на друга, одинаково задыхаясь от волнения.
— Откуда револьвер? — сказал Фушар. — Малышка вечно рыскала повсюду на своей лодке. Во время войны в Бриере шли бои. Мы знали, что в тайниках было спрятано оружие… Но где? Его так и не нашли, и люди об этом позабыли… А малышка прибрала все к рукам. Так, чистая случайность… Она всегда любила вынюхивать. Что, собственно, она отыскала? Пулеметы, гранаты, револьверы? Клер видала, как мы с графом обращаемся с ружьями, но ей запрещали до них дотрагиваться. Представляете, как она обрадовалась, когда раздобыла себе…
Обессилев, Фушар замолчал.
— Но послушай! — возразил я. — Ты же, наверное, все конфисковал.
— А вот и нет. Только Клер знает, где тайник. Когда ее спрашивают, она притворяется дурочкой.
— Значит, сестра сейчас свободно разгуливает со взрывчаткой в кармане?
— Да.
— Это просто немыслимо. Ты в самом деле полагаешь, что у нее есть другое оружие?
— Я в этом уверен.
Невозможно описать, что испытываешь в подобные моменты. Уж лучше бы я умер…
Я схватил Фушара за руку.
— Бедный дружище… Постарайся мне все рассказать, ради отца.
— Малышка ревновала, — продолжал старик. — В ее состоянии это простительно. Она, как зверушка, приходит в ярость, видя, что хозяин от нее отворачивается. В день, когда это случилось, десятого, после обеда, господин граф как раз собирался взять лодку, и тут прибежала Клер… Она захотела поехать с отцом… Он попытался ей объяснить, что ему надо побыть одному… Я был далеко… Не знаю, что сказал господин граф… вероятно, что скоро уедет ненадолго и что Клер должна быть очень благоразумной и очень послушной… Он, конечно, не подозревал, что она видела его с женщиной, как я, как многие другие… Ну вот, как знать, что тогда нашло на бедняжку? У нее в кармане лежал револьвер… Знаете, малышка обожает хранить предметы, возбуждающие ее любопытство… Она выстрелила и убежала, прихватив с собой оружие.
— Да, — сказал я, — понимаю… Да, ты должен был молчать. Тебе пришлось похоронить моего отца.
— Это было ужасно, господин Дени. Я несколько раз чуть не потерял сознание. Когда я снова встретился с Клep, она ничего не помнила… Такая у нее болезнь, да? Она легко может все забыть, когда ей хочется.
— А револьвер?
— Конечно, я искал повсюду. Малышка здорово его спрятала.
— Отдохни. Твои силы уже на исходе.
Я поправил подушки за его спиной.
— Бедный мой Фушар… Когда ты узнал, что меня связывают более чем дружеские отношения с госпожой Белло…
— Да, — печально произнес он. — Я сразу же подумал, что все повторится снова. Малышка перенесла на вас свою любовь к отцу. Вы — мужчина, хозяин, защитник… Словом, так мне кажется.
— Ты совершенно прав. Знаешь, природа такова, что львица хотела бы спать со своим хозяином.
— Господи, Дени!
— Я не хотел тебя шокировать, голубчик Фушар. Само собой, сестра взбесилась, узнав, что госпожа Белло и я… Не так ли? Какой же я был слепец! Представь себе, я даже звонил при ней по телефону, чтобы окончательно договориться с Ингрид об отъезде.
— Я присматривал за ней, как мог, — продолжал старик. — Но в то воскресенье малышка сбежала. Уверяю вас, что не спускал с нее глаз. Просто не ожидал… Я сразу обо всем догадался… Было часов пять или полшестого… Ну, так вот. Она убила ту женщину в глубине сада и на сей раз бросила револьвер, а я его подобрал.
— И закопал труп, — сказал я. — А сердце не выдержало, мой славный Фушар.
— О! — воскликнул он. — Я не мог поступить иначе… Только остерегайтесь, господин Дени. Малышка опасна.
И тут в комнату вошла Эжени.
— Ну, — сказал я. — Наш больной, кажется, на правильном пути.
В этом я ошибался. Фушар умер на следующий день, на рассвете.
Дорогой друг, ты можешь подумать, что здесь мой роман подходит к концу. Напротив, только здесь он и начинается. Все вышеописанное — не более чем краткий пересказ, черновой вариант темы. Но я уверен, что, если бы у меня был талант, лишь теперь я написал бы подлинную историю доктора де Лепиньера. Сейчас, спустя три года, я по-прежнему остаюсь в Керрареке и никогда отсюда не уеду. Я сменил доктора Неделека на его посту и живу в полном согласии с матерью и тетей. Они одержали верх. Мать вяжет мне свитера, а тетя готовит свои настойки. Что касается Клер, мы всегда вместе. Мы неразлучны. Она обвила меня, как прекрасная глициния опутывает подпирающую ее изгородь. Порой по ночам я поднимаюсь на цыпочки на чердак и обследую тайник сестры. Увы! Оружие осталось в болоте. Случается, я шарю и там. Не столько для того, чтобы найти арсенал, сколько чтобы обнаружить место, где Фушар зарыл оба тела, ведь я до сих пор не знаю, где они похоронены. Старик не успел мне об этом сказать. Два человека, которых я любил, покоятся где-то бок о бок, и плоскодонка задевает прикрывающие их камни.
Клер, сидящая на корме лодки, держит руки в воде. Она смеется, излучая веселье. А у меня в голове до сих пор не смолкает голос Фушара: «Остерегайтесь, господин Дени. Малышка опасна».
Последний трюк каскадера
La Dernière Cascade (1984)
Перевод с французского Е. Цыб, О. Ивановой
Через приоткрытую дверь свет проникает из коридора в комнату, нежно рассеивается и делает зримыми очертания предметов… Позолоченные переплеты книг, знакомые картины, медный зольник около кресла, блестящие предметы на письменном столе. Дверь тихонько открывается. На пороге появляется силуэт, тень которого падает на ковер. Царящее вокруг безмолвие нарушает доносящийся издалека медленный бой старинных часов. Тень колышется, затем делает шаг. Слышно дыхание, частое дыхание испуганного человека. Еще один шаг. Слабый звон металлического предмета.
Силуэт останавливается. Хотя он окружен полутьмой, по очертанию плеча легко догадаться, что это мужчина. Он подходит к письменному столу, садится в кресло. Лампа ярким кругом света выделяет на темном дереве его руки. В одной он держит скомканный носовой платок, другая рука в перчатке, в ней пистолет. Лицо мужчины похоже на загадочную гипсовую маску. Правой рукой он осторожно кладет оружие на бювар, потом вдруг поднятая рука замирает, как будто человек прислушивается. Успокоившись, она возвращается назад, занимает свое прежнее место. Человек вздыхает. Его глаза закрыты, веки мертвенно-бледны. Левой рукой человек не спеша протирает носовым платком вспотевшее лицо. Затем берет со стола телефон и переставляет его на бювар; снимает трубку, набирает номер. Слышны громкие гудки, которые, кажется, рассекают безмолвие ночи. Вдруг раздается щелчок.
— Телефон доверия. Слушаю, — отвечает голос.
Снова тишина. Дыхание мужчины становится прерывистым. Пальцы с силой сжимают носовой платок.
— Я могу говорить? — шепчет он.
В трубке молчание, потом ответ, такой близкий, что заставляет человека вздрогнуть:
— Я вас слушаю… Я один… Вы можете говорить свободно.
— Я могу говорить столько, сколько захочу?
— Конечно. Я здесь для того, чтобы помочь вам.
Человек отодвигает трубку от уха, вновь вытирает с лица пот и отвечает:
— Извините меня. Я не нахожу нужных слов.
— Успокойтесь… У нас есть время, — отвечает голос из трубки.
— Спасибо. Чувствуется, что я волнуюсь?
— Да… Вы очень взволнованны. Но я все выслушаю. Имейте в виду, что я не судья, я такой же, как вы. Кто знает, может быть, и мне придется испытать то же, что и вам. Расслабьтесь. Доверьтесь мне… Ну, вам уже лучше?
— Да, — тихо ответил мужчина.
— Говорите громче.
— Хорошо.
— Я вас прошу говорить громче, потому что по голосу я… как вам сказать?.. узнаю внутреннее состояние души… Вы совершили безумный поступок?
— Нет. Еще нет.
— И вы его не совершите, потому что вы все расскажете… все, что накопилось в душе, не думая ни о чем. Вы снимете с души ношу, которую больше не в силах нести, и я понесу ее вместо вас.
— Спасибо… Я попробую… Но я предупреждаю вас, у меня нет выхода.
— Никогда не говорите так.
— Тем не менее у меня нет другого выхода… Алло? Вы меня слушаете?
— Я здесь. Не бойтесь.
— Извините. Я подумал, что… Впрочем, вы имеете право повесить трубку. Слушать бред старика…
— Но вы еще ничего не сказали.
— Да. Верно.
Голос слабеет. Издалека доносится громкий бой часов. Мужчина вытягивает вперед левую руку, чтобы посмотреть на часы. Половина одиннадцатого. Он кладет обе руки на письменный стол и продолжает разговор.
— Алло… Я размышлял… Я буду с вами откровенен. Сейчас я стараюсь выиграть время. Мне не страшно. Ничего еще не произошло. Но когда я начну произносить слова… когда вы их услышите… Если я вам скажу, что у меня нет выхода… Понимаете, может быть, то, что я скрываю, когда-то произойдет, но будет слишком поздно.
— Давайте же. Говорите. Вы свободны, — нежно настаивает голос.
Хотелось бы видеть лицо этого незнакомца. Оно должно выражать доброту и дружеское внимание.
— Нет, — ответил призрак. — Я не свободен. Я чувствую, что стою на узеньком карнизе на двенадцатом этаже и в любую минуту могу упасть вниз. Назад пути нет.
Послышался слабый ласковый смех, как будто от прикосновения руки к плечу.
— Ваш образ мне нравится, — ответил голос. — Он меня успокаивает. Он мне доказывает, что у вас достаточно хладнокровия, чтобы смотреть на себя со стороны как зритель. А именно это необходимо в вашем положении. Не замыкаться на своей собственной драме, не начинать оплакивать себя.
Проходит немного времени, после чего голос продолжает:
— Я вас не обидел? Позвольте вам сказать… Сейчас вы сидите перед телефоном, не так ли?.. Разумеется… вы можете или прервать разговор, или продолжить его… Вы можете выкурить сигарету или выпить стаканчик… Видите ли… Вы хозяин своих действий… Итак, мой дорогой друг… можно я буду называть вас «мой дорогой друг»? Я вас прошу, возьмите себя в руки… Не нарушайте правила игры…
— Извините. Я вам не разрешаю…
— Не нарушайте правила игры по отношению к самому себе… Вы понимаете, что я хочу сказать… Алло! Отвечайте!
Человек переложил трубку в левую руку, а правой нащупал пистолет.
— Вы знаете, что у меня в руке?.. Слышите? — спросил он глухим голосом.
Он слегка постукивает пистолетом по столу.
— Что это? — спрашивает голос.
— Вы поняли. Тяжелый предмет… и я, который стоит на краю жизни. Да, это пистолет.
— Что?
— Я воспользуюсь им.
В трубке молчание, затем голос прошептал:
— У меня нет на вас никаких прав… Вы подумали, что я не воспринимаю вас всерьез. Я сожалею. Напротив, я-никогда не был так близок к вам. Вы больны?
— Нет.
— Вы безработный?
— Нет.
— Женщина?
— Нет.
— Мой дорогой друг, вы играете со мной в жестокую игру. Как я могу догадаться? Вы потеряли кого-то из близких?
— Нет. Я стар. Вот и все.
— Я не понимаю.
— О! Вы прекрасно меня понимаете.
— Вы чем-то подавлены?
— Нисколько… Послушайте… Я богат, здоров, у меня есть друзья. Да, чуть не забыл, я женат… У меня есть все. Я счастлив. Но я очень устал. Нет, не совсем так… Я скорее чувствую себя отрешенным… Жизнь меня больше не интересует. Я даже спрашиваю себя, зачем я вам позвонил. Вы подумаете, что я сумасшедший. Именно это меня и сдерживало. Но то, что я говорю, правда. Я в другом месте, в стороне, и это не болезнь, я вас уверяю. Это пришло как-то внезапно… Я вдруг себе сказал: «Зачем ты живешь? Каждый день одно и то же, одни и те же жесты перед теми же самыми рожами…» Я не знаю, отдаете ли вы себе отчет… Жизнь — это манеж, все крутится и крутится… Простите меня, чем больше вы меня заставляете говорить, тем больше я чувствую себя чужим в вашем мире автоматов… Я ухожу… Я немного волнуюсь, потому что причиняю вам боль… А впрочем, что это такое — боль? Человек кладет телефон на бювар и обхватывает голову руками.
— Алло! Алло! Отвечайте! — кричит в трубку встревоженный голос.
Человек тяжело вздыхает и снова прижимает трубку к уху.
— Алло! Скажите что-нибудь. Вы должны говорить, — не замолкает голос.
— Хорошо, — отвечает человек. — Но не перебивайте меня. Я вам позвонил для того, чтобы вы мне помогли, но не выжить… Я вам позвонил для того, чтобы вы стали свидетелем, который сможет повторить мои последние слова.
— Нет, я…
— Послушайте, я вас прошу. Обычно оставляют письменное завещание. Люди пытаются объяснить, почему хотят покончить жизнь самоубийством. Но в моем положении никто мне не поверит, и я предпочитаю обойтись без недоброжелательных комментариев. Вы сможете пересказать полиции, моей жене, неважно кому, наш последний разговор. Вы им скажете, что я был в своем уме и просто решил исчезнуть, потому что надоел сам себе и окружающие мне надоели. Слышите? Как артист… как писатель… примеров сколько угодно.
— Но это невозможно.
— Почему же? Я не из тех, кого надо утешать. Единственное, что вы можете для меня сделать, это позвонить в полицию и сказать, что господин Фроман из имения Колиньер только что застрелился. Никто вас не упрекнет в том, что вы проиграли. Вы сделали все возможное.
— Давайте поговорим не спеша.
— Сделайте то, о чем я прошу вас. И объясните все как следует. Я хочу, чтобы моих близких оставили в покое. Чтобы не было слез, переживаний. И особенно пусть избавят меня от прощальных речей у гроба.
Человек встает, прижимая трубку к груди, чтобы не слышать разгневанного, зовущего, но отчаянно беспомощного голоса. Он берет пистолет и направляется в глубь комнаты, тихонько, чтобы не запутать, тянет за собой телефонный шнур. Свет лампы высвечивает серый пиджак, но сумерки тут же стирают силуэт. Он подходит к застекленной двери, бесшумно ее открывает. Шелестит листва. Ночь пахнет скошенной травой. Человек подносит трубку к уху.
— Мне повезло, что я попал на вас, мсье. Рад признать это. Прощайте.
Он поворачивает трубку и, приблизив к ней револьвер, стреляет в воздух.
— Нет! Нет! — раздается из трубки крик человека, как будто его самого ранили.
Мужчина спокойно встает на ноги, выключает лампу, кладет на пол пистолет и телефон.
— Алло! Алло! — как бы в агонии стонет голос.
Большими шагами человек выходит из-за письменного стола, но он, должно быть, ушел недалеко, так как слышно шуршание ткани, хриплое дыхание, какое сопровождает обычно совершаемое усилие. Вскоре он появляется с телом на руках. По тому, как бессильно свешиваются руки и ноги, видно, что это мертвое тело. Можно различить лишь его нечеткие контуры. По легкому шуму можно понять, что труп положили у письменного стола. Руки незнакомца быстрыми движениями подносят умолкшую телефонную трубку к уху мертвеца, раскручивают барабан пистолета. Не хватает двух пуль — той, которой убили, и той, которая потерялась в пространстве. Необходимо лишь найти пустую гильзу. «Безупречное» преступление обязывает быть кропотливым. Теперь нужно заменить новой недостающую пулю и, ставя барабан на место, позаботиться о том, чтобы гильза оказалась напротив ствола.
Готово. Подумать только, все отрепетировано, как в театре. В довершение всего рука в перчатке очень осторожно, чтобы не стереть следы пороха, зажимает пальцы убитого на рукоятке пистолета. Полиция наверняка сделает парафиновую пробу. Необходимо все предвидеть. Человек встает, опираясь на стол. Он внезапно сгибается, то ли от усталости, то ли от неясных сожалений. Но быстро берет себя в руки, проверяет все в последний раз. Застекленная дверь полуоткрыта. Хорошо. Фроману всегда было слишком жарко. Тело упало вперед. Хорошо. Пуля попала прямо в сердце. Телефон как раз там, где он должен быть. Ах! Черт возьми! Нужно его протереть на всякий случай… К счастью, труп еще податливый. Его левая рука легко сжимается вокруг телефонного диска и без труда отпускает. Задом человек доходит до порога, останавливается, последним взглядом окидывает комнату, медленно пожимает плечами: «А вообще, нужно ли было сюда приходить?» — и исчезает.
В одиннадцать часов вечера комиссар Дрё был поднят по тревоге в тот момент, когда, облачившись в пижаму, чистил зубы. Его жена уже лежала в постели.
— Пошли ты их к черту хоть раз, — сказала она, когда он прошел мимо нее, направляясь к себе в кабинет.
Она прислушалась, но ее муж, как обычно, ответил:
— Да… Да… Разумеется… Я понимаю… Нет, нет… Хорошо. Я еду… Да, конечно… Гарнье с вами? Я заеду за ним.
Женевьева Дрё в бешенстве швырнула журнал на пол:
— Здесь еще хуже, чем было в Марселе. По крайней мере тебе обещали, что ты сможешь отдохнуть, а ты занят все время.
Но комиссар уже бежал в ванну с одеждой в руках.
— Фроман покончил с собой, — крикнул он.
— Я не знала его. Кто это?
— Цементные заводы на Западе. Самое грандиозное предприятие в регионе.
— И он вот так просто покончил с собой среди ночи? Не знаю… Нельзя было дождаться утра? Что ты там будешь делать? Констатируешь смерть? Разве присутствия Гарнье недостаточно?
Дрё вышел из ванной.
— Проклятый галстук, — ворчал он. — Куда ты его засунула?
— Я не знаю. И потом, послушай, галстук в полночь! Если на тебе не будет галстука, твой Фроман этого не заметит.
Дрё встал перед кроватью.
— Мой Фроман, как ты говоришь, — председатель не знаю скольких обществ, первый заместитель, генеральный советник, а между прочим, приближаются выборы.
— Ну и что?
Дрё поднял очи горе и покачал головой.
— Спи. Так будет лучше. Завтра все объясню.
Он оделся и спустился в гараж. В управлении полиции его ждал инспектор Гарнье.
— Рассказывай, — сказал комиссар, садясь в машину. — Твой коллега говорил мне о телефоне доверия. Фроман знал, что покончит с собой. Это так?
— Точно… И тот, кто говорил с ним, слышал выстрел.
— Где это случилось? Я не совсем понял.
— В Колиньере, замке Фромана.
— Это где? Извини, я не здешний.
— Держитесь правой стороны. Мы поедем по дороге в Сомюр, вдоль плотины. Вы обязательно должны были видеть замок во время прогулки. Это огромное здание неустановленной эпохи между Анжером и Сен-Матюреном, на левом берегу. Оно напоминает казармы. В нем можно было бы разместить летний лагерь отдыха, а их там всего пятеро. Фроман, его двоюродный брат Марсель де Шамбон со своей старой матушкой, молодая мадам Фроман и ее брат Ришар… Бедняга парализован по вине старика… Осторожно! Думаете, эти сволочи мотоциклисты будут держаться правой стороны?.. Ну так вот, это целая история.
— Я слушаю тебя. Возьми, там, в бардачке, есть пачка «Голуаз».
— Спасибо. Я вчера за вечер выкурил целую пачку… Итак, я говорил о старике. По правде говоря, он был не так уж и стар, лет под шестьдесят… Он всегда гонял как сумасшедший на этих здоровенных американских автомобилях, а поскольку он не привык объезжать лужи, то вечно окатывал прохожих грязной водой, они, конечно, ворчали. Но, что вы хотите, сам Фроман, все закрывали глаза. В прошлом году, за месяц до вашего приезда, на дороге из Тура в замок Шато-ла-Вальер, там очень плохой поворот, он врезался на всей скорости в старенький «пежо»… Девушка чудом осталась жива и отделалась легким ушибом, а у Ришара, бедняги, перелом тазобедренной кости, паралич нижних конечностей. Ужасная трагедия. — Инспектор громко рассмеялся.
— Вы находите это смешным? — спросил комиссар.
— Нет. Я смеюсь не над этим несчастным парнем, а над Фроманом. Этот старый козел, важное общественное лицо, влюбился в девчонку… А эта двадцатипятилетняя красотка сумела-таки женить его на себе. Просто не верится.
— Я не знал, — ответил Дрё.
— Дело замяли. Он женился на девушке, а парень стал жить в замке как принц… На следующем перекрестке свернем на подвесной мост… И мы почти на месте… Подождите, патрон, самое интересное я приберег напоследок. Фроман… стариннейший род Анжера… мукомольные заводы, шиферные карьеры, теперь цементные заводы… денег куры не клюют… а девушка, маленькая Изабелла… вы знаете, чем она занималась со своим Ришаром?.. Несмотря на меры, предпринятые стариком, это стало известно… Они с Ришаром были каскадерами! Но Фроман отбил удар! Он пустил слух, что Изабель — его дальняя родственница… и, поскольку она всегда вела себя скромно… Я не говорю о парне, который смахивает немного на Железную Маску в его крепости… Ну так вот… Про это забыли… Вы понимаете? Никакого скандала. Или просто тогда все заткнулись. А теперь в начале муниципальных выборов… это самоубийство… Вам подложили свинью, патрон.
— Особенно после происшествий последнего месяца, — проворчал комиссар.
— Конечно. Все будут искать связь между забастовками и самоубийством. Чепуха. Не хватало еще, чтобы стали говорить, что старику помогли. Уже недалеко… Вот и мост. Потом поедем по маленькой дороге вдоль берега.
— Этот тип, как его там? Из службы доверия…
— Его вызвали на завтра. Он утверждает, что спас уже многих, которые хотели отравиться или повеситься… Он упрекает себя, как будто он виноват. И выглядит сильно потрясенным. Тем более что Фроман отдал концы буквально у него на руках. Смотрите, вот он, домишко.
В глубине лужайки, окруженной листвой, создающей чудесную тень, в свете фар появился белый фасад величественного замка в стиле Возрождения с двумя флигелями, окружающими внутренний дворик. На первом этаже горел свет.
— Я что-то разволновался, — сказал комиссар.
Он остановился у ворот и посигналил. Из дома выбежала женщина в домашнем халате.
— Полиция, — крикнул комиссар.
Чтобы не ослепить ее, комиссар погасил фары. Женщина одной рукой поправляла платье на груди, а другой пыталась открыть дверь, бормоча при этом что-то непонятное.
— Иди помоги ей, — сказал Дрё.
Пока Гарнье отворял тяжелые ворота, комиссар внимательно осматривал замок. У подъезда стояли две машины. Через открытую входную дверь был виден освещенный холл. Вернулся Гарнье.
— Они только что обнаружили тело.
— Да?
— Сначала брат, а потом молодая дама. Они были в Анжере и недавно вернулись. Сейчас с ними привратник. Они сразу же позвонили нам.
Комиссар выехал на аллею.
— Не закрывайте ворота, — сказал он, опустив стекло. — Приедет много народу.
Он увеличил скорость, и гравий заскрипел под колесами.
— Мадам повергнута в ужас, — сказал инспектор. — Для нее Фроман был Богом.
Дрё припарковал машину между белым «пежо» и красной «альфеттой».
— Если я правильно понял, — сказал он, — кузен и вдова были не вместе. Это их машины.
— Старик освободил себе место, чтобы ему не мешали, — сказал инспектор.
— Да, похоже.
Они прошли мимо подъезда и остановились у входа в просторный вестибюль, который комиссар окинул мимолетным взглядом. Красивые бра из кованой стали, старинная люстра, яркие огни которой отражались на стенах мореного дуба, освещая дорогую мебель, цветы, лестницу в глубине, настоящее произведение искусства неизвестного мастера.
— Если бы я жил здесь, — пробурчал инспектор, — я бы сто раз подумал, прежде чем покончить с собой. Есть же люди, которые не ценят своего счастья!
Комиссар прошел в залу, где его встретил человек в охотничьей куртке, натянутой поверх ночной рубашки.
— Полиция, — сказал Дрё. — Где тело?.. Вы кто, привратник?.. Проводите нас.
— Это ужасно, — запричитал тот. — Господин председатель выглядел совершенно нормальным…. Сюда, пожалуйста.
— Здесь ничего не трогали?
— Нет. Он в своем кабинете. С ним мадам и господин Марсель. Вызвали врачей, полицию… Но вас не ждали так быстро.
Он так волновался, что даже поднял воротник куртки, будто ему стало холодно.
Коридор был длинный, между окнами на стенах висели картины.
— Мадам Фроман давно вернулась?
— Нет. Первым приехал господин Марсель. Он сам открыл входные ворота, стараясь, как обычно, не побеспокоить нас. Такой любезный!.. Почти сразу же после него я увидел и мадам. Я сразу догадался, что это она, так как ее машина сильно шумит… Я вышел, чтобы закрыть за ними дверь.
— Долго они отсутствовали?
— Да. Довольно долго. Господин Марсель ушел около половины девятого, а мадам немного позже. Кажется, пробило девять.
— А остальные?
— Они еще спят. Старая мадам де Шамбон живет в левом крыле, со стороны парка. Ей перевалило уже за семьдесят пять. А господин Ришар почти не двигается после несчастного случая. Он пичкает себя всякими транквилизаторами и снотворным.
Комиссар остановился.
— А прислуга? — спросил он. — Кто ведет хозяйство в таком большом доме?
— Я, — сказал привратник с виноватым видом. — И моя жена. Была еще горничная, но в прошлом месяце во время забастовки она уволилась.
— Почему?
— Она испугалась. Собственные братья оскорбляли ее. Жозеф уехал, и она с ним. Он был мастер на все руки. Занимался кухней, садом. Очень жаль, что он покинул нас.
В конце коридора кто-то громко закричал.
— Успокойтесь. Успокойтесь. Сейчас они приедут, — послышался чей-то голос.
— Это господин Марсель, — сказал привратник. — Бедная мадам не в себе. Вы разрешите?
Он бегом побежал в кабинет.
— Полиция уже приехала, — сообщил он.
Появился господин Шамбон. На нем был легкий плащ, белый шарф, который он и не думал снимать. Однако он не забыл снять правую перчатку и протянул руку:
— Марсель де Шамбон.
— Комиссар Дрё… Офицер полиции Гарнье.
Быстрый взгляд комиссара оценил Шамбона. Высокий, худой, одет с иголочки. Элегантный, чуточку слишком хорошо воспитанный.
Трое мужчин обменялись легкими пожатиями рук.
— Он там, — тихо сказал Шамбон.
Комиссар вошел в ярко освещенный кабинет. «Ага, вот и каскадерша!» — подумал он, подходя к креслу и здороваясь с молодой женщиной, комкающей носовой платок. Мадам Фроман была одета в легкое меховое манто, которое не скрывало ее прекрасных форм. Она была блондинкой с кошачьей мордочкой, бриллианты в ушах, на шее жемчужное ожерелье.
— Весьма сожалею, примите мои соболезнования, — сказал он.
Затем он обратился к Шамбону:
— Тот, кого вы обнаружили, действительно мсье Фроман? Вы подтверждаете это?
— Безусловно.
Комиссар наклонился и осторожно повернул тело, чтобы рассмотреть его лицо. Мадам Фроман при этом слабо вскрикнула.
— Уведите ее, — сказал Дрё. — Но не уходите далеко. Гарнье, осмотри револьвер.
Под трупом виднелось немного крови, а нижнее белье и рубашка буквально пропитались ею. Дрё потрогал руки. Еще теплые. Смерть наступила совсем недавно. Время, пока говорил человек из службы доверия, потом тревога, время в пути… Дрё посмотрел на часы. Скоро полночь. Должно быть, Фроман застрелился около одиннадцати.
— Этот револьвер сделан не сегодня. Им, вероятно, пользовались еще во время Первой мировой войны. И он в плачевном состоянии, — сказал Гарнье, осмотрев оружие.
— Позови привратника.
— Я здесь, — отозвался тот.
— Вы узнаете этот револьвер?
Старик испуганно вытянул шею.
— Кажется, да.
— Вам кажется или вы уверены?
— Мне кажется, что я уверен. Обычно он находился в библиотеке.
— Покажите где, — попросил комиссар.
Привратник проводил его в соседнюю комнату, заполненную книгами в превосходных старинных переплетах. На свету вспыхивали золотые обрезы. В центре комнаты стоял длинный письменный стол.
— Он всегда лежал здесь, — сказал привратник, выдвигая ящик письменного стола.
— А теперь его здесь нет, — сказал комиссар. — Я полагаю, что все в доме знали о существовании и местонахождении револьвера.
— Думаю, да, — ответил привратник. — Замок ведь находится в отдаленном месте. Мало ли что могло случиться.
— Понятно, — кивнул комиссар.
Комиссар вернулся в кабинет, вынул из кармана носовой платок и осторожно поднял телефон, который все еще лежал на полу.
— Алло… Это вы, Мазюрье? Говорит Дрё. Группа выехала?
— Да. Судебно-медицинский эксперт с ними. Я сделал все необходимое. Они должны уже быть на месте. Это самоубийство?
— Бесспорно. Когда позвонил человек из службы доверия?
— Без десяти одиннадцать, комиссар.
— Спасибо.
Вошли привратник, мадам Фроман и Шамбон.
— Выйдем отсюда, — сказал комиссар. — Подождите меня в…
— В гостиной, — предложил Шамбон.
— Очень хорошо. В гостиной. Только позвольте один вопрос, чисто формальный, не пугайтесь. Я должен заполнить рапорт. Где вы провели вечер, господин Шамбон?
Шамбон выглядел обиженным.
— Я?.. Я должен?.. Я был в кино, в Галлиа, если вас это интересует… Я смотрел фильм, о котором сейчас все говорят. — Он порылся в карманах. — Я могу показать вам билет.
— Не надо. Поймите, я обязан всех опросить. Ни одна деталь не должна ускользнуть от нас. А вы, мадам?
— Я была у друзей в Луазеле, мы играли в бридж.
— Благодарю вас…. После заключения экспертов у меня могут возникнуть еще вопросы.
Он повернулся к Гарнье, бросил взгляд на револьвер, который инспектор держал кончиками пальцев, обернув салфеткой, как дохлую крысу.
— Ну что еще?
— Ничего, патрон. Недостает одной-единственной пули.
— Так я и думал. Хорошо. Положи револьвер на письменный стол и поговори с инвалидом, если он проснулся. Может быть, он что-нибудь слышал.
— А если не проснулся?
— Не буди его. Поговори со старой леди, может, она хочет что-нибудь сказать. Попроси привратника, чтобы он тебя проводил к ней, и постарайся разузнать, был ли Фроман чем-либо расстроен, как он себя чувствовал, ладил ли он со своими близкими, ну, в общем, не мне тебя учить.
— А что вы думаете, патрон?
— В данный момент я ничего не думаю, но человек в положении Фромана не застрелился бы, не имея на то серьезных причин. И мы должны найти эти причины. Или… Вот не везет! Меня уже понизили в должности, потому что не было раскрыто самоубийство Анж Маттеоти, неужели я снова влип в дурацкую историю! Ну иди же, не обращай на меня внимания.
Оставшись один, комиссар прошелся по комнате, обратил внимание на то, что застекленная дверь открыта, вышел и заметил, что он находится в передней части замка, напротив парка. Кто угодно мог зайти сюда. Например, вор. Вор, который мог убить Фромана. Не стоит заблуждаться… Тем не менее. Я должен убедиться, что все на месте. Чтобы показать этим господам, в случае необходимости, что я ничего не оставляю на волю случая.
Ночь была прохладной, Дрё вернулся в кабинет, еще раз осмотрел труп. Очевидно, Фроман не повесил трубку до того, как выстрелить, чтобы иметь свидетеля. Он хотел, чтобы никто не сомневался в его самоубийстве. Он знал, что его смерть покажется всем необъяснимой. И в то же время хотел, чтобы причина его поступка осталась в тайне. Итак, что же это за причина? Ведь он не до конца исповедовался человеку из службы доверия.
Дрё снова прошелся по комнате. Здесь тоже было несколько книг, но в основном картотека, папки для бумаг, суровая обстановка настоящего бизнесмена. Такой подозрительный человек, как Фроман, не должен был полагаться на доверенных людей. Тем более на секретарей. Нужно поговорить об этом с Шамбоном.
На письменном столе около телефона стояла ваза с цветами, фотография мадам Фроман, и около бювара — записная книжка, которую комиссар быстро пролистал. На субботу ничего. «Ну, да! — подумал Дрё, — завтра воскресенье. (Он посмотрел на часы.) И оно уже наступило. Женевьева, наверное, страшно сердится. Но она прекрасно знает мою работу!..»
На странице, соответствующей понедельнику, было написано: «Бертайон, 11 часов». И еще многое. Встречи, номера телефонов, подчеркнутые инициалы. Все это надо проверить, но человек, который хочет застрелиться, не составляет наперед план деятельности… Странно. Дрё услышал, как вдалеке хлопнула дверь. Сотрудники лаборатории. Бесполезно объяснять им, что следует вести себя тихо, не входить в дом, где лежит труп, как отряд телевизионщиков, готовых взять интервью. Вскоре кабинет наполнился людьми.
— Дело серьезное, — сказал им Дрё, — похоже, речь идет об убийстве. С тех пор как я приехал из Марселя, мне платят за то, чтобы я сомневался.
Судебно-медицинский эксперт приехал позже всех. Это был молодой мужчина в джинсах и куртке.
— Знаете, который час? Что за мания кончать жизнь самоубийством ночью! — пробурчал он. — Отчета придется подождать до понедельника.
Он перевернул тело на спину.
— Ловко он… На первый взгляд, прямо в сердце. А это не так просто, как может показаться. Попробуйте, сами убедитесь. Наверное, смерть наступила мгновенно. Кто он?
— Фроман. Цементные заводы на западе.
— Мне кажется, я уже видел его фотографию в газете. Будет много шума.
Вспышки фотоаппарата слепили глаза. Врач сел на угол письменного стола, словно у стойки бара, и предложил комиссару сигарету. Тот отказался.
— Что с ним случилось? — спросил он.
— А, вы об этом… Видите ли, может быть, серьезное заболевание… Рак, например. Признаюсь, мне бы самому так же вряд ли понравилось бы, рак… Пойдемте, мы мешаем. Отпечатки ничего не дадут, но совесть моя будет чиста.
— Можете унести труп, — сказал фотограф.
Дрё с судебно-медицинским экспертом вышли в коридор в тот момент, когда прибежал инспектор.
— Мой заместитель, — представил комиссар инспектора. — Ну что, Гарнье?
— Нужен велосипед, чтобы добраться до этой лачуги, — воскликнул инспектор. — Молодой человек, Ришар, живет в правом крыле, довольно далеко, чтобы слышать что-либо. Я осмотрел комнату. Он спит. А вдова живет в другом конце, в левом крыле, на первом этаже. Ее дверь заперта на ключ. Бьюсь об заклад, что она жалуется на бессонницу, но вы бы послушали, как она храпит!..
Труп вынесли на носилках. Дрё попрощался с врачом:
— Спокойной ночи… Теперь можете поспать… А мне еще предстоит огромная работа… Гарнье, как насчет того, чтобы осмотреть почву около застекленной двери?.. Мне пришла в голову одна мысль… И она будет вертеться у меня в голове до тех пор, пока ты не проверишь… Эта открытая дверь выходит в парк… Мне это не нравится. Послушай! Привратник ничего интересного не сказал?
— Он все еще очень расстроен. Но надо бы узнать, что он думает обо всем этом.
— Хорошо. А я займусь теми.
Шамбон, мадам Фроман и привратник ждали комиссара в гостиной. Шамбон сидел на стуле, как в гостях, застегнув пиджак на все пуговицы. Вдова погрузилась в глубокое кресло, глаза ее были закрыты. Привратник стоял, сложив руки за спиной, его лицо выражало беспокойство.
— Прошу извинить меня, — сказал комиссар, войдя в комнату, и повернулся к привратнику.
— Как вас зовут?
— Жермен Машар.
— Вы можете идти. Увидимся чуть позже.
Дрё сел напротив.
— Завтра на досуге мы поговорим более подробно, — начал он. — Сейчас я должен осмотреть место происшествия. Итак, вы — мадам Фроман?
Она открыла глаза и испуганно взглянула на комиссара.
— Изабель Фроман… Мы были женаты около года. Почему он сделал это?
— Как раз это я и пытаюсь выяснить. Вы, мсье, двоюродный брат Фромана, не так ли?
— Нет. Я его племянник.
— Извините. Не могли бы вы объяснить?
— Все очень просто. Шарль — младший брат моей матери. Ей скоро стукнет семьдесят семь лет, он на пять лет младше. Мой отец и Шарль были компаньонами. Отец умер семь лет назад от инфаркта, и я занял его место.
— То есть?
— Трудно объяснить. Мы владеем сообща цементными заводами на западе. Шарль был председателем совета директоров, но наши права были примерно одинаковы. На таких же равных правах мы владеем и замком. Я специалист в области права, как и мой отец, и веду весь бухгалтерский учет.
— Понимаю. Спасибо. Расскажите мне о молодом Ришаре.
Наступило неловкое молчание. Изабель подала знак Марселю, но он покачал головой…
— Нет, — пробормотал он. — Не мое дело…
— Мне известно о несчастном случае, — прервал его комиссар. — Мне известно также, что вы, мадам, и мсье Монтано занимались до этого очень оригинальным делом.
— Это имеет какое-то отношение к смерти моего мужа? — спросила Изабель.
— Может, и нет. Но, пожалуйста, я должен знать. Ришар ваш брат?
— Сводный по отцу.
— Мне известно о том, что произошло, — продолжал комиссар. — Брат упрекал вас в том, что вы вышли замуж за человека, виновного в его несчастье? Я только спрашиваю. Если хотите, могу задать вопрос по-другому. В каких отношениях были ваш муж и брат? Наверное, иногда ему было невыносимо.
Молодая женщина и Шамбон переглянулись.
— Например, — продолжал комиссар, — когда он его видел за столом или в парке?
— Он был с ним очень мил, — ответил Шамбон.
— А вы, мадам, что скажете вы? Может быть, иногда он выдавал свои чувства жестом или словом?
— Никогда.
— Ну и ну! Вам не кажется это странным? Какие чувства испытывал ваш муж к вашему брату — дружбу, чувство жалости или что-то другое? Вы не знаете? А ваш брат, он любил человека, который сделал его калекой?
— Вы можете спросить у него самого, — ответил, улыбаясь, Шамбон.
Дрё хотел рассердиться и поставить его на место, но сдержался.
— Поверьте, мне не нравится совать нос в чужие дела. Но тому, кто кончает жизнь самоубийством, никогда не удается достичь этим желаемой цели. Начинают копаться в его семейных делах, извращают истинное положение вещей, вы согласны, это почти тот случай.
— Не нужно преувеличивать, — сказал Шамбон с судорожной улыбкой.
— А вы сами, — продолжал комиссар, — вы были с ним в хороших отношениях?
— В очень хороших. Но что вы хотите! Да, на предприятии был кризис. Мой дядя стал раздражительным.
— А! Видите!
— Кто угодно в такой момент потерял бы хладнокровие. Нам должны кучу денег, которые не возвращают. Нам нужно пройти через всякого рода трудности. За границей есть рынок, но мы не можем пока воспользоваться им.
— Вероятно, в этом и кроется причина. Расскажите мне о забастовке, я знаю о ней только по слухам.
— Слишком все преувеличивают. Действительно, дядя заперся в своем кабинете. Он чуть не ранил делегата стачечного комитета.
— Вот черт!
— Он часто выходил из себя, должен вам заметить, он был патроном старой закалки.
— А вы?
— Нет, я нет. Мы даже ссорились иногда из-за этого.
— Очень интересно.
— Он привык все решать сам, относиться даже к очень близким, как к прислуге.
— К вам тоже?
— Конечно.
— Вы на него сердились?
— Случалось время от времени. Но и только.
— Из ваших слов я могу заключить, что ни в личной жизни Фромана, ни в профессиональной не было ничего, что могло бы толкнуть его на самоубийство?
— Да, думаю, что так, господин комиссар.
— А вы, мадам? Вы тоже так считаете? Он говорил с вами о делах?
— Никогда, — прошептала вдова.
— Вы мне ничего не рассказали о его здоровье.
— У него иногда повышалось давление, — объяснил Шамбон.
— Я спрашиваю мадам Фроман, — с раздражением ответил Дрё.
— Да, это так, — ответила вдова. — Он соблюдал режим, во всяком случае старался это делать. Но не пропускал деловых приемов. И очень много курил.
— Одним словом, ни в чем себе не отказывал.
— Совершенно верно.
— Но он не пил?
— Нет. Может быть, изредка.
— Извините, я вынужден задать вам этот вопрос. Он изменял вам?
Шамбон и Изабель обменялись быстрым взглядом, который Дрё перехватил на лету.
— Не скрывайте от меня ничего, — почти прокричал он.
— Шарль обожал меня, — шепнула, застеснявшись, Изабель. — Марсель может подтвердить.
— Именно так, — сказал Шамбон. — Хотя когда-то у него была репутация бабника, и он дважды разведен.
— Он остепенился? — спросил Дрё.
— Он ублажал меня во всем, — ответила молодая женщина.
Дрё посмотрел на часы и собрался уходить:
— Мы еще вернемся к нашему разговору. В любом случае необходимо произвести вскрытие, хотя оно нам ничем не поможет. Все и так ясно. Единственное, чего я хочу избежать, так это сплетен, пересудов, злословия… Как вы понимаете, злые языки только и ждут… Если бы мы могли найти истинную причину, которая объяснила бы поступок Фромана. К несчастью, пока мы ее не знаем, он даже не оставил записки, как это обычно делают люди, решившиеся на такой отчаянный шаг. Извините, что задержал вас.
— Не хотите ли выпить чего-нибудь перед уходом? — предложила вдова, стараясь справиться с ролью хозяйки дома.
— Нет, спасибо. Я навещу вас завтра утром, если позволите. Я должен опросить…
— Моя мать ничего нового вам не скажет, — прервал Шамбон.
— И Ришар тоже, — добавила Изабель. — Они оба еще спят, и не они….
— Знаю, — отрезал комиссар. — Но мне необходимо для отчета… Спокойной ночи. Ах да, еще одна вещь. Вы не думаете, что произошло ограбление?
— Ограбление? — оба посмотрели на комиссара почти с укоризной.
— Извините. Я лишь хотел заметить, что дверь в сад была открыта. Кто угодно мог проникнуть через нее в дом… Между самоубийством и вашим приездом прошло довольно много времени. Вы понимаете, к чему я клоню. Первый вопрос, который приходит в голову: хранил ли Фроман в своем кабинете деньги, ценности?
— Нет, — категорично ответил Шамбон. — Он был очень осторожен. Ведь замок расположен в безлюдном месте…
— Хорошо, хорошо. Я не настаиваю, — прервал комиссар. — Не было ли раньше попыток ограбления?
— Никогда.
— Не будем больше говорить на эту тему. Последнее: закройте ворота. Я не хочу, чтобы вам надоедали журналисты. И не отвечайте на телефонные звонки, или ладно, отвечайте. Если будут настаивать, говорите, чтобы обращались к комиссару Дрё. Я рассчитываю на вас. Спасибо.
Инспектор Гарнье ждал, прислонившись к машине.
— Ничего особенного, — сказал он. — Но при электрическом освещении многого не увидишь. Днем я еще раз все осмотрю.
Комиссар пожал плечами.
— Нет надобности. Мои сомнения оказались бесплодными. Я почти уверен, причины самоубийства чисто профессиональные. Фроман знал о том, что его срок вышел. Во всяком случае, надо поискать с этого конца. Куда делся привратник?
— Он у себя.
— Идем. Садись за руль. Я устал. Перед воротами посигналишь.
Машина тронулась с места. Дрё тяжело вздохнул.
— Ты знаешь, это очень странный дом. С одной стороны, эти двое акробатов, с другой стороны, Фроман, который не внушает доверия, и между ними молодой человек, смахивающий на воспитанника иезуитов. Любопытно! Я забыл у него об этом спросить, но бьюсь об заклад, что он не был ни разу женат. Не знаю, почему мне так кажется.
Привратник ожидал их у ворот. Комиссар открыл дверцу машины:
— Всего лишь два-три вопроса. Кто накрывает на стол?
— Я, пока не найдут новую кухарку.
— Как вчера прошел ужин? Не казался ли Фроман чем-нибудь озабоченным?
— Нет. Но он не имеет привычки много говорить.
— Ужинали все пятеро?
— Нет. Мадам де Шамбон не ужинает. Моя жена приносит ей настойку.
— А молодой человек? Ришар… как его там?
— Ришар Монтано. Я думаю, его отец был итальянец. Я слышал об этом. Он всегда предпочитает есть один. Мне кажется, он стесняется своих костылей и коляски.
— Хорошо. Они ужинали втроем. О чем они говорили?
— Не знаю. Я не был там все время. Но думаю, что они говорили о выборах. Вы знаете, что на хозяина очень нападали, и это было ему неприятно. Я часто встречался с ним в саду по утрам, когда поливал цветы. Перед тем как отправиться на завод, он выкуривал свою сигару, и мы с ним болтали о разных вещах. Он мне говорил: «Жермен, ты считаешь это справедливо после всего, что я для них сделал? Они требуют мою шкуру».
— Вы уверены, что он говорил именно так: «Они требуют мою шкуру»?
— Да. Это была его манера говорить.
— А на кого он намекал?
— Черт, не знаю. Человек в его положении должен иметь много врагов.
— Итак, вам кажется, что вчерашний вечер прошел так же, как и всегда? Никто не приходил? Может быть, почтальон?
— Нет. Абсолютно ничего.
— Спасибо. Можете идти спать.
Машина выехала за ворота и постепенно набрала скорость.
— Нам предстоит веселенькое воскресенье, — пробормотал Дрё.
Больше он не проронил ни слова.
Собеседником Фромана из службы доверия оказался мужчина лет пятидесяти, он был одет во все серое: серый плащ, серые перчатки, в руках он держал зонтик. На лацкане пиджака значок клуба «Ротари»[47].
Он церемонно раскланялся и представился:
— Жан Ферран, негоциант.
Комиссар указал ему на старое потрепанное кресло напротив себя.
— Итак, мсье Ферран, слушаю вас. Но прежде всего выясним очень важный вопрос: в котором часу прозвучал выстрел?
— В двадцать два часа сорок минут.
— А сколько времени продолжался разговор?
— Пятнадцать минут. Я привык обращать внимание на подобные детали.
— Как построена работа в службе доверия? Вы дежурите сутками?
— В принципе, да. Но я страдаю бессонницей, почему бы мне не использовать это? Вот я и дежурю четыре раза в неделю с восьми вечера до полуночи. Я знаю, что в других организациях, возникших ранее, таких как «SOS», «Дружба», например, правила другие. Мы же стараемся работать до тех пор, пока это возможно. Мы обеспечиваем прежде всего моральную поддержку, но и конечно же материальную помощь, организуя встречи с людьми, которые нам звонят.
— Кто вам звонит обычно?
— В основном женщины.
— Безответная любовь?
— Нет, не только это… Безработные женщины, молодые девушки, которые не могут найти себя… Я знаю, что это такое. Я работал в профсоюзе на заводе деталей. Эти проблемы, к несчастью, знакомы мне.
— Много ли попыток самоубийств?
— Нет. В последнее время люди хватаются за все, что только можно.
— У вас сложилось впечатление, когда вы слушали голос вашего собеседника, что он действительно решил покончить с собой?
— Я почувствовал, что он был очень взволнован. Но не думал… Этот выстрел… У меня было ощущение, как будто в меня выстрелили в упор.
— Вы были знакомы с мсье Фроманом?
— Как и все. Я не был его сторонником в политике. Мы встречались два или три раза на свадьбах, похоронах, в общем, в тех местах, где нельзя не встретиться. Но мои симпатии и антипатии не имеют к данному делу никакого отношения.
— И все же, когда он назвался, о чем вы подумали?
— Честно говоря, ни о чем. Я был оглушен, я должен был как-то действовать… Меня застали врасплох… Он мне не давал вставить ни слова.
— Да? Не могли бы вы мне повторить то, что вас особенно поразило? Но сначала расскажите, о чем вы говорили. Он вам сказал, почему собирается застрелиться?
Мсье Ферран опустил голову на ручку зонтика, который все это время сжимал между коленями. Он закрыл глаза, чтобы сосредоточиться.
— Сначала его голос дрожал. Он был напуган… Это всегда так бывает… Потом он сказал, что у него в руке револьвер, и постучал его рукояткой по столу, чтобы убедить меня. Это меня испугало. Я спросил, не болен ли он? Нет. Может быть, его обманули? Или он потерял дорогого ему человека? Нет.
Мсье Ферран открыл глаза и загнанно посмотрел на комиссара.
— Что бы вы сделали на моем месте?
Комиссар покачал головой.
— Вы ни в чем не виноваты, — сказал он. — Если я правильно понял, у Фромана не было никакой причины?
— Был мотив, но очень странный. Я хорошо помню его слова.
— Говорите. Это очень важно. — Дрё слегка наклонился вперед.
— Он сказал: «Я чувствую себя отторгнутым… Жизнь меня больше не интересует. Я чувствую себя чужим в вашем маленьком мире автоматов. Я ухожу».
— Это похоже на слова человека, который страдает депрессией.
— Нет. Он настаивал на этом. Я не могу забыть его последние слова: «Я прекрасно владею собой… Я решил исчезнуть, потому что надоел себе и окружающим».
— Но это же абсурд.
— Затем он продолжал: «Я хочу, чтобы домашних оставили в покое, чтобы не было никаких беспокойств и хлопот». Потом он сказал что-то вроде: «ни цветов, ни венков».
— Одним словом, — сказал Дрё, — он вам оставил своего рода устное завещание.
— Да, что-то вроде этого.
— Вы продолжали слушать после того, как раздался выстрел?
— Да, конечно. Сначала воцарилась тишина. А потом, мне кажется, я услышал, как упало тело. Но не сразу.
— Результаты вскрытия мы получим завтра. Но я думаю, что смерть наступила мгновенно. Вы уверены в том, что сказали?
— Да. Впрочем, я не могу поручиться. У меня немного закружилась голова. Я был слишком далек от того, чтобы предполагать что-либо.
— Постарайтесь вспомнить. Бух-х! Прогремел выстрел. Трубка все еще у вас в руках.
— Постойте, — прервал Ферран. — Мне хватило времени, чтобы подумать: «Он наверняка сидит. Сейчас он упадет. Может быть, я услышу стон», и я уже подумал: «Нужно звонить в полицию и „скорую помощь“… Слишком поздно!» И в этот момент я услышал какой-то шум… Нет, это был не удар. Я не могу точно сказать, что это было.
— Тело упало на мягкий ковер, — объяснил Дрё.
— Тогда, наверное, да.
— Видите ли, — сказал комиссар, — строго между нами, мне кажется странным, что такой человек, как Фроман… У меня никак не получается ухватить, но что-то меня смущает! В его поступке, и особенно в некоторой рекламе, которой он окружил себя, чувствуется нарочитость. Если тебе надоело жить, не надо кричать. Достаточно было бы письма. Завтра эта новость появится в местной печати. Фроман не был скандалистом. Постарайтесь вспомнить все до мелочей. Это может мне очень помочь. Вы должны бы записывать такие разговоры.
Ферран привстал.
— И не думайте! Если бы этот несчастный не сообщил мне свое имя и адрес, я бы хранил молчание. Мы вмешиваемся только с согласия тех, кто нам звонит. Наше умение хранить тайну не должно ни у кого вызывать сомнения.
— Да, конечно, — согласился Дрё. — Вы правы. Когда Фроман застрелился, он был один в замке. Только вы оказались у него под рукой. И тогда, в момент отчаяния… это можно объяснить так. Я вас благодарю, мсье Ферран. Вам необходимо подписать свидетельские показания.
Весь этот рассказ написан мной. Подошло время сказать об этом. Абсолютно весь. Мысли персонажей… их поведение. Например, разговор комиссара с женой в самом начале романа. Конечно же, я не прятался под кроватью. И меня также не было в машине, когда Дрё разговаривал с инспектором. И так далее. Я собрал все сам из маленьких кусочков, шаг за шагом, как делают модели машин, кораблей… Я уверен, что ничего не забыл. Слова, которые я писал, не во всем совпадали с теми, которые были произнесены, но они полностью соответствуют сути сказанного. У меня было время собрать сведения, всех опросить и выслушать. Конечно же, Изу и Шамбона. И даже Дрё, который делает вид, что болтает, чтобы побольше выведать. От калеки, скорее от заключенного, ничего не скрывали. Меня все жалели, рассказывали мельчайшие подробности из жизни, чтобы я не чувствовал себя исключенным, отрезанным от жизни, наказанным. И все знали, что я могу дать хороший совет. Одним словом, они не оставляли меня. «Как вы думаете, Ришар?» или: «Такое самоубийство для вас все равно что кино, это должно быть вам интересно». Да, друзья, мне все интересно. Они и не подозревали, когда уходили, что у меня оставались мои глаза, которым дела нет ни до пространства, ни до времени, которые различали набросок романа там, где все видели лишь хаос и загадки. И как здорово ими управлять, как куклами, по-своему. Даже тобой, Иза, которая меня предала!
Было одиннадцать часов, когда комиссар Дрё прибыл в Колиньер. Он был один. На этот раз он немного привел себя в порядок, но был не в духе. Он встретился с Шамбоном и сразу же направился еще раз осмотреть кабинет, где долго изучал обведенный мелом силуэт на ковре.
— Есть что-то, чего я не понимаю, — наконец сказал он. — Мсье Шамбон, вы поможете мне?
— Охотно.
— Сядьте за стол, возьмите телефонную трубку в левую руку так, как будто собираетесь звонить… Давайте… И по моему сигналу падайте. Но не сразу. Сначала грудью на край стола, затем на пол. В два приема, если хотите.
— Но… Я не сумею, — промямлил Шамбон. — И потом, при мысли о том, что Шарль…
— Это очень важно, — настаивал комиссар. — Постарайтесь… Вы готовы?.. Хорошо. Раздается выстрел. Бах! Давайте же.
Побледневший Шамбон наклоняется вперед.
— Стоп. Помедленней, — закричал комиссар. — Так, теперь правое плечо вперед. Падайте… Падайте же! Не бойтесь! Стоп! Не двигайтесь.
Распластанный на полу Шамбон дышал так, как будто долго-долго бежал.
Дрё изучал положение тела.
— Я так и знал, — пробормотал он. — Фроман, должно быть, стоял. Это кажется более логичным. Сидя нелегко направить оружие на себя. Так мне кажется.
— Я могу встать? — спросил Шамбон.
— Конечно.
Комиссар еще раз взглянул на очерченный мелом силуэт.
— Меня беспокоит, что труп находился в положении, которое не поддается объяснению. Если бы он сидел, он должен был упасть по-другому. Но если он стоял, отдача револьвера откинула бы его назад. У револьвера такого калибра она достаточно сильна.
— Может быть, он не сразу упал, — предположил Шамбон.
— Правильно. Он мог согнуться и упасть на колени. И все же. Я не совсем уверен… Где Монтано?
— Все еще в своей комнате. В девять часов Жермен относит ему завтрак. Кофе и тосты.
— А потом?
— Жермен помогает ему встать. Небольшие расстояния Ришар преодолевает на костылях. Он приводит себя в порядок и опять ложится. Он много читает, слушает музыку. В час я его сажаю в передвижное кресло. Он доверяет это мне одному.
— Значит, вы хорошо ладите?
— Почти как братья.
— Но мне казалось, что мадам Фроман также заботится о нем… Я сказал что-то не так?
— Нет, — ответил Шамбон в замешательстве. — Или скорее да. Правда заключается в том, что Шарлю не нравилось, когда его жена долго находилась у Ришара.
— Значит, Ришар, кроме вас и Жермена, практически никого не видит?
— Никого. Он ведет очень уединенный образ жизни.
— Проводите меня к нему.
Они дошли до конца коридора, повернули направо и прошли через просторную комнату с закрытыми ставнями. Шамбон не включил свет. Он объяснил лишь, что это столовая, которой больше не пользуются.
— Сюда. Мы находимся во флигеле Ришара.
— Он сам захотел перебраться сюда? Мне кажется, что для инвалида это ссылка.
— Он предпочел эту комнату сам. Ему хотелось иметь свой угол… Сюда, пожалуйста.
Шамбон тихо постучал в дверь и шепнул:
— Это мы, Ришар. — И повернулся к комиссару: — Он нас ждет. Он в курсе. Не обращайте внимания на беспорядок. Он не открывает шторы. Но что вы хотите? Надо принимать его таким, каков он есть.
Он толкнул дверь и вошел. Комиссар порадовался, что его предупредили. В комнате горел ночник. Он освещал кровать, на которой валялись многочисленные журналы по автомобильному спорту, яхтам, футболу. Стены были увешаны портретами спортсменов. Дрё посмотрел на худое лицо Ришара. Он был блондином с длинными курчавыми волосами, светлыми глазами голубовато-зеленого цвета, придававшими ему больной вид. Неяркий свет лампы освещал его руки, которые… Ришар поднял их, раздвинув пальцы.
— Вы удивлены, — произнес он. — Не скажешь, что это руки акробата, не так ли? Слишком тонкие, слишком хрупкие.
Он протянул правую руку Дрё, который с удивлением почувствовал ее сдержанную силу.
— Вы чертовски сильный! — воскликнул он.
Ришар расхохотался и показал костыли, лежавшие у изголовья кровати.
— Ничего такого, чтобы поддерживать форму. Если вы чувствуете, что немного ослабли, походите на костылях. Результат гарантирован.
В этом шутливом предложении проглядывал сарказм, даже, пожалуй, большее… Что-то вроде агрессивности психопата против полицейского.
— Садитесь, — продолжал Ришар. — Освободите себе кресло.
— Хватит! — закричал Шамбон. — Этот несчастный Ришар, ему напрасно говорили…
— Вы слышите? «Несчастный Ришар». Вы тоже должны звать меня «несчастный Ришар».
Шамбон убрал одежду и предложил Дрё сесть.
— Что бы вы ни думали, — сказал он, — это простой визит вежливости. Вы в курсе того, что произошло. Я знаю, что вы ни при чем. Но мой долг поговорить со всеми, кто живет в этом доме. Естественно, вы ничего не слышали.
— Ах! Ах! Ах! — воскликнул Ришар. — Простой визит вежливости, однако меня допрашивают. Хорошо, нет, я ничего не слышал. Но даже если бы я что-нибудь и услышал, я бы не двинулся с места, потому что мне плевать на то, что происходит с папашей Фроманом. Понимаете?
— Вы его не любили.
— Он оставил меня без ног. По-вашему, я должен сказать ему спасибо, да?
— Вы ссорились с ним?
— Они избегали друг друга, — вмешался в разговор Шамбон.
— Это правда, — продолжил Ришар. — Как только он меня видел, он останавливался как бы в забывчивости; или смотрел на часы и еле слышно шептал: «Где была моя голова?», и, приветствуя меня жестом, быстро поворачивался и исчезал… Эта игра в прятки меня забавляла. Я обил резиной колеса и костыли, поэтому передвигаюсь очень тихо, без шума. Должен сказать, что, когда я настигал его, он держался прекрасно; осведомившись о моем здоровье, он каждый раз напоминал мне о том, что замок Колиньер — мой дом. Но внутри себя он со злостью думал: «Я должен был задавить его». Поймите, комиссар. Я обесчестил его замок своим присутствием. И кроме того, я очень дорого ему стою. А он был страшный жмот!
— Одним словом, вы были с ним на ножах?
— Скажи я нет, вы бы поверили?
— А ваша сестра… как она чувствовала себя между двух огней?
— Иза? Мне не повезло, меня не убили. Это ей значительно облегчило бы жизнь.
Заметив, что комиссар ждет объяснений, он продолжал:
— После аварии мы больше не были безработными. Что, по-вашему, должна делать безработная девушка? Конечно, выйти замуж. Тут как раз подвернулся Фроман. Он или другой, лишь бы женился. Здесь, по крайней мере, пристойное жилье.
— Вы здесь останетесь?
— Думаю, да. Это зависит от завещания.
Дрё задумался. Интересно узнать, кому перейдет состояние. Он встал, полистал журналы и положил их около кровати.
— Вас это все еще интересует?
— А почему бы и нет? — со злостью спросил Ришар. — У меня есть тележка. Пока я могу рулить, у меня есть занятие.
В тот момент, когда Дрё хотел пожать Ришару руку на прощание, он заметил телефон.
— Вы не так одиноки. Это Фроман вам предоставил?
— Его заставила Иза. Она сказала: «Так или никак».
Он улыбнулся и показался вдруг совсем молодым, похожим на ребенка, который гордится своим механическим поездом.
— Отсюда я звоню кому хочу.
— Вы часто пользуетесь телефоном?
— Достаточно часто. У меня есть друзья, которые не забывают меня.
— Значит, если я захочу спросить у вас что-либо?..
— Можете тут же позвонить. Не стесняйтесь, комиссар.
Комиссар вышел из комнаты. Я знал, куда он пойдет. К старухе, наверх. Мне сказал это Марсель. Я мысленно последовал за ними. Марсель, как всегда, волновался. А комиссар был погружен в свои мысли, так как у него было о чем подумать. Это самоубийство выглядело не очень убедительно. Но он не мог сказать почему. Мы с Изой ему надоели. Мы придавали происшествию какой-то подозрительный привкус. Бродячие акробаты! Другими словами, самоубийство с душком, негодное к употреблению. Все зажали носы, чтобы не слышать дурного запаха. Старуха, Ламбре де Шамбон, урожденная Фроман, уже держала наготове нюхательные соли.
Комиссар и Марсель пришли поговорить с ней. Марсель постучал в дверь. Она открыла. Она была вся в черном, лицо неподвижное, как посмертная маска. У комиссара не было никакого желания вдаваться в чувства. Но он явно хотел вытянуть из нее что-либо обо мне или об Изе…
— Женитьба вашего брата не удивила вас? — задал свой первый вопрос комиссар.
— Если это можно назвать женитьбой! По-моему, это легальное сожительство.
Это было сказано твердым, громким голосом, который говорил о том, что слуги для нее были всего лишь слугами.
Она завелась и продолжала:
— Мой брат оказался просто глупцом… а этот (она посмотрела на своего сына) идиотом. Оба восхищались шлюшкой, которая привела с собой этого безногого урода, не знаю уж на какой ярмарке нашла… Да, да, так и есть!
Это правда. Она меня именно так и звала: безногий урод. Я это узнал от Марселя. Он извинился передо мной. При этих словах комиссар поморщился. Он хотел возразить. Но она перебила его:
— Меня не интересует, кто виноват в аварии. Важен результат. А результат таков, что моего брата убили.
— Но подождите, — сказал Дрё, все еще не свыкнувшись с манерами старухи, — он не был убит. Он…
Старуха досадливо отмахнулась.
— Это вы, мсье, хотите представить дело, как вам удобно. Вы нашли револьвер и труп. Значит, самоубийство. Слишком просто.
Я буквально видел эту сцену, пересказанную мне Шамбоном. Надо признаться, она мне показалась очень пикантной. Но я возвращаюсь к Дрё, который не любит, когда ему наступают на мозоли.
— Вы знаете мсье Феррана, — продолжал он. — Это весьма уважаемый человек. Вчера вечером он дежурил на телефоне службы доверия.
— Что это такое, служба доверия?
— Филантропическое общество, которое пытается помочь отчаявшимся людям.
— Как будто нельзя дать им умереть спокойно! Извольте знать, Шарль отнюдь не был отчаявшимся человеком!
— Однако он позвонил в службу доверия, сообщил свою последнюю волю и застрелился. Мсье Ферран все слышал.
Старуха рассвирепела:
— Что я вам говорила. Его застрелила эта потаскуха.
— Она провела вечер в городе.
— Тогда его убил этот безногий ублюдок.
— Он спал.
Она принимается рыдать. Когда она плачет, то становится жалким существом, таким же жалким, как и я. Потом произошла стычка между ней и ее сыном; я догадался об этом, но сколько ни пытал Марселя, он был нем, как рыба. Потом Дрё снова вернулся. Трудно угадать, о чем он думает. Благостно извинился и спросил:
— Всего лишь один вопрос. Вы говорили, что у вас есть друзья?
— Да, конечно.
— Они навещают вас?
— Вначале пытались. Но их не пускали за ворота. Распоряжение врача. Чего только не наговорят эти врачи! Единственная причина в том, что папаша Фроман не хотел видеть у себя в доме людей… как это сказать? Колоритных. Если хотите, я расскажу вам.
— Конечно, — согласился комиссар.
Он мне улыбается. Он пожирает меня глазами. Между нами создалось некое сообщничество, и причина в том, что от него все что-то скрывают. Я находил это увлекательным. Когда он жал мне руку, я задержал ее в своей.
— Я рассчитываю на вас, комиссар. Я скучаю без своего цербера.
Это была правда. Я скучал.
Тогда-то я и решил все рассказать, неважно как. Но сначала надо поднять занавес. Комиссар не забыл взглянуть на гараж, расспросить Жермена. Он постепенно зондировал почву в зависимости от настроения, но я знал, что он ничего не добьется. Итак, папаша Фроман взял свою машину накануне часов в десять утра. Обедал и ужинал он в городе и вернулся довольно поздно. Дрё был достаточно хитер и не спросил у Шамбона и Изы о распорядке дня старика. Он обратился к его заместителю. Это было надежнее. В замке Колиньер — я сразу заметил это — он не доверял никому. Именно поэтому он позвонил инспектору. Логично. Легко можно представить их разговор.
— Алло? Гарнье? Я только что из замка. Я видел молодого Монтано. Он вовсе не силач. Довольно симпатичный малый, но весь в веснушках. Не люблю конопатых. И очень агрессивный! Это я могу понять. Конечно, от него я ничего не узнал. Его отношения со стариком были хуже некуда. Что касается королевы-матери, она неописуема. Я тебе расскажу. Одним словом, сумасшедший дом. Завтра свяжись с налоговой инспекцией и узнай, где находятся сокровища Фромана. Потом попытайся выяснить, чем он вчера занимался. Он не ел дома. Узнай, где и с кем он обедал и ужинал. Я займусь бывшей горничной и нотариусом. Жду результатов экспертизы и вскрытия. Знаю, что будет подтверждено самоубийство. Но я сыт по горло самоубийствами, которые, может быть, не являются таковыми. И на этот раз я не хочу очутиться в каком-нибудь захолустье вроде Финистера или Канталя.
Представляю себе комиссара, просматривающего в понедельник утром в офисе газеты. Наверное, у него такой же кабинет, какие я сто раз видел. В воздухе плавает облако табачного дыма, стол заставлен пепельницами, полными окурков, силуэты многочисленных посетителей за матовыми стеклами, множество звонящих телефонов. Дрё пробегает глазами статьи, подчеркивая красным карандашом некоторые фразы, покачивает головой: …необъяснимое исчезновение… Следствие продолжается… Председатель Фроман — один из тех, кого невозможно заменить…
Стук в дверь. Входит инспектор Гарнье. Я всегда видел его перед собой — беспокойного, озабоченного, уткнувшегося носом в землю, будто кокер-спаниель.
— Вот результаты вскрытия, патрон.
— Прошу тебя, избавь меня от чтения подобной литературы. Давай рассказывай.
— Очень просто. Пуля попала прямо в сердце. Мгновенная смерть. Выстрел в упор. Остались следы пороха на жилете и рубашке.
— Никаких заболеваний?
— Нет. Малый был крепко скроен. На века. Вы недовольны, шеф?
— Скорее да, чем нет.
Наступило молчание. Гарнье пошарил в карманах, достал помятую сигарету и закурил от зажигалки Дрё. Комиссар протянул ему листок бумаги, на который сбрасывал пепел.
— В лаборатории проверили. Пуля револьверная, это и так ясно. Этот револьвер остался у Фромана еще со времен Сопротивления. Его отпечатки повсюду. Все остается по-прежнему.
Гарнье просматривает газеты и роняет пепел с сигареты.
— Осторожно, — сказал Дрё. — Ты устроишь пожар. Ступай себе. Кстати, бесполезно опрашивать заместителей Шамбона. Лучше поговорить с младшим персоналом… с секретарями… Послушать, о чем говорят. Это меня интересует. И не забудь про налоговую инспекцию. Я пытаюсь связаться с нотариусом, но у него постоянно занято.
— Кто этот нотариус?
— Некий Бертайон. Его имя фигурирует в блокноте Фромана. Он должен был встретиться с ним сегодня в одиннадцать.
— Странное совпадение. Мне лично кажется, что это дело…
Зазвонил телефон. Дрё снял трубку и передал отводную инспектору.
— Нотариус на линии, — ответил голос.
— Спасибо, Поль. Алло? Мсье Бертайон? Говорит комиссар Дрё. Я вам звоню по поводу смерти председателя Фромана. Мне известно, что он должен был встретиться с вами сегодня утром. Вы можете сказать зачем?..
— Это ужасно! Такой известный человек! Какая потеря для города.
Гарнье усмехается, закрывая рот рукой: «Хватит врать!» Дрё строго взглянул на него и продолжил:
— Вы знаете, мэтр, о чем он хотел поговорить с вами? Это очень важно, и вы можете пренебречь соблюдением тайны и ответить, был ли этот визит каким-либо образом связан с завещанием.
Нотариус медлил с ответом.
— Это не принято. Но, конфиденциально, да, я имею право сказать, что он хотел изменить свое завещание.
— В каком смысле?
— Я не знаю. Очень хорошо помню его слова. Когда я спросил, спешное ли дело, он мне ответил: «Да, это по поводу моего завещания. Я хочу изменить его». Это все. Он ничего мне не объяснил. Ограничился тем, что назначил встречу на сегодня.
— Когда это произошло?
— В прошлую пятницу. Во второй половине дня.
— И на следующий день покончил с собой… Был ли он взволнован, когда говорил с вами?
— Нет. Но он не имел привычки показывать свои чувства.
— Как обстоит дело с наследством?
— Все переходит его сестре и, следовательно, его племяннику, мсье де Шамбону. Он также оставил значительную сумму жене. С таким капиталом можно жить. Я не помню все на память. Но утверждаю, что он щедро распорядился.
— Еще один вопрос, мэтр. Говорят, что у него были трудности.
— Ай! — шутит Гарнье. — Это больной вопрос.
Нотариус колеблется, покашливает, затем произносит четким голосом:
— Да. Не все в порядке. Он был уже уволен, и это еще не все… Я думаю, вам лучше поговорить с мсье де Шамбоном. Он знает лучше меня.
— Спасибо. Я вам очень благодарен, мэтр. Тело покойного передано семье. Похороны состоятся, когда они захотят.
Поистине забавно манипулировать этими людьми как пешками, подчинять своей воле, неукоснительно придерживаясь при этом фактов, так, насчет завещания, я знал от Изы, что Фроман хотел изменить его. Он угрожал ей этим. Я еще вернусь к вопросу о завещании. Нет ни одной детали, которую не опровергла бы другая. Я делаю монтаж, произвольно выстраиваю ход событий. Я создаю для себя спектакль с непредсказуемым финалом для себя, кого уже ничем не удивишь.
Вот комиссар снова погружается в свои мысли. «Разве человек может застрелиться, собираясь изменить завещание? Что-то здесь не сходится. С другой стороны, чью долю он хотел увеличить? Или сократить?» Широкое поле для всякого рода предположений.
Дрё нашел в картотеке розовую папку с надписью: «Дело Фромана». Интересно, розовая ли она? Мне хочется, чтобы она была розовая. Что точно, так это то, что дело существует и оно содержит рапорт, касающийся меня и Изабель. Мы прозябали за дверью, пока не вошли, словно взломщики, в семью председателя. (Я всегда говорю: «Председатель», потому что он коллекционировал посты; просто до смешного. Я видел однажды его визитную карточку. Там было много строчек, называющих всякие организации, начиная со страховой индустриальной компании и кончая ассоциацией повышения жизненного уровня в странах Запада. Естественно, им интересовалось Разведывательное управление, а также и нами, самозванцами.)
Дрё открыл дело.
«Монтано Ришар, родился 11 июля 1953 года во Флоренции и т. д.» Не хочу читать все подряд. Расскажу лишь о том, что привлекло внимание комиссара. Профессия: каскадер. Постоянный сотрудник Жоржа Кювелье. Жорж Кювелье — известный постановщик трюков. Все знают его. Дрё задумывается. Тот, кто работал с Кювелье, не может быть первым встречным. Ничего общего с этими уличными парнями, гоняющими по воскресеньям на роликах, к изумлению прохожих. У каскадеров тоже существует иерархия, и наверняка Монтано Ришар находился на самой верхней ступеньке. Доказательство этому — его доходы. Дрё никак не мог понять, что каскадер — такая же профессия, как любая другая. Конечно, профессия с высокой степенью риска. Но не больше, чем в профессии комиссара полиции. Кроме того, такая же почетная. «Прис Изабель, родилась 8 декабря 1955 года в Манчестере и т. д.» Дрё опять задумался. Изабель родилась в цирке, в одном из английских цирков, которые скитаются по большим дорогам. Это его привело в замешательство. Из Манчестера — в замок Колиньер. Нет. Это уж слишком. Что слишком? Он не знал. Инстинктивно он не доверял этой паре. Хотя и не был конформистом. Он видел достаточного всяких людей. Ну и что, эта девушка прекрасна. И она ничего не сделала, чтобы прибрать Фромана к рукам. Наоборот, этот идиот, который…
Дрё продолжал читать. Монтано и его компаньонка направились из Нанта в Лион на съемки фильма. Конечно, во всем был виноват Фроман. В трубку он не дышал. Анализ крови не сделали. Авария произошла в половине четвертого. Председатель возвращался с приема. Наверняка он выпил. Чтобы покончить со сплетнями, он поселил обе жертвы в своем доме. Какой благородный жест! «Я, Фроман, умею признавать свои ошибки. И чтобы обо мне не думали плохо, я женюсь на девушке». Остается узнать, почему девушка принимает предложение.
Комиссар почуял, что здесь кроется маленькая тайна. Теперь он не отступится. Есть еще многое, чего он не знает. И я ему скоро это расскажу. Сначала я расскажу о себе. Хладнокровно. Объективно. Как врач, описывающий состояние больного.
Сначала о ногах. Я не говорю «моих» ногах. Они больше никому не принадлежат. Я их тащу за собой на буксире. Они волочатся за мной, будто тряпичные конечности чучела. По утрам я должен вывернуться наизнанку, чтобы спустить их с кровати. Я хватаю их, борюсь с ними изо всех сил. Я их сбрасываю с простыни. Я мог потребовать у старика санитара, помощника. Но если бы я пошел на это, то чувствовал бы себя униженным. Я предпочел бы повеситься. Будучи один, я могу как-то управлять этими искалеченными, бледными отростками, которые медленно атрофируются, раскачиваясь из стороны в сторону и цепляясь за все на своем пути. Прежние ступни болтаются то вправо, то влево. Я должен постоянно следить за ними, так как неизвестно, куда их может занести. К счастью, от головы до пояса я в форме и довольно крепкий. Приподнявшись, мне удается сесть. Вес двух безжизненных ног — это что-то невообразимое. Мои костыли находятся у изголовья кровати. С ними надо обходиться очень осторожно. Однажды я уронил один костыль. Он упал на ковер совсем рядом и одновременно очень далеко от меня, так как, наклоняясь, я могу потерять равновесие и оказаться на земле, словно перевернутая на спину черепаха.
Конечно, я могу позвонить в колокольчик. Я это сделал. Мне пришлось долго ждать. Никто не пришел под предлогом того, что нужно дать мне поспать. Спасибо. Урок усвоен. Я научился просовывать костыли под мышку и движением плеча принимать удобное положение стоя. Я качался, но держался. Нужно было наклониться вперед всем телом, потом откинуть его на расстояние длины шага (это было похоже на движение весов) и подняться на костыли, чтобы сразу же выполнить новый рывок. Таким образом я продвигаюсь как пирога, которая никак не может перескочить через планку. Приобретя некоторый опыт и ловкость, это менее сложно, чем может показаться. Я мог бы пользоваться английскими тростями. Но мне больше нравилось разыгрывать перед всеми безобразный спектакль ковыляния. Палки создают образ выздоровления. Костыли — окончательного краха. Они вызывают брезгливую жалость.
После того как я вышел из больницы, я хотел, чтобы меня сильно жалели. Из чувства мести. Моя гордость не была задета. Я знал, что могу на себя рассчитывать и впредь. Но единственным средством навязать свои условия Фроману, Шамбону и даже Изе было демонстрировать им свое сломанное тело во всей его красе. Фроман сразу же купил мне инвалидную коляску. Накрыв колени одеялом, я приобретаю, можно сказать, презентабельный вид. Этот подонок Фроман может позволить себе забыть о том, что он меня искалечил. Необходимо признать, что Иза делала все возможное, чтобы скрасить мою жизнь. Шамбон тоже. Но так ловко, что я выходил иногда из себя. Они ухаживали за мной, как за больным. Только старая ведьма все поняла и называла меня «безногим уродом». Ну вот, я — цирковое чудище, живое, ходячее и злое. Как всякое уважающее себя чудище. Но только Иза, родившаяся в цирке, может понять весь ужас быть карликом, уродцем, ненормальным. Она не может смириться с тем, что я лишь наполовину человек. Для нее я навсегда останусь раненым, к которому надо относиться с терпением, снисхождением, добротой. Я не выношу этого! Знаю! Я сам себе противоречу. Я хочу и не хочу, чтобы за мной ухаживали. Мне нравится, когда поправляют подушки и спрашивают: «Ты не замерзнешь?», когда эта дубина Жермен Спрашивает меня, лучше ли мне, и в то же самое время мне хочется выть. Мне, которому приходилось во время съемок проходить через огонь и стены! Я серьезно думал о самоубийстве. А потом перестал. Может быть, немного позже. Но сейчас я должен доказать, что мои трюки продолжаются. Мне необходимо было убить старика. По многим причинам, о которых я скажу еще, хотя они и очевидны. Мне необходимо было совершить правосудие. Меня толкал на это настоящий профессиональный проект, проект полноценного человека, имеющего все доступные средства. Как лучше сказать? «Безупречное» преступление. И я понял, что моя жизнь изменится. Ко мне вернется радость жизни. Деятельности! Я — убийца, разрушитель? Полноте! Скорее, созидатель. Изобретатель. Необходимо было, не прекращая, ненавидеть Фромана. Я должен был, не торопясь, рассчитать его смерть. И если бы это длилось месяцы, тем лучше!
— Мадемуазель Марта Бонне, не так ли? Позвольте представиться: комиссар Дрё. Я могу войти? Спасибо. Вы догадываетесь, зачем я к вам пришел?.. Нет?.. Вас не удивила смерть вашего бывшего патрона? Вы читаете газеты?
На вид Марте Бонне можно было дать не более двадцати пяти лет. У нее был вид застенчивой и напуганной женщины. Она оглядывалась по сторонам, словно искала помощи.
— Успокойтесь, — сказал комиссар. — Мне нужны лишь некоторые сведения. Вы долго работали в замке?
— Три года.
— Значит, авария произошла при вас?
— Да, конечно. Бедный парень… Мне его очень жаль.
Она постепенно пришла в себя и продолжила:
— Я редко видела Ришара. Только в парке в хорошую погоду. Его прогуливал господин Марсель.
— А мадам Фроман не гуляла с братом?
— Нет. Почти никогда.
— Почему?
— Не знаю. Жермен утверждал, что мсье Фроман запретил ей. У него вообще странный характер.
— Вы с ним не очень ладили?
— Когда как. Иногда он был очень мил, а иногда проходил мимо, не обращая на вас внимания.
— Может быть, он был обеспокоен делами?
— Может быть. Но, думаю, скорее ревновал. Господин комиссар, — она понизила голос, — я повторяю лишь то, что говорили другие.
— Кто?
— Весь город.
— А что говорили?
— Что мадам годилась ему в дочери и что эта женитьба скрывала что-то грязное… и что никто не знал, откуда взялись эта девушка и ее брат.
— Брат? Вы имеете в виду пострадавшего?
— Ну да. Но брат ли он ей? Тогда зачем это скрывать?
— А вы, Марта, что вы думаете?
— Странные люди, господин комиссар. И этот несчастный простачок вертелся вокруг нее.
— О ком это вы?
— Да о мсье Марселе, о ком же еще! Может быть, я не права, когда так говорю о нем, но я выходила из себя, когда он начинал любезничать с мадам Фроман.
— Это было заметно?
— Женщины чувствуют подобные вещи. Кроме того, мать его тоже заметила. У них был крупный разговор на этот счет.
Комиссар записал что-то в записную книжку.
— Подведем итог. Если я правильно вас понял, никто ни с кем особенно не ладил. Фроман держался подальше от Монтано и подозревал своего племянника. Мадам де Шамбон не любила жену мсье Фромана и говорила об этом своему сыну. Ну а сама мадам Фроман? На чьей же она стороне?
— На своей.
Дрё оценил девушку по достоинству. Ее нельзя было назвать глупой. Он вспомнил слова, запомнившиеся Феррану: «Я чувствую себя отрешенным. Жизнь меня больше не интересует». Понимал ли Фроман, что его женитьба была грубейшей ошибкой и что все в конце концов обернулось против него? Преданный своими рабочими, друзьями и, возможно, своей женой, не опустились ли у него руки? Очень может быть. Дрё решил поговорить более серьезно с вдовой. Он берет отпуск. Тогда у него будет оправдание, если его упрекнут в том, что он затянул расследование.
Конечно же, я не присутствовал на похоронах. Мне обо всем рассказал Марсель. Обычная церемония, ничего особенного. Народу было много. Особенно любопытных, которые пришли на кладбище, чтобы посмотреть на Изу. Моросящий дождик капал на официальные лысины. Звучали торопливо произносимые речи. Наконец-то мсье Фроман оставит нас в покое. Но не комиссар. Он продолжает вынюхивать. «Почему Фроман хотел изменить завещание? Этот вопрос заставляет серьезно задуматься. Распоряжаться долей сестры и племянника он не мог. Значит, единственным человеком, о котором могла идти речь, была Иза. Может, он решил лишить ее наследства? Но почему тогда он застрелился?» Он «плавает», бедный Дрё. Он чувствует, что упустил нечто очень важное, а так как он слишком добросовестный, то анализирует все гипотезы. Он опускает зонд наобум, притворяясь, что бездействует, так как высокое начальство ему шепнуло: «Не гони волну!»
— Уважаемая мадам, я хотел бы попрощаться с вами и сообщить, что расследование практически закончено.
Сесть он, как обычно, отказался. Он взглянул на мадам Фроман и нашел ее очень привлекательной в трауре.
— Что вы намерены делать? Этот замок, должно быть, кажется вам мрачным местом.
— Я не могу бросить свою старую тетушку. Если бы Шарль мог видеть меня, он несомненно одобрил бы мое решение.
Дрё ошарашен, вспомнив в каких выражениях сестра покойного отзывалась об Изе. Он осмеливается возразить:
— А разве теперь мадам де Шамбон — не единственная владелица замка Колиньер? Это я так спросил. Я знаю, что она будет счастлива, если вы останетесь с ней.
— Конечно, — принимая самый печальный вид, отвечает Иза. — Но даже если бы она предпочла, чтобы я уехала, хотя это не так, ей бы пришлось выполнить последнюю волю Шарля. Я имею право жить здесь столько, сколько захочу.
— А мсье Монтано?
— Он тоже. Это черным по белому написано в завещании.
— Но ваш муж хотел изменить завещание. Вам известно это. Почему?
Заметно, что Изу терзают сомнения, она долго колеблется, прежде чем ответить.
— Мое расследование закончено, — повторяет комиссар. — Вы можете говорить свободно. Ничто не может опровергнуть того, что ваш несчастный муж покончил с собой. Но это последнее «почему» очень важно.
— Хорошо, — бормочет она. — Я все вам расскажу. Мадам де Шамбон всегда имела большое влияние на своего брата, не такое, как на Марселя, — это уже было что-то патологическое… но мой муж прислушивался к ней, и, когда он счел себя вынужденным приютить нас здесь после аварии, он сделал это против воли своей сестры. Представьте себе, как она приняла известие о нашей с Шарлем женитьбе.
Дрё берет стул и садится рядом с Изой. Ему крайне интересно.
— Это был разрыв, — продолжала она.
— Окончательный?
— Абсолютно. Она уединилась в своих апартаментах. Она контактировала с Шарлем только через Марселя. Шарль был не менее гордым, чем она; один не уступал другому. Теперь вы понимаете, какую жизнь мы вели. И мой муж страдал от этого. Дошел до того, что обвинял во всем меня, как будто я была виновата. Дела шли так себе… до тех пор, пока она не вбила себе в голову, что ее сын влюблен в меня.
— А это, конечно, неправда.
— Конечно, нет. Марсель прекрасный человек, но неосновательный, что ли.
— Послушайте, мадам. Я, наверное, плохо объяснил. Что вы ничего к нему не испытывали, это понятно. Но он?.. Другими словами, вы хотите сказать, что его мать ошиблась?
— У меня все основания так считать. Марсель всегда вел себя дружески по отношению к нам обоим.
— К нам? То есть к вам и мсье Монтано?
— Именно. Однако Ришар интересовал его больше, чем я. Марсель — очень скрытный, у него не было друзей. Ришар в его глазах был всегда сверхчеловеком. Бедный Ришар, если бы он меня слышал!
— И что же? Мадам де Шамбон решила выйти из своего уединения, чтобы предостеречь сына?
— Да, что-то вроде этого. Я ответила на ваш вопрос?
— Возможно. Но разрешите мне расставить точки над «i». Если я правильно вас понимаю, ваш муж, рассердившись на вас, мог задумать лишить вас наследства и запретить вам жить здесь после его смерти?
Иза развела руками, как бы затрудняясь ответить:
— Или заставить Ришара уехать, а это бы поставило меня в безвыходное положение… Морально я чувствую себя ответственной за него. Куда ему податься в таком состоянии одному?
— Извините, что настаиваю, — подумав, решился Дрё, — но вернемся к моменту, последовавшему за аварией. В то время ваш муж не намеревался поместить Ришара в специализированную клинику, в Швейцарии, например?
— Да, он думал об этом. Его сестра настаивала.
— Почему же он отказался?
— Чтобы не потерять меня.
— Извините, он был уже тогда влюблен?
— Это вам кажется странным? — с грустной улыбкой спросила Иза. — Это потому, что вы не знали Шарля. Он хотел меня, ему иногда случалось захотеть чего-либо позарез. Его никогда не останавливала цена.
— Но вас не заставляли соглашаться.
— Это правда. Кстати, сначала я сказала нет. А потом…
Она замолчала и слегка покраснела.
— А потом? — спросил комиссар.
— Я велела ему спросить у Ришара, согласен ли он.
— А! Даже так!
Иза пристально взглянула на комиссара и изменившимся голосом произнесла:
— Вы хотите знать все? Так вот, именно мой брат толкнул меня в объятия Фромана.
Сказав это, она встала.
— Вы удовлетворены, господин комиссар?
Комиссар тоже встал, тщетно пытаясь скрыть свое замешательство. Ему казалось, что где-то он попал впросак.
— Благодарю вас за вашу откровенность, — сказал он. — Мне необходимо найти формулировку, чтобы закрыть дело. Начальство подгоняет меня. Утверждать, что ваш муж застрелился из-за личных неприятностей, нельзя… Вы догадываетесь, какие поползут слухи… Также нельзя утверждать, что причина в финансовых затруднениях, так как это вызовет панику среди его персонала… Не потому, что впал в отчаяние. Никто не поверит в это. У меня только одна формулировка: «Вследствие продолжительной болезни». Все знают, что это значит, эти болезни могут никак не проявлять себя. Итак, если вы согласны, мы будем держаться такой версии, но вам нужно будет подтвердить это вашим знакомым.
— Я сделаю это. Остается убедить его сестру.
Я так и не узнал, о чем говорилось у старухи. Марсель показался мне очень раздраженным. Иза лишь поцеловала меня в лоб.
— Плюнь… Все будет хорошо.
И, как если бы они приняли обет молчания, больше эта тема не затрагивалась. Жизнь вошла в свое привычное русло, с той только разницей, что теперь я мог свободно разъезжать по дому. Раньше присутствие старика угнетало меня. Да, мне нравилось пугать его. Но подспудно я боялся зайти слишком далеко, вызвать его ярость. Иза беспокоилась. Она умоляла меня оставить его в покое, прекратить вести себя вызывающе. А теперь мне его не хватало. Проходили дни. Мне было тоскливо. Я скучал по нему. Чего-то недоставало. Нет, не лекарств. Ненависти, а это, может быть, хуже. Я с трудом свыкся с мыслью о том, что старик в могиле. Он поймал меня. Я — его. Мне недостаточно было сказать это. Я понял, что я должен был написать, чтобы потом перечитывать. По кусочку каждое утро, как лакомство. Такую смерть можно смаковать, как вино. Но сначала предстояло провернуть уйму дел.
Да, я ненавидел своего отца. Прежде всего, он был коротышка. А коротышка не должен играть на контрабасе. Он не должен выставлять себя напоказ, прижимаясь к его женственным формам. Настоящий отец не носит двубортных пиджаков клубничного цвета. Другие музыканты тоже походили своими костюмами на рассыльных в отеле. Но они играли сидя. Никто не обращал на них внимания. А он стоял. Были видны мешки у него под глазами, крашеные волосы и что ему скучно. Он боролся с зевотой, притворяясь, что следит за левой рукой, украдкой частенько взглядывал на часы. Вечера длились вечность. Танцующие качались на месте, как водоросли. Я засыпал, одуревший от шума. Выходил из оцепенения, лишь когда появлялась моя мать. Ее тоже я никогда не прощу. Она выходила на сцену в длинном узком платье из какого-то блестящего материала. Я видел, что она слишком накрашена и почти голая в своем сверкающем платье. Иногда, откидывая голову назад, она так широко открывала рот, чтобы взять высокую ноту, что был виден ее дрожащий язык. Это было отвратительно.
Попытаюсь вспомнить. Я так и вижу эти танцзалы, эти киношки с потрепанными креслами. Меня часто оставляли в гардеробной. Я сосал эскимо. А после этого — улицы, гостиницы, ожидающий нас в полутьме ночной сторож. Но все это туманилось, стиралось, как склеенные наугад обрывки фильма. Мне было тогда пять-шесть лет. Поистине, странная семья. Однажды отец ушел к скрипачке. Чтобы заработать на жизнь, моя мать вынуждена была давать уроки фортепьяно. К счастью, нам помогали мои бабушка с дедушкой. Мы жили возле Бют-Шомон в хорошей квартирке, окна которой выходили в парк. Мой дедушка (по матери) был флейтист в республиканской гвардии. Я его видел на празднествах, разодетого как оловянный солдатик. Он был восхитителен и немного смешон со своей дудкой. Он в такт кивал головой, поднимал в небо томный взгляд или склонялся до земли с серьезным видом заклинателя змей. Его я очень любил. Но почему он решил учить меня играть на виолончели? Этот великолепный человек, выдающийся флейтист умел играть как любитель на многих музыкальных инструментах. Как консьержи дорогих гостиниц умеют говорить о погоде-о природе на семи или восьми языках, так и мой дед был дилетантом, хватающимся за все сразу, от виолончели до арфы, от тромбона до английского рожка. Он был, так сказать, музыкальный полиглот. Он удивлялся моему сопротивлению. Он не мог понять, что я испытывал к виолончели что-то вроде суеверного ужаса, как если бы она явилась результатом того, что мой отец обрюхатил свой контрабас.
И потом, существовала сложная проблема с басовым ключом. Почему «до» нужно было читать как «ми», «фа» как «ля» и так далее? Этот мудреный, замысловатый язык еще больше злил меня. Единственная музыка, которая мне нравилась, это был шум автомобильного мотора. Необъяснимое пристрастие, согласен. И тем не менее…
Мне исполнилось десять лет. У меня был друг или скорее приятель, Мишель, у которого был маленький итальянский мотоцикл. Это была моя первая страсть. В этом возрасте дети влюбляются в механизмы. Ласкают их, говорят с ними, крутятся возле них. Ради собственного удовольствия мы с Мишелем разбирали машину, чистили ее до блеска, ухаживали за ней. Потом я долго еще вдыхал оставшийся на руках запах масла и смазки, подобно аромату близости. Иногда мне удавалось убедить себя в том, что эта машина принадлежит мне. Ко мне приходили друзья. Я за ними наблюдал. Есть взгляды, которые покрывают металл ржавчиной зависти. Тем не менее, мы обменивались замечаниями искушенных в автомобильном спорте людей. «Она развивает скорость свыше 80… Она мощная, а бензина жрет не больше, чем зажигалка. Если ты мне не веришь, спроси у мсье Пауло». Мсье Пауло — это был человек, всегда в белом, как астронавт, который накачивал колеса велосипедов и мотоциклов, начиная от самых маленьких, худеньких, походивших на слишком быстро вытянувшихся девочек, до огромных чудищ с бычьими шеями. Смотреть и то на них жутко! И скорость, соответствующая силе, они только и ждут, чтобы сорваться с места в грохоте выхлопов. Мой дед, уязвленный бездарностью своего ученика, считал меня помесью кретина с бездельником, коим казался ему любой, тратящий время на копание в моторе.
— Ступай к своим хулиганам, — кричал он. — Плохо кончишь, как и они.
Я, счастливый, уходил к мотоциклистам, которые собирались в парке или около телевизионной студии. Их нельзя было назвать группой, они были похожи на косяк рыб — если один перемещался, все следовали за ним, жались друг к другу. Они не говорили, а как бы обменивались звуками, как дельфины, вдыхая с наслаждением голубые пары газа. Именно мотоцикл Мишеля положил начало моим подвигам.
При малейшей возможности мы сматывались в Венсенский лес. Боже мой, когда я вспоминаю об этом!.. Меня пожирал огонь, пламя взрывной жизненной силы. Я уже научился управлять мотоциклом, ставить его на дыбы, как норовистого жеребца, и пускать с места в карьер, мышцы напряжены, нервы натянуты, как струны, как у спринтера перед тяжелым стартом, зажавшим волю в кулак. Начались первые упражнения. Я бы сказал: первые гаммы, если бы это слово не застревало в горле. Мне необходимо было любой ценой приобрести мотоцикл марки «Эндуро-125». Однажды в понедельник утром, увидев такой мотоцикл на улице, покрытый грязью воскресных вылазок, я, словно зачарованный, застыл на месте. Как он был хорош! Весь в вонючей жиже, еще более мужественный и мощный. Я не осмелился потрогать его, несмотря на страстное желание проникнуться, как на ритуальном обряде, таящейся в его умолкшем сердце неодолимой силой!
Я принялся прилежно работать, чтобы купить мотоцикл моей мечты. Я мыл машины. Я даже клянчил милостыню своим чистым юношеским голосом. Домашние ни о чем не подозревали. И мне удалось по случаю купить подержанную «хонду». И после того, как я ее разобрал, промыл бензином, начистил, словно оружие перед боем, покрасил втихаря в прачечной Мишеля, несмотря на возраст, она восстала из пепла, готовая ринуться в бой. Машина высший класс!
Мне исполнилось пятнадцать лет. Бабушка с дедушкой потеряли всякую власть надо мной. Мать вообще ничего не значила. По воскресеньям, в лесу Фонтенбло, я научился медленно преодолевать самые крутые склоны, вздымая тучи брызг, перемахивать залитые водой овраги, взбираться на кручи, которые остановили бы и козла. О чудо! Машина могла пройти всюду. Ее мотор звучал отрывистым, непререкаемым голосом победителя, когда она брала разбег перед очередным препятствием. Неописуемая радость — парить в пространстве! Живительный ветер скорости! Ожидание секунды, когда переднее колесо приземлится с акробатической ловкостью, и сразу же новый прыжок на полном газу в крутой вираж, который приходится выполнять боковым скольжением, тормозя ногой, слегка касаясь земли, в гейзере пыли и мелких камешков. Ах! Как сжимается сердце! Мои первые победы! Высшая ступенька подиума. Первые слезы счастья на почерневшем лице, на котором очки оставляли две белые дыры… Предпочитаю остановиться на этом. У меня украли мою жизнь.
Круг по комнате на моей коляске между кроватью, столом и стульями. Я ищу свою трубку. Это до ужаса смешно — безногий курит трубку! К счастью, в этой комнате нет зеркал. Я попросил, чтобы их унесли. Так же, как и фотографии. Иза думала, что делает мне приятное, развешивая их по стенам. На них запечатлены мгновения полета… Вот я прыгаю с автомобиля, который готовится сделать «бочку»[48].
Вот я кидаюсь на плечи бандита, стреляющего по разведчикам… Прыжок с вертолета… Я помню все фильмы, более и менее известные, которые принесли мне славу и почет. Помню вывихи и множество шрамов, оставшихся на моем теле. Все — в помойку! Я сохранил лишь большую фотографию Изы. Она снята у камина. В костюме из черной кожи, она напоминает Фантомаса, забавно, как корзинка с фруктами, на локте у нее висит каска.
Теперь мало что значат детали нашей встречи. Мой отец погиб в автомобильной катастрофе (странная, однако же, наследственность), а мать Изы умерла от рака молочной железы. Изу взял к себе цирковой эквилибрист. Она начинала с маленьких, словно игрушечных, велосипедов, блестящих, как серебряные. Их укрепляют на специальной шестеренке, которая позволяет танцевать, крутиться на арене в настоящем механическом стриптизе, ведь можно шутя вынуть руль, отвинтить переднее колесо, снять раму так же легко, как побрякушки и лифчик, даже седло, и то в конце концов летит к черту. Остается одно колесо, на нем, грациозно вытянув руки, можно вертеться, легонько нажимая на педали, пока клоун с красным носом не снимет ее с велосипеда.
Я забрал ее с собой. Приучал к мотоциклу, за каких-нибудь несколько недель она стала фанатом. Страсть к мотоциклу заразна, как гонконгский грипп. Короткий инкубационный период, и превращаешься в мотоцикл, подобно детям, которые становятся то парусником, то автомобилем. Смотришь на себя, расцвеченного отблесками огней, чувствуешь свой запах кожи и стали. Ты одновременно и машина и шофер. Кто сумеет воспеть охватывающий тебя восторг, когда слышишь шелковистый шорох, сдержанный сладостный шум мощного мотора. Вы чувствуете между ног живую песню металла. Словно при рождении какого-то мифологического существа. А потом…
Меня не понять тем, кто не устремлялся к горизонту, кто не чувствовал, как вертится земля под ногами, кто не ощущал на лице дыхания ветра на виражах, едва избежав перелома ноги или плеча, кто, сжав зубы, не чувствовал себя кентавром, минотавром, единорогом, монстром, отданным на заклание или торжество! Довольно! Ни к чему терзать себя.
Изе также явилось откровение. Когда она, спотыкаясь, ничего не видя вокруг себя, слезала с мотоцикла, она напоминала неверующего, которому было видение. Существует чувственность страха, куда более сильная, чем волнения любви. А теперь, когда я задумался, в этом притягательность ремесла каскадера. Но мы мешаем. Мы оставляем за собой запах самоубийства. Вот почему мы не нравимся. Считается, что ни у кого нет права бросать вызов смерти. И тем не менее, Иза и я, чета Монтано, как нас называли, мы находились на вершине блаженства перед замершей толпой. Со скоростью 150 километров в час мы перелетали друг за другом через стоящие в ряд машины. Как обезумевшие, мы совершали отчаянные, невозможные, гигантские прыжки. «Они сошли с ума», — думали зрители. Но и нам, люди добрые, был ведом страх. В тот момент, когда мы опускали козырьки наших касок, мы обменивались быстрым обжигающим взглядом. Пламя автогена регулируется: из красного оно становится белым, из белого синим, пока не превратится в тонкую прожигающую иглу. Мы смотрели друг другу в глаза в ожидании этого языка пламени. За ним вспыхивала уверенность: «Я люблю тебя, и я выиграю». После этого оставалось лишь отдаться в какой-то сверхчеловеческой радости силам, старательно выверенным нами заранее.
И пришел однажды страшный день, когда Иза неудачно приземлилась, завертелась на асфальте, выделывая немыслимые акробатические фигуры в смерче сверкающих осколков, пока не застыла в невыразимой неподвижности смерти. Ее положили на носилки. Я сжал ее безжизненную руку. В ее светлых волосах запеклась кровь. Кома. Клиника. Хирург в белом, как и я, в маске, в сапогах, таких же, как у меня. Нет необходимости рассказывать об этом. Мы были с ним по разные стороны жизни. Не враги, а, скорее, соучастники. По выражению его лица я понял, что надежда есть. Действительно, через две недели Иза пришла в сознание. Переломов не было. Небольшая амнезия в результате удара.
Опускаю детали, они застряли в моей плоти, как заряд дроби. Иза осталась в живых. Чета Монтано умерла. Иза не могла больше видеть мотоцикл без содрогания. Мне пришлось отказаться от представлений и искать работу. Я поспешно согласился участвовать в автогонках со столкновениями, но мне быстро надоели эти жалкие корриды, эти разбитые автомобили, разваливающиеся на ходу в грязной жиже. Я бросил это отвратительное занятие, потому что всегда испытывал к механизмам трепетную нежность, как к бездомным животным. Я с удовольствием потратил бы свои сбережения, чтобы приютить хотя бы некоторых из них, сохранивших подобие достоинства.
Мы еле-еле сводили концы с концами. От моих ждать помощи не приходилось. Дедушка был бедный старик, годившийся лишь в музейные экспонаты. Мать существовала на авось: будь что будет. Мне повезло, я встретил мсье Луи. В том мире, в котором он вращался, все патроны обзавелись брюшком, курили сигары, к ним принято было обращаться по имени, присовокупляя «мсье». Мсье Луи поставлял продюсерам каскадеров. У него имелись специалисты любого профиля. Когда-то он нанимал наряду с профессионалами наступательного боя тех, кто в совершенстве владел искусством защиты. У него я быстро сделал карьеру. На чисто акробатические трюки не хватало желающих: расстрелять на полной скорости жандарма; преследуемый мотоциклист, на полном ходу лавирующий между автомобилями и влетающий, прежде чем врезаться в автобус, в витрину магазина в каскаде осколков… За это я получал заплатки из лейкопластыря, повязки и бинты, но и чеки на большие суммы. Мне нужно было все больше и больше денег из-за Изы, потому что в ней поселился страх. Уже не страх уничтожения, а что-то более серьезное, страх нищеты. Только безработные артисты знают, что это такое.
Она подталкивала меня подвергаться риску, а сама дрожала от ужаса, когда я обвязывался ремнями перед сложным трюком. Она переживала тысячу смертей в ожидании моего возвращения. «Все кончено. Я больше не могу», — часто говорила она. И тут же бежала в магазин, чтобы купить какую-нибудь дорогую безделушку, чтобы успокоиться. Силы ее быстро восстанавливались, и она с безотчетной радостью бросалась в мои объятия. В течение месяца мы вели почти беззаботную жизнь. Но постепенно деньги таяли. Мне предлагали какой-нибудь акробатический номер на мотоцикле по крышам домов — мне уже приходилось исполнять подобные — и она принималась меня умолять: «Не соглашайся!» Я напрасно убеждал ее, что мотокросс на тридцатиметровой высоте не более опасен, чем в густом перелеске, но она продолжала настаивать, чтобы я отказался. Постепенно ее сопротивление слабело. Она соглашалась посмотреть место съемки. «Нужно перепрыгнуть через улицу», — признавался я. Она на глаз прикидывала расстояние. «Скорее, переулок», — отмечала она. Это означало, что она сдается. Когда же я приносил подписанный контракт, она с ужасом отворачивалась. «Зачем ты сделал это? Мне ничего не нужно». И мы переставали разговаривать.
Она плакала, когда думала, что я не вижу. Наступал момент съемок, и Иза закрывалась у себя в номере. Потом долго не могла прийти в себя. Я прекрасно знал, чего она хочет. В глубине души она изо всех сил старалась обрести безопасность, покой, обеспеченное будущее. А я, я не мог превратиться в канцелярскую крысу, в нечто среднее между горничной и садовником, перебивающимся с хлеба на квас. Да, признаюсь, я стал наркоманом, не мог жить без скорости, аплодисментов, восхищения зрителей. Мне нравилось слышать, как актеры, операторы говорили: «Сильно ушибся, Ришар? Ну ты даешь! Начали! Второй дубль». И я вновь поднимался в воздух.
И вот появился Фроман на своем огромном «бьюике». Я помню только удар. Я проснулся на узкой кровати; я не мог двинуться, не только из-за трубки, которой я был прикован, как аквалангист, которого вытягивают на поверхность, но и потому… я не сумею объяснить… из-за отсутствия плотности; я как будто находился в чужой шкуре. Иза держала меня за руку. Я видел перед собой человека в белом, который с грустью смотрел на меня. Он не посмел меня прикончить. Я понял, что серьезно травмирован. Врач мне лгал, для этого он использовал кучу непонятных медицинских терминов. «Нужно подождать, — заключил он. — Время творит чудеса».
Когда тяжелораненому твердят о чудесах, он понимает, что приговорен пожизненно. Но к чему был приговорен я? Ходить с палками? Я узнал правду сам, меня бросило в пот, и волосы встали дыбом, когда я заметил, что не могу двигать ни пальцами ног, ни ступнями, ни коленями. По пояс меня как бы не существовало. Подобные мысли холодят сердце, и нужно много времени, чтобы выйти из этого состояния. Прощай… моя работа. Стану ли я теперь никому не нужным инвалидом, которого прогуливают в коляске? Я никогда не подвергну Изу такому унижению. На что мы будем жить? Я ушел в себя. Я стал развалиной. Тем не менее Иза меня не оставила.
— Ты страдаешь?
— Нет. Нисколько. Я бы отдал все на свете, чтобы страдать.
— Хирург сказал, что ты сможешь поправиться.
— Это ложь.
— Мсье Фроман позаботится о нас.
— Кто это мсье Фроман?
— Это тот, кто нас сбил.
Я уже тогда задыхался от ненависти к этому человеку, а она произносила его имя совершенно спокойно.
— Где он скрывается? Почему я его до сих пор не видел?
— Он справляется о тебе каждый день. Он придет.
— Откуда ты знаешь?
— Он меня пригласил к себе.
— Ты хочешь сказать, что он тебя содержит у себя в доме?
— Его это не стесняет. Он живет в огромном замке. Уверена, тебе там понравится.
У меня не было сил возражать. Но я понял, что со мной больше не считаются, я был мертвым грузом, от которого Иза с подсознательной радостью избавилась бы.
Нет! Я не правильно выразился. Совсем не это. Она была счастлива остановиться, не бродить больше по дорогам, иметь наконец свой дом. Может быть, и не совсем свой, но комфортабельный. Катастрофа обернулась для нее волшебной сказкой.
Огромный замок! Серьезно! У меня началась лихорадка, и ко мне никого не пускали. Смотря в потолок, я пытался найти решение проблемы. С одной стороны, Иза, молодая, красивая, уставшая от той жизни, которую мы вели. С другой стороны, человек, которого я представлял себе богатым и привлекательным. Если я, впавший в полное ничтожество, действительно любил бы Изу, я должен был принять это, смириться, исчезнуть. Легко сказать! Я мог по меньшей мере сделать так, как если бы… На больничной койке я научился обманывать, я приобщился к игре, которая заключалась в том, чтобы улыбаться, когда хочется кусаться, и гладить, когда хочется задушить.
Пришел Фроман. Могущественный, мерзкий, жирный, со злыми глазками, резкими движениями. Я был похож на несчастного маленького Давида у ног Голиафа из известного мультика, но я знал с первой минуты, что он будет побежден. Я подчинил этому все свое время, всю свою жизнь. Я решил его убить. Я был благодарен ему за его благородство. Авария? Не будем больше говорить об этом. Это злой рок! Я превысил скорость. «Да, мсье Фроман, мы с благодарностью принимаем ваше гостеприимство. Вы уже приготовили мне комнату? Очень мило». Иза, счастливая, слушала нас. Она так боялась этой первой встречи!
— Правда, он очень хороший? — спросила она, когда Фроман ушел.
— Он боится меня.
— Да нет. Поставь себя на его место. Он в сложном положении.
— Он чувствует, что я обвиняю его.
— Подумай. Он такой милый, внимательный. Ты же не знаешь.
Через несколько дней Иза совершенно спокойно сказала мне:
— Шарль хочет подарить тебе маленькую машину.
Она называла его Шарль. Он сделал одолжение и преподнес мне королевский подарок. Я ничего не ответил. Она столько мне хотела рассказать… О замке… О Марселе де Шамбоне… Об этой новой жизни, полной цветов, подарков, радости. Я все понял, хотя она не произнесла ни слова…
— А Марсель придет? — спросил я.
— Он стесняется.
— Почему? Он же не виноват в том, что случилось.
— Не из-за этого. Из-за твоей профессии… Она кажется ему такой необычной. Он погряз в своем замкнутом мирке, в своих привычках… его кабинет, его телевизор… Ты для него словно с неба свалился, как пришелец… Я думаю, он даже немного боится. И потом, его мать, сестра Шарля, настраивает Марселя против нас.
Таким образом, по рассказам Изы я потихоньку знакомился с ними, как будто они играли передо мной спектакль, готовили мой выход на сцену их семейного театра. Перед своим приходом Шамбон прислал коробку конфет. Он не знал, как себя вести, и избрал сначала тон холодной вежливости. Он, как дурак, поинтересовался моим здоровьем, пытаясь исправить ошибку, выразил свою радость по поводу того, что я не страдаю, будто это означало, что я когда-нибудь смогу ходить. Приблизился к блестящему, как игрушка, передвижному креслу, присланному накануне, счел необходимым одобрительно кивнуть головой с видом знатока. Я усугубил его замешательство словами:
— Это поможет мне. Вы это хотели сказать?
Он сильно покраснел и оставил свой важный вид:
— Я так сожалею. Если позволите, я буду помогать вам. Я буду вывозить вас в парк.
— Перестаньте, — сказал я. — Это занятие для садовника.
Со смущенным видом он крутил перчатки и подбирал любезные слова, которые вернули бы ему мое расположение. Он живо чувствовал, что не имеет права ходить передо мной, сидеть, наслаждаться своими движениями, поэтому потихоньку подбирался к двери.
— Возьмите стул, — предложил я, — и не создавайте лишних проблем.
Он неловко сел, я продолжил:
— В моем деле я рисковал каждый день. Я мог тысячу раз лишиться ног.
— Правда? — спросил он с робкой надеждой, будто я отпустил ему уж не знаю какой грех.
— Последний раз, когда я выполнял сальто-мортале, я чуть было не разбился. В двадцати восьми метрах над шоссе, — самым естественным тоном добавил я.
Я лгал. С тех пор я принялся выдумывать для него тысячи историй, чтобы видеть, как он бледнеет, как судорожно дрожит уголок его рта. Он был из тех маменькиных сынков, которые воспитывались дома и были отданы на откуп своему воображению. Замученные им, они сами нуждаются в мучителе. Я инстинктивно чувствовал, что он околдован мною.
— Вы никогда не занимались спортом? — спросил я. — Я не имею в виду теннис или трюки, о которых я вам рассказывал. Я имею в виду борьбу, дзюдо, например, или бокс.
— Нет, — пробормотал он. — Мама не…
— Вы единственный сын? И холосты?
— То есть…
— Это ваше право. Как, впрочем, и вести обеспеченную жизнь. Не всем так везет. Только что, когда вы так любезно предложили вывозить меня на прогулки в парк, я грубо вам ответил… Но если… В общем, я был не прав. Вас я принимаю, но не вашего дядю.
Как он разволновался, бедняга. Он с благодарностью пожал мне руку.
— Я так боялся, — сказал он.
Оставалось еще кое-что. Он решился.
— Но мадам… мадемуазель…
— Иза. Я разрешаю вам называть ее Иза.
Он вертелся, чувствуя себя все более неловко.
— Покажется ли ей естественным?..
— Что вы будете заниматься мной? Конечно. Напротив, она будет очень рада. У нее столько дел… Приходите, когда захотите.
В этот вечер передо мной наметился, еще совсем смутно, как тропинка в лесу, окутанная утренним туманом, тот путь, который предстоит мне пройти, и впервые после аварии я заснул без снотворного.
— Ну как вы сегодня утром? — спросил Дрё, складывая зонтик и усаживаясь рядом с кроватью.
— Отныне, — ответил Ришар, — здесь не видно никого, кроме вас.
— Я бы плюнул на все это, — продолжал комиссар. — А вот королева-мать продолжает надоедать нам, а так как у нее солидные покровители, приходится потакать. Вбила себе в голову, что ее брата убили… Что вы хотите… Глупо, конечно, но я продолжаю расследование. По крайней мере, делаю вид.
— Мы все еще ее излюбленные подозреваемые?
— Нет. Или, скорее, она сейчас подозревает всех. Она хочет нанять сторожей с обученными собаками. Я ее выслушиваю. Я ее успокаиваю, так как она убеждена, что ее жизнь в опасности. А потом я поднимаюсь к вам, чтобы развеяться.
Дрё зажег сигарету, выплюнул попавшую на язык табачинку.
— Заметьте, — сказал он, — все, что она рассказывает, не так уж и глупо. Однажды я сам задался вопросом, не был ли это кто-либо со стороны… В этом случае предположений значительно прибавилось бы. Но факты остаются фактами.
Он хитро улыбнулся. Ришар ответил ему тем же.
— Если бы я знал, почему он решил изменить завещание! — мечтал вслух комиссар.
— Конечно, — поддержал Ришар.
— Естественно, вы не знаете.
— Я вам уже говорил об этом.
— Вы правы. Я переливаю из пустого в порожнее. Кстати, я посмотрел еще раз один ваш фильм. Нападение на Центральный банк, помните?
— Да. «Тайна комнаты-сейфа». Поставить было не сложно. Но придумано изобретательно.
— Кто руководит трюками в таких случаях?
— Когда как. Сценарист придумал, что я смогу использовать кабель грузового лифта. Но я сам рассчитывал каждое движение, каждый прием.
— Словом, все детали операции.
— Именно так. Если что-то упустить, даже самое незначительное, наверняка сломаешь шею. Именно поэтому я предпочитал работать с макетом. Даже при осуществлении самого простого прыжка я рассчитывал траекторию движения… Необходимо все учесть: вес, скорость, угол и даже ветер.
— Черт возьми! Нам повезло, что вы действовали на стороне закона. Иначе…
Комиссар встал и прошелся по комнате.
— Какие у вас отношения с Шамбоном? Все еще хорошие?
— Почему вы думаете, что они могут испортиться?
— Кто знает… Теперь, когда его дядя мертв, жить под одной крышей с молодой вдовой…
Ришар откровенно смеется:
— Вы не из тех людей, комиссар, которые верят сплетням.
— Между нами, — настаивал комиссар, — действительно ли мадам Фроман убита горем?
— Скажите честно, что у вас на уме? — шутит Ришар.
— Ну вы даете, — возразил комиссар. — Задняя мысль! Еще нужно, чтобы она была, эта мысль! До свидания, мсье Монтано, — протягивая руку, прощается комиссар.
— Я вас провожу.
Ришар на костылях провожает комиссара и долго смотрит ему вслед.
— Ищи! — прошептал он. — Ищи, собачка! Еще не скоро найдешь.
Фроман был в отъезде, когда меня перевезли из клиники в замок. Шамбон позаботился о моем размещении. Он настоял на том, чтобы показать мне несколько комнат, из которых я смог бы выбрать. Иза хотела, чтобы моя комната находилась поближе к ее, но я выбрал эту, самую отдаленную. Я хотел, чтобы все в Колиньере почувствовали, что мое пребывание будет незаметным. Шамбон сказал мне, что в моем распоряжении телефон и я могу звонить куда захочу. Таким образом, я был независим так же, как в отеле. И с машиной! Я уже умел ею пользоваться, научился подтягиваться на руках, чтобы перелезть с кровати на кресло и обратно. Мне нужна была помощь, чтобы надеть брюки, но я значительно преуспел в искусстве цепляться, висеть, передвигаться, почти как обезьяна в клетке. Даже если бы мне ампутировали ноги, я все равно остался бы таким же ловким.
— Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь, — говорил Шамбон. — Мой дядя хочет, чтобы вы чувствовали себя как дома.
Глупости, конечно. Ведь я жил у своего палача. Лужайка, которая простиралась под моим окном и выходила к Луаре, принадлежала ему; все принадлежало ему: бабочки и птицы, облака и раскинувшееся над холмами небо. Все, что я видел вокруг себя, радовалось и двигалось. Я сидел в своем прекрасном кресле в первом ряду партера и смотрел, как проходила жизнь. Спасибо, мсье Фроман! Однажды, когда Иза наводила порядок в моей комнате, я дернул ее за рукав.
— Подожди минуту, — сказал я.
С чего начать? Я приготовился к разговору, но вдруг дикая боль стиснула мне горло и не давала вымолвить ни слова.
— Ты думала о том, в каком положении мы находимся?
— Да.
— Ты знаешь, почему он меня оставил здесь, у себя?
— Да. Из-за меня.
— Но как ты думаешь, сколько времени он будет влюблен в тебя? В конечном счете речь идет именно об этом.
— Да.
Нас объединяла опасность. Нам не нужны были слова. Мы общались флюидами, как насекомые.
— Я ему не уступлю.
— Конечно.
Она замолчала и принялась грызть ноготь.
— Ты хочешь, чтобы я вышла за него замуж? — наконец спросила она.
— Да. Я хочу, чтобы ты вышла за него замуж.
Она наклонила ко мне голову и шепотом спросила:
— Ты знаешь, что делаешь?
— Да. Я хочу, чтобы ты была в безопасности.
— И когда мы будем в безопасности?
Она смотрела на меня пристальным и тревожным взглядом.
— Свадьба, — прошептала она, — это только начало. Да?
Я поцеловал ее.
— Я все беру на себя. Прежде всего, безопасность. Мы не должны чувствовать себя квартирантами. Потом… Я тебе все объясню.
— Объясни сейчас.
— Брак можно разорвать.
— Развод?
— Да. Не для собак же он существует.
— Ты думаешь, что такой человек, как он, позволит, чтобы им вертели? Ты что-то скрываешь.
— Нет, малышка. Уверяю тебя. Я знаю не больше твоего, чем все это кончится. Но мы будем умнее, хитрее. Поверь мне.
Оставалось ждать. Иза занималась Фроманом. Я принялся за Шамбона. Нетрудно было заметить, что Иза очаровала его. Если бы я мог играть Шамбоном против его дяди! Шамбон, бедный боязливый невинный отрок, метался между двух огней: старухой и Фроманом. Как мне вскоре стало известно, он занимал на заводе самую второстепенную должность. Он был ни к чему не приспособлен. Но такие барашки становятся опасными, если довести их до бешенства. Оставалось привить ему бешенство. Я занялся этим незамедлительно. Он прибегал ко мне, как только у него выпадала свободная минута.
— Я увожу вас, — предлагал он. — Мы погуляем в парке, вам необходимо подышать свежим воздухом. Пойдемте, сделайте маленькое усилие.
И он катил мое кресло на лужайку. Там была небольшая площадка и скамейка, откуда можно было наблюдать блестевшую на солнце реку, которая сливалась вдали с голубым горизонтом. Мне казалось, что я любуюсь сказочной страной через плечо Моны Лизы.
— Все хорошо? Вы не замерзли?
Он всегда думал, что раз мои ноги не двигаются, значит, они замерзают. Я набивал трубку.
— Знаешь, Марсель, — начал было я.
Это было сказано самым естественным тоном с самого первого дня моего пребывания в замке или чуть позже.
— Знаешь, Марсель…
Он радовался, как ученик, получивший хорошую оценку. А я рассказывал ему более или менее правдивые истории спортсмена, который наконец нашел человека, которому он мог доверять и которого высоко ценил.
— Это случилось в Эзе. Ты никогда там не был? Мы поедем туда вместе. Это замечательное место. Кажется, что паришь над морем. Я должен был во время погони оторваться и перелететь за парапет, огораживающий дорогу.
Он слушал. Его губы шевелились в такт моим. Иногда он шмыгал носом или отгонял мошку и принимал прежнюю позу.
— У меня была огромная «кавасаки», превосходная машина, зверь. Естественно, все было рассчитано так, чтобы я не причинил себе вреда. Но, однако, я должен был ехать на хороших пятидесяти.
Я вытягивал руки, ложился на руль, и Марсель словно воочию видел приборную доску со всеми рычагами управления, циферблатами и мои сжатые кулаки на ней.
— Камеры были наготове. Сигнал, я набираю скорость.
— Ришар! — позвали меня.
— Я тебе потом расскажу, что было дальше, напомнишь мне о пируэте! Я здесь, с Марселем, — отозвался я.
Появилась Иза, прижимая к груди, как спящего ребенка, букет цветов. Она улыбалась и помахала нам издалека.
— Что вы там замышляете вдвоем?
— Мы разговариваем. Ты помнишь дело в Эзе? Сальто в овраг?
Она села рядом с Шамбоном.
— Не слушайте его, мсье Марсель. Он всегда преувеличивает немного.
— Вы были там? — спросил Шамбон дрожащим голосом.
— Пришлось, чтобы склеить его по кусочкам.
Мы оба играем превосходно, это впечатляет Шамбона. Он восхищается мной. Он восхищается ею. Он нам завидует. Он нас ненавидит. С него довольно. Он резко встает.
— Я ухожу.
— Не волнуйтесь. Я сама отвезу его обратно, — говорит Иза.
Он уходит, засунув руки в карманы, с небрежным видом поддевая камешки носком ботинка.
— Кажется, он взбешен, — шепчет Иза.
— А старик?
— Вчера мы с ним ужинали на площади Ралиман в каком-то новом шикарном заведении. Он представил меня друзьям как свою кузину Изабель. Никто не попался на удочку. В его жизни было слишком много кузин.
— Он не пытался предпринять дальнейшие шаги?
— Желаний у него достаточно.
Она схватила меня за руку.
— Ты намерен снова причинить себе боль?
— Ладно, хватит об этом.
— Все равно когда-нибудь мне придется уступить ему.
— Он заплатит за все. Будь уверена. Я ему ничего не забуду.
На некоторое время мы замолчали. Потом я спокойно продолжил:
— Важно, чтобы ты подольше сопротивлялась. И даже когда он предложит выйти за него замуж, откажись. Это выведет его из себя. Он скажет: «Это из-за Ришара». Он примется меня оскорблять. Начнет обзывать нас по-всякому. А потом примет твои условия.
— Ты уверен?
— Да, уверен, и все. Ты пообещаешь ему встречаться со мной как можно реже, а взамен выклянчишь у него что-нибудь стоящее… Все это надо продумать. А сейчас оставь меня. Я сам доберусь обратно. Старая ведьма, должно быть, следит за нами, я чувствую. Наверное, смотрит в бинокль из сарая. Я не шучу. Ты у нее отбираешь брата, а я сына. Не думай, что она так легко согласится на это.
И вправду. Мы — захватчики, оккупанты. Я пережевывал эту мысль, пока Иза, склоняясь к цветам, постепенно удалялась. Я не знал еще, как я убью Фромана, но в любом случае мне необходим будет Шамбон. И Иза тоже, хотя ее роль вряд ли ей понравится. Итак! «Довлеет дневи злоба его»[49], не я это начал.
Я отпустил тормоза и вырулил на аллею. Обычно по вечерам, около девяти часов, ко мне приходил Шамбон.
— Она спит, — шептал он, так как мать могла слышать его.
Он радовался передышке. Целый день он погружен в цифры. Теперь он мог расслабиться. Ему понравился мой табак. Он быстро привык к трубке и даже поссорился из-за этого со старухой. Она ненавидит запах трубочного табака. Находит это вульгарным. Постепенно я многое узнал о ней, а она обо мне. Бедняга Шамбон, словно толстый неповоротливый шмель, перекрестно опылял нас, перенося с одного на другую ядовитую пыльцу сплетен. Я знал, что на ужин у нее сухари и настойка вербены. Потом она принимает разные лекарства: от сердца, от печени, от множества более или менее выдуманных болезней, после чего Марсель поднимается пожелать ей спокойной ночи. Но прежде чем уйти, он рассказывает ей в мельчайших подробностях, как прошел день.
— Что твой дядя? — спрашивает она.
— Как обычно. Не слишком разговорчив. Снова подарил что-то Изе. Мне кажется, я видел коробочку, но не уверен. Это было за десертом, потом он увел ее к себе в кабинет.
От злости она бы заскрипела зубами, если бы не зубные протезы.
— А безногий?
— Я его только что видел в парке.
— Надеюсь, ты не общаешься с ним.
— Конечно нет. Он от всех прячется.
Он рассказывал мне все это, радуясь возможности предстать передо мной сильным духом, играючи воспаряющим над мещанскими мелочами. Ему никогда не приходило в голову, что он из того же теста, что доносчики минувших времен.
— Иногда, — продолжает он, — я читаю ей Пруста, чтобы она уснула. У него длинные предложения… Она быстро теряет нить… А к ним таблетку могадона… и порядок.
Он улыбается и возвращается к теме, которая его волнует.
— Прошлый раз вы начали рассказывать о случае в Эзе.
Память у него — дай бог каждому. Он придирается к мелочам, словно мальчишка, пристрастившийся к иллюстрированным журналам. Прежде чем продолжить, я прощупываю почву.
— Ну, да… Когда я упал с тридцатиметровой высоты?
— Отвесно?
Ему нужны точные детали. Он столь же доверчив, сколь и подозрителен. Если он поймает меня на том, что я выдумываю, ноги его у меня не будет. Самолюбие из него так и прет, как сыпь во время кори.
— Ну, не совсем отвесно. А то бы я разбился. К счастью, там рос кустарник, смягчивший падение… Знаешь, Марсель, я никогда не был ярмарочным уродом. Просто каскадер, такой же, как и другие.
Его не устраивала моя притворная скромность. Я должен быть исключительным, чтобы нравиться ему. Слабые дозы на него не действовали. Я быстро спохватываюсь.
— Я припомнил один весьма необычный трюк. В это время Иза еще ездила на мотоцикле.
Он навостряет уши, слушает, затаив дыхание.
— Я играл сыщика и гнался за ней. Перед ней опустился шлагбаум, мимо медленно проходил товарный поезд, длинные железные вагоны, раздвижные двери открыты настежь. Ну, представляешь, да?
Он зачарованно кивает головой.
— Итак, внезапно появляется она… Слишком поздно, чтобы затормозить. Сильным прыжком она преодолевает барьер, взлетает, пересекает вагон, проходящий прямо перед ней, и приземляется с другой стороны.
— Она?.. Вы хотите сказать?.. — заикается он, стискивая руки.
Я продолжаю, не обращая на него внимания.
— Посмотреть на нее, такую хрупкую, грациозную… никогда не подумаешь, что она… А между тем она была смелее меня. Проделывала невообразимые трюки!
Пока он размышляет, я набиваю трубку.
— Мой дядя знает об этом? — наконец спрашивает он.
— У него очень смутное представление. Я ему ничего не рассказывал. Ему не обязательно все это знать.
— Почему?
— Потому что он хочет… Но, Марсель, ты что, нарочно? Будто ты не знаешь, что он собирается на ней жениться.
Он резко вскакивает, отталкивает кресло. Пусть яд подействует. Сейчас не надо вмешиваться… Он делает несколько шагов, останавливается, снова двигается с места. Замирает перед фотографией Изы, потом вновь садится.
— Я знаю. Вы согласны? — спрашивает он.
— Мое мнение никого не интересует.
— А она? Она примет предложение? А вообще-то наплевать. Это ее дело.
Струсит ли он? Смирится ли с неизбежностью? Ведь у него нет никакого веса перед Фроманом. Самое подходящее время прибрать его к рукам.
— Я буду откровенен с тобой, Марсель, потому что ты отличный парень. Все это мне не нравится так же, как и тебе. Я не ревную. Речь не об этом. Мне кажется, твой дядя использует создавшееся положение. Иза беззащитна перед ним. Я тоже ничего не могу сделать. Мы зависим от него. В конце концов он вправе выбросить нас на улицу.
На этот раз он даже подпрыгивает.
— Очень бы хотелось посмотреть, как он это сделает!
— Подумай хорошенько. Предположим, ты открыто становишься на нашу сторону, что помешает ему воспользоваться случаем и выйти из доли, спровоцировать раздел имущества. Я говорю это просто так, я не разбираюсь в этих вопросах. Но ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду.
Он останавливается передо мной и смотрит на меня в растерянности.
— Он не осмелится, — говорит Марсель.
— Может быть. Но он имеет на это право. Итак, или же ты согласишься и Иза станет мадам Фроман, а я… Я даже не осмеливаюсь думать, что будет со мной… Или же ты попытаешься встать на его пути, но у него есть способы убрать тебя. Он ни перед чем не остановится и раздавит тебя точно так же, как и меня.
Он артачится, топая ногами.
— Вы меня еще не знаете! — кричит он.
— Сядь и подумаем вместе. Предположим, ты ему скажешь, не важно как, что ты не согласен, чтобы он женился. Он спросит тебя почему. Что ты ответишь?
Он отвернулся. Он не знал, куда деться.
— Ну, я скажу, что над ним станут смеяться, что она слишком молода… Придумаю что-нибудь.
— И знаешь, что он швырнет тебе в лицо? То, что ты сам влюблен в Изу, и попросит тебя не вмешиваться и не злить его, его не интересует состояние твоей души.
Наступила тишина, как когда-то давно перед выступлением. Он бледнеет. Прикладывает руку ко лбу. Я дружески пошлепываю его по колену.
— Это естественно, — говорю я. — Иза из тех, кого любят помимо своей воли. Больше скажу. Если бы ее полюбил ты, я был бы счастлив за нее. Уверяю тебя… И потом, почему бы мне не продолжить, раз я уже начал… Со своей стороны, Иза… когда говорит о тебе…
Оказывается, очень легко быть палачом. Пока я подыскиваю подходящие слова, он покрывается холодным потом.
— Знаешь, она часто говорит о тебе: «Если бы Марсель был один, если бы не его мать, думаю, он помог бы мне».
— Замолчите, — прошептал он. — Я запутался… Простите меня.
Он встает, нетвердо держась на ногах, и вдруг убегает, будто за ним гонятся. Я очень устал. Это напомнило мне о тех днях, когда мы с Изой были вместе. Я в последний раз проверял наше оборудование… мотоциклы на грузовике, составленные в ряд машины, брезент, хлопающий на ветру. Надпись «Чемпионат мира» и нарисованный внизу трамплин, нацеленный в небо. Все было готово, и тут я испытал упадок сил. Пустяк, но… На сердце, как темная тень предчувствия: от меня ничего не зависит, только время решит, кому выиграть, кому проиграть.
Я снимаю трубку и звоню Изе.
— Алло? Ты одна? Этот идиот только что ушел. Я ему осторожно подбросил кое-что… я сказал, что его дядя хочет на тебе жениться и что он не сможет этому помешать, а жаль, потому что ты в душе его любишь.
— Что? Ты сказал ему это?
— Так нужно. Очень приятно играть с огнем. Но так как он ничего не может сделать, то ничего и не случится.
— Что ты еще задумал?
— О! Очень просто. Марсель не умеет скрывать свои чувства. Фроман скоро все поймет. Тогда он ускорит события и поставит свою сестру и племянника перед свершившимся фактом. Но я тебе все это уже рассказывал.
— Бедный Марсель! Он же ничего тебе не сделал.
У меня было желание закричать: «Он любит тебя! И ты считаешь, что он мне ничего не сделал?» Но я лишь безмятежно улыбнулся.
— Он учится жить, не так ли? Это ему наглядный урок. А что касается меня, представь, это — мой последний трюк, но лишенный какого-либо риска. Подожди. Не бросай трубку. Я должен ввести тебя в курс дела. Если бы ты могла вести себя полюбезней с этим бедолагой, это очень помогло бы мне. Мне трудно из моей камеры раздувать огонь. Вы обедаете всегда втроем? — спросил я.
— Вчетвером. Старуха тоже приходит в полдень.
— Еще лучше. Наверное, она сидит за одним концом стола, а ее брат за другим? Ты — напротив Марселя. Ты можешь поулыбаться ему и даже пойти немного дальше, насколько позволяет ситуация… Я уже вижу бабку, бросающую разъяренные взгляды на Фромана. Знаешь, как будто хочет сказать: «Что я терплю в своем-то доме! Уверена, что этот идиот пожимает ей ногу под столом!» И ты — с невинным, естественным видом, предлагающая всем корзинку с хлебом и графин.
Иза не сдержалась и прыснула. Мы снова стали сообщниками. Мы смеялись вместе, словно пели в два голоса. Нам не нужно было браться за руки или сливаться губами в поцелуе.
— Я попробую, — пообещала она. — Они такие противные. Но будь осторожен.
Да, уж я-то осторожен! Почти как в засаде. Два дня я не видел Марселя. Короткая встреча с Изой. Она прошептала мне: «Все идет как надо». Я один гуляю в парке, костыли привязаны сбоку к машине, как весла к лодке. Я видел по телевизору навозных жуков, которые неустанно катали свои шарики из навоза. Вот и я, как навозный жук, качу со слепым упорством свой шар меж цветников, над которыми порхают летние бабочки. Все злит меня. Даже воздух, которым я дышу. Я возвращаюсь к написанной странице. А потом, о чудо! Ко мне пришел Фроман, как раз тогда, когда я решил соснуть после обеда. Он был очень любезен со своей неизменной улыбкой удачливого маклера. «Надеюсь, я не помешал» и другие фигуры вежливости. Он садится, у меня во рту трубка, у него сигара.
— Я пытаюсь уладить одно дело, которое беспокоит меня, — начал он. — Возможно, вы знаете от Изы… Она не говорила вам, что я собираюсь жениться на ней?
— Да так, мимоходом… Мне показалось, не всерьез.
— Очень даже всерьез. Она почти согласна. Поэтому я здесь.
Он смотрит на меня долгим пристальным взглядом из-под опущенных век, чтобы уловить с моей стороны знак удивления, смущения или отказа. Но ничего не увидел. В игре в покер мне нет равных. А вот в затруднительном положении…
— Это, скорее, хорошая новость, — наконец произношу я. — Бедная Иза. Я так часто думал о ее будущем. Но вы уверены, что она не из милости…
Он смотрит на меня. Похоже, он шокирован. Слова «из милости», произносимые мной по отношению к нему… Оказался ли я глупее, чем он думал? Мы вежливо улыбаемся друг другу, как старые друзья, умеющие ценить деликатность.
— Я хочу сделать ее счастливой… и вас тоже, — продолжает он.
— Спасибо.
— Вот почему я хочу переделать завещание в ее пользу… Я хочу завещать ей значительную часть, солидный капитал, который обеспечил бы вам обоим независимую жизнь.
— Независимую от чего?
Он правильно понял, что я хотел спросить: «независимую от кого»? Он сделал неопределенный жест рукой.
— Как говорится: «Человек предполагает, а Бог располагает!» Я могу умереть. Моя семья не должна нуждаться.
— Иза не позволит, — сказал я. — Ей чужды корыстные расчеты. Не знаю даже, согласится ли она на то, чтобы вы устраивали ее дела.
— Она колеблется, — признался он. — Но то, что я ей пообещал, заслуживает того, чтобы хорошенько подумать. Я не утверждаю, что в один прекрасный день она будет богатой, но даю вам слово, что жаловаться ей не придется.
Он подошел к камину, нашел какую-то вазочку, чтобы сбросить длинный столбик пепла со своей сигары. Затем тон его изменился, и он вновь стал господином Председателем.
— Я рассчитываю на вас, — отрезал Фроман. — Убедите ее. Я не люблю медлить.
Сигарой он указал на мои ноги, уложенные рядышком под пледом, как театральные аксессуары.
— Надеюсь, я хорошо обошелся с вами. Еще одна вещь. Я знаю, что вы часто общаетесь с Марселем. Надо бы видеться пореже! Марсель — избалованный матерью кретин. Оставьте его!
Снова очаровательная улыбка.
— Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь, — сказал он, властно пожав мне руку.
Еще один дружеский жест от самой двери. От него остались густые клубы сигарного дыма да глухая ярость у меня на сердце. Но дела продвигались быстро. Пришло время мне вмешаться в их ход. До вечера я тщательно обдумывал свой план и после ужина позвонил Изе.
— Ты можешь зайти? Нам надо поговорить.
Она пришла, красивая, с потрясающей прической; сережки в ушах, которых я раньше не видел, усиливали таинственный блеск ее глаз. Она заметила, что я смотрю на них, и хотела снять.
— Нет, не делай этого, — сказал я. — Это не просто подарок, скорее награда за мужество перед лицом врага.
Мой жизнерадостный тон тут же нашел отклик в ее сердце. Я притянул ее к себе и рассказал о визите Фромана.
— Что мне теперь предстоит сделать? — спросила она.
— Продолжай в том же духе. И начинай потихоньку кокетничать с Шамбоном… по-родственному… А родство разрешает маленькие вольности. «Здравствуй, Марсель». Утренний поцелуй. «До свидания, Марсель». Вечерний поцелуй… немного более продолжительный — старухи-то не будет. Фроман притворится, что ничего не замечает. На самом деле он на все обращает внимание и сделает все возможное, чтобы ускорить свадьбу. А когда вы поженитесь, устрой так, чтобы он удалил Марселя. Сделай все возможное, даже если тебе придется заставить поверить его в то, что этот кретин Марсель пристает к тебе. Обязательно в каком-нибудь из отделений для него найдется место. Я хочу, чтобы Шамбон немножко помучился. Особенно, когда ты будешь справляться у него по телефону, как дела. Я хочу, чтобы он высох с досады. Я тоже ему позвоню. Мы вернем его обратно, когда будет необходимо.
— Ты сошел с ума, — шепчет она, наклоняясь ко мне и касаясь губами век.
— Опять вы, господин комиссар. Я еще не устал от вас, но тем не менее я спрашиваю себя, чем вы занимаетесь столько времени?
Дрё заботливо складывает плащ, шарф, шляпу на спинку стула, он всегда аккуратен и усаживается напротив Ришара, который играет сам с собой в шахматы.
— Видите ли, — произносит он. — Я делаю вид перед мадам Шамбон, что продолжаю расследование.
— Опять! Эта комедия еще не скоро закончится?
— В ее рассуждениях есть логика, уверяю вас. Мадам де Шамбон не сомневается в том, что ее брат был убит. И если она права, то как это произошло?
— Вот именно, как?
— Я пойду конем, если позволите?
Он переставил фигуру на шахматной доске.
— Поздравляю, — сказал Ришар. — Но вернемся к мадам де Шамбон. Она свихнулась.
— Может быть, но она дьявольски хитра. Ее последняя находка… Клянусь, это нечто!.. Она поднимает трубку, но звонит не мне, я для нее — мелкая сошка, она звонит дивизионному комиссару, который не осмеливается послать ее.
— Ну и что же это за последняя находка?
— Она вбила себе в голову, что в службу доверия звонил вовсе не ее брат.
Ришар задумался, держа в руке черного слона.
— Не понимаю.
— Но в этом что-то есть. Она далеко не глупа. В самом деле, человек из службы доверия хорошо слышал голос, но он не знал голоса Фромана. Это мог быть чей угодно голос.
— Вы хотите сказать…
— Не я. Она! Она хочет сказать, что ее брата могли убить, а потом позвонить вместо него по телефону.
Ришар ставит слона на место, подкатывает на кресле к камину за кисетом и трубкой.
— Гениально. Это, конечно, ерунда, но это гениально. Один удар — и мне шах и мат.
— Как это?
— Черт! Если все произошло так, как она предполагает, значит, преступление было спланировано заранее. Тогда уж не подойдет версия загадочного убийцы, который мог проникнуть через дверь в сад и разыграть на месте такую сложную сцену. Значит, убийца — кто-то из обитателей замка. Иза была у друзей; Шамбон в кино… Остается, ну да, черт возьми, остаюсь я. Не понятно, как я мог это сделать, но она клонит именно к этому, старая ведьма.
— Вы быстро соображаете, — похвалил комиссар.
— Я знаю, сколько будет дважды два. Я знаю также, что она меня ненавидит. Особенно меня. А доказательства?
— Ага! Доказательства! Дивизионный комиссар сыт по горло. Но муниципальные выборы не за горами, и необходимо, чтобы о деле Фромана перестали говорить. Моя работа заключается в том, чтобы заговаривать зубы старой даме: «У нас была такая мысль, но нельзя, чтобы преступник догадался об этом. В настоящий момент мы ищем записи голоса Фромана. Когда у нас будет фрагмент его речи (а он часто выступал), мы отдадим его прослушать человеку из службы доверия».
— Вы действительно это сделаете?
— Еще чего! Речь идет лишь о том, чтобы выиграть время.
Ришар задумчиво курит трубку.
— Заметьте, — сказал он, — что все это меня не волнует. Это, скорее, забавно. На вашем месте я бы решительно принял версию убийства.
— Осторожно! Вы забыли, что Фроман добивался должности мэра. Итак, ни слова. Молчание! Это, кстати, в ваших интересах. Об этом…
Он надевает плащ.
— Продолжайте играть.
Потом шарф, шляпу, и, указывая пальцем на доску:
— Белым конем. Да… перед черной ладьей.
— Вы были бы прекрасным партнером, — замечает Ришар.
— Да, у меня немало хитростей в запасе… До скорого свидания!
На свадьбе я, конечно, не появился. Я — тот, кого нужно прятать, бывший бродячий акробат, калека, соперник и жертва в одном лице. Мне нужно было исчезнуть на время, не подавать признаков жизни. Садовник приносил мне еду, будто пленнику. Шамбон навещал меня втайне от всех. С каждым днем он все больше нервничал, и мне становилось все труднее его успокоить.
— Сделайте же наконец что-нибудь, — кричал он. — Мать вашу, вы-то еще можете повлиять на нее! Защитите ее от дяди. Это чудовищно! Вы прекрасно отдаете себе отчет в том, что он ее покупает. Если бы я был на вашем месте…
— Ты бы его убил? — предположил я.
Он потерянно смотрит на меня. Однажды вечером он расплакался.
— Это правда, я люблю ее. Вы правы. Я не могу сдержаться. Как будто я еще не жил. Ришар, вы любили когда-нибудь?
— Думаю, что да.
— Вы перестали понимать, что происходит?
— Да.
— Вы не понимали больше, кто вы, на каком свете?
— Да, да. От любви все глупеют.
— А теперь вы выздоровели.
— Я не выздоровел, — ответил я. — Я умер.
Шамбон недовольно поморщился.
— С вами невозможно говорить серьезно. Вы мне поможете?
— Но я именно это и собираюсь сделать, малыш. Это очень просто. Убьем его. Я не шучу.
Рыбалка в разгаре. Рыбка на крючке, остается лишь потянуть за леску. Шамбон скрылся. Оставалось только ждать. Через два дня он мне сказал, что сильно поссорился с Фроманом.
— Я наотрез отказался присутствовать на церемонии. Я сказал ему, что он выставляет себя на посмешище перед всем городом и из-за него все думают, что Иза интриганка. Поистине странный подарок невесте! Я его так ругал, что он начал угрожать мне. «Если ты сейчас же не замолчишь, я тебе дам по физиономии». Да, он мне сказал это. Но если бы он меня ударил, я бы его избил, клянусь. Что это он возомнил о себе?
— А твоя мать?
— Единственный раз она была на моей стороне.
— Ты доволен?
— Когда выговоришься, чувствуешь себя лучше.
— Хорошо. Но что это меняет? Иза, наверное, ждала от тебя какого-нибудь поступка… Если бы ты ей признался, как ты влюблен в нее, кто знает, может быть, в последний момент она отказала бы Фроману.
Наступило молчание. Эта минута казалась почти такой же напряженной, как лучшие из тех, что мне дано было пережить. Шамбон побледнел. Он взвешивал все «за» и «против» по привычке образцового счетовода. Наконец, он решился.
— Вы не могли бы сказать ей вместо меня?
— Что? Ты смеешься?
— Нисколько. Только первые слова… А дальше… я думаю, выпутаюсь сам. (Он пожимает плечами.) Впрочем, сейчас это уже бесполезно. Вы правы. Я опоздал.
Он ушел так же, как и пришел, рассеянный, разговаривая сам с собой. Вскоре я позвал Изу; я ей рассказал о Шамбоне, только то, конечно, что она должна знать.
— У него полетели тормоза. Не удивляйся, если он наделает глупостей.
— Что, например?
— Ну, бросится к твоим ногам. Он из таких. Будет умолять тебя не выходить замуж за Фромана. Я не хочу сейчас взрыва. Еще слишком рано. Как ты считаешь, сможешь сохранить его в боевой готовности, но так, чтобы он не взорвался?
— Это подло, — ответила Иза. — Именно в тот момент, когда Шарль обеспечил наше будущее…
Она озабоченно посмотрела на меня.
— Послушай, Ришар. Ты захотел, чтобы я стала женой Шарля. Мне это противно, но я согласилась. Не требуй от меня еще и издеваться над несчастным Марселем. Это отвратительно.
— Нет, не издеваться. Только снисходительно относиться к нему, вот и все. Не отталкивать его. Если он попытается поцеловать тебя, любезно откажись. Дай ему понять, что он пришел слишком поздно, его место занято. Скажи это таким тоном, как будто делаешь ему выговор. После свадьбы… попозже… дескать, можно поговорить о разводе…
Она не из тех женщин, которая может мне сказать: «Я не пойду на это». Но первый раз она почувствовала, что я хитрю, притворяюсь, и поэтому нервничала. Я поспешил добавить:
— Не забывай, что Фроман уже развелся два раза. Третий раз для него ничего не значит. Он женится на тебе по мгновенной прихоти. Мы согласились. Как только он обнаружит, что ты совсем не та женщина, которой он добивался…
— Ришар!
— Извини меня. Я грубо выразился. Но в конечном счете я прав или нет? Он пошлет к черту своего племянника и нас тоже: «Убирайтесь отсюда, вам так хорошо втроем». Вот что он бросит нам в лицо.
— Ты думаешь, я смогу это вынести?
— Ты не одна. Я буду с тобой.
— Ты можешь поклясться, что знаешь, что делаешь?
Я хладнокровно поклялся, отдавая себе отчет в том, что лгу и что, заподозри она о моих планах, они приведут ее в ужас. Я нежно погладил ее щеку кончиками пальцев.
— Ничего не бойся. Ступай к этому несчастному Фроману. Не такой уж он и страшный.
Однако со временем, независимо от меня, мои тревога и нетерпение… боже! какая мука! Раньше я мог не только придумать эпизод, но и до мельчайших деталей продумать ход событий, довести до состояния послушного механизма. Давление шины и крепость ремня можно просчитать. Но Шамбон? Ломкость соломы и твердость металла. Он переменчив, впадает в крайности, хуже мальчишки, отстаивающего свою независимость. И есть еще нечто, о чем я едва смею думать. А что, если Иза вдруг увлечется им? Его страсть все время бурлит вокруг нее. Страсть, которую я поощрял… почти сам же и разжег. Иза, она мое сердце и моя душа. Но вот демон подвига покинул ее. Впервые она узнала, что такое отдых, комфорт, и хоть и одним пальчиком, но притронулась к богатству… И Шамбон тут как тут, готовый все ей отдать. Он глуп, смешон, труслив. Но я-то больше ничего не значу! А она ведь только женщина. Когда я убью Фромана, я открою дорогу этому ничтожеству. Именно поэтому я должен сделать его сообщником, я хорошо понимаю, что это единственный способ отнять у него Изу. В какую же историю я ввязался! И все из тщеславия!
Ладно. Я снова берусь за судовой журнал. Прошло довольно много времени. Приближался день свадьбы, будто край трамплина. Что потом? Пустота. Иза нервничает. Шамбон все больше выводит меня из себя. Ходит ко мне, рассказывает о своей любви. Мы следим за этой нездоровой страстью, словно студенты-медики за сложной беременностью. А Иза? Она примеряет платья. Она вся в подготовке к светской церемонии, которая кружит ей голову. Пытается скрыть от меня свою радость, но она вся светится ею. Я хотел этого сам. А теперь кусаю локти. Наконец наступил канун свадьбы. Я записываю.
Иза прилетела ко мне, как ветер, приоткрыла дверь.
— Он сделал это. Марсель сделал это.
— Ради бога, объясни, в чем дело.
— Марсель, он меня чуть не задушил. Он меня насильно поцеловал. Шарль был в соседней комнате. Он мог нас заметить.
— Надеюсь, ты его отругала.
— У меня не хватило мужества. Бедный мальчик! Он никогда никого не целовал. Он мне сказал: «Я не виноват в том, что люблю вас».
— Ты все еще взволнована.
— Признаться, да… После приема мы уедем на остров д’Олерон.
— Что! Это не было предусмотрено программой.
— Нет. Я даже не знала, что у Шарля есть вилла. Это произошло внезапно. Он хочет провести там дней десять.
Я медленно набиваю трубку, чтобы успокоиться.
— Ну вот, видишь, — отвечаю я. — Я не делаю из этого никакой трагедии.
Внезапно она кидается ко мне, прижимает к себе изо всех сил и скрывается. Мне ничего не остается, как напиться, спокойно, методично; милосердная эвтаназия[50] опьянения. Сейчас и начну.
С этого момента мои воспоминания путаются. Жермен приносил мне коньяк, сопровождая увещеваниями: «Вам не следует так много пить. Если вы заболеете, я буду виноват». Время проходило с волшебной быстротой. Шамбон присоединялся ко мне при первой возможности. Он копировал меня, чтобы не казаться жалким. Два стакана, и он гарцевал на грани лирической эйфории. «Она любит меня, — кричал он. — Она мне обещала. Я не говорил вам. Я ее поцеловал, это было чудесно, знаете, что она сказала мне? Она мне сказала: „Не сейчас, позже!“» (Подлец, мерзкий лгун!)
— Тем не менее, она вышла за другого.
— Да, пусть так. Но любит она меня, прекрасная Иза… Выпьем за Изабель!
С этими словами он поднял бокал, одним махом опустошил его, закашлялся и растянулся на моей кровати, положив голову на локоть.
— Расскажите мне об Изе… У нее был мотоцикл?
— Да. «Кавасаки» красного цвета. Она ездила на нем стоя, а потом взбиралась по веревочной лестнице, которую сбрасывали с вертолета.
— Понимаю, как воздушная гимнастка. Великолепно!
— О! Это еще пустяки! Представляешь, однажды она одиннадцать раз сделала «бочку» на «фольксвагене»… Смотри, резко тормозишь, скорость 80 километров, разворачиваешься — и машина едет сама, но, черт, ты вдруг врезаешься… Она повредила левое запястье. У нее до сих пор остался шрам.
Но Марсель меня больше не слушал.
— Это невозможно, — бормотал он.
— Что невозможно?
— Чтобы она любила меня. Именно меня.
Он впадает в состояние подавленности, он на грани слез. Я наполняю его стакан.
— Ты уверен, что она тебе сказала: «позже»?
Он возвращается к жизни, жадно тянется к стакану.
— Уверен. Но сначала она тоже меня поцеловала.
— Но это «позже», может быть, означало: после того, как она станет вдовой?
— Если так, то ей не придется долго ждать.
Он задумывается, к насилию он не способен. И я, словно у меня нет других забот, как помогать ему, говорю:
— У меня есть идея. А что, если твой дядя покончит с собой?
На трезвую голову этот разговор кажется немыслимым. Но в дыму алкоголя это показалось мне вполне осуществимым, тем более что я об этом много думал. Шамбон был не состоянии спорить. Напротив, моя идея кажется ему восхитительной. Он шумно одобряет ее.
— Но нужно быть осторожными, — говорю я. — Надо сделать так, чтобы это было похоже на настоящее самоубийство. Предположим, твой дядя застрелится; это годится.
— У тебя есть револьвер? — спрашивает Шамбон.
— Конечно. Когда я играл гангстеров, я был вооружен. Он где-то здесь… бельгийский автоматический револьвер. Им можно воспользоваться, но лучше, чтобы револьвер принадлежал дяде.
— Конечно. У него есть. Совсем старый, валяется в письменном столе в библиотеке. Все об этом знают. Пойдем, покажу.
Пока Иза и Фроман прогуливались по пляжу острова д’Олерон, мой план дозрел и вдохновил Шамбона. Я впервые побывал с ним в той части дома, где жил Фроман, я увидел его кабинет, библиотеку. Я обшарил все углы на своих костылях, запоминая каждую мелочь, расположение мебели, стеклянные двери в парк.
— Знаешь, — говорю я, — достаточно застигнуть его врасплох и выстрелить в упор. Дальше я придумал кое-что. Но погоди, сначала револьвер.
Это оказалось старинное оружие уставного образца, но в приличном состоянии. Я его разрядил, чтобы посмотреть, функционирует ли он. Барабан крутился свободно.
— Попробуй!
Шамбон попятился, будто я протягивал ему змею.
— Нет, — пробормотал он, — я не сумею.
— Но если это сделаю я, хватит ли у тебя смелости поговорить по телефону?
— Думаю, что да. Но зачем?
Здесь же, стоя напротив письменного стола Фромана, я изложил Шамбону свой план. По мере того как я говорил, он обретал все более четкие очертания, и вскоре мы оба так загорелись, что если бы в эту минуту появился Фроман, мы бы его прикончили на месте.
— Гениально! — повторял Шамбон.
Его мозги все еще были настолько затуманены, что он воспринимал это, как великолепный розыгрыш. Возражения начнутся позже. Я перезарядил револьвер, тщательно протер и положил обратно в ящик письменного стола.
Перед уходом Шамбон выпил еще немного.
— Ты понял? — спросил я. — Никакого риска, если ты будешь следить за собой в присутствии матери. Если она что-нибудь заподозрит, все пропало. Нам грозит тюрьма.
Это сразило его. Он упал в кресло.
— Ты хочешь меня напугать, — промямлил он, не замечая, что перешел со мной на ты.
Я продолжал, воспользовавшись его замешательством:
— Выбирай. Тюрьма или Иза.
На его физиономии все владевшие им чувства были как на ладони, что позволяло следить за происходящей в нем борьбой. Я был уверен, что выиграю. К нему постепенно возвращалась уверенность и даже больше, ее было даже слишком много, на мой взгляд.
— Моя мать ни о чем не узнает, — торжественно произнес он.
— Сунь голову под кран, так будет благоразумней.
Потом, ближе к полуночи, он позвонил мне.
— Ваша идея мне понравилась. Но много неувязок.
Я предвидел такой оборот. Я знал, когда Шамбон протрезвеет, то испугается и примется искать пути к отступлению. Но я приготовил аргументы для дискуссии, подобно адвокату, в совершенстве изучившему дело. Особенно я настаивал на моменте, который сильнее всего мучил Шамбона: его роль сводится к минимуму — поговорить по телефону, вернее, пересказать текст, который мы составим заранее, а потом перенести тело к письменному столу. Фроман был тяжелый, но тащить придется всего несколько метров, так как я не сомневался в том, что убью его в коридоре. Когда это произойдет? Над этим еще необходимо подумать, но это не главное.
— Мы все отрепетируем в спокойной обстановке, — сказал я. — Как при постановке пьесы. А сейчас оставь меня и постарайся уснуть.
Вскоре возвратилась чета Фроманов, и жизнь в замке пошла по-прежнему. Кроме одной маленькой детали. Но разве это мелочь? Иза не была больше со мной. Она перестала быть моим двойником. Я не мог поймать ее взгляда. Можно сказать, я потерял смысл жизни. Чего еще ждать? Пришло время свести счеты.
Я выжидал. Ничего не происходило по вине Шамбона. По возвращении Изы я опасался какого-нибудь взрыва, который мог помешать мне; да, я решил отомстить Фроману, да, я детально представлял себе всю операцию, зато мне не удавалось назначить дату. Когда это должно было произойти? Пока я думал над этим, я должен был удерживать Шамбона. Но это было так же трудно, как регулировать огонь под кастрюлей с молоком. Временами Иза говорила: «Снова жестоко поссорился с дядей. Он вовсе перестал сдерживаться». Иногда, наоборот, он ни с кем не разговаривал и, казалось, заболевал. Когда он приходил ко мне, а это случалось все реже и реже, и оставался у меня все меньше времени, мне все труднее становилось держать его в руках. Я видел, что он постоянно о чем-то думал. Я пытался разузнать у него, в чем дело.
— Ни в чем, — возражал он. — Всем наплевать на меня. Иза меня избегает. Дядя даже не смотрит в мою сторону. Но это не заставит меня отказаться.
— Хорошо. Тогда за работу.
И мы снова повторяли текст, который должен был выслушать собеседник из службы доверия. Это упражнение увлекало его. Он мне задавал всякие колкие вопросы: «А что если он мне скажет…»
На ходу я предлагал варианты ответов. Или изменившимся голосом я говорил: «Я слушаю. Говори. Больше чувства!»
Он не мог сдержать дрожь, страх не давал ему говорить. Я отдавал себе отчет в том, что доведу его до депрессии, что никогда ему ни сыграть хорошо свою роль. И то, что произошло потом, подтвердило мою правоту. Когда Шамбон позвонил как-то вечером и сказал, что собирается уехать из Анжера, я чуть было не решил все бросить. Он сказал, что директор филиала в Нанте уходит в отставку. Почему бы ему не занять его место? И добавил: «Потому что здесь все против меня!»
Я понял, если он уедет, это будет катастрофа. Вдали от Изы он не замедлит обвинить ее во всем и настроится против нас. Он заговорит. Он признается во всем Фроману. Чтобы отомстить за себя. Чтобы набить себе цену. Это было яснее ясного. На этот раз я готов был биться не на жизнь, а на смерть. Долой тонкости! Пора переходить к делу. Я высказал ему все начистоту. Он слушал меня, упрямо склонив голову, твердо решив не уступать.
— Твоя беда в том, что ты ничего не смыслишь в женщинах, Марсель. Постарайся понять, не может же Иза упасть в твои объятия сразу после свадьбы! Это вопрос не столько осторожности, сколько воспитания.
— Конечно. Именно поэтому лучше будет мне уехать.
— Тебе наплевать, если без тебя она будет несчастна? Ну, проснись, дурачок. Она любит тебя. Если ты уедешь, она тебе этого не простит. Твой дядя не сделает ее счастливой.
Я наговорил еще множество подходящих банальностей. В его состоянии сошла бы самая грубая лесть. Постепенно он смягчился. Я воспользовался этим.
— Если бы ты подождал хоть несколько месяцев, твой дядя застрелился бы, это немного удивило бы окружающих, но такие вещи случаются, не правда ли? Тогда как, если он застрелится сразу после свадьбы, это наделает много шума, поверь мне. Начнется следствие с пристрастием. Примутся рыскать.
Он со злобой посмотрел на меня.
— Вы сказали, что нам нечего бояться.
— И я повторяю. Только ты заставляешь покончить с этим немедленно. Я готов… Но ты, ты выдержишь перед полицией? А перед своей матерью? Ее я опасаюсь больше всего.
Он сделал пренебрежительный жест, так что захотелось влепить ему пощечину.
— Я вру ей с самого детства. Подумаешь, немного больше, немного меньше.
— Хорошо, дай мне два-три дня на размышление, чтобы я мог обдумать все еще раз до мельчайших деталей, и мы нанесем удар.
Странный тип! Он пожал мне руку, успокоенный и даже повеселевший, как будто мы договорились пойти на рыбалку. Я начал напряженно думать. В субботу Фроман посещал политические собрания, так как избирательная кампания уже развернулась. Он возвращался довольно поздно, ставил машину в гараж, ненадолго заходил в кабинет перед тем, как отправиться спать. Нужно напасть на него в гараже в тот момент, когда он, ничего не подозревая, будет выходить из машины. Потом перенести тело в кабинет, и останется лишь проблема декораций. Переходим к вопросу алиби. Это не трудно. Я устрою так, что Иза уйдет к друзьям поиграть в бридж. Шамбон пойдет в кино на сеанс 14.30 и сохранит билет. Он подъедет к замку на своей машине, оставит ее неподалеку и войдет незамеченным. Когда все будет кончено, заберет машину и к одиннадцати часам появится у ворот. Жермен будет свидетелем. Что касается меня, то я из своей комнаты ничего не услышу, ничего не увижу под действием снотворного, моя несостоятельность послужит гарантом моей невиновности. Я снова проанализировал каждую мелочь, прокрутил все в уме, как я делал это раньше, накануне выполнения опасного трюка. Я был абсолютно уверен в себе. Хрупким звеном в цепи, несомненно, был Шамбон. Но любовь заменит ему мужество. Фроман был приговорен!
— Опять вы, господин комиссар! Не подумайте, я не жалуюсь на ваши визиты. Входите. Я лишь немного удивлен. Ваше расследование все еще не закончилось?
Дрё без спроса уселся в кресло, как свой, в то время как Ришар допрыгал на своих костылях к подвижному стулу и ловко устроился на нем.
— Как вам удается держать себя в форме? — спросил Дрё.
— Немного гимнастики каждое утро и неукоснительный режим. И потом — я выносливый.
— Это видно.
Комиссар помолчал, прежде чем продолжить.
— У вас был случай поговорить со старухой?
Ришар расхохотался.
— Нет, черт возьми. Мне хватает, что я иногда встречаю ее в парке и выслушиваю ее сына с его откровенностями. Брр-р… Вы ведь знаете, комиссар, что я веду уединенный образ жизни.
— Мне бы так… — пробормотал Дрё. — Не пришлось бы терпеть всякие бредни. Она выдумала целый роман. Здесь я располагаю временем. Не то, что в Марселе. Из любопытства я расширил поиски и узнал, что мсье де Шамбон, ее муж, погиб на охоте, очень давно, несчастный случай. Неосторожный прыжок через изгородь, случайный выстрел… Марсель тогда был совсем маленьким. Мать воспитывала его, будто он тоже обречен умереть от несчастного случая. Ну и, конечно, постоянное наблюдение, держала его в вате, под стеклянным колпаком, сами понимаете. Ваша сестра, должно быть, рассказывала вам об этом?
— Смутно. Старуха нас не интересует.
— Зато вы оба, вы очень ее интересуете! — вскричал комиссар. — Она царствовала себе над своим сыном и над своим братом, и вдруг вы сваливаетесь с неба, более чуждые ее маленькому мирку, чем марсиане. И что же?.. Брат влюбляется в вашу сестру до того, что дело доходит до свадьбы. А сын влюбляется в вас, ну, вы меня поняли. Вы его приворожили, этого мальчика. Вы — символ свободы и опасных приключений!
Дрё усмехается.
— Зорро на костылях, — мрачно бросает Ришар.
— Извините меня. Поверьте, что… Ладно. Картина ясна, не правда ли? Кроме того, как раз в тот самый момент, когда Фроман решает изменить завещание, он кончает жизнь самоубийством. Старуха отдает себе отчет в том, что ее сын, может быть, с вашей подачи, увивается за вдовой. Я преувеличиваю?
— Есть немного, ну, так что дальше? Вы сейчас говорили о романе, который она сочиняет?
— Это я уже сказал. Она убеждена, что ее брат был убит. Но ей пришлось признать, что и ваша сестра, и Марсель де Шамбон — вне подозрений. Тогда она подумала, что кто-то мог проникнуть в дом через парк с целью имитировать самоубийство, а потом позвонить в службу доверия… В связи с этим я предпринял кое-какие шаги, но они ни к чему не привели, как и следовало ожидать. Сейчас у нее появилась новая теория. Она думает, что вы сохранили связи с вашими старыми друзьями; такие же черти, как вы, способные на все, и которым вы поручили вместо себя… Да! Она считает, что ее жизни также угрожает опасность.
— Из-за меня?
— Конечно. Кстати, она мне объяснила ваш план. Он предельно прост. Вы нанимаете убийц, чему научились в кино, посредством Марселя становитесь владельцами замка и всего состояния. Бесполезно ее разубеждать. Она в панике. Именно поэтому я здесь. Нужно сделать вид, что мы принимаем ее байки всерьез. Заметьте, кстати, что в ее бреднях не все вымысел. Например, она права в том, что замок не охраняется. Кто угодно может свободно проникнуть сюда. Привратник и его жена ничего не стоят. После смерти Фромана кто ответственен за то, чтобы запирать двери на ночь?
— Жермен. Он якобы совершает обход, но в изгороди столько лазеек.
— Вот видите! Другая версия касается ваших прежних друзей. Вы, наверное, время от времени даете им знать о себе.
— Нет. Я порвал с прошлой жизнью.
— Окончательно?
— Почти. Я не хочу никого беспокоить. Я не хочу вынуждать людей говорить: «Как это грустно. Представляю себя на вашем месте», — как будто можно оказаться на моем месте! Но то, что думает старая ведьма, очень забавно. И в основе своей логично.
— Ее сын часто заходит? Его мать утверждает, что он вечно ошивается у вас и вы учите его пить. Наверное, от него пахнет, когда он заходит пожелать ей спокойной ночи. Я могу даже уточнить: он начал пить немного раньше смерти своего дяди.
— Хорошо, — сказал Ришар жизнерадостно. — Я во всем признаюсь. Мы с Марселем сообщники, это мы кокнули папашу Фромана, если это доставит удовольствие старушке.
— Да, — ответил Дрё, — вы вправе издеваться. Досадно то, что она звонит многим и порет всякую чушь. Клуб кумушек, как говорит мой заместитель, радуется, а власти огорчаются. Послушайте, я буду откровенен: не могли бы вы с сестрой ненадолго уехать?
Ришар понимающе подмигнул.
— До конца выборов, а?
Дрё быстро встал, словно охваченный гневом.
— Так, действительно… исключительная у вас способность раздражать!
— Это приказ… свыше?
— Вот и нет. Это мой совет вам. Дружеский. В ваших же интересах.
— Я отвечу вам. Мне наплевать на общественное мнение. У меня нет ног; я пожизненно приговорен сидеть в этом кресле! В жизни я могу участвовать лишь в качестве зрителя. Мне кажется, что спектакль стоит того. Сейчас не время уезжать из театра.
Дрё не нашелся, как возразить. Он вылетел разъяренный. Ришар принялся набивать трубку, шепча: «Решительно, никто никого больше не уважает. Я — калека, мсье!»
Среда. Еще три дня. Даже меньше. Я дождался пяти часов. В это время Фроман возвращался на службу; я знал это от Шамбона. Я снял трубку. Можно сказать, поджег бикфордов шнур, скоро раздастся взрыв.
— Алло… Я хотел бы поговорить с мсье Фроманом.
— Кто его спрашивает?
— Дело личное и не терпит отлагательств.
— Подождите.
Наступило молчание. В ушах — тяжелые удары сердца. Когда-то я был хладнокровней, так то когда-то… Внезапно раздался голос Фромана, властный и заранее раздраженный:
— Да? В чем дело?
— Мсье Фроман?
— Слушаю вас.
Понижаю голос. Все шепоты одинаковы.
— Присмотрите за своей женой. Ее частенько видят с другим.
Вешаю трубку. Там, насколько я его знаю, мсье исходит пеной. Бедняга! Весь вечер он будет носиться со своей яростью, но виду не покажет. Пока нет. Он, очевидно, знает, что племянник увивается за его женой. И знает давно. Но теперь, когда это заметили в городе… Пора резать по живому. И он разрежет. Завтра, в четверг… Или, может быть, в пятницу. Без криков и бессмысленных угроз. Что можно сделать? Не забывать, что, нападая на Шамбона, он нанесет удар сестре. Что тогда? Удалить Шамбона. Отправить его в один из филиалов? Недостаточно. Если Шамбон и Иза захотят встречаться, их не удержит никакое расстояние. И потом, почему один Шамбон? Почему бы не приняться за Изу и за меня заодно? Можно пересмотреть распоряжения в отношении нас, выгнать в конце концов. Или поставить перед выбором: «Еще раз встретишься с Марселем, и я укажу твоему братцу на дверь!» Закрываю глаза. Испытать бы еще хоть раз божественный страх, что на секунду пробирал меня до костей, когда вот-вот на полном ходу я помчусь к победе или к смерти. Но ничего. Ничего, кроме легкого возбуждения. Мои нервы, Фроман погубил и их тоже. Должна произойти семейная сцена. Однако это не так важно. Теперь разразится мерзкий, безудержный семейный скандал. Ну и пусть! Для моего плана самое основное, чтобы сцепились дядя с племянником, чтобы искры робких поползновений Шамбона разгорелись в ревущее пламя всепожирающего желания смести все препятствия. Одно из двух: или он приложит все силы, чтобы помочь убрать Фромана, и мы с Изой становимся хозяевами. Или он струсит, и Фроман погубит нас с Изой во второй раз. Я думаю, что лучше выпить: виски или могадона. Я мечтаю лечь и уснуть. Тогда могадон.
Наступил четверг. Иза позвонила мне в два часа. Удалось. Пламя разгорелось. Взрыва не произошло, скорее, разрыв. Фроман внешне спокоен, но внутри у него все кипит. За кофе он спокойно сказал племяннику: «Ты негодяй». Потом, обращаясь к Изе: «Шлюхам я плачу вовремя». И продиктовал свои условия. Шамбона — в ссылку. Отделение в Гавре с приказом о невыезде. Для Изы голодное заточение в замке. Фроман назначает встречу с нотариусом. Но зачем? Тайна? Меня — в сумасшедший дом, якобы на перевоспитание. Одним словом, типичная реакция возмущенного мелкого буржуа-рогоносца. А старуха? Она еще ничего не знает. Мой телефонный звонок попал точно в цель, как выстрел крупной дробью. Иза буквально в ужасе. Земля уходит у нее из-под ног. Она уже видит нас обоих снова нищими и гонимыми. Она винит меня во всем, меня одного, и она права. А я спокойно жду Шамбона. Пока мне удается контролировать события. Естественно, хотелось бы самому присутствовать при этой сцене, потому что мне пересказали ее довольно сухо. Я здесь, как болезненный нарост сбоку на доме, воспринимаю лишь едва заметное биение далеких мощных катаклизмов… Теряю в эмоциях, но выигрываю в холодном трезвом анализе.
Ни сегодня, ни завтра Фроман не изменит распорядок дня, чтобы показать, что семейные неурядицы не потревожили его покоя. В глазах всех он должен остаться господином Председателем. Итак, он, как обычно, идет на завод, запретив Шамбону там появляться. А Шамбон явится ко мне в новом амплуа взбунтовавшегося хвастуна. Нельзя позволять ему разрядиться, как перегревшейся батарейке.
И действительно, вскоре он явился, весь взбудораженный. Он мне не дал даже рта раскрыть. Говорил и говорил… Ходил туда-сюда по комнате, пиная ногами ковер. Чего я не мог предвидеть, так это того, что он обвинит во всем мать. В том, что старуха приняла сторону Фромана.
— Нам остается только покончить с нераздельностью владения, — кричал он. — Продать Колиньер, тогда посмотрим, кому будет хуже. Мне наплевать, я уеду в Гавр. Иза попросит развода, я подожду. Он вообразил, что может диктовать нам свои законы!
Демонический Шамбон! Он надеется с помощью развода избежать последней схватки с Фроманом. Он знает, что убью его я и ему нечего бояться. Но он хочет еще покрасоваться в роли благородного влюбленного, готового на любые жертвы. Меня так и тянет заехать ему костылем по морде. Однако я выслушиваю его, кивая головой в знак согласия. Когда, наконец, он в изнеможении падает в кресло напротив меня, я спокойно говорю:
— Бедняга Марсель, ты совсем идиот.
Это действует на него как холодный душ. Он начал задыхаться. Я продолжил самым любезным тоном:
— Ты прекрасно знаешь, что это я размышлял над идеей развода. Если это было бы реально, то ее нельзя было бы упускать. Я не за здорово живешь решил уничтожить твоего дядю. А потому, что это единственный способ для всех нас избавиться от тирана, который делает нашу жизнь невыносимой.
Видно, слово «тиран» ему понравилось. Он согласился с этим, несчастный, а значит, дальнейшее сопротивление бессмысленно. Мне не составляло труда доказать, что Фроман, с его связями, сумеет справиться с адвокатами и судьями, занимающимися его разводом. И устроить так, чтобы Иза осталась ни с чем.
— И ты тоже.
— Моя мать богата, — возразил Шамбон.
— Кто распоряжается состоянием? А? Опять-таки он. Согласись, ты у него в руках.
Дальше я продолжал, как будто это само собой разумелось.
— Мы приступим послезавтра вечером. Он должен присутствовать на собрании ветеранов; об этом даже есть в газетах. Оно долго не продлится. Он обменяется рукопожатиями, скажет несколько слов и вернется домой часам к десяти. Иза приглашена к Луазелям. Ты знаешь, что ты должен делать.
Он слушал меня, бледный, с крепко сжатыми губами. Отступать уже было некуда.
— Для полиции в замке останутся только двое. Твоя мать в левом крыле и я — в правом. Где сейчас Фроман?
— Уехал на машине.
— Ну, пошли. Я покажу тебе, как мы будем действовать.
Он выдвинул последнее возражение:
— Как мы перенесем тело в кабинет?
— Мы положим его на мое кресло с колесами. Ты будешь его толкать, а я буду идти за тобой. Ясно?
Ему не по себе, но он послушно идет за мной в гараж. Гараж довольно большой. Там помещается четыре машины. Он непосредственно сообщается с кухней маленькой дверцей. На входной двери электрический глазок. Она откидывается, подобно подвесному мосту, оставляя по бокам теневые зоны, которые нас прекрасно укроют. Я объяснил Шамбону, как действовать. Он следует за мной обреченно, как приговоренный к расстрелу. Мне же, напротив, неизбежность придает какой-то скрытый пыл. И я с трудом скрываю охватившее меня возбуждение.
— Кровь, — произносит Шамбон. — Проблема в том, что на цементе останется кровь.
— Это я тоже предусмотрел. Во-первых, пуля, попавшая в сердце, не вызывает кровотечения, во-вторых, — небрежно бросаю я, — мы запасемся на всякий случай покрывалом, которое подложим на мой стул. Еще вопросы есть?
Побежденный, Шамбон опустил голову и молча отвез меня в комнату.
— Револьвер мы возьмем в последний момент, в субботу. Не забудь взять перчатки, до того как положить тело в кабинете, ты должен будешь заняться револьвером; я тебе уже объяснял… парафиновый тест. Полиция должна обнаружить только его отпечатки и следы пороха у него на коже.
— Вы действительно думаете, что это необходимо?
— Но я тебе уже объяснял, черт возьми! Как раз из-за теста на парафин. Полиция подумает об этом, и доказательство самоубийства будет налицо… А потом, старина! Ног мне это не вернет, но все мы сможем наконец вздохнуть. Передай-ка бутылку!
Мы выпили по стаканчику, и лицо Шамбона постепенно обрело свой нормальный цвет. Он не переставая метался: то впадал в состояние экзальтации, то отчаивался. Ушел он в приподнятом настроении. Пятница тянулась бесконечно. Иза, расстроенная, заперлась в своей комнате. Я было хотел ее успокоить, объяснить ей, что готовлю ее освобождение. Переживал за нее, но в то же время, признаюсь, был доволен собой. Нет, я еще не совсем конченый человек! Я докажу это! В субботу — вереница часов, которые предстояло пережить один за другим. День выдался чудесный, в ароматах цветов, щебетании птиц. Я собирался с силами, повторял слово за словом свой урок. Фроман обедал в замке и работал в своем кабинете до четырех часов. Потом я видел, как он уехал на своем «ситроене». Немного позже появился Шамбон, с виду спокойный, только непрерывно двигались руки. Чтобы снять напряжение, я рассказал о нескольких удачных трюках. Эффект был магическим. Он замер. Только слегка шевелились губы в такт моим. Он погружался в сон победы и могущества. Мне даже пришлось встряхнуть его.
— Давай, иди в кино и не потеряй свой билет. Жду тебя к семи часам.
Я расслабился, я умею это делать. Даже ненадолго заснул. Шамбон был точен. Никто не видел, как он вернулся. Мы съели по сэндвичу, почти весело поболтали. Я старался держаться, будто речь шла вовсе не о преступлении, а о выступлении на публике, которое принесет нам славу. Наступила ночь. Без четверти десять мы еще раз перебрали детали: револьвер (я его стащил заранее и хорошенько протер), перчатки, одеяло, все в порядке. Я показал Шамбону, как согнуть палец трупа на курке.
— А затем, — добавил я, — я буду здесь, за дверью в коридоре. Ты будешь не один. Пойдем посмотрим.
Я сел в машину, и мы бесшумно проехали по громадным коридорам, которые отделяли нас от гаража. Время от времени я зажигал электрический фонарик, но свет через большие окна доходил до самых стен крытого перехода. Гараж был пуст, как и предполагалось. Я нашел самое укромное местечко и прошептал:
— Ты можешь вернуться в кухню. Я сам справлюсь.
Нет. В припадке самолюбия он решил остаться. Ждать пришлось недолго. Дверь внезапно медленно поднялась, и фары машины осветили стены. Рука в перчатке вспотела, но я крепко держал револьвер. Автомобиль въехал в гараж и остановился на обычном месте, Фроман погасил фары. Мне нужно было только быстро передвинуться в своем кресле в темноте, мгновенно ослепившей Фромана. Я остановился прямо за дверью, которую он толкнул, чтобы выйти. Ничего не подозревая, он вышел из машины, захлопнув дверцу. Я наклонился вперед.
— Мсье Фроман?
— Что такое?
Захваченный врасплох, он повернулся. Я вытянул руку и выстрелил в упор без всякой злобы, как мне кажется. Просто нужно было это сделать. Фроман от удара резко ударился о кузов и медленно начал сползать, как в посредственном фильме. Я посветил ему в лицо. Шамбон робко приблизился.
— Он мертв?
— Как видишь. Помоги мне.
Я отвязал костыли и, если можно так выразиться, встал на землю. Мне было не легко поднять тело, но Шамбон в пароксизме ужасного ликования сделал это очень легко. Он дышал, как грузчик.
— Ты возьми его одной рукой, а другой поддерживай. Нельзя уронить его по дороге.
Странный кортеж двинулся. Резиновые колеса, резиновые подошвы и костьми с резиновыми наконечниками. Мы затаили дыхание, в неверном свете звезд катилась ночь, тишина, видение смерти, которое, так же внезапно, как появилось, исчезло. Шамбон держался прекрасно. Он был на вершине блаженства, освободившись от тяжкого груза и тревоги, готовый выйти на сцену без тени страха. Он остановил машину напротив кабинета Фромана, я, в свою очередь, поддерживал тело. Остальное было не трудно. Он прекрасно справился с разговором по телефону, в голосе его звучало ровно столько волнения, сколько необходимо. Потом он ловко подхватил труп, без тени отвращения. В общем, все прошло хорошо. Выстрел в воздух прозвучал именно так, как я и планировал. Последний взгляд. Занавес опускается.
Но сразу же после того, как мы очутились у меня в комнате, он почувствовал слабость, чуть не потерял сознание, и, признаться, я немного запаниковал. У меня было мало времени, чтобы привести его в чувство. Он должен был забрать машину и вернуться в замок спокойным, как из кино. К счастью, я приобрел в своей профессии опыт первой помощи. Растирание, спирт, нюхательная соль, не забывая сыпать комплиментами, похвалами, поздравлениями, то есть лить тот бальзам, которым можно поддержать слабеющую гордость.
Он взял себя в руки и гордо улыбнулся.
— Встань… Пройдись… Говори… Впрочем, Жермен-то едва глянет на тебя, когда откроет ворота. А потом, перед полицией, ты имеешь право выглядеть потрясенным. Браво, старик. Еще от силы час, самое трудное уже позади.
Он причесался, осмотрел себя еще раз и ушел.
Я сложил одеяло, которое даже не испачкалось, сел в кресло, сложил костыли рядом, как солдат свое оружие, когда падает без сил после боя. Нежно посмотрел на свои ноги. Долго гладил их. Мне казалось, что они понимают меня, и хватит уже их жалеть.
А теперь я чувствую себя истерзанным. Фроман мертв, и будто прошла большая любовь. Еще недавно я думал о нем каждое утро, едва проснувшись. Он наполнял жестокой радостью мои нескончаемые дни. Я хитрил с ним. Разговаривал с ним. Провоцировал его. Осыпал его ругательствами, когда костылями цеплялся за мебель. Он был также моим преданным компаньоном ночами, когда мысли о том, что я больше не человек, не давали мне заснуть. Я не говорил Изе, но у меня часто ломила поясница, и поэтому я часами оставался в постели, бессильный перед будущим, которое меня ожидало. А он был здесь, со мной. Я, не торопясь, усердно ненавидел его лицо, которое знал наизусть, как географическую карту: широкий, толстый к низу нос, весь в черных точках, глубокие морщины по углам рта, на которых, казалось, и висел его рот; веки, как спущенные шторы, наполовину закрывали глаза. Мы смотрели друг на друга, и я постепенно начинал его бояться, так живо рисовала его моя память. Я забавлялся, как когда-то над портретами в школьных книжках, подрисовывая ему смешные усы, огромные пышные бакенбарды. Я его отталкивал, прогонял. Я кричал ему: «Убирайся! Надоел!» Мстил ему. Конечно, я получил небольшие преимущества. Например, теперь я ем в столовой вместе с Изой и Шамбоном. Хожу, когда захочу, в библиотеку. Устроившись в кресле господина Председателя, я читаю. Мне кажется, что замок принадлежит мне, но везде я таскаю за собой свою тоску, как ребенок деревянную лошадку. Иза также выглядит унылой. Она обязана носить траур, ходить на кладбище, отвечать на соболезнующие письма, подписывать всякие бумажки. Совсем скоро выборы, и она принимает друзей Фромана, которые приходят попросить ее от имени покойного присутствовать на заседаниях комитетов, включить себя в список, который вел ее муж. Такое впечатление, что она замкнулась в тяжелой печали, что вызывает подозрительные взгляды окружающих.
Не говоря уже о Шамбоне. Он похудел. Он ходит оглядываясь, ему кажется, что за ним следят. И чтобы придать себе храбрости, он пьет. Не то чтобы он набирался каждый день. Но на него иногда находит. Ему вдруг необходимо подкрепиться, потом он возвращается с красными пятнами на щеках, в глазах — вызов, движения неуверенные. Он меня беспокоит. На заводе он стал объектом скрытых насмешек, ведь там нет теперь его дяди, который заставлял их его уважать. Он обнаруживает надписи на стенах: «Шамбон — дурак». Классическое определение. И не то чтобы очень злобное. Или еще: «Шамбон — зануда». С этим он не согласен. Он сам мне сказал.
— Чем я им не нравлюсь? — возражал он. — Что я им сделал?
— Ничего, старина. Они просто дразнят тебя.
— Дразнят меня? Если бы они знали, что я… что вы и я… мы…
— Замолчи, идиот! Забудь об этом.
— Иза знает? Вы рассказали ей?
— Никогда.
— А если она узнает, что она скажет?
— Поговорим о другом.
Иза, конечно же, ничего не знает. Я бы мог ей обо всем рассказать, уверенный в ее собачьей преданности. Но что-то меня сдерживало. Угрызения совести, сомнения, озлобленность… Ладно, хватит! Она была его женой. Ее психика неустойчива так же, как и моя. Кроме того, ее начали беспокоить частые визиты комиссара. Колиньер остается очагом инфекции; еще эта старая ведьма, которая продолжает обвинять всех и каждого. Боюсь, что Шамбон, по горло сытый ее упреками, возьмет да и скажет: «Да, ладно, согласен, это я убил». Перед своей матерью этот кретин способен приписать себе убийство, чтобы доказать ей, что он не такая уж тюха, как она думает. Я замечаю по разным признакам, что он напуган и в то же время испытывает огромное удовлетворение, точно выдержал испытание и приобщился к избранным. Со мной стал вести себя фамильярно. Входит ко мне без стука. Принимается обсуждать мои подвиги, о которых когда-то слушал не дыша.
— Когда все просчитано: скорость, угол падения, его длина, — изрекает он, — в седло можно посадить хоть манекен, он прекрасно справится.
Я его с удовольствием задушил бы. Тем более что он прав. Но мне не нравится ни его правота, ни самодовольный вид, ни то, что он, может быть, говорит про себя: «В сущности, когда все предусмотрено, место нападения, время, способ, кто угодно справится». Правда же заключается в том, что он начинает ускользать от меня. Если бы я мог предвидеть, что он так изменится после спектакля, разыгранного в кабинете Фромана, не знаю, стал бы я убивать старика. Меня выводит из себя эта его улыбка превосходства, будто он думает: «Мы оба, мы такие хитрецы…» Я тут же привожу его в чувство.
— Знаешь, еще не известно, чем все кончится.
— Ну, притом, что все меры предосторожности были приняты…
— Да, конечно. Но ты можешь мне объяснить, почему Дрё все еще рыщет здесь? Поди знай, может он нас подозревает?
Еще одна довольная улыбочка, означающая: «Потише, дорогой мой, лично я никого не убивал». Я уверен, что в случае чего он обвинит меня во всем, чтобы выгородить себя. Возможно, я все же несправедлив. Но было бы спокойнее, если бы он согласился уехать в Гавр, как он, впрочем, и собирался. Есть один способ. Иза. Нет! Только не это! Но я уже за прежнее. Разрабатываю сложнейшую махинацию. И почти с благодарностью принимаю эту новую интригу. Бедная моя голова! Приди еще раз мне на помощь.
— Вы не ждали меня, мсье Монтано?
— Я всегда вас жду. Вы по-прежнему желанный гость. Что вас привело ко мне? Опять старуха? Немного портвейна, комиссар?
— Только побыстрее. Я на работе, вы же понимаете. Конечно, она, старая дама.
— Налейте и присядьте на минуту, черт возьми.
Комиссар напрасно убеждал меня, что ему надо идти, он и не думал спешить.
— Уверяю вас, она снова протягивает нам кончик нити, бедная женщина, чтобы мы размотали клубок. Я начинаю жалеть мое начальство в Марселе. У нее целая сеть знакомств, более или менее высокопоставленных подруг, как и она, целыми днями висящих на телефоне. Они болтают, рассказывают черт знает о чем. В основном сплетничают. Все они поддерживают связь со своими сыновьями, дочерьми, зятьями, друзьями, кузенами. Слухи распространяются со скоростью света, и в округе начинают поговаривать, что Фроман не покончил с собой…
— Надо же, — говорит Монтано. — Мог ли я предположить!.. Да, я здесь как в раковине, шумы сюда не доходят. Итак, старая дура настаивает?
— Больше, чем раньше. Ей пришла в голову одна деталь, которую она раздувает. Хоть вы и живете, как улитка, должны бы по крайней мере знать, что накануне смерти Фроман страшно поссорился со своей женой и племянником. Об этой сцене он рассказал сестре. Он ей сказал, она почти уверена в точности слов: «Через неделю их здесь не будет». На следующий день он умер.
— И только сегодня она об этом вспомнила?
— В ее возрасте память капризна.
— Вам не кажется, что она выдумывает?
— Возможно. Но об этом заговорят средства массовой информации, и скоро нам придется возиться с целой политической кампанией. Я имею в виду, говоря «нам», себя, конечно. Вам известны, не так ли, причины ссоры?.. По словам старухи, Фроману анонимно сообщили, что его жена и Шамбон находятся не только в дружеских отношениях… вы меня понимаете?
— Фроман мертв, — спокойно сказал Монтано, — а старуха чокнулась.
— Но ссора была?
— Я бы назвал это маленькой стычкой между двумя мужчинами, которые не любят друг друга.
— Ваша сестра и мсье Шамбон не… между ними ничего нет?
— Вы тоже думаете, — перебил Монтано, — что бродячие акробаты способны на все? Иза безупречная вдова, даю вам честное слово. Хотите знать мое мнение?
— Слушаю вас.
— У Фромана не все ладилось. Дела на заводе шли ни шатко ни валко. В политическом плане он тоже был весьма уязвим. Старуха беспрестанно настраивала его против нас. Что, если кто-нибудь из противников возьми да и шепни ему, воспользовавшись случаем, что все его обманывают… а? Вы не подумали об этом?
Дрё поднялся и машинально потер поясницу.
— Не важно, что думаю я. Важно, что думают другие.
Он рассеянно полистал журнал, лежащий на кровати, остановил взгляд на восхитительных японских мотоциклах.
— Признайтесь, ведь вам этого не хватает?
— Немного.
— Что вы делаете целыми днями?
— Ничего. А для этого нужно серьезно тренироваться.
— Странный парень, — пробормотал Дрё. — У вас наверняка свое мнение по поводу этого необъяснимого самоубийства. Но вы предпочитаете скрывать его. Ладно-ладно. Я не тороплюсь. Когда-нибудь сами расскажете.
Да, необходима изнурительная тренировка, чтобы быть только наблюдателем. Я читал в журналах, что инвалиды объединяются, вступают в различные общества, чтобы жить как нормальные люди. И правильно, по крайней мере, это позволяет им ни от кого не зависеть, будто вместо ног природа снабдила их колесами. А я! Я уже был человеком на двух, ставших частью меня, колесах, они, такие живые и быстрые, дополняли меня. Мотоцикл — не протез. А сейчас я прикован к глупой машине, которую я могу сдвинуть лишь огромным усилием плеча. Представляете, раненая чайка утиным шагом переваливается на птичьем дворе. Я отлично представляю себя со стороны. Поэтому я забиваюсь в угол. Не принимаю своего недуга. Ощущаю его, как проклятие, как чудовищное наказание. Не хочу никого видеть. Пусть они обходятся без меня. Пусть калечат друг друга, пусть истребляют друг друга повсюду. Это меня не касается, потому что я теперь навсегда принадлежу к миру калек, инвалидов, костыльников, отбросов. Я наблюдаю. Издалека. Сверху. Даже если Дрё узнает правду, что мне до этого? Меня посадят в клетку? Смешно. Я уже в клетке. В клетке на колесах, из которой нельзя выбраться. Но когда я говорю, что наблюдаю, — это лишь фигура речи. Я заглядываю в свою память, в свой мозг и вижу самые дорогие для меня образы: толпы ребят, протягивающих мне листок, чтобы получить автограф. Эти экскурсы в прошлое могут длиться бесконечно долго. У меня есть еще сплетни, собираемые Жерменом, когда он приносит мне еду, заправляет постель и делает уборку в комнате. Он знает, что его болтовня доставляет мне удовольствие. Он рассказывает городские новости, ход избирательной кампании или что-нибудь о старухе, которую уважительно называет «мадам графиня», но только чтобы подчеркнуть, что она невыносима, что у нее собачий характер и что ее подружки не лучше ее самой.
— Часто у нее приемные дни?
— Почти ежедневно с четырех до шести. Дамы с пекинесами, и пошло-поехало: чай, пирожные… Жермен туда, Жермен сюда… Как будто я Фигаро.
Он сам смеется над своей шуткой, а я получаю новую ленту для своего внутреннего кино. Чай, пожилые дамы… Они обсуждают эту интригантку, ее братца, безногого урода, неизвестно откуда взявшихся… Ну ничего! Полиция во всем разберется.
Я открываю глаза. Моя комната, фотографии, трубка и кисет на камине — неизменная будничная декорация. Да, нужно тренироваться, чтобы выносить себя самого. К счастью, Шамбон всегда под рукой. А Шамбон — зрелище многоликое. То ноющий, то взволнованный, то убитый горем, то наглый, одним глазом наблюдающий за собой, оценивая производимое впечатление; не знаю, как уж он ухитряется, но на заводе он бывает редко. Я спросил его об этом. Он принял беззаботный вид. «Предположим, — ответил он, — мне необходимо немного отдохнуть». Он заходит, зажигает сигару (это ему совсем не идет!).
— Признайтесь, что она сердится на меня.
Он говорит об Изе. Прошло то время, когда он довольствовался намеками. Он сохранял хоть какую-то сдержанность. А затем мало-помалу он стал поверять мне свои чувства, что и делает его таким опасным: эта потребность в признаниях, желание привлечь всеобщее внимание, эта манера притворяться угнетенным, чтобы стать в результате хозяином положения. Настоящий виртуоз злобного самоуничижения. В каком-то смысле он еще хуже своего дяди.
— Я уверен, что она рассержена.
— Нет, она просто устала, вот и все. Оставь ее в покое.
— Но я молчу.
— Да, с томными глазами, с ужимками отверженного любовника.
— Я люблю ее, Ришар.
Это следующий шаг к сближению. До сих пор он не осмеливался называть меня Ришаром. А теперь он может вести себя со мной, как с шурином. А я отдаляюсь от него. Насколько я люблю запах трубочного табака, настолько ненавижу тошнотворную вонь его головешки.
— Послушай, Марсель. Буду откровенен. У тебя никогда не было любовницы?
Он смотрит в пол, исполненный образов, которых стыдится.
— Ну, дальше…
— Нет, нет, — лопочет он. — Меня не интересует…
— Не рассказывай сказки. В любом случае заметно, что ты ничего не смыслишь в женщинах.
— Однако! Позвольте!
— Иза заслуживает уважения. А ты ползаешь по ней взглядом, как слизняк по капустному листу. Она в трауре, понимаешь?
Он зло рассмеялся.
— Она даже в трауре не была, когда позволила поцеловать себя.
Я подумал: «За это, мой мальчик, ты еще заплатишь». И спокойно продолжил:
— На некоторое время она не принадлежит себе, ты должен это понять. Позже…
Услышав это слово, он срывается:
— Вы верите в это «позже»? Но что значит: позже? Месяц, два?
Он вдруг с искренней злобой швыряет окурок в камин, сейчас он не притворяется. Смотрит на меня почти с ненавистью.
— Не думаете же вы, что я буду ждать два месяца. Ее вид обиженной вдовы не трогает меня. Вы оба издеваетесь надо мной.
Шумно переводит дыхание, веснушки делали его лицо похожим на побитое молью.
— Существует одно-единственное слово.
Я рывком пододвигаю к нему свое кресло и хватаю его за руку.
— Повтори-ка, что ты сказал… какое слово?
Он пытается высвободиться. Он не думал, что у меня прежняя хватка, и испугался. Еще мгновение, и он загородится локтем от удара.
— Нет, — запинается он, — нет. Я плохо выразился. Я хотел сказать… не сделать ли мне ей предложение… может быть, она этого ждет.
Постепенно его лицо приобретает нормальный цвет. Он чувствует, что нашел верный тон, потихоньку разжимает мои пальцы, мило улыбается.
— Какой вы сильный! — говорит он.
Он продолжает, но уже печально, словно страдает оттого, что его в чем-то заподозрили:
— Она же вышла замуж за дядю. Почему бы ей не выйти за меня? Чего я прошу? Немного ласки, и все. Я пожертвовал ради нее…
Он широко разводит руки, чтобы очертить размеры самопожертвования, но в последний момент передумывает.
— Всем, — произносит он. — Всем. Покоем… безопасностью… здоровьем. Именно здоровьем, и все для того, чтобы получить грубый отказ.
— Бедняга. Успокойся. Ты же отдаешь себе отчет в том, что я не могу ей рассказать, что произошло в кабинете твоего дяди.
— Она ужаснется?
— Да. Она испугается за меня, за тебя, за нас всех.
Его лицо светлеет.
— Но я бы очень хотел, чтобы она боялась, — увлеченно замечает он.
— Тихо, малыш. Иногда ты хуже ребенка. Сначала подумай о ней. Эта ужасная смерть потрясла ее, подумай. Поэтому ты будешь молчать. Прекратишь крутиться вокруг нее. Потом посмотрим… Мне пришла одна мысль.
Он присаживается на кончик стула, наклоняется ко мне, жадно смотрит на меня, будто я собираюсь рассказывать о своих трюках.
— Нет, — говорю я ему. — Не сейчас. Дай подумать. — И вдохновенно добавляю: — Ты не догадался, почему она избегает тебя и почему она кажется такой грустной? Угрызения совести, мой милый. Даже мне она ничего не сказала. Но я ее слишком хорошо знаю. Она вбила себе в голову, что твой дядя застрелился из-за нее и из-за тебя. И эта мысль ей невыносима.
Пораженный этим откровением, Шамбон крепко сжал руки.
— Да, — прошептал он. — Да. Я не подумал об этом. Она считает себя виноватой.
— Именно. Твоего дядю она, конечно, не любила. Но самоубийство, даже на человека не особенно чувствительного, производит впечатление. Могу поклясться, что сейчас она считает из-за твоих любовных надоеданий, что у тебя нет сердца.
Он больше не храбрится. Он побежден. Я настаиваю!
— Веди себя достойно. Брось этот свой заговорщицкий вид, мол: «Если бы только я мог сказать!» Эй, ты меня слышишь?
Он не слышит. Он встает. Он так взволнован, что готов заплакать.
— Я все ей скажу, — сказал он. — Пусть мне будет хуже.
— Но, боже мой, деревянная твоя башка. Успокойся и подумай хорошенько. Предположим, ты ей скажешь правду. А что потом? Нужно будет пойти до конца — сдаться полиции и меня сдать заодно. Потому что именно этого она захочет. С ее честностью другого выхода нет.
Он задрожал. Попытался зажечь еще одну сигару, чтобы немного успокоиться, я предложил ему свою зажигалку.
— Должен же быть какой-то выход, — сказал он. — Но, честно говоря, я его не вижу. Только что вы думали, что…
— Да, верно. Я размышлял над идеей твоей матери, которую стоит, возможно, развить.
— Продолжайте. О чем это вы?
— Слишком рано. Повторяю, такие вещи с ходу не решаются. А теперь ступай. Ты меня утомляешь.
Он ушел. Все еще взволнованный. По его виду можно было понять, что он что-то скрывает. Он носится со своей тайной, как другие со своими болезнями. Этого я не учел. И я себя ругаю. Но что делать! Не мог я в одиночку убрать Фромана. И из-за этого кретина мое прекрасное творение может рухнуть. Потому что уже совершенно очевидно — он не вынесет. Он обдумает наш разговор, не замедлит заметить уязвимое место в моих рассуждениях. А именно: что может заставить его явиться с повинной? Напротив, почему бы ему не сказать Изе: «Если вы не согласитесь, я сообщу в полицию». Прекрасный повод для шантажа. Правда, для этого нужен сильный характер. Однако встречаются трусы, которые стоят смельчаков!
Я вытягиваюсь на кровати. У меня болит спина, поясница. Это помогает шевелить мозгами. Да и безотлагательность решения придает ума. Через неделю выборы. Пусть пройдут. Мне нужно, чтобы меня не отвлекал этот необъяснимый психоз, охвативший телевидение, радио, газеты, волны которого доходят даже до моего уединенного жилища. Я должен до конца проникнуться мыслью, что Шамбон отныне представляет опасность. Кроме того, я не допускаю мысли, что он наложит на Изу свои грязные лапы. У меня нет выбора. Но я уже угадываю извилистую тропинку к окончательному решению. Прежде всего, подготовить Изу, что не составит особого труда, так как я для нее, если осмелюсь так выразиться, единственный путь к истине и жизни. Иза! Милая!
Она придет сегодня, как и каждый вечер, после смерти Фромана. Чтобы удостовериться, что у меня все под рукой, ночник на месте, кресло там, где ему и положено быть, не слишком далеко и не слишком близко, костыли там, где я смогу легко достать, если понадобится. Взобьет подушки. Она будет здесь, я люблю ее движения, ее запах, ее ласковые, нежные руки, обнимающие меня за шею. На этот раз она почти ничего не узнает. Не хочу подвергать ее ни малейшему риску. Я только скажу: «Иди ко мне. Поговорим о Марселе».
Она запротестует: «Нет, он меня преследует повсюду. Я еще и здесь должна слушать о нем?»
Она очень живая, в ней кипит страсть, мне нравится, когда ее глаза горят от гнева. Я уже подготовил свою речь.
— Иза, мне кажется, что мы сможем удалить Марселя, если ты мне поможешь.
Глупо. Как будто я забыл, что она всегда соглашается со мной, со всеми бредовыми идеями, еще с тех пор, когда я изобретал самые дикие акробатические номера. Я уверен в ней больше, чем в самом себе. Я продолжаю:
— Он с ума по тебе сходит и не знает, как привлечь твое внимание. Что ты хочешь, он такой. Ему нужно, чтобы на него смотрели, чтобы с ним возились; я думаю, он всегда мечтал стать для кого-нибудь кумиром. А ты обращаешься с ним, в его же доме, как с чужим.
Иза недовольна:
— А что, если я встану на сторону Шамбона?
— Успокойся, малышка! То, что происходит, — это моя ошибка. Это я тебе сказал после смерти Фромана: «Плюнь ты на этого идиота». Так вот, я ошибся. Я думал, он в моих руках. Но он поверил, что ты любишь его. Вот, пожалуйста… Теперь он способен на все, чтобы ты к нему вернулась. Он больше не владеет собой.
Я заставляю себя рассмеяться, давая ей понять, что наше положение не так уж трагично. Я никогда не мог спокойно видеть тревогу в ее глазах.
— Так вот. В одном лице он и злодей, который кричит: «Стань моей, или я все скажу», и добряк, который умоляет: «Взгляни на меня, или я умру». Он настоящий трагедийный актер, этот парень. Но он способен нас погубить. Самое время его обуздать.
— Но как?
Милая маленькая Иза! Она слушается меня точно так же, как и этот кошмарный Шамбон. Надо думать, рассказать я умею!
— Как? Очень просто. Слушай меня внимательно. Мы с ним составим два-три анонимных письма с угрозами, адресованными Фроману, и ты найдешь их, наводя порядок в письменном столе твоего мужа.
— Не понимаю.
— Да, охваченная волнением, покажешь их Шамбону. Вот! Фроман получал письма с угрозами. Вот почему он застрелился… И если взялись за него, почему бы теперь не разделаться с его семьей? И ты вскричишь: «О! Вы тоже в опасности, Марсель!» Он тут же примет игру. Он тебе покорно скажет: «Да, я тоже на крючке. Странные звонки по телефону… Но что мне могут сделать? От чего мне защищаться? Я так мало дорожу жизнью». А ты ответишь: «Злой мальчик! Разве вы не знаете, как я вас люблю!»
Мы смеемся, мы всегда радовались вместе, как дети. Но Иза берет себя в руки.
— Если я ему это скажу, его больше не удержишь.
— Вот и нет. Конечно, он будет без ума от радости. Прослыть жертвой в глазах женщины, которую любишь, какая роль! В этот момент, чтобы показать, какую нежность ты испытываешь к нему, ты порекомендуешь ему уехать ненадолго, например в Гавр, он не осмелится отказаться.
— А если он все же не согласится?
— Да ты что?
Я открываю глаза. Я один. Да, очевидно, откажется. Надо думать. Мой план готов. С такими людьми, как он, медлить нельзя.
Ход с анонимными письмами пришелся Шамбону по душе. Он их никогда не писал, но втайне лелеял мечту написать. Власть, приобретаемая без всякого риска, — как раз то, что может сладострастно искушать такого садомазохиста, как он. Я снова взял верх. Для него — это такой простой способ выглядеть героем, если не гением, перед Изой. Он чувствует себя вольготно в роли жертвы. В роли убийцы он был не хуже. Но нужно признать, что он был лишь помощником палача. Его заместителем. Немного слугой. В то время, как сейчас… За ним следят, в него целятся. Он начитался в прессе исповедей убийц. Конечно, никто и не собирается следить за ним, изучать его привычки, чтобы выбрать удобный момент и прикончить. Но можно сделать… Можно сыграть. По моему сигналу он войдет в роль персонажа, жизнь которого висит на волоске. Естественно, если Иза проявит к нему немного интереса, он не подставит себя под пули. Он примет меры предосторожности. Ах, какие чудесные мгновения ждут нас! Какие диалоги! Я уверен, что мы увидим проявление редчайших человеческих чувств. Что не помешает ему взвесить предстоящее предложение. Я знавал когда-то таких трусливых хвастунов, находивших неисчислимые препятствия прежде, чем начать действовать. «Иза! Почему ей могла прийти мысль разобрать бумаги покойного? Почему не сразу? Что она надеялась найти? И зачем…»
— Послушай, Марсель, а ты не струсишь? — спросил я.
Невыносимое оскорбление. Он тут же заартачился.
— Послушайте, вы же меня знаете. Знаете, что я также способен нападать. Но вы меня научили, что нужно все рассчитать. Естественно, я задаю вопросы.
— Хорошо. Ответ первый. Нормально, что жена, когда проходит приступ горя, Хочет узнать хоть что-нибудь о прошлом покойного. Поставь себя на ее место. Или я мог подать ей идею. Ответ второй. Ее траур длится не так уж и долго. Вполне естественно, что в ней именно сейчас пробудилось любопытство. Ответ номер три. Ее неотступно преследует мысль о самоубийстве. Может быть, она надеется обнаружить что-то, письмо или черновик, который объяснил бы необъяснимое.
— А кто напишет анонимные письма? Только не я. У меня характерный почерк. Даже если я попытаюсь изменить его…
— Мы вырежем буквы из газет.
— А кто нам докажет, что Иза найдет их?
— Мы их изомнем, будто Фроман собирался их выбросить, и положим их среди всяких ненужных вещей, старых карандашей, использованных марок, ластиков. Она обязательно заметит их.
— Сколько надо писем?
— Два или три. Не больше. Но нужно все так устроить, чтобы Иза подумала, что были и другие письма.
— А что я должен говорить?
— Каким же надоедливым ты можешь быть, мой милый. Ты скажешь, что тебя оскорбляли по телефону.
— Как, например?
— Ну, что тебя называют грязным капиталистом… Что-нибудь на политическую тему, чтобы Иза убедилась, что Фроман застрелился из-за выборов.
— Но я-то не кандидат.
— A-а, чтоб тебя!.. Ты меня выведешь из себя. Ты сторонник усопшего, да или нет? Ты живешь в Колиньере, да или нет? Ты дворянин, так или не так? На заводе тебя изводят, не так ли? И еще, не забывай, что все это притворство. Это чтобы обмануть Изу. И ты увидишь, что она побледнеет. Она тебе скажет: «Марсель, мне стыдно, я думала только о себе». А ты…
— Да, да. Дальше я знаю, — перебил он. — Не беспокойся.
— Нужно, чтобы прошел первый тур выборов. У меня хватит времени подготовить почву, поверить Изе свои подозрения. Действительно, стреляли в расклейщиков афиш; подожгли пункт «скорой помощи». Это рок: я только сейчас подумал, что Фроман мог пасть жертвой предвыборной кампании. Иза клюнет! Давай, Марсель, все будет о’кей. Но будь осторожен со своей матерью. И перед Изой сохраняй вид озабоченный, растерянный, вид человека, который плохо скрывает серьезную озабоченность.
Ну вот, некоторое время я могу пожить спокойно. На следующий день сестра увезла меня в парк, как она часто это делает, чтобы Жермен проветрил и убрал мою комнату. Мы оба — свободолюбивые животные, и минуту мы постояли молча, охваченные воспоминаниями. Если случайно я скажу: «Руайан», она ответит: «Об этом я и думаю». И мы вместе посмотрим этот фильм, в котором меня загнали в засаду на маяке; в нем прекрасные морские виды, бесконечность и море… Она шепчет мне на ухо: «Ты помнишь Антиб?» Конечно, помню. Погоня на лодках. Наши воспоминания хранят лишь образы пространства и свободы. А мы здесь, в этом зверинце!
Не время ворошить прошлое. Я объясняю ей, как можно удалить Шамбона. Она находит мою идею гениальной и считает, что нельзя терять ни минуты. Однако она замечает, что для хорошего прыжка нужен разгон. Шамбон напишет, позвонит, сыграет роль изгнанника, который сгорает от любви, но потом вернется, и что дальше?
— Видно будет, — говорю я. — Всякое может случиться за это время.
Она искоса взглядывает. Но я прекрасно владею своим лицом. Сценарий готов. Остается небольшая работа по монтажу. Детская игра.
Шамбон пришел меня навестить. Он принес газеты, журналы. В прессе только и пишут о результатах первого тура. Левые… правые… Баллотирование… Список друзей Фромана в неудачном месте. «На него все плюют, Марсель!» Он согласился. Нам нужно составить короткий, ударный текст.
— Что ты предлагаешь?
Шамбон трет глаза и щеки. Подумав, говорит:
— «Последнее предупреждение».
Я горячо одобряю.
— Очень хорошо. Это доказывает, что твоему дяде не давали покоя.
Он улыбается, как автор, которого похвалили, и продолжает:
— «Убирайся или тобой займутся».
Тут же поправляется.
— Так лучше: «Сволочь, убирайся… и т. д.» Со словом «сволочь» лучше. Нет?
— Я думаю, да. Сразу можно догадаться, что твой дядя был замешан в каких-то грязных делах. Превосходно!
Кретин, как он пыжится, раздувается от гордости. С каким удовольствием я бы расквасил ему морду!
— Ты мне подал идею, малыш. Составим второе письмо. Подожди… Мне кажется, очень хорошо: «Хватит разборок… Вон!»
Он кивает головой в знак согласия.
— Мне нравится «разборки», но, может быть, все-таки добавить слово «сволочь».
— Ладно, раз ты настаиваешь…
Когда я перескажу сцену Изе, она умрет со смеху. Теперь за ножницы! «Последнее» и «предупреждение» — это легко найти. Пробегаем глазами названия, колонки… Во времена, когда осуждаются экстремисты с их лозунгами «Убирайся…» и «Долой…», найти нужное слово в газете — не проблема. «Разборки» нашел Шамбон в статье о каком-то скандале в мэрии. Зато «сволочь» найти трудно.
— Ну и черт с ним, — говорю я. — Не искать же его целый день.
Он упорствует. Это его дурацкая идея. И он находит его все же в хронике с ипподрома: «Победитель в тройном экспрессе — рысак „Сволочь“».
— «Победитель в тройном» — хороший знак, — замечает он.
Хватает два чистых листка, клей и принимается, сидя на полу, складывать вместе вырезанные слова, он похож на ребенка, занятого головоломкой.
Потом он вчетверо сгибает каждый листок.
— Конверта не надо, — говорит он. — Даты тоже. По шрифту видно, что эти письма старые. Как могут нас заподозрить?
Я соглашаюсь. Никакой опасности. Он выглядывает в коридор. Ни души. Мы входим в кабинет Фромана. Я хотел скомкать оба письма, но, подумав, решил, что лучше небрежно положить их в папку со статьями, написанными Фроманом.
— Думаете, она найдет их? — спросил он.
— Конечно. Примерно через недельку она перероет все бумаги после того, как обнаружит эти письма.
В следующий понедельник мы узнали о полном поражении. Друзья Фромана проиграли.
— Его последняя статья была значительной, — заметил Марсель. — Он показывал мне черновой вариант.
— Я не в курсе, — ответила Иза.
— Как! Вы ее не читали?
— Я тоже не читал, — сказал я. — Можно посмотреть?
— Я не знаю, куда он ее дел, — признался Шамбон.
— Я знаю, — перебила Иза. — Для бумаг у него были отдельные папки. Для счетов, для банковских извещений, всего пять или шесть. Наверняка была папка и для материалов о выборах. Нужно будет заняться ими, когда прибавится сил.
— Хотите я поищу? — предложил Шамбон.
— Вы ее не найдете! Нет, я сама. Мой бедный друг предпочел бы…
Признаки сдерживаемых рыданий. Растерянный взгляд на Шамбона, когда он протянул ей руку. Мы проходим через двор. Наступил нужный момент. Если этот кретин Шамбон правильно сыграет, если Иза окажется на высоте, мы сможем так или иначе избавиться от него. Мы возвращаемся в замок. Иза останавливается возле письменного стола в кабинете Фромана.
— Видите. Личная корреспонденция — слева.
Она открывает ящик. Взглядом я призываю Шамбона приготовиться. Она вынимает папку, показывает надпись: «Выборы». Протягивает папку Шамбону и садится в кресло.
— Ищите сами. Мне так странно находиться здесь.
Шамбон, смутившись, взглянул на меня, как актер на суфлера. Достал несколько отпечатанных на машинке бумаг и вдруг закричал дрожащим голосом:
— Это что такое?
В дрожащей руке он держал два письма, и я знал, что это была не липа. Он протянул их Изе. Иза, прекрасно справляясь с ролью убитой горем вдовы, начинает медленно читать: «Сволочь! Хватит разборок». Подносит руку к горлу: «Нет, это невозможно!» Чтобы помочь ей, я беру второе письмо и выборочно читаю: «Сволочь! Убирайся, не то мы расправимся с тобой».
Гробовое молчание. Иза вздыхает, заламывая руки.
— Ему угрожали, — говорю я. — Вот почему он ходил мрачный. Это объясняет сцену, которая произошла между вами незадолго до его смерти.
— Я не могу в это поверить, — говорит Иза. — Он ничего не скрывал от меня.
Я ногой дотронулся до ноги Шамбона, давая ему понять, что пора вступать.
— Дорогая Иза, — сказал он, — человек, которому угрожают, если у него есть гордость, предпочитает молчать.
Ей-богу, тон найден верно. Если бы ставка не была так высока, я бы повеселился.
Иза с удивлением посмотрела на него.
— Вы все знали?
У Шамбона был такой вид, словно он скрывал что-то очень важное и не мог сказать об этом.
— Говорите же.
— К чему? Однажды он мне сказал, что получал письма. А сейчас звонят мне.
— Что? Вам угрожали, Марсель?
— И угрожают.
— Но почему? Почему?
— Не знаю. Я никогда не занимался разборками, темными делами.
Иза встает, направляется к Марселю, словно хочет прижаться к нему.
— Марсель, — говорит она, — мне стыдно… Ваше отношение ко мне казалось мне неискренним. Я не понимала, что…
Я отодвинулся к выходу. Теперь пусть все идет своим чередом. Шамбон знает свою роль.
— Возможно, дни мои сочтены. В любой момент я могу получить пулю в лоб. Каждый день после смерти дяди я ждал, что меня убьют.
Он забыл, что я нахожусь рядом. Он нежно взял ее за руку и прикоснулся к ней губами.
— Мне все равно, пускай я умру, ведь вы даже не смотрите на меня.
Он откровенен, бедолага. Иза ищет меня глазами. Она дает мне понять, что сцена становится тягостной. Однако отвечает:
— Нет, Марсель, вы не умрете, вам необходимо скрыться.
— Незачем.
— Вы хотите мне сделать больно.
— Разве я вам сколько-нибудь дорог?
Он такой, Шамбон. Если пристанет, то от него не отделаешься. Меня начинает раздражать спектакль, который мы играем, все трое. Я не могу не вмешаться.
— Марсель, старина, ты должен был нас предупредить. Тебе давно угрожают?
— Со дня смерти дяди. Грозят снять шкуру. Я не хотел бы закончить жизнь, как он, я хочу, чтобы Иза все знала.
— Конечно, Марсель. Но сейчас не время.
И тогда он делает театральный жест, о котором меня не предупреждал. Достает из кармана коробочку, открывает и протягивает Изе. Я вижу кольцо с крупным бриллиантом. Иза отступает.
— Марсель, вы сошли с ума.
— Нет. Просто если со мной что-нибудь случится, я буду счастлив от одной мысли, что вы будете носить мой подарок как память.
Он разделался со мной. Возможно, он понял, почему я хотел убрать его, он смотрит на меня через плечо насмешливым взглядом. Нет, это невозможно. Он не настолько хитер. Иза стоит в страшном смущении.
— Вы так любезны, — сказала она.
— Возьмите, — настаивает он. — Это не обручальное кольцо. Я бы не позволил себе. Это лишь маленький подарок на память обо мне.
Он слабо улыбнулся, как улыбаются приговоренные к смерти.
— Поживем — увидим. Я не собираюсь уезжать, в любом случае. Ничего не бойтесь, Иза.
Он силой втискивает коробочку в ее руку и придвигает к себе телефон.
— Что вы собираетесь делать? — спрашивает она.
— Предупредить полицию, черт возьми.
Он быстро начал набирать номер.
— Если бы мой дядя опередил их, он был бы жив. А теперь я хочу жить ради вас, Иза, или по крайней мере попытаться… Алло! Говорит Марсель де Шамбон. Я хотел бы поговорить с комиссаром Дрё. Алло? Он занят? Не могли бы ему передать, что мне необходимо срочно с ним повидаться, так как обнаружились новые факты в деле Фромана. Что? Мы ждем его. Спасибо.
Все это произошло так быстро, что я не смог помешать. Однако, будучи немного выбитым из колеи, я не был застигнут врасплох. Я всегда контролирую ситуацию.
— Дрё сейчас придет, — сказал Шамбон. — Я попрошу у него защиты.
— Ваша мать знает об этих телефонных звонках? — спросила Иза.
— О! Нет. Мой дядя ни слова не сказал ей о письмах. Я не хотел первым говорить ей об этих угрозах.
— Почему же вы сразу не поставили комиссара в известность?
Он замешкался. Я подсказываю ему ответ.
— У Марселя нет никаких доказательств.
Он тут же сообразил.
— Это правда. У меня нет писем, чтобы показать. Телефонные звонки не оставляют никаких следов. Комиссар не принял бы меня всерьез.
— И все же, — говорит Иза. — Нам было бы спокойнее, если бы вы уехали на некоторое время. Из-за выборов страсти разгорелись. Все скоро утрясется.
— Не уверен, — ответил Марсель. — Почему я должен убегать?.. Послушайте, Иза…
Он выводит ее в коридор и шепчет на ухо. А я… мне нельзя больше ждать. Возможно, я удовольствовался бы тем, чтобы он убрался куда-нибудь к черту на кулички, — это стало бы первой ступенью моего плана. Да, может, я и оставил бы ему шанс. Но сейчас это невозможно. Кончится тем, что Иза его пошлет в конце концов, и в приступе бешенства он выложит ей всю правду. В этом идиоте есть что-то фанатичное. Он из тех психов, которые, не колеблясь, взрывают себя вместе с врагом. Выходка с кольцом! Он сам себе вынес приговор. Я услышал шум приближающейся машины.
— Ага! Вот и комиссар! — закричала Иза. — Пойду встречу его.
Она убегает от Шамбона, который направляется ко мне, не в силах сдержать улыбку.
— Мне кажется, я был на высоте, — сказал он. — Комиссар не откажется выделить одного из своих людей для наблюдения за замком. И к Изе вернется вкус к жизни. Я займусь этим, вот увидите.
Я стараюсь овладеть собой. Мои руки не дрожат. Я смотрю на него убийственным взглядом, но улыбаюсь ему в ответ.
— Ты был великолепен. Остается убедить Дрё.
Комиссар уже здесь, торопится, ворчит.
— Что еще стряслось? — резко спрашивает он.
— Посмотрите, что мы нашли, — говорит Шамбон, протягивая комиссару письма, которые он быстро прочитывает.
— Ну и что?
Шамбон волнуется.
— Они были в папке. Здесь… я покажу, если вы хотите.
Дрё пожимает плечами.
— Подобных писем у меня целая куча на столе. Если бы их можно было принимать всерьез!
— Но мне тоже угрожают, — вставляет Шамбон.
— Вам пишут?
— Нет. Мне звонят по телефону.
— Что говорят?
— Что со мной расправятся, что я — не лучше дяди.
— И все?
— Как это все? Вы считаете, этого недостаточно?
— Мой дорогой друг, при такой беспокойной жизни, которую мы ведем, количество людей, которым угрожают письмами или по телефону, огромно. Хочется думать, что тем, кто их пишет, эти глупости, становится легче. Потому что они не влекут за собой никаких последствий, уверяю вас.
— Вы забываете, что моего дядю довели до самоубийства.
Он обижен до смерти, наш милый Шамбон. Это забавляет Дрё.
— Не будем драматизировать. Мы не имеем доказательств, что вашего дядю принудили покончить с собой. И то, что мсье Фроман ни разу не подал жалобы в суд, доказывает мне, что он не придавал никакого значения этим письмам.
— Я подам жалобу, — кричит Шамбон. — Я прошу, чтобы мой телефон поставили на прослушивание.
— Это ваше право, дорогой мсье.
— Я также прошу установить наблюдение за замком.
Комиссар смотрит на меня и на Изу, как будто хочет, чтобы мы были свидетелями. Он кладет оба письма в карман.
— Это слишком. У меня не хватает людей. И потом, еще кое-что, о чем вы забыли… Вы знаете результаты выборов. Ваши друзья проиграли. Извините за откровенность, но власти считают, что мы слишком долго занимаемся Фроманом.
— Председателем Фроманом, — поправляет Шамбон.
— Пусть так. Председателем Фроманом.
— Совершено преступление! — говорит Шамбон.
— Обычное самоубийство, — сухо заключает Дрё.
— Вы ничего не предпримете? Если меня убьют, вы умоете руки?
— Никто вас не убьет, — утверждает Дрё. — А сейчас, если позволите… У меня много других дел.
Он приветствует всех троих и собирается уходить.
— Вы ошибаетесь, господин комиссар, — бросает ему вдогонку Шамбон. — У нас есть поддержка.
— Я рад за вас, — отвечает комиссар и уходит.
Иза его провожает. Шамбон возвращается в кабинет вне себя от гнева.
— Это им не пройдет, — кричит он. — Кто мне подложил такую свинью?
— Успокойся, Марсель.
— О да! Вам хорошо.
— Честное слово, ты в самом деле думаешь, что тебе угрожают? Проснись. Ты прекрасно знаешь, что все это вранье. Мы хотели ввести в заблуждение Изу, вот и все.
У него потерянный вид. Он трет пальцами глаза.
— Я уже не знаю, на каком я свете, — бормочет он. — У меня нет никакого желания ехать в Гавр или куда-то еще. У вас есть идея?
— Конечно. Но мне нужно немного времени. Ты не должен показывать Изе, что ты обижен грубостями комиссара. Ты должен быть выше этого. Осторожно, Иза идет.
Она входит в кабинет. Протягивает Шамбону коробочку.
— Мы все немного сошли с ума, — говорит она. — Вы очень милы, Марсель. Но я не могу это принять.
— Прошу вас.
Взглядом я даю ей понять, что это больше не имеет значения. Она не понимает, чего я хочу, но послушно разыгрывает взволнованное смущение.
— Хорошо, Марсель. С одним условием. Берегите себя.
Открывает футляр и, любуясь камнем:
— Это не разумно.
— Нет, — возражает Шамбон. — Вы говорите, как моя мать, дорогая Иза. Но мне надоело быть разумным. Если бы вы знали, что я уже сделал ради вас!.. Спросите у своего брата.
Он больше не владеет собой. Я беру его за руку.
— Хватит говорить Бог знает что, Марсель. Раз Дрё тебя бросил, мы сами предпримем что-нибудь. Жду тебя в своей комнате.
— Слушайтесь Ришара, — советует Иза. — Он — осторожный.
— Хорошо. До скорой встречи… Иза, я счастлив.
Он посылает ей воздушный поцелуй.
— Плюнь, — шепчет мне Иза. — Не сердись.
Вот мы и одни.
— Что ты задумал? — спрашивает она.
Точно такой же вопрос задал мне и Шамбон. Я машинально отвечаю:
— Конечно, но мне нужно немного времени.
На самом деле я уже все обдумал. Я знаю, где мой главный козырь. Реликвия прошлых дней. Я его всегда содержал в хорошем состоянии. Он мне был необходим, когда я участвовал в гангстерских фильмах. Я стрелял только холостыми патронами. Случалось, я думал: «Какая жалость! Такое оружие! Словно надеваю на него намордник». На этот раз мы поиграем с огнем. До сегодняшнего дня я выигрывал у Дрё. Вы никогда меня не поймаете, комиссар.
В ожидании Шамбона я отыскал револьвер в глубине платяного шкафа. Я потрогал свои гетры мотоциклиста. Бог мой! Я и забыл про них. Я вынужден был сесть, потому что нервная судорога стянула мне желудок. Все, что я настойчиво старался забыть, всю украденную у меня радость, счастье, которое больше не вернется! Я задыхался! Когда вошел Шамбон, он застал меня, нежно гладящего лежащие на коленях гетры, как будто я ласкал кошку.
— Во что вы играете? Что это такое?
— Сам видишь. На, потрогай.
Он с опаской дотронулся.
— Я только что нашел их. Это для меня многое значит… Сохрани их. Я их надевал в фильме, который имел огромный успех: «На Дакар». Не помнишь? Нет? Ладно. Ты даришь бриллианты. Я дарю то, что есть у меня. Не будем больше об этом говорить.
Он с уважением положил их на кровать.
— Хорошо. Спасибо.
Он закурил свою ужасную сигару, я трубку. Молчим. Я начинаю:
— Ты обратил внимание? Он не бросил письма в мусорный ящик. Он положил их в карман.
— Ну и что?
— По-моему, он хочет отдать их на экспертизу. Надеется найти отпечатки. Он только делал вид, что смеется над нами, но он добросовестный, этот комиссар. Я могу ошибаться, но я почти уверен, что не так уж легкомысленно он отнесся к этим угрозам. Только что же ему делать? Прослушивать твой телефон? Он не имеет права. Это целая история — установить прослушивание. Он предпочел нагрубить, чтобы нас успокоить.
— Да, — ворчит Шамбон. — В результате твоя сестра не восприняла меня всерьез.
— Ты ошибаешься. Естественно, если мы ничего не предпримем, если жизнь войдет в свое колесо, Иза будет думать, что наши опасения были преувеличены.
— И отдалится от меня, — заключил он.
— Дай мне договорить. Нужно, чтобы она испытала к тебе ну что ли благодарность, понимаешь? Сейчас ее раздирают угрызения совести и любовь, в которой она не признается. Я ее хорошо знаю. Она уже заволновалась, когда подумала, что ты в опасности. Она оценила твою преданность. Ее потянуло к тебе. Но то, что она чувствует, это только зарождающаяся любовь. Для того чтобы она цвела, нужно, чтобы ты подвергся настоящей опасности. Если хоть раз она испугается за тебя, считай, ты выиграл.
Он слушает меня с таким вниманием и доверием, что мне становится стыдно. Как будто я готовлюсь забить сбесившееся, опасное, но когда-то преданное животное.
— Что вы предлагаете? — спросил он. — Чтобы я организовал покушение на себя самого?
— Конечно.
Он сам сделал первый шаг.
— Я не очень хорошо понимаю. Какое покушение? Кто на меня нападет?
— Не торопись. Сначала скажи, ты считаешь, что я прав? Потому что я не хочу тебя заставлять. Тебе решать.
— Я люблю Изу, — сказал он.
Идиот. Конечно, он сам меня заставил. Я спокойно раскуриваю трубку. Преимущество трубки в том, что она все время гаснет, и, если медленно зажигать спичку, можно отпустить поводья мысли и увидеть, какой путь лучше выбрать.
— Забудем об Изе, — сказал я. — Ты считаешь себя способным работать в кабинете твоего дяди?
— Почему бы и нет?
— Покажется ли это естественным, если ты принесешь дела домой, чтобы закончить работу?
— Я не должен никому отдавать отчет. Стало быть…
— Но необходимо, чтобы это знали окружающие. У тебя есть секретарь?
— Конечно.
— Ты можешь ему сказать, например: «Оставьте эти бумаги. Я просмотрю их дома». Что-нибудь в этом роде.
— Естественно, могу. Но что вы задумали?
— Постой. Нет ли у тебя на заводе, ну как его, секретного дела или, если хочешь, с грифом: «Совершенно секретно»?
Он смотрит на меня как собака, которая ждет, что ей бросят мячик.
— «Совершенно секретно». Такого, наверное, нет. Но есть рабочая переписка с группой голландцев, которые интересуются нами уже очень давно.
— Замечательно. Это ты и возьмешь.
Он подпрыгивает от возбуждения.
— Объясните.
— Подойди к шкафу. На самой верхней полке лежит маленький голубой чемоданчик.
Он послушно направляется к шкафу. Как только я напускаю на себя таинственный вид, я вновь обретаю всю свою притягательность.
— Видишь?
— Да.
— Дай мне… Или лучше положи на стол и открой сам.
— Но какое отношение имеет этот чемодан к?..
— Давай открывай. Там найдешь сверток в жирной от смазки замшевой тряпке. Довольно тяжелый. Ты догадался?
Он замирает от неожиданности, словно дотронулся до змеи.
— Можешь взять. Он не кусается.
Он берет в левую руку мой револьвер 38-го калибра, жадно рассматривая его. Я рассказываю:
— Револьвер тридцать восьмого калибра. Оружие особого назначения. Пятизарядный. Целиком из стали. Весит пятьсот тридцать восемь граммов. Он не заряжен, но можешь мне поверить, когда он выстрелит, будет больно.
Он старательно заворачивает оружие.
— С этим я на тебя нападу. О! Не бойся. Только сделаю вид. Послушай меня. Значит, так. Детали потом. Ты работаешь вечером в кабинете, скажем, в десять часов. И вдруг ты слышишь снаружи, за балконом, шум. Каким-то предметом царапают ставень. Воры. Ты не вооружен. Убегать? Ты не собираешься. Ты же не трус. Ты бросаешься к телефону и звонишь Дрё — домой, естественно. В это время грабители сбивают задвижку. Ты вызываешь комиссара на помощь. Тут кто-то с балкона видит тебя, изумляется, теряет хладнокровие, стреляет в тебя два-три раза, промахивается и скрывается.
— Неплохо, — говорит в восхищении Шамбон.
— Затем прибегает Дрё. Жермен, который открывает ему ворота, следует за ним. Ты показываешь взломанный ставень, и Дрё обнаруживает две пули в раме. На этот раз никаких сомнений. Дело Фромана возобновляется. К тому же общественное мнение на вашей стороне. Да, Марсель, на тебя накинутся все газеты, телевидение…
— Я сумею справиться, — утверждает он.
— А Иза!.. Она любит мужественных людей… Она жила среди них: Понимаешь, единственное, в чем она могла бы тебя упрекнуть, так это в том, что ты уж больно изнеженный, занянченный… Но тот, кто перед лицом опасности не теряется, с риском для жизни вызывает полицию… что ж? Тот одной с нею крови. Тем более — и ты не забудешь об этом сказать — ты звал на помощь не ради себя, а ради матери, Изы, ради меня.
— Грандиозно, — шепчет Шамбон. — Грандиозно… А вы?
— О! Со мной нет проблем. У меня будет достаточно времени вернуться к себе. Меня еще придется будить, чтобы сообщить о случившемся.
— Да, да, — говорит он. — Дайте мне все обдумать. Револьвер?
— Он будет в своей коробке, на этажерке. Не думаешь же ты, что я его оставлю?
— Почему грабители убегут, ничего на взяв?
— Потому что они увидят тебя у телефона и поймут, что ты вызвал полицию. К тому же, что тебе до этого, пусть полиция делает выводы.
— Хорошо. Я согласен. Но не будет ли более правдоподобнее, если они убегут без выстрелов?
— Конечно. Именно этого Дрё и не поймет. Подумай… Выстрелы — это связь между самоубийством Фромана и попыткой взлома. А знаешь, что он подумает? Он решит, что это — промышленный шпионаж. Ты молчок, конечно. Но перед Изой не отрицай. Поверь мне. Ты станешь ее самой большой любовью… Еще возражения?
— Что я скажу комиссару? Нужно, чтобы я казался испуганным.
— Конечно… Может быть, не испуганным, но очень взволнованным. Это легко. Вспомни, как ты обманул типа из службы доверия. Ты — хороший актер, когда захочешь. Не забудь, что я выстрелю в тот момент, когда ты будешь звонить. Дрё услышит выстрелы, и этого будет достаточно, чтобы убедить его.
— Итак, все будет так же, как с дядей.
— Почти.
Он вытирает лоб и глаза носовым платком. От страха он покрылся испариной. Он переживает сцену. Слышит выстрелы. И в то же время он чувствует, что, возможно, не осмелится… Один раз он сумел, второй раз вряд ли. Он прикидывает и пытается найти путь к отступлению.
— Немного грубо, вы не находите?
— Промышленный шпионаж на цементном заводе… Если бы еще мы работали в области электроники.
Я отметаю возражения широким взмахом руки.
— Какая разница. Дрё пусть думает, что хочет. Первое: он своими собственными ушами услышит выстрелы. Второе: он увидит, что ставень взломан. Третье: он найдет две пули в переплете окна, позади письменного стола. Вывод: ты чудом уцелел. Что тебя беспокоит?
— Ничего… Ничего.
— Ты боишься скандала, признайся.
— Моя мать так слаба.
— Хорошо, давай оставим нашу затею.
— Нет. И речи быть не может.
Он задумчиво смотрит меня.
— Ты хочешь быть уверенным в Изе, не так ли?
— Ну, да. Конечно. Кто мне гарантирует, что?..
— Если б ты не перебивал все время… ты хорошо знаешь, что я все предусмотрел. Давай повторим. Тебе угрожают. Ты не можешь рассчитывать на полицию. Рядом с тобой женщина, которая боится за тебя. Естественно, влюбленный мужчина, который опасается худшего… Что сделает? Поступок поистине бескорыстный… ну? Так что же?
— Нет, — жалобно отвечает Шамбон.
— Давай! Еще одно усилие. Если он готов отдать свою жизнь, разве он не согласится отдать и?..
— Состояние?
— Да, состояние. Туго ты соображаешь.
— Завещание?
Я дружески пожимаю его колено.
— Конечно, завещание. Заметь, только для проформы! Но когда Иза узнает, что ты для нее сделал… Щедрость всегда вызывает благодарность и любовь… Ты откроешь ей свои объятия… Нет? Еще что-нибудь не так?.. Слово «завещание» тебя пугает.
Он делает нетерпеливое движение.
— Вы все выдумываете… А это не так просто.
Каков! Маленький негодяй! Он почувствовал, что трогают его кошелек. Пока все понарошку, он согласен. Анонимные письма — прекрасно! Кольцо — это игра! Но как только надо подписать обязательство, сталкиваешься с действительностью. Удерживая равновесие, он, словно боязливый купальщик, пробует воду ногой.
— Вы не знаете мсье Бертайона, — продолжает Шамбон. — Когда он…
Я резко перебиваю его.
— Ты знаешь, что я сказал. Завещание — это лучше всего. Но тебя никто не заставляет.
— С чего мне начать?
— С документов, которые ты принесешь с завода. Неделю на подготовку. Еще есть время, предупреди Жермена, чтобы не удивлялся, увидев свет в кабинете в поздний час. Велишь ему отправляться спать. Естественно, ты окружишь Изу вниманием и не будешь вести себя как дурак со своей матерью.
Он вздрагивает. Я хочу привести его в замешательство грубостями, которые повысят мой авторитет. И добавляю:
— Сделаем все в субботу вечером, как с дядей. Самый лучший вариант. Дрё будет наверняка дома. Отрепетируем. Но знаешь, будет намного легче, чем в прошлый раз.
Он жмет мне руку. Своим дурацким «чао» он дает понять, что входит в игру. В нем есть все, что я ненавижу больше всего на свете.
Наконец я один. Мне звонит Иза. Я ей говорю, что у меня болит голова, но все хорошо. Что касается моей задумки с завещанием… Нет. Это — явный перебор.
Я изучаю еще раз свое хитрое сооружение. Оно прочное. Насчет самоубийства отработано на славу. Можно изощряться, утверждать, что все странно в этом деле, и даже вообразить, что был разыгран спектакль, но факты налицо. К тому же Дрё, а ведь он неглуп, и тот смирился. История с анонимными письмами выдерживает критику. Я бы даже сказал, что они подкрепляют версию о самоубийстве. После смерти Шамбона начнутся предположения, гипотезы, вообще шумиха. С этим я ничего не могу поделать. Но установят, что ставень и дверь балкона взломаны, а Шамбона убили. В таких делах главное — факты. А они выстраиваются в строгий логический ряд.
Уже поздно. Приму снотворное. Через минуту я вновь увижу, что устремляюсь вперед к трамплину и рассекаю пространство. Бедный я, бедный!
На следующий день я раздобыл костыльную лапу. В доме достаточно инструментов. Потом на минутку зашла Иза. Она очень красивая. Она немного волнуется, потому что чувствует, что я что-то от нее скрываю.
— Скорее бы все кончилось, — замечает она. — Ты выглядишь очень усталым.
Я беру ее за правую руку и приподнимаю.
— Кольцо?.. Ты должна носить его. Я знаю, что это тебе противно. Мне тоже. Но ты же знаешь Шамбона, он любит крайности. Все или ничего. Его все время мучит потребность исповедоваться. То — чтобы похвастаться, то — чтобы повиниться. Веди себя с ним осторожно… И положись на меня. Ладно?
Она прижимается ко мне головой, и мы надолго замираем. После ее ухода мне остается аромат ее духов, запах ее кожи, ее тень, чтобы поддерживать мои мечты. Я надолго погружаюсь в свой воображаемый мир. Когда все будет кончено, мы найдем другой дом, настоящий, теплый и уютный. С Колиньером покончено навсегда. Он слишком велик. В нем слишком много плохих воспоминаний. Может быть, тогда я смирюсь и попробую стать «как все», обычным инвалидом, на которого никто не обращает внимания. Подождав, я проезжаю в кабинет Фромана. Жермен пришел проветрить комнату. Дверь в сад открыта. Я изучаю ставни. Вечером их закрывают на засов, обычная деревенская система, малоэффективная. Достаточно просунуть тонкую металлическую пластинку под оконную задвижку и сильно нажать… Дерево треснет, шпингалет вылетит. Дальше нужно разбить стекло, и ты на месте. Дело нескольких минут. Но шума — много. Это обстоятельство меня порадовало. Дрё услышит все. Я войду на костылях через парк. К себе вернусь через коридор, так быстрее. Мое второе безупречное преступление. Мой последний трюк. Нужно только подготовить Шамбона.
Мы начинаем в тот же вечер, в кабинете Фромана, когда все улеглись спать. Он внимательно слушает, немного волнуясь. Он все время чешется и вертится.
— Мне не нужно столько раз тебе повторять, — говорю я. — Я постучу в окно, и ты позвонишь комиссару. Это должно произойти одновременно. Если вдруг его не будет, ты положишь трубку. Я услышу и уйду. Перенесем на следующий день. Теперь послушай меня. Я не кричу. Я взволнован. Говорю быстро, нескладно… «Господин комиссар… Говорит Шамбон… из Колиньера. Слышите?.. Их, должно быть, много… Они в парке… Они взламывают дверь… Приезжайте немедленно… Мне нечем защищаться…» В этом месте ты переведешь дыхание… Дрё воспользуется этим, чтобы заговорить… Сделаешь вид, что ничего не понимаешь, так как очень испуган. Будешь все время повторять: «Что?.. Что?..» А потом начнешь умолять: «Сделайте же что-нибудь… меня хотят убить…» Я разобью окно и два раза выстрелю в стену… Ты выронишь трубку, как бы теряя сознание или от сильного волнения не можешь продолжать говорить… Дрё будет уже в пути. Ты подождешь. Все — просто.
Я вижу, что он смотрит на меня немного искоса.
— Ты не согласен?
— Согласен, я думаю, что это сработает, но…
— Но что?
— Лучше я сам выстрелю.
Я делаю вид, что ничего не понимаю.
— Ты хочешь… Но это все усложнит. Ты должен будешь уронить трубку, подбежать к двери, выстрелить…
Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что действие может развиваться так, как хочет он. Если я начну упрямиться, подозрение, которое заставляет его быть таким осторожным, из смутного станет явным. Кто гарантирует ему, что я выстрелю в стену? Но я умею обходить опасные места.
— Если хочешь, пожалуйста. Мне все равно. Важно действовать быстро.
Повисло тяжелое молчание. Глаза в глаза, словно игроки в покер, мы пытаемся прочесть тайные помыслы друг друга. Если бы он сказал: «Не обязательно, чтобы ты приносил револьвер. Пусть будет у меня, пока я буду звонить», все бы пропало. Чтобы ему телепатически не передались мои мысли, стараюсь ни о чем не думать. Прервал молчание он.
— Хорошо. Я все сделаю очень быстро.
Я невинно улыбаюсь и добавляю:
— Все будет хорошо, дружище. Поверь мне.
Он сияет. Ему нравится, когда я его называю «дружище». Кризис миновал. Я продолжаю:
— Теперь твоя очередь играть… Стань у письменного стола. А я здесь, на пороге. Давай, некогда… Начинай: «Господин комиссар… Говорит Шамбон».
Сразу же он находит верный тон. Актер, которым он всегда и был, очень правдоподобен. Он говорит: «Они в парке… Они ломают дверь», потом он импровизирует, якобы задыхаясь: «Я пропал, Боже мой… Если бы только у меня хоть оружие было… Но ничего… ничего. Комиссар, помогите!»
Я останавливаю его.
— Прекрасно. Нет необходимости учить слова. Продолжай в том же духе. Жаль, что ты не играешь в театре.
Он загорается от тщеславия.
— Я неплохо справляюсь, — скромно говорит он.
И тут же заявляет, уступая мещанской привычке критиковать:
— Что не вяжется, так это ваше появление. Смотрите… Шпингалет не так легко вырвать… Как вы это сделаете?
— Я заранее отвинчу его наполовину… Это уже детали…
С ним всегда надо говорить тоном хозяина. Я роняю костыль, чтобы положить руку ему на плечо.
— А сейчас, — говорю я с оживлением, — за работу!
Я притворился спящим, когда в дверь постучали. Ответил я, зевая:
— Ну что еще? Кто там?
— Инспектор Гарнье.
— Не время для визитов, инспектор. Уже за полночь.
— Поторопитесь.
— Хорошо, хорошо, иду.
Я нарочно толкнул стол, с которого с шумом посыпались журналы. Я выругался, и, когда открыл дверь, лицо у меня было разъяренное.
— Ну, что там еще?
— Мсье Шамбон мертв, его только что убили.
— Что?.. Марсель?..
— Да, в кабинете своего дяди. Комиссар ждет вас.
Я сделал вид, что потрясен, заканчивая застегивать пижаму. Инспектор вывел мою машину и помог усесться.
— Поехали, быстро, — сказал он. — Вы ничего не слышали?
— Нет. А что?
— В него стреляли два раза в глухую полночь, грохот стоял ужасный.
— Я принимаю снотворное, вы прекрасно знаете. Когда это случилось?
— Около одиннадцати.
— Сестре сообщили?
— Нет еще.
Он почти бежал. Он был в плохом настроении и отвечал на мои вопросы довольно резко.
— Комиссар, наверное, сожалеет теперь, что не принял всерьез эти угрозы, — сказал я. — Вы в курсе?
— Конечно.
— Племянник после дяди, согласитесь, это забавно.
Он проворчал что-то, остановил машину у входа в кабинет. Дрё был там, он стоял, засунув руки в карманы, и изучал труп. Он устало посмотрел на меня.
— Ну и работа, — прошептал он. — Две смертельные пули и это…
Подбородком он указал на поврежденную дверь и осколки стекла.
— Я все слышал, — сказал он. — Несчастный был застигнут в тот момент, когда разбирал бумаги здесь, в кабинете. Он вызвал меня по телефону. Он совсем потерял голову. Напрасно я ему кричал: «Бегите!» Ничего не поделаешь.
Сцена стояла у меня перед глазами, но я притворялся удивленным и испуганным.
— Их было много?
— Думаю, да.
— Что-нибудь украли?
— Не думаю. Должно быть, они услышали шум. Совершенно точно, что им помешали, и они скрылись.
— Профессионалы?
— Я задаю себе тот же вопрос.
— Я думаю, — сказал инспектор, стоявший позади меня, — они пришли, чтобы убить его.
— Подойдите, — сказал мне Дрё.
Он помог мне встать на костыли.
— Вы понимаете… Он противостоял врагам… Вы сможете спокойно и хладнокровно смотреть на него?
— Да, думаю, что да.
Я склонился над телом Шамбона. Я ничего не почувствовал, только каплю жалости и отвращение. К нему? К себе? Какое это имеет значение?
— Видите, на лице его не осталось выражения испуга. Я не забыл голос, каким он говорил со мной по телефону. Это был голос испуганного человека. А что я вижу здесь? Покойник с умиротворенным лицом. Скажу больше. Покойник с ироническим выражением лица. Как по-вашему?
Он был прав. Этот несчастный Шамбон, который всегда хотел казаться выше, чем был, принял лихой вид, запечатлевшийся навсегда на его подвижном лице. До последней минуты он не перестал поражать меня.
— Да, если хотите, — сказал я. — Трудно сказать так сразу.
Я выстрелил в тот момент, когда он повернулся ко мне со своей самодовольной улыбочкой. Он лежал, распластавшись на спине, удовлетворенный, навсегда снисходительный. Я отступил.
— Он был убит с первого выстрела. Судебный медэксперт установит точно, но я почти уверен. Когда вы видели его последний раз?
— В полдень. Мы вместе обедали. Он не выглядел обеспокоенным. Выпив кофе, он пошел навестить мать. Мадам де Шамбон знает?
— Скоро узнает. Ей некуда спешить, бедная женщина. Когда врач и эксперты приедут, я займусь ею и вашей сестрой. Я хочу знать сейчас же, о чем вы говорили во время вашей последней встречи. Он ведь доверял вам? Вы были с ним в хороших отношениях, не правда ли?
— И да, и нет. С одной стороны, мы были друзьями. С другой — мы вели себя настороженно. Честно сказать, он ухаживал за Изой, и мне это не нравилось.
— Представьте, ведь я подозревал об этом. Весьма интересно. Весьма.
Он несколько раз покачал головой, словно делал себе комплимент, затем, услышав шум, доносившийся из коридора, он легонько оттолкнул меня.
— Пришли мои люди, — сказал он. — Подождите меня в библиотеке. Мы вернемся к нашему разговору позже.
— Я ничего не знаю, комиссар. Не вижу, чем бы я мог быть вам полезен.
— Наоборот… Хотите закурить? Гарнье, принеси ему трубку… Вы устроитесь в сторонке… Я к вам присоединюсь минут через пять.
Я поковылял в библиотеку, на душе было не то чтобы неспокойно, но все же… Что это означало: «Представьте себе, что я это подозревал»? И почему такой довольный тон?
Люди из лаборатории работали в кабинете очень шумно, говорили так свободно, словно не замечали лежавшего рядом с ними трупа. Я узнал голос судмедэксперта и расслышал: «Большой калибр… Прямо в сердце». Гарнье принес мне трубку и табак. Я чувствовал себя усталым, как после тяжелых акробатических упражнений. Вроде все было нормально. Я принял все меры предосторожности. Костыльную лапу я положил на место, предварительно вытерев ее хорошенько. На гравии в аллее от моих костылей не осталось никаких следов. Анонимные письма были довольно выразительны. Нападавшие были чужие люди. Это и сказал Шамбон Дрё по телефону. Несомненно, Дрё что-то подозревал. Драма выглядела несколько театрально… даже две драмы… почти одинаковые… оба раза со свидетелем на телефоне… Любой бы решил, что это довольно странно, а уж Дрё!.. Но доказательств никаких, меня ни в чем невозможно обвинить. Мать Шамбона начнет выть по покойнику, привлекать свои связи. Ну и что! Ее сын имел право влюбиться в Изу. А против Изы невозможно было выдвинуть обвинение, потому что я велел Шамбону, чтобы он сказал: «Они в парке… Они лезут через балкон!..» Они! То есть злодеи, взломщики, шпана, которых Иза знать не может. О! Таинственные смерти в замке вызовут много разговоров. Но мы незамедлительно переедем в другое место. Мне нечего бояться.
Шумные хождения взад и вперед не прекращались. Бродили по парку. Жермен пришел предложить мне выпить чего-нибудь. Я отказался. Он был очень взволнован и не мог смолчать:
— Какое несчастье! Но что мы сделали Господу?
— Вы ничего не слышали?
— Ничего. Всю ночь на дороге громыхали тяжелые грузовики. Если прислушиваться, вообще не заснешь. Когда позвонил комиссар, он нас и разбудил. Я хотел сообщить мадам и вашей сестре. Я совсем потерял голову. Молодой человек, который пришел с комиссаром, попросил меня ничего не предпринимать. Он сказал, что нас позовут, когда это будет необходимо. Я думаю, что всех нас убьют.
— Успокойтесь, Жермен, успокойтесь. Вы же участник Сопротивления? Да?
— Ну, тогда было лучше!.. Да, это правда. Не хотите выпить капельку?
— Спасибо… Они долго еще будут там возиться?
— А! Эти? Видно, что им не приходилось заниматься уборкой. Думаете, они обращают внимание на тело? Как же! Они ходят, перешагивают, как будто это собака, а не христианин. Это меня возмущает. Бедный мсье! Он был иногда странным, но не злым человеком. Так закончить жизнь!
В коридоре показался Дрё.
— Жермен, пожалуйста, подойдите сюда.
— Я скоро вернусь, — сказал он, обращаясь ко мне.
Снова топот, голоса. «Отодвинь кресло к двери, так будет удобнее». Слышится громкий звук разбитой посуды. «Поосторожнее, черт бы вас побрал!» Постепенно шум стихает. Слышится скрип дверцы шкафа, щелчок телефона. Дрё вынюхивает, роется везде, сопит. Я слышу его шепот, и вдруг… мне становится страшно. Лоб и руки покрываются потом. Я, который столько раз стрелял во врагов, которые хотели убить меня… но это была липа… их судороги, конвульсии. Потом они вставали, смеясь. Другое дело Шамбон! Надутый от самодовольства, но такой безвредный. Это не смерть в кино. Мороз по коже подирает. Все кончено. Стерто. Как эти парни, которые стреляют друг в друга по всему миру. Фроман — ладно. Он подлец. Но Шамбон — просто нечистоплотный, невоспитанный мальчишка. Две смерти за мои две ноги. Я чувствовал, что я не перестану копаться в себе.
Дрё закашлялся, разговаривая сам с собой, потом слышно было, что он вышел из кабинета и тихонько открыл дверь в библиотеку.
— Извините, что заставил вас ждать. Такова работа.
Он взял стул и сел на него верхом напротив меня.
— Прежде чем продолжить, мне кажется, мы должны прояснить некоторые моменты. Странные совпадения в этих двух делах…
— Думаете? Какое сходство может быть между самоубийством и убийством?
Он был раскован, внимателен, любезен, улыбался, будто никто никого не убивал в соседней комнате, будто не было позже часа ночи, будто…
— Хорошо, — сказал я раздраженно. — Что вы от меня хотите? Я повторяю вам: я спал. Я ничего не знаю. Я знал лишь, как и все, что Шамбону угрожали, но я не придавал этому значения, как и вы, комиссар. Ведь вы решили, что не существует никакой опасности? Никаких причин для беспокойства. Не так ли?
Почему он улыбается с таким довольным видом? Он засунул руку в карман, словно хотел достать револьвер… и вынул бумажник.
— Поговорим об этих письмах, — сказал он. — В любом случае я бы пришел сегодня поговорить с вами об этом. В них много интересного. Больше, чем вы думаете.
Он развернул их, аккуратно разгладил тыльной стороной руки и начал читать вполголоса с видом гурмана. «Последнее предупреждение. Сволочь. Убирайся или тобой займутся! Хватит разборок, сволочь! Убирайся… или…»
— Приходится, — объяснил он, — снова заняться ими. Эти письма, тщательно проверенные в лаборатории и мной самим, начинают рассыпаться.
— Да, — говорю я. — Видно, что некоторые куски отклеились.
— Верно. Возьмите вот этот, например.
Он отклеивает кусок бумаги и протягивает мне.
— Видите. Речь идет о слове «убирайся».
— Да, я вижу. Ну и что?
— С другой стороны что-то напечатано, все эти куски были вырезаны из газет. Предположим, что вырезали с четвертой страницы. Кусок, естественно, соответствует фрагменту текста на странице три. Согласны?
— Совершенно очевидно.
— Смотрите. «Убирайся», наклеим это слово на обратную сторону, что вы читаете на лицевой стороне?
— Я читаю: «различные». Это важно?
— Нет. Простой эксперимент. Но его можно продолжить.
Ногтем он поднимает уголок маленького прямоугольника и осторожно его отклеивает.
— Извините, — говорит он. — Я не очень доверяю своему заместителю. В лаборатории были тщательно изучены и лицевая, и обратная стороны, а потом я попросил снова склеить как было, но так, чтобы просто держалось. Потому что я хотел, чтобы вы поняли, как я к этому пришел.
Мне становится не по себе. Я не понимаю, куда он клонит.
— Слово «предупреждение», — продолжает он. — Переверните его. Не бойтесь.
Я пожимаю плечами.
— На обратной стороне может быть напечатано все что угодно.
— И что вы обнаружили?
— «Баллотирование». Глупость какая-то.
— О! Нет. Возьмите, мы перевернем все слова в обоих письмах.
— Но что вы хотите найти? На обратной стороне будет нечитабельный текст.
— Это было бы слишком хорошо, — улыбнулся комиссар. — Но из отдельных отрывков можно вынести крошки смысла.
— Послушайте, комиссар. Я здесь не для того, чтобы играть с вами не знаю во что. Может быть, вам и кажется это захватывающим. Но мне на ваши крошки наплевать.
Он не заводится. Он понимает, что мое раздражение притворно.
— Вы правы, — сказал он. — Я скажу проще.
Он разворачивает и соединяет вместе кусочки бумаги. Постепенно объявляет результат: «список… Друар…»
— Друар, — поясняет он, — это был кандидат от экологической партии.
Он продолжает.
— «8224»… «кабинет»… А! Вот самое поучительное. Слово «займемся»… мы знаем, откуда оно. Из «Фигаро», из номера, вышедшего на следующий день после первого тура выборов… Я читаю: «11402 избранных…» И так далее. Когда пресса опубликовала эти результаты? На следующий день после первого тура. Вы следите за ходом моих мыслей?
Напрягшись, ожидаю удара, еще не зная откуда, и соглашаюсь.
— Вы помните, когда умер мсье Фроман?
— Я не помню точную дату, но где-то в середине прошлого месяца, в субботу.
— Итак, — спросил Дрё поучительно, — итак?.. Считаем. Ровно за три недели до выборов.
На этот раз меня как парализовало, будто в нижней губе застрял крючок. Обрывки мыслей взрываются в голове. Я должен был подумать… Меня прижали. Моя ошибка! Моя ошибка! Моя ошибка! Столько ухищрений и… Это слишком глупо. Нужно держать себя в руках! Не показать виду.
Понемногу мне удалось прийти в себя, овладеть своим лицом. Оно продолжало выражать вежливый интерес, который начинал угасать.
Дрё жадно смотрит на меня, не прерывая показа.
— Вывод. Председатель умер задолго до того, как появились эти угрозы, которые советовали ему убираться. Вы понимаете, что это значит? Нет? Должен честно признать, что я тоже не сразу понял. Я сказал себе: «Мертвому не угрожают». Потом мне пришла мысль, что кто-то хотел подкинуть причину самоубийства, которое оставалось необъяснимым.
Он следит за мной с видом должностного лица, которое стесняется высказать личное мнение.
— Это первая ошибка, — сказал он.
Я пытаюсь иронизировать.
— Почему первая? Что, есть другие?
— Да, есть вторая, которая сразу же приходит на ум. Вы согласны со мной, что эти письма — блеф? Чтобы обмануть — кого? Они же должны обмануть кого-нибудь. Меня? Но для меня дело закрыто. Я подтвердил самоубийство. Это было законченное дело. Тогда кто был этот человек, которого эти письма должны были сбить с толку? А? Подумайте… Кто мог их обнаружить? Ваша сестра, Изабель.
На этот раз я не сдержался.
— Я прошу вас не втягивать ее во все это.
Дрё успокаивает меня жестом.
— Не сердитесь. Я ухватился за кончик веревки. Я развязал узел. Это все. Дело выеденного яйца не стоит. Ваша сестра задавала себе вопрос, почему умер ее муж. Ей дали ответ. Он умер, потому что его заставили.
— Однако…
— Подождите. Не перебивайте. Кто мог составить эти письма?.. О! Вы знаете, выбора нет. Мсье де Шамбон.
— Я тоже мог их составить. Раз уже вы начали, вы можете обвинить меня.
— Внимание! Не будем терять главную мысль. Эти анонимные письма, если отнестись к ним серьезно, только ослабили бы версию самоубийства. Вспомните фразу: «Убирайся или…» «Или» означает: или мы тебя прикончим. Но кому было интересно убеждать вашу сестру в том, что ее мужа убили? Я задам вопрос по-другому, если хотите. Кто заинтересован в том, чтобы избавить ее от подозрений, угрызений совести?.. Кто сказал, что ему тоже угрожают? А! Теперь понимаете! Мсье де Шамбон, черт возьми.
— Он? Ну, и чего бы он добился?
— Мсье Монтано, — вежливо обратился ко мне Дрё, — не делайте вид, что вы ничего не понимаете. Он бы приобрел симпатию, внимание, интерес, даже любовь женщины, траур которой не длился бы вечно. Мсье де Шамбон ничего не терял, потому что автором угроз был он. А выигрывал все. Попробуйте возразить, что он не был влюблен в вашу сестру. Будьте откровенны. Вы знали это?
Зачем отрицать? Однако я ответил:
— Продолжайте.
— Продолжение следует строго логически. Так как мсье де Шамбон знал, что ему никто не угрожает, зачем ему понадобился весь этот спектакль сегодня вечером?
— Какой спектакль?
Дрё удобнее устроился в кресле напротив меня.
— Вы неподражаемы, — пробормотал он. — Вы забыли о спектакле? Мсье Шамбон позвонил мне в то время, когда ломали дверь в парк. Значит, в комнате их было двое. Он и кто-то еще. Он, которому нечего было бояться. И другой, который был его сообщником. Все было устроено заранее.
Он с ликованием стукнул руками по подлокотникам кресла.
— Представьте себе, что я бы ни о чем не догадался, если бы эти куски бумаги были лучше склеены.
Слишком часто я смотрел смерти в лицо. Я не признаюсь сразу, словно набедокуривший школьник.
— Так вы думаете, что у бедняги был сообщник?
Его глаза сверкнули. Возможно, он давно знал правду.
Он наклонился ко мне, дружески похлопал меня по безжизненному колену.
— Сообщник у него имелся с самого начала. Между нами, он ведь не был слишком умен. Разве он смог бы организовать такое дело? Да ни за что на свете. В то время как другой… Ложное самоубийство, хороший ход!
Поскольку мы играем в кошки-мышки, надо делать это с блеском.
— Вы уверены, что самоубийство Фромана все же убийство?
— Не сомневайтесь в этом. Смотрите, мужчина из службы доверия слышал незнакомый голос, который шептал: «Я убью себя. Я живу в Колиньере». Но ведь кто угодно мог позвонить. Шамбон… Вы… Меня, кстати, осенила одна мысль…
— Признайтесь, вам бы хотелось, чтобы это был я.
— Ах! Ах! — воскликнул он весело, но глаза его оставались строгими и внимательными. — Если Шамбона можно было подозревать, то вас… Никому бы в голову не пришло у вас, в вашем положении, спрашивать алиби… Вы приходите, уходите… Вы стреляете в упор, например, в Фромана. Остальное — детские игрушки для того, кто снимался в кино. Прекрасная режиссура с помощью мсье де Шамбона.
Я перебил его, пытаясь рассмеяться.
— И потом я организую убийство этого несчастного дурачка Марселя. Но зачем, Господи, что мне это дает?
— Безопасность.
Полная тишина. Больше ни одной лазейки.
— Безопасность, — повторил Дрё. — Безопасность, материальную и моральную. Смерть председателя Фромана освободила вас от нужды, вас и вашу сестру. А смерть мсье де Шамбона — от шантажа. Не знаю, какие чувства он испытывал к вашей сестре. Все это мы уточним позже. Мне достаточно того, что я понял, что у него есть способ заставить ее выйти за него замуж, а для вас это невыносимо… мсье Монтано. Я вам не враг. Посмотрите мне в глаза… как мужчина мужчине. Ваша сестра все для вас, особенно после аварии. Или я ошибаюсь? То, что вы свели счеты с мсье Фроманом, это я могу понять. Он у вас отнял все. Я прекрасно чувствую, чего вам стоила его женитьба.
— Нет, — ответил я, — никто не может этого понять.
— А потом появился другой идиот. И он имел над вами власть, потому что помогал осуществить лжесамоубийство.
Ну вот и все. Все сказано. Все кончено. Мне стало легче.
— Ну? — спросил Дрё.
— Да, я убил их обоих. Но я клянусь вам, что Иза тут ни при чем, она ничего не знает.
— Она, правда, ни о чем не подозревала? Трудно поверить.
— Послушайте, комиссар. Мы с ней занимались такой профессией, в которой обоюдное доверие — это вопрос жизни и смерти. Понимаете? Для нее все, что я делаю, — хорошо. Я тот, у кого не спрашивают отчета. Для нее я — Бог. Она невиновна.
Дрё молчаливо склоняет голову.
— Я мог поверить вам на слово. Но нужны доказательства.
Ну вот и дождались. В одно мгновение я оценил ситуацию. Чем я рискую? Будь я один, отделаюсь самым легким наказанием. Калеку не заставят заниматься тяжелой работой. Но Иза захочет мне помочь. Она признает себя виновной. И Дрё, со своим слащавым видом, с удовольствием утопит ее. Ему же надо заставить начальство забыть о его неудачных расследованиях.
— Я все расскажу, — говорю я.
— Да. Расскажите все, — улыбаясь, сказал он.
Мне осталось жить несколько часов. Он не подумал забрать у меня револьвер. Прощай, Иза. Одна ты выпутаешься. Помнишь наши трюки? Взгляды, которыми мы обменивались, когда опускали козырьки касок: «Я люблю тебя. Победа за нами». На этот раз я проиграл. Но я люблю тебя, Иза. Я люблю тебя.
Она испуганно оглядывается, не осмеливаясь сесть. Секретарь указал ей на кресло.
— Господин директор сейчас придет.
Повсюду книги, буклеты… Издательство Данжо… Читательский приз, приз Медичи…
Входит директор.
— Прошу извинить меня, — говорит он, торопливо проходя в кабинет. — Поговорим о нашем деле. Вы догадываетесь, зачем мы вас вызвали?
Садится за письменный стол, достает папки с рукописью и разворачивает перед ней.
— Вы узнаете, не правда ли? «Последний трюк». Посмотрим… Здесь подпись «Жорж Анселен». Мсье Анселен не смог прийти?
— Нет, — отвечает она. — Мой брат умер.
— Примите мои соболезнования. Давно это случилось?
— Чуть больше двух месяцев назад.
— О, мне так хотелось задать ему несколько вопросов.
Открывает рукопись, листает, надолго задумавшись.
— Вы хорошо знаете текст?
— Я его печатала и редактировала.
— Очень хорошо. Значит, я могу поговорить о нем с вами. Скажу вам сразу. Он нас заинтересовал. Но он очень неровный. Иногда трудно следить за событиями из-за прерывистой композиции… Читатель все время возвращается из настоящего к прошлому. Между нами, прием немного устаревший.
Он смеется.
— Грехи молодости. Видно, что это первая работа. Идем дальше. Есть еще кое-какие мелкие огрехи. Например, рассказчик строит свой рассказ по отношению к последним муниципальным выборам. Это его право. Но тогда он должен был быть более четким в том, что касается дат. Здесь он немного путает. Еще одна небольшая деталь. Билет в кино. Всем известно, что на билетах стоит номер. Таким образом, невозможно создать алиби на вечер, имея билет на дневной сеанс. Может быть, вы смогли бы исправить это… Нет? Я вижу, вы не согласны. Видите ли, это всего лишь детектив. Поймите меня. Если бы мсье Анселен был здесь, он бы не отказался. Чем он занимался?
— У него не было специальности.
— А… Но тогда… это ложное самоубийство по телефону?..
— Чистое воображение.
— А эти трюки?
— Мой брат последние восемь лет жил в стальном искусственном легком. У него был полиомиелит.
— Извините. Это невообразимо!
— Он даже не смог бы сесть на велосипед.
— Но как это возможно? Сколько ему было лет?
— Двадцать.
— Понимаю. Это экстраординарный случай.
— Я читала ему журналы, книги. Я была рядом с ним целыми днями. Нужно было, чтобы кто-нибудь помог ему придумать себе жизнь.
— Но сколько вам лет?
— Двадцать четыре.
— Хм! А откуда он брал персонажей?
— Они существуют реально. Тот, кого зовут Марсель де Шамбон, наш старший брат. Председатель — это наш дядя.
— А комиссар?
— Наш отец.
— Чем он занимается?
— Он был налоговым инспектором. Он умер в прошлом году от инфаркта… Для Жоржа это было избавлением. Он тут же начал писать роман.
— Но… разве он мог писать?
— Он диктовал мне. Я по мере возможности правила.
— А ваша мать? О ней ничего не сказано, кроме…
— Она уехала, давно… с одним скрипачом.
— А! Теперь я начинаю понимать. Но это ужасная история. Он много страдал?
— Нет. Но он почти не спал. Когда рукопись была закончена, он сказал мне: «Теперь я могу уйти. Если этот роман напечатают, я буду счастлив». Он умер от отека легкого. Мой бедный Жорж. Он заслуживал быть счастливым.
Она была красива в своем траурном платье. Директор подумал: «Значит, Иза — это вы! И вы помогли ему свести счеты с жизнью. Ваши счеты, быть может».
Минуту он помолчал, затем продолжил:
— Вы незамужем… из-за него?
Она не ответила. Он взял скоросшиватель с бумагами и развернул перед нею.
— Вот проект контракта, — сказал он.
Примечания
1
Одеон — театр в Париже. (Примеч. перев.)
(обратно)2
Андре Шенье (1762–1794) — французский поэт, почитатель поэзии Древней Эллады, в то же время увлеченный современной ему философской мыслью, в своем творчестве стремился объединить эти свои пристрастия. (Примеч. ред.)
(обратно)3
Френе (наст. имя и фамилия Пьер Лоденбах) (1897–1975) — французский актер, выступал в «Комеди Франсез», затем перешел в театры на Бульварах. (Примеч. перев.)
(обратно)4
Россиф — известный французский кинорежиссер-документалист. (Примеч. перев.)
(обратно)5
Одна первая премия на двоих (лат.). (Примеч. перев.)
(обратно)6
Франсуа Перье (настоящее имя и фамилия Француа-Габриель-Мари Пину, род. 1919) — видный французский актер театра и кино, театральный деятель, лауреат многих премий, в 1951–1965 гг. — директор театра «Мишодьев».
(обратно)7
«Ролан-Гаррос» — крупнейший крытый спорткомплекс в Париже. (Примеч. перев.)
(обратно)8
Подрезка, прием в теннисной игре (англ.). (Примеч. перев.)
(обратно)9
Закусочная (англ.). (Примеч. перев.)
(обратно)10
«Апокалипсис сегодня» — знаменитый антивоенный фильм американского режиссера Фрэнсиса Копполы о войне во Вьетнаме. (Примеч. перев.)
(обратно)11
Рукопожатие (англ.). (Примеч. перев.)
(обратно)12
«История любви» — нашумевший голливудский фильм-мелодрама, где любящие молодые люди принадлежат к разным социальным слоям общества. (Прим. ред.)
(обратно)13
Клузо Анри Жорж — французский кинорежиссер. «Дьяволицы» — его экранизация романа Буало-Нарсежака «Та, которой не стало». (Примеч. перев.)
(обратно)14
Лунный свет (англ.). Здесь ирония: «из пустого в порожнее». (Примеч. перев.)
(обратно)15
Будь что будет (ит.). (Прим. ред.)
(обратно)16
За кадром (англ.). (Примеч. перев.)
(обратно)17
Прощайте (исп.). (Прим. ред.)
(обратно)18
Здесь: весь в прошлом, отжил свой век (англ.). (Примеч. перев.)
(обратно)19
Пьер Брассер — известный французский актер театра и кино. Снимался в фильме режиссера Марселя Карне «Дети Райка» (1943–1944 гг.). (Примеч. перев.)
(обратно)20
В последний момент (лат.). (Примеч. перев.)
(обратно)21
Доломан (от венг. tolmaye) — гусарский мундир, расшитый шнурами. (Прим. ред.).
(обратно)22
Фейер Эдвиж — первая леди французского театра — актриса, которой писали роли такие драматурги, как Кокто, Жироду, Ануй. Снималась в кино.
(обратно)23
Британик — герой одноименной трагедии Жана Расина (1669 г.) — сын римского императора Тиберия и Мессалины. (Примеч. перев.)
(обратно)24
Бубурош — герой одноименной пьесы французского драматурга и писателя Жоржа Куртелина (1858–1929). (Примеч. перев.)
(обратно)25
ОАС — Организация Алжирского сопротивления в годы войны Алжира с Францией. (Примеч. перев.)
(обратно)26
«Голубой ангел» — фильм — любовная драма с участием немецкого актера Эмиля Янингса и Марлен Дитрих.
(обратно)27
Бувар — радиокомментатор новостей культуры. (Примеч. перев.)
(обратно)28
Выпуск 1973 г., статья Жана д’Эсма «Бурназель, человек в красном, становится легендой». (Примеч. авторов.)
(обратно)29
Касба — крепость в странах Северной Африки.
(обратно)30
Номинация, или выдвижение кандидатур, предшествует ежегодной церемонии присуждения высшей премии — «Оскар».
(обратно)31
Спаги — солдат французской конницы в Африке.
(обратно)32
Жуве Луи (1951) — известный французский актер театра и кино.
(обратно)33
«Сезар» — премия, присуждаемая во Франции лучшему фильму года, актерам — исполнителям женской и мужской роли и т. д. — по аналогии с премиями «Оскар», присуждаемыми в Голливуде.
(обратно)34
Возврат в прошлое (англ.) — прием киноповествования.
(обратно)35
Дело в шляпе (искаж. англ.).
(обратно)36
Речь идет о присуждении ежегодных премий.
(обратно)37
Операторский прием — съемка против света.
(обратно)38
Ничейная земля (англ.).
(обратно)39
Ла-Боль — городок в Бретани, место проведения чемпионата мира по конному спорту.
(обратно)40
Внутренние французские войска — подпольные вооруженные силы, которые во время немецкой оккупации (1940–1944 гг.) готовились принять участие в освобождении страны. (Здесь и далее примечания переводчика.)
(обратно)41
В 1799 г. (во время Великой Французской революции) войско эмигрантов предприняло попытку высадиться на полуострове Киберон. Они были разбиты генералом Хошем и более семисот из них расстреляно.
(обратно)42
В битве при Фонтенуа в 1745 г. маршал де Сакс разбил англичан и голландцев в присутствии Людовика XV.
(обратно)43
Шаретт, Кадудал — военачальники армии роялистов во время восстания в Вандее.
(обратно)44
День всех святых — католический праздник, посвященным всем святым, отмечается 1 ноября. На практике смешивается с Днем поминовения усопших (2 ноября). В это время во Франции обычно бывает пасмурно.
(обратно)45
Роман У. Фолкнера «Шум и ярость».
(обратно)46
Синие и Белые — две враждующие силы в эпоху Великой Французской революции: партия Синих объединяла противников монархии, а партия Белых — ее сторонников.
(обратно)47
Клуб «Ротари», клуб деловых людей. (Примеч. ред.)
(обратно)48
Фигура высшего пилотажа. (Примеч. ред.)
(обратно)49
«Довлеет дневи злоба его» (старослав.) — Каждому дню свои заботы. Новый Завет. Из «11 Послания к римлянам апостола Павла». (Примеч. ред.)
(обратно)50
Легкая смерть, анабиоз. (Примеч. ред.)
(обратно)



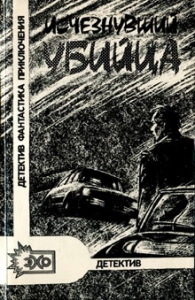
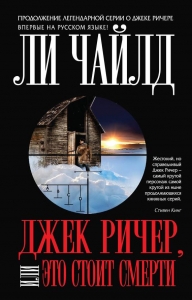
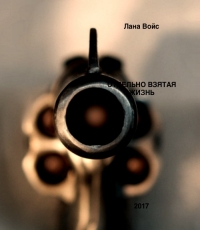
![Кофе и мед [СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/492884/primary-medium.jpg)

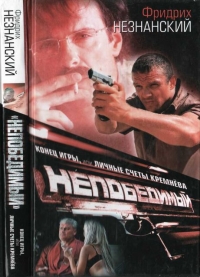


Комментарии к книге «Любимец зрителей», Буало-Нарсежак
Всего 0 комментариев