Григорий Глазов
1
На международном престижном аукционе фирмы «Глемб энд бразерс» разразился скандал. Суть его, по публикациям в западной прессе, сводилась к следующему: за полтора миллиона долларов анонимным покупателем была приобретена выставленная на аукционе золотая миниатюрная табакерка работы выдающегося русского ювелира Георгоса Диомиди (родился в 1895 году, умер в 1950-м). Через неделю после продажи табакерки владелец американской ювелирной фирмы и сети ювелирных магазинов Кевин Шобб собрал журналистов и на пресс-конференции заявил, что искусно выполненная табакерка, которую без натяжки можно считать произведением искусства, на самом деле исполнена не Диомиди, а является прекрасной подделкой, на ней стоят фальшивые клейма. К экспертизе Шобб настоятельно рекомендует привлечь среди прочих и господина Модеста Гилевского, известного в кругу искусствоведов и специалистов, авторитетнейшего знатока ювелирного дела в дореволюционной России, особенно работ Георгоса Диомиди.
Скандал этот, разумеется, был значим лишь для небольшого круга людей; тревоги и заботы глобального порядка терзали мир: войны в разных его точках, неубранные тела убитых солдат, женщин и детей, сгоревшие в пожарах жилища и храмы, наводнения и землетрясения, стоны и плач тысяч обезумевших от горя и ужаса людей…
Спустя какое-то время о скандале забыли, он уступил место другим сенсациям-однодневкам.
И все же история эта имела свое продолжение в городе, отстоявшем от эпицентра события за тысячи верст, а если еще сузить пространство, то — в местном музее этнографии и художественного промысла, где в кабинете заведующего отделом рукописей и спецфондов Модеста Станиславовича Гилевского собрались журналисты, уговорившие хозяина кабинета на краткую пресс-конференцию. А повод для этого был: доктор искусствоведения Гилевский приглашен в Филадельфию, чтобы выступить в качестве официального эксперта на судебном процессе, который именуется «„Фирма Глемб энд бразерс“ против Кевина Шобба…»
Кабинет Гилевского был небольшой тесной комнатой, сплошь уставленной по периметру застекленными шкафами, высокими тумбами с картотечными ящиками, у окна втиснут заваленный бумагами письменный стол, в углу возвышался старинный коричневый сейф, дверь его тяжела, как пласт времени, которое он пережил, и украшена бронзовым литьем в виде головы слона, видимо, символизировавшего силу. Наверху полукругом шли бронзовые буквы «Густав Шлезингер. Штуттгарт. 1912». В глубине комнаты виднелась дверь, обитая железом и запертая на раздвижную решетку. Открыть ее имел право либо сам Гилевский, либо кто-нибудь из сотрудников (да и то лишь избранные), но обязательно с разрешения Гилевского, которое, впрочем, требовалось даже для того, чтобы войти в его кабинет, на двери которого висела табличка «Посторонним не входить». А за той железной дверью и находилась святая всех святых — несколько помещений, где хранились самые драгоценные рукописные фонды, там же были и запасники; в помещения эти редко кто допускался. Сорок лет здесь властвовал Модест Станиславович Гилевский, и установленный им давным-давно порядок сей изменить никто не мог, хотя кое у кого из сотрудников музея и возникал внутренний протест против подобной деспотической власти Гилевского, устоявшейся на его авторитете…
Нынче же особая музейная тишина кабинета была пробуждена голосами журналистов, ослеплена вспышками блиц-лампы фотокамеры. Он не пустил всю эту братию в глубину кабинетика, а держал оборону почти у самой входной двери. Никто из сотрудников на эту летучую пресс-конференцию не был приглашен. Репортеры же вторглись почти явочным порядком и уже на месте уговорили хозяина кабинета ответить на вопросы. Они застигли его, когда он собирался в дорогу, просматривал какие-то бумаги. Он стоял перед ними раздраженный, суровый — высокий сухощавый человек с совершенно лысым глянцевым черепом, глаза внимательные и настороженные не выказывали ничего, кроме желания поскорее избавиться от этих людей, нагрянувших не вовремя и как бы заставших его врасплох. Поэтому и отвечал на их вопросы кратко:
— Судьба Диомиди, вернее его творений, трагична. Мы точно не знаем, сколько шедевров он создал. По каталогу числится двадцать девять. Все они рассеяны по миру. В первые годы после революции часть его произведений была переплавлена просто в куски золота, что-то продано за рубеж советской власти нужны были деньги, какая-то часть похищена. А изделий его должно быть не меньше сотни… Вот, господа, все, что я знаю. А вы требуете, чтоб я фантазировал, измышлял… Что? А… Предки его, греки-киприоты переселились в Россию в начале XVII века… Мы ведь и Фаберже считаем русским мастером…
Слава Гилевскому была не нужна, в определенных пределах она уже обласкала его за те сорок лет, что он провел в стенах этого трехэтажного старинного здания, она вышла за порог музея давно, наградив его авторитетностью в среде коллег в разных городах. Сорок лет назад он пришел сюда молодым человеком — образованным, начитанным, жадным к знаниям, избравшим предметом своих интересов творчество таких художников-ювелиров, как Бенвенуто Челлини, Фаберже, Диомиди. За эти сорок лет он защитил кандидатскую и докторскую, быстро поднимаясь по ступеням карьеры. Ему неоднократно предлагали должность директора, но он отказывался, всякий раз ограничиваясь фразой: «В этом кабинете кончается степень моей компетентности; на следующем уровне начнется профанация…»
— Простите, господа, я сказал все, что мог. Больше времени для вас у меня нет. Кое-что надо подготовить к этой поездке, — и не уточнив, что именно, он развел руками. — А времени в обрез — две недели.
Репортеры удалились…
2
Величественное здание музея этнографии и художественного промысла занимало полквартала. Построено оно было в конце XIX века и являло собой не худший образец венского псевдоренесанса; огромные окна, верхняя часть которых застеклена витражами, красивая лепнина, над тяжелой двустворчатой металлической входной дверью небольшая ниша с фигуркой Божьей Матери, ребристый купол над зданием венчал бронзовый святой Георгий Змееборец, поражавший гада копьем. Пол в большом, как зала, холле был устлан белыми мраморными плитами, влево и вправо дугой уходили вверх широкие мраморные лестницы; там, на втором этаже, и начинались экспозиции музея. В глубине же здания, на третьем этаже, размещались кабинеты дирекции, научных сотрудников, канцелярия. Великолепие холла портила фанерная конторка, где сидела вахтерша, продававшая по совместительству входные билеты.
В начале седьмого вечера вахтершу обычно сменял сотрудник вневедомственной охраны. Вдвоем они обходили все залы, включали сигнализацию, вахтерша уходила домой, а охранник, заперев изнутри входную дверь, оставался до утра, включив сигнализацию и на входной двери.
Так было и в этот раз.
— Сотрудники все ушли, — сказала вахтерша. — Ключи на месте, — она указала на висевшую доску с ячейками, где покоились ключи от кабинетов. У себя только Гилевский. Он обычно уходит после семи. Спешить старику некуда, одинокий, — она собрала свою сумку и попрощалась.
Без четверти восемь охранник запер входную дверь, ключ оставил в замке, сигнализацию включать не стал, поскольку в здании находился еще один человек — Гилевский, выложил из большого пластикового пакета еду и термос с чаем. Прошло еще полчаса. Ему не терпелось, хотелось основательно все запереть, сесть за свежий еженедельник «Экспресс», почитать, затем поужинать, дочитать «Экспресс» и, наконец, улечься на старый кожаный диван с продавленными подушками, стоявший в глубине холла за каморкой. Он медленно поднялся по широким лестничным маршам на третий этаж, прошел по коридору, свернул в безоконный, обычно сумеречный, а сейчас вообще темный закоулок, ведший к двери кабинета Гилевского. Он помнил, что перед дверью есть еще три ступеньки, осторожно, чтоб не промахнуться, шаркая, нащупал их ногой, и приблизившись к двери, постучал. Но никто не отозвался. Постучал сильнее и выждав с минуту, приоткрыл дверь, на которой висела табличка «Посторонним не входить…»
Говорят, «засиделись допоздна». Но к людям, работавшим в этом здании, подобная фраза отношения не имела, поскольку рабочий день здесь длился столько, сколько нужно было начальству и делу. А называлось это здание «Областное управление внутренних дел». В половине девятого вечера в одном из кабинетов сидели двое: заместитель начальника управления полковник Проценко и старший оперуполномоченный майор Джума Агрба. Уже были подведены итоги дня. Проценко сказал:
— Ты что себе думаешь, Джума? Ты хоть в зеркало смотришься? Погляди на себя в профиль! Отдадим приказ: у входа в управление поставить весы, каждый раз Агрбу взвешивать, каждый день он должен убывать на полкилограмма. Ты посмотри на свой живот! Разве это живот сыщика?! Это же брюхо беременной на седьмом месяце!
— А что я могу поделать? Это от мамалыги, — оправдывался Агрба, непроизвольно погладив свой живот под желтой сорочкой, вывалившийся поверх брюк. — Вы когда-нибудь мамалыгу ели? Я вас угощу, сам делаю, пальчики оближите, товарищ полковник.
— Хочешь, чтоб и я сравнялся с тобой? — усмехнулся Проценко. — Ты за сколько бегаешь стометровку?
— Уже забыл. В нашей работе в задницу спидометр нужен не стометровки считать, а десятки километров, сами знаете.
В это время зазвонил телефон. Проценко снял трубку:
— Слушаю… Проценко… Так… Где?.. Так… Когда? Хорошо… Кто сообщил?.. Понятно, — он положил трубку, повернулся к Агрбе: — Труп, Джума. Выезжай. Музей этнографии и художественного промысла. Там уже кто-то из райотдела есть.
— Тогда я зачем?
— Труп-то не бомжа. Профессор Гилевский.
— Вот вам внеочередная сегодня моя стометровка, — поднялся Агрба, подтягивая брюки, тщетно пытаясь втиснуть в них живот.
Звонок дежурного по прокуратуре застал прокурора следственного управления Михаила Михайловича Щербу за ужином. Дожевывая кусок вареной говядины, он приговаривал: «Да… да… Понятно…», в такт словам кивая головой, затем ответил дежурному:
— Дайте-ка подумать… Скорик в командировке в Песчанском районе, там убийство… Войцеховскому позвонили?.. Хорошо… Вызывайте Паскалову… Кто из судебных медиков? Котельникова?.. Хорошо, связывайте всех… Милиция знает?.. Я приеду минут через сорок, — он повесил трубку.
Час назад он только пришел с работы, уставший, издерганный за день грузный пожилой человек. Едва успел поужинать… На тебе — труп… Что там? Убийство? Самоубийство? Несчастный случай? Инфаркт, инсульт?.. Конечно, хорошо бы Скорика туда, но он в районе… Паскалова новенькая, малоопытная… Ну, а как становятся опытными? Виктор Скорик тоже пришел из городской прокуратуры в областную еще зеленым, поднаторел…
Милиционер, дежуривший в холле, вскинул глаза на вошедшего, узнал в нем Щербу, козырнул. Щерба поднялся лифтом к себе. У его двери стояла уже следователь Кира Паскалова.
— Войцеховского еще нет? — спросил ее Щерба.
— У себя, — ответила.
Он отпер кабинет.
— Заходите, — сказал, пропуская ее вперед.
Она была высокая, худощавая с неприметным лицом в раме льняных волос, гладко расчесанных, с завитушками на концах. Щерба знал, что ей двадцать девять лет, муж офицер-ракетчик где-то недалеко, работала какое-то время в военной прокуратуре, оттуда не без протекции, как он понимал, перешла к ним в областную. Он сразу почувствовал ее неопытность, отметил, что ее это не смущало, и еще отметил четкую логику ее мышления, немногословие, ровность в отношениях с людьми, и к своему удивлению, начитанность, что, как он знал, увы — не часто встречающееся ныне достоинство среди юристов нового поколения. «Ты-то много сейчас читаешь?» — огорченно спросил он себя.
— Вы посидите, Кира Федоровна, я сейчас, — он вышел и направился в кабинет криминалистики к прокурору-криминалисту Адаму Генриховичу Войцеховскому.
— Ну что? — спросил Войцеховский, подняв голову.
— С вами поедет Паскалова. Скорик в районе.
— Для разнообразия можно и Паскалову, — ответил Войцеховский. Они не были подчинены друг другу, обладали в известном смысле автономией, но оба подчинялись начальнику следственного управления. — Вы-то тоже не поедете?
— Не поеду… Адам Генрихович, заскочите, пожалуйста, по дороге к судебным медикам, к вам подсядет Котельникова.
— Ладно, — он встал. — Можем ехать…
Втроем они спустились вниз, вышли на улицу. Дежурная машина криминалистов — автобус-«рафик» — стояла у подъезда.
— Вас отвезти домой? — спросил у Щербы Войцеховский.
— Нет, я троллейбусом…
Минут через тридцать они были в музее. Перед входной дверью стоял милиционер. Вошли в пустынный полутемный холл. Войцеховский не знал, куда дальше идти.
— Надо полагать, служебные кабинеты наверху, — сказала Паскалова.
— Вы бывали здесь? — спросил Войцеховский.
— Только в экспозиционных залах, — ответила она, уверенно направляясь к белым мраморным лестницам.
— Надо же, я последний раз в музее был в детстве, — сказал он, пропуская впереди себя судебного медика. — А вы, Варвара Андреевна, бываете в этих залах? — спросил он.
— Мне хватает секционных залов [секционный зал — место, где производят вскрытие трупов], - нехотя ответила она.
Услышав голоса, они поднялись на третий этаж и сразу увидели у поворота в маленький тупичок, где был кабинет Гилевского, еще одного милиционера. Рядом с ним стоял Джума Агрба.
— Ну что, Джума? — обратился к нему Войцеховский.
— Жду вас, — ответил Джума, отмечая про себя, что прибыл не Скорик или кто-либо из опытных знакомых следователей, а Паскалова, о существовании которой знал, но никогда вместе еще не работал.
— Ничего не трогали? Не топтались? — спросил Войцеховский.
— На старый вопрос будет старый ответ, — ответил Джума.
— А кто это? — спросил Войцеховский, заметив в полумраке коридорчика еще одного человека.
— Замдиректора музея. Ребров Антон Сергеевич. Я вызвал. Директор в командировке.
— Молодец. Джума. Вполне можешь обходиться без меня и следователя.
— На общественных началах или отстегнете от своей зарплаты?
— Ладно, начнем? — спросил Войцеховский у судебного медика.
Она ничего не ответила, вошла в кабинет, склонилась над телом, занялась своей работой. Войцеховский и Паскалова — своей, Джума молча сопровождал их.
— Знаете что, Кира Федоровна, — предложил Войцеховский Паскаловой, я закончу тут сам, а вы побеседуйте с дежурным охранником. Не против?
— Пожалуй, — она спустилась в вестибюль. Охранник с перепуганным лицом нервно ходил, словно в клетке, по своей выгородке.
— Давайте присядем, — сказала Паскалова.
Они уселись на диван.
— Вас как величают?
— Тарас Петрович Каспришин.
— Вы в котором часу заступили на дежурство?
— Как всегда, в шесть.
— Кого сменили, Тарас Петрович?
— Сотрудницу музея.
— Как ее зовут?
— Фоминична… Настасья Фоминична. Фамилию не знаю.
— Она какого возраста?
— Годов пятьдесят пять.
— Когда вы пришли, все ключи были на месте?
— Все. Кроме того, — охранник высоко поднял голову, указав глазами куда-то на самый верх. — Он ведь обычно поздно засиживается.
— Кто-нибудь входил в музей при вас или уходил?
— Нет, все уже разошлись. А входить — никто не входил.
— Каких-нибудь посторонних звуков, шумов, голосов оттуда, сверху, не слышали?
— Никаких. Все было тихо.
— А почему Гилевский, как вы заметили, обычно засиживается?
— Профессор он, что ли, одинокий. Одинокому домой неохота идти, стены целовать.
— Откуда вы знаете, что он одинокий?
— Фоминична говорила. Она-то тут про всех знает, почитай, четверть века отсидела в этом закутке.
— При каких обстоятельствах вы обнаружили, что Гилевский мертв?
— Я поднялся сделать обход, ну, и заглянул к нему, спросить, как долго он еще там будет. К нему так не войдешь, суровый, осерчать может, у него даже табличка висит для посторонних, я и постучал, он не ответил, я еще раз, погромче, тоже молчок. Я приоткрыл дверь и сразу увидел, что он лежит.
— Вы пытались что-нибудь сделать, оказать помощь?
— Нет. Только пульс пощупал. Нету пульса. А из-под головы у него кровь натекла. Я позвонил в «скорую», мол, так и так, в милицию.
— Вы тело Гилевского не трогали, не переносили с места на место?
— Никак нет, нельзя ведь. Читал про это.
— А к каким-нибудь предметам, вещам, бумагам на столе не прикасались?
— Ни в коем разе. Мне они ни к чему. Да и напугался, честно говоря. Это же надо, чтоб в мое дежурство такое!
— Вы, когда остаетесь здесь на ночь, включаете сигнализацию изнутри?
— Непременно. У нас тут две сигнализации: одна общая — залы, где экспонаты. А у профессора, где хранилища, отдельная, своя. Он обычно сам ее включает и сдает на пульт.
— Ключи от своего кабинета Гилевский тоже сдает вам?
— Сдает, когда уходит.
— А там у него очень ценные вещи?
— Про то не знаю. Видно ценные, коль отдельная сигнализация и табличка на дверях, чтоб никто не входил.
— Милиция скоро прибыла после вашего звонка?
— Минут через двадцать приехали.
— Что ж, Тарас Петрович, спасибо вам, — она поднялась.
— Что скажете, доктор? — спросил Войцеховский.
— Скажет вскрытие. А пока что — черепно-мозговая травма. Нанесена сзади в затылок, либо при падении ударился о чугунную лапу вешалки. Вы видели эту вешалку? Допотопная.
— Да. Четыре чугунных лапы, на них она стоит. На одной, что ближе к голове трупа, пятно от крови и два клочка кожи… Но первичный ли это удар? — риторически спросил Войцеховский. — Когда наступила смерть?
— По первой прикидке часа два-три назад… Вы меня отвезете?
— Разумеется, Варвара Андреевна.
Войцеховский обратился к замдиректору музея:
— Антон Сергеевич, почему Гилевский так поздно находился в кабинете?
— Это давняя привычка, насколько я знаю.
— За последнее время у вас никаких хищений не произошло?
— Нет.
— И попыток не было?
— Нет.
— Ну хорошо… Подождем результатов вскрытия… Кабинет следователь опечатает. Подробности, полагаю, начнутся завтра-послезавтра… Варвара Андреевна, будьте добры, позвоните, пожалуйста, к себе, пусть приедут и заберут тело…
В это время в кабинет вошла Паскалова.
— Можем ехать, — сказал Войцеховский.
Ехали по городу. Джума спросил Войцеховского:
— Что-нибудь нашел, Адам?
— Ни черта в общем. Все подробно начнем завтра с утра при свете дня.
— Кого арестовывать будем? — спросил Джума.
— Тебя, — сказал Войцеховский.
— Не возражаю на месячишко в одиночку. Даже без санкции прокурора. Надька моя передачи будет носить. Ты приходи, Адам, в мою одиночку, угощу, Надька хорошо готовит.
— Знаю. Вкушал.
— Только вот за что меня арестовывать?
— За то, что при двух дамах без галстука.
— Ненавижу галстуки…
Паскалова слушала болтовню, понимала, что этих двоих связывала если не дружба, то многолетнее общение, совместная работа, совместимость характеров, и, возможно, взаимное уважение за какие-то деловые качества или стороны характера.
— Когда будут результаты вскрытия? — спросила она Котельникову, когда подъехали к невысокому зданию, где размещалось бюро судебно-медицинской экспертизы и морг.
— До перерыва все будет для вас готово, — ответила Котельникова, попрощалась и вышла из машины…
Было начало одиннадцатого. Они втроем сидели в кабинете Войцеховского. Паскалова позвонила Щербе домой.
— Ну что там? — спросил Щерба. — Убийство?
— Неясно, Михаил Михайлович. Смерть от черепно-мозговой травмы. Примерно за два часа до обнаружения. Я беседовала с охранником. Вроде ничего необычного.
— Кто-нибудь из руководства музея был?
— Замдиректора.
— Что он говорит?
— С ним, по-моему, Адам Генрихович разговаривал.
— Напрасно вы не поговорили. Сейчас он свежий, а завтра остынет. Завтра соберемся у меня. Кто из угрозыска был?
— Агрба. Мы тут втроем у Адама Генриховича.
— Передайте ему трубку.
— Ваше мнение, Адам Генрихович? — спросил Щерба, когда Войцеховский взял трубку.
— Еще трудно сказать. Замдиректора музея я оставил на завтра Кире Федоровне. Он был в шоке. Из него ничего нельзя было вытряхнуть.
— Не упустим чего-нибудь с ним, остынет ведь?
— Не думаю.
— Тогда до завтра…
3
Друзья называли его «Миня». Все прочие, в том числе начальство и подчиненные, Михаилом Михайловичем. Он прошел длинные служебные ступени: от стажера-следователя до прокурора следственного управления. К должности добавлялось звание — «старший советник юстиции», что на армейском языке называлось «полковник». Шел Щербе седьмой десяток, он стал грузным, облысел, осталось немного седоватых волос, которые разглаживал, как бы распределял по всему черепу. «Солидный человек должен иметь лысину, это его опознавательный атрибут», — шутил.
Стоя у зеркала, собираясь на работу, он перевязывал галстук, потому что прежний узел залоснился. Из кухни приятно пахло кофе, — жена готовила ему завтрак. Была половина восьмого утра. Раздался телефонный звонок. Щерба снял трубку:
— Слушаю.
— Михаил Михайлович? Это Скорик.
— Когда приехали?
— В шесть утра.
— Ну что там?
— Убийство и поджег с целью сокрытия.
— Когда появитесь?
— Хоть часок-другой посплю. Всю ночь «кололи». Во мне что, нужда есть?
— Я в вас всегда нуждаюсь, — усмехнулся Щерба.
— Это я знаю. Что на этот раз?
— Труп. Профессор Гилевский из музея этнографии. Пока занимается Паскалова. Но и вам, возможно, придется подключиться, ежели она заспотыкается. Приходите к двенадцати.
— Хорошо…
Старший следователь областной прокуратуры Виктор Борисович Скорик мыл руки, ополаскивал лицо, поглядывал на себя в зеркало, отмечая помятую физиономию, покрасневшие воспаленные глаза. Сейчас попьет крепкого чаю с бутербродом, поспит часа два и — на работу. Он уже почти спокойно относился к тому, что Щерба все чаще подсовывал ему дела по убийствам. Скорик многому научился у Щербы и у прокурора-криминалиста Адама Войцеховского, язвительного и ироничного. Однажды чуть не поссорились. «Ты прекрасно провернул это дело, просто молодец», — как-то сказал Войцеховский. — «Ты что, подначиваешь? — вспылил Скорик. — Дело-то дерьмо, тут бы стажер управился», — но взглянув на Войцеховского, понял, что это обычная его манера выдавать такие «похвалы». — «Ты что, за первоклашку меня держишь? Подобных дел я уже штабель уложил», — сказал Скорик. — «Штабель из поленьев или веточек? — поддел Войцеховский. Ладно, не лезь в бутылку. Это я просто погладил тебя. А работать с тобой люблю…»
На кухне Катя гладила ему свежую сорочку, корпела над воротником, давя утюгом складочки. Она знала: ее Витя сорочки менял через день, любил быть хорошо одетым, идеально подстриженным и причесанным и слегка покропленным каким-нибудь приятным лосьоном. Катя совсем перебралась к нему, о том, чтобы пожениться, ни он, ни она не заговаривали. Она приняла его таким, каким он был: немножко занудой, немножко педантом и поклонником вкусной еды. Они любили друг друга. Он был ее мужчиной. И этим все сказано…
— Я тебе все приготовила: сорочку, галстук и серый костюм, носки к нему на тумбочке, — сказала она. — Надень черные туфли.
— Спасибо, Катюнь… Ту экспертизу, что я просил, когда сделаете?
— Завтра к концу дня будет готова… Все, я пошла, спи, — она закрыла дверь.
Он слышал, как хлопнула входная дверь, щелкнул замок. Катя побежала в свою научно-исследовательскую лабораторию судебных экспертиз, услугами которой пользовалась и прокуратура.
Скорик с наслаждением лег под одеяло.
— Вы оба опоздаете! — кричала жена, глядя, как Войцеховский, расхаживая по комнате, жует бутерброд, а семнадцатилетний сын, подперев скулы, уставился на шахматную доску.
Каждое утро они — один перед уходом на работу, другой перед пробежкой в школу — садятся сыграть партию в шахматы.
— Успеем, — спокойно сказал Войцеховский, остановился и взялся за ферзя. — Может, отложим до завтра, Алик?
— Хорошо…
Они вышли вместе, полквартала им было по дороге.
— Как у тебя дела со Светочкой? — спросил Войцеховский.
— Нормально, — осторожно ответил сын.
— Учти, мужчина, если на несколько минут закроешь глаза и будешь думать, что потом, когда откроешь, все, что произошло, исчезнет, заблуждение. Так не бывает. Как не бывает немножко беременных.
— Я это знаю, прокурор… Привет! — и сын побежал: до школы бегом пять минут…
Обычно каждое лето Джума Агрба отправлял жену Надю с детьми к своим родителям в село под Гудаутой. Но уже второй год в связи с грузино-абхазскими конфликтами они сидели тут, в городе, и свой отпуск Джума проводил дома, помогал жене управляться с четырьмя погодками-сыновьями. Сейчас, развешивая на веревках, натянутых на балконе, детские штанишки, рубашонки, он думал о родителях, о том, что порушена прежняя устойчивая жизнь их, писали, что урожай мандарин почти весь погиб — российские солдаты не пропустили через границу; погибло много винограда — курортников нет, давить вино «псоу» бессмысленно: куда его столько; писали, что истосковались по внукам, что, видимо, Бог отвернулся от этого благодатного края, и чем все кончится — непонятно…
— Ты бы брюки себе погладил, — сказала жена, когда он вошел в комнату, — вон пузыри на коленях, некрасиво.
— Ладно, и так сойдет, некогда, — махнул он рукой, натянул на желтую сорочку легкую зеленую куртку. Он любил ее за то, что в ней было много карманов. — Я пошел, запри…
С детства мать пыталась отучить Киру читать во время еды… «Это плохо для пищеварения», — наставляла мать. Но привычка сохранилась, и сейчас, прихлебывая кофе и надкусывая бутерброд с сыром, она листала «Руководство по расследованию убийств». А расследовать их ей пришлось всего два. И вот нынче — третье, если, конечно, Гилевский убит, а не стал жертвой несчастного случая. Но все равно в лежавший рядом блокнот Паскалова делала записи, планируя то, что сегодня, возможно, предстоит во время повторного осмотра кабинета Гилевского, опросов людей из окружения покойного…
Поставив посуду в мойку, она немного подкрасила губы, тронула подушечкой с пудрой нос, а в четверть девятого вышла из дому.
4
В половине первого собрались у Щербы, он позвонил Войцеховскому в кабинет криминалистики:
— Адам Генрихович, все у меня. Можете зайти?
— Да, минут через десять, — ответил Войцеховский.
Когда он вошел и сел, все повернулись к нему.
— Ну что? — спросил Щерба.
— Из заключения судебного медика следует: никаких прижизненных повреждений, внутренние органы в норме, сердце в норме, инсульта не было. Смерть наступила от черепно-мозговой травмы. Удар тяжелым предметом в затылочную часть. Предположение, что Гилевский при падении ударился головой о чугунную лапу вешалки, несостоятельно, все выступающе детали лапы округлые — я хорошо ее рассмотрел, — а характер раны позволяет говорить, что удар был нанесен предметом, поверхность которого имела грани… Возьмите, Кира Федоровна, можете подшить к делу, — протянул он Паскаловой листок с актом судебного медика. — И, думаю, можно возбуждать уголовное дело по факту убийства. Да вот еще что: обнаруженные «пальцы» в кабинете Гилевского принадлежат одному человеку: Гилевскому.
— Как будем работать? — спросил Джума.
— А ты уже знаешь, с кем «работать»? — хмыкнул Войцеховский. — Ты что больше всего любишь, Джума? — спросил он.
— Случайность и совпадение. С ними так хорошо получается, как с любимой женщиной.
— Ну-ну, Бог в помощь, — усмехнулся Войцеховский.
— Кира Федоровна, я думаю вам надо еще раз хорошо осмотреть кабинет Гилевского, — сказал Щерба. — Поговорите с замдиректора музея, с другими сотрудниками.
— Я кое-что себе наметила, — ответила Паскалова.
— Ищите орудие убийства, оно может быть самым неожиданным и в самом неожиданном месте, — сказал Войцеховский. — Ты, Джума, ищи родственников, и вообще пройдись по своим связям, поковыряй старые дела о хищениях из музеев, картинных галерей. Там может быть наш «клиент» или «клиенты»…
Паскалова пришла в музей после перерыва. Дежурная вахтерша Настасья Фоминична сидела на своем месте. Кира представилась.
— Молоденькая, а уже следователь, — прореагировала вахтерша.
— Настасья Фоминична, в тот день накануне закрытия музея никто не пытался назойливо войти перед закрытием музея?
— Нет, без пятнадцати пять я уже билеты не продавала. Да и желающих не было. Нынче и в хороший день их не густо. Отвык народ от музеев… Ужас-то какой у нас, а?!
— А вы хорошо знали Гилевского?
— А как же, почитай четверть века я тут. Всех хорошо знаю, кто остался. Уволилось-то за эти годы много. Кто и на пенсию уже ушел, кто помер, царство им небесное.
— Гилевский что, действительно одинокий?
— Женат вроде и не был. Имелась троюродная сестра, дак померла годов пять назад.
— А что он был за человек?
— Одно слово — ученый. Строгий.
— С коллегами ладил?
— У него коллег не было. Он сам по себе. Придет, бывало, не к девяти, а к половине девятого. Я ради него тоже приходила на полчаса раньше. А домой уходил поздно, не спешил. Видать, работал много, да и что его дома ждало?
— Кто же обихаживал его? Старик ведь.
— Сам себя обихаживал. Он на вид старик, а так иному молодому нос утрет. Видела, как он зимой по гололеду ходит: не шаркаючи, а как юноша, ровненько, не боясь.
— В промежуток между концом вашего рабочего дня и приходом охранника никто не выходил из музея, кого бы вы не знали в лицо.
— Нет. Разве что корреспонденты вывалились. Четверо их было. Шумные.
— И вошло столько же?
— Наверное.
— Замдиректора у себя сейчас?
— А где ему быть? Видать, хлопочет, как похоронить с почетом покойного.
— Ну хорошо, спасибо вам, — Паскалова вышла из-за загородки и поднялась на последний этаж. Вошла в приемную. Напротив друг друга две двери — одна в кабинет директора музея, другая — к заму. В приемной никого не было. Постучалась, и не дожидаясь ответа, вошла.
Антон Сергеевич Ребров был человеком среднего возраста, худощавый, с пышной, какой-то веселой юношеской шевелюрой почему-то, как показалось Кире, не соответствовавшей лицу — измученно осунувшемуся, на котором просительно-тоскливо, мол, «что вам еще от меня нужно?», выглядели глаза.
Он узнал ее, суетливо поднялся, предложил сесть, предупредительно отодвинув от стола стул.
— Что же теперь делать? — неожиданно спросил он у Паскаловой.
Кира удивилась вопросу.
— В каком смысле? — спросила.
— Во всех. Я ведь тут человек новый, второй год.
— Вы будете заниматься своими заботами, я своими. Поэтому я и пришла. Я хочу повторно осмотреть кабинет Гилевского. В вашем присутствии и в качестве замдиректора, и в качестве понятого. Для этого нужен будет еще один человек.
— Секретарша наша годится?
— Вполне.
— Антон Сергеевич, каким было окружение Гилевского? С кем он был больше всего близок из сотрудников, с кем враждовал?
— Понимаете, он был человеком очень замкнутым, необщительным. Так что говорить о близости не приходится. Возможно, поэтому и внешне заметной вражды не было. Все соблюдали дистанцию и не пытались сблизиться, понимая бессмысленность этого, но и не шли на конфликт, тоже понимая заведомый проигрыш. Все это сложилось, видимо, за десятилетия его работы тут. Ведь он, в сущности, был основателем музея.
— И все же, на какой почве могли возникнуть конфликты?
— У нас каждый занимается своим делом, ведет свой отдел, свою тему. Но у людей возникает необходимость, хотя в редких случаях, обратиться к рукописным фондам, к материалам хранилища. Гилевский же всегда находил убедительный, как ему казалось, мотив для отказа.
— И не пытались ходить с жалобами к вам, к директору? — Попытки случались, правда с новичками, кто его плохо знал. Но он умел доказать, что можно обойтись и без копания в фондах. Так мне рассказывали. При мне же никто не ходил с жалобами, смирились. Его авторитет подавил всех… Вот и поездка в Америку…
— Он собирался в Америку?
— Да.
— В командировку?
— Там на аукционе фирмы «Глемб энд бразерс» случился скандал. Некий Кевин Шобб выдвинул Гилевского в качестве арбитра. И его пригласили официально, как авторитетного специалиста.
— Вы довольно жестко охарактеризовали покойного, — усмехнулась Кира.
— Но вам же нужна объективная информация. Надеюсь, покойный простит меня… Что послужило причиной смерти? — осторожно спросил.
— Тут убийство, Антон Сергеевич, — она посмотрела ему в глаза.
И опять ответ его был неожидан:
— Всяко бывает.
— Директор давно уехал?
— Неделю назад.
— А он здесь давно работает?
— Семь лет. Он седьмой за годы, что Гилевский тут.
— Что ж, Антон Сергеевич, пойдем в его кабинет, — она поднялась.
— У меня один вопрос: когда можно будет забрать тело? Человека ведь похоронить надо по-людски, он одинок, этим, кроме нас, некому заняться.
— Я вам сразу же позвоню…
Пока они шли в противоположный конец коридора, Кира спросила:
— Он действительно был настоящий ученый или авторитет создавал ему его характер?
— Характер лишь подкреплял его авторитет ученого…
Паскалова оборвала полоски бумаги, отперла дверь. Вошли. Связку ключей, изъятых ею еще вчера при осмотре трупа, она положила на письменный стол, заваленный бумагами.
— Вы садитесь, — предложила она секретарше и Антону Сергеевичу.
— Ничего я постою, — ответила секретарша. Ребров же опустился на стул у высокой печи из белого узорного изразца.
Теперь Кира медленно обводила взглядом весь кабинет. Единственное окно, у которого стоял письменный стол, было перечеркнуто прутьями решетки, вторая дверь в глубине, ведшая в хранилище, обита оцинкованным железом и тоже имела сдвижную решетку, в проушинах которой висел лодочный замок; в самой двери было и отверстие для ключа от внутреннего замка. Она потрогала рукоятки сейфа. Он был заперт, и, как она поняла, заметив два отверстия, запирался двумя ключами. Она сняла все ключи со связки, рассовала их по замкам. В итоге оказалось: один ключ от английского замка лишний, а к сейфу не было второго ключа. Лишний, как подумала Кира, вероятно от квартиры Гилевского.
— Что могло здесь пропасть? — спросила она Реброва. — Вернее, что могло представлять интерес для возможного похитителя?
— Если он специалист, то все, что угодно: бумаги из рукописного фонда, иконы, старинная церковная и светская утварь.
— А установить, что пропало, возможно?
— Опись, вероятно, имеется, если она, конечно, полная. Но делать ревизию отдела рукописей почти немыслимо, на это уйдет несколько месяцев. Да и то при условии, что мы закроем музей и почти всех сотрудников привлечем к этому.
— А что хранится в сейфе?
— Знаю в общих чертах. Гилевский никогда не предлагал мне полюбоваться.
— Вас что, не интересовало?
— Можно сказать и так, довольствовался тем, что мне однажды сообщил Гилевский, во-первых, во-вторых, полностью доверяя авторитету и положению Гилевского, я посчитал невозможным для себя проявлять любопытство. Тем более, что сейф можно открыть лишь одномоментно двумя ключами, а хранятся они раздельно: один у Гилевского, второй у директора. Так что ни Гилевский, ни директор по отдельности открыть сейф не могут.
— Понятно, — Кира прошла к вешалке, склонилась, разглядывая то место на лапе, где вчера нашла сгусток крови и клочок кожи. «Это уже после того, как он был убит, при падении стукнулся еще головой о чугунную лапу», подумала она.
Затем втроем они прошли в хранилище. Паскалова была потрясена увиденным. Огромная зала, высоченные потолки, по периметру до самого потолка многоэтажные стеллажи с ячейками. А в них плотно рядами толстые папки, каких сейчас уже не делают. Она внимательно оглядела несколько раз все ряды, поднималась даже на стремянке в попытке найти пустующее место, как обозначение того, что из данного ряда что-то изъято. Но все было плотно заставлено, без малейшего пробела, хотя она и понимала, что человек, если искал здесь что-нибудь, то знал, что именно и где именно, а вытащив, распределил папки так, чтобы просвета между ними не было. Убийца должен был знать, где искать, иначе — рыться здесь — времени у него не было, за спиной в кабинете лежал труп убитого им. Потом Кира обошла залу с запасниками. Тут тоже все вроде стояло и лежало нетронутым на первый взгляд, но Кира понимала, что это ее приблизительно-субъективная оценка, на которую опираться нельзя. Если что и похитили, то только из рукописного фонда, ибо в запасниках предметы таких размеров, что в карман не уместишь, незаметно, минуя взгляд вахтерши, не вынесешь, даже в портфеле или в сумке. Хищение из сейфа почти исключается: второй ключ у директора, который в отъезде…
Паскалова вернулась в кабинет. Теперь ей предстояло ознакомиться с бумагами на письменном столе, как-то систематизировать их. Но их было много, и она решила:
— Антон Сергеевич, бумаги, видимо, я заберу с собой, оформим выемку, тут работы надолго, не хочу вас задерживать, да и мне читать их у себя будет сподручней.
— Воля ваша, — пожал Ребров плечами.
Она сложила бумаги в кейс. Последний раз окинула глазами кабинет. Заперла решетку в хранилище, и втроем они вышли. Поразмыслив, спросила:
— Сюда часто приходят сотрудники?
— Почти никогда.
— Тогда я еще подержу какое-то время кабинет опечатанным…
Он проводил ее по лестнице в холл, внизу Кира спросила:
— Когда должен вернуться директор?
— Он уехал на курсы недели на три.
Попрощались, и Кира покинула музей…
Два часа сна, душ, бритье, чашка крепкого чая вернули старшему следователю Виктору Борисовичу Скорику ощущение свежести, молодости. Ощущение это подкреплялось мыслью, что он хорошо одет — ладный костюм, светло-сиреневая сорочка, галстук в тон к костюму и носкам и до зеркального блеска начищенные туфли. Закинув ногу на ногу, он сидел перед Щербой, иногда поглядывая на носок туфля, на котором сиял лучик света, падавший от верхней лампы. В кабинете Щербы почти всегда горел свет — окна комнаты выходили в дворовой колодец, от этого было сумеречно. Щерба с завистью и некоторой снисходительностью относился к любви Скорика к одежде, со старческой грубостью понимая, что сам он к одежде безразличен, вспоминая при этом однажды сказанное Скориком: «Хорошо одетый человек чувствует себя независимей». Хотел возразить тогда, что независимость, мол, исходит не от одежды, но смолчал, подумал: «А может, он прав?..»
— Так что там, Виктор Борисович?
— Солдат не поладил с девчонкой, придушил, поджег квартиру. Я передал дело в военную прокуратуру. Пусть занимаются.
— Правильно. Это их компетенция, у нас своих забот полон рот.
Скорик насторожился, спросил:
— Что случилось в музее?
Щерба кратко рассказал, затем добавил:
— Вас это не касается. Для вас другое припасено. Дело по убийству в Борщово суд вернул на доследование. Я как чувствовал. Берите его и доводите до ума, Виктор Борисович.
Это было самое неприятное, лучше самому вести с начала и до суда какое-нибудь дело, нежели «вытаскивать» чужое, когда кто-то запорол его.
Щерба открыл сейф, достал два тома.
— Вот оно, — протянул Скорику. — Не тяните, начальство торопит.
— Чего уж тут, — погрустнел Скорик.
Щерба сделал вид, что не заметил этого, чтобы подсластить пилюлю, сказал:
— Можете все отложить, займитесь только этим, я не буду вас дергать, — он по опыту знал, как противно штопать чьи-то дырявые носки…
Скорик и Паскалова занимали один кабинет на двоих. Столы их стояли напротив. Сперва он приглядывался к молчаливой Паскаловой, оценивая ее, как человека и работника. Со временем удовлетворенно привык к ее неразговорчивости, к отсутствию даже малого намека на заискивание. Дела поначалу Щерба давал ей несложные: бытовые кражи, хулиганства, примитивные хищения. Вела и завершала она их без суеты и дерганий, не стеснялась посоветоваться. И сложились постепенно ровные хорошие отношения…
Паскаловой в кабинете не было. Он сел за стол, раскрыл дело, стал читать. Суть была внешне проста: в лесу, в пятнадцати километрах от райцентра Рубежный был найден труп продавщицы магазина села Борщово двадцатипятилетней Ольги Земской. Подозрение пало на некоего Владимира Лаптева, когда-то жившего в Борщове, а затем перебравшегося в областной центр, где он работал бортмехаником в авиаотряде. Дело вел молодой следователь из районной прокуратуры. Листая страницу за страницей, Скорик то и дело натыкался на следовательские промахи. Например, вместо результатов измерений, сделанных на месте происшествия, вместо указания точек отсчета и направления по отношению к сторонам света от объекта-ориентира пестрили слова «слева», «справа», «вблизи», «подальше». При допросах Лаптева следователь, желая показать, что ему якобы «все известно», фантазировал, подробно излагая Лаптеву, «как он совершал убийство». Высказанные эти «предположения» Лаптев умышленно ввел в свое «признание» в виде «деталей», услышанных от следователя, а в суде изменил свои показания, чем и скомпрометировал всю версию обвинения в целом, и дело вернули на доследование…
Закончив общее ознакомление, Скорик принялся читать повторно, уже останавливаясь на мелочах, деталях, делая выписки в свой блокнот…
Джума Агрба рылся в архивах, в картотеке, разыскивая аналоги случившегося. Он успел заскочить домой пообедать, навернул две тарелки любимых свиных щей, к которым его пристрастила на свою голову жена-украинка. «Свинина дорогая нынче, — ворчала она, когда он требовал щи. — Постными тоже не отравишься», — но уступала. После щей он съел большой кусок вареного мяса, запил бутылкой пива, закурил, сказал, что, возможно, придет поздно, так что детей купать придется завтра, и, дымя сигаретой, вышел из дому…
Сейчас, чувствуя легкую приятную отрыжку, он копался в бумагах и делал выписки. Отыскал четыре заслуживающих внимания случая: 1. Ограбление квартиры известного врача, взяты в основном изделия из серебра и золота. Преступников было двое, отбывают наказание в «пятидесятке». 2. Ограбление комиссионного. Украдены фарфоровые изделия Кузнецовского завода — редкая ваза и дорогие детские фарфоровые игрушки. Больше ничего. Преступники не разысканы. 3. Ограбление квартиры художника-реставратора. Преступник один. Отбывал наказание, педераст, убит в зоне из ревности. Похитил миниатюрный на две персоны Корниловский сервиз «Эгоист» — поднос, две чашки, два блюда, сахарницу. 4. Ограблен старик-пенсионер. Знаток и собиратель, нумизмат и филателист. Украдены ценные коллекции монет, десять кляссеров и коллекция старорусских орденов. Похититель Александр Андрусов.
«Проверить, сидят ли еще те двое в „пятидесятке“ и что поделывает Андрусов, — подумал Джума. — Все четыре ограбления явно заказные. Брали из квартиры только это. Наводчики и заказчики установлены не были».
Джума понимал, что если что-то похищено в музее из отдела рукописей, искать будет невероятно сложно; если же хищение совершено из запасников, где хранятся старинный фарфор, часы, сабли, мечи, кремневые ружья, то искать надо среди коллекционеров, в антикварном магазине. Паскалова полагает, что пронести эти крупные предметы мимо вахтерши, дескать, немыслимо. Но Джума по опыту знал: всякое бывает.
Он снял трубку, позвонил, ответил мужской голос:
— Майор Бромберг слушает.
— Привет, Алик. Это Агрба.
— Узнаю.
— Два вопроса.
— Начинай с первого.
— Дело об ограблении профессора-гинеколога помнишь? Взяли тогда двоих. Где они?
— А второй вопрос?
— Ограбление нумизмата и филателиста, по делу проходил Александр Андрусов.
— Подожди пять минут, — собеседник положил трубку, Джума слышал его удалявшиеся шаги, через какое-то время трубку опять взяли:
— Джума, слушаешь?
— Да-да!
— По первому делу: оба отбывают наказание в «пятидесятке», им осталось еще по два года шесть месяцев и восемнадцать дней. Так что, если они тебе нужны, езжай в «пятидесятку» или наберись терпения, жди еще два года. По второму случаю: Александр Андрусов отсидел положенное, сейчас бизнесмен, владелец магазина импортной парфюмерии.
— Где этот магазин?
— Бывший магазин «Ткани», угол проспекта Свободы, напротив Дома книги. Уловил?
— Уловил. Спасибо, — Джума положил трубку, какое-то время сидел задумавшись, потом, заперев сейф, вышел…
Муж был на учениях в поле, и Кира могла не спешить домой. Скорик ушел. Она была в кабинете одна. Тихо, спокойно. Молчал, слава Богу, телефон. Она выложила из кейса бумаги Гилевского и принялась читать. Тут были отдельные страницы — рукописные и машинописные; были сколотые скобой-сшивателем по несколько вместе, какие-то записи на обороте формулярных карточек. Сперва ей попалась копия докладной на имя директора музея: «…Отмечать 100-летие со дня рождения Диомиди безусловно надо. Однако издание юбилейного сборника о нем считаю нелепой затеей. Что в нем можно опубликовать, кроме выдумок Чаусова, если у нас ничего не существует? Ни переписки, ни дневников…» Дальше попадались бумаги совсем делового свойства: копия акта ревизии в Фонде имени Драгоманова, копия инвентаризационного списка коллекции геральдических знаков. Попалась Кире страничка с началом какой-то статьи, написанная каллиграфическим почерком Гилевского: «Семьдесят пять лет КПСС была занята заметанием следов своих преступлений. Например, с помощью массовой оболванивающей музыки и текстов: „Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей“, „Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет“, „Я другой такой страны не знаю…“ Или в лозунгах: „Труд — дело чести, доблести и геройства“, „Земля — крестьянам, фабрики — рабочим“. Самое страшное, что это действовало, усваивалось мозгом, как введенное в вену снотворное…» Затем ей попалась незаполненная гостевая анкета для выезда за рубеж. На двух формулярных карточках быстрые, наискосок, видимо, для памяти карандашом строки: «Второе — обязательно на хранение нотариусу». Слово «нотариусу» резко подчеркнуто; «затея проста по замыслу, сложна по исполнению. Его надо убедить, что мое согласие лишено любых меркантильных помыслов…»
Бумаг было много. Кира испугалась, что утонет в них, перестанет соображать, что представляет интерес, а на что можно не обратить внимания. И дальше разбирая бумаги, пыталась как-то сортировать их по принципу «личные», «служебные». Так просидела она около двух часов. Не выудив ничего конкретного, все же отложила отдельно то, что, возможно, надо будет уточнить, проверить. Домой ушла около одиннадцати. На ночных улицах прохожих было мало, решила пройтись пешком, не ждать троллейбуса. Чувствовала, что устала за день. Не столько тело устало, сколько голова: мельтешили слова, фразы, имена, лица. Ни на чем сосредоточиться не могла и с некоторым страхом подумала, что дальше будет еще хуже, и вовсе утонет во всем этом, не добравшись до заветного берега: кто и за что убил Гилевского.
Было тихо, тепло, дул легкий ветерок. В тополиных листьях отражался свет уличных фонарей, и казалось, что он шевелится.
Еще в коридоре услышала звонок, подбежала, схватила трубку. Далекий голос мужа спросил:
— Где ты была? Я третий раз звоню.
— На работе. Что у тебя?
— Нормально. Тут очень красиво. Река, лес. Ни души. Солдаты перед отбоем голышом купались. Может на субботу и воскресенье приедешь?
— Не знаю. Ты в пятницу вечером позвони.
В их беседу влез голос связистки:
— Разговариваете?
— Да-да, не мешайте, — сказал муж. — Ладно, до пятницы. Видимо, кому-то из начальства связь нужна… Целую.
— Целую, родной…
Мыть посуду не стала, пообещала себе встать на полчаса раньше, немножко прибрать на кухне.
5
В село Борщово Скорик приехал в девять утра рейсовым автобусом, который останавливался возле сельсовета. На дверях сельсовета висел замок. Центральная улица была пуста, несколько кур разгуливало да ленивый пес брел через дорогу. Борщово — большое село, центральная усадьба совхоза. Какое-то время в надежде, что кто-нибудь из сельсоветских появится, Скорик стоял у крыльца, затем заметил мальчишку, выкатывавшего со двора велосипед. Скорик окликнул его. Мальчик подъехал.
— Кого ждете, дядя? — спросил.
— Кого-нибудь из сельсовета.
— А их не будет, ушли уже в контору.
— А ты не знаешь, где живут Марущаки?
— Которые? У нас тут Марущаков много.
— Скажем, Анна Марущак, — назвал он имя и фамилию молодой женщины, подруги убитой Ольги Земской.
— Фельдшер она?
— Да-да.
— Идемте, я покажу.
Они подошли к низкому заборчику, за которым в саду стоял кирпичный дом с блестевшей крышей из оцинкованного железа. Во дворе женщина вешала белье.
— Аня, к тебе из города! — окликнул женщину мальчик.
Она обернулась, вытерла ладошки о передник, подошла. Было ей лет двадцать пять, смуглое лицо, пухлые щеки, темно-каштановые волосы заплетены в узел на затылке.
— Вы ко мне? — спросила.
— Если вы Анна Макаровна Марущак, фельдшер, подруга покойной Ольги Земской и свидетель по делу, тогда к вам, — улыбнулся Скорик.
Она оглядела его, ладного, хорошо одетого и оттого, возможно, показавшегося ей очень значительным.
— Да это я, проходите, — она отперла калитку. — А вы, кто будете?
— Я следователь из областной прокуратуры. Фамилия моя Скорик, зовут Виктор Борисович.
— Что ж стоим, пройдем в дом.
— А может в саду? — заметил Скорик скамейку со спинкой.
— Можно и там.
Прошли, сели.
— Анна Макаровна, дело вернулось из суда на доследование, вести его буду я.
— Что вернулось, знаю, — нахмурилась. — Что вы меня по отчеству, называйте просто Аня.
— У меня несколько вопросов к вам, Аня… Когда вы последний раз видели Олю?
— Четвертого мая.
— Она говорила вам, что намерена куда-то ехать?
— Да, утром я заходила в магазин, она сказала, что после полудня едет в областной центр, ее пригласили в ресторан.
— Сказала, кто пригласил?
— Сказала, что Володя Лаптев. Поедут, мол, на его машине.
— А вы знакомы с ним?
— Нет, видела пару раз, он старше Оли лет на пять. В детстве жил в нашем селе, потом уехал.
— Где они познакомились?
— Он иногда приезжает сюда, тут у него тетка. В один из таких приездов он зашел в магазин и познакомился с Олей.
— Часто они встречались?
— В общем, да.
— Вы знали, что она беременна?
— Беременна?! О, Боже! Нет, она мне ничего не говорила.
— А что-нибудь Оля говорила вам о нем, как-нибудь характеризовала?
— Говорила, что внимательный, что хотела бы выйти за него. Я ей только сказала: «Не спеши, приглядись». Как говорится, «и гусь вкусный линяет».
— Что ж, спасибо вам, Аня, — поднялся Скорик. Пригнувшись, отодвинув низкую яблоневую ветку, пошел к калитке. Она провожала его. У калитки спросила:
— Что дальше будет?
— Поживем — увидим… Как мне лучше добраться до райцентра?
— От церкви автобус ходит, — она вышла с ним за калитку и показала, как пройти к церкви…
Автобуса он ждал долго. В райцентр Рубежное приехал в начале двенадцатого, узнал, где сельпо и головной магазин.
Завсельпо, молодой пышноволосый парень, растерянно посмотрел на Скорика, когда тот представился.
— У меня к вам несколько вопросов, — сказал Скорик. — Четвертого мая из Борщово к вам приезжала Оля Земская сдавать выручку?
Подумав, парень ответил:
— Четвертого мая мы не работали, взяли отгул за второе.
Она регулярно сдавала выручку?
— Чего ее сдавать, ездить? Ольга по почте переводом отсылала.
— Это точно, что вы четвертого не работали?
— Абсолютно. Четвертого я уезжал даже на крестины в Вишняковку, это тридцать километров отсюда.
— Понятно. Спасибо. До свидания…
Из сельпо Скорик пошел в головной магазин. Заведующей не было. Старший продавец, немолодая степенная женщина протирала витрину, окуная губку в ведро с водой. Выслушав Скорика, она бросила губку, вытерла руки.
— Четвертого мая Ольга Земская должна была получать у вас товар. Она была одна или заходила с кем-нибудь?
— Четвертого она ничего не могла получить, после праздников, третьего, мы закрылись на ревизию.
— Она знала, что вы должны закрыться?
— Конечно. Перед праздниками она звонила, разговаривала с завмагом, я присутствовала при этом, и завмаг сказала, чтоб до шестого она не приезжала… Жалко девку, красивая, серьезная… Господи, что делается!..
Скорик ничего не ответил.
— Вы-то хоть разберитесь, чтоб ему, паразиту, на всю катушку, добавила она.
— Спасибо вам, вы мне очень помогли, — попрощавшись, он вышел и направился к автобусной остановке…
Частный парфюмерный магазин Александра Витальевича Андрусова назывался «Нега». Джума стоял перед входом, разглядывая витрину, где красиво были разложены коробки с духами, туалетной водой, лосьоны, губная помада, банки с кремами, дезодоранты в разноцветных емкостях. Он вошел внутрь. Мягкий свет ламп, упрятанных дизайнерами, освещал стойки-витрины со множеством коробок, коробочек, флаконов. Две красивые девушки за прилавком вежливо отвечали на вопросы покупателей; был здесь и праздный народ, просто любопытствующий, наверное, с завистью думавший о тех, что имел возможность выложить немалые деньги за крохотный флакончик французских духов или набор шампуней. Джума прошел в подсобку. Высокий грузный лысеющий мужчина лет сорока, стоявший у открытого сейфа, обернулся на звук шагов Джумы. Взгляд его серых навыкате глаз сразу стал презрительным, едва он оглядел с головы до ног Джуму.
«С ним придется покруче», — тут же подумал Джума и спросил:
— Андрусов Александр Витальевич?
— Да, я.
— Моя фамилия Агрба. Майор Агрба из угрозыска, — Джума достал удостоверение.
Андрусов долго разглядывал, как бы сличал майора на фотографии с этим, одетым, как замухрышка, мужиком. Возвратив удостоверение, сказал:
— Налоговая инспекция — понятно. Но угрозыск — это к чему бы?
— В связи с убийством и ограблением в музее, хочу задать парочку вопросов.
— Поня-я-тно, — усмехнулся Андрусов. — «Где вы были, что вы делали, нет ли связей со старыми знакомыми? Так, что ли?»
— Почти так. Раз уж вам хочется в таком порядке, давайте в таком: где вы были двадцать первого сего месяца, скажем, между семнадцатью и двадцатью одним часом?
— До восьми тридцати здесь, в магазине. В полседьмого приезжал инкассатор забрать выручку. Вот я ее и считал. Помогали мне продавщицы. Ушли мы все вместе, — понимаете, вместе, в восемь тридцать, потому что готовили витрину, обновляли… С этим вопросом все ясно? — с издевкой спросил Андрусов. — Может позвать девочек моих, чтоб подтвердили?
— Пока не надо. Когда потребуется, с этим я управлюсь сам… Второй вопрос вы уже сами сформулировали: из старых знакомых никто не объявлялся до двадцать первого или после с каким-нибудь предложением?
— Отвечаю. Я только влип по-дурости. Что-то закружило голову — полез. Дали срок, отсидел исправно, сказал себе: «Синяк этот останется на всю жизнь. Не набей себе, дурак, еще один». Понятно говорю?
— Вполне.
— Значит, старых друзей побоку. Нужно заняться серьезным делом, сегодня самое время. Можно зарабатывать десятки миллионов без хлопот с уголовкой. Резонная мысль?
— Вполне.
— Теперь ответьте мне: красивый магазин?
— Очень.
— Знаете, какой у меня оборот?
— Не знаю, — сказал Джума, — наверное большой, но это, видимо, коммерческая тайна.
— Если вы очень хотите, могу назвать.
— Не стоит, — ответил Джума.
— Итак, я легально процветаю. Видели, сколько покупателей? Так на кой черт мне при таком деле лезть в какой-то пыльный музей, кого-то грабить, а потом дышать парашей и кормить вшей на нарах или, чего доброго, пойти по «расстрельной»? Есть смысл?
— Никакого, — согласился Джума.
— Коньяку хотите? — по-барски предложил Андрусов.
— Нет, я бесплатно не пью, а у вас, как понимаю, на разлив коньяк не продается. Будьте здоровы, — круто повернувшись, Джума вышел. «Алиби твое я, конечно, проверю, — подумал Джума. — Ты, конечно, подонок по сути своей, по рассудил правильно: лучше нюхать запахи в этом магазине, нежели в лагерном бараке…»
До оговоренной встречи с Паскаловой у дома, где жил Гилевский, оставалось много времени, и Джума отправился по намеченному на сегодня маршруту…
Рядом с антикварным магазином находился пункт скупки драгоценных металлов на лом. Тут всегда вертелся разный люд, пытавшийся заработать: перехватывали шедших в скупку, предлагали цену за грамм, скажем, серебра или золота, повыше, нежели в скупке, делали таким образом бизнес. Милиция махнула на них рукой: сейчас разгонишь, а через час они снова тут, как мухи на мед. Дельцы посолидней кучковались у антикварного. Среди них топтался и крепкий мужичок в желтой сорочке с распахнутым воротом, в растоптанных широкой ступней видавших виды туфлях и в давно неглаженных брюках, которые он то и дело подтягивал, пытаясь натянуть на живот. Это был Джума Агрба. Он не был похож на любителя и знатока антиквариата, его никто не принимал всерьез, даже сторонились, поскольку знали друг друга, знали, кто чем интересуется: кто иконами, кто бронзой, кто старинным чугунным литьем, кто старым русским фарфором или немецким с голубыми или хотя бы с зелеными мечами на обороте.
К нему, отделившись от толпившихся и сновавших, подошел хорошо одетый парень, на лице светозащитные очки, и наклонившись, спросил:
— Видать с Кавказа?
— Раз видать, значит с Кавказа, — ответил Джума, чья внешность — чуть выпуклые глаза и дугообразный нос редко кого вводили в заблуждение.
— Что-то привез или интересуешься чем? — спросил парень.
— Сперва сними очки, глаза хочу увидеть, не люблю втемную.
— Ну даешь! — засмеялся парень, но очки снял. — Так что?
— Ищу.
— Что?
— А что предложишь? У нас в Сухуми любят красивые вещи.
— Дак у вас же стреляют! Голод, нищета.
— Сейчас не так уж стреляют. Постреливают. Но богатый народ еще есть… Что предложишь?
— Каминные бронзовые часы. Начало XIX века.
— А почему в магазин не сдаешь?
— Там ставят мало да еще двадцать процентов комиссионных сдирают.
— А посмотреть можно?
— Идем.
Он повел Джуму в подъезд рядом с магазином. Там стоял другой парень с большой красивой спортивной сумкой.
— Достань ходики, — сказал ему первый.
Тот извлек каминные часы. Под стеклянным колпаком мерно двигался маятник. Джума повернул в руках часы, пощелкал языком, сказал:
— Это ж надо такое чудо сделать!.. Сколько хочешь за них?
Продавец назвал цену.
— Только мне нужно посоветоваться с корешом, без него не могу, он часть своих вкладывает и толк в вещах знает, а потом торговаться будем.
— А где твой приятель?
— В гостинице рядом.
— За полчаса управишься?
— Я бегом.
— Давай, чеши.
Джума быстро зашагал, свернул за угол, оттуда — к музею. Замдиректора Реброва застал у себя, объяснил в чем дело.
— Вряд ли это наши. Экспозиция часов у нас временная, развернули на полгода, я ее на память знаю, сам комплектовал. Идемте посмотрим.
В небольшом зале находилась выставка старинных часов. Это были уникальные работы часовых дел мастеров XVII–XIX веков. Такого количества и красоты часов Джума никогда не видел. «Темный ты, Агрба, человек», сказал он себе.
Ребров прошелся вдоль стен, где были выставлены часы, увлекая за собой Джуму, потом решительно сказал:
— Нет, тут все цело.
— Ну и слава Богу, — вздохнул Джума. — Извините, что побеспокоил…
Продавец часов ждал его.
— Ну что, где ж твой приятель? — спросил.
Джума извинительно развел руками:
— Не захотел, сказал, что в часы боится вкладывать бабки.
Парень махнул рукой, выматерился, куда-то слинял. До закрытия антикварного магазина на перерыв оставалось минут пятнадцать. Джума вошел. Заведующий сидел у себя в маленькой конторке, что-то считал, тыча пальцем в калькулятор, увидев Джуму, приветственно поднял руку. Они были знакомы. Джума не раз приходил сюда, когда случались ограбления квартир. Войдя, Джума притянул за собой фанерную дверь, взял ее на крючок.
— Садись, майор, — предложил директор. — Чашечку кофе с коньячком?
— Не откажусь.
— Что за новые заботы? — спросил директор, разливая коньяк по рюмкам.
— Как идет торговля? — задал встречный вопрос Джума.
— Какая теперь торговля! Народ обезденежел, все, что можно проел. Иногда кое-что приносят, да и то привозное, — он поставил перед Джумой чашечку, банку с кофе.
— Тут мне сейчас один воробей часы каминные предлагал, XIX век.
— Знаю я его и эти часы. Фуфло. Собраны из разных.
— Ты мне вот что скажи, — Джума выпил коньяк и стал потягивать кофе, — последнюю неделю тебе ничего не приносили интересного?
— Что имеешь в виду? Часы, фарфор, бронзовое литье? Из какой жизни?
— Могли принести все, что угодно.
— За последнюю неделю, говоришь? — он задумался. — Принял я на комиссию старинную хорошую люстру, ханукальный еврейский семисвечник, кубачинский кувшин. Пожалуй, и все.
— Что комитенты?
— Люстру и семисвечник сдала пожилая женщина, уезжают в Израиль. Интеллигентная дама. А кувшин — солидный такой полковник-летчик. Я спросил, как к нему попал кувшин, сказал, что приобрел в Дагестане, а сейчас дачу строит, деньги нужны. Сдал очень дешево, чтоб быстрей продалось.
«Не то, не то, — думал Джума. — Люстру из музея незаметно не пронесешь. А остальное — пустяки. Из-за этого не убивают. Там брали, если брали, что-то покруче…»
Поблагодарив за угощение, Джума сказал:
— Ежели что появится такое… ну сам понимаешь… дай знать.
— Непременно. Мне влипать с краденым тоже неохота. А кого обокрали?
— Одного профессора, — соврал Джума…
На улице у скупочного и возле антикварного почти уже никого не было, магазины закрывались на перерыв.
Свой перерыв Джума провел в небольшом кафе «Янтарь», взял два бутерброда — с колбасой и сыром, — чашку кофе. Он медленно ел, чтоб скоротать время, вслушиваясь в разговоры посетителей. Господи, о чем только люди не говорили! Кофе он не допил — переслащенный, а сладкого Джума не любил. «Сладкий!» — вдруг вспыхнуло в мозгу. Как я забыл про него! «Сладкий» — это была кличка человека, имя и фамилию которого Джума запамятовал, он был странный тип, сколько Джума помнил, всегда неопрятно одевался, вечно бледное худое лицо с буграми от юношеских прыщей и всегда улыбочка, змеившаяся на тонких губах, вертлявая походка. При этих внешне отталкивающих чертах, был «Сладкий» мягким, услужливым, добрым. Когда-то занимался фарцовкой, затем, когда ремесло это почти усохло, остался не у дел: удачливые фарцовщики выбились в бизнесмены. «Сладкий» же стал маклером, занимался только антиквариатом. Имелась у него привычка, походившая на страсть: был помешан на портретной живописи, мог по несколько часов торчать в картинной галерее, которую посещал раз в неделю обязательно, где его уже знали не только, как штатного посетителя, но и как знатока, и относились к нему добродушно, как к неудачнику, несостоявшейся одаренной личности. Когда что-либо требовалось Джуме при оперативно-розыскных нуждах, «Сладкий» не отказывал. Он не являлся стукачом ни платным, ни по призванию, а был просто услужливым человеком. Джума, разумеется, тоже старался быть джентльменом, дабы никто из окружения «Сладкого» не заподозрил его в предосудительных связях с милицией…
«Что-то я его не видел сегодня в этой тусовке», — подумал Джума, направляясь снова к антикварному и скупочному магазинам. Народу тут поубавилось. Но все еще вертелись. Высмотрев молоденького паренька, видно еще неопытного, хотя и не новичка, судя по тому, как он общался с остальными, Джума подождал, покуда тот отделится, и подошел:
— Привет. «Сладкого» не видел? — спросил.
— Уехал он, — ответил паренек.
— Куда, с чего бы?
— А у тебя что, товар есть?
— Куда, говорю, уехал?
— В Донецкую область. Мать где-то там у него померла.
— Давно уехал?
— На прошлой неделе. Зачем он тебе? — спросил паренек.
— Я привез ему из Америки письмо от дяди-миллионера.
Парень понял, что его разыгрывают, отошел. Покинул это злачное место и Джума: пора было идти на встречу с Паскаловой.
Кира ждала Джуму возле подъезда дома, где жил Гилевский. Рядом стояла немолодая женщина в оранжевой безрукавке — дворничиха. С момента смерти Гилевского в квартиру его никто не входил, хоронили из музея. Паскалова и Джума пришли тогда в музей. Похороны получились какие-то жиденькие, бедные, народу было маловато. На церемонии в музее еще так-сяк, а на кладбище и вовсе негусто. Выяснилось, что никто не знает, есть ли у покойного какие-нибудь родственники — настолько он жил одиноко и замкнуто. Потом задавались вопросом: приглашать ли священника для отпевания, не знали: верующий был Гилевский или нет. Но учитывая его возраст, решили позвать священника из церкви святых Петра и Павла. Суетливый и беспомощный замдиректора Ребров произнес у гроба небольшую скучную речь, отмечая в основном заслуги Гилевского, как ученого, отдавшего музею сорок лет своей жизни. Паскалову тогда поразило, что так мало народу, она поделилась этим с Джумой. Он сказал с присущей ему профессиональной прямотой: «А может он досадил всем?..»
Вот о чем вспомнил Агрба, подходя к Паскаловой. Кира послала дворничиху к соседям, чтоб присутствовали в качестве понятых. Нашлась молодая женщина, врач, сидевшая дома в декрете. Как и предполагала Кира, маленький ключ на связке прочих ключей, найденных у Гилевского, оказался от английского замка на входной двери. Вошли вчетвером. Обдало тяжелым застоявшимся воздухом, из маленькой прихожей ступили в первую комнату. На всем лежала пыль — на полированном столе, небольшом серванте с красивой посудой, на стульях и книжных полках, прикрепленных к стенам дюбелями. Полки были заставлены книгами плотно, без просветов.
— Пожалуйста, стойте в сторонке, ни к чему не прикасайтесь, — сказала Кира дворничихе и беременной женщине, сложившей руки на большом животе. Она прошла вдоль полок, обратила внимание, что никаких новых изданий, собраний сочинений тут не было — в основном книги с потертыми корешками, большинство в мягких обложках, много книг на немецком и французском языках, и все они — по искусству. Осмотрев поверхности стола, полок, стульев Паскалова не нашла ни сантиметра, где бы тронута была пыль. Затем прошли в другую комнату. И тут Паскалова едва не ахнула: стены были завешаны старыми иконами, оригиналами офортов под стеклом в рамочках, картин не было, но висело шесть больших портретов казацких гетьманов. Тоже, видимо, старые работы, о чем свидетельствовали мелкие паутинки-трещинки. В оконном простенке возвышалась орехового дерева горка, за стеклом которой стояли фигурки, вазочки, блюда из мейсенского фарфора. «Как же он не боялся, что его обворуют? — удивилась Паскалова. — Дверь запиралась всего на один хлипкий замок!» Она мало смыслила во всем этом, но понимала, что такой знаток, как Гилевский, едва ли собирал бы то, что не относилось к произведениям искусства…
У противоположной стены стояли диван с бельевой тумбой, узкий платяной шкаф, а в углу, у самого окна, небольшой письменный стол. И всюду нетронутая пыль, не сдвинутые с места вещи. В платяном шкафу на полках лежала невысокая стопка белья, а на вешалках висело несколько не новых сорочек, два ношеных костюма и плащ с залоснившимся воротником.
Кира присела к письменному столу, аккуратно открыла тумбу, ящики. Пока она просматривала бумаги, Джума вышел на кухню. Она была скромна до удивления: маленький шкаф с минимумом посуды, столик, на котором стоял телефон, и газовая двухконфорочная плита. Все было прибрано, чистенько, если опять же не считать пыли. Из кухни Джума направился в прихожую, где на настенной вешалке висело демисезонное пальто. Джума осмотрел его карманы. Они были пусты, лишь в боковом он нащупал клочок бумаги — обрывок странички из настольного календаря. Страничка за восьмое апреля. На бумажке было написано: «Вадим» и номер телефона. Джума сунул клочок бумаги в карман и вернулся в комнату, где Паскалова заканчивала осмотр письменного стола. Бумаг в нем оказалось немного. Большая часть их старые, пожелтевшие странички каких-то музейных справок. Единственное, что привлекло ее внимание, — узкий белый конверт с напечатанным на компьютере по-английски и по-русски адресом Гилевского. В конверте на специальной почтовой бумаге тем же шрифтом — текст по-английски: «Дорогой мистер Гилевский». Понять это Кириного английского хватило. А вот текст осилить не смогла. Стояла дата и подпись: «18 мая. Кевин Шобб». Конверт и письмо Паскалова изъяла. Подошел Джума, наклонился и прошептал:
— Проверьте карманы костюмов.
В ответ она благодарно кивнула, направилась к платяному шкафу. Но в карманах было пусто. Можно было заканчивать, она видела, что понятые уже нетерпеливо переступают с ноги на ногу…
Когда вышли, Кира опечатала квартиру и спросила у беременной женщины:
— Вы хорошо знали Гилевского?
— Нет. Случалось, что по месяцу не встречала его. Он был человеком замкнутым и, пожалуй, не очень любезным. При встрече на лестнице кивнет и пройдет мимо. Все соседи знали, что он существует, работает вроде в каком-то музее, а больше ничего.
Когда, попрощавшись в понятыми, Джума и Кира отошли, Джума протянул ей обрывок календарного листка:
— Возьмите. Тут какой-то телефон записан. Мелочь, а кто знает, что она означает?
— Где вы взяли?
— В прихожей, в кармане пальто.
— Почерк вроде не его. Тут наклон влево…
Они дошли до угла.
— Вы куда сейчас? — спросила Кира. — Я хочу зайти в «Интурист» к переводчикам, письмо показать им. Потом буду в прокуратуре.
— У меня тут недалеко есть один маленький интерес, — ответил Джума. Увидимся в прокуратуре…
В «Интуристе» в сервисном бюро Кира проторчала час: ни переводчицы, ни завбюро не было, ушли с какой-то делегацией. Наконец появилась завбюро и узнав, кто такая Кира и по какой нужде здесь, сказала:
— Учитывая откуда вы, в порядке исключения обещаю вам перевод на завтра и даже бесплатно: у нас теперь все услуги платные. Переводчицы сегодня уже не будет. Вы оставьте мне свой номер телефона. Перевод заверить печатью?
— Можно, — согласилась Кира, и назвав свой служебный номер, вышла…
В субботу Джума снова отправился к скупке и антикварному магазину. «Сладкого» увидел еще издали, узнал, хотя и не видел его очень давно. То же очень бледное лицо, тоненькие усики над улыбчивой губой, так же неопрятно одет, с той же холщовой сумкой в руке. Джума приближался так, чтобы попасть в поле зрения «Сладкого». Затея удалась, тот издали приветственно поднял руку, Джума ответил таким же взмахом и указующе согнул кисть, мол, зайди за угол и сам направился туда, остановился за овощным ларьком. Вскоре появился «Сладкий». Поздоровались.
— Давно не видел тебя. Как поживаешь? — Джума по старой памяти обратился на «ты», хотя было «Сладкому» лет за сорок.
— Как сегодня поживают такие, как я? Уважают закон и живут впроголодь. Мать похоронил, ездил в Макеевку.
— Слышал уже. Прими мои соболезнования.
— Спасибо. Вы случайно здесь или я нужен?
— Нужен. До твоего отъезда в Макеевку тут не появлялся кто-нибудь с интересными предложениями?
— Если действительно с интересными, то никто ничего.
— А залетных не было?
— Приезжал один. Солидный барин.
— Когда это было?
Поразмыслив, «Сладкий» назвал число. Получалось за четыре дня до убийства Гилевского.
— Что он продавал?
— Он не продавал. Интересовался старинной мебелью.
— Ты ему помог?
— Нет. Такие вещи сразу не делаются. Пообещал ему поискать, обменялись адресами, и он уехал.
— Откуда ты знаешь, что он уехал?
— Я провожал его, помогал вещи в вагон внести.
— Он что, был так нагружен?
— Да. Купил сервиз «Мария» на двадцать четыре персоны. «Зеленые мечи», Розентхаль, Бавария.
— Сколько отвалил?
— Не знаю, такие вопросы не задают.
— На руках?
— Нет, в антикварном. Вы скажите, что конкретно вас интересует, так легче будет. Вы же знаете, что я храню конфиденциальную информацию.
— Точно не знаю сам, — признался Джума. — Но что-то музейное. Не мебель, а такое, что можно легко вынести.
— Понятно.
— У тебя ведь клиенты не только покупающие, но и продающие.
— Но я стараюсь иметь дело с людьми достойными, с интеллигенцией, с реставраторами, скульпторами, с научными работниками. Теперь, правда, и нувориши полезли в собиратели. С ними не очень охотно связываюсь. Сегодня он бизнесмен, завтра — в тюрьме. Уж я-то эту публику знаю.
— И сколько у тебя таких клиентов? Человек двадцать-тридцать?
— Да вы что! Те времена давно ушли. У меня человек семь-восемь.
— Списочек дать можешь?
— Это возможно, но при условии… без ссылок на меня.
— Я тебя никогда не подводил.
— Это я ценю… Пишите. — «Сладкий» задумался, Джума вытащил блокнот и ручку. — Член-корреспондент, профессор медицины Бруевич Иван Севастьянович, собирает старинные шахматы и только. Далее. Скульптор Огановский Борис Никитич, собирает восточную резьбу по кости. Художник-реставратор Манукян Давид Ованесович, старые офорты, в основном на библейскую тему. Кандидат искусствоведения, сотрудник Фонда имени Драгоманова Жадан Святослав Юрьевич, интересуется бронзовым литьем, но только до XX века, пианистка, лауреат международных конкурсов Всесвятская Надежда Николаевна, ее интересы ограничены оригиналами нотных записей храмовой музыки XVII–XIX веков. Генерал в отставке Клюев Павел Павлович собиратель старинной мебели. Кандидат искусствоведения, сотрудник Фонда имени Драгоманова Чаусов Алексей Ильич. Собирает все дореволюционные и современные публикации о Фаберже и Диомиди… Ну кто там еще? Ага, Вяльцева Клавдия Васильевна, художник-модельер Дома моделей. Собирает старинные кружева и бисерное шитье. Вот, собственно, и все.
— И находишь для них что-нибудь?
— Редко, но случается. Бруевичу нашел шахматы XVIII века. Вяльцевой кружева у одной старухи. Всесвятской какие-то ноты откопал на складе макулатуры. Это за последние два года.
— Тяжелый у тебя хлеб, — посочувствовал Джума.
— Предложите другой, — усмехнулся «Сладкий».
— Нечего мне, дорогой, тебе предложить… Ладно, спасибо. Ты иди, чтоб нас вместе не видели.
«Сладкий» ушел на свой тяжелый промысел. Выждав какое-то время, Джума снова зашел в конторку к заведующему антикварным магазином. Тот удивленно вскинул глаза.
— Только один вопрос, — поднял руки вверх Джума. — Сервиз на двадцать четыре персоны, с мечами, называется «Мария» — был такой?
— Был. Полторы недели назад ушел. Какой-то приезжий взял.
— Все! Больше вопросов нет, — Джума удалился…
6
Кира понимала, что накапливавшиеся с каждым днем какие-то данные глушат в памяти мелочи, которые могут вообще остаться за пределами ее внимания, пусть даже неизвестно, стоят ли они того, не окажется ли зря потерянным время на их прояснение. А мелочи эти проскакивали в деле, как маленькие искорки, они не давали пищу уму. Кира просто обещала себе вернуться к ним, но каждый день на них накладывались новые, а предыдущие она забывала. Вот почему сейчас решила перечитать весь накопленный в деле материал и свои беглые записи в блокноте, выписать отдельно эти детальки и уже идти по ним, решить сперва с ними, а затем уж двигаться дальше. Листая, она записывала: 1. Анкета для выезда за рубеж в бумагах Гилевского на работе. 2. На формулярной карточке рукой Гилевского: «Второе обязательно на хранение нотариусу». 3. На такой же формулярной карточке его же почерком: «Затея проста по замыслу, сложна по исполнению. Его надо убедить, что мое согласие лишено любых меркантильных помыслов». 4. На обрывке календарной странички написано «Вадим» и номер телефона. 5. Письмо от некоего Кевина Шобба из США. Письмо интригующего содержания, но ни с какой стороны Кира истолковать его не могла. И наконец — 6. Копия докладной на имя директора музея, почему-то подчеркнутая фраза в ней: «Отмечать 100-летие со дня рождения Диомиди безусловно надо. Однако издание юбилейного сборника о нем в университетском издательстве считаю нелепой затеей. Что в нем можно опубликовать, кроме выдумок Чаусова, если у нас ничего не существует? Ни переписки, ни дневников?..»
Она отложила ручку, и в это время в кабинет вошел Джума.
— Здрасьте, Кира Федоровна, — сказал он и глянул на пустующий стул Скорика. — А где ваш сосед?
— Уехал в СИЗо.
— Приятное место… У вас новости есть?
— Хочу пока разобраться кое с какими старыми мелочами. А вас попрошу сделать вот что: обойдите нотариальные конторы, их в городе пять, поищите, не оставлял ли там Гилевский на хранение бумагу или бумаги. Затем наведайтесь в городской ОВИР. Надо проверить, не подавал ли Гилевский документы на выезд в какую-нибудь страну по приглашению. Я тем временем попытаюсь выяснить, кто такой «Вадим» и чей телефон записан на обрывке календаря. Не возражаете?
Что он мог сказать ей? Что только и мечтал о таких поручениях, всю ночь не спал, грезил ими. Чудачка баба. Но ответил коротко:
— Сделаю, — затем достал свой блокнот, вырвал страничку, протянул: Здесь списочек солидных собирателей антиквариата. Может понадобится. Я так, на всякий случай составил.
Кира не стала спрашивать, как ему достался список, понимая, что тут могут быть способы, вникать в которые ей не следует, она пробежала глазами список, коротко отметив три фамилии — Чаусов, Жадан и Огановский кандидаты искусствоведения, первые два работают в фонде имени Драгоманова. Где Огановский — неясно. «Надо будет пройтись по всему списку подробней», — заметила она себе, а Джуме сказала:
— Хорошо, Джума, я этим займусь.
— Тогда я побежал, — он спокойно вышел из кабинета.
Спрятав бумаги в сейф, Кира направилась к Войцеховскому, нажала кнопку звонка, загудело запорное устройство, что-то щелкнуло, дверь открылась. Кира все еще с робостью и всякий раз с интересом входила в кабинет криминалистики. Комната Войцеховского находилась в конце коридора. Не сразу привыкла к стендам, развешанным на стенах коридора, где были фотографии с мест происшествия, вещественные доказательства, орудия убийства. Направо и налево шли кабинеты: лаборатория, телеаппаратура, маленький просмотровый зал с небольшим экраном.
Войцеховский разговаривал по телефону, когда она вошла, кивнул ей.
— Садитесь, Кира Федоровна, — сказал, закончив телефонный разговор. С чем поздравить?
— Пока ни с чем.
— Не огорчайтесь. Есть какие-нибудь зацепки?
— Прямых нет.
— Мой совет, по опыту знаю, не упускайте самых малозначительных на первый взгляд мелочей. И еще: многие наши с вами коллеги брезгуют психологией убийств, жуют только факты: отпечатки пальцев, орудие преступления, признательные показания в милицейских протоколах. Вы постарайтесь воспарить над этим, не утоните в этом. И в какой-то раз, когда я спрошу: «С чем поздравить?», вы мне скажете: «Дело закончила. Дописываю обвинительное, через неделю отправлю в суд».
— Бабка моя бывало говорила: «Кабы соловому мерину черную гриву, был бы он буланый», — засмеялась Паскалова.
— Не надо заниматься самоуничтожением. От этого развивается комплекс неполноценности.
— Этим я не страдаю.
— Ну и правильно… Вы к нам на экскурсию? — улыбнулся Войцеховский.
— Увы, по делу. Нет ли у вас возможности узнать на городской телефонной станции, кому принадлежит этот номер телефона? — она протянула ему листок из блокнота.
— Это не проблема, — он снял трубку, позвонил. — Аркадий Петрович у себя?.. Войцеховский из прокуратуры области… Хорошо… Аркадий Петрович? Привет, Войцеховский… Как она, жизнь? Ну и слава Богу… Дельце у меня пустяковое: установить надо, кому принадлежит телефон… — он продиктовал. — Минут через пятнадцать? Жду. — И уже Кире: — Обещал через пятнадцать минут перезвонить. Это начальник абонентного отдела.
— Я буду у себя, — сказала Кира.
— Я вам позвоню…
Позвонил он через полчаса:
— Записывайте, Кира Федоровна: телефон этот принадлежит коммерческому банку «Прима-банк».
— Спасибо…
Через пять минут она уже звонила в банк:
— Будьте добры, мне нужен Вадим, — сказала, когда там отозвался женский голос.
— Какой Вадим?
— У вас что, их несколько?
— А кто спрашивает?
— Знакомая.
— Нет, у нас один драгоценный Вадим Пестерев. Но он уехал на байдарке.
— На какой байдарке?
— Он с друзьями каждое лето уходит на байдарке, когда в отпуске.
— А давно он в отпуске?
— С двадцать третьего июня.
— А когда должен вернуться?
— Слушайте, девушка, что вы мне допрос устроили? — трубку положили.
«Итак, некто Вадим Пестерев, уехал в отпуск через два дня после убийства Гилевского, — механически отметила Кира. — Кто же он, кем работает в банке, почему в кармане пальто Гилевского оказался его номер телефона?..»
Одну за другой Джума обходил нотариальные конторы. И только в четвертой он наткнулся на то, что искал. Старший нотариус, повертев в руках удостоверение Джумы, откровенно сказал:
— Вас только мне не хватало. Вы видели, какая очередь в коридоре?
— Видел. Даже меня к вам пускать не хотели, еле пробился.
— Вам это срочно?
— Конечно, иначе бы просто письменно обратился.
— Хорошо. Можете пойти погулять часок-другой. Это надо искать. Вы ведь даже не знаете, есть ли эта бумага у нас, что за бумага, не знаете, когда сдана нам.
— Я зайду через час-полтора, — покорно согласился Джума, прикидывая, что за это время он успеет сбегать в ОВИР, там будет попроще…
В ОВИРе он прошел сразу к начальнику. Знакомы они не были, но Джума еще с порога достал свое удостоверение и это решило исход дела, потому что начальник, вскинув голову, в упор и недовольно уставился на Джуму, едва тот вошел. Сегодня у него был неприемный день.
— Ты сядь, — сказал он Джуме, выслушав его просьбу, и по внутреннему телефону сказал кому-то: Зайдите ко мне.
Через минуту вошла толстая немолодая женщина в форме майора.
— Валя, поройся у себя, — сказал ей начальник, — поищи Гилевский Модест Станиславович, гостевая поездка. Сдавал ли документы, получил ли и когда?
— Это сейчас нужно? — спросила толстая Валя.
— Да. Это майор Агрба из уголовного розыска, — кивнул он на Джуму.
— Понятно, — Валя вышла.
— Ты себе сиди, майор, а я займусь своими бумагами, — сказал начальник Агрбе, указав на высокие стопки бумаг, паспортов по обе стороны стола.
— Я думал, у нас больше этого добра, — сказал Джума.
— А в приемный день вообще спятить можно. И с каждым надо вежливо, выслушать, осушить слезы… — и он принялся за свои дела, а Джума сидел обок, ждал и тоскливо смотрел в окно, где виднелась верхушка дерева и последний этаж жилого дома.
Ждал он минут сорок, когда вошла Валя и, не глядя на Джуму, доложила начальнику:
— Был такой. Документы по приглашению от некоего Кевина Шобба из США он сдал двенадцатого февраля. Когда они были готовы, послали ему извещение, в мае. Но он пришел и отказался, зря только испортили паспорт. Почему отказался, не помню. Все?
— Спасибо, Валя, — сказал начальник. — Все.
Она вышла.
— Все ясно, — поднялся Джума. — Извини, что отнял время.
Начальник махнул рукой, мол, не ты первый, не ты последний. С этим Джума и удалился…
В нотариальной конторе народу поубавилось — до перерыва оставалось минут двадцать. Старший нотариус пребывал в той же степени любезности, с какой встретил Джуму, но был уже поспокойней, сказал:
— Нашли мы. Гилевский заверил у нас завещание и оставил на хранение. Вот, если угодно познакомиться, — он протянул страничку.
Джума неторопливо читал, чтоб запомнить, ибо понимал, что Паскалову это заинтересует. Прочитав, возвратил нотариусу.
— Будете производить выемку? — спросил нотариус.
— Это уже как следователь решит. Благодарю…
Он шел домой. В прокуратуре был перерыв, Джума не знал, застанет ли Паскалову. Да и есть хотелось. Нади дома не оказалось, ушла куда-то с детьми. Он поочередно открыл крышки кастрюль на плите, полез в холодильник. Нагрел свиные щи с большим куском мяса, на сковородке подогрел вареную фасоль, развел в мисочке польский грибной соус и сел обедать. Во время еды размышлял и пришел к выводу, что в деле Гилевского не очень-то продвинулись, невесело подумал, что еще надо будет отработать восемь фамилий тех коллекционеров, которые дал ему «Сладкий». Восемь человек! Та еще работенка… В коридоре хлопнула дверь, послышались детские голоса. Вернулась Надя.
— У тебя ничего не подгорело на плите? — спросила. — Что-то запах подозрительный.
— Все, что могло сгореть, уже у меня в животе.
Вбежали дети, окружили его.
— Папка пришел!
— У него в животе!
— Па, когда на аттракцион пойдем?..
В СИЗо Скорик ждал, пока приведут Лаптева.
Вошел он в своей аэрофлотской форме. Выбрит, но лицо осунулось, бледен.
Скорик предложил сесть, сказал:
— Я новый следователь по вашему делу. Зовут меня Скорик Виктор Борисович.
Тот молча кивнул.
— Нужно прояснить несколько моментов. Итак, четвертого мая вы посадили в свою машину Олю Земскую?
— Да.
— С какой целью?
— Она попросила подвезти ее в райцентр.
— Зачем?
— Ей надо было сдать деньги в сельпо, а в головном магазине получить товар.
— Вы приехали в райцентр. Что было дальше?
— Мы зашли в головной магазин, я купил себе тюбик крема для бритья.
— Какой?
— «Жиллет».
— И потом?
— Мы попрощались, и я уехал, а она осталась заниматься своими делами.
— Вы что, очень спешили?
— Да. Мне нужно было заехать в отряд. У нас через неделю был рейс в Нью-Йорк. Потом я собирался с приятелем в бильярдную в Дом офицеров.
— В котором часу?
— В пять. Так мы уговорились.
— Вы точно помните, что четвертого мая в головной магазин Рубежного вы заходили с Ольгой Земской и купили там крем для бритья?
— Точно.
— Однако не получается: в тот день ни сельпо, ни головной магазин не работали. Это я проверил сегодня… Как вы объясните это несовпадение?
— Не знаю.
— Вы что, собирались жениться на Ольге?
— Да.
— А вы знали, что она беременна?
— Нет.
— Она могла быть беременна от вас?
— Исключено.
— Значит из Рубежного, попрощавшись с Олей, вы отправились в аэропорт, а затем в бильярдную?
— С бильярдной не получилось. Приятель не смог, у него было какое-то срочное дело.
— Кто этот ваш приятель?
— Вадим Пестеров.
— Чем он занимается?
— Он шофер на инкассаторской машине.
— Итак, вы говорите, что поехали с Земской по ее делам в Рубежное, затем отправились в ресторан, потом повезли ее домой, но по дороге что-то у вас случилось с машиной, уже темнело, вы проголосовав, остановили самосвал, заплатили шоферу, чтоб он довез Земскую до Борщова. Было это в трех километрах от лесопосадки, где затем обнаружили труп Земской. Так?
— Так. Я об этом говорил и предыдущему следователю.
— Не получается, Лаптев: в тот день в Рубежное Земская ехать не собиралась, поскольку знала, что сельпо закрыто и денег она не сдаст. Это, во-первых, а во-вторых, знала, что головной магазин на ревизии, и товар она не получит. Есть этому и еще одно подтверждение: выручка, которую по вашему утверждению она должна была везти в сельпо сдавать, как выяснилось, лежала в целости и сохранности у нее дома.
Лаптев опустил голову.
— У вас есть хороший адвокат, — сказал Скорик. — Можете поведать ему о нашей беседе, — Скорик вызвал конвоира.
Лаптева увели…
Паскалова и Скорик сидели у себя в кабинете, когда вошел Джума. Увидев Скорика, поприветствовал, спросил:
— Ты где пропадал, дорогой?
— По вашей милицейской милости все приходится делать заново. Вы портачите, а мы расхлебываем, — подмигнул Скорик Паскаловой.
— Это не про меня. Правда, Кира Федоровна?
— Еще не знаю, — подхватывая игру, улыбнулась Кира.
— Дай пива, — попросил Джума у Скорика. — Оно у тебя в правой тумбе.
— Смотри, ты действительно сыщик, насквозь видишь. Что, вкусно пообедал?
— Вкусно.
— А пиво заслужил сегодня?
— Если не у тебя персонально, то у прокуратуры вообще — безусловно.
— Так и быть, — Скорик извлек из правой тумбы стола бутылку пива. На.
Джума привычно сдернул крышечку обручальным кольцом, взял стакан, стоявший на сейфе. Выпив, вздохнул, утер губы, уселся возле Паскаловой, спросил:
— Можно закурить?
— В коридоре, — сказал Скорик.
— Да ладно тебе! — Джума все же закурил. — Значит был я и в ОВИРе, и в нотариальных конторах, — обратился он к Паскаловой. — Документы для гостевой поездки в США Гилевский сдавал. В феврале, двенадцатого. Когда они были готовы, он вдруг отказался. Причина неизвестна. В нотариальной конторе номер три имеется его завещание на имя некоей Долматовой Людмилы Леонидовны. Завещано: приватизированная квартира, вся недвижимость, иконы, картины, библиотека. Одним словом — все.
— Почему же он не поехал в Америку? — как бы спросила себя Кира.
Джума пожал плечами.
В это время в кабинет вошла Катя, тихо обратилась к Скорику:
— Витенька, экспертиза готова. Ты обедать придешь?
Паскалова поняла, что это и есть та самая Катя — жена Скорика.
Женщины незаметно, оценивающе оглядели друг друга, прежде, нежели Скорик стал их знакомить. Обе сказали: «Очень приятно».
— Минут через десять я приду, — сказал Скорик.
Ее научно-исследовательская лаборатория судебных экспертиз находилась рядом с прокуратурой, сотрудницы обедали вместе: еду приносили из дому, складывали, кто что принес, в общий котел. Скорик ходил туда обедать, встречали его женщины гостеприимно, подкладывая, как падишаху, самые лучшие и вкусные куски.
Катя направилась к двери, когда она открылась, на пороге возник Щерба.
— Иду по коридору и вдруг слышу милые голоса, дай-ка, думаю, загляну, послушаю, о чем щебечут, — Щерба, держа в руках папку с надписью «Надзорное производство», посторонился, пропуская Катю, прислонился к дверному косяку. — Какие радостные новости, господа? — обратился он сразу к обоим — к Кире и Скорику, затем уточнил: — Что у вас, Виктор Борисович?
— Все врал, врал с косвенной помощью следователя. Я его поймал на лжи. Я почти не сомневаюсь, что это он убил девушку.
— А мотивы?
— Она была беременна. Плел мне, что довез ее до райцентра, там она осталась, а он поспешил сюда, якобы по каким-то делам в авиаотряде, а затем должен был встретиться с приятелем, неким Пестеревым, условились поиграть на бильярде.
— Хорошо, дожимайте его, шеф торопит… Что у вас, Кира Федоровна? спросил Щерба.
— Хотелось бы подвести скромный итог, — сказала Кира.
— Заходите через час ко мне, позовем Войцеховского, послушаем ваши новости, — Щерба вышел.
Едва он вышел, Кира обратилась к Скорику:
— Виктор Борисович, вы только что упомянули фамилию, которая меня заинтересовала, — взволнованно сказала Кира.
— Какая, чья?
— Приятель вашего подследственного — Пестерев?
— Чем этот Пестерев заинтересовал вас?
— Не знаю, этот ли, но в моем тоже возник Пестерев Вадим.
— Забавно… Кто же он, ваш Пестерев?
— Знаю, что работает в банке.
— Тогда это одно и то же лицо. Мой — шофер на инкассаторской машине. В связи с чем у вас возник Пестерев?
— В кармане пальто Гилевского Джума обнаружил обрывок от календаря, там было написано «Вадим» и номер телефона. Войцеховский установил, что это телефон банка. Я позвонила, мне сказали, что у них есть Вадим по фамилии Пестерев. Сейчас в отпуске.
— Надо подумать: кому он нужнее: вам или мне…
Сидели вчетвером в кабинете Щербы: он, Войцеховский, Паскалова, Джума и Скорик.
Докладывала Кира. Она немного нервничала, лицо пошло красными пятнами, время от времени убирала падавшую на глаза прядь волос, утирала пот со лба. Когда закончила, Щерба спросил у Скорика:
— Этот Пестерев вам очень нужен, Виктор Борисович?
— Допрошу, но не думаю, что это изменит ситуацию.
— Тогда отдадим его Кире Федоровне… Вы можете идти, Виктор Борисович, — и Кире: — Вы попытались связаться с Пестеревым?
— Он в отпуске.
— Джума, — обратился Щерба к Агрбе, — надо найти Долматову, которой все завещано. Это очень важный пункт. И тогда уже Кира Федоровна встретится с нею для обстоятельного разговора.
— Кира Федоровна, — подал голос Войцеховский. — Непременно задайте ей вопрос, знала ли она, что Гилевский собирался в Америку и почему не поехал. Человек, к которому наследователь так щедр, судя по завещанию, должен состоять в очень близких отношениях с ним.
Кира согласно кивнула.
— Теперь дальше. Письмо Гилевскому из США от какого-то Кевина Шобба. Прочтите-ка его нам, Кира Федоровна.
Кира взяла перевод, сделанный в «Интуристе»:
«Уважаемый мистер Гилевский! Во-первых, посылаю приглашение. Рад буду встретить вас. Во-вторых, то, о чем мы договорились, остается в силе. Все теперь будет зависеть от вас. Я предвижу большой успех, готов вложить в это дело необходимые средства. Форма вашего вклада вам известна. С уважением Кевин Шобб. Филадельфия. 15 января». — Кира умолкла.
— Тут, что ни фраза — загадка. Кто такой Кевин Шобб? В какое «дело» он готов вложить «необходимые средства»? Смотрите: «необходимые»! Это можно понимать, как «любые». Форма же вклада Гилевского, надо понимать, в то же «дело» была Гилевскому известна.
Анкету в ОВИР он сдал почти через месяц после того, как Шобб написал письмо. Шло оно сюда допустим недели три, как минимум. Гилевский сдал документы в ОВИР немедленно, едва получил письмо, — произнес Джума.
Затем почему-то оказался от поездки и вновь согласился после того, как Кевин Шобб выдвинул его в качестве официального эксперта в связи со скандалом на аукционе, — сказала Кира. — Почему? Кто этот Шобб?.. — она развела руками. — Может быть теперь к этому письму логически подверстывается и запись Гилевского на формулярной карточке: «Затея проста по замыслу, сложна по исполнению. Его надо убедить, что мое согласие лишено любых меркантильных помыслов»? — сказала Кира. — Не Шобба ли он собирался убеждать в простоте какой-то их общей затеи, но в сложности ее исполнения?
— В этом есть резон, — заметил Щерба. — Ищите, Кира Федоровна, тут недостающую связку.
— Она может оказаться в самом конце расследования, — засмеялся Джума.
— Ты, пессимист, не нагоняй страхов, — сказал Щерба.
— Теперь персоналии, добытые Агрбой, — продолжала Кира. — Читать?
— Давайте, чего уж тут, пройдемся по всему фронту, — сказал Щерба.
— Это список людей, которые известны человеку Агрбы, маклеру, как собиратели антиквариата. Разумеется, он возможно, не полный, но во всяком случае внушительный. Много их, думаю, в городе быть не может, это не ларешники со «Сникерсами». Итак: профессор медицины Иван Севастьянович Бруевич, собирает только старинные шахматы; скульптор Огановский Борис Никитич — восточная резьба по кости; художник-реставратор Манукян Давид Ованесович — старые офорты, в основном на библейские темы; Жадан Святослав Юрьевич, кандидат искусствоведения, сотрудник Фонда имени Драгоманова интересуется бронзовым литьем до XX века; пианистка, лауреат международных конкурсов Надежда Николаевна Всесвятская — ее интересы ограничены нотами храмовой музыки XVII–XIX веков, понятно, оригиналами; Павел Павлович Клюев, генерал в отставке, собиратель старинной мебели; Чаусов Алексей Ильич собирает дореволюционные и современные публикации о Фаберже и Диомиди, кандидат искусствоведения, сотрудник Фонда имени Драгоманова. И, наконец, Вяльцева Клавдия Васильевна, художник-модельер из Дома моделей, увлечена собиранием старинных кружев и бисерным шитьем, — Кира отложила бумажку.
— Солидный списочек, — покачал головой Щерба, — но отрабатывать его надо. Как вы собираетесь это делать?
— Я бы посоветовал по возрастному цензу, по каким-то другим признакам, чтоб просеять, кого-то отбросить, — сказал Войцеховский.
— Я тоже так думаю, — согласилась Кира. — Тут, видимо, Агрбе придется помочь мне с минимальными анкетными данными этих людей.
«Ну да, я же совсем безработный», — Агрба усмехнулся про себя.
— Что еще у вас, Кира Федоровна? — спросил Щерба.
— Пожалуй, все… Есть, правда, копия докладной Гилевского на имя директора музея. Но это сугубо служебный документ.
— Прочитайте-ка, — попросил Щерба.
— Я ее даже к делу не приобщала, — из отдельной папки она достала страницу, прочитала: «…Отмечать 100-летие со дня рождения Диомиди безусловно надо, однако издание юбилейного сборника о нем считаю нелепой затеей. Что в нем можно опубликовать, кроме выдумок Чаусова, если у нас ничего не существует? Ни переписки, ни дневников…»
— Думаю, эту бумажку можно похерить. Сейчас во всяком случае, сказал Щерба. — Она только будет путаться под ногами.
— Фамилия Чаусов есть в списке собирателей антиквариата, который добыл Джума, — заметил Войцеховский. — Там он фигурирует, как собиратель публикаций о Фаберже и Диомиди.
— Ладно. На этом закончим, — сказал Щерба.
Кира и Джума вернулись в ее кабинет.
— Джума, у нас восемь человек в списке, которых вам надо искать. Кроме того, нужно установить, кто такая наследница — Людмила Леонидовна Долматова. Поэтому я предлагаю еще раз пройтись по списку, отсеять какие-то фамилии вообще, затем кого-то поставить в первую очередь, а кого-то во вторую, — сказала Кира.
— Сразу же можно отодвинуть двоих — женщин: Вяльцеву и Всесвятскую, согласился Джума.
— В первую очередь мы поставим Жадана и Чаусова — оба кандидаты искусствоведения, работают в Фонде имени Драгоманова. А ведь это тоже музей, только называется Фондом. Затем скульптор Огановский, художник-реставратор Манукян. Я иду по близости их профессий к Гилевскому. И в последнюю очередь можно поставить генерала в отставке Клюева и профессора Бруевича, он доктор медицинских наук, если мне не изменяет память, заведует кафедрой сосудистой хирургии. Полагаю и Клюев, и профессор — люди в возрасте. А нам сперва нужны те, кто помоложе. Вы меня понимаете?
— А что ж тут не понимать? Беготни хватит.
— Что поделать, — смутилась Кира. — Такая у нас с вами профессия.
— Дай Бог до пенсии дожить.
— Доживем, Джума. Мне ведь больше, чем вам осталось.
— Ладно, не будем подсчитывать…
7
В субботу в семье Щербы завтракали обычно поздно, он позволял себе поспать лишний час. В эту субботу у них ночевал старший внук: у младшего начался грипп, подхватил в садике, поэтому, чтоб уберечь старшего, дедушка с бабушкой забрали его к себе.
— Не шуми, — все время одергивала жена Щербу, — дай ребенку поспать…
Щерба побрился новым станком «Шик», который ему подарили сын и невестка в день рождения. Потом завтракали втроем. Затем Щерба спустился в подъезд вытащить из почтового ящика газеты.
— Дед, иди ко мне, — позвал внук из другой комнаты.
Щерба вышел.
— Посиди со мной, — попросил мальчик.
— Что мы будем делать? — спросил Щерба.
— Давай поговорим.
— Давай, — согласился Щерба.
Оба умолкли.
— Почему же ты не говоришь, я жду, — сказал внук.
И Щерба с тоской подумал, что не знает, о чем говорить с мальчиком. Он готов был отвечать на вопросы, но не быть лидером в разговоре с ребенком. «Сукин ты сын, Миня», — сказал он себе, а внуку вдруг предложил:
— А что если мы пойдем с тобой в город?
— И в магазины?
— Можем и в магазины. Иди к бабушке, пусть оденет тебя…
В центр города они пошли пешком. Мальчик останавливался у каждого ларька с богатым ассортиментом жвачки, шоколадок, напитков. Потом пошли в магазин игрушек. К жвачке и шоколадке «Марс» прибавилась заводная машинка-модель. Погода была хорошая, и они проболтались по городу почти два часа…
— Пойдем на трамвай, устал, небось, — предложил Щерба.
— Пойдем, — согласился внук.
Они ждали трамвая. Рядом находилась центральная гарантийная часовая мастерская. Щерба прошелся вдоль больших окон-витрин, сквозь которые были видны столы мастеров и их склоненные головы с зажатыми в одном глазу лупами. И тут в одном из мастеров он, хотя и с трудом, узнал Арончика. Надо сказать, что Щерба, всю жизнь проживший в этом городе, имел постоянного сапожника, парикмахера, слесаря-сантехника и часового мастера. Арончика он знал уже более тридцати лет. Сейчас тому было, наверное, далеко за семьдесят, с молодых лет его все звали не по фамилии, которую, возможно, и не ведали, ни по отчеству, а просто — Арончик. «Часы остановились, уронил вчера», — говорил иногда кто-нибудь из сотрудников или знакомых. «Сходи к Арончику, мастерская на углу Первомайской. Скажи, что от меня», — советовал в таких случаях Щерба.
Он постучал в витрину, старик поднял голову, увидел, узнал, жестом показал — зайди, мол. Вместе с внуком они вошли в мастерскую. Арончик подошел к ним.
— Маленький прокурор, — кивнул старик на мальчика.
— Не дай Бог, — засмеялся Щерба. — А ты все еще работаешь? Глаза поберег бы.
— Уже беречь нечего. Я на пенсии давно, но дома сидеть не могу. А тут за столом из окна людей видишь, суету. А ты как, прокурор?
— Что я? Тоже ведь уже пенсионер, и тоже вкалываю.
— Тоже мне пенсионер! Мальчишка! Я ведь старше тебя лет на пятнадцать. Никого из старых мастеров не осталось. Ни портных, ни ювелиров, ни часовых мастеров, ни скорняков. Все разъехались — одни в Америку, другие в Израиль, третьи на тот свет, — он вздохнул.
И тут мелькнула какая-то мысль, и Щерба спросил:
— А где Канторович?
— Лейба? В Израиле, в Хайфе.
— Жив?
— Жив. Второй инфаркт перенес. Он старше меня на восемь лет.
— Пишет?
— Редко… Ах, какой мастер был! Художник!
— Арончик, у тебя адрес его есть?
— Конечно, переписываемся ведь. Хочешь написать?
— А почему бы нет!
— Правильно, старому еврею приятно будет, — одобрил Арончик, не зная, какая мысль засверлила Щербу. — Я адрес тебе дам, прокурор, у меня тут в ящике его последнее письмо, ребятам читал, подожди минутку. — Он ушел в подсобку, где висел пиджак, и вернувшись, протянул Щербе конверт. — Будешь писать, сообщи, что адрес его тебе дал я.
— Хорошо. Ну, будь здоров, Арончик. Рад был повидать.
— Заходи почаще, поболтаем. А то когда-нибудь придешь, спросишь Арончика, а тебе скажут: «Арончик?! Так он уже год, как на еврейском кладбище поселился…»
Вечером, когда ребенка накормили-напоили, искупали, Щерба сел к письменному столу, достал лист бумаги и задумался, словно брал разгон. «Риску никакого, — уговаривал он себя. — Ну, не ответит, или вообще затея моя дурацкая. Что потеряю? Истрачусь на почтовые расходы?» Он хорошо помнил Льва Исааковича Канторовича. Это был самый опытный, самый знающий, самый старый в городе ювелир. Воистину художник, как говорят, золотых дел мастер. Попасть к нему можно было только по блату, он не брался за что попало, а только за ту работу, которая приносила наслаждение, как живописцу, ловящему и поймавшему вечно ускользающий зеленый луч. Много лет прокуратура приглашала Канторовича, когда требовалась квалифицированная экспертиза. Щерба знал его, пожалуй, не меньше четверти века…
«Уважаемый Лев Исаакович! — начал писать Щерба. — Пишет Вам Миша Щерба из прокуратуры. Надеюсь, не забыли меня, хотя прошло много лет, как мы не виделись, за это время я стал пенсионером, однако еще работаю, тяну лямку, иначе дома от безделья можно досидеться до умопомрачения. Адрес мне Ваш дал Арончик, просил кланяться, последнее Ваше письмо он получил. О нашей жизни распространяться не буду, полагаю, что из писем, которые вы получаете не от одного Арончика, представление о ней имеете. Буду честным, пишу Вам с некоторым шкурным расчетом, поскольку специалистов Вашего класса уже не осталось. У нас в прокуратуре сейчас появилось одно дело, упоминается в нем американский ювелир Кевин Шобб. Если вы что-либо слышали о таком, хотелось бы получить от Вас подробную информацию о нем, может она нам чем-либо пособит, поскольку речь, между нами говоря, идет об убийстве человека, работника одного из музеев. Буду Вам очень признателен. Здоровья Вам и благополучия. Искренне Ваш М.Щерба. Вот мой адрес…»
Закончив писать, Щерба перечитал, вставил две пропущенные запятые и подумал: «Да жив ли он? Ведь перенес два инфаркта, а ему за восемьдесят. Впрочем, что теряю», — утешил он себя, достал конверт, вложил письмо, провел языком по полоске клея и запечатал…
8
День был жаркий. Как обычно, в субботу на барахолке народу была тьма. В толчее, в беспорядочности, в верчении толпы трудно было понять, кто продавец, а кто покупатель. Но это для неопытного взгляда, а для тех, кто посещал барахолку систематически, тут был свой порядок: обувью торговали в одном месте, запчастями для автомашин — в другом, куртками — в третьем, всякой печатной продукцией — в четвертом, прочим хламом, старьем, разложенным прямо на земле, на газетах — в пятом.
Они ходили почти регулярно на барахолку первую и последнюю субботы месяца — кандидат искусствоведения Святослав Юрьевич Жадан и кандидат искусствоведения Алексей Ильич Чаусов. Оба — ровесники, коллеги, оба работали в Фонде имени Драгоманова. И оба страстные собиратели. Было им по сорок два года.
Встретились на конечной трамвайной остановке, дальше пошли вместе — в гору к стадиону, вокруг которого и кипела барахолка.
— Помнишь, я купил в мае бронзовый светильник в виде фигуры атлета со светильником в руке? — спросил Жадан. — Я все же нашел в каталоге, что это такое. Оказалось Петербург, 1912 год. Мне предлагают за него бронзовые часы: кусок черного гранита, внутрь вделаны часы, внизу бронзовое ложе, на нем Хроном, указующий перстом на циферблат. Середина XIX века.
— Будешь меняться? — спросил Чаусов.
— Хочется, конечно заиметь такую вещицу. Но ты же знаешь мой принцип: менять только дубли. А так — какой смысл? Приобретаешь одно, теряешь другое.
— Почему ты не пошел на поминки?
— У меня была лекция, две пары в институте декоративного и прикладного искусства. Народу много было? — спросил Жадан.
— Нет. Вообще странные похороны. Я полагал, у старика при огромной известности должен быть соответствующий круг знакомых. А там человек двадцать было: музейные и несколько наших, — сказал Чаусов. — Один автобус даже оказался лишним.
— Видно, он всем хорошо досадил. Мерзкий характер, гордыня, деспотичный.
— Да уж… Следствие ведет какая-то молодая особа. Мне Ребров сказал.
— Ни рыба, ни мясо, этот Ребров, — заметил Жадан.
— Да нет, он мужик неплохой, не злобный во всяком случае, — заметил Чаусов. — Да, следствие сейчас начнет загребать широко, потянут допрашивать всех, кто хоть краем имел дело со стариком. И нас с тобой тоже могут.
— От нас толку мало, — сказал Жадан, — мы с тобой можем придумать себе алиби, — засмеялся он.
— Какое? — спросил Чаусов.
— В тот день, в то время мы были с тобой вместе.
— И где же мы были? — спросил Чаусов.
— Скажем, на выставке старинной мебели в историческом музее, засмеялся Жадан.
— Неплохо, — ответил Чаусов, увлеченный этой игрой. — Итак, мы созвонились за день и условились около шести вечера встретиться у музея. Осмотрели выставку и…
— И пошли ко мне смотреть мою новую бронзу. И сколько мы пробыли у меня?
— Скажем, до девяти вечера, — ответил Чаусов.
— А кто из нас кому звонил с предложением сходить в музей? — спросил Жадан.
— Я смотрю, ты уже вошел в роль следователя, — улыбнулся Чаусов. Скажем, я тебе звонил.
— Откуда? — спросил Жадан.
— Из дому.
— Плохо. Банально, — ответил Жадан. — Давай так: вечером ты ходил за хлебом, была очередь, рядом телефон-автомат, ты отошел, позвонил мне и мы уговорились на завтра.
— Нелогично, гражданин Жадан. Вы с гражданином Чаусовым работаете в одном музее, в одном помещении. Почему же днем тогда не договорились.
— Гражданин следователь, в тот день я Чаусова не видел, у меня четверг творческий день. Я не работал в музее. А был в институте: отчитал три пары, — Жадан, пригнувшись, хохотал, держась за живот…
Они поднялись к стадиону, перед ними открылась толпа, она колыхалась, шевелилась как муравейник. Тут они расстались, уговорившись через полтора часа снова встретиться у конечной остановки трамвая. Каждый знал место, где ему может пофартить с каким-нибудь приобретением. Места эти находились в разных сторонах.
Жадан брел вдоль ряда, где на газетах, расстеленных прямо на земле, лежало всякое старье, «хлам», как он называл: гаечные ключи, бронзовые вентили, смесители, набор надфилей, паяльные лампы, подсвечник, снятый с пианино, кавказский рог для вина…
— Эй, сэр, купите мешок бронзы, — окликнул Жадана бородатый мужчина лет сорока пяти.
Жадан оглянулся, увидел улыбающегося скульптора Бориса Никитича Огановского.
— Привет, Боря!
— Здоров!
Пожали друг другу руки.
— Нашел что-нибудь? — спросил Огановский.
— Ни черта нет сегодня, сплошной хлам. А ты?
— С тем же успехом.
— Я тебе давно говорил, из резной кости ты найдешь все, что захочешь, в Таиланде, в Сингапуре. Вот, куда тебе надо. Или в Бирму.
— Если финансируешь, съезжу…
— А где господин Чаусов?
— Промышляет в кучах макулатуры.
— Дался ему этот Диомиди!
— Не скажи, — возразил Жадан. — На Фаберже и Диомиди можно еще и докторскую состругать.
— На кой она хрен нужна теперь? — пожал плечами Огановский.
— Тоже верно. Однако он собрал уже хорошую библиотеку публикаций.
— Куда потом собираетесь?
— Домой.
— Поехали ко мне в мастерскую, покажу новую работу, есть бутылка коньяка.
— Что нам одна бутылка! — подмигнул Жадан.
— Найдем еще одну.
— Тогда через сорок пять минут встречаемся у конечной трамвайной, сказал Жадан…
Встретились точно, не ждали, не искали друг друга… Двумя трамваями добрались в другой конец города. Там на пустыре, который был выделен под застройку для Союза художников, уже торчало несколько домов-мастерских. Дом Огановского был двухэтажный, со стеклянным куполом, внутри вдоль стен переходы, лестница на второй этаж. Центр же был свободен, пустота его шла до самого купола. Тут можно было разместить фигуру любой высоты. Такая фигура — всадник на лошади с булавой — еще не в материале, а в сырой голубовато-серой глине поверх каркаса, была прикрыта мокрой тряпкой, а поверх целлофаном…
— Для кого ты этого скакуна делаешь? — спросил Чаусов, обходя скульптуру вокруг.
— Заказали для одного города, — уклончиво ответил Огановский. — Когда будет готов, скажу. Я ведь суеверный, все расскажешь, а потом, глядишь, заказчик откажется платить…
Выпивать они устроились за большим самодельным столом. Огановский открыл шпроты, банку огурцов, банку томатного сока, нарезал колбасы.
— Закуска как раз для коньяка, — засмеялся Жадан.
Бутылку они выхлестали быстро, незаметно, под треп. Принялись за вторую, но Жадан отказался пить:
— Не хватит ли, мужики?
— Сам же нарывался на вторую, — сказал Огановский. — Как хочешь, а мы с Алешкой еще врежем. — Что ты купил на барахолке? — спросил он у Чаусова.
Тот показал им пожелтевший от времени, затрепанный журнал «Вал». Это был литературно-художественный альманах, изданный в Харбине в 1922 году. В нем небольшая публикация «Судьба Диомиди в большевистской России».
— Что ж, давай за такое приобретение еще по одной. — А как на похоронах выглядела наша матрона Долматова?
— Поплакала, — сказал Жадан.
— Крокодиловы слезы, — буркнул Чаусов.
— Не скажи, это для нее потеря, — возразил Жадан.
— Ничего, к ней не зарастет народная тропа, — усмехнулся Огановский. — Я однажды отдыхал с нею в Доме творчества художников. Шутя полез к ней, она тут же купальник принялась стаскивать.
— Да ну ее к черту! — отмахнулся Чаусов.
— Кто же и за что все-таки убил старика? — спросил Огановский.
— Кто знает? Ищут, — сказал Жадан.
— Это начнут тягать всех, кто с ним мало-мальски имел дело, — сказал Огановский. — И вас пригласят.
— У нас с Алешей уже алиби есть, — засмеялся Жадан.
— А как же! У нас все есть, — пьяно дернул головой Чаусов…
Они просидели еще час, вторую бутылку не осилили, выпили по две чашки крепкого кофе и разошлись…
К вечеру в понедельник Джума уже знал: Жадан Святослав Юрьевич, сорока двух лет, сотрудник Фонда имени Драгоманова, женат, адрес: улица академика Сахарова, 8, квартира 4; Чаусов Алексей Ильич, сорока двух лет, разведен, сотрудник Фонда имени Драгоманова, адрес: улица Гончарная, 31, квартира 10; Огановский Борис Никитич, сорока пяти лет, женат, член Союза художников, скульптор, проживает по улице Заньковецкой, 26, квартира 2; Манукян Давид Ованесович, тридцати девяти лет, женат, член Союза художников, художник-реставратор, адрес: улица Софьи Перовской, 91, квартира 34; Долматова Людмила Леонидовна, тридцати девяти лет, в разводе, заведующая отделом в музее этнографии и художественного промысла, проживает по улице Саксаганского 12, квартира 4.
Это было полдела, даже не полдела, а четверть. Теперь надо отлавливать участковых, получить от них какую-нибудь информацию. Хорошо, если участковый добросовестный, толковый, а не какой-нибудь бездельник, ошивающийся в подсобках магазинов.
Он принялся обзванивать участковых. Троих поймал на месте, двое отсутствовали. На следующий день Джума созвонился и с этими двумя. В сущности два дня Джума убил на встречи и беседы с участковыми. Результат по пятибалльной системе можно было оценить в единицу. Но и единица для Джумы была цифрой о чем-то говорящей, а именно о том, что, по словам участковых, интересовавшие Джуму люди были обыкновенными гражданами, одни приветливо-словоохотливы с соседями, другие вежливо-сдержанные, никаких жалоб со стороны соседей, ни пьянок, ни драк, ни частых шумных сборищ. Может и не ангелы, но никому не досаждают. Джума понимал, что подобная информация, наверное, разочарует Паскалову, но не станет же он городить небылицы. Как есть, так и есть, дальше пусть копает сама…
В дверь постучали.
— Войдите, — сказала Кира.
На пороге возникла высокая женщина, крупная, но ее нельзя было назвать полной, все выглядело пропорционально росту, лишь немного обозначился второй подбородок; лицо смуглое, черный разлет больших бровей над красивыми темно-карими глазами, большой рот, четко очерченные губы с едва заметным темным пушком по краям, открытый чистый лоб, смоляные волосы туго оттянуты к затылку. Одним словом, женщина броская.
— Я Долматова, — спокойно сказала она. — Вызывали?
— Заходите, садитесь, Людмила Леонидовна, — предложила Кира.
Долматова села. Дорогую кожаную сумку, большую, под стать хозяйке, поставила у ног.
— Я веду дело по убийству Гилевского, — сказала Кира. — Естественно, хочу познакомиться с ближайшим его окружением.
Долматова посмотрела на нее так, словно удивилась: такая молодая и вроде неприметная женщина, а занимается убийством, и спросила:
— Чем я могу быть полезна?
— Пока не знаю, — улыбнулась Паскалова.
— Кто же его убил и за что?
— Этого тоже еще не знаем.
— Но хоть какие-то подозрения у вас есть?
— Выясним, — неопределенно ответила Кира. Ей не понравился напор Долматовой, словно перехватывавший инициативу. — Поэтому хочу поговорить с вами, — и не делая паузы, удерживая нить разговора в своих руках, продолжила: — Как давно вы знали Гилевского?
Долматова бросила взгляд на Кирину зажигалку «Клиппер», лежавшую на столе, спросила:
— Вы курите? Разрешите мне закурить?
— Курите. — Кира протянула ей сигареты и зажигалку.
Когда Долматова вытаскивала сигарету из пачки, Кира отметила: узкая ладонь, тоненькие, изящные, ухоженные пальцы как-то не очень соответствовали крупной фигуре Долматовой. Закурив, Долматова сказала:
— Мы были знакомы с тех пор, как я пришла работать в музей. Пятнадцать лет.
— А кем вы работаете, Людмила Леонидовна?
— Заведую отделом иудаики.
— Вы хорошо знали Гилевского?
— Естественно. Пятнадцать лет достаточный срок.
— Что бы вы могли сказать о нем?
— Прекрасный человек. Настоящий специалист, таких знатоков своего дела немного.
— По роду службы вы часто бывали в отделе фондов, которым он руководил?
— По мере надобности.
— Беспрепятственно с его стороны?
— Какие же могут быть препятствия, если этого требует работа?
— А каковы у него были взаимоотношения с другими сотрудниками?
— Вы полагаете, что я исключение?
— Не полагаю, а предполагаю.
— На каком же основании?
— Ваши отношения с ним ограничивались лишь совместной работой в одном учреждении? Простите, если вопрос покажется вам бестактным, но все, чем я занимаюсь, — это только, кто и за что убил Гилевского, ни больше, ни меньше.
— Можно сказать, ограничивались, хотя досужих вымыслов хватало.
— Вы замужем, Людмила Леонидовна?
— Нет. Но этого хватало для сплетен.
— Возможно, не только этого.
— Что вы имеете в виду? — Долматова осанисто выпрямила спину и шею.
— К этому мы еще вернемся, — сказала Кира. — У него были враги?
— Естественно, как и у всякого человека, который не терпит бездельников и бездарей.
— Кто же конкретно, и на какой почве он враждовал?
— В каждом случае кто-нибудь конкретно. Все-таки он проработал в музее свыше сорока лет, а за это время всякие стычки бывали.
— И все-таки, может был кто-то, с кем у Гилевского была постоянная вражда?
— Нет. Он был незлопамятен.
— Может не он, а кто-то был злопамятен?
— Обычно это не афишируют.
— Ну хорошо, — Кира поняла, что Долматова почему-то хочет обойтись без фамилий. — Вы бывали у него дома?
— Редко. Что вы имеете в виду?
— Разве характер ваших добрых отношений исключал ваши визиты к нему и его — к вам?
— Давайте без обиняков, — резко сказала Долматова.
— Если вам угодно. Вы знаете, что есть завещание, по нему все завещано вам?
— Нет, не знала, — смуглое лицо Долматовой пошло красными пятнами, лоб завлажнел, она наклонилась, чтоб взять из сумки платок.
«Тут ты по-моему лжешь, — подумала Кира. — Ты не родственница ему, подобные завещания оставляют не случайно. Старик, наверное, был влюблен. И ты разогревала его своим пышным телом. Тут платонической любви было недостаточно».
— Вот я и объявила вам: вы наследница всего его имущества. Даже приватизированной квартиры. А у вас большая квартира?
— Однокомнатная.
— Людмила Леонидовна, как женщина женщине, скажите вы были близки с Гилевским? — Кира не хотела упустить момент ее растерянности.
— Да. Вас это удивляет? Разница в возрасте: мне тридцать девять, ему шестьдесят девять.
— Нет, почему же, такое случается. Обаяние, опыт, интеллект Гилевского — сильное оружие. Он был обаятельный человек?
— Для меня да.
— Так вы знали о завещании?
— Знала.
— Как он объявил вам об этом?
— Просто. Сказал: «Я завещаю все тебе».
— А вы?
— Сперва растерялась.
— Вы кого-нибудь подозреваете в его убийстве?
— Нет, — она отвела взгляд, и Кира интуитивно почувствовала, что и это ложь, но не могла понять — зачем она лжет, что-то в этом было противоестественное, скрытое, тайное. Если убит любимый человек, нормально было бы назвать того, кого подозреваешь.
— Давайте договоримся так. Делом этим занимаюсь не только я, но и люди поопытней моего. Докопаемся, уверяю вас. Поэтому вы на досуге подумайте о том, что вы мне по каким-то причинам не сказали, утаили, чтоб потом вы не чувствовали себя неловко и, скажем, неблагодарно по отношению к убитому. Вы поняли меня, Людмила Леонидовна?
— Надеюсь, поняла. Я могу идти?
— Разумеется.
— До свидания.
— Всего доброго…
Всех пятерых Кира вызвала на один день на разное время, чтоб они не встретились друг с другом в прокуратуре.
Следующим был художник-реставратор Давид Манукян — невысокий плотный чернявый человек, в джинсах и в хорошей джинсовой рубашке с закатанными рукавами, из которых высовывались волосатые руки с сильными кистями…
— Давид Ованесович, в связи с убийством Гилевского у меня к вам несколько вопросов.
— Задавайте, — он пожал плечами.
— Вы знали Гилевского?
— Знал визуально, но знаком не был.
— Вы коллекционер?
— В первую очередь я художник-реставратор.
— Картин, икон?
— Нет, витражей. Я не только реставрирую, но и делаю витражи.
— Неужели на это есть спрос?
— Представьте себе. Ремонтируются старые церкви и костелы, в которых семьдесят лет были склады. Многие прекрасные витражи искалечены, строятся новые церкви. Так что нужда во мне есть, — он улыбнулся.
— А что вы коллекционируете?
— Офорты. На библейскую тему.
— В отделе, где работал Гилевский, было что-нибудь, что могло бы интересовать таких собирателей старины, как вы?
— Естественно. Там богатые фонды, многое в запасниках, никогда не выставлялось. Но доступа туда не было.
— Почему?
— Гилевский, как я наслышан, был цербер.
— А где вы были?.. — она назвала день и приблизительное время убийства Гилевского.
— Я вас понял, — снова улыбнулся он, на какое-то мгновение задумался, затем сказал: — У меня небольшая мастерская, четыре помощника. В этот день и в это время у меня как раз был священник, отец Даниил из церкви в Васильковичах. Церковь новая, только построили. Нужны витражи. Он приехал заказывать, поговорить о цене. Все это вы легко проверите.
— У вас нет каких-нибудь личных соображений о мотивах убийства, может, они сложились из ваших разговоров с другими собирателями старины?
— Знаете, я от музея очень далек. Услышал, что убили старика, посожалел, разумеется, и забыл. Есть свои заботы и своя работа. Так и другие реагировали, кто не был с ним знаком, а лишь понаслышке.
— Собирательство тоже подвержено моде. Что сейчас особенно в моде?
— Мода бывает у дилетантов. Профессионалы не изменяют своим привязанностям.
— Вы хотите сказать, что искать нам надо среди дилетантов?
— Искать надо всюду, — нахмурился он. — На все есть нынче цена, кроме человеческой жизни. Вы бывали в Ереване, в Матенодаране?
— Нет, только слышала.
— Там бы вы поняли, почему уходя оттуда, люди думают не о том, как бы заиметь что-нибудь из увиденного, а о том, что можно принести туда из дому, что достойно быть сохраненным на века, — он посмотрел на нее почти черными умными глазами и вдруг сказал: — Нет, я не убивал Гилевского.
— Я вас не подозреваю, — сказала Кира.
— Напрасно. Сегодня надо подозревать всех и всякого, время такое, дикое. Приходите посмотреть мои витражи и коллекцию офортов, я храню ее открыто в мастерской.
— Чтобы понять, почему вы не могли убить? — улыбнулась Кира.
— И для этого тоже…
«Каждый будет приводить доводы, почему не смог бы убить. Но кто-то же убил, — с грустью подумала Кира, когда Манукян ушел. — А не вожусь ли я с ними зря. Может убийца из другого мира?»
Она понимала, что ей предстоит всем им задавать почти одни и те же вопросы. Опыт сотен следователей на протяжении десятилетий выработал много стереотипов, без которых было не обойтись. Кто-то когда-нибудь и после нее, Киры Паскаловой, будет задавать те же вопросы, но в других обстоятельствах, однако следуя стереотипам взаимоотношений и поведению допрашивающего и допрашиваемого…
На предложение «садитесь», Жадан сострил:
— Уже? Но мне еще не ясно, за что, — невысокий, худощавый, юркий, он хохотнул, отодвинул от стола стул, уселся, откинулся на спинку, скрестил руки на груди. Из-под натянувшегося рукава проглянула татуировка: сфинкс. Он поймал взгляд Киры и сказал: — Грехи отрочества, но исполнено неплохо, — чуть повыше приподнял рукав, демонстрируя татуировку. — Не правда ли?
Кире он не понравился: то ли бравада, то ли хамоватый, не понимает, куда и зачем пришел.
— Это меня мало занимает, — резко сказала она. — Коснемся другой темы.
— Убийства Гилевского?
— Вы догадливы, Святослав Юрьевич.
— Получив ваше приглашение, я не долго ломал голову, чтобы это значило. Итак, «их бин ганц ор», т. е. «я весь внимание».
— Это хорошо, — ухмыльнулась Кира. — Как давно вы знали Гилевского?
— Лет восемнадцать, с момента моего прихода в музей.
— Гилевский и тогда уже был в зените славы?
— Еще как! Я поклонялся его тени. Непререкаемый авторитет! Надо заметить — справедливо. Поколение таких, как он, уже почти вымерло: интеллигентны, образованны!
— Что из себя представляет музей?
— Богатейший. И наука там на уровне. А фонды! Когда-то это были спецфонды. За ними приглядывало КГБ. Входить туда простым смертным ни-ни! Потом исчезло КГБ. Фонды вроде открыли. Но в жизни, как известно, круговорот не только воды в природе. Место КГБ занял Гилевский, не по должности, по призванию. К середине восьмидесятых музей стал неуправляем, было принято решение разделить его: на музей этнографии и художественного промысла и Фонд имени Драгоманова. Он по сути тоже музей, но со своей картинной галереей, со своими фондами и отделом рукописей, с библиотекой редкой книги.
— Почему вы перешли из музея в Фонд?
— Когда произошел раздел, одни ушли добровольно в Фонд, других «ушли» по желанию администрации.
— А вы?
— Я добровольно. Поскольку я еще и преподаю в институте декоративного и прикладного искусства, специфика моей работы ближе к специфике Фонда.
— Гилевский участвовал в этих кадровых перестановках?
— Надо полагать, с ним, как с мастодонтом, советовались. Самое смешное, что при всех сменявшихся директорах музея в сущности директором всегда являлся он, он умел подмять под себя всех.
— А были ли люди недовольные, что их перевели из музея в Фонд?
— Немало. Но к нынешнему времени одни умерли за эти годы, другие ушли на пенсию, третьи смирились и хорошо обустроились, привыкли в Фонде.
— Какие у вас были взаимоотношения с Гилевским?
— И прежде, и теперь — никакие. «Здравствуйте, Модест Станиславович». В ответ — кивок. И каждый — в свою сторону.
— А вы бывали у него в отделе рукописных фондов и запасниках?
— За все время может быть три-четыре раза. А потом махнул рукой, понимая, что это зряшные мечты.
— А хотелось?
— Прежде да, теперь нет. Успокоился, обленился искать.
— Вы, я знаю, коллекционер, хобби так сказать?
— Не совсем хобби. Точнее — профессиональна страсть: обожаю старинную бронзу. Я и курс читаю «Эстетика бронзового литья, история и техника».
— Вы знакомы с Долматовой?
— Конечно. Работали вместе в музее. Она и сейчас там.
— Что вы можете сказать о ее взаимоотношениях с Гилевским?
— Очень нежные, — он усмехнулся.
— А разница в возрасте?
— Любовь… ее порывы, как заметил поэт, благотворны. В данном случае безусловно.
— Благотворны для кого?
— Для Людочки Долматовой. Сделала кандидатскую под патронажем Гилевского. Думаю, в убийцы она не подходит. Ради чего? Рубить сук, на котором сидишь, хоть этот сук уже и усыхает, гнется.
— А кто по-вашему подходит?
— Любой, кто имел долгое время дело с Гилевским.
— А вы?
Он засмеялся.
— А у меня алиби. В день и час убийства я был на выставке старинной мебели в историческом музее. Вместе с коллегой Алексеем Ильичом Чаусовым.
— Откуда вы знаете день и час?
— Слух в наших замкнутых кругах расходится быстро.
— Значит, Чаусов может подтвердить, что вы вместе были на выставке в это время и в этот день? Никого из знакомых там не встречали?
— Надеюсь, подтвердит. А знакомых — не встретили никого.
— Что ж, мы мило побеседовали. На сегодня хватит, — сухо сказала Кира.
— А что, еще может быть продолжение? — усмехнулся Жадан.
— Все еще может быть…
Когда он ушел, Кира перевела дух, почувствовав, что устала от разговора с Жаданом. Не понравился он ей наигранной легкостью, желанием, как ей показалось, произвести впечатление. Только не могла понять, какое. Она посмотрела на часы, было около часа. Кира решила сходить в кафе рядом с прокуратурой, перекусить и немного отдохнуть.
Кафе было небольшое, все столики заняты — обеденное время. У окна увидела столик, за которым сидели три девушки в одинаковых синих халатиках, видимо, продавщицы из ближайшего магазина. Одно место у них было свободным. Они о чем-то весело разговаривали.
— Разрешите? — подошла Кира. — У вас не занято?
— Нет, садитесь.
Она взяла себе сосиски с гарниром и чашку кофе. Ела медленно, погруженная в свои размышления. «Почему, — думала Кира, — Долматова так упорно избегала назвать кого-то, кого подозревала в убийстве Гилевского? Ведь не могла не знать о взаимоотношениях Гилевского с разными людьми. Не мог не существовать человек, на которого Долматова про себя не указывала бы перстом: „Он“. Может быть потому, что таких было много, она не осмелилась перечислить их, чтобы не дать таким образом понять Кире, что Гилевский был далеко не ангелом: кто-то его не любил, кто-то даже ненавидел? И их, этих „кто-то“ было множество: и нынешних сотрудников музея, и тех, кто уволился, и тех, кто перешел не по своей воле в Фонд имени Драгоманова…»
Между тем Скорик заканчивал допрос бортмеханика Лаптева.
— Вы продолжаете загонять себя в угол, — сказал Скорик, — отрицаете очевидное, городите ложь на ложь. А что потом будет, в суде? Судья ведь не дурак, он поймет на этот раз, что вы лжете. Я предоставлю достаточное количество противоречий между тем, что вы говорите, и тем, что было на самом деле. Вот еще одно: вы утверждаете, что, расставшись с Олей, поехали из Рубежного в авиаотряд, где вас видела диспетчер Катунина. Я допросил ее. Она действительно вас видела. Но не в тот день, а на следующий.
— Она могла ошибиться. Перепутать один день очень легко. Тут ведь разница не в десять дней, не в неделю, — сказал Лаптев.
— Нет, Катунина не ошиблась: в день, когда вы убили Олю, Катунина не дежурила. Я проверил по графику дежурств.
Лаптев снова умолк.
— Как я догадываюсь, сидя в камере, вы хорошо подытожили наши с вами беседы, и точно уже знаете, где я вас припер. Повторяю: в суде вам зададут те же вопросы.
— Я должен посоветоваться со своим адвокатом.
— Это ваше право. Постарайтесь, чтоб к следующей нашей встрече мы не топтались на месте. А я приготовлю для вас еще пару сюрпризов. Скажем, тракториста, который в тот день был в поле и видел, как из лесополосы, где потом нашли Олю, по грунтовой дороге в сторону шоссе направлялся желтый «жигуленок». У вас ведь желтая «пятерка»?
Лаптев молчал.
— Ну хорошо. Вы сказали, что должны были потом идти с приятелем Пестеревым в бильярдную, но Пестерев, сославшись на срочное дело, отказался. Так?
— Так.
— Он подтвердит, что в этот день вы должны были идти в бильярдную и что действительно какое-то дело помешало ему?
— Подтвердит.
— А какое срочное дело он назвал вам? Ведь естественно полагать, что вы задали такой вопрос.
— Его вызывал родственник.
— Какой родственник?
— Дальний. Единственный у Пестерева. Он хвастался им. Тот какой-то известный профессор. Билевский, кажется. Точно не помню. Кажется, работает в каком-то музее.
— Может быть, Гилевский? — Скорик от неожиданности прикусил губу.
— Может и так. Не помню.
— После этого вы виделись с Пестеревым?
— Нет. Я уже сидел в СИЗо.
Скорик начал складывать бумаги в кейс.
— Значит, до следующего раза, Лаптев, — сказал он, вызывая конвоира…
Алексей Ильич Чаусов сидел в коридоре напротив двери в кабинет Паскаловой. Он пришел минут за десять до конца перерыва. Раздался стук каблучков, из-за поворота, где был лифт, вышла молодая женщина. Она остановилась у двери, на которой висела табличка: «Паскалова К.Ф., Скорик В.Б.» и, отпирая их, спросила Чаусова:
— Вы к кому?
— К следователю Паскаловой вызван.
— Это я. Вы Чаусов?
— Он самый.
— Входите. Садитесь, — она поставила сумочку в угол, глянула сбоку на суживающегося Чаусова. Высок, очень худ, с нервным лицом, хорошо подстрижен; несмотря на жару, в костюме из легкой светло-серой фланели, но без галстука, пиджак распахнут. «Летний пиджак — без подкладки», отметила Кира.
— Жарко сегодня, — усаживаясь напротив Чаусова, сказала она и вытерла платочком повлажневший лоб.
— Терпимо, — коротко отозвался Чаусов.
— Вы надеюсь, догадываетесь, в связи с чем я пригласила вас?
— Догадываюсь.
— В каких взаимоотношениях вы были с Гилевским?
— Отношений не существовало.
— Почему? Вы ведь вместе работали в свое время.
— У него ни с кем не было отношений. Он узурпировал власть в музее. Директора при нем были нули. А их за время его власти промелькнуло семь.
— Ну а лично у вас с ним почему не сложилось?
— Из-за Диомиди.
— Расскажите, подробней, — она увидела, как у него оживились глаза, он даже заерзал на стуле, словно голодный, которого пригласили к обильному столу.
— Вы слышали что-нибудь о Диомиди? Он принадлежал к славной фамилии российских ювелиров. И достиг совершенства, как художник. К сожалению, на нем фамильное дело завершилось. Он умер в 1950 году. Умер в нищете, вернувшись из эвакуации в Казахстане, где работал возчиком в колхозе. Пять лет, как кончилась война. Голод. Разруха. Властям было ни до его славы, ни до искусства ювелирного вообще. Что от него осталось? Изумительные по красоте изделия. Но их единицы сохранились. Часть погибла после революции: либо была продана на Запад, либо переплавлена в золотые слитки. Предположительно, он оставил после себя переписку, наверное, дневники, возможно, что-то еще. Дочь его передала в 1955 году пакет со всем этим в спецхран музея этнографии и художественного промысла с условием, что вскрыт он может быть только через сорок лет, то есть в этом году.
— Вы видели этот пакет?
— Никто не мог видеть его и содержимое, кроме двух человек: Гилевского, как заведующего отделом рукописей и спецфондов, и директора музея, того, кто им был на тот час. Но Советская власть всегда плевала на пожелания личности. Плюнула и на сей раз: в 1971 году обком партии дал разрешение вскрыть пакет. Объяснение этому до смешного простое: дочь секретаря обкома вздумала писать кандидатскую по художественному промыслу, ее заинтересовал Диомиди. Открыли сейф, а пакета нет. Я пришел в музей работать спустя пять лет после случившегося двадцатичетырехлетним энтузиастом. Вся эта история досталась мне в виде слухов. К тому времени из музея выделился Фонд имени Драгоманова. Так вот слухи были разные: одни говорили, что пакет был передан в Фонд имени Драгоманова, Гилевский говорил, что пакет по неожиданной просьбе дочери Диомиди он возвратил ей. Директора, ныне покойного, сняли с работы. Но ясности, где же пакет, так никто и не внес. Ходил и такой слух: мол, в момент передачи части фондов в Драгомановский Фонд пакет был утерян. Спустя какое-то время, когда я уже работал в Фонде имени Драгоманова в отделе рукописей, я перерыл все, могу засвидетельствовать: пакета у нас не было. Но, как считалось, не было его и в музее, поскольку существовало утверждение Гилевского, что пакет он возвратил дочери Диомиди. Повторяю, все это дошло до меня в виде слухов. Но вот что интересно, — Чаусов открыл кейс, достал три одинаковых книги. Кира видела, как он возбужден, как дрожат пальцы. — Это, сказал он, — три последовательных издания книги профессора Самарина. Он был выдающийся археолог, этнограф, специалист по художественному промыслу… Видите, в них закладки. Они сделаны мною. Прочтите подчеркнутое мною и мой комментарий на закладках. И вам кое-что станет ясно… У нас в Фонде имени Драгоманова пакет пропасть не мог, ибо его никогда у нас не было.
Она видела, что он нервничает, пытался даже встать, чтобы говорить, прохаживаясь по кабинету — его гневу, казалось, не хватало места в том пространстве, которое окружало их двоих, сидевших напротив друг друга.
— А вы не пробовали отыскать пакет у родственников дочери Диомиди?
— Искать было не у кого. Она была одинока.
— Но ее имущество, то, что было в квартире, куда-то же подевалось?
— Как говорят, пошло с молотка, растащили неизвестно кто и куда. Мы поздно хватились, узнали о ее смерти только через месяц. Но я глубоко убежден: Гилевский не выпустил бы из рук этот пакет, он был помешан на Диомиди.
— А вы?
Чаусов словно споткнулся. Потом сказал:
— Я всю жизнь занимался этим. Для меня Челлини, Фаберже, Диомиди, их творчество — наука. Существует же наука о бесценных полотнах великих живописцев, великих скульпторах.
— В докладной Гилевского на имя директора он возражает против издания юбилейного сборника, посвященного Диомиди и что-то считает вашими фантазиями. О чем речь?
— Исполняется 100 лет со дня рождения Диомиди и заканчивается сорокалетний срок запрета его дочери на вскрытие этого злосчастного пакета. Я предложил издать юбилейный сборник, высказал предположение, что пакет все-таки существует, его надо опять искать.
— По вашему мнению Гилевский утаил пакет. Зачем? Какой в этом смысл?
— Для меня существовало лишь одно объяснение…
— Почему «существовало», почему в прошедшем времени? А сейчас разве изменилось ваше мнение?
Он как бы оглянулся, удивленно посмотрел на нее, затем пришел в себя, сказал:
— Форма глагола здесь не существенна. Так вот мое объяснение: Гилевский на протяжении десятилетий был властелином сокровищ. Представьте себе: один на один с ними. Год за годом. Он привык к мысли, что это все принадлежит ему. Он царь в царстве прекрасных теней, и никто на это не посягает. И это укрепило его в мысли, что такое положение нормально, а, значит, он наделен волей ни с кем не делиться.
— Что ж, психологически такое объяснение допустимо. Но давайте вернемся к реалиям. Вам известна такая фамилия — Кевин Шобб?
— Да. Это крупный ювелир в Штатах, у него разветвленная сеть магазинов и мастерских. Дело унаследовал от отца.
— Что по-вашему могло связывать Гилевского и Шобба?
— Возможно, взаимный интерес к Диомиди. Не случайно же Кевин Шобб настоял, чтобы как эксперта пригласили Гилевского в связи со скандалом на аукционе.
— Где вы были 21-го июня между семнадцатью и двадцатью одним часом?
Все время двигающиеся глаза Чаусова остановились, он так пристально уставился в какую-то точку за спиной Паскаловой, что ей хотелось оглянуться, посмотреть, что там. Страсти его вроде утихли, и он спокойно ответил:
— В названное вами время я был на выставке старинной мебели в историческом музее. С Жаданом Святославом Юрьевичем. С восемнадцати до двадцати. Потом пошел домой.
— Ну хорошо, Алексей Ильич, мы, видимо, устали друг от друга. На этом давайте закончим, — сказала она.
Он пожал плечами, мол, как угодно…
Когда Чаусов ушел, Кира подумала: «Мне нужно узнать как можно больше о Диомиди, об этом исчезнувшем пакете, содержимое которого, как утверждает Чаусов, никто не знает. Лишь тогда я смогу определить точнее круг заинтересованных лиц, понять, имеет ли этот исчезнувший пакет какое-нибудь отношение к смерти Гилевского или то, что говорил Чаусов — просто беллетристика, которая будет меня только уводить в сторону».
В момент этих раздумий ее и застал стремительно вошедший Скорик.
— Хорошо, что вы еще здесь! — с порога сказал он.
— Я не собиралась уходить, — ответила она. — У меня назначена встреча еще с одним человеком.
— Я принес вам интересную новость: у Гилевского есть дальний родственник. Его фамилия Пестерев!
Кира обомлела.
— Откуда вам известно? — наконец спросила она.
— Сообщил мой подследственный. Он его приятель. Надо доставать этого Пестерева!
— Он в отпуске, — сказала Кира. Сообщение Скорика ошеломило ее. Считалось, что Гилевский абсолютно одинок. И вдруг возник родственник, да не кто-нибудь, а шофер Вадим Пестерев, чей телефон был записан на клочке бумаги, обнаруженном Джумой в кармане пальто Гилевского!
— Кто он этот Пестерев? — спросил Скорик.
— Шофер на инкассаторской машине. Вы будете его допрашивать как свидетеля по вашему делу?
— Так, кратенько, для уточнения. Ничего особенного я от него не жду. Ни улучшить, ни ухудшить положение моего подследственного он уже не сможет.
— Я к тому веду речь, что может вы мне тут поможете.
— Каким образом?
— Если я начну его допрашивать, ясное дело, он поймет в связи с чем, насторожится. Вы же будете вести с ним разговор о вашем подследственном. Вверните ему несколько вопросов, интересующих меня.
— Неплохая мысль. Вы попросите Агрбу, чтоб он, во-первых, точно установил, когда Пестерев ушел в отпуск и когда убыл из города. И, во-вторых, чтоб не прозевал, когда Пестерев вернется.
— Пожалуй.
— Мне никто не звонил?
— Нет.
— Ладно, пойду к Щербе доложить, — Скорик вышел…
До сих пор Паскалова не имела никакой четкой версии, просто по методике просеивала персоналии профессионально и по интересам стоявшие ближе всего к Гилевскому. И если не надеялась выудить что-то конкретное, то, как полагала, не без пользы «ввинчивалась» в среду людей, близких к Гилевскому. Теперь же возникло новое звено, в каком-то смысле инородное родственник Гилевского Пестерев, да не просто родственник, а приятель убийцы, дело которого ведет Скорик…
Она позвонила Агрбе на работу, долго никто не отвечал, наконец он отозвался запыхавшимся голосом:
— Слушаю, майор Агрба.
— Джума, это Паскалова.
— Я еще в коридоре услышал звонок, пока отпер дверь… Слушаю вас.
— У Гилевского объявился родственник.
— Кто такой?
— Пестерев. Помните шофер на инкассаторской машине?
— Помню. Вадим Пестерев. Он в отпуске.
— Мне нужно знать, какого числа точно он ушел в отпуск и когда выехал из города в свое путешествие на байдарке.
— Как он возник у вас?
— Проходит свидетелем у Скорика.
— Забавный расклад.
— И еще: надо не прозевать, когда он возвратится. Скорик будет его допрашивать, как своего свидетеля с прицелом на наши интересы. Вы поняли меня?
— Что ж тут понимать!.. А как эти собиратели антиквариата из моего списка?
— Пока общие слова. У всех алиби. Остался еще один, сейчас должен прийти.
— Что ж, Бог в помощь…
Скульптор Борис Никитич Огановский припозднился минут на двадцать. Он вошел шумно дыша, крупный, тяжелый, голубая сорочка в большую серую клетку была расстегнута, под рыжеватой бородой сильная жилистая шея, тяжелые руки, пальцы крепкие с выпуклыми ногтями, под которыми невымываемые дужки темной глины.
— Извините, опоздал маленько, — сказал он, — и Кира уловила запашок алкоголя. — Работяги привезли камень, надо было с ними бутылку удавить, он сел и стал застегивать пуговицы на сорочке. — «Так в чем душа моя повинна?» — процитировал он чью-то стихотворную строку.
— Это вам лучше знать, — улыбнулась Кира. — Борис Никитич, у вас, говорят, лучшая в городе коллекция работ старинных резчиков по кости?
— Вы что, тоже интересуетесь этим предметом?
— Постольку-поскольку.
— Да, коллекция у меня отменная. Двадцать лет собираю. Мне музеи предлагали продать им, давали большие деньги. Но кто же продает штучные вещи!
— А в городских музеях есть подобные коллекции?
— Нет. Даже частных коллекций, кроме моей, почти не существует.
— Гилевский знал о ней?
— Возможно. Мы с ним на эту тему не беседовали. Мы были знакомы только визуально: я знал его в лицо и знал, кто он, а он, возможно, и видел меня на какой-нибудь выставке, но не знал, кто я.
— Что это вы так уничижительно? Говорят, вы талантливый скульптор.
— Талантлив был Роден, Манизер, Мухина. Я добротный профессионал, многое делаю лучше других. Вот в этом я уверен.
— Что вы думаете об убийстве Гилевского?
— Дикая история. Что-то произошло на их музейной кухне, а что именно, — даже не задумывался. Что там за дрязги, кто кого опередил — понятия не имею. Вот если б вы спросили про Союз художников, тут бы я вам развернул рельефную панораму. А музеи — как запечатанные консервные банки.
— У вас хорошая память?
— Не жалуюсь.
— Тогда вспомните, пожалуйста, где вы были двадцать первого июня, во второй половине дня, скажем с семнадцати до двадцати одного часа.
— Зачем мне мучить память, у меня кондуит есть, — из нагрудного кармана он извлек затрепанный блокнот без обложки. — Я, чтоб не запутаться в делах, расписываю себе наперед каждую неделю, — он послюнявил палец, полистал блокнот. — Так… вот двадцатое… Что тут у нас? Поездка за глиной на скульптурную фабрику, легкий банкетос у Иванцева по случаю аванса… Так… Двадцать первое… Встреча с детьми в художественном кружке, поездка на автосервис, чтобы поменять амортизатор, в два обед с Оксаной, Оксана — это моя новая натурщица, — сказал он, глядя на Паскалову… — Дальше… Исторический музей, выставка старинной мебели… Значит в интересующее вас время я был на этой выставке, — он спрятал блокнот. — Вас это устраивает?
— Меня да… Скажите, Борис Никитич, а вы не знакомы с Жаданом и Чаусовым?
— Хорошо знаком. Случается, выпиваем вместе.
— Я смотрю, в ваших записях все — дела, а о работе — ни слова, улыбнулась Кира.
— А что записывать о работе? — пожал он плечами. Работа есть работа. Каждый день с шести утра до двенадцати. Это железное правило нарушается в редких случаях.
— Борис Никитич, возможно ли, чтоб во время посещения вами выставки мебели там был в это же время кто-либо из ваших знакомых, но вы его или ее, если это она, не увидели?
— Исключено! Зальчик там небольшой, вход и выход один, движение вдоль экспонатов произвольное, хочешь иди слева направо, хочешь справа налево. Так что все время перед глазами чьи-то физиономии. Да и народу в тот день там было немного, человек десять-пятнадцать. Вот если мы пойдем с вами туда в одно время, я обязательно вас увижу, — игриво заключил он.
А она подумала: «Кто из них в таком случае врет: либо Чаусов с Жаданом, либо он». Но не сказав об этом своем предположении, поблагодарила его, и он ушел…
Кира собрала бумаги, заперла в сейф, три экземпляра книги профессора Самарина «Челлини, Фаберже, Диомиди — великие мастера», оставленные ей Чаусовым, аккуратно, чтобы не выпали закладки Чаусова, положила в большой целлофановый пакет и отправилась в библиотеку Академии наук.
Это было старинное трехэтажное здание с широким порталом, над которым декоративный балкон поддерживали две могучих консоли в виде львиных голов. Пожалуй, со студенческих лет Кира не была в этой богатой библиотеке.
Предъявив удостоверение дежурной, Кира прошла к замдиректора по научной части. Ею оказалась немолодая женщина весьма строго и немодно одетая, но хорошо причесанная.
— Садитесь, — пригласила она Киру. — Я вас слушаю.
— Мне нужны публикации, связанные с именем художника-ювелира Георгоса Диомиди.
— Я не знаю, что у нас есть. Сейчас попрошу библиографа, пусть посмотрит. Вам придется подождать, — женщина позвонила по внутреннему телефону: — Виктория Антоновна, пожалуйста, поищите, что у нас есть, связанное с художником-ювелиром Георгосом Диомиди… Да… Сейчас, пожалуйста…
— Я не буду мешать вам, если здесь посижу? — спросила Кира.
— Ради Бога, сидите…
Минут через пятнадцать позвонила библиограф, что-то стала диктовать, замдиректора записывала на формулярную карточку, затем, закончив, поблагодарила и протянула карточку Кире:
— Вот все, чем мы располагаем.
Кира читала: «А.Самарин. Челлини, Фаберже, Диомиди — великие мастера, издания 1957-го, 1959-го, 1970-го годов», «Альбом-буклет. Фотоизображения изделий Диомиди. 1955 г.», «Дж. Бэррон. К истории ювелирного дела. Издательство „Артистик букс“, Нью-Йорк, 1960 год, перевод с английского», «М.Гилевский. Сравнительное исследование, 1966 г. Университетское издательство». «А.Чаусов. Место Диомиди в русском ювелирном деле, 1970 год. Университетское издательство».
— Нашли что-нибудь подходящее? — спросила замдиректора.
— Да, — Кира подчеркнула на формуляре два издания: «Дж. Бэррон. К истории ювелирного дела» и «М.Гилевский. Сравнительное исследование». Если можно, эти две книги, они нужны мне на некоторое время.
— Хорошо. Вы имеете абонемент у нас?
— Увы, — сказала Кира смущенно.
Замдиректора снова позвонила:
— Виктория Антоновна, принесите мне, пожалуйста, Дж. Бэррона и М.Гилевского. Я сама тут оформлю.
Когда книги принесли, замдиректора заполнила на Паскалову формулярную карточку, вместо номера паспорта проставила номер удостоверения, Кира расписалась, поблагодарила, взяла книги и ушла.
Муж был дома, вернулся с полевых учений. Это она поняла по шумному плеску воды в ванной, он никогда не мылся в ванне, только под душем.
— Я пришла! — крикнула она, приоткрыв к нему дверь. Он стоял за занавеской, и она видела лишь контуры его высокой фигуры.
— Я скоро! — отозвался он.
Она принялась готовить обед. Борщ был, фарш на котлеты стоял в холодильнике. Оставалось начистить картофель. Муж очень любил жареную картошку.
Он вышел из ванной в майке и спортивных брюках. Тело белое, лишь кисти рук, шея, лицо обветрены, покрыты загаром.
— Устал? — спросила Кира. — Наползались, настрелялись?
— Маленько устал… Чеснок есть?
Она очистила два зубка. Он кусал чеснок и хлеб сильными белыми зубами, на челюстях ходили бугры желваков. Ел с удовольствием, шумно. Обедали они обычно в столовой, так он любил.
— Соскучился по домашней еде?
— Ага! — кивнул. — Что у тебя?
— Никаких новостей. Увязла в этом деле.
— Выберешься, — спокойно сказал он, как о деле решенном.
Съев почти сковородку картошки и три котлеты, муж по давней привычке выпил кружку воды из-под крана. Кира убирала со стола, мыла посуду. Когда вернулась в комнату, телевизор работал, а муж, лежа на диване, спал, сладко сопя. Она накрыла его пледом, достала из целлофанового пакета книги и села читать книгу профессора Самарина, где меж страниц торчали закладки Чаусова. Начала с предисловия, написанного Гилевским, в котором, оценивая труд Самарина, тот соглашался, что творчество ювелирных дел мастера Диомиди — это не отраженный свет, не эпигонство, вызванное к жизни такими художниками, как Челлини и Фаберже, а явление оригинальное. Далее Гилевский разбирал концепцию Самарина, его сравнительный анализ, доказывающие, что Георгоса Диомиди можно и нужно рассматривать как самостоятельный факт в искусстве ювелирной скульптуры…
Затем Кира открыла то место в книге, где была закладка, и на одной из страниц подчеркнуты синим строки: «…К великому сожалению, в судьбе трех мастеров есть нечто общее: прихоть временщиков и неудержимые социальные бури. Они-то и лишили нас, потомство, многого из того, что было и могло еще быть создано этими художниками. Что касается Диомиди, то у нас еще есть надежда, возможно, узнать о его замыслах, о том, где, в чьих частных коллекциях хранятся его издания. Узнаем мы это, надеюсь, в тот день, когда будет вскрыт пакет с его бумагами, хранящийся в музее этнографии и художественного промысла». На закладке наискосок написано, как поняла Кира, рукой Чаусова: «Как видим, никаких сомнений в том, что пакет хранится в рукописных фондах музея! Sic: это издание Самарина прижизненное, 1957 г.».
Кира взялась за следующий том той же книги, но переизданной в 1959 году. Опять предисловие Гилевского, и на той самой странице подчеркнуты Чаусовым те же строки, а на закладке написано: «Никаких изменений. Осторожен, ибо издано еще при жизни Самарина».
Третье издание книги, осуществленное в 1970-м году, ничем не отличалось от предыдущих. То же предисловие Гилевского. Но из текста Самарина исчезла фраза«…когда будет вскрыт пакет с его бумагами, хранящийся в музее этнографии и художественного промысла». А на закладке Чаусовым написано: «Почему изъята эта фраза? Не потому ли, что книга переиздана уже после смерти Самарина, и не потому ли, что редактор ее уже сам Гилевский?! Хозяин-барин».
Посмотрев выходные данные двух предыдущих изданий, Кира обнаружила, что редактором их была некая А.Школьник. В третьем же, посмертном издании фамилия Школьник исчезла, вместо нее напечатано: «Редактор и автор предисловия профессор М.Гилевский».
«Пожалуй, подозрения Чаусова логически состоятельны», — подумала Кира, пытаясь понять, почему вокруг пакета столько тумана, вообще умолчания. С умолчанием она столкнулась, читая брошюру Гилевского «Сравнительное исследование». Написана она была с блеском, увлекательно. Однако ни слова о пакете. Это показалось Кире противоестественным. Если пакет хранился в музее, Гилевский не преминул бы упомянуть об этом, если нет — тоже должен был сказать, мол, пакета в музее, увы, нет. А так умолчание, словно нет предмета разговора. И это самое подозрительное, ибо Гилевский знал, какая возня шла вокруг пакета, он не мог не использовать любую возможность, дабы еще раз подтвердить свою позицию: пакета в музее нет.
Книга О. Чаусова «Место Диомиди в русском ювелирном деле» была в сущности панегириком, хотя и не без успеха автор обосновывал свое апологетическое отношение к выдающемуся ювелиру. Видимо, Чаусов проделал большую работу, составив список адресов (частные коллекции и музеи), где хранились изделия Диомиди. Пользу от чтения этой небольшой книги Кира извлекла одну: убедилась, что Чаусов искренне помешан на Диомиди и является прекрасным знатоком его творчества. Этим, возможно, и объясняется его ревнивое отношение к Гилевскому, как к союзнику-сопернику…
С большим интересом прочитала она брошюру американца Дж. Бэррона «К истории ювелирного дела». Здесь выловила любопытную деталь — цитату из письма Сэма Шобба к Диомиди: «Вы правы, с оказией передавать письма безопасней и надежней. Я совершенно не согласен с Вами, что Ваши эскизы мертворожденные дети. Уверен, придет время и появится возможность воплотить эти эскизы в материал. Я об этом думаю…» Письмо датировано августом 1947 года. Об этом письме, как поняла Кира, видимо, не знал никто, иначе его бы уже расцитировали десятки раз, тот же Чаусов, хотя бы для того, чтобы подтвердить, что Диомиди не прекращал работу даже в самое трудное для него время, создавая эскизы для своих будущих изделий. Похоже, из отечественных источников взять эту цитату американец не мог. Каким же образом кусок этого письма или все письмо Сэма Шобба к Диомиди попало к американскому автору? «Надо будет спросить у Чаусова», — подумала Кира…
Она просидела над книгами почти до полуночи. Устала, но не жалела: теперь, если не все, то многое узнала. А главное — возникло немало противоречивых вопросов, требовавших прояснения, и она поняла, что с Чаусовым встретиться еще раз надо…
Мужа, заснувшего на узеньком диванчике, будить не стала. Просто принесла ему с их двуспальной кровати его подушку, затолкала под голову, он даже не шевельнулся. Кира вошла в спальню, разделась, нырнула под плед, вдетый в пододеяльник и, заложив руки за голову, закрыла глаза. С улицы светил фонарь, она забыла задернуть штору, но вставать уже не было мочи…
9
— А не теряете ли вы зря время, увлекшись историями с Диомиди? спросил Щерба, выслушав Паскалову. — Нам ведь нужен убийца.
— Не знаю, возможно и теряю. Но в этом я смогу убедиться, лишь сверив все даты. Для этого мне придется еще раз встретиться с Чаусовым, — сказала Кира.
— У вас объявился еще один персонаж — Пестерев, родственник Гилевского, — буркнул Щерба.
— Я и им занимаюсь. Я дала поручение Агрбе.
В это время зазвонил телефон. Щерба снял трубку:
— Слушаю… Да… Это я… Очень приятно… Думаю, понадобитесь… Нет, следователь Паскалова Кира Федоровна… А она как раз рядом со мной, договаривайтесь, передаю ей трубку. И уже придвигая телефон к Кире: — Это директор музея. Ласкин Матвей Данилович.
— Здравствуйте, Матвей Данилович. Хорошо, что вы позвонили. Когда мы могли бы встретиться? Договорились. Значит, в двенадцать я буду у вас, она положила трубку, встала.
— В добрый час, — сказал Щерба, отпуская ее.
— Посмотрим. — Кира вышла.
Дверь ее кабинета была заперта, Скорик куда-то уехал, и перед дверью топтался Агрба.
— Давно ждете, Джума? Извините, у Щербы была, — сказала она, отпирая дверь.
— Минут десять. Ничего, — он прошел вслед за нею в кабинет и усаживаясь, сказал: — Послезавтра возвращается Пестерев.
— Откуда вы знаете?
— Профессию такую избрал, Кира Федоровна.
— Допрашивать его будет Скорик.
— А вы?
— Буду присутствовать.
— Понятно, — усмехнулся Агрба. — Ну, а как остальные коллекционеры-искусствоведы из моего списка?
— Люди, как люди. Разные. Как мы с вами. Но ничего такого… не почувствовала. Разве что не очень лестно отзывались о Гилевском: деспотичен, как я поняла, своеволен. Но это не их порок, а скорее его… И еще одно: кто-то из них врет с алиби. Но это я проверю. Тут ложь может быть и чисто бытовая… Да, вернулся с курсов директор музея Ласкин. В двенадцать я с ним встречаюсь. Хотите пойти?
— Нет, много своей работы. Жду Войцеховского, он куда-то укатил, у нас с ним тут закавыка по одному крупному хозяйственному делу, — Джума поднялся. — Я отыскал ему важного свидетеля.
— Вот бы и мне вы такой подарок сделали, — улыбнулась Кира.
— Стараюсь. Ничего, и нам с вами пофартит. Вы ведь еще не в тупике.
К двенадцати Кира поехала в музей на встречу с Ласкиным.
Молоденькая секретарша — крашеная блондинка в пышной блузке и синей короткой юбке, — встретила Киру у входа возле дежурки, проводила в приемную и тут же пошла докладывать, вернулась сразу же:
— Матвей Данилович ждет вас, проходите, — она с откровенным любопытством разглядывала Киру, хотя однажды уже видела ее.
Ласкин действительно ждал ее: стоял за столом — невысокий, тучный, с копной седых волос, хотя лицо выглядело моложавым. Он растерян, видимо, как поняла Кира, ожидал, что следователем окажется женщина постарше, посолидней, с суровым лицом и узкими сердитыми губами.
— Кира Федоровна?
Она кивнула.
— Садитесь, очень рад.
— Какая вам от моего визита радость? Одни хлопоты, — сказала Кира.
— Что поделать! — воскликнул он высоким голосом. — Ужас! Какой ужас! Я на похороны не успел. Меня, слава Богу, на неделю раньше отпустили в связи со случившимся… Что вы думаете по поводу всего этого?
— Меня интересует, что вы думаете, Матвей Данилович?
— Ума не приложу! Кто, за что?!
— Вот именно: кто и за что?.. Какие у вас были с ним отношения?
— Взаимоуважительные, — Ласкин опять утер лоб. — Но оба держали дистанцию: он, чтобы подчеркнуть свое место, свой авторитет, свою независимость, я — чтобы очертить круг своих неприкасаемых полномочий. Но это не мешало нам при общении.
— Вы часто общались?
— Нет. У него была своя сфера, у меня — своя. Да и нужда, признаться, возникала редко. Я целиком, как и мои предшественники, доверял ему. Так повелось. Я не стал нарушать это, дабы не создавать конфликтную ситуацию.
— А как он был с коллективом?
— Тут сложнее. Никак. Он был самостоятельной планетой со своей орбитой. Все остальные — другая планета. Их гравитации взаимоотталкивались.
— Слишком научно, но понятно: он к коллективу относился снисходительно, коллектив к нему — настороженно-враждебно. Я точно определила?
— Пожалуй, если все упростить. Он был человеком деспотичным. Но это не значит, что его надо было убивать.
— Разумеется… Так что искать кого-либо одного, кто во всем коллективе был его единственным врагом, сложно?
— Вероятно, так.
— Как часто вы бывали в его кабинете, в отделе рукописей, спецфонде?
— Бывал, но не часто. Видите ли, в этом не было необходимости. Во-первых, я доверял ему. Все-таки он проработал там свыше сорока лет. Кроме того был еще один нюанс, инерция так сказать, это во-вторых. И заключалась она в том, что при Советской власти и в первые годы перестройки для спецхрана был особый режим, осуществлялся он КГБ. К этому все привыкли за десятилетия. Потом это перешло в инерцию, своеобразную роль КГБ взял на себя Гилевский.
— Он никогда не изъявлял желания уйти на пенсию?
— Одно время заговаривал об этом со мной. Я не собирался отправлять его на пенсию. Затем разговоры эти вдруг прекратились. Потом возникли опять.
— Когда?
— С момента приближения 100-летия со дня рождения Диомиди и истечения срока запрета вскрывать пакет с личными бумагами Диомиди.
— Да, но пакет этот как бы не существует?
— И тем не менее. Дата-то существует.
— А вы заглядывали в сейф, где он хранился?
— Естественно. Открывал сейф вместе с Гилевским. У него свой ключ, у меня свой, открыть сейф можно только одновременно двумя ключами. Когда открыли, все драгоценности, числящиеся по описи, оказались на месте. Пакета же не было.
— Вы бывали дома у Гилевского?
— Никогда.
— Там много ценных вещей: фарфор, иконы, портреты.
— Это все собрано им. Я понял вас. Гилевский никогда не позволил бы себе даже спичку унести из музея домой.
— А на стороне, скажем, из числа людей, прежде работавших тут, а затем перешедших в Фонд имени Драгоманова, у него не было врагов?
— Возможно, были. Но враг не объявит, что он враг. Тем более объявить себя врагом Гилевского, это выглядело бы и нелепым и в какой-то мере опасным.
— Матвей Данилович, а кто-нибудь незаметно мог пройти в музей около пяти вечера и позже?
— Разве что в толпе. Но, увы, толп у нас не бывает. Много посетителей только в школьные каникулы. Появляется народ в субботу, в воскресенье. А в будние дни пустовато, человек двадцать пять-тридцать за день. Людям нынче не до музеев. Бесплатно лишь для членов Союза художников. А так каждый покупает билет. При входе указатели, где начинаются экспозиции, как расположены. В служебные помещения пройти постороннему почти невозможно дежурная остановит.
— Что ж, Матвей Данилович, кое-что вы мне прояснили. Возможно, нам еще придется встретиться…
Он любезно проводил ее до самого холла внизу, где знакомая уже ей дежурная Настасья Фоминична поднялась со стула при виде начальства и его важной, как она посчитала, гостьи…
По дороге она думала о том, что Щерба, возможно, не одобрит ее пространных рассуждений, ухмыльнется, скажет: «Кира Федоровна, ваши размышления, конечно, изысканы, но для нас они, как скольжение но наждаку — слишком большое трение, а, значит, и торможение. А у нас нет времени на изящные построения. Версия всегда проста, их существует не так много. В какую-нибудь из них укладывается и ваш случай. Жизнеописание же Диомиди река, где вы можете утонуть». Но не было у Киры версии, она ее только искала, она не считала себя, разумеется, мудрее и опытнее Щербы, но иногда думала, что может быть слишком большой опыт своими стереотипами зашоривает, а у менее опытного взгляд свежее. И потому после разговора с директором музея она упрямо вывела для себя формулу: возможно, убийца был чем-то спровоцирован самим Гилевским, что-то такое Гилевский должен был совершить, чтоб довести потенциального убийцу до реального исполнения либо задуманного, либо возникшего спонтанно намерения…
10
«Итак, — думала Кира, — Пестерева Джума нашел и выяснил, что в отпуск Пестерев ушел за две недели до убийства Гилевского, а вот когда уехал путешествовать на байдарке, это еще надо уточнить, день ухода в отпуск и день отъезда могут и не совпадать». Она сидела за столом напротив Скорика, тот листал дело Лаптева, что-то сверял и делал какие-то выписки, видимо, готовился писать обвинительное заключение. Но оба ждали вызванного Вадима Никитича Пестерева.
Оказался он человеком маленького росточка, даже тщедушным, узкокостным, но жилистым. Кира сразу заметила, что он прихрамывает на правую ногу, на которой был ортопедический ботинок. На вид было ему лет тридцать пять-тридцать восемь.
— Вадим Никитич? — поднял голову от бумаг Скорик.
— Я.
— Садитесь. У меня к вам несколько вопросов. Вы хорошо знали Лаптева?
— Знал. Мы вместе когда-то работали.
— Где?
— Я ведь тоже в аэропорту работал. В отделе перевозок.
— А почему ушли оттуда?
— Так. Случилась маленькая неприятность, пришлось.
— Влип ваш Лаптев.
— Знаю. Дурак. Что ж теперь будет?
— Это уж суд решит. Вы с ним часто на бильярде играли?
— Случалось.
— А почему в тот день вы отказались?
— У меня срочная встреча получалась, неожиданно.
— С кем?
— С моим родственником.
— Не с Гилевским ли?
— С ним.
Кира встала из-за стола, подошла сбоку, спросила:
— Какое у вас родство с Гилевским?
— Он троюродный брат моей покойной матери.
— А еще родственники у него есть? — спросил Скорик.
— Нет, я единственный.
— Когда вы видели его в последний раз?
— В апреле.
— А когда узнали, что он убит?
— Только сейчас, когда вернулся. Я ведь даже и на похоронах не был.
— От кого узнали? — спросил Скорик.
— Я выписываю местную газету из-за телепрограммы. За то время, что отсутствовал, мне на почте сохранили несколько штук. Вечером я их просматривал и некролог увидел.
— Как получилось, что Гилевский назначил вам встречу?
— Однажды мы столкнулись на улице. Он сказал, что я ему могу понадобиться, попросил телефон. У меня только служебный, домашнего нет. Я ему дал. Вот он и позвонил, сказал, что хочет со мной поговорить.
— И вы встретились? — спросила Кира.
— Да.
— Какого числа?
— Я ж говорю: в апреле, числа не помню.
— Когда вы уехали на байдарке?
— Двадцать третьего июня.
«Через два дня после убийства», — отметила про себя Кира и спросила:
— Сколько человек вас ушло на байдарках?
— Трое. Я и еще двое ребят, — Пестерев на все вопросы отвечал быстро, лаконично, словно и не заметил, что разговор, начавшийся с Лаптева, незаметно соскользнул к теме Гилевского.
— Эти двое где живут?
— Я отсюда еду к ним в Белоруссию, а оттуда уже вниз по Днепру уходим.
— Значит они постоянно живут в Белоруссии?
— Да.
Скорик и Кира переглянулись.
— Где вы встретились с Гилевским? — спросил Скорик.
— У него.
— В связи с чем он вас вызвал? — спросила Кира.
— Странный разговор был. Мы ведь отношений почти не поддерживали. Раз-два в год я забегал к нему поздравить с днем рождения, под Новый год тоже, на Рождество. Вот и все наши отношения. Что я ему — шофер. Он ведь профессор, ученый.
— Так о чем был разговор? — спросила Кира.
— Он мне говорит: «Я стар, Вадим, мало ли что может случиться. Денег и бриллиантов у меня нет. Но есть приватизированная квартира, а в ней библиотека с уникальными изданиями, которые купит любой музей. Есть коллекция старых икон, им цены нет. Но ты должен будешь мне услужить». «Каким образом?» — спрашиваю. Он говорит: «Ты мне как-то сказал, что у тебя есть в аэропорту приятель-летчик». — «Есть». — «Куда он летает?» — «У него загранрейсы: Канада, Штаты». — «Ты сможешь меня с ним свести?» «Конечно. Но зачем он вам?» — «Когда придет время, узнаешь». Потом он сказал: «Как видишь, я в долгу не останусь, напишу завещание, все тебе оставлю». Вот так поговорили и на этом расстались.
— Он написал завещание? — спросила Кира.
— Не знаю.
— Вы женщину по фамилии Долматова Людмила Леонидовна знаете?
— Нет, первый раз слышу.
— Больше Гилевский вам не звонил? — спросила Кира.
— Позвонил перед тем, как я ушел в отпуск, сказал, что Лаптев ему уже не нужен, но в отношении завещания все остается в силе. Я не стал ему говорить, что Лаптев уже в тюрьме.
— Вас, видимо, вызовут в суд, — сказал Скорик.
— Меня? За что? — не понял Пестерев.
— По делу Лаптева.
— А что от меня толку? Что я знаю?
— В качестве свидетеля.
Пестерев пожал худенькими плечами…
Когда он ушел, Скорик спросил у Киры:
— Вы удовлетворены, Кира Федоровна?
— Да, вполне, спасибо.
— Какое впечатление?
— Очень все гладко. Правда, есть место, где споткнусь. Легко проверить, когда он ушел в отпуск, а вот, когда ушел плавать, — тут дело почти безнадежное: Белоруссия — уже заграница, попробуй разыщи там да допроси его сотоварищей по байдарочному походу.
— На этом поставьте крест, — сказал Скорик. — Я уезжаю в район, если позвонит адвокат Лаптева, скажите, что буду после четырех, — сложив бумаги в сейф, Скорик вышел…
Кира мысленно прокручивала в голове весь рассказ Пестерева. Два обстоятельства просились под вопросительный знак: если Пестерев не врет, то зачем Гилевскому понадобился бортмеханик Лаптев, летающий в загранрейсы? И второе: Лаптев, видимо, был настолько необходим Гилевскому, что он пообещал оставить завещание Пестереву. Оставил ли? Если да, то где оно? Имеется только одно завещание Гилевского — Долматовой. Оно приобщено к делу, и насколько Кира помнит, составлено и оформлено у нотариуса еще в прошлом году. По нему Долматовой завещано то же, что Гилевский обещал и Пестереву. Поскольку оно не аннулировано наследодателем, то получается, что Гилевский врал Пестереву относительно завещания. И тут, сопоставляя даты, Кира подумала, что от знакомства с Лаптевым Гилевский отказался, когда узнал, что приглашен в Америку в качестве официального эксперта. Не должен ли был Лаптев выполнить роль некоего «почтальона»?..
Миновала неделя. Скорик сидел у Щербы.
— Я закончил дело Лаптева, Михаил Михайлович, — сказал Скорик.
— Обвинительное сочинили?
— Почти готово.
— Хорошо закрепили доказательства? — толстым пальцем Щерба почесал в ухе, где кустились рыжеватые волосы. — Смотрите, чтоб нам опять не вернули его из суда.
— Нет, я подчистил все хвосты.
— Как там у Паскаловой?
— Копает.
— Не слишком ли она ограничила круг поисков? — спросил Щерба.
— Метаться ей тоже ни к чему, совсем заблудится. Пусть обойдет весь этот круг, а выйти из него еще успеет. Я ей помог немножко с Пестеревым.
— Есть что-нибудь?
— Мне трудно сказать, я ведь деталей не знаю.
Постучавшись, вошла Паскалова. Щерба поднял голову.
— Новости, — с порога сказала Кира. — У меня сидит Агрба, он только что узнал, что печать на двери квартиры Гилевского сорвана.
— Откуда он узнал?
— Соседи по лестничной площадке увидели, позвонили в милицию.
— Что собираетесь делать?
— Поеду с Агрбой туда.
— У вас ключ от этой двери есть?
— Есть.
— Все там хорошо посмотрите. И «пальцы» постарайтесь найти…
Кира вернулась к себе.
— Поедем туда, Джума?
— Поедем, — Агрба загасил окурок. — Сейчас только позвоню в ЭКО [экспертно-криминалистический отдел в управлении милиции], - он снял телефонную трубку, набрал номер: — Алло!.. Ты, Петя? Чем занят?.. Уважь, на часок ты мне нужен. Можешь?.. Жду тебя возле прокуратуры области, — он опустил трубку, обратился к Кире: — Минуть через пятнадцать подойдет эксперт, возьмем его с собой. Пошли…
Они стояли возле прокуратуры, ждали…
— Может быть, это мальчишки соседские похулиганили, — сказал Джума. Это же для них удовольствие: сорвать бумажную ленточку с запертой двери.
— Может быть, — согласилась Кира. — Ваша жена работает, Джума?
— Ей хватает дома работы с пацанами. И сверхурочно получается. А у вас дети есть?
— Нет.
— С ними тяжко, без них нельзя. Мы, кавказцы, любим детей, и чтоб их много было.
— А родители ваши где?
— В Абхазии, — вздохнул Джума.
— Волнуетесь за них?
— Сейчас там уже спокойней… Муж кто у вас по званию?
— Подполковник. А у вас когда очередное?
— Обещали к зиме…
Так беседуя в сущности ни о чем, они дождались моложавого капитана милиции. Он держал небольшой чемоданчик. Джума представил капитана Кире:
— Петр Фомич Кисляк. Самый лучший эксперт у нас, на глазок определяет, кто сколько чешского пива может выпить.
— Ладно тебе, балабон, — засмеялся капитан. — Куда едем? — спросил он у Киры, понимая, что парадом командует она.
— Не едем, а идем, ножками. Транспорт хоть нам и положен, да никто не спешит давать, — отозвался Джума. — Пошли, тут недалеко.
День перевалил за половину. Жаркое солнце било в застекленный купол мастерской Огановского, на улице было душно, как перед грозой, где-то далеко за домами, над самым горизонтом медленные облака сливались в серую тучу. Но здесь, в мастерской, было прохладно. Все так же в центре высилась глиняная фигура всадника, накрытая мокрыми тряпками, а поверх целлофановой пленкой, в углах стояли и валялись незавершенные работы, эскизные пробы из высохшей глины, гипса, пластилина — фигуры, головы, торсы без голов, кувшины. На огромном столе, на котором впору танцевать какому-нибудь трио, в банках стояли кисти, валялись краски, много листов ватмана с карандашными рисунками: лица, кисти рук, женские обнаженные фигурки, античные головы. Листы эти были сдвинуты небрежно Огановским к краю стола. А посередине его на газете лежало несколько разделанных уже вяленых лещей и стояла батарея пустых, начатых и еще неоткупоренных бутылок пива.
Сам хозяин — Борис Огановский, крупный, ширококостный, сбросив пропотевшую сорочку, сидел обнаженный по пояс в торце стола и разливал пиво в керамические поллитровые кружки собственного изготовления. Алексей Чаусов и Святослав Жадан сидели напротив друг друга, обдирая мякоть с остова леща, жевали и прихлебывали пиво.
— Да скиньте вы рубахи! — сказал Огановский.
— Рубахи пищеварительному процессу не помеха, — засмеялся Жадан. — Ты где достаешь такую рыбу?
— В холодильнике, — весело отозвался Огановский. — Ты что такой мрачный, Алеша? — обратился он к Чаусову.
— Духота замучила. В кабинете просто дышать нечем.
— Купите кондиционер.
— За какие шиши? Это вы, скульпторы, еще что-то можете, да еще кооперативщики: деньги все в стаю сбиваются, а мы, искусствоведы, как? Лег — свернулся, встал — встряхнулся: вот наша жизнь теперь, — ответил Чаусов.
— Зато вы со Славкой кандидаты наук, а я хрен необразованный, подмигнул Огановский Жадану и спросил у него: — Слава, признайся, ты хлопнул Гилевского?
— Нечем было, — засмеялся Жадан. — Следователь, ничего бабенка, тоже норовила это выяснить. Все такими кругами ходила. А я дурочку валял.
— Тебя тоже туда тягали? — спросил Огановский Чаусова.
— А как без меня обойтись. Я же был лучшим другом покойника, хмыкнул Чаусов. — Ты мне скажи лучше, — кивнул он на лист ватмана, где был карандашный рисунок девушки, — откуда достаешь таких натурщиц?
— Их полный город. Надо просто уметь увидеть, раздеть глазами, а сторговаться не проблема. Когда привожу сюда, они уже тут сами раздеваются.
— Как-нибудь пригласил бы на такую, — улыбнулся Жадан.
— Тебе все подай: леща, пива да еще и бабу!
— Ты же у нас человек гостеприимный, — сказал Чаусов.
— Будете хамить — выгоню обоих, — Огановский огромными руками потер широкую грудь, поросшую темными волосами…
В мастерской стало темней, видимо, наползала туча. Но приятелям было все равно. Перебрасываясь фразами, они лакомились лещом и пивом…
Полоска бумаги с печатью действительно была сорвана. Капитан Кисляк достал из кармана лупу, приник к замку, долго рассматривал, затем сказал:
— Замок цел, никто не ковырялся, никаких свежих царапин. Если и открывали дверь, то ключом — родным либо заранее подобранным.
— Но родной ключ у меня, — сказала Кира.
— А разве не могло быть еще одного? — возразил Агрба. — У того же Пестерева или у любовницы Гилевского, как ее там…
— Долматова, — подсказала Кира.
— Во-во! Вроде самые близкие Гилевскому люди.
Кира достала из сумочки ключ, он легко вошел в замок, дверь отворилась, они прошли в квартиру. Их сразу окутала духота давно непроветривавшегося помещения, запах пыли, лежавшей на мебели.
Они начали планомерно осматривать квартиру, стараясь ни к чему не прикасаться. Кира хорошо помнила с момента прежнего посещения, что где висело, лежало, стояло. На первый взгляд все было на прежних местах.
— Ну что? — спросил Агрба.
— Если бы сняли картину, икону, хотя бы одну, или перевесили на другое место, остался бы след на обоях — невыгоревшее место. Фарфор, статуэтки тоже на своих местах — на всем нетронутая пыль, — сказала Кира. — Если бы что-то взяли, остался бы след — отсутствие пыли.
— А «пальчики» все-таки есть, — отозвался Кисляк. Он немного присел у стола и смотрел вдоль его полированной глади. — Кто-то оперся ладошкой о стол, — он открыл чемоданчик, достал порошок, кисточку, пленку и принялся за дело.
— Ладошка маленькая, — закончив все свои манипуляции, сказал капитан Кисляк, — и пальчики узенькие, подростка либо маленького худенького человека, либо дамские.
— Что же это, он или она квартиру вскрыли, вошли, походили, бесстрашно наследили и ничего не взяли? — спросил Агрба. — Не на экскурсию же приходили. Не похоже, чтоб детишки.
— Но что-то же искали здесь, — сказала Кира.
— Значит не ограбление, — отозвался Кисляк.
— Мне пришла в голову такая мыслишка, — произнесла Кира. — А зачем «ему» или «ей» нужно было похищать у самого себя?
— Что вы имеете в виду? — не понял Джума.
— Пестерев сказал мне, что Гилевский обещал ему завещание на всю недвижимость. Так может он и посетил квартиру, посмотреть, чем обладает?
— А ключ у него откуда? — спросил Джума.
— А что если Гилевский дал ему когда-то второй ключ, на всякий случай, вдруг заболеет, мало ли какие непредвиденные обстоятельства мог иметь в виду старый человек, — сказала Кира.
— Тогда надо иметь в виду и его любовницу, Долматову. Ей ведь уже не обещание дал Гилевский, а оставил завещание, — сказал Джума. — Может и ей по какой-то причине захотелось наведаться. Нам-то знать не дано, что у нее в голове, какие мыслишки возникли в связи со случившимся.
Молчавший Кисляк произнес:
— Джума, я тебе уже не нужен?
— Нет, Петя, большое спасибо.
Кисляк, попрощавшись, ушел.
— А может они дуэтом побывали здесь? — спросил Джума. — Пестерев и Долматова. Мы же не знаем, знакомы они или нет, если да, то в каких взаимоотношениях, может у них тут общий интерес. А может этот интерес свел их еще до убийства старика, и они обтяпали это дело? Видите, сколько вариантов. А ответить-то мы не можем ни «да», ни «нет».
— Нужны «пальцы» Пестерева, Джума, — твердо сказала Кира, медленно отметив, что от слов Джумы отмахиваться ей нельзя.
— Постараюсь достать. Он вышел уже на работу. Крутит свою баранку. Я через ГАИ попробую, чтоб с баранки сняли. А вот, как с «пальцами» Долматовой?
— Это я беру на себя. — Они покинули квартиру, снова опечатали дверь и ушли…
Перед приходом Долматовой Кира выложила пачку сигарет и свою зажигалку «Клиппер» на видное место на столе, сказала Скорику:
— Виктор Борисович, я начну с нею разговор, а потом через какое-то время скажу, что мне надо минут на пятнадцать выйти, вы ее займете чем-нибудь?
— Постараюсь, если она разговорчива, — ответил Скорик.
— Она очень следит за своей внешностью, как я поняла. Значит, к интересным мужчинам не безразлична. А вы у нас самый интересный.
— А вы у нас самая льстивая, — засмеялся Скорик. — Хорошо, подыграю…
Если прошлый раз Долматова была одета во все темное, с намеком на траур, то сейчас на ней была более свободная по краскам одежда, но вовсе не броская — хорошее платье в мягких серо-коричневых тонах, изящные туфли без каблуков, в тон ко всему сумочка, а на лице побольше макияжа.
— Садитесь, Людмила Леонидовна, — предложила Кира.
— У вас есть что-нибудь новое? — спросила Долматова.
— Работаем, — ответила Кира. — Людмила Леонидовна, вы знали о том, что у Гилевского есть родственник Пестерев Вадим Никитич?
— Да, даже однажды покойный Модест Станиславович познакомил нас, он, кажется, шофер.
— Вы поддерживали с ним отношения?
— Абсолютно никаких. Я и видела-то его всего один раз.
— И какое он на вас произвел впечатление?
— В сущности никакого.
— А сейчас, после смерти Гилевского, вы виделись с ним?
— Нет.
— Как же так, все-таки он единственный родственник, наследник?
— Я даже не знаю ни его адреса, ни телефона, — смутившись, ответила Долматова. — Разрешите, я закурю, — она потянулась было к сумочке, стоявшей у ножки стула, но Кира любезно пододвинула ей свою пачку сигарет и зажигалку.
— Курите.
Узкими холеными, чуть дрожавшими пальцами Долматова долго извлекала сигарету, затем прикурила. Киру удивило, что у такой крупной женщины столь узкая кисть и тоненькие, как у девочки, пальцы. В это время приоткрылась дверь, заглянувшая секретарша прокурора области сказала писавшему Скорику:
— Виктор Борисович, шеф срочно просит.
Скорик встал, посмотрел выразительно на Киру и развел руками, мол, ничего не поделаешь, вынужден покинуть вас, и вышел. Это нарушало задумку Киры, но она нашла выход из положения, глянула на часы, сказала Долматовой:
— Людмила Леонидовна, извините, мне нужно отлучиться на несколько минут, подождите, пожалуйста, меня в коридоре.
Долматова кивнула, вышла. Кира осторожно двумя пальцами взяла за торцы пачку сигарет и зажигалку, завернула в носовой платок, порылась в бумагах нашла дактокарту с «пальцами», снятыми Кисляком на квартире Гилевского, и заперев кабинет, направилась к Войцеховскому. Тот смотрел по видеомагнитофону какой-то следственный эксперимент — выход на место происшествия вместе с подозреваемым.
— Присаживайтесь, Кира Федоровна, посмотрите наше кино, это, правда, не мультики и не порнушка, но все-таки кино, — сказал Войцеховский.
— Я к вам по срочному делу, Адам Генрихович, — сказала Кира, выручайте.
Он остановил кассету, поднялся из кресла.
— Что стряслось?
— Вы могли бы срочно снять «пальцы» с пачки сигарет и с зажигалки? Кира развернула платок.
— Это уже для нас сверхурочная работа, Кира Федоровна, для этого есть другие службы, — пробурчал Войцеховский, разглядывая лежавшие на ладони Киры пачку «LМ» и зажигалку.
— Очень нужно, именно сейчас, — взмолилась Кира.
— У Скорика за такую услугу я потребовал бы бутылку коньяка. А что с вас возьмешь? Оставляйте.
— А это дактокарта. Потом сравнить надо будет.
— Хорошо, я вам позвоню.
Кира вышла.
— Извините, — сказала она Долматовой, сидевшей на скамье напротив кабинета.
Они вошли, заняли те же места — Кира за столом, Долматова напротив.
— Мы произвели выемку завещания у нотариуса, — сказала Кира. — Так что с получением наследства вам придется подождать до окончания следствия.
— Я не тороплюсь. Слишком деликатный вопрос.
— Вы собираетесь потом встретиться с Пестеревым? Он, единственный родственник, остался как бы обойденным, все завещано вам.
— Я об этом думала. И потом я не знаю, где его искать.
— Я вам дам его телефон… У вас не возникало желания посетить квартиру Гилевского. Все-таки вы прежде там бывали.
— В общем нет, тем более, что она, вероятно, опечатана вами.
— Опечатана. Но кто-то сорвал печать и побывал там. Как думаете, не Пестерев ли?
— Об этом судить не могу, — ответила Долматова, как-то напрягшись.
Это не ускользнуло от Киры, она спросила:
— По-вашему мнению, у Пестерева мог быть второй ключ от квартиры Гилевского?
— Понятия не имею. Возможно.
— А у вас?
— У меня нет, — быстро ответила Долматова…
Задавая разные вопросы, Кира тянула время. Наконец раздался телефонный звонок.
— Слушаю, Паскалова, — Кира сняла трубку.
Звонил Войцеховский:
— Вы одна?
— Нет.
— Понятно. Тогда слушайте. Я сразу увидел, что «пальчики» дамские. Даже не сравнивая с теми, что на дактокарте. Тоненькие папиляры. А когда сравнил — сошлось, с теми, что на дактокарте. Кто у вас сидит? Она?
— Да.
— Сейчас лаборант занесет вам.
— Большое спасибо, Адам Генрихович.
— Благодарность принимаю, — он повесил трубку.
Кира как-то весело взглянула на Долматову, подумала: «Что же ты делала там?»
Лаборант занес тоненькую папку:
— Вам от Адама Генриховича.
— Спасибо, — сказала Кира и уже Долматовой:
— Людмила Леонидовна, если у вас нет ключа от квартиры Гилевского, как же вы туда проникли?
— Но я!..
— Не надо, Людмила Леонидовна, вы там были. И оставили след в виде отпечатков пальцев. Вот, — Кира раскрыла папочку. — Это «пальцы», которые мы нашли в квартире. А это ваши, с моих сигарет и зажигалки. Они идентичны. Человек вы образованный, надеюсь, понимаете, что это неопровержимо.
Долматова кивнула, поникла, опустила голову.
— Вы были там с Пестеревым?
— Нет, одна, — тихо ответила Долматова.
— Как вошли?
— У меня есть второй ключ.
— Откуда он у вас?
— Модест Станиславович дал мне его. Давно. Я иногда приходила туда без него. Убрать, пыль смахнуть. Когда он уезжал в отпуск. А уезжал он на месяц, полтора. В Трускавец или Железноводск, — она говорила волнуясь, короткими фразами.
— Что вам в этот раз понадобилось там?
— В сущности ничего. Просто посмотреть, все ли на месте.
— Вы полагали, что есть некто, кто может вас упредить, проникнуть туда.
— Была такая мысль.
— Кого вы подозреваете?
— Пестерева.
— Подозревали только в этом?
— Не только.
— На основании чего?
— Он же не знал, что все унаследую я.
— Это единственная причина для такого подозрения?
— Пожалуй… Я нарушила закон, сорвав печать?
— А как вы думаете?!
— Что мне теперь будет?
— Ничего вам не будет, — Кира махнула рукой. — Есть факт проникновения, но нет кражи… А ключик вы мне отдайте.
Долматова достала из сумочки ключ.
— Что мне теперь делать? — спросила.
— Занимайтесь своими делами. Всего доброго, Людмила Леонидовна…
Когда Долматова ушла, Кира, повертев в руках свою пачку сигарет и зажигалку, закурила. Она с нетерпением ждала Скорика, чтобы все ему поведать.
11
«Кто-то из них врет — либо Жадан и Чаусов, что были в день и час убийства на выставке мебели, либо Огановский, утверждающий, что был там в это же время», — мысль эта донимала Киру несколько дней, пока она не решила назначить повторную встречу. Начала она с Чаусова. Он пришел в том же костюме, такой же худой, с нервным, несколько осунувшимся, как ей показалось, лицом. Но начала Кира с другого:
— Алексей Ильич, я хочу разобраться в датах, выстроить их последовательно. Вам знакома эта книга, — она показала ему книгу американца Дж. Бэррона «К истории ювелирного дела», изданную в Нью-Йорке в 1960 году.
Он полистал книгу, Кире показалось, что Чаусов побледнел, охрипшим голосом он произнес:
— Я об этой книге не знал… Как же так?.. Как она прошла мимо меня?! Откуда она у вас?
— Я взяла ее в библиотеке Академии наук.
— Боже мой, как она прошла мимо меня?! — повторил он сокрушенно.
— А вот из нее цитата. Сэм Шобб пишет Диомиди: «Вы правы, с оказией передавать письма безопасней и надежней. Я совершенно не согласен с Вами, что Ваши эскизы — мертворожденные дети. Уверен, придет время и появится возможность воплотить эти эскизы в материале. Я об этом думаю…» Письмо это, датированное августом 1947 года, опубликовано в 1960-м. В каком году, по словам Гилевского, он возвратил пакет дочери Диомиди? — спросила Кира.
— В 1965-м, вроде так он говорил.
— Таким образом письмо Шобба опубликовано за пять лет до этого?
— Да.
— В 1966 году вышла книга Гилевского «Сравнительное исследование», т. е. через год после того, как он, по его словам, возвратил пакет дочери Диомиди. Но в книге ни слова о пакете. Хотя автор, казалось бы, должен был хоть как-то упомянуть о нем: либо существуют письма и дневники Диомиди, либо их нет, либо они в музее, либо переданы дочери Диомиди. Никакого упоминания, будто пакета вообще не существовало. В 1971 году по решению обкома сейф был открыт. Пакета там не оказалось. В первых двух изданиях книги профессора Самарина он упоминается, как хранящийся в музее. В третьем, посмертном, которое редактировал Гилевский, этой упоминание исчезло. Вы обращали внимание Гилевского на эту странность?
— Обращал.
— Что он ответил?
— Что Самарин, мол, заблуждался, но из уважения к нему Гилевский не стал настаивать на исправлении, а когда Самарин умер, в третьем издании, дескать, восстановил истину и убрал это заблуждение.
— Как по-вашему, каким образом письмо Сэма Шобба могло попасть к американскому автору до того, как пакет был передан дочери Диомиди.
— У меня есть ответ на эту загадку.
— Какой?
— Пакет никуда не пропадал, не передавался в Фонд имени Драгоманова, не возвращался дочери Диомиди. Он оставался в руках Гилевского.
— Да, но в сейфе его не было, — сказала Кира.
— Мало ли куда он на время мог перепрятать пакет, а потом опять вернуть его в сейф, куда годами никто не заглядывал. Допускаете ли вы, что имея столько лет возможность вскрыть пакет, Гилевский удержался от соблазна? Если еще иметь в виду, что он был помешан на Диомиди.
— Да, но ведь сейф можно открыть только двумя ключами, один из которых у директора музея.
— А вот на эту загадку я ответить не могу, — Чаусов был подавлен скорее всего тем, что он, считавший себя лучшим знатоком публикаций, связанных с именем Диомиди, не имел понятия о книге Дж. Бэррона, вышедшей в Нью-Йорке; и еще, вероятно, вопросом: каким образом письмо Сэма Шобба к Диомиди, которое скорее всего находилось в пакете, попало к американскому автору. Если бы оно хранилось в другом месте, то было бы опубликовано давным-давно, ибо написано еще в 1947 году! И не только опубликовано, но и расцитировано!..
Кира наблюдала за Чаусовым. Он был выбит из колеи, обескуражен. И она подумала, что сейчас самое время приступить к главному.
— Надо кое-что привести в соответствие, Алексей Ильич, — начала Кира. — Первый вопрос: скажем, если вам надо пройти в музей этнографии и художественного промысла, вы покупаете билет?
— Нет. Я много лет там проработал, вахтерша Фоминична меня хорошо знает.
— Значит, если бы вы вошли туда, когда проходило шесть-семь посетителей, она могла и не обратить на вас внимания?
— Скорее всего.
— Хорошо. В тот день, когда вы говорите, вы были на выставке мебели, там было много народу?
— Не очень.
— Если бы там в это время находился какой-нибудь ваш хороший знакомый, скажем, Огановский, могли ли бы вы его или он вас не заметить?
Чаусов задумался, затем спросил:
— А что, Огановский был там тогда?
— Когда «тогда»? — спросила Кира.
— Ну… в этот день… в это время.
— Вы не ответили на мой первый вопрос.
— Пожалуй, мог и не заметить.
— А вот Огановский утверждает, что не заметить вас и Жадана, если бы вы находились там, невозможно. Народу почти не было. Впрочем, это легко проверить по количеству проданных в тот день билетов. Ведь это было уже перед самым закрытием выставки, конец дня. Кроме того, есть возможность устроить вам и Жадану очную ставку с Огановским.
Чаусов умолк. Она ждала, давая ему возможность принять какое-то решение. Наконец, сглотнув ком, Чаусов тихо вымолвил:
— Я не был на выставке.
— А Жадан?
И снова пауза.
— Я спрашиваю, Алексей Ильич, а Жадан был?
— Не знаю.
— Где же все-таки вы были в интересующее меня время?
— Я не могу вам этого сказать.
— Что так? Уж не замешана ли тут женщина? — усмехнулась Кира.
— Да.
— Боже, какие банальности! Сейчас вы скажете, что она замужем, что вы, как джентльмен не можете назвать ее имя.
— Именно так.
— Пошловато получается, как из дурного романа, Алексей Ильич. Но если вы не назовете ее, и я не смогу ее допросить, ваше алиби не стоит и выеденного яйца. Вы это понимаете?
— Понимаю.
— Итак?
— Ее зовут Виктория Петровна Непомнящая.
— Где она работает?
— Лаборанткой на химкомбинате. Комбинат в должниках, и многих сотрудников отправили в неоплачиваемые отпуска. Ее тоже.
— Кем и где работает ее муж?
— Он инженер в «Энергосетьинспекции».
— Часто бывает в командировках?
— Да.
— И в этот раз?
— Да… Я прошу вас только, если будете встречаться с нею, постарайтесь так, чтоб муж не знал, не впутывайте ее.
— Насчет не впутывать, — все будет зависеть от вашей и ее правды или неправды… Домашний адрес Непомнящей и телефон, если есть.
Он назвал.
— Значит, вы пришли, зная, что муж в командировке?
— Да.
— В котором часу?
— После пяти вечера.
— И пробыли там до?..
— Начала десятого.
— Откуда вы знали, что муж в командировке?
— Она сказала.
— Она знала, когда он должен вернуться?
— Надо полагать.
— Итак, вы пришли и?..
— Поужинали.
— С выпивкой?
— Немного.
— Что вы пили?
— Коньяк.
— Какой?
— «Десна».
— Бутылка была початая?
— Нет. Я по дороге купил.
— Дальше.
— Слушали музыку. У них есть двухкассетник.
— Какую?
— Концерт Хулио Иглесиаса.
— Потом.
— Смотрели кино по видео.
— Какое?
— «Путь Карлито»…
— Сколько раз вы наливали коньяк в рюмки себе и Непомнящей?
— Четыре-пять раз.
— Кто ставил аудиои видеокассеты? Она?
— Нет, я.
— О финальной части вашего времяпровождения можете умолчать… Кассеты вы с собой принесли?
— Нет, кассеты были у нее… Вы разрешите напиться? — он утер платком лоб и посмотрел на графин с водой.
— Разумеется. Можете налить себе.
Она смотрела, как он жадно пил, как дергался кадык на его худой шее. Он поставил стакан на место, приложил платок к губам.
— Подпишите протокол, Алексей Ильич. На сегодня хватит…
Когда Чаусов вышел, Кира задумчиво посмотрела в окно, на глаза ей попался графин со стаканом, из которого пил Чаусов. «На всякий случай», сказала себе Кира и вытянула салфетку из-под вазочки с цветами, стоявшей на подоконнике, осторожно взяла стакан, завернула в салфетку и спрятала в сейф…
Жадан, юркий, маленький, сидел напротив и демонстрировал хорошее настроение — улыбался. Киру раздражала эта улыбка, она сразу сказала:
— Есть некоторые неувязки, Святослав Юрьевич.
— А именно? — ироническим тоном спросил он.
— В тот день, 21-го июня, после семнадцати часов, как вы утверждаете, вы вместе с Чаусовым были на выставке мебели.
— Были, были. Прекрасные образцы!
— В тот же день и в то же время там был и скульптор Огановский. Вы его видели?
Жадан словно споткнулся:
— Да… то есть нет.
— Так да или нет?
— Нет.
А вот Огановский уверяет, что если бы вы там были, не увидеть друг друга вы не могли.
— Почему? — лицо и шея Жадана покрылась красными пятнами.
— Экспозиция развернута так, что знакомые люди обязательно увиделись бы. И народу в тот день было мало — десять-пятнадцать человек. Но и это еще не все. Чаусов изменил свои показания: он заявил, что не был там с вами в тот день. Хотите очную ставку с ними — Огановским и Чаусовым?
— Как не был?! Мы же… Что же теперь?! — он растерянно заерзал на стуле. — Что же он!..
— Вы хотите сказать, что вы с ним договорились, а теперь он умыл руки.
— Этого не может быть! — взвизгнул Жадан.
— Всякое может быть, Святослав Юрьевич.
— Сволочь он! Что же я теперь… В какое положение…
— В плохое. Так были вы на выставке мебели в тот день или не были?
— Ну не был, не был!
— Зачем же врали?
— Так получилось, случайно… шутя получилось…
— А где вы были?
— Дома сидел! Весь вечер!
— Это плохое алиби. Кто может подтвердить, что вы сидели дома?
— Никто.
— Это совсем плохое алиби.
— Так что же мне делать?
— Говорить правду.
— Да правду я говорю, поверьте!
— Трудно мне вам теперь верить.
— И что же будет? — тихо спросил Жадан.
— То, что и должно быть…
«Что-то проклюнулось или я увязаю? — подумала Кира после ухода Жадана. — Их новые версии алиби придется проверять, с Чаусовым проще, с Жаданом сложнее…» И еще она вспомнила намек Долматовой на хромого Пестерева. Его алиби вообще очень трудно проверить. Ехать в Белоруссию искать его напарников по байдарочному путешествию по Днепру? Как зацепиться за Пестерева, Кира понятия не имела. Никаких зацепок!
Жадан понесся к Огановскому в мастерскую. Тот стоял у раскрытой фигуры всадника. Руки Огановского были в глине. На звук открывшихся ворот он оглянулся.
— Ты чего прискакал? Я работаю. У меня неприемное время, — сказал Огановский, продолжая шлепать по мокрой глине.
— Ты подумай, какая сволочь! — крикнул Жадан. — И захлебываясь, рассказал, что произошло. — Мы же с ним шутя, как в игре, придумали себе алиби! Я ей соответственно и наврал!
— Врать нельзя, мужик. Этому в детсадике еще учили, — равнодушно сказал Огановский. — Теперь она не будет верить ни одному твоему слову. Не с той ноги, брат, плясать пошел.
— Конечно не будет верить! И я бы не поверил!
— А может и вправду вдвоем вы и пристукнули Гилевского?
— Пошел ты! А может это ты! Говоришь, был на выставке мебели? А кто тебя там видел? То-то! Если она начнет тебя потрошить, как ты докажешь, что ты там был?!
— Слушай, Славка, я занят, ты мне мешаешь. Заходи вечером на чашку чая, большего ты не заслуживаешь сегодня, поговорим, — он повернулся спиной к Жадану, вытирая тряпкой руки.
12
Паскалова, Джума Агрба и Войцеховский сидели в кабинете Щербы.
Кира закончила свое сообщение о последних событиях.
— Почему Чаусов так заинтересован в содержимом пакета Диомиди? спросил Щерба.
— Он говорит, что, возможно, кроме переписки, существует дневник, в нем могут быть указания, кому Диомиди когда-либо продал не каталогизированные свои изделия, кому подарил, их названия, что в частных коллекциях. Было бы хорошо, дескать, известить мир, что существуют еще работы Диомиди, которые надо внести в каталог.
— Понятно. Теперь с новым алиби Чаусова и Жадана. С Чаусовым проще. Отправляйтесь к этой даме — Непомнящей. Он, по его словам, провел у нее почти четыре часа. Брал несколько раз в руки бутылку коньяка «Десна», аудиокассету с пением Иглесиаса, видеокассету «Путь Карлито». И все в этот день. Не раньше, не позже. Где-то же он «пальцы» оставил!
— С тех мест, где он точно мог оставить «пальцы», будучи у женщины, мы их снять не сможем, — засмеялся Войцеховский.
— Увы! — хмыкнул Щерба. — Джума, пойди, пожалуйста, к Непомнящей вместе с Кирой Федоровной, подсоби ей.
— Произвести выемку кассет и бутылки? — спросила Кира.
— Непременно. Но с чем мы сравним — вот вопрос.
— У меня есть стакан, из которого Чаусов пил воду, — ответила Кира.
— Умница! Идите, и без «пальцев» Чаусова не возвращайтесь. За Жадана возьметесь потом.
— Вам так хочется подтвердить алиби Чаусова? — усмехнулся Войцеховский.
— Мне хочется знать, кто убил Гилевского… Да, Кира Федоровна, проверьте, был ли в тот день муж Непомнящей в командировке. Ты, Джума, попробуй зацепиться за Пестерева. По сюжету тоже не последняя фигура.
В это время зазвонил телефон. Щерба снял трубку.
— Слушаю. Щерба. Кто, кто? Следователь Паскалова у меня. Передаю ей трубку. — И обращаясь к Кире, сказал: — Директор музея по вашу душу.
Кира поняла, что-то стряслось, не стал бы Ласкин, деликатный человек, обзванивать прокуратуру, чтобы разыскать Киру.
— Это Паскалова, Матвей Данилович, — сказала она.
— Произошло нечто невероятное, — взволнованно произнес Ласкин. — Я очень бы хотел, чтобы вы приехали, если можно.
— Хорошо, минут через сорок. Терпит?
— Да. Жду вас.
— Что-то там стряслось, — сказала Кира Щербе. — Просит приехать.
— Поезжайте. Составь компанию Кире Федоровне, Джума, — попросил Щерба, — на всякий случай.
— Я тоже поеду, — произнес Войцеховский.
— Буду очень рада, — сказала благодарно Кира.
Ласкин ждал их у себя в кабинете. Он, правда, не ожидал, что вместо одной Киры заявятся трое и несколько растерялся.
— Что случилось, Матвей Данилович? — спросила Кира.
— Когда я куда-нибудь уезжаю, моя секретарша сохраняет мне все газеты: «Литературку», «Известия» и нашу местную «Городские новости», начал он несколько торжественно. — Сегодня я выбрал время, чтобы просмотреть всю пачку, что-то оставить для прочтения, остальные выбросить. И вот номер наших «Городских новостей», — воздел он руку с газетой, — где опубликована фотография покойного Модеста Станиславовича и небольшое интервью с ним с связи с его намечавшейся и такой престижной для нас поездкой в США. Когда я увидел фотографию, я пришел в ужас. Полюбуйтесь, протянул он Кире газету.
Она развернула ее во всю полосу. В левом верхнем углу фотоснимок: высокий лысый человек стоит на пороге кабинета.
— Что же вы увидели здесь необычного? Это, что не Гилевский? спросила Кира.
— Нет, это именно он! Но что за ним, вглядитесь?!
— Комната. Слева сейф.
— Какая вы невнимательная, — огорчился Ласкин. — Сейф, сейф-то приоткрыт. Щель почти с ладонь! Каким образом, как, кто?! Ведь второй ключ у меня!
Только теперь Кира поняла, что так взволновало Ласкина: действительно, дверь сейфа была приоткрыта сантиметров на шесть-семь. Кира передала газету Войцеховскому.
— Давайте пройдем в кабинет к Гилевскому, — предложил Войцеховский. Возьмите двух сотрудников. Матвей Данилович, нужны понятые…
— Он был заперт и тогда, когда мы осматривали кабинет в день убийства, я даже подергала ручки — заперт, — сказала Кира.
— Вы знаете, что там должно быть? — спросил Войцеховский у Ласкина.
— Разумеется! На память помню.
— Кира Федоровна, второй ключ у вас? — спросил Войцеховский.
— У меня.
— Тогда давайте откроем сейф.
С помощью двух ключей отперли дверь, открыли ее, тяжелую, массивную. Ласкин заглянул. Начал перечислять:
— Это скифские ушные подвески из золота с камнями. Ценность их в камнях. Нигде, никому, никогда они не попадались больше, словно природа один раз продемонстрировала их мастеру полторы тысячи лет назад и затем упрятала навсегда. Дальше. Это — декоративная булава — серебро, золото, драгоценные камни, подарок Сигизмунда одному из гетьманов. Пояс, IX век, выполнен из золотых пластин, покрывающих кожу, на бирюзовых камнях золотом арабские письмена. Два серебряных женских браслета, XI век, с черным жемчугом. И, наконец, константинопольская панагия VIII век, уникальная эмаль, по периметру бриллианты, по три карата каждый. Все на месте, закончил Ласкин.
— Вы уверены? — спросила Кира.
— Все, что в описи, а эту опись я знаю на память.
— Вы часто заглядывали в сейф? — спросила Кира.
— Почти никогда. Раз-два в год. В этом не было нужды. Часто лезть в него значило бы выразить недоверие Гилевскому, обидеть его.
— А сюда, в кабинет, часто заходили?
— При необходимости. Два-три раза в месяц… Что же преступник искал здесь? Странно, ничего не похищено!
— Этого мы еще не знаем, — ответила Кира.
Между тем Войцеховский думал: «Когда Паскалова осматривала тогда кабинет, с нею не было никого, кто бы часто имел возможность входить к Гилевскому и помнить, что, где лежит». Войцеховский обратился к Ласкину:
— Матвей Данилович, внимательнейшим образом осмотрите все вокруг, что сдвинуто, перемещено, переставлено местами, чего не хватает на письменном столе, на этажерке, где пишущая машинка, в общем все.
Ласкин осматривал кабинет, двигаясь от предмета к предмету. Постоял у письменного стола, словно обшаривал его глазами: перекидной календарь, стопка чистой бумаги, высокий пластмассовый стакан с карандашами и шариковыми ручками, настольные часы в махоневой оправе, телефон, рядом телефонный справочник.
— Не хватает пустяка, топора, — вдруг сказал он.
— Какого топора? — удивленно спросила Кира.
— Сейчас, одну минуточку, — он быстро вышел из кабинета, они слышали его шаги, торопливо удалявшиеся вниз по лестнице. Вскоре он вернулся, разжал кулак. На ладони лежал клинообразный четырехгранный плохошлифованный камень. — Это топор далеких наших предков, — сказал Ласкин. — Каменный век. Он привязывался к палке-рукоятке и им орудовали. Нам после раскопок на Селикатовском городище досталось шесть штук таких. Пять пошло в экспозицию. Один взял себе Гилевский. Видите зарешеченное окно? Летом из-за духоты Гилевский держал окно распахнутым, а чтоб ветер не сдувал бумаги, клал сверху такой топор. Вот его-то и нет на столе.
Кира и Войцеховский поочередно разглядывали древнее орудие быта и охоты.
— Я могу взять это, не оформляя выемку? — спросила Кира у Ласкина. Как вещественное доказательство именно этот топор мне не нужен, я не буду приобщать его к делу, а через какое-то время я вам его возвращу.
— Пожалуйста, конечно, — кивнул Ласкин…
Пока Кира, Войцеховский и Ласкин беседовали, Джума из кабинета углубился в полумрак хранилища фондов. Стеллажи, стеллажи с тысячами папок до самого потолка, наклонные столы, где под стеклом какие-то предметы. В одном месте, между стеллажами было расстояние метра в полтора, прикрытое старым зеленым бархатом, свисавшим с карниза, висевшего под потолком. Джума отодвинул бархатное полотнище и увидел… дверь, обитую белой жестью. К ней почти вплотную, но под углом стоял один из стеллажей. На дверном косяке висел снятый со скобы в двери огромный крюк шириной в три пальца, сделанный из пятимиллиметровой стальной полосы. Джума примерил крюк, он точно заходил в скобу на двери. Расстояние между стеллажами, стоявшими по обе стороны двери под углом, было сантиметров тридцать пять, как прикинул Джума. Открывалась дверь внутрь, и приоткрыть ее можно было не более, чем на те же тридцать пять сантиметров — мешал стеллаж, сплошь забитый папками. О том, чтобы сдвинуть стеллаж с места не могло быть и речи еще и потому, что он был привинчен к полу для устойчивости скобами. Дверь была заперта на английский замок. Человек комплекции Джумы протиснуться между стеллажами и дверным косяком, если приоткрыть дверь, не смог бы.
— Кира Федоровна, Адам! — позвал Джума. — Загляните-ка сюда.
Они подошли.
— Поглядите, — Джума указал на дверь. — Вы сможете протиснуться, чтобы выйти через эту дверь туда, куда она ведет?
— Я, пожалуй, смогу, — сказала Кира, примериваясь. — Но только боком.
— А мы с Адамом не пролезем, — сказал Джума, — хотя Адам считает, что он немного изящней меня.
— Как вы обнаружили эту дверь? — спросила Кира.
— Случайно. Как и вы второпях случайно не обнаружили. Я увидел бархатное полотнище и заглянул за него.
— А крюк с двери ты снял? — спросил Войцеховский.
— В том-то и дело, что нет. Тут еще замок английский, видишь? На него дверь и заперта.
— Интересная находка, — задумчиво сказала Кира.
Подошел Ласкин.
— Куда ведет эта дверь? Мы на каком этаже? — спросила его Кира.
— На внутренний балкон. Мы на третьем этаже. Балконы на каждом этаже опоясывают все наше здание и примыкающий жилой дом.
— Ладно, пойду гляну, — сказал Джума. Он спустился вниз в холл, вышел на улицу, сразу же нашел широкую, общую для обоих домов подворотню, прошел во двор, напоминавший внутреннюю часть колодца. Действительно, оба стоящие впритык здания опоясывали на каждом этаже длинные балконы. На них выходило по две двери — квартир. Джума знал такие дома: в квартиру можно попасть и через парадную лестницу в подъезде, и через дверь дворового балкона, ведшую на кухню. Лишь на третьем этаже здания музея была одна дверь обитая белой жестью, балкон на этом этаже разделяла решетка — одна половина балкона принадлежала зданию музея, другая — жилому дому. Лестницы с балконов спускались в подъезд, куда можно было войти через общую арку подворотни. Джума поднялся на третий этаж, остановился у обнаруженной им двери, глянул вниз. Двор и впрямь был узкий, как колодец, вымощен булыжниками. Джума осмотрел дверь, ведшую в хранилище. На том месте, где должен был быть сквозной выход английского замка, отверстие было заделано круглым куском железа, посаженного на винты-самонарезы. И Джума понял, что дверь эта не открывается отсюда, снаружи, даже нет дверной скобы. Если к тому же она изнутри еще берется на тот могучий крюк, то войти в хранилище с балкона невозможно.
Он вернулся в кабинет и рассказал Кире и Войцеховскому обо всем, что обнаружил.
— Матвей Данилович, этой дверью пользуются? — спросила Кира.
— Никогда! — ответил Ласкин. — Из нее можно теоретически выйти, но войти нельзя. Ведь крюк еще.
— Но крюк оказался снятым со скобы. Значит кто-то отсюда вышел. Она тоже на сигнализации? — спросила Кира.
— Конечно! На синхронной с входной дверью в кабинет. Но если дверь не взята на крюк, она не плотно приляжет к косяку и тогда на сигнализацию не возьмется ни одна дверь.
— На сегодня впечатлений хватит, — сказал Войцеховский.
Кабинет был снова опечатан, они попрощались с переполошенным директором музея и ушли.
На улице Джума сказал:
— Либо через балконную дверь Гилевский кого-то выпустил и захлопнул ее на английский замок, а крюк забыл набросить, либо кто-то ушел через балконную дверь, захлопнув ее снаружи, уже тогда, когда Гилевский был мертв.
— Если Гилевский выпустил посещавшего его человека, не набросив потом крюк, то дверь в кабинет не взялась бы на сигнализацию. Гилевский не смог бы не обратить на это внимание. А не обратил он внимания потому, что был мертв.
— Вы не забыли газету с фотографией и топор? — спросил Войцеховский.
— Нет, — сказала Кира.
— Подобный топор, возможно, и был орудием убийства.
— И преступник унес его с собой? — спросила Кира.
— Но не принес с собой, — ответил Войцеховский. — Топор попался ему на глаза, когда он вошел к Гилевскому. А это значит, что он шел туда без намерения убить, шел неподготовленный к этому. Но что-то возникло между ними, и он схватил топор каменного века с письменного стола, — заключил Войцеховский.
— Значит, можно предположить, что вошел к Гилевскому кто-то, кого Гилевский знал, — вставил Джума.
— Согласен. Но странно, как уверяет Ласкин, ничего из сейфа не исчезло. А ведь вещи там бесценны, — заметил Войцеховский.
— А может там ничего не лежало, — сказала Кира. — Вернее преступник искал нечто, чего в сейфе не оказалось.
— И он ушел, унеся второй, свой ключ, заперев предварительно сейф, сказал Войцеховский.
— Да, но сейф был открыт до убийства. Мы же видели на фото живого Гилевского с уже отпертым сейфом за спиной, — воскликнул Джума.
— Значит у Гилевского было два ключа? Так, что ли? — спросила Кира.
Они умолкли, каждый о чем-то думал. Через несколько шагов, Кира сказала:
— У меня возникла мысль. Мне надо задать Ласкину еще несколько вопросов.
— Я иду на работу, — сказал Войцеховский.
— Пойдете со мной, Джума? — спросила она Агрбу.
— Давайте, чего уж там…
Ласкин удивился, увидев их.
— Что-нибудь не так? — тревожно спросил он.
— Матвей Данилович, вот такой вопрос, — сказала Кира, — на вашей памяти сейф ремонтировался, вернее замки?
— При мне нет, но при моем предшественнике ремонтировался. Точно не знаю, что там было: замок или ключи.
— Вы не знаете, кто ремонтировал?
— У нас был один слесарь. В музее ведь не только этот сейф. Мы очень много лет пользовались услугами этого слесаря.
— Кто тогда вызывал его?
— Вот этого не знаю. Либо Гилевский, либо директор.
— А где его найти, этого слесаря?
— Он работал в мастерской возле Центрального рынка, — Ласкин полистал длинный узкий телефонный справочник. — Фамилия его Ющенко Дмитрий Тарасович… Я угадываю ход ваших мыслей, — сказал Ласкин.
За все время Джума не проронил ни слова, он понял, ему придется разыскивать этого Ющенко, и сейчас Джума вспоминал, сколько в городе слесарных мастерских и где они расположены…
Когда они вышли из музея, Джума сказал:
— Значит я ищу слесаря, обхожу соседей по балкону, может видели, кто выходил из двери музея через балконную дверь. Что еще?
В понедельник поедем беседовать с любовницей Чаусова Непомнящей.
— Понятно. Значит до понедельника…
13
В субботу утром Кира с мужем собрались на два дня на базу отдыха военного округа. Это были прекрасные места: смешанный лес, большие искусственные, но с проточной водой, пруды в лесу, перегороженные дамбой, деревянные двухместные домики.
Набив сумки едой и термосами с кофе, надев спортивные костюмы, они сели в свой беленький «Москвич» и отправились на «Малый Майдан» — так называлась база отдыха. Было девять утра, когда они туда прибыли, взяли у коменданта ключи от свободного домика, сложили вещи, муж надел плавки, Кира купальник и босые, с наслаждением ощущая траву под ногами, пошли они по лесной тропе к прудам, захватив надувные матрасы и три бутылки — две с пивом и одну с минеральной водой. В лесу уже раздавались громкие голоса, где-то на поляне слышны были удары по мячу, в прудах уже кто-то плескался. Устроились на лесной прогалине, сквозь деревья просверкивала вода. День обещал быть жарким. Полежав какое-то время на матрасах, они искупались, затем снова улеглись загорать.
— Смотри, не обгори, — сказал муж.
— Я осторожно, — она перевернулась на спину.
Они долго лежали молча, он на животе, уткнув лицо в скрещенные руки, она на спине, смежив веки, лежали расслабленно, бездумно, в какой-то полудреме. Затем муж сел, закурил.
— Хочешь сигарету? — предложил.
— Нет, все! С сегодняшнего дня бросаю.
— Что у тебя с делом Гилевского?
— Движется. Если выстроить последовательно даты и события, картина получается странная, но обретает логику, — она принялась рассказывать. — В письме Сэма Шобба, адресованном Диомиди, Шобб высказывает надежду, что по каким-то эскизам Диомиди дело его может быть продолжено. Вопрос: кем, каким образом? Кроме того, анализируя даты, сопоставляя их и разные цитаты, я пришла к мысли, что пакет существовал, что он не исчез, а кем-то был припрятан. У меня сложилось впечатление, что это сделано с далеко идущей целью. Кто-то побывал в кабинете Гилевского и ушел через дверь, которую обнаружил Джума. Пройти в нее мог только очень худой человек. Это могли быть трое: родственник Гилевского Пестерев, Чаусов или Жадан.
— А ты бы пролезла там? — засмеялся муж.
— Сейчас еще да, через три-четыре месяца уже нет, — улыбнулась Кира.
— Он осторожно положил большую руку на ее живот, сказал:
— Расти…
Кира ждала ребенка. Первая беременность окончилась трагически: ребенок родился мертвым. Об этом они никогда не говорили — слишком больно.
— Открой водичку, — попросила Кира.
Он открыл ей бутылку воды, себе — пива. Откуда-то потянуло вкусным дымом и жарившимся мясом.
— Кто-то уже шашлыки варганит, — сказал муж.
— Хочешь есть?
— Нет еще, пойду прогуляюсь к рыбакам. Пойдешь со мной?
— Нет, полежу.
Он ушел. Стало жарко, она перебралась в тень, легла набок, прикрыв ноги от мошкары и прочей лесной живности куском ткани, и задремала.
В понедельник с утра Джума входил под высокую арку гулкой подворотни — общей для здания музея и жилого дома. По внутренней лестнице поднялся на балкон третьего этажа, подошел к двери первой квартиры, поскольку звонка не было, постучал. Никто не отозвался, но из соседней квартиры с тазом белья вышла женщина. Заметив Джуму, сказала:
— Их нет дома. Виталий в больнице, Маруся пошла к нему.
— Тогда я у вас кое-что хочу спросить, — Джума достал удостоверение. — Скажите, вы не видели недели три назад, чтоб кто-нибудь выходил из этой двери? — он указал на железную дверь, ведущую в хранилище музея.
Женщина опустила таз с бельем на доски балкона, вытерла о передник руки, задумалась.
— А у них через эту дверь вообще никто никогда не ходит, — сказала она. — Нет, ничего такого я не видела. — А когда могли ходить, в какое время?
— Часов в пять-шесть, может чуть позже.
— Тут у нас кухня, — показала она на свою дверь. — В это время мы обедаем. Если уж не увидела бы, то, может, услышала, если б кто ходил.
— Спасибо. До свидания, — Джума направился к лестнице, спустился этажом ниже, вышел на балкон второго этажа. Обе квартиры были расположены также, как и на третьем. Он постучал. Открыли сразу, вышла старуха.
— Вам кого? — спросила.
— Я из милиции. Вы часто бываете на балконе?
Оглядев подозрительно Джуму серыми выцветшими глазами, она спросила:
— А вам-то что?
Видимо, услышав голоса, на балкон вышел паренек лет пятнадцати, он жевал.
— Тут из милиции, — сказала пареньку старуха.
— Я действительно из милиции, — сказал ему Джума и показал удостоверение.
— А кто вам нужен? — спросил парень.
— Видишь ту дверь, — Джума задрал голову и указал на обитую железом дверь музея. — Скажем, двадцать первого июня не видел ли ты кого-нибудь входящего или выходящего оттуда?
— Видел, — просто, словно это происходит ежедневно, ответил парень. Я учусь во вторую смену, у нас было два «окна», химичка заболела, я пришел раньше, сел на балконе почитать, у нас тут во второй половине дня солнце. Он и вышел тогда из этой двери.
— Кто? — не веря своим ушам спросил Джума.
— Молодой дядька. Низенький, щуплый. Хромал он.
— Какого числа это было? Месяц?
— Не помню. Весной, кажется в апреле.
— А время?
— Я же говорю, я пришел из школы рано. Было, наверное, часов пять-шесть. Солнце еще не зашло за крышу…
Джума спускался по лестнице в хорошем расположении духа: щуплый, маленький, хромал. Пестерев! «Он вышел из хранилища. Но как вошел в музей? Купил билет? — раздумывал Джума. — Но Пестерев и не скрывал на допросе, что по просьбе Гилевского встречался с ним. Но может, была еще одна встреча, о которой он умолчал?»
Выйдя из подворотни, Джума стал думать, что делать в связи с открывшимся новым обстоятельством. «Ладно, — решил он, — пусть это прокачивает дальше Паскалова, а мне на сегодня еще хватит беготни, пока найду этого слесаря, специалиста по сейфовским замкам». И он зашагал к Центральному рынку, около которого, по словам директора музея, была мастерская, где работал слесарь Ющенко Дмитрий Тарасович…
У рынка было много грузовых машин, фургонов, ларьков, лотков, шла бойкая торговля. Возле весовой немолодая женщина в оранжевой безрукавке с метлой и совком в руках убирала мусор. Джума обратился к ней.
— Вы не знаете, где тут слесарная мастерская?
— А ее уже нет, — сказала женщина, — закрыли, вместо нее обувной кооператив, — и она указала на дом, где висела табличка «Сапожок».
— А куда мастерскую переселили?
— Где-то на Привокзальной вроде.
Вздохнув, Джума сел на трамвай и поехал на Привокзальную. Мастерскую он нашел за хлебным магазином. У входа висела табличка «Ремонт замков, изготовление ключей и прочие услуги». Он вошел. За барьером стоял молодой человек в синем халате, в глубине виднелись две комнаты с верстаками, токарный станок.
— Завмастерской на месте? — спросил Джума у молодого человека.
— Сейчас позову, — он отошел в глубину, крикнул: — Владимир Карпович, вас клиент просит.
Вышел пожилой человек в зеленой заношенной военной рубахе, с которой давно были спороты погоны, в засмальцованных брюках.
— Вы ко мне? — спросил он Джуму.
— К вам. Может поможете. Я ищу Ющенко Дмитрия Тарасовича. Он работает у вас?
— Уже нет, ушел на пенсию, стар. Что, сейф барахлит?
— Барахлит. А домашний его адресок не дадите?
— Он обслуживал вас раньше?
— Да.
— Иногда он еще соглашается пойти к старым клиентам. Подождите, поищу, — он отошел к шкафу, стал рыться в бумажках, затем вернулся: Запишите: улица Кривоноса пять, квартира семь.
— Спасибо, — кивнув, Джума вышел. Он знал: Кривоноса находится в новом жилом массиве, ехать туда троллейбусом. Ехать далеко. Еще десять-пятнадцать лет назад там было поле, стадион какого-то завода и ипподром. Джума сидел у окна, смотрел. Теперь поле было вдоль и вглубь застроено новыми высотками, лишь кое-где меж ними, как гнилые зубы среди здоровых торчали старые однои двухэтажные развалюхи. Дом пять он и нашел среди этих доживавших свой век строений. Квартира семь была на втором этаже. Позвонил. Дверь открыла пожилая женщина.
— Вам кого? — спросила она нелюбезно.
— Ющенко Дмитрий Тарасович здесь живет? — спросил Джума.
— Здесь, здесь, оставили б его в покое уже, на пенсии он.
— Я из милиции, по важному делу.
Она недоверчиво оглядела Джуму — его безрукавку, живот, вывалившийся из брюк, затем крикнула куда-то в глубину квартиры:
— Дед, к тебе, вроде из милиции.
Джума несмело вошел в переднюю. Навстречу ему вышел старик в теплой байковой сорочке, поношенных брюках и шлепанцах на босу ногу.
— Из милиции говоришь? — он смотрел на Джуму сквозь очки в плохонькой оправе. — Проходи. Когда-то я один сейф твоему начальнику доводил до ума. Садись.
Джума сел на шаткий простой стул.
— Я к вам по другому делу, Дмитрий Тарасович. В свое время вы обслуживали сейфы в музее декоративного и прикладного искусства.
— Было такое. Там в секретном кабинете строгий профессор работал.
— Работал. Профессор Гилевский, — уточнил Джума.
— Во-во! Сейф у него древний, но сильный, венский «Густав Шлезингер».
— Когда вас Гилевский приглашал последний раз?
— Дайте-ка подумать, — он притронулся к дужке очков, и Джума увидел большие, некогда сильные пальцы с темными трещинами у ногтей. — Давно, очень давно, годов пятнадцать-двадцать назад, если не более.
— В связи с чем?
— Сейф тот запирается на два замка. Так вот во втором выработался один зубец. Ну этого ты не поймешь. Тут только я кумекаю. И попросил профессор сделать к этому замку ключ. Свой он утерял. Мастачил я это дело две недели. Вот и вся сказка тебе.
— К какому замку вы делали ключ — к верхнему или нижнему?
— К нижнему.
— И вы это запомнили?! — удивился Джума.
— А как же? Сейфы ломаются не каждый день. Те, что я обслуживал, помню и знаю на память, знаю, у какого какой норов. Что ж ты хочешь, парень, это моя работа, тут халтурить нельзя, это тебе не ключик к английскому замку сделать. Тут мой авторитет нужен, — не без гордости сказал старик.
Джума встал.
— Все, Дмитрий Тарасович. Больше вопросов у меня нет. Простите, что побеспокоил, желаю вам здоровья.
— Э-э, где его теперь купишь, здоровье-то. Жизнь бьет не по годам, а по ребрам… Ну, будь здоров!..
Джума отправился в прокуратуру, Паскалова его уже ждала.
— Дайте чего-нибудь попить, — попросил Джума, утирая лицо платком. Набегался, жарко, — он взял графин. — А стаканчик есть?
— Есть, но на нем «пальцы», я его на всякий случай заперла в сейф.
— Чьи «пальцы»?
— Чаусова. Сейчас принесу вам стакан. Она куда-то сбегала, принесла чашку.
Шумно отодвинув стул, Джума уселся. — Итак: Пестерев наносил визит Гилевскому. Похоже его, выходившего через балконную дверь, видел мой свидетель. Так и сказал: «Молодой дядька. Низенький, щуплый. Хромал он».
— Когда он его видел?
— Время подходит: в пять-шесть вечера.
— Число, месяц?
— Вот тут закавыка. Парень сказал, что это была весна, кажется апрель.
— А Гилевский убит двадцать первого июня, совсем недавно. Вряд ли ваш свидетель спутал весну с разгаром лета. Это раз. Во-вторых, ведь и Пестерев говорит, что был у Гилевского в апреле, — сказала Кира.
— Но мы не знаем, где он был у Гилевского: дома или на работе?
— Да, это мое упущение. Знаете что, сейчас мы поедем к любовнице Чаусова госпоже Непомнящей. Я отправлюсь сразу к ней, а вы по дороге заскочите в банк, постарайтесь повидать Пестерева, поговорите с ним.
— Хорошо. Теперь дальше: я нашел слесаря, обслуживавшего сейфы в музее. Когда-то по вызову Гилевского он ремонтировал нижний замок сейфа в кабинете Гилевского, и наш покойный профессор, сославшись, что потерял ключ от нижнего замка, заказал слесарю второй ключ.
Кира была поражена:
— Значит у Гилевского было два ключа, он без директора музея мог запросто открыть сейф?!
— Выходит, так, — согласился Джума.
— Видимо, ему очень понадобилось открыть сейф, что-то посмотреть там или взять, — резюмировала Кира. — С тех пор он постоянно имел такую возможность. «Неужели пакет Диомиди?» — подумала про себя Кира. И сказала: — Ну что, отправимся. Я с Непомнящей созвонилась. Она ждет…
На углу улицы Артема они расстались: Джума пошел в банк, Кира поехала к Непомнящей. Джума предъявил удостоверение милиционеру, стоявшему у двери в банк, и выяснил, что шофер Пестерев и инкассаторы во внутреннем дворе, и сейчас готовятся куда-то ехать инкассировать выручку. Через холл Джума прошел во двор, увидел машину, возле нее троих, Пестерева он узнал сразу. Подошел.
— Вадим Никитич, поговорить надо, кое-что уточнить, отойдем в сторонку. — Они отошли к бочке с водой, стоявшей под водосточной трубой.
— Все по тому же делу? — спросил Пестерев.
— Все по тому же, дорогой.
— Хоть как-то продвинулись?
— С Божьей помощью… Вы когда последний раз видели Гилевского?
— Я же сказал следовательше: в апреле.
— Где? У него дома, у вас дома?
— Нет, у него на работе.
— Как прошли в его кабинет?
— Он ждал меня перед входом в музей, провел к себе.
— В котором часу это было?
— В конце рабочего дня. Кажется, часов в пять или шесть.
— А из музея вышли тем же путем?
— Нет. Он выпустил меня через заднюю дверь, обитую железом, на внутренний балкон.
И больше вы с ним не встречались?
— Да нет же!
— Ну и ладно, — как бы согласился Джума. — Больше у меня вопросов нет.
Пестерев пожал плечами, мол, нет так нет.
«Пожалуй, все и прояснилось», — подумал Джума.
Разговор между Непомнящей и Кирой был в самом разгаре, когда туда явился Джума.
— …В котором часу в тот день пришел Чаусов? — спросила Кира.
— Между пятью и шестью вечера.
— А ушел?
— В начале десятого.
— Виктория Петровна, муж ваш где был в это время?
— В командировке.
— Чаусов знал об этом?
— Разумеется.
— Вы ужинали с Чаусовым, выпивали?
— Да. Коньяк.
— Какой?
— «Десна».
— Выпили всю бутылку?
— Ну что вы! По четыре рюмочки.
— Кто откупоривал, наливал?
— Он.
— Потом?
— Слушали музыку, смотрели фильм по видеомагнитофону.
— Кто ставил кассеты?
— Он, Алексей.
— Виктория Петровна, я вынуждена произвести выемку бутылки, из которой вы пили коньяк и кассеты.
— Зачем? — не поняла Непомнящая.
— Такова процессуальная процедура.
— В чем его подозревают?
— Убит человек.
— И вы подозреваете Алексея? — воскликнула Непомнящая.
— Я веду следствие. Вы могли бы пригласить двоих соседей, как понятых?
— Боже мой, это же унизительно! Пойдут разговоры. Муж узнает.
Непомнящая вышла и через какое-то время вернулась с двумя женщинами.
Кира объяснила им, в чем дело. Те закивали головами. Кира достала из сумочки две больших салфетки, два целлофановых мешочка, уложила туда завернутые кассеты и бутылку. Все это заняло немного времени.
Бледная, сразу как-то спавшая с лица, Непомнящая проводила их до двери…
— Ну что у вас, Джума? Нашли Пестерева? — спросила Кира пока они шли к прокуратуре.
— Нашел. Он подтвердил, что последний раз виделся с Гилевским в апреле.
— Где?
— У Гилевского на работе. И вышел Пестерев через дверь, которая ведет из хранилища на балкон.
— Выходит, Пестерева надо отодвинуть в сторону?
— Во всяком случае пока, — резюмировал Джума. — Мы же не знаем, когда он уехал на байдарке в Белоруссию. И, видимо, никогда не узнаем. И нет гарантии, что он больше не виделся с Гилевским и еще раз не выходил через ту же дверь на балкон, но на этот раз прошел никем не замеченный.
— Да, вздохнула Кира…
Когда пришли, она достала из сейфа стакан, завернутый в салфетку, из которого пил Чаусов, отдала его Джуме, присовокупила пакетики с кассетами и бутылкой «Десны», сказала:
— Попросите капитана Кисляка, чтобы снял со всего «пальцы» и сравнил.
14
Теперь, когда Кира знала все, вернее многое о Диомиди, о какой-то возне вокруг мифического или реального пакета, когда с помощью Чаусова она разобралась в датах, говоривших о том, что, похоже, Гилевский плутовал; когда на лжи попались и Долматова, и Жадан, и Чаусов, но невозможно было проверить, врал ли Пестерев, что уехал в Белоруссию за несколько дней до убийства Гилевского; когда был обнаружен открытый сейф, — ей оставалось всего ничего, как определить, с кого начинать.
Кира стала подшивать к делу накопившиеся бумажки, протоколы допросов, отложила в сторону газету с фотографией Гилевского на фоне открытого сейфа, еще раз прочитала репортерскую заметку под ней, убедилась опять, что ничего в ней необычного нет, прочитала подпись «Текст и фото Л.Бирюкова», сверху на газету положила каменный топор — все это надо будет вернуть директору музея.
В это время позвонили. Она сняла трубку. Женский голос спросил Скорика. Ей показалось, что это жена Скорика — Катя.
— Его нет, он в суде, — сказала Кира. — Пожалуйста, — положила трубку. Но тут же опять раздался звонок. — Я слушаю… Да… Я Паскалова.
— Кира Федоровна, вас беспокоит корреспондент газеты «Вечерний голос» Рубинов. Я давал большой репортаж о предполагавшейся поездке профессора Гилевского в Штаты. Теперь хотелось бы рассказать читателям, как идет расследование убийства.
— По телефону такие вещи не делаются, — ответила Кира.
— С вашего разрешения я готов сейчас буквально на полчаса подъехать к вам.
— Смогу уделить вам действительно не более получаса, — неохотно согласилась Кира.
Он примчался через пятнадцать минут, невысокий, совсем молодой, но уже лысеющий человек, сразу выложил на стол маленький магнитофон-репортер, показал Кире редакционное удостоверение.
— Как вы узнали, что дело веду я? — спросила Кира.
— Господин Щерба сказал. Мы с ним поддерживаем контакты. Так или иначе наша братия вас достанет. Уж больно сенсационное дело.
— Кто это — ваша братия?
— Я имею в виду тех, кто брал в тот злополучный день интервью у Гилевского. А было нас четверо, из разных газет и еженедельника «Экспресс».
— Что вас интересует?
— Все!
— Ну, все не получится. Следствие-то не закончено.
— Хотя бы, что возможно. Хочу быть первым, обставить коллег. Мы ведь «Вечорка».
— Задавайте вопросы.
— Есть ли подозреваемый?
— Есть несколько версий.
— Мотивы убийства?
— Возможно, наследство, возможно, хищение из музея.
— А что похищено?
— Точно еще не установлено. Предположительно нечто, касающееся Диомиди.
— Это связано с несостоявшейся поездкой Гилевского в Штаты?
— Пока сказать трудно.
— У Гилевского есть родственники, наследники?
— Есть дальний родственник.
— Как его фамилия, где он работает?
— Его фамилию рано называть.
— Могу ли я написать, что приближающееся 100-летие со дня рождения Диомиди как-то связано с убийством?
— Этот вопрос еще следствием не прояснен. Напишите, что «возможно».
— Кроме вас, кто еще участвует в поиске убийцы?
— Начальник следственного управления Михаил Михайлович Щерба и сотрудник уголовного розыска майор Агрба.
— Каково заключение экспертизы: как и чем был убит Гилевский?
— Ударом тяжелым предметом в затылок. Предположительно, таким, — она показала ему каменный топор.
— Из каменного века, — вертя в руках топор, засмеялся Рубинов.
— У вас все? — спросила Кира.
— Большего из вас не вытянешь, — развел он руками.
— Пока что большего сказать не могу. У меня к вам тоже есть вопросы.
— Пожалуйста.
Мысль, пришедшая Кире в голову была проста: их, репортеров, у Гилевского тогда находилось четверо, за час до убийства. Может кто-нибудь из них что-то видел.
— Ничего я не заметил, кроме того, что он был раздражителен, неприветлив и несловоохотлив. Пообещал быть поразговорчивей после возвращения из Штатов.
— Я хотела бы поговорить с вашими коллегами, кто брал тогда интервью у Гилевского.
— Леню Бирюкова, фоторепортера, вы найдете по телефону, который указан на последней полосе внизу после слов «Ответственный секретарь», он указал на газету, на которую Кира снова положила каменный топор. Остальных тоже ищите через секретариат: из «Экспресса» там был Толя Кнышев, из «Городской панорамы» Лина Резвина… Когда я смогу к вам прийти за более подробными новостями?
— Позванивайте…
Сунув «репортер» в красивую черную сумку, перебросив ее через плечо, он вышел…
Когда Рубинов удалился, Кира поразмыслив, решила позвонить фоторепортеру Леониду Бирюкову.
— Кто спрашивает? — осведомился мужской голос.
— Следователь Паскалова из областной прокуратуры.
— Это срочно? Он в лаборатории, печатает снимки.
— Не срочно. Попросите, пожалуйста, чтоб позвонил мне, — сказала Кира и продиктовала свой номер.
В это время вошел Агрба. Кира удивилась: он был в форме, сидела она на нем мешковато, было непривычно видеть его таким затянутым. Агрба понял ее удивление, сказал:
— У нас комиссия из Министерства. Еле смылся, пусть Проценко сам с ними водку пьет. Есть интересные новости.
— А именно?
— Во-первых, «пальцы» на бутылке с коньяком «Десна» и на аудиои видеокассетах есть, но это не «пальцы» Чаусова, которые он оставил на вашем стакане. Капитан Кисляк не промахнется. И Чаусов, и его любовница в унисон пели, что бутылку откупоривал и несколько раз брал в руки Чаусов, что кассеты ставил он. Так не бывает, чтоб ни одного «пальца» не оставить, ни одного! И он, и она спелись, придумали ему алиби, целый сюжет. Не был он у нее в тот вечер, — жестко сказал Джума.
— Почему вы так категоричны?
— Да потому, что муж Непомнящей не был в этот день в командировке! Я проверил, не поленился, я был в «Энергосетьнадзоре» у начальника его отдела. И тот сообщил мне, что господин Непомнящий всю ту неделю проболел радикулитом, мне даже показали бюллетень… А вы так хотели найти пальцы Чаусова на бутылке «Десны», — насмешливо закончил Джума.
— Не я, а Щерба. Что, пойдем к Щербе? — спросила она.
— Вы идите, я не могу, мне надо вернуться в управление справку писать…
Он вышел. Она сидела какое-то время раздумывая: надо вызывать Чаусова на допрос, но сперва его любовницу прижать, расколоть, а когда она признается, Чаусову деваться будет некуда, не станет же он придумывать третье алиби, не идиот же в конце концов. Впрочем, всякое бывает…
От раздумий ее оторвал телефонный звонок, она сняла трубку, мужской голос попросил:
— Мне нужно следователя Паскалову.
— Я Паскалова.
— Это фоторепортер Бирюков. Вы звонили?
— Да. Вы не могли бы зайти ко мне минут на пятнадцать.
— По какому вопросу?
— Это я вам скажу при встрече.
— Ладно. Когда зайти?
— Да хоть сейчас.
— Через полчаса буду. Как вас найти?
— Девятнадцатый кабинет. Я жду вас…
Леней Бирюковым оказался человек лет пятидесяти — высокий, стройный с красивым крупным лицом, с густой сединой, он был со вкусом одет — светлая сорочка с закатанными рукавами и светло-бежевые брюки из плащевой ткани.
— Ваше отчество? — деликатно спросила Кира.
— Леонид Аркадьевич.
— Садитесь, Леонид Аркадьевич. Вы извините, что оторвала вас от работы. Я веду следствие по делу об убийстве Гилевского. Хочу задать вам несколько вопросов. Это ваш снимок? — показала она газету.
— Мой. Там и подпись моя.
— Я видела. Скажите, в тот вечер, когда вы снимали Гилевского, вас ничего не насторожило, не показалось необычным?
— Нет, все было нормально, если не считать, что Гилевский был вроде раздосадован нашим нашествием, он даже не пускал нас в глубь кабинета, отжимал в узкий темный коридорчик, пришлось снимать его оттуда.
— Он не мешал вам фотографировать?
— Он нет. Но у меня за спиной вертелся какое-то время мужик, мешал, то наваливался на меня, то заглядывал через плечо, чуть ли не в объектив лез головой. Испортил мне один кадр. Потом он куда-то исчез. Когда мы уходили, его уже не было.
— Вы не запомнили, как он выглядел?
— Нет, честно говоря, было не до него, да и полутемно было в коридорчике. Я спешил сделать два-три снимка, потому что Гилевский торопил нас.
— А у вас сохранился тот снимок, где этот человек влез в кадр, как вы говорите?
— Сохранился, разумеется. Остался на пленке, я ее потом еще доснимал. Все пленки я храню. У меня архив.
— Вы не могли бы напечатать для меня тот кадр? — чувствуя, как нервно запульсировала жилка на шее, спросила Кира.
— Это не проблема. Сегодня вечером сделаю, завтра занесу.
— В котором часу?
— Я перед работой могу, часов в десять утра, если вам годится.
— Вполне!
— Значит договорились…
«Кто же там у него на снимке? — взволнованно гадала Кира, когда фоторепортер ушел. — Пестерев, Жадан, Чаусов?..»
15
Непомнящую и Чаусова она вызвала повесткой на разные дни. Непомнящая явилась приодетая, с заметным макияжем. Но лицо ее было испуганным, испуг этот стоял в глазах, когда села, не зная, куда девать руки.
— Виктория Петровна, что же это вы меня обманули, — с напором начала Кира.
— Упаси Бог! — воскликнула Непомнящая.
— Не торопитесь, сперва выслушайте меня. В тот день и в то время, о котором мы с вами вели речь, Чаусов у вас не был.
— Он вам сказал?!
— Пока нет. Сказали другие вещи: например, отсутствие отпечатков его пальцев на бутылке коньяка, а ведь он, по вашим словам, откупоривал ее, держал в руках несколько раз, брал в руки кассеты, тоже не менее двух-трех раз. Вам это, может быть, ни о чем не говорит, а для нас весьма красноречиво. Ну и кроме того — главное: в тот день ваш муж лежал с радикулитом, мы даже видели его бюллетень.
— Что же теперь будет? — растерянно спросила Непомнящая, глаза ее наполнились слезами.
— Расскажите мне, как было на самом деле.
— Он попросил, — всхлипывая, начала Непомнящая. — Он придумал, заставил меня выучить, сказал, что так нужно, кто бы меня ни спрашивал.
— А вы поинтересовались, зачем ему это?
— Да. Но он ответил: «Делай, как я говорю, если не хочешь, чтоб у меня были большие неприятности».
— Объяснил, какие и в связи с чем?
— Нет, хотя я пыталась, умоляла его рассказать, но он ни в какую, «делай, как я говорю» — и все.
— Напишите подробно, — Кира протянула ей бумагу и ручку. — Сядьте за тот свободный стол.
В дверь постучали.
— Входите! — крикнула Кира.
Вошел фоторепортер Бирюков. Кира нетерпеливо смотрела на него, ей казалось, что он слишком медленно преодолевал расстояние от двери до ее стола. Бирюков достал из большой темно-коричневой сумки, висевшей через плечо, черный конверт и извлек оттуда снимок.
— Вот, пожалуйста, протянул он ей фотографию. Не очень удачно, не в фокусе, он неожиданно влез в кадр.
Много позже, вспоминая эти мгновения, Кире казалось, что она не просто протянула руку за снимком, а почти вырвала его из рук Бирюкова.
На фото на заднем плане стоял Гилевский, за ним — сейф, а в левом углу крупно, размыто, плечо и профиль человека. Чаусов! — узнала Кира. Чаусов! Вот, где он был в тот день и в то время, о которых сейчас писала Непомнящая, не ведая, какое подтверждение ее словам только что принес Кире фоторепортер Бирюков Леонид Аркадьевич.
— Огромное вам спасибо! — воскликнула Кира. — Вы даже не представляете себе, какова цена этого снимка!
— Да ради Бога. Снимок-то некачественный.
— Он высочайшего качества!
— Ну, раз вы так считаете, вам видней. От меня больше ничего не требуется? Автограф не нужен? — улыбнулся он.
— Нет, все в порядке, — он показался ей сейчас, когда улыбнулся, еще красивее, чем в первый раз, и она готова была расцеловать его. Бирюков вышел.
Радости ее не было предела, она нетерпеливо спросила Непомнящую:
— Как у вас там?
— Заканчиваю…
Кире не терпелось, чтоб эта смазливая безвкусная бабенка поскорее ушла. Хотелось побыть одной, обдумать свою радость, затем понести ее Щербе. Она еще несколько раз разглядывала снимок, словно боялась, что из его левого угла исчезнет лицо Чаусова. Не очень любезно проводив Непомнящую, Кира пошла к Щербе.
— Что-то вы сияете. Не иначе, как кто-то явился с повинной, — сказал Щерба, подняв лицо от бумаг на столе.
— Ничья повинная мне не нужна, — весело ответила Кира. — Вот, — она положила перед Щербой показания Непомнящей.
— Ну и что? — дочитав спросил Щерба. — Но тут ничего не сказано, где был Чаусов.
— Был он вот где, — и Кира победно сунула ему под нос фото.
Он внимательно всматривался в снимок, затем, хмыкнув, сказал:
— Это уже предмет для разговора с Чаусовым. Вызывайте его.
— Уже вызвала. Как будем с мерой пресечения?
— Поговорю с шефом, дам вам знать. Скорика не видели?
— Он опять в суде, там сегодня распорядительное заседание [судебная процедура, предшествующая судебному заседанию; на распорядительном заседании суд решает, имеются ли достаточные основания для предания обвиняемого суду, соблюдены ли законы в стадии следствия], рассматривают дело авиамеханика Лаптева.
И тут вошел Скорик. Он улыбался.
— Ну? — повернул к нему голову Щерба.
— Все в порядке. Адвокат посрамлен.
— Не спешите, Виктор Борисович. Посмотрим, что будет в судебном заседании. У Киры Федоровны приятные новости. Как старый пессимист могу сказать, что она, кажется, вышла на след.
— Кто же? — спросил Скорик.
— Чаусов, — сказала Кира…
Худой, какой-то изможденный, Чаусов сидел перед Паскаловой вытянув тощую шею, словно аршин проглотил.
— Разговор у нас, наверное, будет долгий, Алексей Ильич. Уж больно много вы, мягко говоря, нагородили неправды.
— Что вы имеете в виду? — обреченно спросил он.
— Оба ваших алиби. От первого вы отказались сами. Между прочим, подставили таким образом Жадана. Я, честно говоря, даже зачислила его в подозреваемые. Это что, был ваш расчет?
— Считайте, как хотите.
— Второе алиби опровергла Непомнящая. Нате, прочитайте.
Он с проснувшимся вдруг интересом стал читать показания своей любовницы.
— Она немножко нафантазировала. Но в общем все правильно, — сказал Чаусов. — Что дальше?
— Дальше я хотела бы знать, где же вы все-таки были в тот день и в то время?
— А как вы считаете? — криво усмехнулся он.
— Я не считаю, я знаю, посмотрите, — Кира протянула ему снимок. Он долго всматривался, затем вздрогнул, словно по телу прошла судорога. Наконец сказал:
— Я не хотел его убивать. Так вышло.
— Расскажите все с самого начала, подробно.
— В тот день я пришел в музей, мне нужно было в отделе кадров сделать запись в трудовую книжку с прежнего места работы, — начал он медленно, повествовательно, словно это признание было давно заготовлено и сейчас представился случай внимательному собеседнику все поведать. — В холл я вошел почти одновременно с журналистами. Они галдели, упоминали Гилевского. Служительница, Фоминична, не обратила на меня внимания, я по-прежнему был для нее свой. И тут я решил последовать за репортерами, меня сжигало желание услышать, что этот старый негодяй станет им говорить. Когда поднялись, вошли в темный коридорчик, я остался за их спинами. Гилевский отворил им дверь, видимо, не ждал их тогда, растерялся, дальше порога не пустил. Но они набросились на него с вопросами. Он коротко отвечал, стараясь поскорее избавиться от них, хотя это не вязалось с его тщеславием. Меня он за их спинами и в полумраке коридорчика не видел. Через плечо фоторепортера я заглянул в кабинет и обомлел: я увидел, что сейф приоткрыт. В отличие от журналистов я-то знал, что это значит! Я быстро вышел, спрятался в туалете на этом этаже, затем услышал голоса репортеров, они уходили, сделав свое дело. Мое же дело только начиналось. Выйдя из туалета, я бросился в кабинет Гилевского. Он не ожидал, растерялся. Я крикнул ему: «Вы старый плут и мошенник!» Я увидел на его письменном столе большой пакет в серой выцветшей бумаге, лежавшую рядом тесьму, которой пакет был перевязан. «Вот он! — сказал я, указав на пакет. — Вы лгали общественности все эти десятилетия! Каким образом вы открыли сейф?! Откуда у вас второй ключ?!» Он не выдержал, заорал: «Вон отсюда, соглядатай! Вон!» — и набросился на меня с кулаками. Вы можете понять, в каком я был состоянии от всего увиденного. Всю жизнь меня морочил этот шельмец. И когда он ударил меня по лицу и на мгновение отвернулся, я не помня себя от обиды и гнева, схватил первое, что попалось на глаза лежавший рядом с пакетом музейный каменный топор, и ударил Гилевского в затылок. Он упал. Я не думал, что убил его, так оглушил, ведь я не был готов к тому, что увижу.
— Таким топором? — Кира извлекла из ящика стола топор.
— Да. Где вы его взяли, я же выбросил его потом на улице в урну? — не поняв, воскликнул в нервном возбуждении Чаусов.
— Что было дальше? — не ответила Кира.
— В замках сейфа торчали оба ключа. Он, видимо, не ожидал, что в такое время кто-нибудь пожалует, отпер сейф и извлек пакет. Он все время хранил его там. Изредка на всякий случай перепрятывал и вновь возвращал на место. Я запер сейф, второй ключ и пакет забрал и ушел.
— Каким образом?
— В задней комнате хранилища есть еще одна дверь, я знал о ней, я снял крюк, протиснулся меж стеллажами, вышел на внутренний балкон, по нему и ушел, — Чаусов полез в карман, вынул длинный ключ и положил Кире на стол, затем наклонился, достал из целлофанового мешка с ручками большой серый пакет, перевязанный тесьмой, положил рядом с ключом, вздохнул: — Вот и все.
— Из каких соображений вы принесли и ключ, и пакет?
— Я понимал, что сегодня все будет кончено. Виктория сказала мне, что была у вас.
— Вы просматривали содержимое пакета?
— Разве я мог удержаться?! Это же бесценно!
— Что-нибудь взяли оттуда?
— Ни клочка, клянусь! Все, что там было, все на месте.
Кира развязала пакет, ей тоже не терпелось хотя бы взглянуть на то, ради чего возникли такие страсти. В пакете было много писем, конверт из плотной бумаги, в котором лежали листки ватмана. Потом пальцы ее нащупали металлические предметы. Она извлекла их — тяжелые столбики, похожие на зубильца, расплющенные, блестевшие металлом с одного конца, словно по ним еще недавно били молотком.
— Что это? — спросила Кира.
— Это самое дорогое — личные клейма Диомиди. Они наносятся на изделия методом штамповки, посмотрите противоположный конец.
На противоположных концах столбиков она увидела какие-то завитушки.
— В какую урну вы выбросили топор?
— Возле музея, за углом.
Кира поняла, что топорик этот ей не найти — из урны со дня убийства уже не раз выбрасывали мусор.
— Чем вы объясните всю возню и ложь Гилевского вокруг пакета: то он заявляет, что не уходит на пенсию, то уходит сразу после 100-летнего юбилея, то заявляет, что возвратил пакет дочери Диомиди, но по датам все это не сходится: письмо из пакета попадает американскому автору до того, как Гилевский якобы передал пакет дочери? Как все это понимать?
— Он хотел вывезти пакет из страны.
— Куда, кому? — спросила Кира.
— Полагаю, в США.
— Зачем?
— Просмотрите пакет, прочитайте имеющееся в нем письмо Сэма Шобба, и вы поймете.
— Он хотел это сделать все сорок лет?
— Не думаю. Сперва он просто сидел, как собака на сене, на этом пакете. Видимо, мысль переправить пакет в США родилась у Гилевского не так давно. После какого-то сигнала оттуда. И вот подвернулся случай — скандал на аукционе, поднятый Кевином Шоббом, и приглашение Гилевского в качестве арбитра.
И тут Кира вспомнила беглую, мало что сказавшую ей тогда запись, сделанную рукой Гилевского на формулярной картонке: «Затея проста по замыслу, сложна по исполнению. Его надо убедить, что мое согласие лишено меркантильных помыслов». Кого и в связи с чем Гилевский собирался убеждать? Шобба? В чем? Эту карточку она нашла в бумагах Гилевского, где была и овировская анкета для выезда за рубеж.
— Напишите все, что вы мне сейчас рассказали, не упуская мелочей, Кира взяла из стопки несколько листов бумаги. — У вас ручка есть?
— Нет, — бледный, уставший, он чуть прикрыл дрожавшие веки…
— Ну что ж, Кира Федоровна, поздравляю, — сказал Щерба.
К моменту их беседы Кира успела внимательно ознакомиться с содержимым пакета: старые счета, письма от заказчиков, от поставщиков, приватные от каких-то приятелей.
— Два дня назад я получил письмо из Израиля от одного давнего знакомого, — сказал Щерба, протягивая ей конверт. Слева на конверте была марка — желтая птичка с черными крылышками. Кира извлекла письмо. Написано оно было на тетрадном листке в клеточку старческими шатающимися буквами:
«Дорогой Михаил Михайлович! Получил ваше письмо. Как обрадовался, представить не можете. Вот ведь, вспомнили старика! Что вам сказать? Живу я на пенсию, как сами понимаете. Квартира есть, конечно, не сравнить с той, какая была — та была трехкомнатная, светлая, паркет. Тут паркетом и не пахнет. Все бы ничего, если бы не жара, мучаюсь при моей гипертонии. Познакомился с местными ювелирами. Дело это тут поставлено солидно. Какой инструмент, аппаратура! А я всю жизнь калечил глаза, все делал кустарно.
Теперь о Вашем вопросе про Кевина Шобба. Я знавал от многих людей еще лет сорок назад про его папашу, Сэма Шобба. Это был очень известный ювелир, он начал свое дело еще в тридцатые годы, а к концу сороковых развернулся вовсю. Набрал хороших мастеров, открыл несколько мастерских и магазинов. Умер он, кажется, году в сорок девятом или пятидесятом, все перешло к его сыну Кевину. Этот работает с размахом, держит марку. Но имейте в виду на всякий случай: большой плут, гешефтмахер. Года два назад приезжал сюда, вынюхивал, сманивал солидных мастеров для какого-то нового дела, которое готовится развернуть. С ним будьте поосторожней. Вот и все, что могу сказать.
Живу я здесь, как все мы эмигранты, кучкуемся, язык этот я никогда не выучу. Дети выучили, слава Богу, работают. Я, как все старики здесь, живу прошлым. Мне ведь уже восемьдесят два, так что скоро в дорогу. Еще раз спасибо за письмо. Передайте привет Арончику, скажите этому старому какеру, пусть работает, сколько сможет. Без работы тоска. С наилучшими пожеланиями Ваш Лев Исаакович Канторович из Хайфы».
— Ну что ж, это укладывается в то, что теперь знаю я, — сказала Кира, дочитав письмо.
— Что вы имеете в виду?
Она положила на стол Щербе пакет Диомиди, развязала тесьму и, порывшись в пакете, достала письмо, протянула Щербе.
— Прочитайте.
Щерба надел очки, висевшие у него на цепочке на груди, стал читать:
«Глубокоуважаемый господин Диомиди! Пользуюсь оказией: из отпуска в Америке возвращается в Россию мой добрый знакомый, сотрудник нашего посольства, господин Хьюз. С ним и передаю это письмо, он найдет возможность доставить его вам. Поскольку в вашей стране послевоенная разруха и голод, никому, разумеется, нет дела до ювелирных красот. Но было бы преступно, если бы из-за этого мир перестал восхищаться вашим талантом. Поэтому у меня к вам серьезное предложение: в ближайшее время в Америку совсем возвращается сотрудник нашего торгпредства в России господин Гренсон, он вам позвонит. С ним вы могли бы передать для меня все ваши новые замыслы — эскизы, и, главное — ваши личные клейма. Я найду лучших ювелиров, и они исполнят все Ваши замыслы. С уважением Сэм Шобб. 29 марта 1949 года. Филадельфия».
— Н-да, — отложил письмо Щерба. — Написано-то по-русски.
— Кто-то, наверное, перевел Шоббу. Но по неизвестным нам причинам Диомиди не воспользовался тогда этим предложением. Вот, — Кира извлекла из пакета плотный конверт, из него штук десять листков ватмана размером с открытку, разложила их перед Щербой. — Это и есть эскизы.
На ватмановских листах тончайшим чертежным пером были нарисованы различные изделия, отдельные фрагменты их: большая брошь, конфетница, диадема, широкий браслет, солонка, лопаточка для торта, сахарница. Под каждым эскизом указывался материал: «золото», «чеканное серебро», «золото-черный жемчуг», «золото с эмалью»…
— Красиво, — сказал Щерба.
— А это и есть самое главное, — и Кира вынула из пакета четыре металлических столбика, похожих на зубильца. — Личные клейма Диомиди!
Щерба вертел их в руках, покачивая головой, затем сказал:
— Значит дело отца с помощью Гилевского хотел осуществить сын, господин Кевин Шобб?
— Да. Делались бы новые вещи по оригинальным эскизам Диомиди, на них ставились бы подлинные клейма Диомиди. Уж мастеров экстра-класса Кевин Шобб нашел бы! И никому никогда в голову не пришло бы, что это подделки. Шобб являл бы миру, скажем, одну-две вещицы раз в два-три года. И объявлял, что это — находка из частных коллекций. Или что-то в этом роде.
— Значит помешал этому Чаусов? — усмехнулся Щерба.
— Чаусова интересовало лишь эпистолярное наследие. Об эскизах и тем более клеймах он и не имел понятия.
— Почему Гилевский согласился на это плутовство?
— Думаю, не из меркантильных соображений. Может быть страсть, жажда увидеть изделия в натуре. Во всяком случае что-то близкое к этому. Одержимый человек…
Другой одержимый, Чаусов, сидел в это время в следственном изоляторе…










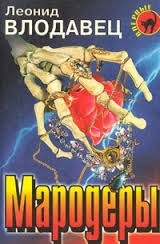

Комментарии к книге «Без названия», Григорий Соломонович Глазов
Всего 0 комментариев