Н. Вел. Бомж МОЙ КЕНТ
1
Раньше он со мной никогда не советовался. Просто называл мне место и время, когда я должен там быть с Матильдой. За день или два до назначенного времени, я изучал ходы и выходы, близлежащие улицы, подъезды домов (нет ли сквозных, через которые можно с улицы войти во двор и наоборот).
В условленное время я стоял с Матильдой и ждал. Если он от места действия отправлялся на машине или каким-то другим видом транспорта, то мне подавался условный знак и мы с Матильдой спокойно убирались восвояси. На размере моей доли это не отражалось — мое участие в деле заключалось в том, чтобы я стоял и ждал, и, в случае необходимости отвозил Юрку таким образом, чтобы нас невозможно было догнать на машине. В том числе на милицейской.
Несмотря на твердую позицию по отношению ко мне — «чем меньше будешь знать, тем лучше для тебя» — на этот раз он вынужден был слегка приоткрыть завесу секретности.
Я был ошеломлен:
— Всю партию?! Но это же не меньше сотни коробок! А может и больше.
— Может и больше. Твой гонорар тоже будет соответственно больше.
— Да дело не в моем гонораре. Ты не думаешь о том, что они за эти деньги, за эти бешеные деньги могут принять меры предосторожности? Это же самое маленькое полмиллиона рублей!
— Самое маленькое. — Он был невозмутим, как полководец, хорошо оснащенным войскам которого противостояла жалкая кучка туземцев. — Могут и принять меры предосторожности, поэтому со мной будешь ты а не кто-нибудь другой. Ты и твоя Матильда Ивановна.
— Мак, — не унимался я, — давай посмотрим на это дело с другой стороны. Представь себе десять тысяч рублей.
— Представил.
— Это не червонец и не стольник. Ты выходишь из дома и у тебя в кармане десять тысяч рублей. Ты садишься в троллейбус, в метро или на такси и едешь куда тебе надо. И какой бы ты не был крутой парень, до тех пор пока ты их не отдашь или не потратишь, ты все время испытываешь некоторое беспокойство: как бы чего не вышло. Даже если ты идешь просто в сберкассу, чтобы положить их на книжку. Когда ты их будешь сдавать в окошко кассиру, за тобой будут стоять два-три человека. Ты их краем глаза, но осмотришь этих двух-трех, что за люди. Маленький-маленький, ну совсем малюсенький мандраж ты будешь обязательно испытывать. КАК БЫ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО. А уж если какой-нибудь амбал находится среди этих трех, то мандраж будет самый настоящий. Деньги-то огромные, два Жигуля, а ты один.
— Ну и что? К чему ты гнешь?
— Как к чему? А если вместо десяти тысяч у тебя больше полмиллиона? Ты на улицу и носа не высунешь, если у тебя по крайней мере человек двенадцать охраны не будет. Вооруженной до зубов.
Он от души расхохотался, обнажив великолепные зубы, которым позавидовал бы Фернандель:
— Ты хочешь сказать, что с этими деньгами половина их республики приедет?
— Не половина. Но они постараются предусмотреть все. У дураков таких денег не бывает. Не надо считать их за дураков.
— Я их не считаю за дураков. Они отдадут деньги и получат товар. Эти бумаги, которые я им вручу, на девяносто процентов настоящие Остальные десять процентов сделаны самым лучшим мастером в Европе. Шаманом. И ты это знаешь не хуже меня. Честно говоря, я мог бы вполне обойтись без твоей помощи, но береженого Бог бережет.
Лучше лишний раз подстраховаться. Нет никакой гарантии, что получив товар, они не захотят отнять и деньги, сделав вид, что это дело рук кого-то третьего.
— Мак, ты в общем исходишь из того, что они не знают обо мне и Матильде, что мы тебя будем ждать там, где им в голову не придет. Это один из основных козырей в твоем рукаве. А если ты ошибаешься? А если пока ты изучал их, вернее возможность отнять у них деньги, они в свою очередь изучали тебя? Предположим что они прекрасно знают о нас с Матильдой. Предположим, что они так же хорошо изучили месторасположение базы и подробную карту местности, где обозначены не только крупные транспортные магистрали, но и тропинки в лесу. Такие карты существуют. С грифом «ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ». И в этом случае им нет необходимости везти за собой половину республики. Достаточно организовать в двух местах засаду, и они не только получают товар, но и возвращают свои деньги.
— Ты хочешь сказать, что нам следует отказаться от этой затеи?
— Нет. Я хочу сказать, что нам следует принять дополнительные меры предосторожности.
— Самая лучшая мера — это сидеть дома и никуда не выходить.
— А что ты скажешь, если в нужный момент появляется некто, слегка похожий не тебя, так же одетый, с точно такой же сумкой через плечо и отвлекает их внимание хотя бы на десять минут? За десять минут я довезу тебя до канадской границы.
— А еще лучше, если мы и тебе двойника найдем, одетого так же как ты, найдем еще одну Матильду Ивановну, нет, лучше двух, и устроим опереточный спектакль перед базой для наших чересчур доверчивых клиентов и под гром аплодисментов, осыпанные конфетти, увитые серпантином, со следами поцелуев на щеках от восторженных поклонниц увозим заслуженный гонорар.
Тебе следует понять, Вадик, одну вещь. Эта операция — хорошо выверенный механизм. И он сработает как надо. Должен сработать. И это совсем не значит, что каждая деталь, каждый винтик, должен знать о конечной цели. Для успешного завершения дела каждая деталь, каждый винтик должны хорошо выполнить СВОЮ работу. Только свою. И только в этом случае операция завершится успешно.
Над ней работала не одна светлая голова, в том числе и вашего покорного слуги. Будут и контрмеры, будет и прикрытие, мы с тобой не одиноки в этом представлении.
Товарная база была очень большая. Ее бетонный забор тянулся вдоль железнодорожного полотна километра полтора. Въездные ворота с проходной выходили на шоссе, которое пересекало железную дорогу под прямым углом. Справа от ворот — стоянка для автотранспорта. Задняя стена склада находилась на территории дачного поселка. К ней примыкали несколько стареньких домиков с небольшими участками.
Я сидел на корточках перед Матильдой на одном из них у самой бетонной стены и делал вид, что вожусь с двигателем.
Похоже, что в доме никого не было, впрочем меня это меньше всего интересовало, Юрка дал мне ключ от калитки и сказал, чтобы мы с Матильдой были каждую секунду наготове — когда Юрка перевалится через забор, секунды будут ценой в жизнь.
Позднее майское утро. Свежая, только что распустившаяся листва на деревьях, ласковое, уже начинающее по-летнему припекать, солнце. Как всегда в эти минуты, я начинал остро и отчетливо представлять себе, чем сейчас занимается Юрка.
К стоянке подъезжает крытая грузовая машина с номерами одной из южных республик. Ее сопровождает Волга с Юркиными клиентами.
Выхаживал он их долго: помог приобрести несколько легковых автомобилей, крупную партию запчастей, партию дефицитного продовольствия и кое-что по мелочам — все с минимальным для себя «наваром». Доверие было завоевано. Теперь они приехали за фирменными видеомагнитофонами.
На базу действительно поступила крупная партия видеомагнитофонов, гости с юга узнали это сами, по своим каналам, и решили купить всю.
Вот Юрка выходит из одноэтажного административного корпуса, расположенного слева от проходной, и направляется к Волге, со своей неизменной папкой подмышкой, в неизменном синем халате, с уверенностью, которая буквально подавляла окружающих, даже меня, знавшего его с детства. Садится в машину, коротко здоровается, не подавая руки, деловито открывает папку и начинает перебирать накладные, квитанции, заявки особенно заостряя внимание на печатях, подписях, резолюциях. Бумаги, как всегда, производят магическое действие, последние сомнения у клиентов уступают место нетерпению быстрее получить и погрузить товар. Но Юрка уверен и нетороплив. Распоряжается подогнать грузовик через въездные ворота (благо, что на въезд никаких документов не нужно), к одной из платформ блок-склада. Передает папку с документами, берет сумку с деньгами и, в сопровождении одного из клиентов, неторопливо идет к административному зданию. В одном из кабинетов в уголке на стульчике лежит его сумка. «Девушка, можно я сумочку у вас оставлю — неудобно с ней по базе болтаться». «Да, пожалуйста, пожалуйста». Юрка кладет сумку с деньгами в свою и, немного поболтав с девушками в кабинете, выходит, отдает мастерски сделанную Лехой-Шаманом квитанцию об оплате клиенту и предлагает ему пройти к блок-складу для получения товара, а он «сейчас пойдет и приведет кладовщика».
Клиента совершенно не волнует, что деньги оплачены не в банке — в предыдущих случаях было так же.
Клиент уходит. В одном из кабинетов есть выход непосредственно на базу. На улицу выходить нельзя…
Я услышал, как Юрка карабкается по прислоненным к стене ящикам и тут же на землю рядом со мной шлепнулась битком набитая спортивная сумка, внушительных размеров.
Когда он уже переваливался через стену, послышался гортанный крик с сильным кавказским акцентом:
— Стой, подожди… Кому говорю, стой, — обладатель гортанного голоса бездоказательно утверждал, что он имел любовную связь с Юркиной матерью, что должно было по его мнению превратить Юрку по крайней мере в соляной столб. Видя, что это не принесло желаемого эффекта, обладатель гортанного голоса прошелся и насчет самого Юрки, который якобы тоже не избежал участи собственной матери, но Юрка был непреклонен и успел развалить ящики, по которым он взбирался на стену. Через мгновение он уже вставал с корточек, лихорадочно снимая свой синий халат.
Я прислонился левым плечом к стене, держа в руках заранее приготовленный шест, которым хозяйка дома подпирала бельевую веревку и, когда надо мной появилась голова, увенчанная кепкой с огромным козырьком и рука с пистолетом, я ударил по ней шестом изо всех сил. Пистолет отлетел далеко к забору, заросшему кустами крыжовника, голова бисексуального любовника исчезла за стеной с тонким визгливым криком: «Ай-яй-яй-яй…»
Я быстро оседлал Матильду, Юрка, поправляя ремни сумки, одетой наподобие рюкзака, уже усаживался на заднее сиденье и торопливо застегивал карабины для соединения двух широких кожаных ремней, заранее одетых на нас. Это сильно облегчало езду и освобождало Юркины руки: он мог переодеть уже на ходу свой синий халат на ветровку, одеть шлем, вырвать сумку у прохожего или отстреливаться, хотя до этого дело никогда не доходило. Юрка был против любого вида оружия, он никогда не носил даже перочинного ножа, а мне оружие надоело в Афгане.
Мы выскочили из калитки, оставив ее открытой, свернули налево к железной дороге пересекли ее по пешеходному настилу и я прибавил газу, хотя дорога была грунтовой.
Перед этим я тщательно изучил карту, предназначенную для служебного пользования, которую мне предоставил Юрка, не спеша проехал по выбранному мной маршруту и запомнил все что нужно.
Мы быстро миновали дачный поселок и, проскочив небольшую полоску леса, замыкавшую его, свернули направо, на тропинку, идущую по краю леса. Слева раскинулось засеянное чем-то поле.
Поле кончилось, уступив место лесу, мы выехали на просеку, тянувшуюся километра четыре. Ехать стало значительно труднее. Наконец просека уперлась в бетонную дорогу, которая была проложена от войсковой части до крупной железнодорожной станции. На огромном щите красовалась надпись: «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА. ПРОЕЗД И ПРОХОД СТРОГО ЗАПРЕЩЕН». Юрка сзади нервно заерзал, но ничего не сказал: каждый из нас знал свое дело. Оставив за собой небольшое облачко поднятой Матильдой пыли, мы устремились по прямой как линейка бетонке. Километра через два — поворот налево. Примерно на половине этого расстояния, справа, раскинулось еще не видимое нам поле. «Поворот — идеальное место для засады», — вдруг подумал я, сбросил газ и остановил Матильду.
— Мак, — обернулся я к Юрке (Мак — детдомовская Юркина кличка, его фамилия была Мокров, сокращенно — Мак). — Мак, ты не думаешь, что вон на том повороте нас могут поджидать?
— До чего же Афган может хорошего человека довести — за каждым кустом душман мерещится, — Юрка слез с Матильды и разминал затекшие ноги.
Я заменил номерной знак, пластинкой старого знака выкопал небольшое углубление положил в него номерной знак и как мог замаскировал, все время бросая взгляд на место поворота бетонки.
Он был уверен в себе и чувствовал себя в полной безопасности. Я снова устроился в седле Матильды, обернувшись подождал пока он усядется позади меня и сказал ему, чтобы он вновь пристегнул карабины к поясам. Он это проделал с явной неохотой, и, хотя я не видел его лица, почувствовал его снисходительную усмешку.
Тем не менее, я решил, не доезжая поворота, свернуть налево в лес, чтобы срезать опасный угол.
Приближался поворот. Справа открылось широкое поле, я прижался как можно ближе к левой стороне бетонки и сбросил газ.
Когда на середине дороги появилась фигура в темном плаще я уже сворачивал в лес. Боковым зрением я видел, что тот правой рукой выхватывает из-за пазухи автомат и вкрадчивое урчание Матильды утонуло в оглушительной очереди автомата Калашникова. Я почувствовал удар в правое плечо и сначала подумал, что задел плечом дерево но уже секунду спустя понял, что ранен. Теплые струйки крови текли по руке и по правому боку, но останавливаться еще было нельзя: неизвестно сколько их там было, вдруг им придет в голову прочесать лес, хотя времени у них на это не было — в воинской части наверняка услышали выстрелы, а отличить охотничье ружье от автомата не сможет наверное только глухонемой.
Я остановился не выключая двигателя, постепенно сбрасывая газ, создавая иллюзию удалявшегося мотоцикла.
Крови из меня вытекло уже достаточно для того, чтобы почувствовать слабость, головокружение и необычайную легкость во всем теле. Поставив Матильду на подножку, я обернулся к посеревшему от ужаса Юрке, судорожно снимавшему с себя рюкзак:
— Я ранен, Мак, попробуй как-нибудь перевязать меня.
Наверное я и сам выглядел далеко не лучшим образом, у Юрки еще сильнее затряслись руки, он засуетился не зная, с чего начать.
— Помоги мне сначала снять куртку, рукав отрезать нельзя, без него на людях не покажешься, — предложил я.
С большим трудом мы сняли куртку, от боли и слабости я чуть было не потерял сознание.
Я был ранен в руку чуть ниже плеча, почти вся правая сторона была залита кровью. Юрка снял свою рубашку, разорвал ее на полосы, с моей помощью туго перевязал мне руку, мы, как могли, удалили следы крови на куртке и на Матильде, постоянно прислушиваясь, я вновь с огромным трудом одел куртку.
Со стороны воинской части послышался шум автомобиля, он ехал медленно, не останавливаясь миновал поворот и проследовал дальше.
Значит этих уже не было, а их машина стояла далеко от места засады, не исключено так же, что они уже на пути к нам.
С Юркой советоваться было бесполезно — это не его сфера деятельности, он еще находился в шоке и явно чувствовал себя виновным за едкую шутку на нашей остановке.
Трогаться с места пока не было смысла, воинская машина еще не возвратилась, а от того как быстро она вернется зависело, нашли они кого-нибудь или нет.
— Подождем немного, сейчас нельзя торопиться, воинская машина не менее опасна, чем душман за кустом, — не удержался я от сарказма.
— Бога ради, прости, Вадим, мне казалось, что уже все позади, да кто бы мог подумать… — Юрка сильно напоминал маленького щенка валявшегося животиком кверху и пускающего струйку перед огромным разъяренным псом.
Другой бы на моем месте, конечно, пустился бы в длинные менторские нравоучения о вреде недооценки противника, но мне во-первых было не до этого из-за боли, слабости и головокружения, а во-вторых, вся вина на сто процентов была моей: не надо было поддаваться дешевым эмоциям на сомнительные шутки, а делать свое дело — поставить Матильду в кусты и понаблюдать за дорогой, если уж возникло чувство опасности. В Афгане такие амбиции стоили бы жизни.
Послышался звук возвращающегося воинского автомобиля. То, что это был он, у меня не было никаких сомнений. Похоже, что они никого не встретили.
— Как ты думаешь, Мак, они сообщили в милицию о выстрелах? попытался я разрядить обстановку.
— Думаю, что сообщили, — оживился Юрка. — Мне кажется они просто обязаны сообщать о таких вещах в милицию.
— Что будем делать? — спросил я, хотя у меня наступило полное равнодушие ко всему происходящему. Юрка понял по моему тону, что я нахожусь в состоянии эболии и это его сильно взволновало.
— Вадик, возьми себя в руки, Вадик, бога ради не расслабляйся, не могу же я тебя оставить здесь одного. Значит все-таки подобная мысль приходила ему в голову.
Я взял себя в руки. Подошел к Матильде и попытался снять ее с подножки. Руку жгло, в глазах плавали оранжевые круги.
— Давай я, давай я выведу, — засуетился Юрка, рюкзак и шлем уже были на нем и он понимал, что по лесу вести Матильду я не смогу.
— Куда вести?
Я показал.
Он торопливо заспешил в указанном направлении, минуя кусты и деревья. Глядя на него меня вдруг обуял странный неудержимый, истерический смех. Я дико, конвульсивно смеялся, слезы застилали мне глаза, я еле шел, шатаясь, опираясь на деревья и еще больше слабея.
Он оглядывался на меня со страхом, наверняка думая, что я сошел с ума.
Желание смеяться прошло так же внезапно, как и появилось. Мы вышли на бетонку неожиданно — лес подступал к ней почти вплотную. Я сел за руль и попросил Юрку осмотреть меня внимательно со стороны, нам предстоял еще долгий путь. Он обошел меня вокруг, приглядываясь, как художник к своему полотну и, удовлетворенно пробормотав: «Вроде ничего», взгромоздился сзади, торопливо пристегивая карабины.
Мы тронулись. Безразличие ко всему еще более усилилось, мне хотелось бросить и Матильду, и Юрку с его мешком с деньгами и улечься где-нибудь в тишине на ласковой майской траве. Весь мир превратился в боль и тоскливую слабость.
Минут через десять бетонка кончилась, влившись в асфальтовую дорогу соединяющую деревню, кажется Богомолово, с железнодорожной станцией и остальным внешним миром. Лес остался только с правой стороны, до станции километров двенадцать.
Мы уже проехали примерно половину пути, миновав еще одну крошечную деревушку и большую дымящуюся свалку, как впереди показался милицейский Урал с двумя ментами. Они ехали медленно, явно не торопясь, к предполагаемому месту выстрелов и я был уверен, что они с радостью остановят нас, чтобы потянуть резину.
Так и случилось. Я остановился, меня почему-то вновь стал разбирать смех. Тот, что сидел в коляске, грузный сержант лет сорока хмуро спросил:
— Откуда, ребята, путь держите?
— Я из деревни Блудово, а ты п…а откудова? — ответил я.
Юрка сзади весь напрягся от страха, как перед толпой изголодавшихся педерастов. Молоденький мент, сидящий за рулем Урала, сначала прыснул, косясь на сержанта, а потом не выдержал и расхохотался во все горло. Я не отставал от него. С кривой сосны, одиноко стоявшей у дороги слетела возмущенная сорока, сделала над нами круг и вновь уселась на сосну, нервно подергивая крыльями.
Сержант по-видимому хотел рассердиться, но счел за лучшее сохранить выдержку и, бросив осуждающий взгляд на юного коллегу, обратился к Юрке, опасливо косясь на меня:
— Выстрелов там нигде не слышали?
Юрка весь подобрался, радуясь разрядившейся обстановке:
— Вы знаете, товарищ сержант, действительно, что-то было в районе запретной зоны, вроде стреляли, но там же войсковая часть…
— Да вот, позвонили в отделение, хоть это и не наша территория.
— Пусть сами разбираются со своими шпионами, вам-то что за дело, командир, — вмешался я и газанул, намереваясь тронуться. Наверное мое лицо, или вернее часть лица, видневшаяся из шлема, больше была похожа на лицо мертвеца в окошке цинкового гроба, и сержанту это определенно не нравилось. Он был опытный, этот сержант…
Я крутанул ручку газа, мы рванулись с места, Юрка повернулся круче в их сторону, видимо отвешивая светский прощальный поклон. В дрожащее зеркало я видел, что менты, после некоторого раздумья, развернулись и последовали за нами, отставая метров на триста — меня они больше не волновали.
Лес с правой стороны заканчивался участками, отведенными для дачного строительства. Участки были огорожены заборами самого разнообразного качества: от простых колышек с приколоченными к ним жердями из срубленных тут же в лесу тоненьких деревьев, до заборов, любовно обшитых стругаными досками. Повсюду оставались следы недавно выкорчеванных пней. Некоторые из них, особенно большие, оставались нетронуты: или новоиспеченные владельцы будущих дач избегали дополнительных затрат, растущих лавинообразно, со дня получения участка, или же всемогущая техника была бессильна перед огромными пнями. На одних участках не было никаких построек, даже укрытий от непогоды, на других стояли типовые садовые домики, на третьих сколоченные кое-как сарайчики, по величине и внешнему виду напоминавшие уличные туалеты.
Я свернул направо и остановился у первого участка, имевшего на своей территории невзрачную постройку и остановился так, чтобы нас не было видно с дороги, заглушил двигатель, отстегнул карабины и слез с Матильды.
— Все, Мак, больше не могу, — меня шатало, я прислонился к изгороди.
Он торопливо соскочил с Матильды, попытался установить ее на опору; его попытка не увенчалась успехом, он неуклюже подвел ее к изгороди и кое-как прислонил.
Я безучастно смотрел на него — он был в полной растерянности.
— Что будем делать? — он озабоченно озирался по сторонам, — до станции отсюда далеко?
— Минут двадцать, может полчаса, если идти пешком. Ты вот что, Мак, иди посмотри, нет, лучше помоги мне дойти до двери этого сарая, я посмотрю замок.
Окружающая меня действительность и реальное время потеряли в моем сознании всякий смысл.
Не могу сказать, сколько времени я провозился с замками (их было два, один навесной, другой — внутренний), пять минут или час, но когда мы вошли в помещение, меблированное старой железной кроватью с грязным матрасом на ней, столом и двумя табуретками, я уже был близок к тому, чтобы окончательно вырубиться, и только нежелание показать Юрке свою слабость пока еще поддерживало меня.
В углу валялась ржавая крысоловка.
Я сел на табуретку, меня качало даже в сидячем положении.
— Затащи сюда Матильду и иди на станцию пешком.
Не знаю сколько времени он с ней провозился, прислонив ее к стене поставить ее на опору ему так и не удалось, наконец он остановился передо мной как новобранец перед ефрейтором.
Все это время сумка с деньгами находилась у него за плечами.
Мне было в высшей степени безразлично, что с ними будет, но Юрку мне было жаль и я с трудом выдавил из себя:
— Я не советую тебе идти с этой сумкой — ты понесешь за плечами собственную смерть. Оставь ее здесь. И иди не на ближайшую станцию, а в обратную сторону. Опасность подстерегает тебя где угодно, но не на обратном пути. Дойдешь до базы и там наймешь машину.
— Часа три, не меньше, — бормотал он, — пешком доберешься туда затемно, в куртке, надетой на голое тело, какой мудак меня повезет… если и повезет, то до ближайшего отделения милиции, — бормотание перешло в откровенное нытье.
Он снял сумку, непроизвольным жестом прижав ее к груди, как драгоценного и долгожданного наследника, не сгибаясь опустился на колени перед кроватью, на секунду замер, словно заканчивая подходящую случаю молитву, запихал сумку под кровать и поднялся отряхивая колени.
— Не тяни резину, Мак, это как раз тот случай, когда время-деньги. Помоги дойти до двери, надо закрыться не крючок.
Первым подошел к кровати Генка Панфилов, застрелившийся у нас прямо на глазах, когда капитан Дубровин приказал ему расстрелять находившуюся в машине, остановленной на дороге в горах, многочисленную семью немолодого афганца.
Он был одет в старую промасленную телогрейку и почему-то прятал руки за спину. Осторожно присев на краешек кровати, он спросил:
— Ты ведь уже хорошо себя чувствуешь, Вадик? Вставай, сейчас мы поедем с тобой в одно место…
«Нет! — закричал я изо всех сил, — нет! Ты уже умер, ты умер, это видели все!» — но не услышал своего голоса.
— Ну что ты. Не валяй дурака. Вставай и поедем. — Его бледная, землистая рука тянулась к моей груди, очевидно с намерением приласкать меня.
Склонившись к столу, перебирая невесть откуда взявшиеся косточки домино, сидел прапорщик Комаров из Саратова, заведовавший в свое время вещевым складом. Этот-то, страстный курильщик анаши, я точно знаю, был жив и здоров и я, все еще не слыша своего голоса, закричал в его сторону:
— «Витька! Скажи ему, что он мертвый! Ты-то чего!»
Комаров укоризненно посмотрел на меня:
— Брось, Быстров, вечно ты чего-нибудь придумаешь. Иди, иди, у него кадиллак. Чего упираешься, иди, если приглашают. Я бы тоже прокатился, да мне плану сейчас должны принести.
Генкина рука похлопывала меня по груди. Я с ужасом обнаружил, что не могу пошевелиться.
Я напрягал всю свою волю, чтобы вырваться из тисков кошмара.
Медленно, словно бы нехотя проступили очертания комнаты, утраченное было дыхание восстановилось, я почувствовал слабый запах бензина, исходивший от Матильды.
По щекам текли горячие, едкие слезы, я все еще не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, не мог даже повернуть голову.
Неизвестно сколько время я так пролежал, боясь закрыть глаза, чтобы вновь не оказаться в паутине смертного страха.
Мне казалось, что я вставал, ходил, что-то делал, что-то передвигал, куда-то спускался и поднимался, не испытывая при этом ни слабости ни боли, что-то беспокоило, какое-то препятствие, которое нужно было преодолеть. То ли в бреду, то ли наяву, я вновь и вновь вставал, опять что-то двигал, устраняя беспокоившую помеху, пока не оказался не небольшой, открытой с трех сторон площадке, ровной как стол, в горах, под палящими лучами афганского солнца.
Надо мной завис вертолет, и надо было только подняться на ноги, чтобы взобраться в его спасительное чрево, но ни ноги ни руки не слушались меня.
С обеих сторон надвигались духи, поливая меня смертоносным свинцом и я удивлялся, что все еще жив.
Вихрь от лопастей винта трепал мою одежду и сотрясал тело, на лицо падали крошечные камешки, захваченные вихрем, но я не мог пошевелиться и даже открыть рот для крика.
В темном проеме отодвинутой дверцы вертолета никого не было, никто не спешил мне на помощь.
«Сейчас он улетит, решив, что я мертв и оставит меня с не знавшей пощады толпой, среди которой я отчетливо различал хмурые, сосредоточенные лица мужчин, женщин и детей. Они отрежут мне нос уши, гениталии и будут водить меня по деревням…»
Стук в дверь раздался в ушах взрывом многотонной авиационной бомбы. Дверь я им открыл не помня усилий с моей стороны на вставание с кровати и путь к двери, и когда за дверью я увидел их, Юрку и с ним еще двух, незнакомых мне людей, я почувствовал огромное облегчение и с радостью погрузился в глубокий обморок.
Очнулся я на все той же кровати, испытывая уже реальную боль в руке, в которой ковырялся, видимо прочищая рану склонившийся надо мной человек в рубашке из джинсовой ткани с засученными рукавами. Рядом с ним стояла женщина в белом халате, держа в руке, как мне показалось огромный фонарь, свет которого по мощности не уступал прожектору. Третий, наверное Юрка, не останавливаясь ходил взад-вперед по комнате.
Я радовался невыносимой боли, радовался концу кошмарам, я хотел их всех расцеловать от радости к возвращению к жизни.
Доктор уже зашивал рану, предварительно сделав обезболивающий укол, когда Юрка каким-то не своим голосом коротко спросил:
— Где сумка?
— Там, где ты ее положил. Под кроватью. Ты что, забыл? — Я не узнал свой голос, он был больше похож на конвульсивные рыдания. — Ее там нет, Юрка замер в темноте, я тоже задержал дыхание, у меня засосало под ложечкой от предположения, что кошмар продолжается.
— Не может быть… Мак, этого не может быть, сюда никто не входил, дверь все время была на запоре. Куда же она могла деться? — Я чуть не плакал, не столько от пропажи сумки, сколько от того, что каким-то образом причиняю огорчение этим славным ЖИВЫМ людям.
— Я знаю, Вадим, что ты не можешь сделать пакость, что деньги не имеют над тобой власти, — по его голосу чувствовалось, что он едва сдерживает душившие его отчаяние и бессильную ярость, — но тем не менее сумка с деньгами пропала и этому нужно найти какое-то объяснение, нужно найти сумку!
— С последними словами он перешел на крик.
Доктор, присев на кровать, в задумчивости осматривал кисть моей левой руки, задержав свое внимание на ладони.
Внезапно мое лирически-растроганное настроение сменилось жгучей всепоглощающей злобой:
— Не впутывай меня в свои гнусные интриги! Я не касался этих вонючих денег, я и так уже полжизни тебе отдал за эту паршивую конуру в общежитии, за позорную синекуру на стройке. Ты в шестерку меня превратил. Ты… ты…
Доктор сильно сжал кисть моей руки, другую свою руку положил мне на лоб:
— Успокойтесь вы, оба. Я кажется догадываюсь в чем дело…
— Доктор, — перебил я его, — не могли бы вы сесть на стул, рядом с кроватью?
— А в чем дело, Вадим?
— Совсем недавно на вашем месте, точно так же, сидел два года тому назад умерший человек, и я не мог пошевелить даже пальцем.
Он пересел на стул, поставленный к изголовью и вновь положил ладонь на мой лоб; его голос стал вкрадчивым, мягким и убаюкивающим:
— Скажи, Вадик, ты вставал с кровати? Почему твои руки испачканы в земле? Ты что-нибудь передвигал… Ты испытывал легкость во всем теле… Замечательную легкость… Парение… Блаженное парение… Только одна совсем маленькая, крошечная забота… Маленькая проблема… Сумка… Ее надо спрятать… Надежно спрятать… И тогда никаких забот… Только легкость… Только блаженство…
Я растворился в его вкрадчивом голосе, я и его шуршавший как ласковые листья деревьев голос слились в одно целое.
Беспредельное ощущение блаженства.
Желание избавиться от последней маленькой помехи.
Сумка…
Нужно спрятать сумку…
Я медленно встал, подошел к столу, отодвинул его и, взявшись за кольцо крышки погреба открыл его. Светить мне не было необходимости: для меня темноты не существовало. В светло-пепельных сумерках я отчетливо видел небольшую лестницу маленького погреба.
Спустившись в него, я начал разгребать картошку.
Сумка…
Вот она…
2
Я проснулся в предрассветных сумерках. В комнате горела настольная лампа. Повернув голову налево, я увидел сидевшую на стуле девушку в белом халате. Она дремала скрестив руки на груди прислонившись к спинке стула. Я мог поклясться, что вчера с доктором была другая медсестра, старше. Значит, на ночь они оставили со мной сиделку. Да еще какую! Наверное это был один из методов лечения — из головы моментально вылетели все надвигающиеся было проблемы, глухая, вязкая боль в плече и остатки наркоза.
Вряд ли ей было больше двадцати. Пышные пепельные волосы выбивались из-под сильно накрахмаленного белого чепчика с крошечным красным крестиком, круглые колени, обтянутые серо-голубыми колготками, манили как оазис иссушенного зноем путника. Я попытался осторожно повернуться на левый бок, она мгновенно очнулась, наклонилась ко мне, поправляя одной рукой одеяло, а второй коснулась моего лба. От прикосновения ее нежных прохладных пальчиков из моего пересохшего горла невольно вырвался глухой слабый стон.
— Сейчас, сейчас я вам сделаю укол. Больно, да? Сейчас, у меня все приготовлено… — Она встала со стула и бесшумно устремилась к столу.
— Вот это подарок, — восхищенно прошептал я, — уж не снишься ли ты мне, Людмила Ивановна?
Но это был не тот человек, которого можно смутить подобными штучками. Совершенно не обратив на мои слова никакого внимания, она слегка наклонилась к столу, зашуршав упаковкой одноразового шприца, ловко отломила кончик ампулы, втянула в шприц ее содержимое, то же самое проделала со второй и, выпустив из шприца воздух и несколько капелек жидкости, направилась к кровати.
— Подожди, Людмила Ивановна, так нельзя, — предупредительно поднял я левую руку, — это мой сон и в нем все должно быть по-моему. Я имею ввиду любовь.
Я знал, что если уж большие люди оставили мне такое сокровище в образе сиделки, значит оно в моем полном распоряжении. Она и глазом не моргнула. Неторопливо сняла туфли и колготки и этим ограничилась. Затем секунду помешкала, глядя на меня прозрачными бледно-голубыми, ничего не выражающими глазами, осторожно сняла с меня одеяло и взобралась наверх…
Минут через десять она, деловито поправив прическу и чепчик, взяла было уже приготовленный шприц, намереваясь сделать мне укол, но я опять остановил ее, спросив:
— Люся, можно полюбопытствовать: какие уколы мне делают, что за лекарства?
Она обернулась в мою сторону, держа наполненный шприц иглой вверх и пояснила:
— В одной ампуле — лекарство, способствующее быстрому заживлению ран, кстати лекарство импортное, очень дорогое, а во второй — обезболивающее с эффектом легкого снотворного, как раз для ослабленного здоровья крутых мальчиков, — мстительно съязвила она, — которые пользуются беззащитным положением молодых девушек.
— Ты что, обиделась? — Честно говоря, я сам чувствовал себя свиньей перед ней. — А между прочим, я правильно угадал твое имя?
— Вы все одинаковы, и молодые и старые, в какую бы тогу не рядились и если обижаться на вас… а насчет имени, правильно угадано. Только не Ивановна, а Ионовна, — она подошла к кровати и наклонилась, собираясь делать укол.
— Подожди, — я легонько взял ее за локоть, — успеешь. Сейчас ты сделаешь укол, и я снова усну, а мне хочется потрепаться с тобой.
— О чем? — На ее лице было написано искреннее недоумение, — о чем, за «жись» что ли?
Может ты хочешь поковыряться в моей душе? «Как ты докатилась до такой жизни?» Ля-ля-ля, ля-ля-ля… Может хочешь рассказать, какой ты благородный и бесстрашный «лыцарь»? И в жизни, и в постели…
Нет, — сказал я, стараясь не замечать ее едкого сарказма, — тема будет другая. Ну ее, эту «жись» и всякие штучки о благородстве.
Давай лучше расскажем друг-другу, как произошло ЭТО у каждого из нас в первый раз. Самый-самый первый раз.
— Ты о траханье что-ли? — с циничной прямотой спросила она, вернулась к столу, оставила на нем шприц и на некоторое время задумалась. Очевидно решив, что случайному человеку, которого наверняка больше никогда не встретишь, можно рассказать самое сокровенное, она вернулась к кровати, уселась на стул, закинув ногу на ногу и еще некоторое время помолчала.
Ее лицо стало хмурым, казалось она постарела на несколько лет.
Сколько она себя помнит, они жили вдвоем с матерью. Мать работала то ли экономистом, то ли плановиком в каком-то учреждении, но обеспечены они были гораздо лучше, чем позволяла мизерная зарплата экономиста. Соседям и знакомым мать объясняла, что ее бывший муж, отец Люси, занимает очень значительную должность, чуть ли не в Совете Министров.
У них было все. Трехкомнатная, шикарно обставленная квартира, Жигуль с теплым кирпичным кооперативным гаражом неподалеку от дома, небольшая, но очень красивая дачка в ближнем Подмосковье.
Трех лет от роду маленькая Люся твердо знала, что если мама закрывается в своей комнате с дядей и если даже оттуда приглушенная музыка и какая-то загадочная возня, все равно Люсе было строго-настрого запрещено входить в мамину комнату. И Люся, иногда подолгу скучала одна, сидела тихонько в своей комнате, играя или перелистывая дорогие журналы и книжки, о которых большинство ее сверстников не могло и мечтать. Потом дядя крадучись уходил, стараясь производить как можно меньше шума на лестничной площадке, а мама после этого была с Люсей особенно приветлива и ласкова, подолгу читала ей интересные сказки и потакала всяческим капризам.
К двенадцати годам, когда маме было чуть меньше тридцати, Люся стала интересоваться причиной их материального благополучия, но мама всячески уходила от ответа.
Люсе не исполнилось и тринадцати лет, когда случилось то, что мама по-видимому спланировала заранее.
Сначала мама, несмотря на строжайшее табу, устроила так, что Люся, как бы невзначай, увидела то, чем занимается мама с мужчинами в своей комнате. Люсю удивило не то, что она увидела, она уже знала об этом от подруг и из заграничных иллюстрированных журналов, а то, что этим занимается именно ее серьезная и строгая мама, ее первый и основной источник познания окружающего мира, ее любимая, авторитетная мама.
Сначала Люся была потрясена, но мама вкрадчиво и ненавязчиво смогла убедить Люсю, что ничего страшного в ЭТОМ нет, что это обычное дело и что их материальное благополучие зиждется именно на этом, что в обычных семьях главы семейств тоже фактически платят своим женам за ЭТО, и т. д., и т. д.
Потом появился, как сказала мама, доктор, лет за сорок, пахнувший как парфюмерная фабрика. В присутствии мамы, он осмотрел ее, раздетую догола, дал выпить какую-то безвкусную жидкость, от которой Люся почувствовала небольшое головокружение, легкость и полную раскованность. Потом «доктор» слюняво целовал ее едва наметившиеся груди, ласкал и целовал гениталии, и наконец все ЭТО произошло втроем на кровати под ласковое воркование и с участием мамы.
Некоторое время спустя, периодически появлявшегося «дядю», Люся с мамой уже обслуживали вдвоем. Особого удовольствия это Люсе не доставляло. На место постепенно ушедшей эйфории познания запретного, пришла, поглотившая Люсю целиком, лютая ненависть к матери.
Она не покидала ее ни днем, ни ночью, и Люся решила, как только представится возможность, уйти от нее.
Такая возможность представилась примерно через полгода, когда Люсе удалось познакомиться с человеком лет под шестьдесят, без ведома матери. Он привел ее в однокомнатную квартиру, которая то ли принадлежала ему, то ли он ее снимал, и Люся сказала, что хотела бы остаться в ней насовсем, чем повергла его в неописуемое замешательство.
Он было начал ее уговаривать, но ее горючие слезы и настойчивость заставили его мучительно задуматься.
Он поверил ей. Поверил, что она ненавидит мать и понял почему. Поверил и понял, что это не временный каприз избалованной девчонки, и взвалил на себя эту непосильную и, в известной степени опасную, обузу. Несколько дней она провела в этой квартире.
Убеленный сединами поклонник «клубнички» предложил ей переехать в другой город, так как мать ее разыскивала, но Люся наотрез отказалась.
Она ласкала и ублажала своего незадачливого любовника всеми известными ей от матери способами, и наконец он сдался.
Он, или кто-то по его поручению, позвонил Люсиной маме и предложил ей прекратить поиски и всякие попытки вернуть дочь домой, в противном случае звонивший приложит максимум усилий, чтобы Люсина мама предстала перед судом за растление малолетней, и что процесс будет громкий, скандальный и освещаться прессой.
Проблем с матерью больше не было. Преданный покровитель перевел на нее квартиру и оформил прописку, своей любовью особо не докучал, предоставляя ей полную инициативу в столь щекотливом для его возраста деле.
Он предупредил, чтобы она ни в коем случае не устраивала в квартире никаких вечеринок и сборищ, но это предупреждение было излишним, рано повзрослевшую Люсю эти игры не интересовали.
— Ну что, сэр Ланселот, вы довольны моей исповедью? — она раздавила в маленькой фаянсовой салатнице, заменявшей мне пепельницу, американскую сигарету, запах дыма которой напоминал мне запах Кашгарской анаши, — или последует тривиальное «а что дальше»?
— Ладно, уж не буду тебя больше мучать, договор был о самом ПЕРВОМ разе. Теперь моя очередь.
— Вообще-то я не любопытна. Может именно благодаря этому я имею эту хорошо оплачиваемую работу. Отсутствие любопытства оплачивается зарплатой, равной зарплате ректора нашего института.
— Ты еще и учишься?! — с искренним изумлением спросил я.
— Да, в медицинском, — явно наслаждаясь моим изумлением ответила она, — и что еще более удивительно, несмотря на то, что перешла на четвертый курс, не имею ни одного хвоста!
— Вот это невеста! Мечта.
— Да уж, специально из кожи лезу, чтобы таскаться с авоськами по магазинам, торчать у кухонной плиты и стирать носки с запахом Пошехонского сыра.
Она наконец сделала мне укол, распаковав новый шприц.
За окном уже занимался рассвет.
Под впечатлением Люсиной исповеди передо мной возникла моя НЕЖНАЯ ПЕРВАЯ ЭЛЬЗА, и с ее образом я провалился в сон.
Когда я проснулся был уже день и сквозь опущенные шторы пробивались лучи солнца. От ночной феи остался слабый аромат французских духов.
Я встал, опираясь на левую руку, подошел слегка шатаясь к окну и отодвинул шторы. За окном ослепительно сияло солнце и было все так, как полагается во второй половине мая.
Открыв свой крошечный холодильник я с некоторым трудом сделал пару бутербродов с маслом и колбасой, поставил чайник на электроплитку — на кухню идти не хотелось, там обязательно кто-нибудь ошивается, общежитие есть общежитие, хоть и семейное, в восьми комнатах двадцать один человек не считая Женьки Баранова.
Пришел вчерашний доктор, среднего роста, лет тридцати двух, с короткой стрижкой, в джинсовом костюме и дорогих фирменных кроссовках. Его сопровождали большой армированный металлом кейс с хитроумными замками и та же пожилая медсестра, лицо которой выражало тысячелетнюю мировую скорбь по всем ходящим путями неправедными.
Медсестра молча, без суеты, без лишних движений разбинтовала мою руку, скомкав бинты спрятала их в заранее приготовленный новенький полиэтиленовый пакет, положила его в свою сумку и распечатала свежий бинт. Доктор, засучив рукава, протер руки спиртом (умывальника в комнате не было, а светиться в коридоре он видимо не счел необходимым) и внимательно осмотрел рану.
По всему было видно, что он остался доволен осмотром, похлопал легонько по моей кисти, сказав, что все будет нормально и уступил место Мировой Скорби. Надо было видеть, как она меня забинтовывала — начала с руки, перешла на туловище, потом опять на руку, и все это быстро, не туго и не слабо — профессионал высшего класса. Мне показалось, что даже доктор любовался ее работой.
Откуда-то появился небольшой элегантный прибор для приготовления биологически активной воды, доктор обстоятельно объяснил, как им пользоваться и продемонстрировал, налив в него воды из чайника.
Все было очень просто, тем не менее вместе с прибором он оставил отпечатанную на машинке инструкцию.
Потом они оба ушли, пообещав на прощанье заглянуть через пару дней.
Да, подумал с горечью я, если бы в Афгане ребята имели такой сервис.
Я немного почитал невероятно скучнейший новый роман Вел-Бомжа и даже не заметил как заснул.
Меня разбудил Юрка. Он пришел вместе со своей женой, ненаглядной Бертой Францевной.
Юрка женился года четыре тому назад. Он увел Берту из мощного еврейского музыкального клана, был шумный скандал, что же вы хотите: какой-то гой, да еще бывший воспитанник детского дома.
Еще не старого Франца Менциковского чуть инфаркт не хватил, но упрямая серая мышка Берта оказалась непреклонной, как риф в бушующем проливе.
Сейчас у них была уже трехлетняя дочь Зина, названная так в честь Бертиной бабушки, единственного человека, который не отвернулся от нее после скандального замужества.
Маленькая Зина уже немного играла на пианино, и Берта частенько брала ее с собой в школу, где она работала преподавателем музыки. До сих пор Берта была влюблена в Юрку. Когда она на него смотрела, она вся буквально светилась, как новогодняя елка.
Они принесли с собой две сумки с продуктами, Берта, скинув свой плащик горчичного цвета, сейчас же загремела немногочисленными моими кастрюльками и, прихватив из сумки пакеты, умчалась на кухню.
Юрка присел на стул, придвинулся с ним поближе к кровати и, достав из внутреннего кармана пиджака пакет перехваченный резинкой, наклонившись ко мне сказал вполголоса:
— Здесь твои пять штук и на днях принесу ордер на двухкомнатную квартиру на Есенинском бульваре. На твою работу (сторож на стройке) позвонили и сказали, что у тебя бытовая травма.
Он был как всегда уверен в себе. «Посмотрел бы ты не себя там, в лесу», — подумал я, но возбуждающе радостное ощущение того, что у меня теперь будет квартира в хорошем районе, да еще бабки — целых пять тысяч, охватило меня целиком и даже рана казалась теперь пустяковой царапиной, не стоящей внимания.
В распахнутую ногой дверь влетела Берта, неся на прихваченном у кого-то подносе дымящуюся тарелку с пельменями, мелко порезанную селедку, посыпанную сверху колечками лука и обильно политую постным маслом, тонко, очень тонко, как только умеет делать Берта, нарезанный сервелат, обрамленный редиской и целую вязанку зеленого майского лука. Особняком гордо возвышался граненый стакан со сметаной и стоящей в ней вертикально чайной ложкой.
— Берта, ты же меня убьешь окончательно я так и знал, что ты заодно с той доской, которая упала на меня на стройке.
— Ешь, босяк, пока пельмени горячие, знаем мы эти доски, твоя Матильда не доведет тебя до добра, — она вновь склонилась над необъятной спортивной сумкой.
— Постой, Берта, остановись ради Бога, если там попики-лепики, то пусть уж Юрий Михайлович сбегает за той доской, здесь недалеко.
Берта беззвучно смеялась ставя на стол большой пакет с попиками.
Юрка уже открывал невесть откуда взявшуюся бутылку коньяка Ереванского разлива.
За две недели у меня перебывало множество народу. Приходили даже с работы, двое, один пожилой, вроде сварщик, другой молодой — подсобный рабочий, учащийся какого-то вечернего института, — принесли положенные на посещение больных деньги из профсоюза и, помявшись немного, достали из-за пазух две бутылки «Агдама».
Деньги я им конечно тут же вернул, оплатив тем самым «Агдам», потом позвал Женьку Баранова, составить компанию. Женька тут же развил бурную деятельность, очень оживив обстановку расставил принесенные с собой граненые стаканы, сообразил подходящую случаю закуску, потом еще два раза бегал за вином, так что дорогих гостей я едва выпроводил, расставшись с ними как с самыми близкими родственниками.
Мои дни отдыха по больничному листу, выданному щедрым доктором еще не закончились, когда появившийся хмурый Юрка сказал, чтобы я готовился выезжать послезавтра в указанное место.
Раньше таких коротких перерывов не было и меня это сильно насторожило, но я ничего не сказал — Матильда была уже готова с тех пор как я смог выходить на улицу, к тому же Женька Баранов горел желанием отработать бесконечно занимаемые у меня трояки, что он успешно и сделал, помогая мне приводить Матильду в порядок.
Стена магазина, которая выходила во двор была захламлена ящиками, которые похоже сначала складывали более или менее аккуратно, а потом видно плюнули на это дело и бросали как попало. Остальная, большая территория, примыкавшая к шестиэтажному в четыре подъезда дому была типичной для московского двора: с садовыми скамейками у подъездов, с дежурившими на них старушками — надеждой и опорой московской милиции, — с грязной песочной горкой, окаймленной крошечным барьерчиком, с какими-то полусломанными карусельками, каталочками, лесенками, напоминающие шведские и прочим нехитрым деревянным инвентарем.
С места, где я стоял с Матильдой, мне была видна дверь запасного выхода из магазина и часть улицы видневшуюся через арку, соединявшую магазин и жилой дом.
Я вновь отчетливо представил Юрку в работе.
Вот он в торговом зале, в неизменном синем халате, белой рубашке, темно-вишневом галстуке, сама уверенность и спокойствие, в левой руке раскрытая папка с какими-то бумагами, в правой — паркеровская ручка и небольшой японский калькулятор. Он смотрит на табло, где вывешены списки очередников и марки автомобилей, что-то пишет, что-то считает с сосредоточенным, задумчивым видом.
От толпы страждущих приобрести автомобиль отделяется его подельник и с подобострастным видом обращается к нему. Юрий Михайлович едва удостоив того взглядом, после длительной паузы, что-то коротко, пренебрежительно отвечает (как я от вас устал, господа деревья!).
Подельник с горьким разочарованием на лице отходит от Юрки и приближается к «обрабатываемому» лоху. Он объясняет ему, что за Жигуль надо платить семь с половиной тысяч, а у него, к сожалению только шесть и поэтому, увы, он должен покинуть магазин.
Лох готов.
— Подожди, брат, — догоняет он подельника.
— Чего мне ждать? Жди не жди ничего не выждешь. Я же тебе объяснил: у меня не хватает. Ради тебя что ли я должен тусоваться? Я в шестерках ни у кого не бегаю.
— Я тебе добавлю, — лох возбужден свалившейся на него «удачей». Давай, иди, заказывай быстренько пару Жигулей.
Подельник делает недоверчиво-удивленное лицо…
Минут через сорок Юрка вручает им великолепно сделанные Лехой-Шаманом оформленные документы с подписями, печатями и квитанциями об оплате, объясняя, как проехать на базу, вызвать механика и т. д. и т. п.
Через служебное помещение выходит из магазина, на ходу снимая халат, садится на уже готовую тронуться Матильду пристегивается к моему поясу карабинами и, уже на ходу, одевает ветровку и шлем.
Юрка не появлялся. Не было и условного знака, что все в порядке и я могу отправляться домой один.
Я вышел из арки на улицу и вошел в магазин. Все было как обычно: люди крутились у витрины с запчастями, у табло, стояли отдельными кучками. Юрки не было.
Я подошел к прилавку и обратился к скучающему вальяжному продавцу, с залысинами, как у Джека Николсона:
— Слушай, командир, гаишники здесь не появлялись? — Если здесь была милиция, или какой-то шум с задержанием, это никак не могло ускользнуть от его внимания.
— Нет, — лениво ответил он, — ментов не было. — И решил очевидно блеснуть остроумием, имея ввиду мой наряд мотоциклиста:
— По-моему, они должны за тобой гоняться, а не ты за ними.
Я посоветовал ему свернуть язык трубочкой и засунуть его куда он сам знает и вышел из магазина.
В стоявших у тротуара автомобилях Юрки не было, я решил подождать еще полчаса и отправился во двор.
Вернувшись во двор, я увидел недалеко от Матильды обнимавшуюся парочку.
На ней были шорты из плащевой ткани и розовая полупрозрачная кофточка без рукавов, завязанная узлом на животе. Лифчика на ней не было и в помине, груди, не отягощенные этим совершенно излишним для них предметом, упорно стремились вырваться на свет божий в чем почти полностью преуспели, благодаря небрежно исполняющей свои функции кофточке.
Ее руки сошлись на мощной, загорелой шее невысокого уже явно вышедшего из того возраста, когда обнимаются где попало, человека в джинсах и ослепительно белой майке с короткими рукавами, едва не лопавшихся под напором мускулов.
Ему было не меньше тридцати пяти.
Старухи на лавках замерли от напускного негодования, глядя на ладони его рук, нагло покоившихся на ягодицах партнерши.
Я был готов сквозь землю провалиться от неловкости. Напустив на себя крайне равнодушный вид, я отвернулся лицом к стене магазина, слегка опершись на Матильду и скрестив руки на груди. Обстановку немного разрядила допотопная Победа, въехавшая во двор и развернувшаяся передом к арке. Вместо древнего, замшелого старика из нее вылез рослый, немного грузный человек, ммеющий вид преуспевающего дельца. Он равнодушно окинул взглядом живописную картину, открыл капот давно уставшей жить на белом свете Победы и, слегка наклонившись к двигателю застыл в раздумье.
Что-то мне во всем этом не понравилось.
Что-то настораживало.
Какое-то несоответствие. Не успел я толком разобраться в собственных чувствах, как увидел Юрку, бежавшего с улицы через арку. В руках у него болтался синий халат как плащ матадора. Роль рассвирепевшего быка исполняли двое преследующих его парней. Один из них, немного опередив напарника, уже готов был схватить Юрку за плечо, но брошенный ему в лицо халат, немного отодвинул этот момент.
Я издал устрашающий боевой клич и ринулся им навстречу.
Пропустив Юрку и вместо того, чтобы размахивать руками и ногами в духе восточных единоборств, я тривиально бросился наземь под ноги преследователям. Тот, который еще не успел освободиться от халата, рухнул, не успев выбросить вперед руки и ударился лицом об асфальт. Второй решил просто перепрыгнуть через меня, но не угадал. Когда он пролетал надо мной и его ноги на долю секунды изобразили раздвинутые ножницы я, как можно выше приподнялся, и он упал, но, к счастью для себя, упал удачно, перекувыркнувшись через голову.
Мы вскочили на ноги почти одновременно, но я успел ударить его ногой в пах, он вновь завалился со сдавленным криком, скорчившись в пароксизме боли.
Не мешкая я устремился к Матильде, на которой уже должен был находиться Юрка.
Юрки на Матильде не было. Юрку заталкивала в Победу «влюбленная парочка».
Не успели захлопнуться двери, как она, взревев новеньким двигателем Волги двадцать четвертой модели, исчезла в проеме арки. Вот, что меня насторожило!
Вот в чем было несоответствие!
Я бессознательно заметил едва видимую мне часть двигателя, но появление Юрки не дало мне время осмыслить увиденное.
Я завел Матильду и тронулся в направлении арки, но в это мгновение в ней появился милицейский УАЗ, слегка развернулся, загородив тем самым дорогу и остановился.
Из него выскочили три мента, у одного в руках был АКМС, двое других расстегивали на бегу кобуры. «Что-то вас, ребята, слишком много на меня одного. Мне это вроде ни к чему».
Притормозив ногой, я быстро развернул Матильду в противоположную сторону и, не торопясь — как бы кого не задеть — поехал, прижимаясь ближе к подъездам дома, сопровождаемый заливистой трелью свистков и резкими криками, из содержания которых всем находившимся во дворе было ясно, что я непременно должен остановится и стоять. Всем, но не мне. У меня были более неотложные дела, чем отвечать на ваши дурацкие вопросы, господа деревья, а стрелять вам во дворе жилых домов не положено. Крутым парням можно, а вам нет, товарищи пни!
В конце двора был еще один проход…
Прежде чем появиться у общежития, я заехал в одно место и заменил номер Матильды. Оставив ее у подъезда, я открыл замок железного ящика, взял маленький складной стульчик с матерчатым сиденьем и большую, свернутую в рулон клеенку, какую обычно используют для кухонного стола. Выйдя из подъезда, я расстелил клеенку на асфальте, поставил на нее Матильду, разложил стульчик и, усевшись на него принялся за тщательную чистку и осмотр Матильды, что я всегда делал, когда возвращался с ней домой.
Во дворе никого не было.
Вскоре неподалеку от меня остановился среднего роста человек в темном костюме, рубашке без галстука и, несмотря на жаркий день, в фетровой темно-зеленой шляпе тироль. Он держал перед собой обеими руками портфель и молча покачивался на носках, словно ожидая, когда я закончу свои дела.
«Еще один страждущий по мою грешную душу», — неприязненно подумал я, на ничего не сказал, ожидая, что он начнет первый.
Но он и не думал ничего начинать, а только стоял и покачивался на носках.
Наконец я не выдержал:
— А вам вполне подошел бы стентон, к вашему портфелю.
Он ничуть не смутился, словно давно готовился именно к такому разговору, слегка подтянул кверху правый угол рта, что по-видимому должно было обозначать улыбку:
— Нет. Я говорю, нет ничего лучше для очень хорошего человека, чем шляпа тироль. Если бы на мне был стентон, ваш удивительно доброжелательный взгляд, молодой человек, со стентона сразу упал бы на пояс, в поисках дьявольского изобретения Джона Пирсона известного больше под названием «кольт».
Он вновь замолчал, продолжая покачиваться.
Матильду уже можно было смело ставить на витрину, я скатил ее с клеенки, свернул клеенку и отправился на второй этаж к мусоросборнику.
Поставил Матильду в ящик, запер его и вышел на улицу.
Он стоял и молча, в упор смотрел на меня.
— Так вы ко мне, Василий Андреевич? Чем обязан? — Мне не нравилась эта подозрительная игра в молчанку, сегодня мне уже натянули нос, а тут еще этот.
Он сглотнул слюну и, начертив носком ботинка ему одному известную фигуру, произнес, не поднимая глаз от земли, как нашкодивший сорванец:
— Поговорить бы надо…
Не успел он сосчитать пальцы на одной руке, как был втащен вглубь подъезда и прижат под лестницей к железному убежищу Матильды. Лацканы пиджака вместе с рубашкой без галстука были захвачены моей правой рукой и сильно прижаты к его кадыку, тироль сбился на нос, руки не выпускали портфель.
Слегка стукнув его спиной о гулко загудевший ящик, я прошипел ему в самое ухо:
— А ну, давай выкладывай, деловая колбаса, кто тебя послал и где Юрий Михайлович, а то душу вытрясу в мусоросборник, — я еще раз встряхнул его и чуть приподнял, так, что теперь он едва стоял на цыпочках.
— Пусти… — сдавленно хрипел он, — пусти говорю…
Я немного ослабил хватку и он торопливо заговорил:
— Ничего я не знаю, мне велено передать тебе посылку и кое-что на словах… Никого и ничего не знаю, — продолжал он, — со мной говорили по телефону и сказали, чтобы я назначил тебе встречу на завтра, на десять утра, на Даниловке, в скверике, напротив аптеки.
— Давай посылку и убирайся отсюда, — я еще раз тряхнул его, тироль свалился на цементный пол и, сделав круг почета, вернулся к ногам хозяина.
— Нет у меня ее с собой, сказали передать завтра на Даниловке.
Я отпустил его, поднял шляпу, нахлобучил ее ему до ушей, развернул лицом к выходу и слегка подтолкнул в спину. Он засеменил торопливыми шажками к двери, по пути поправляя шляпу и охорашиваясь, как благополучно сбежавший любовник при неожиданном появлении грозного рогоносца-мужа.
Задуматься было о чем. Все происшедшее за день было настолько необычно и нереально, как будто происходило не со мной, а с кем-то другим. Как будто я все это наблюдал со стороны.
Откуда бежал Юрка и кто за ним гнался было непонятно. В зале магазина его не было. Может его задержали именно там, но безо всякого шума. Может он где-то вырвался от них и бежал в тот двор где я его ждал. Может быть. Может ему удалось оторваться на машине, но понял, что скрыться от них невозможно, и приехал туда, где был единственный вид транспорта, управляемый верным Санчо Пансой, на котором можно оторваться от кого угодно. Но и там его ждали, Санчо не сумел его выручить.
Роль милиции была небольшой: перекрыть дорогу, лишив меня возможности преследовать Победу.
Хорошо разыгранный спектакль с актерами, отлично сыгравшими свои роли.
Для кого спектакль? Для меня? Можно и так предположить, если иметь ввиду появление этого странного типа с портфелем, который ничего не знает.
Посылка, за которой нужно придти завтра на Даниловку. Почему сразу нельзя было отдать?
С посылкой нужно что-то передать на словах, о чем ему сообщат только сегодня, убедившись, что наша с ним встреча состоялась.
В том дворе могло все произойти и не так, как они запланировали. Могло быть и так, что мы с Юркой благополучно бы удрали. ЕСЛИ БЫ ЮРКА ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЭТОГО ЗАХОТЕЛ. Если бы он сопротивлялся по-настоящему. Он мог бы закричать. Он должен был закричать. Но почему-то не закричал. Почему? Ввод напрашивается только один.
Он не был жертвой похищения.
Он был участником спектакля.
С одним-единственным зрителем. Значит самое интересное впереди.
А пока занавес.
В этом коротком антракте я могу кое-что предпринять.
Например повидать Толика. Ехать к нему домой летом бесполезно: если он не на смене, то наверняка возится на участке со строительством дома. Если он на смене, то тем более его не найдешь — он работает таксистом. Значит нужно звонить диспетчеру в автопарк и заказать его машину не завтрашнее раннее утро, или позвонить Гальке Карабаевой.
Я выбрал второе.
Галька Карабаева была невеста Толика. Вообще-то им давным-давно полагалось пожениться. Сказать, что они любили друг-друга, это значит ничего не сказать. Они не расставались с четвертого класса, их взаимоотношения включали в себя все, что они волею судьбы были лишены: и тепло домашнего очага, и родительскую любовь, и все то, остальное, что дает людям семья.
Но Толик твердо решил жениться только тогда, когда он построит свой дом, своими собственными руками. В таксопарке, куда он попал сразу же после ПТУ, он пользовался большим и заслуженным авторитетом за свою честность и фантастическое трудолюбие.
Галька работала в другом месте, но как-то так вышло, что их отношения стали у всех на виду.
Директор таксопарка, человек взыскательный и педантичный, сам вышедший из шоферов, видя не свойственные большинству таксистов порядочность и работоспособность Толика, предложил ему сыграть уже ставшую забываться комсомольскую свадьбу с предоставлением молодоженам двухкомнатной квартиры, но, обычно безотказный Толик, наотрез отказался, заявив, что целью его жизни является дом, собственный дом, каких бы трудов ему это ни стоило, а он его построит.
Директор развел руками, но не оставил его без внимания, и через некоторое время Толик стал владельцем небольшого участка в районе одного из жилых кооперативов в ближнем Подмосковье.
Этот кооператив существовал уже лет тридцать и получить там участок простому смертному было невозможно, но в одном месте, примыкавшем к небольшой речке, когда-то, давным-давно свалили несколько машин мусора, потом еще добавили, пока не получилась пирамида Хеопса высотой в трехэтажный дом. Затем установили устрашающих размеров щит с предупреждением об ответственности за свалку мусора и, на этом дело кончилось. Расчищать Авгиевы конюшни охотников не находилось.
Директору таксопарка этот козырь в рукаве по-видимому был известен давно. Договориться с местной властью ничего не стоило — они были безмерно счастливы, что нашелся чудак, который избавит их от этого позорного бельма.
Небольших усилий ему стоило и заказать технику для уборки мусора и расчистки участка.
Мне очень жаль, что я не видел выражения лиц Толика и Гальки, когда директор отвез их на своей персональной машине к их новым владениям и здесь, на месте, вручил им соответствующие документы.
У Гальки и так глаза всегда были на мокром месте, а Толик так был потрясен, что не захотел уезжать обратно. Директор на стал настаивать и уехал, а Толик с Галькой неизвестно сколько просидели на хорошо вычищенном и уже отмеченном колышками участке, неизвестно о чем разговаривая. Можно предположить, что именно в тот момент у них родилась идея кроме своих будущих детей взять одного детдомовского. Или двух.
Толику нужно будет рассказать все. Вранье он сразу почувствует. Но если рассказать честно, он обязательно поможет.
Толик настоящий друг.
В десять утра я сидел в сквере у Даниловского рынка. Это скорее длинная аллея, тянувшаяся две трамвайные остановки, обнесенная чугунной оградой, маленький оазис в раскаленных июньским зноем каменных джунглях.
Здесь царила ленивая умиротворенность позднего утра. Редкие прохожие, пенсионеры, читающие газеты в тени раскидистых лип, бабушки или молодые мамы с колясками и я, одиноко сидящий на садовой лавке.
Он появился в том же костюме и шляпе тироль, очевидно июньская жара не имела для него никакого значения.
На этот раз он имел крайне озабоченный вид делового человека, время которого ограничено и, что еще более важно, чрезвычайно дорого.
Он кивком поздоровался, сел рядом со мной на скамейку, поставил на нее свой портфель, и старательно подтянул брюки.
— Значит такое дело, — начал он монотонным голосом, как хорошо заученный урок, — в определенный день и час во внутренний двор к одному из подъездов жилого дома подъезжает автомобиль. В нем водитель и пассажир (Я бы сильно удивился, если бы пассажир был, а водителя не было), который не выпускает из рук большой кейс. Пассажир с кейсом покидает автомобиль, направляется в подъезд и получает пулю в руку, держащую кейс. (Или в голову, уточняю я про себя).
Шофер выскакивает из машины, осматриваясь кто и откуда стреляет…
— Я должен захватить кейс и смыться, — перебил я его.
— Да, — он косо посмотрел на меня, видимо подумав, что я уж слишком шустрый малый, — здесь аванс пять тысяч, — он похлопал по портфелю, — а еще пятнадцать, когда отдашь кейс кому следует. Всего — двадцать. — Мне показалось, что он подавил вздох.
Помешкав, он щелкнул застежкой портфеля и достал небольшой сверток, перехваченный резинкой, положил его на сиденье лавки между нами и, не спуская с него глаз, закрыл портфель, поставил его справа от себя и потерял к нему всякий интерес.
— Ну теперь-то, я надеюсь, вы мне расскажете кого вы представляете?
Он заерзал и хмуро и опасливо покосившись на меня ответил:
— Не могу сказать ничего конкретного, я знаю столько же сколько и ты.
Мне стало ясно, что я ничего от него не добьюсь, но тем не менее мне хотелось вытянуть из него все, что можно.
— Ну вы постарайтесь все-таки поставить себя на мое место.
У вас крупные неприятности, избежать которых вам своими силами нет никакой возможности. Вы даже не знаете ни причину ни источник этих неприятностей. Подходите к своему дому и видите, что неприятности продолжаются в лице человека, который тоже ничего не знает, но что-то от вас хочет, что-то наверняка связанное с предыдущими неприятностям и, нагнетает обстановку.
И в то же время изо всех сил демонстрирует, что он в эти игры не играет.
— Если вы в эти игры не играете и ничего не знаете, то почему для этой миссии выбрали именно вас? Каким-то образом вы с ними все-таки связаны.
Он явно стремился как можно быстрее уйти отсюда и очень неохотно выдавил из себя:
— Они шантажировали меня…
— Чем? — Недолго думая спросил я.
Несмотря на очевидный страх передо мной, он заметно разозлился.
— Чем, чем!.. У каждого человека есть в жизни что-нибудь такое, о чем он старается не вспоминать. У каждого.
Он вызывающе посмотрел на меня, словно я возмущенно отрицал это.
— Скажешь нет?
— Да нет, почему же, случается. Не со всеми, правда, но случается.
Кто-то же предлагает молоденьким мальчикам или девочкам поиграть в дочки-матери изощряясь в своей изобретательности для достижения известной цели. Не все же лезут напролом, не думая о возможный последствиях.
Он с отвращением плюнул в сторону, но меня это отнюдь не смутило.
— Все бывает. Приглашают гостей и тайком, в коридоре, обшаривают карманы их пальто, или крадут общие деньги, сваливая это на другого, поджигают дачи ненавистного соседа, пишут доносы на неугодных. Да мало ли что… Что они от вас потребовали?
— Сначала они взяли… Да нет, это не имеет к тебе никакого отношения…
— Имеет, — настойчиво перебил я его, — все имеет значение.
— Я работаю техником-смотрителем. Они потребовали ключ от шахты лифта и через два дня… — он запнулся, — лифт сломался. Ну, потом еще кое-какие мелочи…
— Какие? — Я был неумолим.
Он ненадолго замолк, снял шляпу и протер носовым платком бледную лысину, засмущавшуюся от моего нескромного взгляда.
— Видишь ли, в одном из домов, который я курирую, живет крупный начальник, большой человек, занимает самую просторную квартиру на шестом этаже. Серьезный товарищ. Он мне платит ежемесячно пятьдесят рублей за то, что я докладываю ему обо всем, что происходит в доме по моей части. Где и какие работы производятся, какой ремонт и кто конкретно этим занимается. Кто въезжает и кто выезжает. Дом большой, пятиподъездный, старой постройки и конечно случается, что кто-то получает квартиру в новом доме, а кто-то вселяется в освободившуюся. Обо всем я должен ему докладывать. Пятьдесят рублей к моей зарплате в девяносто — серьезное подспорье.
Он посмотрел на меня, словно вновь спрашивая: «скажешь нет?»
Я ничего не сказал.
— Так вот, ЭТИ почему-то знали обо всем и предупредили меня, что если я ему что-нибудь скажу о НИХ, они меня разложат на элементарные частицы. Как он вам выдавал эти пятьдесят рублей?
— Пересылал почтовым переводом.
— Вы ему докладывали по телефону?
Он кивнул.
— Дайте мне этот телефон.
Он с явной неохотой назвал телефон.
Я задумался. То, что он мне рассказал было и много и ничего.
Потом вдруг до меня дошло, что вся сумма составляет двадцать тысяч. Для меня эта сумма была настолько ошеломляющей, что я просто не мог в данный момент зафиксировать такую ситуацию: Я, Вадим Быстров, двадцати двух лет, холостой, сторож на стройке, имею двадцать, нет, даже без малого двадцать пять тысяч рублей. Так можно подумать о ком-то другом, постороннем, например вон о том мужике, который не спеша, лениво вылезает из новенькой Волги 24 модели, что остановилась напротив магазина «ЗОРЬКА».
— Что с Юрием Михайловичем? — Я звонил Берте сегодня утром, она удивленным голосом (Разве ты не знаешь?) сообщила, что Юрий Михайлович вчера вечером улетел в долгожданную командировку в Лондон, и она, Берта, вместе с Зиночкой провожала его в Шереметьеве. Она так рада, так рада за него, он так давно мечтал попасть в Англию.
Я заверил ее, что знал, и тоже собирался покрасоваться в Шереметьеве в толпе провожающих, но, к сожалению, не получилось и я тоже вместе с ней разделяю и т. д. и т. п.
— Так что с Юрием Михайловичем?
— Если ты согласишься, с ним все будет в порядке. Это все, что я знаю. — Он положил ногу на ногу и сосредоточенно уставился на носок своего знававшего лучшие времена ботинка.
Задерживать его больше не имело смысла.
— Ну что ж, Василий Андреевич, как мне ни жаль с вами расставаться, но увы…
— Кстати, молодой человек, — он почему-то перешел на «вы», — откуда вы узнали мое имя-отчество? Мы ведь с вами вчера встретились впервые.
— Из высших источников, — сказал я почти не прегрешив против истины.
Он посмотрел на меня своими глазками-буравчиками поджал губы, медленно поднялся, взял портфель и нечего больше не говоря пошел в сторону Донских бань, походкой человека, выполнившего тяжелую работу.
Теперь им займется Толик, и сегодня вечером или завтра утром я буду кое-что знать об этом человеке.
3
В пакете с деньгами оказалось еще и небольшое переговорное устройство величиной не больше пачки сигарет и инструкция к нему, отпечатанная на компьютерном принтере. Кроме сведений о том как им пользоваться, инструкция содержала указание, чтобы я не расставался с ним ни днем ни ночью.
Это могло означать только одно: отныне все мои разговоры контролируются, кроме основной функции прибор содержал в себе подслушивающее устройство.
Мой код на который я должен немедленно отзываться состоял из слова «Кент», а обратный адрес — «Марс».
Кент… Кентом меня звал в детском доме, уже кажется давным-давно, только один человек — Серега Илюхин, Серега Геббельс — прозванный так за непомерную вспыльчивость, жестокость и очень худое телосложение. Но, несмотря на худобу, он был очень силен и в драке с ним невозможно было справиться и троим. Еще он обладал уникальной способностью освобождать связанные веревкой руки, но как он ни старался обучить этому меня, я выпутывался только в двух попытках из пяти.
Он был старше меня года на два и почему-то опекал, а если кто-нибудь пытался называть меня Кентом, он тихо и зловеще обрывал: «Это мой Кент…»
О нем я не слышал много лет, с тех пор, как он с четверкой таких же двенадцати-тринадцатилетних юнцов, вооружившись стареньким кольтом 38 калибра пытался ограбить маленькую сберкассу, находившуюся в помещении почтового отделения.
Кассирша попалась старая и опытная. Несмотря на направленное на нее дуло револьвера, она сразу же оценила обстановку и слишком юный возраст грабителей, сделала испуганное лицо и запричитала, протянув Сереге пачку разномастных мелких купюр: «Да что ты, сынок, что ты у меня всего-то двести рублей…» «Давай сколько есть», — милостиво согласился Серега.
Они сели на трамвай и на третьей остановке их всех благополучно взяли. С тех пор о нем не было ни слуху, ни духу.
На другое утро я собрался в продовольственный магазин и, выйдя из дома, носом к носу столкнулся с Толиком. Я прижал указательный палец к губам и показал на нагрудный карман рубашки. Он заглянул туда и увидел светящиеся зеленым светом цифры таймера, которым, ко всему прочему, был оснащен этот прибор. Я жестами показал ему, чтобы он написал все, что он хочет сказать.
Две старухи сидевшие на лавке у соседнего подъезда прекратили разговор и уставились на нас.
Мы прошли в соседний двор, где за кирпичным, когда-то оштукатуренным забором, сплошь заросшим канадским кленом, ютилась крошечная галантерейная фабрика, цеха которой, похожие на клетушки, находились в подвальном помещении.
В центре дворика, покрытом потрескавшимся асфальтом, с криками носилась мелкая ребятня, мы присели на одну из свободных лавок и Толик, достав толстую записную книжку, с которой никогда не расставался и маленькую шариковую ручку, положив ногу на ногу, лихорадочно начал писать.
«Вчера этот мужик был сбит на Шаболовке машиной. Когда он переходил улицу, рядом с ним суетился какой-то парень. Могу поклясться, что он брызнул на мужика газом из баллончика и быстро скрылся. Мужик резко остановился и в эту же секунду на него наехала бежевая Волга. Его отбросило на трамвайные рельсы, он ударился головой, с оглушительным звуком лопнул череп, Вадик, если бы ты видел…»
Я не стал читать дальше, отобрал у него ручку и записную книжку и написал ему, чтобы он срочно посетил Шамана и попросил его кое о чем от моего имени.
Поднявшись с лавки, я еще раз выразительно прижал указательный палец к губам и, попрощавшись сжатым кулаком правой руки, поднятой до плеча, направился в магазин.
Следующий на очереди я. Когда я сделаю свое дело, со мной тоже произойдет несчастный случай. Рано или поздно. Скорее всего в момент передачи кейса. Может чуть позже.
Вернувшись из магазина и бросив сумку с продуктами на стол, я завалился на кровать. Как всегда в момент предстоящей опасности мной овладела сонливость. Я не стал ей противиться и задремал.
Меня разбудили сигналы переговорного устройства похожие на сигналы точного времени передаваемые по радио. Резкий и хриплый голос произнес:
— Кент, ответь на вызов. Кент, ответь на вызов…
Мне было неприятно, что кто-то неизвестный мне называет меня Кентом. Голос был явно не Геббельса, хоть я его не видел и не слышал много лет.
— Кент, ответь на вызов… Кент, ответь на вызов, — журчало как сверчок переговорное устройство.
— Кент на связи, — проворчал я сквозь зубы.
— Добрый день, — воодушевилось устройство, — добрый день, Кент, давай уточним все детали, наверное у тебя масса вопросов, впрочем чем меньше, тем лучше для тебя. (Уж очень все озабочены тем, чтобы мне было лучше. Наверное и тому, в тирольской шляпе, говорили то же самое).
— Изо всей массы вопросов я выделяю один и основной: что с Юрием Михайловичем. — Я вынужден был накрыться одеялом: не было никакой уверенности, что Женька Баранов не подслушивает.
— Его благополучие полностью зависит от того, как чисто ты сделаешь свою часть работы, — голос был другой, свистящий как у разъяренной кобры.
— Я хочу услышать его голос, — настаивал я.
— Не забывай, что условия диктуем мы, — оборвала меня Кобра, — а с Юрием Михайловичем все в порядке, чего и вам желает, — слегка подсластила она пилюлю. — Ближе к делу. Сейчас, после нашего разговора, поедешь на Павелецкий вокзал и в автоматической камере хранения (он назвал номер ячейки и шифр) возьмешь специально изготовленный рюкзак и точно такой же как ТОТ кейс. Чтобы положить кейс и надеть рюкзак, у тебя считанные секунды. Так что тщательно отработай этот момент. Подъезд имеет два выхода — один во двор, другой, в обычное время заколоченный, на улицу. К нужному времени он будет соответствующим образом подготовлен. Выйдя из этой двери, ты захлопнешь ее и замок заблокирует дверь. Лифт будет отключен. С момента начала выстрелов с шестого этажа будут спускаться как минимум двое профессионалов высокого уровня. На все про все у тебя от десяти до двадцати секунд. Ориентируйся на пятнадцать. На нашей стороне — фактор внезапности. Теперь вопросы по существу.
— Мне считается очень важным предварительно осмотреть место действия, — сказал я, обливаясь потом под одеялом. — Это касается моей работы, и от этого в немалой степени зависит успех или провал всего дела.
— Подожди минуту, — заколебалась Кобра.
«Посоветоваться надо», — мысленно подсказал я ей и откинул одеяло, чтобы хоть немного отдышаться.
Минут через пять переговорное устройство под одеялом вновь ожило:
— Алло, Кент, — продолжала резко свистеть Кобра, называя перекресток улиц недалеко от Даниловского рынка.
— У меня еще вопрос, — не унимался я, — в каком качестве я буду находиться в этом дворе.
— Ты будешь находится на улице у своего мотоцикла. По нашему сигналу ты не спеша направишься во двор, таким образом, чтобы машина обогнала тебя.
— Цвет машины и номерные знаки.
— Сообщим, когда будешь на месте. У тебя все? — Кобра явно проявляла нетерпение.
— Еще один маленький пустяк, — решился я окончательно доканать Кобру, — а что если им вздумается и меня пристрелить так, на всякий случай, для полной гарантии.
— Ты тоже профессионал высокого класса, Кент, не мне тебя учить, если ты имеешь ввиду оружие, то у тебя наверняка с Афгана припрятана хорошо пристрелянная пушка.
Он прав, мерзавец, пушка есть. Хорошо спрятана и хорошо пристреляна. Дураков нет среди больших людей, по блату в их компанию не вотрешься, естественный отбор — выживает умнейший. — Тогда у меня все, — мне смертельно хотелось курить.
— До связи. Если что-нибудь непредвиденное — связь по инструкции. — В голосе Кобры явно чувствовалось облегчение. Надо бы, конечно, спросить каким образом они планируют передачу кейса, но немного подумав решил, что переговорное устройство обеспечивает постоянный контакт между нами.
Я съездил на Павелецкий вокзал, забрал рюкзак с кейсом под пристальным взглядом хмурого мента, неторопливо расхаживающего вдоль узких коридоров камеры хранения, на всякий случай оставил в ячейке полиэтиленовую сумку набитую газетами, зарезервировав тем самым за собой ячейку — в камеру хранения стояла внушительная очередь железнодорожных скитальцев.
Отвез все домой, немного перекусил, с удивлением рассматривая специально изготовленный для подобных целей рюкзак.
В сторону обращенную к спине был вшит тонкий пластик, а все остальные представляли собой поролон, обшитый брезентом. Кейс, большой как чемодан с закругленными углами, армированный металлом и оснащенный цифровыми замками, легко входил в рюкзак узкой стороной и закрывался клапаном так, что не было необходимости ни завязывать, ни застегивать, достаточно было защелкнуть одну-единственную металлическую кнопку. Рюкзак совершенно скрадывал форму кейса и удобно размещался на спине.
Затем я сходил в одно место, неподалеку, где находился тайник, извлек оттуда ПМ и вновь замаскировал тайник.
Вернувшись домой, я запер дверь на замок, чтобы Женька Баранов ненароком не зашел, неторопливо и тщательно протер ПМ от смазки привел все в порядок, сложил в полиэтиленовый пакет и спрятал в ящик гардероба.
Затем я занялся замками кейса. Мне не составило большого труда открыть их. Я засек время, которое потратил на их открывание — вышло на оба замка четыре с половиной минуты.
Теперь мне необходимо было сделать разрядку. Я вышел в коридор и подошел к двери комнаты Женьки Баранова, которая находилась напротив лестничной клетки и постучал.
Прозвучало «Да», полное гордого достоинства и французского прононса. Следовало соблюдать ритуал, и я как можно подобострастнее произнес:
— Можно?
— Да, конечно, — ответствовали с доброжелательной снисходительностью дворянина, ведущего родословную если уж не от Рюриков, то по крайней мере от Малюты Скуратова.
Я открыл дверь. Женька Баранов лежал на кровати, закинув одну руку за голову, а другой высоко держа раскрытую книгу. На носу красовались изящные очки со стеклами без оправы, крупные голубые глаза глядели на меня поверх очков вопросительно и недоверчиво.
— Баранкин, будь человеком, — обратился я к нему со страдальческим выражением лица.
— Что случилось, Вадик? — он сел на кровати, положив книгу и осторожно снимая очки.
— Убили, гады, брата Пантюху — выпить не с кем, — произнес я с горечью.
Его лицо расплылось в скабрезной улыбке, глаза превратились в узенькие щелочки.
— Сейчас снабдим, — двадцатипятирублевка в моей руке преисполнила его энтузиазмом строителя первых пятилеток.
— Вы помните? — Меня понесло.
Он насторожился, просовывая голову в рубашку, одновременно пытаясь надеть на босые ноги туфли с вельветовым верхом, изображая юного журавля в период брачной церемонии.
— Вы все конечно помните, — я погрозил ему указательным пальцем.
Он окончательно опешил, застыв в замысловатой позе.
Кивнув в сторону двери, я продолжал:
— Как я стоял приблизившись к стене.
Он не шевелился.
— Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне.
Наконец до него дошло, глаза вновь превратились в щелочки, деньги нашли кратковременное убежище в нагрудном кармане рубахи, спросив что брать, он уже катился вниз по лестнице, бормоча себе под нос: «Две бутылки коньяка и сухого, кто ж упомнит всего Пушкина…», а вдогонку ему неслось мстительное:
— Вы говорили, нам пора расстаться, что вам наскучила моя шальная жизнь…
На перекрестке было всего два жилых дома.
Каждый из них в виде буквы «Г» стоял одновременно на двух улицах.
В каждом из них было по шесть этажей, выносные лифты и по две двери в подъездах. Двери, выходящие на улицы, были заколочены наверное с тех пор, когда исчезло с лица земли многочисленное племя настоящих московских дворников.
В один из дворов можно было въехать с двух улиц, к тому же рядом с ним блистал современным дизайном новый девятиэтажный дом, создавая своим наличием архитектурный ансамбль со старым домом в виде буквы «П». Двор был большой, просторный, с многочисленными садовыми скамейками, столиками, похоже для игры в домино и сопутствующих ему мероприятий.
Другой дом не имел близких соседей, зато во дворе имелся огороженный остатками чугунной ограды прямоугольник, размерами почти во весь двор, оставляя место только для пешеходных асфальтированных дорожек, прямоугольник голой бесплодной земли без единой травинки с чахлыми невысокими и запыленными деревьями неизвестной мне породы. Садовых скамеек не было ни одной, лишь валялись два деревянных ящика. На одном из них сидело худосочное существо женского пола неопределенного возраста, неприязненно наблюдая за маленькой лохматой собачонкой, сосредоточенно исследующей лабиринты таинственных запахов.
Ближайший дом, не менее старый, отстоял метров на пятьдесят, почему-то отгородившись от углового высоким кирпичным оштукатуренным забором.
На других углах перекрестка жилых домов не было — на одном стояло стандартное четырехэтажное здание средней школы, обнесенной забором из стальных прутьев, имеющих наконечники боевых пик, — на другом одно из бесчисленных столичных НИИ.
Мужественно выстояв длинную очередь за мороженым, я направился во двор архитектурного ансамбля «П» и пристроился на одну из скамеек, на которой уже восседала единственная во дворе старушка в цветастой ситцевой кофточке с короткими рукавами. Она сидела сложив руки на груди с выражением на лице, словно когда-то, давным-давно ей дали понюхать что-то крайне непристойное и с тех пор ей никак не удавалось согнать с лица гримасу отвращения.
— Что-то у вас дворник от рук отбился, — начал я напрашиваться на долгий душевный разговор.
Она, глядя на меня искоса из-под нахмуренных бровей, смерила с головы до ног, оценивая, стою ли я ее внимания:
— Да нет, милок, у нас дворничиха очень порядочная женщина, каждый день убирает и подметает, да и сынок ей все время помогает, хороший такой мальчик, даже в пионерский лагерь на лето не поехал, буду, говорит, маме помогать, а путевку-то им бесплатно давали — отца у них нету. А с чего ты взял, что дворник у нас плохой? — Она смотрела на меня со своей брезгливой гримасой, как будто я и был тем самым, непристойным, что она когда-то понюхала может быть даже попробовала на вкус.
— Ну как же, — воодушевился я хорошим началом, — вон на дорожках, прямо перед подъездами елочные ветки валяются, как будто нарочно накидали. — Нарочно и накидали, милок, ты вроде похож на русского, а таких простых вещей не знаешь, — она вновь смерила меня взглядом, казалось ее вот-вот стошнит от отвращения.
— Нарочно и накидали, женщину сегодня хоронили, вон из того подъезда, где лифт не работает, из-за него проклятого и померла, собака ничего, хоть бы что, а она померла позавчера в лифте.
— Разбилась что ли? — насторожился я.
— Если бы. — Она покачала головой, словно осуждая покойницу за то что та не посоветовалась с ней, как лучше помереть. — Трос оборвался, да лифт-то не разбился, а вроде бы как на подушку шмякнулся, она и померла от страха. Вышла, называется с собачкой погулять, сунулась в лифт, а трос возьми да и оборвись, ни царапин, ни ссадин, ни ушибов, со страху померла, сердце не выдержало пока летела с шестого этажа, царствие ей небесное, вечный покой.
Хорошая была женщина, не старая еще — шестьдесят лет всего было незамужняя, одна жила, собачку держала, пуделя карликового, сама работала в театре бухгалтером, работники из театра и хоронили. Анной Георгиевной звали, хорошая была женщина, душевная. А лифт специально не ремонтируют все комиссии ходят третий день. Комиссии ходят, а человека-то нет…
Я ее уже почти не слышал.
Выносной лифт, остановленный надолго на первом этаже — идеальное место для вооруженной засады! Все пять подъездов под прицелом и выход так же в парадную дверь на улицу…
Теперь все встало на свои места, сориентироваться стало значительно проще, сориентироваться, чтобы самому не попасть под пули.
Старушка еще говорила что-то насчет легкой смерти, о том как плохо оказаться больной на руках у своих близких, как например в тридцать четвертой квартире женщина парализованная седьмой год лежит, с дочерью замужней живет, у которой детей двое и муж, вроде бы не пьяница, а нет-нет да и нажрется, все в одной комнате, а квартиру который год обещают…
Отдав остатки мороженого болтавшейся неподалеку дворняжке с большими грустными и доверчивыми глазами, пробормотав старушке невнятные извинения по поводу нехватки времени, я вышел на улицу и свернул к троллейбусной остановке.
Подходя к общежитию, я увидел такси Толика. Заметив меня, он вышел из машины и кивнул в сторону дворика, где мы с ним переписывались вчера. Там, так же как вчера, резвилась ребятня, лишенная возможности жить летом на даче или в деревне у бабушки, в тени канадских кленов покоилась пара колясок с младенцами, под присмотром молодых мам, лениво беседующих между собой.
Мы присели на скамейку, стоявшую на самом солнцепеке и Толик протянул мне почтовый конверт, слегка приоткрыв который, я увидел паспорт, военный билет, трудовую книжку и записку, написанную удивительно красивым каллиграфическим почерком. Не могу сказать, что это был почерк Шамана — он сам часто говорил еще в в детском доме об отсутствии у него собственного почерка.
Записка гласила:
«Вадик! Я даю тебе адрес в Питере, брось это дело и поезжай туда. Там у тебя будет комната в общежитии и нормальная работа. Предварительная договоренность есть. Эти люди оставят тебя в покое — я об этом позабочусь. О Мокрове не беспокойся — не тот человек Мак, чтобы попасть в заложники, тут что-то другое мне кажется он тебя элементарно подставляет. Собирай рюкзак, бери пару канистр бензина для Матильды и дуй в Питер. Даю слово, что все улажу».
Шаману можно верить. Такие специалисты как он ценятся очень высоко и попадают за решетку крайне редко, их берегут как зеницу ока. И не обязательно воры. Свою первую серьезную работу он сделал для женщины, у которой что-то было не в порядке со стажем в трудовой книжке и, соответственно, с оформлением пенсии.
А несчастные прогульщики с клеймом трех тузов в трудовой книжке? После долгих мытарств в поисках работы они готовы были отдать все за избавление от позорного, не всегда справедливо поставленного клейма. Но нужно отдать должное Шаману — он никогда не драл три шкуры с клиента.
Я жестами показал Толику, чтобы он дал мне записную книжку с ручкой и, немного подумав, написал: «Спасибо, Толян за все. Больше здесь не светись, не надо. Я перед тобой как всегда в долгу.
Передай привет и большущее спасибо Лехе-Шаману. Прощай, может когда-нибудь увидимся. Пожелай мне удачи, она мне вскоре очень-очень пригодится. Еще раз спасибо, брат».
Толик выхватил у меня записную книжку и ручку и торопливо начал писать: «Вадим, послушайся Шамана! Остановись, Юрка выкрутится, это не он заложник, а ты…»
…Я вернулся из Афгана полный радужных надежд на работу, на учебу в институте, на получение квартиры. Через неделю о надеждах я вспоминал с горькой иронией.
В автоколонне, куда я обратился по поводу работы, мне предложили рафик, стоявший у забора, на корпусе которого следовало бы сделать надпись несмываемой краской: «ОСТАВЬ НАДЕЖДУ ВСЯК ПОДХОДЯЩИЙ КО МНЕ». Механик стараясь не смотреть мне в лицо сказал:
— Вот, приводи ее в порядок и вперед.
До «вперед» было месяцев шесть изнурительной работы и столько же месячных зарплат на запчасти.
В райжилотделе, на просьбу выделить квартиру участнику войны в Афганистане прозвучала крылатая фраза: «Мы вас туда не посылали», и моя койка в комнате общежития для лимитчиков оказалась четвертой по счету.
Об институте не могло быть и речи.
К тому времени, когда появился Юрка, я уже серьезно приуныл.
Как он узнал, что я вернулся, для меня осталось загадкой — я не хотел встречаться с моими немногочисленными друзьями, пока основательно не устроюсь в этой жизни. С его появлением все изменилось как во сне. Через день я вселился в отдельную комнату в семейном общежитии, а под лестницей на первом этаже был сооружен большой металлический ящик, в котором стоял новенький мотоцикл — Матильда Ивановна. Место сторожа на стройке не было для меня заманчивым, но Юрка сказал, что пока я поработаю на больших людей, а там видно будет…
Я похлопал Толика по руке и, когда он поднял на меня умоляющие глаза, отрицательно покачал головой, поднялся со скамейки и, как вчера, попрощался с ним сжатым кулаком правой руки, поднятой к плечу.
4
Я лежал на теплом песке под лучами ласкового солнца лицом к морю. Слева от меня возвышалась невысокая темная скала. Над скалой как мне казалось, слишком низко висело небольшое светлое облачко.
Все мое существо было наполнено неизъяснимым блаженством и покоем.
Вдруг, боковым зрением я заметил, что облако начало медленно двигаться в мою сторону и через некоторое время зависло прямо надо мной. Я не спускал с него глаз, испытывая нарастающее беспокойство.
Внезапно из облака появилась огромная загорелая мужская рука, слегка поросшая рыжеватыми волосами. Кисть сжимала рукоять обоюдоострого кинжала с ослепительно сверкавшим на солнце клинком.
Рука с клинком опускалась на меня. Я едва успел откатиться в сторону, клинок по самую рукоять с шумом вонзился в песок и замер. Затем рука покрутила клинок, как бы убеждаясь, что это не моя плоть, и так же шумно и резко выдернула кинжал из песка.
Конец клинка завис над следом, оставленным моим телом словно принюхиваясь и поплыл по нему в мою сторону.
Вскочив с песка я обежал вокруг руки с кинжалом и отпрыгнул как можно дальше в сторону. Цепочка моих следов составила линию окружности радиусом метров шесть.
Рука с кинжалом плыла по кругу. На третьем витке она остановилась в месте, где я прыгнул в сторону. Через мгновенье она плыла по направлению ко мне, несколько увеличив скорость.
Я уже во всю прыть описывал вторую окружность гораздо большего радиуса эгоцентричную первой.
Но рука умнела не глазах и, проплыв всего две трети второй окружности, вновь остановилась в задумчивости. На этот раз время на размышление было короче, она уверенно, без колебаний направилась в мою сторону, совершенно не обращая никакого внимания на следы.
В панике я бросился к морю, влетел с плеском в воду и лихорадочно заработал руками и ногами. Обернувшись я увидел, что рука с кинжалом остановилась в нерешительности у кромки воды.
И тут раздались сигналы точного времени…
С сожалением окинув взглядом свою комнату, с которой я по-видимому расставался навсегда, я вышел в коридор и стал запирать дверь на ключ. Удивительно, но Женьки Баранова поблизости не было. По коридору из кухни осторожно плыла соседка Лена с большой дымящейся кастрюлей держа ее обеими руками за ручки, обернутые небольшим полотенцем. Из-за приоткрытой двери ее комнаты доносилось воркование трехмесячного младенца. Доброжелательно скользнув по мне взглядом и, задержав на мгновение свое внимание на странном сооружении за моей спиной она спросила:
— Далеко собрался, Вадик?
— Да вот Виктору Васильевичу надо кое в чем на даче помочь, — ответил я, прижимаясь животом к двери давая ей пройти. — Ну, в добрый путь и Бог в помощь.
Виктора Васильевича она не знала, честно говоря я тоже.
В три часа мы с Матильдой были у торгового центра метрах в трехстах от того самого дома. Здесь я должен ждать сигнала передатчика и подъехать к дому чуть раньше машины.
Было пасмурно, весь день собирался дождь, но все никак не мог решиться начать.
За мороженым стояла такая же очередь как и вчера. Я подъехал почти вплотную к очереди и обратился к миловидной женщине лет тридцати двух:
— Лидия Гавриловна, возьмите мне, пожалуйста ленинградское эскимо, и протянул ей пятерку.
Она нерешительно взяла деньги пытаясь узнать незнакомое лицо за щитком шлема и через минуту (она стояла в очереди третьей) протянула мне эскимо и сдачу.
— Никак не могу вас вспомнить, молодой человек.
— А вот я вас никогда не забуду, Лидия Гавриловна. — Я придал лицу скорбное выражение и добавил:
— Ах, женщины, женщины, а еще говорят, что мужчины коварны. — Скорбь в моем голосе не имела границ. — Большое вам спасибо за мороженое и дай вам Бог чего хочется. Без очереди.
Устроившись в относительно безлюдном месте и не слезая с Матильды я принялся за мороженое.
Прошло более получаса прежде чем прозвучал сигнал из передатчика. Я тронулся и через минуту был у перекрестка. На проезжей части мостовой стояли три машины — две Волги рядом с парадными дверями подъездов и красная девятка на противоположной стороне. Через затемненные стекла девятки ничего не было видно. В одной из Волг на месте водителя сидел мордастый малый и что-то читал.
Я поставил Матильду не на проезжей части, возле парадной двери у самой стены здания на потрескавшейся от времени узенькой асфальтовой полоске. От пешеходного тротуара ее отделяла полоса земли, на которой по-видимому должны были быть расположены цветочные клумбы.
Скинув на спину шлем, не спеша оглядевшись по сторонам, я направился ко въезду во двор.
По противоположной стороне мостовой приближалась Волга с известными мне номерами и притормозила напротив въезда во двор пропуская встречную машину. Я уже входил во двор, мое появление было по-видимому сигналом для тех, кто находился в лифте.
Пройдя немного вглубь двора, чтобы не попасть на линию обстрела я остановился и посмотрел на часы словно кого-то поджидая.
Машина приближалась к подъезду. Во дворе никого не было. Работающие во вторую смену уже ушли, а с первой смены еще не проходили. Лишь почти в самом центре двора у контейнеров для мусора копошились два мальчугана лет шести.
Машина наконец остановилась. Открылась передняя дверца, появился кейс, тянувший за руку человека, которому осталось жить меньше пяти секунд. Он опустил ноги на асфальт, его голова с коротко остриженными волосами пепельного цвета начала подниматься над дверцей.
Зловещая тишина двора взорвалась звоном разбитого стекла выносной шахты лифта и оглушительными очередями двух автоматов Калашникова. Человек стал падать лицом вниз не успев выпрямиться судорожно цепляясь левой рукой за верхний край дверцы. Правая рука выпустила кейс, он упал к раскрытым дверям подъезда. Выстрелы смолкли чтобы через секунду возобновиться с новой силой. Человек распростерся на асфальте, его сотрясали конвульсии. Голова водителя упала на баранку, тревожно взвыла сирена, выстрелы смолкли.
— Вперед, Кент, — срывающимся голосом заверещал передатчик. Я понесся к машине на ходу снимая рюкзак, выхватил из него не предусмотренный планом второй кейс, схватил упавший и бросил на его место дублера. Вокруг упавшего медленно расплывалась по асфальту маслянистая вишневая лужа, все вокруг было усыпано битым стеклом. Сирена продолжала реветь, исполняя тревожный и печальный реквием.
Находясь в подъезде, застегивая кнопку рюкзака и отработанным движением закидывая его за спину, я вдруг увидел, что сверху между перилами лестницы упал белый капроновый трос. Я ожидал чего-нибудь подобного, выхватил из-за пояса ПМ и встретил крутого парня, лихо спускавшегося на одной руке по тросу двумя выстрелами. Он опустился на колени продолжая держаться одной рукой за трос. Кольт в его правой руке произвел один выстрел и упал на цементный пол. Я откинул его ногой под лестницу и направился было к парадной двери, но сверху несмотря на вой сирены мне послышались крадущиеся шаги. Я на секунду замешкался, затем сунул за пояс под ветровку ПМ, поднял кейс принесенный мной, наполненный для веса дощечками, переложенными Комсомольской правдой и, держа его в вытянутых руках, устремился вверх по лестнице.
На лице я постарался изобразить соответствующее выражение. Сирена продолжала выть.
Он только что миновал площадку второго этажа ступая мягкими кошачьими шагами, одетый в темно-бордовую майку, выгодно оттенявшую загорелый мускулистый торс, белые джинсы и домашние тапочки.
В руках красовался точно такой же, как у крутого парня кольт.
— Вот, — я протянул ему кейс ручкой вперед.
Он переложил кольт в левую руку, правой взял кейс.
Мой рот был открыт, глаза почти вылезали из орбит, я ткнул указательным пальцем в трос:
— Этот… того, — большой палец показал в сторону двора а ладонь нарисовала в воздухе знак умножения, — а тот… этого, — палец вновь указал на трос.
Моя рука опустилась в место где находятся гениталии, взяла в горсть ткань брюк вместе с содержимым:
— А я тут немножко обсикался, — жалкая улыбка блуждала на моем лице.
Его подозрительный взгляд немного смягчился.
— Как ты здесь оказался? — одноглазый дьявол в его руке все еще не спускал с моей груди сладострастного взгляда.
— Так ведь повестку привез, из военкомата… Спецнабор.
— Жди меня внизу, я сейчас, — он помчался вверх, перескакивая ступеньки.
Я подобострастно кивнул ему вслед и скатился с лестницы вниз. Душераздирающий вой сигнальной сирены не умолкал.
Крутой парень был еще жив и держался за трос обеими руками, продолжая стоять на коленях. Он с трудом поднял опущенный подбородок, на который изо рта текла маленькая струйка крови:
— Далеко не уйдешь, — его окровавленный подбородок опустился на грудь, левая рука выпустила веревку, правая кисть похоже была зажата мертвой хваткой.
Во мне шевельнулась жалость: я вполне мог быть на его месте.
Надвинув шлем я спустился по ступенькам к парадной двери, вышел на улицу и захлопнул створку. Мягко щелкнул замок.
Волга с мордастым исчезла, похоже на ней уехали те, из лифта.
Вторая оставалась на месте.
Слегка облокотившись на капот красной девятки стояла длинноволосая личность в хамелеонах и сером расстегнутом пиджаке. Его левая рука покоилась в кармане брюк, правая находилась под полой пиджака. Он смотрел в мою сторону.
Возле Матильды томился белесый мент примерно моих лет.
— А где второй? — строго спросил я подходя к нему ближе. Вопрос застал его врасплох, он было дернулся головой в сторону входа во двор, но спохватился и, стараясь придать своему голосу начальственные нотки, в свою очередь спросил:
— Что там происходит?
— Иди посмотри, — я вставил ключ зажигания стараясь не выпускать из поля зрения девятку. — Чего тут караулить, или сцышь, когда страшно?
Малый явно разозлился:
— Как ты разговариваешь с представителем власти!
— Такие представители у меня мочалку в бане съели. — Я не спускал глаз с длинноволосого, потихоньку приподнимая край ветровки в месте нахождения ПМ. В парадную дверь кто-то уже ломился.
Услышав стук в дверь длинноволосый выхватил пистолет и, держа его двумя руками, присел, опираясь локтями на капот. Наши выстрелы раздались почти одновременно. С представителя власти слетела фуражка, словно его сильно толкнули в спину, отчетливо вскрикнул длинноволосый, мент валился на нас с Матильдой, я оттолкнул его — он упал на землю, где должны быть клумбы с цветами, раскинул руки в стороны и больше не шевелился. Матильда Ивановна взревела и через две секунды вынесла меня на перекресток, я свернул налево едва не столкнувшись с ядовито-зеленым Москвичом и, осыпаемый проклятьями разъяренного владельца Москвича, понесся прочь.
Минут через двадцать, когда я уже ехал по Каширскому шоссе, заговорил передатчик:
— Классная работа, Кент, где ты сейчас находишься?
«Тут неподалеку, ребята, не волнуйтесь, не заблужусь, да к тому же на мониторе вашего компьютера все прекрасно видно».
Передатчик насторожился:
— Кент, ответь Марсу… Кент, ответь Марсу…
Отвечать им не входило в мои планы. К тому же я был уверен, что в конце концов на связи появится Юрка.
Вскоре я свернул на дорогу, ведущую в аэропорт Домодедово. Не доезжая до него с полкилометра я съехал с дороги в лес, заглушил двигатель Матильды и быстро скинул рюкзак с кейсом. Не прошло и двух минут, как крышка кейса была открыта.
Он был набит доверху пачками сторублевок, долларов и каких-то других иностранных денег, но разбирать надписи на них не было времени, большой полиэтиленовый пакет грамм на семьсот с жемчугом и несколько небольших пакетиков наполненных, как мне показалось, простыми прозрачными камешками, наверное необработанными алмазами.
Из карманов рюкзака я достал две сумки. В одну из них, черную полиэтиленовую, переложил содержимое кейса, отложив пачку сторублевок, в другую, брезентовую, видавшую виды спортивного типа сумку сунул полиэтиленовую и, оглядевшись, заметил невдалеке небольшую ложбинку. В эту ложбинку я аккуратно положил плашмя Матильду, замаскировал ее сухими ветками, надел через плечо брезентовую сумку и, прихватив кейс, оснащенный по моим предположениям миниатюрным радиомаяком, устремился в сторону аэропорта.
Я шел краем леса не выходя на дорогу. В аэропорту я втер кейс за пятнадцать рублей двум небритым личностям кавказской национальности и чуть не бегом вернулся обратно в лес.
На шоссе появляться было нельзя, если в кейсе радиомаяк, то представители двух обиженных на меня команд уже наступают мне на пятки, и теперь наши с Матильдой дороги, до самой Окружной, только проселочные.
В лесу наступали легкие сумерки, дождь наконец решился малость поморосить. Я развернул карту Подмосковья для служебного пользования. Передатчик без передышки уговаривал, требовал, угрожал.
Я уже был готов тронуться в путь, когда из передатчика прозвучал Юркин голос:
— Вадим, кончай дурака валять, ты прекрасно знаешь, чем все это для меня может кончиться.
«Еще не знаю, но надеюсь вскоре буду знать».
— Я для тебя сделал все, что мог…
«Да, это правда. Но с какой целью».
— Никто к тебе так не относится как мы с Бертой, Зиночка…
«Никто, Мак, и тут ты прав. Только Берта с ее добрым сердцем могла предусмотреть такие мелочи как три комплекта постельного белья, когда я переезжал в семейное общежитие, минимум посуды, включая недорогой чайный сервиз, коробки с крупами, баночки со специями, чаем, вареньем…
Только Берта могла предусмотреть мягкие меховые домашние тапочки на маленьком коврике возле кровати и бельгийский махровый халат…
Только, Мак, Бертой не спекулируй — она в твои игры не играет, для нее ты — преуспевающий экономист с дипломом Плехановского института, ее любимый Юрий Михайлович — находишься в долгожданной служебной командировке в Лондоне».
— Ты же никогда не был жаден до денег…
«Не был, Мак, не был. В отличие от тебя. Еще в детском доме мы все ходили у тебя в должниках, а перед выпуском и кое-кто из персонала».
— Ну, если тебе мало бабок, я добавлю, — он спохватился, — из своих.
«Не ты ли правишь бал, Мак?»
Я не стал избавляться от передатчика, необходимо чтобы они убедились в том, что я возвращаюсь в Москву, а не улетаю куда-то на самолете, поэтому разбил я его перед въездом на Окружную дорогу.
Мелкий моросящий дождь не унимался. К месту расположения летней усадьбы детского дома я добрался уже в полной темноте, весь вымокший и забрызганный грязью.
Усадьба, выстроенная еще до войны, располагалась на отшибе дачного поселка, рядом с болотом сплошь заросшим ряской, но тем не менее претенциозно называемым озером. Грунтовая дорога, одновременно являющаяся главной улицей поселка, вела прямо к усадьбе и, не доходя до нее метров пятьдесят, сворачивала под прямым углом направо.
Параллельно этой дороге позади дачных участков была прорыта дренажная канава из болота, которая пересекала густо разросшуюся лесопосадку. Вдоль канавы вилась едва заметная тропинка, по которой я мог пройти с завязанными глазами. В одном месте, рядом с тропинкой возвышался огромный полузасохший дуб, между старых узловатых корней которого, у меня был когда-то тайник.
В кромешной тьме, под назойливым как зубная боль мелким дождем, по узкой тропинке с Матильдой в обнимку, стараясь производить как можно меньше шума, я медленно продвигался вперед, делая частые остановки и прислушиваясь. Где-то с подвыванием лаяла маленькая собачонка, раздраженная дождем и нерадивыми хозяевами. Шелест дождя и звук падающих крупных капель, скапливающихся на листьях деревьев.
Засохшая, возвышающаяся как шпиль готического храма верхушка дуба возникла передо мной неожиданно. Я прислонил Матильду к его огромному стволу со стороны противоположной тропинке и облегченно перевел дух.
Брезентовая сумка в тайник не помещалась, пришлось расширять ее ножом, выбирая землю руками. Работать приходилось стоя на коленях углубление находилось на склоне канавы, между узловатых корней.
Покончив со всем этим и придирчиво осмотрев, насколько это было возможно в темноте, тайник, я оставил Матильду и направился к усадьбе.
Сквозь буйно разросшиеся на заболоченной почве кусты дикой малины, поминутно замирая в неподвижности, ощупывая ногами почву, прежде чем наступить, я пробирался вдоль дощатого забора к известной мне лазейке, расположенной прямо напротив домика в котором жила Эльза. Бесшумно проскользнув в лаз и поднявшись на крыльцо, я нашарил над дверью в углублении косяка ключ, который находился там независимо от того, была дома Эльза или нет. Приоткрыв дверь ровно настолько, сколько нужно чтобы протиснуться, я проскользнул в дверь и запер ее.
Сильный удар по голове высек сноп разноцветных искр в моем мозгу, перед глазами все бешено завертелось, и я провалился в бездонную пропасть.
5
Открыв глаза, я обнаружил, что лежу лицом вниз, уткнувшись носом в ковровую дорожку, делившую комнату Эльзы пополам. Руки были спутаны за спиной, с ногами еще возились, связывая их.
Комната была освещена настольной лампой.
Я с трудом повернул голову назад и увидел коротко стриженого паренька лет двенадцати, сидевшего на корточках. Он связывал мои ноги бельевой веревкой и пыхтел от усердия.
— Ты что делаешь, командир, — хрипло поинтересовался я, едва узнавая свой голос. — Как ты обращаешься с белым человеком? — Мои слова отдавались невыносимой болью в том месте, где полагалось находиться голове. — Разве так встречают дорогих гостей?
Малой удвоил свои усилия, торопясь быстрее закончить свою работу. С таким верзилой как я, крадущимся аки тать в нощи, понятное дело, шутки плохи, и чем быстрее и надежнее его свяжешь, тем безопаснее юному неопытному Церберу.
— Андрей, дай хоть на спину перевернуться, — как можно миролюбивее обратился я к нему.
Малой вздрогнул и вытаращил на меня глаза. Глаза, какие бывают только у детдомовских детей.
Удар по голове вроде не лишил меня дара угадывать имена.
— Так значит…
— Конечно, — заторопился я, не давая ему опомниться, — тебе что, не сказали, что тот уже в ментовке?
— Не-е-е-т, — он покачал головой в полном замешательстве.
— Эх, ты, растяпа, и связать-то не можешь как следует. — На этот раз школа Геббельса не подвела: мои руки были свободны.
Паренек испуганно пятился к двери. Я сел на ковровой дорожке, потирая затекшие кисти рук:
— Так что тебе обещали, напомни, у меня все из головы вылетело после твоего церемонного приветствия.
— Я… Ямаху… извините меня, пожалуйста, я же не знал.
— Да чего уж там. Я тоже хорош, вместо Ямахи Яву тебе пригнал. Меня захлестнула жалость к съежившемуся от страха мальчику.
Достав ключи зажигания от Матильды я бросил их в его сторону.
От волнения он выронил их, поднял, снова уронил и наконец схватив их обеими руками прижал к груди. Его лицо выражало всю гамму чувств от постоянной, присущей всем детдомовским, недоверчивости до бурной, редко испытываемой радости.
— Старый дуб возле канавы знаешь? — спросил я, ощупывая карманы. Он даже не догадался обыскать меня. Все было на месте, в том числе ПМ за поясом.
— Знаю, — закивал он головой.
— Вот там, за дубом она и стоит. — Почему «она»? Это же мотоцикл.
— Потому что Ява, и звать ее Матильда Ивановна. Если хочешь, иди посмотри, только сейчас на ночь глядя, не пригоняй ее сюда, не поднимай суматохи, до утра она никуда не денется. — Я не сомневался, что он не отойдет от нее всю ночь.
Распутав на ногах веревки я сел на стул возле письменного стола. Паренек мялся у двери, порываясь, очевидно, как можно скорее оказаться возле Матильды.
Я попросил его рассказать подробнее, каким образом он оказался здесь в засаде.
Детдомовская ребятня резвилась возле «озера» на большой поляне примерно в километре от усадьбы.
Никто из них не обращал внимания на стоявшую на краю поляны темно-синюю шестерку, в которой находились трое. Сюда частенько заезжали в хорошую погоду жаждущие провести время на лоне природы, пожарить шашлыков, срубив для костра березку, выпить и вообще покуражиться.
Андрей не знает, почему этот человек (уже при самом поверхностном описании которого, скупым мальчишеским лексиконом мгновенно возникал образ Юрки) выбрал именно его и, отозвав в сторону, объяснил ему, что за Эльзой охотится маньяк-убийца и т. д. и т. п.
На другой день Эльза с великой радостью уехала по горящей путевке, свалившейся на нее как снег на голову, в прибалтийский дом отдыха, а он, Андрей, поклявшись держать язык за зубами, приступил к опасному дежурству, как он выразился «по заданию человека из органов», показавшему для вящей убедительности удостоверение майора КГБ.
— Ну и как, похож я на маньяка? — спросил я его, решив открыть глаза одураченному мальчугану.
— Так это все-таки вы?! — в его глазах заметался панический ужас.
— Тебе нечего бояться, малыш, — маньяк уехал на шестерке, а я такой же одураченный как и ты, только десятью годами старше и тоже проведший свое безрадостное детство в этих стенах. Тебе нечего бояться, я скорее дам отрубить себе правую руку, чем допущу, чтобы с кого-нибудь из детдомовских упал с головы хоть один волос. И он это прекрасно знает.
Сейчас ты столкнулся с черной человеческой подлостью, подстерегающей нас подобно гадюке, способной укусить саму себя.
Вы уже наверное проходили по истории Троянскую войну. Их, троянцев, одурачили так же как тебя Ямахой и они не нашли ничего лучшего, как утешиться поговоркой: «Бойся данайцев дары приносящих».
Это был по-видимому не просто дощатый конь, а некое огромное, красивое сооружение поражающее воображение своим величием, и достойное украсить собой любую столицу древнего мира. Этот конь, по-видимому, состоял из отдельных блоков, замаскированных в повозках.
Их перевозили втайне не только от лазутчиков, но и от большинства своих. Блестящие мастера своего дела собрали коня всего за один день. Вот и заполучили троянцы свою Ямаху. Любой подарок, Андрей, таит в себе опасность. За него могут попросить оказать услугу, а услуги бывают очень и очень разные, как ты в этом убедился сам. Пусть это будет тебе хорошим уроком на всю жизнь.
— Нет, брат, я не убийца и не маньяк. Я люблю нашу милую, добрую Эльзу и наверное не ошибусь если скажу, что она тоже любит меня и всегда ждет.
Ведь ключ в тайничке — для меня одного, о нем не знает никто, только я и она.
Нет, я не маньяк и не убийца. Убийцы те, кто заставил меня убивать в Афганистане, это они убийцы и маньяки и те, кто ради власти и денег приносят в жертву невинную пожилую женщину, в умышленно поврежденном лифте и одинокого человека, оставившего свои мозги на мостовой, только мне удалось вырваться за красные флажки. — Я никак не мог остановиться наличие слушателя впитывавшего как губка мой монолог, воодушевляло меня.
— Учись, брат, Андрюха, на ошибках других, на своих учатся только дураки. У нас с тобой нет ни пап, ни мам, опекавших своих чад до самого своего конца. И когда тебе что-то дают, помни, что наступит момент, когда нужно будет расплачиваться и вполне может быть так, что платой будет твоя жизнь. Вот перед тобой пока еще живой пример.
— Мир еще более жесток чем ты, я уверен, уже знаешь на собственном опыте, — он рассеянно и горестно кивнул — жесток и опасен, а сбить с дороги могут не только жажда власти, денег и женщин но даже и неумеренное восхищение твоими способностями.
Я рассказал ему о талантливом графике и химике, за свои поразительные способности прозванный Шаманом (может быть сейчас ты спишь на его кровати), которого более старший Юрка склонил к преступлению, попросив его поделать чей-то больничный лист, продолжительность которого необходимо было увеличить на три дня.
— Как ты думаешь, можно устоять от соблазна, если тобой восхищаются старшие ребята, а для тебя это дело такой пустяк? Он грустно покачал головой, что должно было обозначать: нет, устоять никак не возможно.
— Или маленький Вадик, проводивший все свободное время с различными механизмами, стараясь вникнуть в их суть, в их душу. Да-да, в душу! Полностью разобранный замок или двигатель внутреннего сгорания — это набор разрозненных железок. А если их тщательно собрать, изготовив или отремонтировав недостающие звенья? Механизм начинает функционировать и жить своей собственной жизнью, а если он живет, значит в нем есть душа.
Я рассказал ему о маленьком Вадике, заставившем работать неисправный японский замок для гаража, от которого отказались именитые мастера, и вдохнувший жизнь в старенький мопед, чей неизвестно какой по счету хозяин не пожелавший выбрасывать его на свалку, привел в детдом, сказав, что десять лет тому назад, он был почти как новый и, на котором с неописуемым восторгом носилась вся детдомовская орда. Хмурый и неразговорчивый шофер детдомовского УАЗика в дальнейшем просто не мог обходиться без его помощи во время частых ремонтов вверенной ему техники.
Я надолго замолк, погруженный в нахлынувшие воспоминания о безрадостном детстве, о Юрке. Неисправный револьвер Сереге Илюхину с горстью патронов принес тоже он. С револьвером пришлось изрядно повозиться маленькому Вадику.
Строго-настрого наказав пареньку не высовывать нос наружу как минимум в течение часа и запереться изнутри на ключ, я ласково потрепал его стриженую голову.
Закрыв за собой дверь и, убедившись что он закрывает ее на ключ я метнулся к лазу.
Моросил не переставая дождь, от боли в голове меня слегка шатало. Выбравшись через лаз за пределы усадьбы я, почти не таясь пошел вдоль забора.
Не успев пройти и десяти шагов, я наткнулся на резкий окрик «стоять», и в лицо мне ударил сноп света электрического фонаря. Похоже, что он был здесь один. Обе руки заняты. В одной пистолет, в другой фонарь.
— Руки!.. — приказал голос повелительно-радостно оттого, что томительное ожидание под нудным дождем кончается и за поимку причиталась хорошая награда, наверное обещанные мне двадцать штук. Я начал медленно поднимать руки, закатил вверх под самые веки глаза выкатив белки, пустил изо рта слюну, мелко затряс головой прижимая ее к левому плечу и повалился набок, испуская немыслимый нарастающе-пронзительный фальцет. При падении я старался максимально приблизить свои ноги к его ногам. Наконец я улегся как мне надо, подмяв под себя стебли дикой малины, осыпавшей меня каплями дождевой воды скопившейся на листьях.
Он явно растерялся. Руки его были заняты пистолетом и фонарем. Наконец встревоженным голосом он заговорил, наверное в передатчик, находившийся у него во внутреннем кармане куртки.
— Шеф, шеф, тут какой-то припадочный…
Я сотрясался в конвульсиях стараясь приблизиться к нему ногами как можно ближе и избегая ослепительного света фонаря.
И тут из передатчика я услышал то, чего опасался больше всего, чему мне не хотелось верить до последнего, надеясь на какие-то совпадения, на какую-то спасительную нелепость, на какое-то чудо. Но чуда не было. БЫЛ ГОЛОС ЮРКИ, ЗВУЧАВШИЙ ИЗ ПЕРЕДАТЧИКА:
— Это он, он! Он прикидывается, я знаю! Оглуши его и свяжи только не мочи, он нужен живой…
Но владелец фонаря и пистолета уже падал, блокированный моими ногами, тяжело и шумно падал ломая кусты и да он упал, я сидел на нем верхом вырвав пистолет уже поднятый высоко для удара, в который я вложил свою злость на весь белый свет.
Поднявшись на ноги я подобрал откатившийся но не погасший фонарь и осветил лежавшего. Его голова в капюшоне развернулась самым неестественным образом: я перебил ему шейные позвонки.
Боже, милостив буди мне грешному.
Терять время было нельзя: сейчас сюда нагрянет вся королевская рать. Неизвестно, сколько их здесь находилось, но зато теперь я мог с высокой степенью точности вычислить, где Юрка распорядился оставить машины, на которых они приехали. Скорее всего на поляне у железного моста через канаву.
Я оказался прав. Когда сквозь кусты передо мной открылась поляна с редкими высокими соснами, у двух рядом стоявших машин находился только один человек, последняя пара, не видимая мной, прошла торопливо по дороге глухо и тревожно переговариваясь между собой.
Я подполз как можно ближе к машинам. Поляна слабо освещалась уличным фонарем, расположенным на деревянном столбе у калитки одной из дач, метрах в двадцати от поляны. Человек потоптался вокруг машин и, поеживаясь от продолжавшего моросить дождя, счел для себя лучшим усесться в одну из них, на место водителя.
Меня это не устраивало. Пошарив вокруг себя я нащупал маленький камешек и кинул его в направлении машины с сидевшим в ней человеком. Было видно как он вздрогнул от удара камешка по кузову и приоткрыл дверцу озираясь по сторонам и бормоча ругательства. Его голова в кожаной кепке с коротким козырьком, слегка освещенная тусклым светом фонаря, на какое-то время приподнялась над корпусом машины.
Держа ПМ обеими руками и опираясь локтями на землю, я тщательно прицелился и выстрелил. Человек опрокинулся, дверца открылась до отказа, он упал навзничь. Огромными прыжками я бросился к машине и оттащил от нее Того, Кому На Этот Раз Не Повезло.
Ключи зажигания были на месте. Я выстрелил еще дважды. Из шин второй машины выходил воздух, она неторопливо кренилась на один бок.
Усевшись за баранку я неподвижно замер на несколько секунд, стараясь унять волнение. До сих пор я все делал автоматически.
Наконец я повернул ключ зажигания, тронулся с места не включая фары, и развернул машину в сторону железного мостика. При въезде на него я был вынужден включить фары: проехать по нему даже днем было довольно затруднительно. Не успев миновать поворот направо, находившийся сразу за мостиком, я услышал выстрелы и боковым зрением заметил доски забора разлетающиеся в щепы, но уже через секунду я был вне зоны обстрела и прибавил газ.
Я вздохнул полной грудью: езда успокаивала.
Это был другой поселок с зимними дачами имевшими и водопровод и газ. Некоторые улицы были даже асфальтированы. Гаражи, один другого краше, в подавляющем большинстве кирпичной кладки, а некоторые и с причудливыми надстройками. Архитектура жилых домов могла поразить воображение самых искушенных знатоков.
Миновав четыре или пять поворотов, я выехал на широкую асфальтированную дорогу. Дождь не переставал, в некоторых местах на проезжей части дороги скопились внушительных размеров лужи.
Через пятнадцать минут езды, впереди показался большой бетонный мост через местами заболоченную, заросшую камышом речку. Я хорошо знал эти места, в двухстах метрах за мостом дорога раздваивалась — налево — к большой железнодорожной станции с одноименным подмосковным городом, направо — сквозь ряд поселков городского типа, фактически слившихся в один жилой массив, к зеленой зоне, месту расположения нескольких санаторных комплексов.
Остановившись не доезжая моста, я внимательно оглядел дорогу и убедившись в отсутствии машин и запоздалых прохожих, быстро въехал под мост и заглушил двигатель. Затем открыл все двери, капот и багажник. В багажнике обнаружилась большая сумка с торчавшим из нее литровым китайским термосом. Сумку я вытащил — еда была очень кстати. После недолгих поисков нашел подходящий булыжник, завел двигатель, поставил рычаг переключения скоростей на первую передачу и придавил педаль газа булыжником.
С открытыми дверями, капотом и багажником похожая на химеру, решившую совершить омовение, машина медленно поползла в воду.
Когда я закончил довольно обильный ужин, от машины не осталось никаких следов, лишь изредка на темной маслянистой поверхности воды поднимались пузырьки.
Выходить на дождь не хотелось и я решил заночевать под мостом.
В сумке кроме еды находилось что-то наподобие скатерти с клеенчатой основой, специально предназначенной для пикника под открытым небом. Используя сумку, ветровку и скатерть, я соорудил себе ложе и попытался уснуть.
Над головой изредка шуршали шины проезжающих автомобилей и еще более редкие торопливые шаги запоздалых прохожих.
Завтра на меня начнется большая охота. Подключат матушку-милицию, моя фотография будет размножена и возможно показана по московской программе телевидения.
Юрке ничто не помешает дать знать боссам старой команды, что эта кровавая баня организована мной без его ведома с друзьями афганцами. Все вокзалы и аэропорты будут блокированы искушенными в этом деле людьми. Боссы имеют возможность организовать нечто такое, что мне и в голову никогда не придет.
Возьмут на заметку всех кто когда-либо имел со мной контакт, и у кого я мог бы укрыться не пожалев на это никаких денег, и тех, кто одновременно со мной воспитывался в детдоме, учился в ПТУ, тех, кто был рядом со мной в Афгане. Найдут всех, не пропустят ни одного и ни одной.
И дело не только в огромной сумме содержавшейся в кейсе, но и в престиже…
На руку Юрке неминуемый раскол между боссами старой команды, но и его еще неустойчивый авторитет уже опасно подорван, он из кожи будет лезть, чтобы поймать меня.
6
Я проспал не более двух часов, если только это можно было назвать сном. Дождь кончился. Было около пяти часов, вставало солнце обещая жаркий день. Вытряхнув пыль из скатерти служившей мне одновременно подстилкой и одеялом, я аккуратно сложил ее в сумку. В полиэтиленовом пакете я оставил ПМ и настоящие документы и спрятал его здесь, под мостом.
Пройдя вдоль речки около километра по сырой от вчерашнего дождя траве, я выбрал подходящее место и расположился здесь, чтобы привести себя в порядок и позавтракать остатками вчерашнего ужина.
К десяти часам я был на железнодорожной станции. По обе стороны привокзальной площади располагалось множество магазинов, палаток и киосков. В одной из палаток я приобрел олимпийский тренировочный костюм, пару полотенец, кроссовки, зубную пасту со щеткой, несколько маек с яркими рисунками на груди и прочую мелочь необходимую молодому бомжу, как например поясной кошелек, которого в Москве днем с огнем не найдешь, и летнюю кепочку с надписью СПОРТ. В большом павильоне с претенциозным названием «АЭЛИТА» я выбрал электробритву, пробил в кассе чек и, вернувшись к прилавку попросил продавщицу проверить ее. Она подключила электробритву в сеть, и я не спеша побрился, не особенно заботясь о том, что привлекаю внимание.
Затем, проехав на рейсовом автобусе две остановки, я возвратился к бетонному мосту, переоделся под ним и вновь вернулся на станцию.
Рядом с подземным переходом стояло несколько машин. Я быстро сговорился с владельцем потрепанной Волги, лысым толстяком неопределенного возраста в клетчатой рубашке навыпуск, крутившим на указательном пальце ключи от машины.
Через час я окунулся в невообразимую сутолоку Курского вокзала первой половины июня.
Такси и частных машин было много, еще больше было нуждающихся в них, из огромной очереди желающих уехать на такси, садились в основном в те машины, которые привозили пассажиров.
Я подошел к кучке шоферов, стоявших в центре автомобильного оазиса, и, напустив на себя простоватый вид, обратился к ней:
— Мужики, а сколько например стоит доехать на такси до Ленинграда?
Они как будто не слышали меня. Как будто меня с моим ростом метр восемьдесят пять вообще поблизости не было. Затем один из них, стоящий ко мне спиной, обернулся, смерив меня взглядом с головы до ног процедил:
— Тебе правда в Питер или ты из любопытства спрашиваешь, чтобы потом в своем колхозе было что рассказать? — В его глазах не было заметно издевки или презрения — такова уж природа московских таксистов, и я подавил нахлынувшую было злость.
— Конечно надо, я хочу узнать, сколько это стоит.
— Ты один? — повернулся он ко мне окончательно. Остальные продолжали свой разговор, не обращая на нас ни малейшего внимания.
— Какая разница, — напустил я на себя недоумевающий вид, — ну хотя бы и один.
— Есть разница, командир, — сказал он менторским тоном, словно объясняя элементарные истины туповатому ученику, — то ты заплатишь третью, а то и четвертую часть от двух, двух с половиной стольников, а то один всю сумму отстегнешь. — Он вновь осмотрел меня с головы до ног.
Я как бы машинально дотронулся до кошелька на поясе и с изумлением воскликнул:
— Двести пятьдесят! Да это же цена билета на самолет до Хабаровска или дальше.
— А ты хотел за червонец с ветерком? Продерни отсюда, не морочь голову. — Он повернулся к остальным.
Выдержав паузу, я дотронулся до плеча моего ментора, и мужественным голосом произнес:
— Ладно, я согласен. Поехали.
— Он видите ли согласен! Это еще не значит, что и я согласен. Как-никак шестьсот шестьдесят километров. Минимум двенадцать часов туда и обратно. Борис! — крикнул кому-то в другой кучке шоферов и снова повернувшись ко мне объяснил, что у этого Бориса есть родственники в Питере и он имеет возможность там переночевать. К нам приблизился низкорослый вихрастый парень лет двадцати пяти с остреньким лицом, похожий на хорька.
— Вот, клиент желает прокатиться до Питера с ветерком. Поедешь?
Хорек изучающе оглядел меня и, доставая сигарету из нагрудного кармана рубашки, заявил:
— Три сотни, — он вопросительно посмотрел на меня. Я перевел глаза на моего визави, тот приподнял левую бровь и отвел взгляд храня нейтральное молчание.
— Поехали, — вздохнул я.
— Сначала нужно заехать в парк и отметить путевку, и деньги вперед, он заметно оживился.
Закончив процедуры с путевым листом, заправкой и необходимостью «заскочить на минутку домой», к двум часам мы выехали за пределы Окружной дороги.
Я остался доволен, что не менее четырех-пяти человек твердо опознают меня, как человека стремившегося любой ценой уехать в Ленинград.
За Окружной я задремал и проснулся только в Клину, где водитель предложил мне остановиться, чтобы перекусить.
После Клина, утолив любопытство щуплого Бориса, кто я, и к кому еду в Питер, я вновь заснул, удобно устроившись на заднем сиденье.
Когда мы подъехали к Ленинграду я чувствовал себя основательно отдохнувшим.
— Ну, и куда тебе здесь, в Питере? — спросил заметно уставший водитель.
— На Пражский проспект, — и назвал ему номер дома.
Пражский проспект — это единственная улица в Ленинграде, кроме Невского, которую я знал. Там жил майор Ситников, проходивший службу в одно время со мной в Афганистане. Он не был боевым командиром и не руководил операциями, он был ответственным за что-то и сидел за письменным столом в штабе, не пропуская ни одной из молоденьких дурочек, этих ура-патриоток стремившихся в Афган, как мухи на мед, которые все без исключения попадали в сомнительной чистоты постели штабных офицеров. Пусть мои преследователи потрясут эту жирную крысу, потрясут основательно, я нарочно сказал шефу, чтобы тот остановил машину напротив дома, в котором жил майор Ситников, и накинул сверх оговоренной суммы двадцать пять рублей, чтобы он как можно лучше запомнил меня.
Было около восьми часов вечера, когда я оказался на Пражском проспекте с домами-коробками далеко отстоявшими друг от друга.
В мои намерения не входило задерживаться надолго в Ленинграде, я собирался завтра же выехать в Москву и поэтому уже через двадцать минут я был на Московском вокзале, где не преминул убедиться в том, что билетов на Москву на ближайшие десять дней не предвидится. Июнь.
Я поставил сумку рядом с лавкой, на которой мама лет двадцати пяти безуспешно пыталась уговорить трехлетнего мужчину посидеть хотя бы пять минут спокойно.
Попросив маму присмотреть за моей сумкой, я отошел, внимательно оглядывая зал. В одном месте возле двери стоял мужик с дымящейся сигаретой во рту облаченный в черный застиранный или вообще никогда не стиранный халат и сандалии на босу ногу. Ему можно было дать и сорок и семьдесят лет. На голове красовалась фетровая шляпа с обрезанными полями, лишь напротив рыхлого сомнительного цвета носа на шляпе от полей был оставлен небольшой прямоугольный полуостров, исполняющий обязанности козырька.
Я уверенно направился к нему и, вежливо поздоровавшись, протянул ему двадцать пять рублей:
— Слушай, отец, возьми один билет на Москву, на завтрашнее утро, без сдачи.
Деньги исчезли в его пятерне с огромными густо поросшими рыжей порослью пальцами, он отделился от стены и молча скрылся за дверью. Я уж грешным делом подумал «плакали мои денежки», но не прошло и пяти минут, как он появился передо мной, словно джинн из бутылки и протянул билет. Я был очарован этим волшебством, горячо поблагодарил его и, неожиданно для себя спросил:
— Может бутылочку сухенького найдешь?
— Нет проблем, давай пятерку, — сказал он и, получив деньги, вновь дематериализовался, чтобы появиться через десять минут с бутылкой Эрети, завернутой в «Ленинградскую правду».
Поболтавшись на Невском проспекте часа два, я вернулся в здание Московского вокзала и устроился на лавке, две трети которой занимал безмятежно храпевший мужик лет шестидесяти, сдвинув летнюю кепку на нос и обняв одной рукой объемистую сумку. Я последовал его примеру, но заснуть не удалось. Между сном и действительностью лежали бескрайние непроходимые джунгли под названием «Что делать дальше». Свет не проникал в их заросли, не было ни тропинки, ни ориентира.
Везде таилась опасность. Всю ночь я провел в мучительных раздумьях, но так и не сдвинулся с мертвой точки. К утру постоянное чувство тоскливой опасности притупилось. В вагоне, усевшись в кресло, я закрыл глаза, взобрался на борт вертолета с надписью «Будь, что будет» быстро пересек на нем зловещие джунгли, мгновенно уснул и проспал беспробудно до самой Москвы.
На станции метро Комсомольская находясь с краю маленькой, но очень плотной массы состоящей из людей, чемоданов и сумок при входе на эскалатор, я вдруг заметил на встречном эскалаторе Берту с двумя сумками и принял решение попытать счастья у ее костра. Берта по всей видимости ехала к своей бабушке Зине, которая жила в частном доме в Тарасовке.
Я отошел в сторону, чтобы пропустить Берту вперед, двинулся вслед за ней, и, приблизившись к ней, негромко сказал:
— Не оборачивайся, Берта, это я, Вадим, мне с тобой необходимо очень серьезно поговорить.
— Привет, Вадик, почему нельзя оборачиваться, что случилось, позвонил бы или пришел к нам, ты же знаешь, мы с Юрием Михайловичем всегда рады тебя видеть.
Бр-р-р… Меня передернуло от озноба, лишь только я вообразил, как был бы рад меня видеть Юрий Михайлович.
— Все очень серьезно, Берта, но прежде всего я очень тебя прошу не посвящать Юрия Михайловича во все то, что я тебе скажу, это очень важно. Я шел немного сбоку и заметил на ее в меру загорелом лице легкую улыбку:
— Вадик, я все знаю — ты в меня давно влюблен и наконец решился признаться. Правда, Вадик, а?
— Если бы. Если бы все было так просто… — Она выбивала почву у меня из-под ног своими насмешками.
— Ты считаешь это слишком простым для серьезного разговора? — не унималась она.
Мы стояли перед электронным табло расписания пригородных электричек Ярославского вокзала, вокруг нас кипело броуновское движение толпы. Берта стояла с сияющей улыбкой на лице, как будто на табло высвечивалось не расписание ближайших электричек, а по крайней мере анекдоты про Василия Ивановича и Петьку.
— Берта, я говорю тебе очень серьезно, мне угрожает смертельная опасность. Если я посвящу в это дело Юрия Михайловича, он тоже будет в опасности.
Я прошу тебя сделать для меня маленькую услугу: отнеси записку по нужному адресу. И все.
И возможно, что это меня спасет.
Улыбка на ее лице медленно погасла, она заговорила чеканя слова ледяным прокурорским тоном:
— С кем и с чем ты связался, Вадим, и от кого ты скрываешься? От милиции? Ты кого-нибудь убил? Ты что-то украл? И ты хочешь втянуть меня во что-то грязное, зная мое доброе сердце. Это более чем непорядочно с твоей стороны.
Она повернула лицо в сторону платформ, словно сосредоточенно размышляя, на какой электричке ехать. На ее лице прочно обосновалось хмурое недоброжелательство.
Я проклинал себя за то, что обратился к ней. Она тысячу раз права. Как это вообще могло придти мне в голову?
— Берточка, ради Бога, прости меня. Прости. Ты так всегда была добра ко мне, может быть как никто другой. Это чисто импульсивный порыв. Ну как у маленького ребенка попавшего в беду и знающего, что его выручит только мама, выручит и поймет. Хотя я никогда не знал, что такое «мама», но я думаю это то, что я испытываю к тебе, когда ощущаю твою теплоту и заботу.
Прости меня за то, что я оказался такой свиньей и чуть действительно не впутал тебя в свою черную беду. Берта, клянусь, что до конца своих дней буду испытывать жгучие угрызения совести. Прощай, спасибо тебе за все и в том числе за хороший урок.
Я повернулся в сторону метро, намереваясь как можно быстрее покинуть позорный столб, как за спиной услышал разъяренное «стой» и отчетливое ругательство на идиш.
Часть толпы схлынула на Монинскую электричку, объявленную электронным табло, броуновское движение несколько замедлилось, чтобы через несколько минут возобновиться с еще большей силой.
Берта поставила подхваченные было сумки на землю, отвернулась от меня в сторону табло и, когда я приблизился к ней, спросила:
— Что ты хочешь, чтобы я сделала для тебя?
— Нужно сходить по одному адресу с моей запиской и принести ответ. Честно говоря я не очень надеялся не этот вариант, но пока у меня другого не было.
— А что ты хочешь чтобы они для тебя сделали? — Ей, конечно, нужно было все разложить по полочкам.
— Берта, может ты все-таки бросишь это дело? Мне нужно только чтобы ты отнесла записку и принесла ответ. Зачем тебе какие то подробности? Зачем забивать себе голову?
Берта была непреклонна:
— Или ты мне скажешь, какой помощи ты от них ждешь или…
— Ну хорошо, — сдался я, — все очень просто, я должен надежно спрятаться и причем на неопределенно долгий срок, пока у меня не появится уверенность в том, что меня оставили в покое и я могу убраться отсюда. Начну жизнь сначала. Но, Берта, ты же не играешь в эти игры…
— Откуда тебе знать в какие игры я играю, а в какие нет. — Она на несколько секунд замолчала в раздумье, затем, по-видимому приняв решение, твердо произнесла:
— Вот что. Иди в кассу и возьми билет до Тарасовки. Поедешь со мной. Чердак тебя устроит?
— Меня устроит даже пчелиное дупло или крысиная нора, — сообщил я ей с воодушевлением.
— Видно здорово тебя прижало, Вадим Быстров, если тебя в крысиную нору потянуло, — она прищурила глаза и поджала губы.
«Да, Берта, прижало. Так прижало как никогда раньше».
— Крепко ты кому-то насолил, — не унималась она.
«Крепко, Берта, очень крепко, и прежде всего твоему мужу, ненаглядному Юрию Михайловичу, суперклассному экономисту, незаменимому даже в Лондонских деловых кругах».
— Наверное кого-то обманул на большие деньги, может на тебе даже и кровь есть, — тянула она из меня последние жилы.
«Давай, Берта, давай, я пройду и это испытание. Ты как всегда права есть и кровь, есть и большие, очень большие деньги, есть и то, что ты называешь обманом».
— Так иди, иди, бери билет и — на шестую платформу, на Софринскую электричку, во второй головной вагон. — Она взяла сумки и направилась в сторону платформ.
Мной опять командовали: на смену детдому, Афгану, Юрке пришла Берта.
Ну что ж, мистер Зомби, вперед, во второй головной вагон Софринской электрички.
Если вы думаете, что протягивание под килем, которому она меня подвергла, наносило мне какой-то моральный ущерб, то глубоко заблуждаетесь. Она могла это делать часами, когда я сидел у нее на кухне в уголке на маленькой табуретке, пока она была занята приготовлением пищи, а маленькая Зина с увлечением барабанила на пианино. Время от времени я поднимал на Берту глаза, стараясь придать им родниковую невинность, что еще больше вдохновляло ее неугомонное желание наставить меня на путь истинный, но зато я уходил от них с непомерно раздувшимся от самой разнообразной снеди животом да еще нагруженный пакетами содержавшими в себе в обилии пирожки, ландарики, попики-лепики.
В вагоне нам с Бертой поговорить не удалось, хоть он и не был набит битком как в пятницу вечером или в субботу, однако для подобных разговоров место было совершенно неподходящим.
Стыдно признаться, но в присутствии Берты меня охватило давно забытое чувство безмятежности.
Она сидела напротив меня излучая уверенность и спокойствие. Она жила в другом мире, похожим на корабль, управляемый ее твердой рукой по точно выверенному курсу, у всех на этом корабле была под ногами устойчивая палуба, и не было ни каких сомнений в правильности выбранного курса, а помехи в виде посторонних плавсредств, наподобие моего, никак не могли повлиять ни на скорость, ни на курс корабля. Все проблемы решались быстро, приказы выполнялись неукоснительно, команда боготворила своего капитана и всегда была готова выбросить за борт всякого, кто попытался бы выразить хоть малейшее сомнение в его действиях. А моя утлая лодчонка вертелась как сумасшедшая блоха на волнах океана, в бесплодных поисках тихой гавани.
Дом, в числе многих других, объединенных общим забором, одинаковым по высоте, но крашеным краской разного цвета, а кое-где и вовсе не крашеным, отличался от остальных тем, что смотрел на шоссе не фасадом, а двумя верандами, вернее одной, но разделенной стенкой на две неравные части и имеющей два входа. Один вход в меньшую часть веранды вел через еще одну дверь прямо на кухню, пристроенную значительно позднее основного дома. Второй — через большую часть приводил в небольшой холл, имеющий в свою очередь кроме входной еще три двери: слева — на кухню, прямо — в небольшую комнату владелицы дома и наконец третья дверь, расположенная по правую руку, вела в просторную комнату, предназначенную для гостей.
От калитки, запиравшейся на ключ, ко входам в дом вела дорожка выложенная цементной плиткой, слева от нее, на некотором расстоянии, возвышалась беседка, скрытая от посторонних глаз разросшимися кустами жасмина.
Берта вытащила из одной из сумок огромную связку ключей, которой позавидовала бы любая доисторическая ключница, открыла калитку, вошла, впустила меня, быстро, без помощи бытового компьютера, отыскала другой, велела мне подождать в беседке со скамейками высотой не ниже половины человеческого роста, так что когда я сел, мои ноги не доставали до земли, и, отперев одну из дверей веранды, вошла внутрь.
Через пятнадцать минут она вышла и кивком пригласила меня войти.
Внутри, на большой веранде, оказалась неожиданно уютно. Справа от двери ведущей внутрь дома стоял диван сталинских времен, обтянутой черной кожей и высокой спинкой, перед ним — квадратный старинный стол с точеными ножками темно-коричневого цвета, покрытый темно-вишневой тяжелой скатертью с бахромой. Вокруг стола стояли гнутые стулья, с сиденьями и спинками из плетеной соломки. Ковровая дорожка невероятной толщины вела от входной двери к внутренней. Между диваном и дверью красовалась лестница, ведущая к квадратному люку на потолке, с петель которого свисал замок неизвестной мне конструкции.
— Сиди здесь, — Берта указала на диван, — и жди.
Она вошла в дом, оставив дверь приоткрытой. Безмятежное чувство возникшее у меня в вагоне электрички, не проходило.
Из-за приоткрытой двери доносились голос звонкого лесного ручейка вперемешку с гулом водопада.
Тяжелые потоки водопада выражали гнусное предположение о наличии у ручейка любовника. Ручеек с негодованием отвергал подобные инсинуации и щебетал что-то о любви к ближнему, о недопустимости задержек взносов в Небесный Банк Добрых Дел, водопад указывал на концепцию о дороге в ад, вымощенной благими намерениями.
Наконец Берта вышла не веранду, неся в руках ночную вазу внушительных размеров, сообщив, что бабушку Зину зовут Зина Борисовна не Зинаида, а именно Зина, и указав на чердак добавила:
— Будешь жить там, только нужно сделать так, чтобы люк открывался, а замок оставался на месте запертым. — Она вновь скрылась за дверью, чтобы появиться с небольшим старинным чемоданчиком в руках. Положив его на стол, она открыла крышку: в чемоданчике был аккуратно уложен разнообразный слесарный инструмент.
Она поднялась по лестнице и отперла замок, при этом моему взору предстали ее стройные, слегка загорелые ножки до самых штанишек, белых в красный горошек. Мне стало нехорошо и я огромным усилием воли заставил себя отвести взгляд от сокровищ, которые никогда не будут моими.
Спустившись Берта присела рядом и по-видимому догадавшись в чем дело, торопливыми движениями запоздало поправила на коленях свое ситцевое платьице.
Замок держался на петлях, каждая из которых была закреплена тремя шурупами. Я отвернул шурупы на петле крышки люка, снял ее, на другой петле отвернул один шуруп, соединил петли и скрепил их вместе одним шурупом. Заперев реликтовый замок на ключ, я опустил крышку люка и полюбовался проделанной работой. Никаких сомнений в том, что люк заперт на замок, не было.
Берта унесла чемоданчик и возвратилась со свернутым поролоновым матрасом. Я взял его в охапку и с некоторыми трудностями взобрался не чердак и, немного помешкав, устремился вглубь. Следом за мной поднималась Берта.
Я стоял в раздумье, куда бы приспособить матрас, как вдруг почувствовал обнимающие меня руки Берты и прижавшиеся к моей спине ее груди. Мощный заряд электрического тока пронзил меня насквозь. Сознание и способность разумно мыслить мгновенно испарились без остатка, гигантская волна незнакомого прежде мне чувства захлестнула меня. Я захлебнулся и камнем пошел к дну.
7
В солнечную погоду чердак разогревался как чайник, забытый на газовой плите, с давно выкипевшей водой.
Когда наступала ночь, я спускался вниз и, приняв необходимые меры предосторожности, отправлялся в летнюю душевую, сооруженную за домом в глубине участка. Душевая состояла из двух, сваренных встык железных бочек, выкрашенных в черный цвет и установленных на высоте примерно двух с половиной метров на каркасе, обитом вагонкой с дверью на невероятно скрипучих петлях. Вода поступала из водопровода по резиновому шлангу, который использовался также и для полива. Вода в бочках нагревалась за день так, что не успевала остыть до утра.
Я с наслаждением подставлял тело теплой воде, стараясь производить как можно меньше шума и не спуская глаз с соседнего двора, к которому примыкала душевая кабина.
Перед тем как принять душ, я часами занимался всеми видами известных мне физических упражнений, чтобы не потерять форму.
Дни были наполнены мучительно-сладостным ожиданием Берты. Когда я в запыленное оконце видел ее, отпирающую калитку, я чуть не выл волком от сознания того, что мне нельзя броситься ей навстречу и поднять ее на руки…
Иногда она оставалась на ночь. Тогда мы устраивались в большой комнате для гостей, меблированной платяным шкафом, сервантом, столом, телевизором, двумя кроватями, стоявшими у противоположных стен.
Мы сидели в темноте, пили вино и вели долгие разговоры, в которых не было места ни Юрке, ни маленькой Зиночке, находившейся в одном из самых престижных летних пансионатов, ни прошлому, ни будущему. Был один огромный мир, в котором были только мы двое, я и она.
Иногда ее подолгу не было… От нечего делать я перебирал старые книги, находившиеся в огромных черных чемоданах, числом не менее десяти, поставленных один на другой, пока не наткнулся на странную на мой взгляд книгу без переплета. Она была похожа на учебник английского языка и в то же время отличалась от этого семейства своим содержанием. Это не было даже учебником в общепринятом смысле этого слова. Скорее это был словарь, но перевод английских слов на русский осуществлялся в стихотворной форме, причем в двустишие вплеталось и английское слово и его русский перевод.
Сначала меня заинтересовал удивительно тонкий юмор стишков, тем более, что их сочинению серьезно препятствовала необходимость использовать обязательные слова. Я и сам не заметил как совершенно безо всякого усилия с моей стороны запомнил около пятидесяти слов.
Эта книжка здорово скрасила мое одиночество, а к концу моего заточения, которое длилось около полутора месяцев, я с великим удивлением заметил, что почти свободно читаю прилагаемые тексты — отрывки из всемирно известных книг Твена, Стивенсона, Диккенса, Конан-Дойля, Дефо, Э.По. Сколько же трудов стоило запомнить десять-пятнадцать слов в школе!
Старая Зина громко вздыхая, что-то бормоча себе под нос, тяжелыми шаркающими шагами обходила свое хозяйство, что-то целый день прибирала, переставляла с места на место, что-то терла, копалась во дворе и на участке, долго возилась с приготовлением пищи, восседая на инвалидной коляске, после обеда дремала на ней, потом вновь до самого ужина возилась громко вздыхая и бормоча. Очень редко она выходила куда-нибудь, по-видимому к своим подругам или в магазин, иногда подруги приходили к ней, и тогда ст. Зина устраивала чай на большой веранде с долгими разговорами. Голоса с веранды разобрать было трудно — они почти полностью заглушались ревом проносившихся по шоссе грузовиков.
Каждый день она вынимала из почтового ящика, укрепленного на заборе возле калитки, газеты и, едва ли их посмотрев, оставляла на ступеньках лестницы чердака, рядом с чайником, который она подогревала для меня три раза в день и ставила на ступеньки лестницы, не забыв добавить тарелку с печеньем, бутербродами или обожаемыми мной попиками-лепиками и стучала по лестнице, чтобы я поднял все это к себе наверх, поспешно покидала веранду, видимо опасаясь столкнуться со мной носом к носу.
Раза два приезжал ее сын, еще не старый Франц Менциковский. Первый раз он уговаривал ее переехать на его просторную московскую квартиру. По всей видимости этот разговор происходил много раз, и Франц со ст. Зиной без всяких эмоций произносили хорошо заученные роли из давно надоевшей всем пьесы.
«Почему ты не хочешь переезжать ко мне из этой собачьей будки, люди думают, что Франц бросил свою старую маму».
«Мне плевать на то, что думают люди. В твоей просторной московской квартире, в твоей Москве, мне не хватает воздуха».
«Нет, вы посмотрите на эту выжившую из ума старую жидовку! Это она называет воздухом! Здесь, возле этого Богом проклятого шоссе она дышит воздухом! У абсолютно здорового человека, спортсмена, космонавта здесь ровно через один час, не больше, заболит голова и уже больше никогда не пройдет, он может смело пойти даже совсем в незнакомую поликлинику, к совершенно незнакомым докторам и через десять минут получит удостоверение инвалида второй, нет первой группы».
«Франя, купи себе петуха и морочь ему голову. В этом Богом проклятом месте ты закончил музыкальное училище с золотой медалью и не повесил ее на стенку только потому, что боялся, как бы ее не украли. Когда ты жил в этом месте, ты побеждал на международных конкурсах».
«Мама, ну зачем ты меня мучаешь? Ты наверное хочешь чтобы я умер раньше тебя а ты делала бы вид, что тебе очень горько. Ты этого хочешь? Мало мне того что этот гой увел у меня мою девочку, теперь люди говорят, что это Бог меня покарал, за то, что я бросил свою мать».
«Нет, Франя, нет, ты всегда был послушным мальчиком, я горжусь тобой, мы все тобой гордимся, даже Гальперины. Но я не могу бросить этот дом, я хочу здесь умереть и умру здесь. А Берта… Берта часто навещает меня, привозит мне продукты».
«Франя» в сердцах, но не очень сильно, хлопает дверью и удаляется. Занавес.
Второй раз он приехал радостно возбужденный и прямо с порога, едва успев поздороваться заявил:
— Мама, дай мне поскорее ключ от чердака!
Ст. Зина по-видимому почувствовала сильное замешательство и невпопад сказала:
— Какой ключ, от какого чердака? — словно у нее этих чердаков была тьма-тьмущая и с ключами и без ключей. — Зачем тебе чердак?
— Мама, я прошу, дай мне пожалуйста ключ от замка, которым заперт чердак. И вообще, скажи мне на милость, какого черта нужно запирать чердак? Что за необходимость? — Радостное возбуждение уступило место нарастающему раздражению.
— Что тебе нужно на старом и пыльном чердаке, скажи мне, и я может быть поищу ключ, — судя по ее голосу, ст. Зина обретала уверенность.
— В одном из чемоданов лежат подлинные рукописи нот Сальери. Мне нужно их найти и отдать на экспертизу. — В голосе еще не старого Франца слышались трагические нотки.
— Зачем тебе все это нужно, Франя? — ст. Зина явно старалась выиграть время. — Зачем? Мы же знаем и ты, и я, и все знают, что музыканты всех времен поклялись никогда не исполнять произведений Сальери, или ты хочешь это сделать ради каких-нибудь нуворишей за деньги? Зачем искать ноты Сальери, сыграй им семь сорок, они все равно не поймут.
Похоже на то, что Франц едва сдерживал отчаяние и ярость:
— Мама, я не собираюсь исполнять произведения Сальери ни за какие деньги, но на Западе объявился чудак, который скупает подлинные рукописи Сальери за очень хорошие деньги.
Я представил себе ст. Зину пренебрежительно махнувшую в сторону еще не старого Франца, который наверняка уменьшался в росте от душившей его бессильной злобы.
— А-а-а-а… брось, для тебя полтора рубля были уже хорошие деньги, ее голос выражал твердую уверенность в том, что ее послушному Францу, охваченному пламенем ярости, которая ощущалась даже здесь, наверху, во всяком случае сегодня, на чердак не попасть.
— Та часть рукописей, которая принадлежит мне… нам, оценивается более чем в восемьдесят тысяч долларов, — голос Франца сорвался на фальцет, — мама, в чем дело, объясни, почему ты мне не даешь ключ от чердака, почему мне нельзя туда подняться, что ты там прячешь, что я не должен знать?
— Успокойся, — старуха решила зайти с другого конца, — весной у нас был пожарный инспектор и велел убрать с чердака весь хлам, особенно он обратил внимание на эти старые никому не нужные книги и тетради. Я знаю, что ты все тщательно отобрал из них, все необходимое тебе, когда переезжал отсюда, а из оставшегося кое-что отобрала Берта, но очень немного. Остальное с сожгла, все до последнего листика. — Я поразился ее изобретательности, с какой она обвела вокруг пальца своего Франю.
Внизу наступила долгая пауза, слышались грузные шаги: видимо Франц ходил по комнате, переваривая столь тяжелую для него утрату.
— Ну что ж, — наконец заговорил он, убитый горем, — я сам виноват, надо было смотреть чуть дальше своего носа, наверное только такой дурак как я смог бросить без присмотра старинную рукопись, но кто же мог знать? Это же Сальери!
— Не расстраивайся, сынок, ты же не умрешь ведь с голоду без этих проклятых рукописей, черт с ними с долларами, здоровье и нервы не купишь ни за какие доллары. Франя! Вспомни, я тебе много раз говорила: умный еврей не должен переживать из-за потери денег, а ты ведь у меня умный, ты же знаешь, мы все тобой гордимся, даже Гальперины.
Очень похоже на то, что Франца осенило:
— А как ты думаешь, может быть Берта забрала их себе, она ведь с детства была такой практичной.
— Вполне возможно, — слишком поспешно согласилась ст. Зина, — я спрошу у нее. А что ей сказать, если ЭТО у нее? Чтобы она вернула тебе?
Франц был в явном замешательстве:
— Ну… скажи ей, что рукописи стоят денег, и если она захочет их продать… пусть она их отдаст тебе, а ты сходи к Солодчикам и позвони мне.
По-видимому сама мысль о том, что деньги могут попасть к ненавистному гою, уведшему у него, Франца Менциковского, единственную дочь, была невыносима и он вскоре распрощался.
Проходя верандой он несколько замешкался, и я ощутил его огненный взгляд, брошенный на непонятно какого дьявола запертый на замок люк, а на чердаке долго клубилась запущенная им лютая злоба на всех этих бездельников и дармоедов из пожарного управления шарившихся по чужим чердакам.
Мы сидели в комнате для гостей. За окном темная августовская ночь уверенно вступила в свои права. В соседней комнате шумно ворочалась и вздыхала старая Зина. В комнате было традиционно темно.
Бутылка коньяка была уже наполовину пустой, но в Берте не чувствовалось привычной блаженной расслабленности. Ее определенно что-то беспокоило.
— Я думаю все скоро должно кончиться, Вадим, — произнесла она приглушенным шепотом.
— Что ты имеешь в виду? — спросил я и в моей груди что-то сжалось.
— Твои, или, вернее наши проблемы, — она потянулась к пачке сигарет.
— У меня нет и не будет проблем, пока ты со мной, — не очень убедительно заявил я.
— Ты прекрасно знаешь сам, что бесконечно все это продолжаться не может.
Как всегда она была права. Долгое время мы старательно избегали этой темы, но видимо пришло время спускать шлюпку и грести изо всех сил подальше от корабля, грести в беспросветную тьму.
— Сам Бог натолкнул тебя на английский язык, а мне подсказал выход из положения, — продолжала Берта, Которая Была Всегда Права, — да и рукопись тоже Бог послал.
Я был уверен, что она уже все обдумала, что-то такое, к чему меня тихонечко подводит, чтобы не слишком шокировать меня, ходит вокруг да около, словно боится сообщить о смерти близкого человека.
— Причем здесь Бог, рукопись и английский, — спросил я смутно догадываясь о том, что сейчас услышу от нее.
— За эти доллары я купила для тебя возможность уехать туда, где ты будешь в полной безопасности.
Уже купила! Опять за меня все решают, за меня думают.
— И когда это произойдет? — полюбопытствовал я, стараясь скрыть легкое раздражение.
— Дней через десять-двенадцать. Давай пока обсудим детали. Тебе недолго там быть одному, я приеду почти следом за тобой. — Она и не старалась скрыть своего возбуждения.
За всем этим слышался тихий, но отчетливый колокольный звон тревоги.
Я закрыл ей ладонью рот и прошептал в ухо:
— У нас еще есть время, детали подождут, а вот я больше ждать не хочу…
Она тихонько отстранилась и предложила:
— Давай выпьем за удачу, только принеси мне, пожалуйста, холодной воды.
Я тихонько отправился на кухню за холодной водой, было слышно как из бутылки булькая лился коньяк…
Они нашли меня и здесь.
Я лежал в одних трусах спеленутый по рукам и ногам прочной капроновой тесьмой. В залитой светом комнате пахло хлороформом, наверное им отключили меня перед тем как связать.
Берта лежала на второй кровати совершенно голая лицом вверх, с раскинутыми руками и ногами связанными тесьмой, пропущенной под кроватью, ее рот был заклеен широкой полосой лейкопластыря.
Я застонал от унижения, ярости и бессилия.
Их было трое и среди них я сразу узнал доктора, который меня лечил. Он был как всегда элегантен, лицо было бесстрастно. Он снял джинсовую куртку, под которой оказалась майка с надписью на английском языке, которую можно было перевести приблизительно так: ЛЮБИ МЕНЯ, КАК Я ТЕБЯ, И БУДЕМ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ.
Второй, белобрысый, стриженый почти наголо в темно-синей рубашке с погончиками и закатанными выше локтя рукавами. Он не мог отвести глаз от распятой обнаженной Берты и весь его облик выражал звериное желание овладеть столь доступной плотью.
Третий, постарше, в длинном светлом плаще стоял прислонившись к косяку открытой двери, держа под контролем комнату и холл, медленно двигая челюстями, пережевывая жевательную резинку. В его левой руке удобно примостилась Беретта армейского образца. Правая рука покоилась в кармане плаща. Этот был наиболее опасен. И не из-за Беретты. В его расслабленном спокойствии угадывалась молниеносная реакция, а узкий лоб с низко растущими густыми волосами и глубоко посаженные глаза начисто отметали малейшее предположение о каких-либо эмоциях.
Доктор поставил на стол свой походный медицинский несессер, отодвинув высокую вазу с гладиолусами, открыл крышку и на мгновение задумался.
— Ну, что, эскулап, — услышал я свой хриплый голос, — так это ты правишь бал? Свои тридцать сребреников тоже в чемоданчике носишь? Они греют твою подлую душонку… Могу показать хорошее, надежное место, где их спрятать.
— Причем здесь тридцать сребреников, — искренне удивился он полуобернувшись в мою сторону, — я никого не предавал.
— Ты самый мерзкий и подлый предатель. Иуда по сравнению с тобой невинный агнц. Ты предал своих товарищей по благородной профессии. Ты не из тех, кто рискуя собственной жизнью идут в очаги, зараженные чумой или холерой. Нет. Ты пошел прямо в противоположную сторону, чтобы работать на чуму, за лишнюю десятку. На чуму двадцатого века, наводнившую землю наркотиками, проституцией и разъедающей коррупцией, на чуму похуже настоящей. Ты самая настоящая отвратительная тварь, криттер.
— У тебя самого руки по локоть в крови, — он вновь повернулся к несессеру.
Я все-таки его достал — на его скулах едва заметно играли желваки. Белобрысый приблизился к моей кровати и сильно ударив по ней ногой произнес:
— Верни быстренько все деньги и все остальное, что было в дипломате, и не попадайся нам больше на глаза.
— Ага. И ты на прощанье дашь пожать свою грязную лапу, оставив меня и ее, — я посмотрел в сторону извивающейся и мычавшей Берты, — в целости и сохранности. Да еще пожелаешь доброго здоровья и долгих и счастливых лет жизни. И мило помашешь ручкой.
Отойди отсюда, мразь, с шестерками у меня никакого разговора не будет.
Его лицо перекосилось от злобы, он склонился надо мной и сильно, кулаком, ударил меня в лицо. Он было занес другую руку, но доктор перехватил ее:
— Оставь, сейчас он все расскажет. И очень подробно, даже маленькие интимные штучки, о которых, как правило, не рассказывают никому.
— Это ты, эскулап, весь состоишь из маленьких интимных штучек, — из разбитой губы сочилась кровь, мешая говорить, — а, мистер Пинч расскажи, мы не из болтливых, что там у тебя за канализационным отстойником, который ты называешь своей душой: мальчики? девочки? Или может быть сам подставляешь?
Доктор протянул белобрысому пузырек с комком ваты и, кивнув в сторону комнаты ст. Зины сказал:
— Проверь старуху и, если очнулась, добавь, а потом иди в машину.
Белобрысый нехотя подчинился.
Лишенный Эмоций с интересом наблюдал за происходящим, похожий на гориллу, попавшую на костюмированный бал. Пристальный зрачок Беретты не отрываясь смотрел мне в подбородок.
К своему великому удивлению я обнаружил, что мои руки за спиной освободились от пут капроновой тесьмы. Или меня связали слишком поспешно, или Геббельс не напрасно тратил свое время. А может и то и другое.
Хлопнула дверь за вышедшим белобрысым, наверное старухе добавки не потребовалось. Доктор распечатывал упаковку одноразового шприца. Я лихорадочно оценивал свои возможности. Со связанными ногами и под присмотром Беретты, они практически равны нулю.
Вдохновляла убежденность в том, что я буду жить до тех пор, пока они не узнают где находятся деньги.
Доктор держа в одной руке ампулу с уже отломанным кончиком, а в другой шприц, повернулся лицом к аудитории и произнес тронную речь:
— В этой ампуле культура СПИДа. Через несколько секунд я введу ее внутривенно или подкожно, не имеет значения, нашей удивительной Берте Францевне. Я думаю, она не будет против. Ведь за все надо платить. В том числе и за классически преступную любовь.
Он наполнил шприц и повернув его иголкой вверх, вытеснил воздух вместе с капелькой жидкости. Взглянув на каждого из троих, он продолжал:
— Затем, дав возможность в полной мере осмыслить происходящее этому строптивому молодому человеку, мы и его не обойдем своим вниманием. Ибо сказано в Священном Писании: «Аз воздам».
Ему будет введен препарат с несколько иным эффектом. Я думаю научные медицинские термины в данном случае неуместны. Этот препарат разрушает личность, иными словами, наш подопечный станет полным идиотом и не только расскажет, где он спрятал то, что ему не принадлежало и не принадлежит, но ползая на коленях, сам приподнесет ЭТО, плача и пуская слюни от искреннего раскаяния.
Берта извивалась и корчилась так, что кровать ходила ходуном. За спиной Лишенного Эмоций мелькнула неясная тень. Я согнул ноги в коленях и ринулся на доктора, захватив его шею левой рукой, правой схватил его руку, державшую шприц и, направив иглу ему в шею, несколько раз вонзил в нее шприц до самого основания иглы.
Мы оба повалились на пол стянув со стола скатерть вместе с несессером и вазой с гладиолусами. По полу рассыпались различные медицинские инструменты, пузырьки, ампулы… Из опрокинутой, однако не разбившейся вазы, хлынула вода вперемешку с гладиолусами, придавая натюрморту, возникшему на полу, весьма живописный вид.
В проеме двери медленно, как бы нехотя, опускался на колени Лишенный Эмоций. С глухим зловещим стуком упала на пол Беретта.
В коридоре стояла в белой ночной рубашке с растрепанными седыми космами, одной рукой прижимая к груди бутылку из-под шампанского, а другой опираясь на косяк Зина Борисовна, почти беззвучно шевеля губами:
— Берта… Берта… Берточка…
Она выпустила бутылку, которая упала на пол рядом с завалившимся на бок и окончательно Лишенным Эмоций, закрыла лицо руками и зашлась в душераздирающих рыданиях. Доктор лежал навзничь, находясь по-видимому в глубоком обмороке.
Я разрезал путы на ногах столовым ножом, лежавшим на пластмассовом столике среди остатков вчерашнего пиршества, одним прыжком пересек комнату и, подняв с пола Беретту, возвратился к кровати с притихшей Бертой. Разрезав капроновую тесьму на ее руках и ногах и предоставив ей возможность самой отдирать с лица лейкопластырь я устремился на веранду, не дав себе труда даже натянуть брюки.
Я подоспел вовремя. Белобрысый то ли услышав старухины рыдания то ли по своей звериной сущности почуя неладное, был уже в трех шагах от двери. Открыв ее, он на секунду замер в настороженности но уже в следующую, увлеченный собственной рукой, захваченной мной, влетел на веранду и улегся на ковровой дорожке лицом вниз.
Я сел на него верхом и завел его руки за спину, время от времени подергивая их в сторону затылка. Беретта покоилась на полу рядом с ковровой дорожкой — в ней не было необходимости.
От невыносимой боли он застонал.
— Слушай, козел, очень внимательно. Сейчас ты подгонишь машину к самой калитке и погрузишь в нее своих друзей, пока не рассвело. Затем отвезешь их куда хочешь и свяжешься со своими боссами.
Передашь им, что я возвращаю деньги, возвращаю все в целости и сохранности, но каким образом, это я скажу по телефону, номер которого ты мне сейчас назовешь. Можешь назвать свой телефон, если он есть в твоей крысиной норе, но запомни одно: по нему я буду говорить только с боссом. Запомнил? Только с боссом. — Я сильно дернул его руки и он взвыл от боли. — И еще. Завтра, вернее уже сегодня утром, к семи часам у Тарасовского поссовета должна стоять машина с полным баком бензина, а ключи от нее — в почтовом ящике у калитки, машину я тоже верну, а теперь — телефон.
Я вновь дернул его руки, и он сдавленным голосом назвал телефон.
— Смотри, не ошибись, крысятник, это тебе дорого обойдется, предупредил я, обыскивая его карманы.
Кроме пружинного ножа у него ничего не было. Рядом возникла Берта и ударила его ногой в лицо.
— Оставь, Берта, будь выше этого, не ставь себя на одну доску с ними.
Я поднялся и дал возможность подняться белобрысому. Он устремился к калитке, споткнувшись и чуть не упав с крыльца.
Вернувшись в комнату, я увидел что доктор пришел в себя. Приподнявшись на локте он смотрел на валявшийся рядом шприц и потирал шею, размазывая капельки крови выступивших от «уколов».
Старуха скулила и подвывала за стенкой, причитая то на русском, то на идиш.
Лишенного Эмоций уже ничего не интересовало: щупать пульс не было никакой необходимости, глядя на него, я мог с полной уверенностью сказать, что он мертв.
Берта деловито собирала в несессер все, что из него вывалилось.
Доктор застыл в прострации, продолжая опираться на локоть.
Появившийся белобрысый попытался приподнять Лишенного Эмоций и посмотрел с робкой надеждой на меня. Я не шелохнулся. К моему удивлению, ему помогла Берта.
«Аз воздавший» доктор никак не мог оправиться от шока. Вернувшиеся белобрысый и Берта подняли с пола то, что осталось от еще недавно щеголеватого доктора и, закинув его руки за свои шеи, поволокли к машине под неумолкающие стенания ст. Зины:
— Ах, Берта, ах Берта, что же ты наделала… Берта, как же мне жить дальше, разве нельзя было жить как все люди. Боже ж мой, Боже ж мой, зачем я не умерла в концлагере в сорок втором году…
Здесь все было по-прежнему: и дуб с давно засохшей остроконечной вершиной, и тропинка, сопровождавшая дренажную канаву с водой настолько плотно покрытой ряской, что нигде не видно было ни единого пятнышка воды, и едва видневшаяся сквозь частокол стволов усадьба детского дома с давно не крашенными забором и постройками. Где-то над головой изредка стучал дятел, добывая свой тяжкий хлеб.
Лес, даже небольшой, обладает удивительным свойством растворять в себе самые жгучие и неотложные человеческие заботы и проблемы, заполнять душу первозданной тишиной и покоем, своей тихой музыкой, свойством убедительно подчеркивать тщету и суетность человеческих страстей, способностью пробуждать подавляемый человеком внутренний голос, органично связанный с лесом, природой.
Человек, еще несколько минут тому назад ехавший в электричке среди себе подобных, мучительно размышляя о том, стоит ли залезать в долги, чтобы купить видеомагнитофон, оказавшись наедине с лесом, с удивлением замечает, что здесь, среди первозданной природы, сама мысль об этом кажется пустой и никчемной.
Но на обратном пути стальная коробка вагона и присутствие других людей снова возрождают ушедшую было мысль, порождение коварного урбанизма.
В тайнике все было на месте. Я стряхнул с сумки приставшие комочки земли, мха и потемневшие от времени сосновые иголки. Из тайника на ряску канавы выпали две обертки от жевательной резинки — наша детдомовская валюта среди малышей. Я бросился напролом через дес, намереваясь сделать большой крюк, чтобы не видеть ни усадьбу, ни того что с ней связано, избегая ненужной мне сейчас бури противоречивых чувств, вызванных воспоминаниями.
Сев в машину, оставленную на той же поляне, уже тронутой ранними признаками надвигающейся осени, я рванул с места и, проскочив железный мостик, покинул, наверное уже навсегда, и усадьбу, и зловещую поляну и мечты вложить неправедные деньги в праведное дело — в детский дом — и притормозил только перед въездом на большой бетонный мост.
Голос по телефону действительно мог принадлежать только человеку, облеченному неограниченной властью. Человеку, над которым больше никого нет. Только Господь Бог. А с Господом Богом, как с собственной совестью можно вступить в сделку, пообещав в перспективе деньги в храм. В храме от денег не отказываются, отмывать их нет необходимости, не в банке, где могут поинтересоваться, что да как.
Голос вкрадчиво прошелестел:
— Добрый день, Вадим, — делая паузу, чтобы я мог сказать:
— Добрый день. У меня все готово, все в полной сохранности, включая по случаю попавшую ко мне Беретту, но прежде чем все это поступит в ваше распоряжение, мне хотелось бы заручиться вашим словом, что ваши люди оставят меня в покое, — влияние даже молчавшего Голоса было так велико, что даже на расстоянии от него, я не мог удержаться от известной доли подобострастия.
— Я обещаю тебе это, — интонация Голоса ничуть не изменилась от радостного для него известия, — ровно через сутки мое слово вступит в силу.
— Почему через сутки? — Я этого не ожидал и, честно говоря, сразу заподозрил подвох.
— Когда бросают камень в стоячую воду, то круги, образующиеся на воде, нельзя остановить мгновенно, нужно просто подождать.
Да, с этим не поспоришь. Афоризм, вполне достойный занесения в анналы истории. Ни к чему не обязывающее слово.
— Если ты не уверен в себе или сомневаешься, или хочешь подстраховаться то можешь провести эти сутки в моей квартире, ты меня отнюдь не стеснишь, — продолжал шелестеть Голос.
Я представил стоявшую или сидевшую вокруг него свиту с восхищением и восторгом следившую за тихой, неравной борьбой: Голос просчитал все мои возможные ходы, не оставив мне ни малейшей лазейки среди красных флажков.
— Кстати, у меня есть для тебя прекрасное предложение, которое, на мой взгляд, должно тебя заинтересовать, — Голос ни на секунду не отпускал инициативу, но этот ход я предвидел:
— Нет, босс, профессиональным убийцей у вас я не буду.
У Голоса, в отличие от меня, на все был готов ответ:
— У нас нет и никогда не будет профессиональных убийц. В исключительных случаях мы нанимаем людей со стороны, но нам нужен телохранитель, а ты почти идеально подходишь для этой хорошо оплачиваемой работы. Не торопись с ответом, взвесь все хорошенько.
— Да, торопиться некуда, впереди сутки, — не удержавшись съязвил я.
— Сутки здесь не причем, Вадим, твои цирковые фокусы тоже, у тебя есть нечто другое…
— Вы имеете ввиду элемент удачи, — перебил я, — но удача коварная дама, может в любой момент изменить… Короче, машина стоит у вашего подъезда, ключи лежат на асфальте возле правого заднего колеса с внутренней стороны, содержимое кейса с Береттой в брезентовой сумке в багажнике. Благодарю за ни к чему не обязывающее слово и предложение насчет работы.
Я повесил трубку и вышел из телефонной будки, расположенной у входа в НИИ.
Повесив две сумки, нагруженных бутылками дорогого вина, тортом «Прага», экзотическими фруктами с Центрального рынка и другими, на мой взгляд деликатесами, на забор я легко перемахнул его, не выпуская из рук огромный букет самых дорогих роз и, сняв сумки, направился к веранде. Войдя на веранду и поставив сумки на диван, я вошел в холл и, вежливо постучав, заглянул в комнату ст. Зины. Она сидела на инвалидной коляске откинув голову с открытым ртом назад. Тихонько прикрыв дверь, я направился в комнату для гостей и распахнул дверь.
Кресло, которое обычно стояло слева от двери, было придвинуто к столу. На нем сидел закинув ногу на ногу Женька Баранов в замшевом бельгийском пиджаке и белых джинсах. На коленях красовался АКМС образца 1959 года.
Рядом с креслом, слегка опершись на него рукой, как на старинной семейной фотографии, стояла Берта, моя милая, добрая Берта, сжимая правой рукой никелированный короткоствольный револьвер.
В мою спину напротив сердца уперлось дуло третьего зверя.
Я не стал оборачиваться.
Какой смысл?

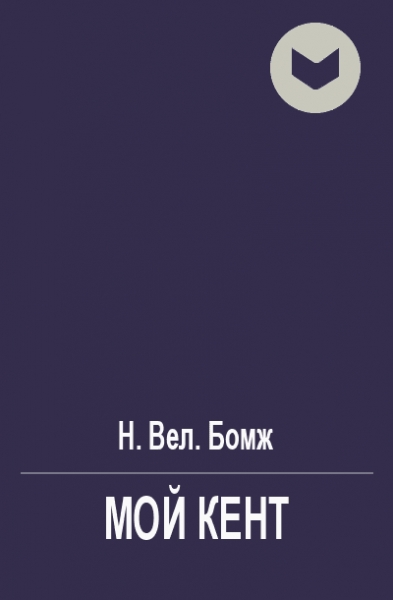
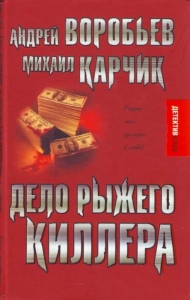


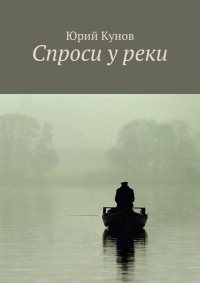
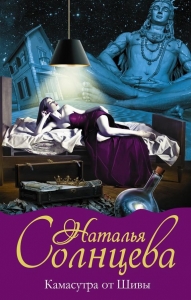
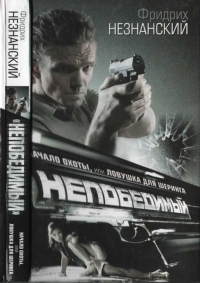


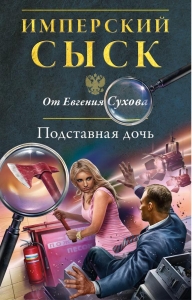

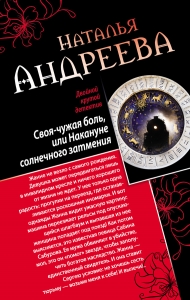
Комментарии к книге «Мой Кент», Н. Вел. Бомж
Всего 0 комментариев