Елена Арсеньева Проклятый подарок Авроры
Прости, забудь меня; мы вместе шли доныне; Путь новый избрал я, путь новый избери, Печаль бесплодную рассудком усмири, Как я, безропотно покорствуя судьбине. Не властны мы в самих себе… Е. Боратынский Все, что было не со мной, помню. Р. РождественскийДалекое прошлое
Он возвращался счастливым и гнал коня во весь опор. Бабушка, конечно, не могла приехать в Гельсингфорс[1] из своего отдаленного имения, чтобы побывать на свадьбе внука, вот он и решил ее порадовать, навестить — а заодно получить благословение от единственного родного человека. Порадовал, получил, теперь надо спешить. День венчания уже назначен. Совсем скоро Карл Маннергейм, богатый и знатный швед, отпрыск знатного рода, станет мужем прекрасной, прекраснейшей Авроры Шернваль, дочери покойного выборгского ландсгевдинга, то есть губернатора, Карла Юхана Шернваля, падчерицы видного выборгского сенатора и юриста Карла Йохана фон Валлена. А впрочем, Карл знал, что искал бы руки и сердца Авроры, будь она даже простой крестьянкой и живи не в роскошном доме в Гельсингфорсе, а какой-нибудь невзрачной деревушке — вроде тех, которые он миновал в своем стремительном пути по мерзкой, расквашенной от дождей, заваленной сучьями и коряжинами дороге. Он отдал бы жизнь за нее, за ее любовь!
Переняв поводья одной рукой, он стиснул другой в кармане чудесную резную табакерку — подарок невесты с миниатюрой на крышечке: ее портретом и инициалами — АШ.
Конь вдруг оскользнулся, Карл уронил поводья, не удержался в седле и тяжело ударился оземь.
Через несколько часов на него набрели два крестьянина, которые услышали в лесу тоскливое ржание коня.
— Куда ж это он так гнал, страдалец? — простонал один, глядя на мертвого всадника.
— Ой, жалостливый, гляньте на него… — фыркнул его спутник.
— А чего ж его не пожалеть, Федот? Молодой, красивый, жить бы да жить, кабы не эта коряжина. Вот так несся сломя голову — и принесся. А там, может, матушка ждет, а то и девица-красавица в окошко глядит: где ты, мой суженый? А суженый — вот он, с проломленной головой на дороге лежит.
— У всякого судьба своя, хватит тебе причитать, Климка, — оборвал его Федот. — Ты вот что… коня расседлай да в табор сведем его. Мол, по дороге мчал, знать, от какого-то табуна отбился. Цыгане, конечно, народ воровской, настоящую цену не дадут, да ладно, хоть какие-то деньги. К себе ж на двор привести его мы не сможем, верно? Пойдут расспросы: чей да откуда… Привяжутся, глядишь, донесут, понаедет полиция — не отмоешься вовеки. Еще и скажут, что мы этого бедолагу уходили. Поди докажи, что сам он упал!
— Так ведь ежели тело мертвое отыщут, все равно станут искать виновных. А цыгане возьмут да и скажут, мол, крестьяне из Ивановки им коня приводили. И скрутят нас, и в каторгу!.. Нет, пошли лучше подобру-поздорову! — засуетился Клим.
— Глупый ты, брат, глупый да трусливый. Сними седло, сними уздечку — да в воду. Коня цыганам сведем. А этого… раба Божьего… и его в воду, на глубину на самую. Поди набери камней, насуем ему в карманы, чтоб не всплыл. Погоди, дай-ка я в карманах для начала пошарю. Ох ты… а это чего?
— Коробушка с табаком, а камни-то, камни какие… — восхитился Клим. — И личина на крышечке… И впрямь девица! И впрямь красота несказанная! Положи на место, Федот. Ладно, конь, но коробушка заветная… с любовью даренная. Положи. Грех это!
— Не мели ерунды, — сурово буркнул Федот. — Ему уж теперь все равно, а нам с тобой деньги позарез жизни нужны. Тебя от рекрутчины откупим, а я… а я женюсь теперь! Ему-то, страдальцу, теперь уже все равно! Ну, чего стал?! Расседлывай коня, чего на личину уставился? Не про тебя честь! И не горюй о ней: одного похоронила — другой сыщется. На такую красоту господа небось летят как мухи на мед! Поплачет — да и успокоится.
Нижний Новгород, наши дни
Иногда главное — не оглядываться. Так советует народная мудрость! Возьмите какую хотите сказку — непременно герой должен идти вперед, а назад посмотреть — ни-ни! Или вспомним Орфея. Его же предупреждали: когда поведешь Эвридику из Аида, ни в коем случае не оборачивайся! Однако он обернулся — ну и вот вам результат: лишился навеки Эвридики, а потом и сам погиб, растерзанный менадами. А ведь кто знает, как бы сложилась его судьба, если бы он не оглянулся тогда, уходя из Аида?! Главное, предупреждали ведь! Нет, как об стенку горох…
А вот Алёну Дмитриеву никто не предупреждал. Поэтому ее некоторым образом можно извинить за то, что она обернулась. Померещилось знакомое лицо, ну и обернулась, чтобы посмотреть на двух девушек, которые как раз садились в серый «Ниссан». Та, на которую оглянулась Алёна, тоже бросила на нее любопытствующий взгляд и даже вроде бы улыбнулась, но наша героиня уже решила, что ошиблась, что никогда раньше эту барышню не видела и явно приняла ее за кого-то другого. А может, и видела, но не помнила. Что и говорить, память у нашей героини была короткая, короче некуда, из-за чего она не единожды попадала в неловкое положение. С другой стороны, писателю как бы положено быть рассеянным. Алёна же Дмитриева была именно что писательница — не слишком, конечно, известная, но за славой она не гналась.
Ведь что слава? Жалкая заплата, как известно, а главное, слава, прежде всего мирская, проходит, как… ну, как-то так она проходит, как-то siс. Ну всю жизнь мечтала Алёна уточнить, что же это за siс такое особенное, какой смысл вкладывали премудрые латиняне в это понятие? Сказали: siс transit Gloria mundi, но не позаботились пояснить, каким же особенным siс’ом эта сама mundi берет да и transit… А впрочем, ключевое слово здесь именно transit, проходит, проходит слава, хоть тресни…
Размышляя об этом, Алёна пошла себе дальше, начисто забыв про двух девушек, которые садились в серый «Ниссан», а черноглазый, улыбчивый, донельзя любезный молодой человек захлопнул за ними дверцу и сел рядом с водителем.
— Что за тетка? — спросил настороженно. — Знакомая или как?
Девушки переглянулись. Черноглазый обаятельный и любезный красавчик мгновенно перестал быть обаятельным и любезным. И даже как бы красоты в нем поубавилось.
И тут черт потянул за язык одну из девушек… а может быть, черт тут был совершенно ни при чем, просто она инстинктивно почувствовала беду, которой почему-то не предчувствовала раньше, и попыталась ее отвести, хоть как-то себя обезопасив.
— Да, знакомая, — сказала она. — Это писательница здешняя, очень известная, Алёна Дмитриева. Знаете такую?
— Нет, — покачал головой молодой человек и покаянно улыбнулся. У него была очаровательная улыбка, добрая и открытая, имеющая, впрочем, такое же отношение к доброте и открытости, как слезы крокодила — к жалости. Не более чем сокращение лицевых мускулов и демонстрация великолепных зубов… это мы об улыбке, понятное дело. — Пелевина знаю, а Дмитриеву какую-то… Нет.
— А вот я Пелевина не люблю! — задиристо сказала девушка и прошлась насчет его сине-зеленой кислотности, а молодой человек возразил, причем стало ясно, что он читал Пелевина побольше, чем эта девушка, и ей стало неловко, она разгорячилась, немедленно начала ввязываться в спор ради спора, ничего уже вокруг не видела, не обращала никакого внимания ни на что, в том числе на то, куда их вез молчаливый, лишь изредка ухмыляющийся водитель, — и продолжалось это до тех пор, пока ее подруга — которая участия в споре не принимала, потому что вообще никого не читала, ни Пелевина, ни Дмитриевой, ни графа Л. Н. Толстого (бывают, бывают такие люди, и их даже больше, чем вам кажется!), — не ткнула ее в бок и не спросила встревоженно:
— Слушай, а где это мы?
Честно говоря, еще и раньше подруга удивлялась, что едут они вроде бы не совсем туда, куда хотели добраться, — в центр Сормова, а по каким-то извилистым, окольным путям, она даже спросила почему, но водитель буркнул: объезд, мол, дорога ремонтируется, что, она знаков не видела? Она не видела знаков, но промолчала, потому что на всю жизнь усвоила правило, которое в пору ее детства было запечатлено в каждом средстве общественного транспорта: «Во время движения не отвлекайте водителя разговорами!» Вот она и не отвлекала. К тому же она привыкла к тому, что «мужчина лучше знает!». Но вот теперь подспудное беспокойство вырвалось наружу.
Тогда и первая девушка наконец-то глянула в окошко — и изумилась. Они находились на какой-то окраине… несколько невзрачных домиков, вызывающих в памяти невразумительное словосочетание «народная стройка», торчали среди заброшенных, заросших сорняками садовых участков с полусгнившими деревьями и уродливыми пнями, словно и сами были такими же пнями.
— Слушайте, слушайте, — забормотала девушка, мигом испугавшись и забыв и про Пелевина, и про Алёну Дмитриеву, и вообще про все на свете. — Где это мы, зачем, почему, как, нам же в центр Сормова надо было! А это что? Вы куда нас привезли? Зачем?
— Ничего, девушки, — успокоительно сказал обаятельный любитель Пелевина и улыбнулся чарующе. — Вы давайте выходите. Там разберемся.
А поскольку они не тронулись с места, вцепившись в кожаную обивку сидений, он выключил улыбку, как выключают свет, и рявкнул:
— Выходите, живо, ну!
Девушки дружно зажмурились от страха и не двинулись с места, но через мгновение знакомая Алёны Дмитриевой услышала пронзительный визг подруги — и открыла глаза, понимая, что сейчас увидит нечто ужасное.
Да, в самом деле — она увидела, что любезный молодой человек держит пистолет и черное дуло упирается в лоб ее подруги.
Мезенск, 1942 год
— Откуда она тут взялась? Нет, объясните, откуда она тут взялась?!
— Mein Gott[2], угомонитесь, фон Шубенбах, не кричите так. Ясно же, что она тут взялась из воды.
— Изволите шутить, обер-лейтенант? А между тем мне не до шуток. Откуда вдруг посреди реки взялась эта женщина?!
— Возможны следующие варианты, фон Шубенбах: а, бэ, цэ. Вариант а: эта фрейлейн — сирена, русалка, жительница подводных глубин, морских и речных, и она выглянула на поверхность, чтобы спеть нам свою чарующую песнь и увлечь на дно, где она обитает в роскошном дворце. Не приходилось читать в детстве сказки некоего Ганса Христиана Андерсена? Конечно нет, я почему-то сразу так и подумал, что нет.
— Андерсен? Подозрительная фамилия. Он, этот ваш Андерсен, наверное…
— Нет, успокойтесь, у этого господина вполне арийское происхождение, он датчанин, потомок тех самых викингов, которые так милы сердцу нашего фюрера. К тому же сей господин отошел к праотцам более полувека назад.
— Тогда при чем он тут вообще?!
— Всего лишь при том, что у него есть сказка об одной такой nixe, русалке, которая настолько сильно влюбилась в некоего простоватого принца, что ради него рассталась со своим рыбьим хвостом и обрела две ножки — полагаю, столь же прелестные, как и у этой фрейлейн, которая так мило лежит перед нами на траве. И все же полагаю, что это не русалка. Nobless oblige, как говорят в Париже, откуда я прибыл совсем недавно, — ах, какой город, фон Шубенбах, какой город и какие в этом городе женщины! — положение обязывает, а потому русалка должна была явиться пред нами некоторым образом exposé, а попросту сказать, nu[3], а не в купальном костюме, как наша прелестная утопленница. Это все, что я хотел сказать о варианте «а». Теперь о варианте под литерой «бэ». Полагаю, именно он пришел вам в голову — судя по вашим прищуренным глазам, фон Шубенбах. А состоит он в том, что бесчувственная красотка — диверсантка с русской подводной лодки, которая, очевидно, лежит на дне реки. Фрейлейн всплыла на поверхность в надежде обворожить вас и с вашей помощью получить доступ к неким секретным документам, которыми вы как помощник главного военного следователя, конечно, располагаете… Сама по себе версия хороша, не спорю, однако, учитывая глубину сей речушки, особенно на отмелях, я не могу вообразить даже бочку, которая могла бы незаметно залечь на дно, не то что полноценную подводную лодку. Так что вариант «бэ» мы тоже можем считать несостоятельным. Остается «цэ», и эту версию я готов был бы считать самой правдивой.
— И в чем она состоит?
— Да в том, что наша незнакомка заплыла сюда с той стороны пляжа, где расположились бравые ребята из гестапо. Это подружка какого-нибудь обершарфюрера СС, неустанного борца против этих мифических подпольщиков.
— Почему вы называете их мифическими?
— Да потому, что они — как персонажи мифов: их никто не видел, но все о них знают и из уст в уста передают сказания об их героических деяниях.
— Героических деяниях?! Советую вам быть поосторожней в словах, обер-лейтенант Вернер!
— Да ладно вам, фон Шубенбах, я употребил это слово исключительно в кавычках.
— Смотрите… вы здесь на фронте, а не в Париже или Берлине, под крылышком папеньки-фабриканта. Что же касается ваших пресловутых версий, то я, пожалуй, предпочел бы, чтобы эта особа оказалась не русалкой, а партизанкой. Мы отволокли бы ее в гестапо, и я наконец получил бы отпуск! Смотрите-ка, Вернер, у нее дрожат ресницы! Она пришла в себя! Откройте глаза, фрейлейн. Откройте глаза! Разве вы не понимаете, что я говорю?
Лиза вздохнула, неохотно открыла глаза. Она лежала на травянистой полоске узкого островка, который находился посреди не слишком широкой и вовсе даже не бурной реки. Лиза с некоторым усилием села и огляделась. Левый берег был высок, обрывист и покрыт аккуратными пеньками. Вдали, метров через сто, начинался довольно густой лес, и можно было предположить, что некоторое время назад он подходил к самой реке, а потом его вырубили. Теперь на берегу стояли несколько солдат в серо-зеленой форме, в касках, с автоматами и ручными пулеметами, направленными на лес. Под берегом притулилась лодка, в которой тоже сидели автоматчики.
Увидела она солдат и на противоположном берегу. Они стояли редкой цепью вдоль дороги, сквозившей за реденькими рощицами. Половина солдат в цепи была в серо-зеленых мундирах, половина — в черных. А между их цепью и водой резвились веселые компании полуодетых людей. Мужчины были в купальных трусах или плавках, женщины — кое-кто в модных купальниках, а кое на ком Лиза увидела самые обычные майки, заправленные в обычные розовые или голубые трусы и для шику перехваченные ремешками. Ну что ж, в конце концов, они тут собрались не для спортивных состязаний, где требовалась форма, а чтобы развлечься. И развлекались самым непринужденным образом. Небольшая компания играла в волейбол; много народу плескались в воде. Некоторые лежали на разостланных полотенцах и загорали, благо солнце было ярким и жарким. Некоторые молодые люди старательно уткнулись в книжки, демонстративно не обращая внимания на визг и смех, которые раздавались из-за кустов: ведь кое-кто был уже навеселе и вел себя совершенно непринужденно с легко одетыми девицами. Слышались звуки гармоники, и приятный голос громко, хоть и несколько фальшиво выводил:
Около казармы У самых у ворот, Фонарь стоит высокий, Горит он круглый год. И мы с тобой, в любви горя, Стояли здесь, у фонаря, Моя Лили Марлен, Моя Лили Марлен…По берегу туда-сюда сновал человек в серой форме с неуклюжей, громоздкой кинокамерой в руках. Он подбегал то к волейболистам, то к купальщикам, то заглядывал за кусты, откуда слышался дурашливый крик. Один раз в оператора полетела бутылка, и больше он в кусты не совался, целиком переключившись на волейболистов.
— Вы с таким любопытством озираетесь, как будто с луны на землю свалились! — засмеялся кто-то рядом. — Ну взгляните же наконец и на нас, грешных, всё же мы в некотором роде ваши спасители!
Лиза повернула голову и наконец-то удостоила взглядом двух молодых людей, стоявших рядом.
Один был высоченный, плечистый, атлетического сложения, ярко-голубоглазый блондин — вообще его вполне можно было назвать даже белобрысым. Его мускулистое тело было очень белокожим, и солнце уже оставило на нем следы. «Если не оденется, то запросто сгорит», — подумала Лиза и оглянулась на второго молодого человека.
Он смотрелся не столь эффектно: и ростом пониже, и в плечах поуже, и волосы всего лишь темно-русые, и глаза самые обыкновенные, серые, однако в этих глазах, направленных на Лизу, светилось столько откровенного мужского интереса, что она невольно смутилась.
— По-хорошему, это нас, скромных героев, должен был запечатлеть сей досужий ловец сенсаций, — сказал он, кивая на оператора с камерой, и в его глазах сверкнула насмешка.
Лиза узнала голос того, кого называли Вернером. А «белокурая бестия» — это, конечно, фон Шубенбах.
— Какая жалость, что его не оказалось рядом, когда мы тащили вас из реки, — продолжал Вернер. — Вот это, я понимаю, была бы трогательная иллюстрация к истории жизни доблестных вояк на новых территориях рейха! Одно дело — играть с местными красотками в мячик, и совсем другое — нырять за ними черт знает на какую глубину!
С чистого голубого неба светило жаркое солнце, дул теплый, ласковый ветерок, а между тем Лизу пробрал озноб. Она отвела взгляд от серых блудливых глаз Вернера и уставилась на серебристо поблескивающую воду. Ее колотило все сильней, она даже плечи обхватила руками, пытаясь утишить эту дрожь.
— Спасибо, — пробормотала Лиза. — Я вам очень… я вам страшно благодарна.
— Надеюсь, вы понимаете по-немецки лучше, чем говорите, — весело сказал Вернер, — иначе все те многочисленные комплименты, которые я хотел вам расточить, пропадут втуне.
— Вы кошмарный болтун, Вернер, — пробурчал фон Шубенбах. — Почему вы уверены, что всем девушкам на свете нужны ваши дешевые комплименты.
— А почему вы убеждены, что они настолько дешевые? — с обиженным выражением спросил Вернер. — А вообще говоря, комплименты — независимо от цены и качества — нужны всем девушкам на свете. И чем скорей вы это поймете, фон Шубенбах, тем более счастливо проживете остаток дней своих.
Лиза уткнулась лицом в колени. Тошнота вдруг подкатила к горлу.
— Что с вами? Вам плохо? — встревоженно спросил Вернер.
— Воды, конечно, наглоталась, мутит, — пробурчал фон Шубенбах. — Однако мы до сих пор так и не получили от нее вразумительного ответа, кто она и откуда. Вы будете отвечать, фрейлейн? Ваше молчание кажется мне подозрительным.
— Дайте ей прийти в себя, фон Шубенбах, — примирительно сказал Вернер. — Лучше полюбуйтесь на этого аса. Вот это мастерство, а? Давненько я не видел таких изощренных фигур высшего пилотажа!
— Странно, откуда в нашем гарнизоне вдруг взялась истребительная авиация? — задумчиво проговорил Шубенбах. — Или перебросили новые части? Но вы правы, искусство необыкновенное!
Лиза с усилием подняла голову и посмотрела в небо. Серенький самолетик крутился высоко-высоко, то уходя в пике, то вертясь в штопоре, то снова взмывая ввысь. А потом он резко начал снижаться, скользнул над рекой на бреющем полете, и Лиза увидела на его крыльях черные кресты-свастики.
Она невольно вскрикнула, зажмурилась, снова уткнулась в колени. Страх ревел в небе, страх окружал со всех сторон.
Снова! Неужели она испытает это снова?! Но здесь нет вагона, под который можно заползти, чтобы спастись от пуль, здесь нет добрых людей, которые потом приютят тебя, помогут выжить… здесь только враги!
Зачем ты решилась на это?! Зачем пошла сюда? Почему тебе показалось, что ты больше не можешь отсиживаться в лесу? Какая нелегкая выгнала тебя оттуда на погибель? Ведь ты погибнешь, погибнешь прямо сейчас, и уже никто не сможет тебя спасти!
Однако кругом никто, кроме нее, не боялся. Этим черным крестам махали, что-то весело кричали летчику, который оказался так низко, что его силуэт можно было разглядеть под плексигласовым колпаком. Лиза же ничего не могла поделать со своим паническим страхом: скорчилась в комок, закрыла голову руками, словно сейчас вот-вот должны была чиркнуть рядом по траве пулеметная очередь…
И вдруг оглушительно затрещало в небе, всплеснулась прошитая пулями волна, кто-то пронзительно закричал — и вот уже от испуганных, истерических воплей зазвенел воздух, но пулеметный стрекот перекрывал их, рвал воздух, резал слух…
Самолет расстреливал людей на берегу!
Лиза зажала уши ладонями, ощущая свою сгорбленную голую спину как обширную и очень удобную мишень. Вот сейчас вопьется пуля… Мысли метались в голове бестолково, как мухи между оконными рамами: «Я так и знала! Я это чувствовала! Но только почему же он стрелял в своих? У него черные кресты на крыльях, это же фашистский самолет, почему он стрелял в своих?»
— Да это русский! — раздался крик рядом с ней. — На нашем самолете русский пилот! Проклятье! Да не стойте как дерево, фон Шубенбах! Надо спасаться! А, черт, да его подстрелили! Можете продержаться еще немного? Нужно добраться до берега! А вы чего расселись?
Кто-то с силой схватил Лизу под руку и вздернул на ноги. Это оказался Вернер.
— Вы не ранены? На том спасибо. Поддерживайте Шубенбаха с той стороны, ну, быстро! Вдвоем мы его вытащим на берег.
Он подтолкнул Лизу к блондину, который еле держался на ногах, зажимая простреленное плечо другой рукой. Кровь текла между пальцами, и Лиза пошатнулась, ощутив тошноту. Ей всегда было дурно от вида крови, поэтому и в медицинский в свое время сдавать не стала, пошла на мирный филфак…
— Только не вздумайте мне тут в обморок упасть! — рявкнул Вернер. — Подставьте ему плечо, ну, живо! Повели его к воде. Шевелите ногами, фрейлейн! Наше спасение на другом берегу, там хоть есть где укрыться, а тут, на островке, мы как на ладони, мы мишень! Пошли, ну?!
Лиза потащила Шубенбаха к берегу, успев порадоваться, что подставляет ему свое плечо не с той стороны, где у него была рана. Если бы на нее попала кровь этого фашиста, она умерла бы от отвращения, точно умерла бы!
Голова Шубенбаха безвольно моталась, он еле перебирал ногами, а когда оказался в воде, вообще безвольно повис на руках Лизы и Вернера.
«Да как же мы выплывем с ним?» — подумала она в ужасе. Вода поднималась все выше и выше, тащить раненого становилось все легче. И вот дно начало подниматься. Значит, здесь брод между островком и берегом, плыть не придется, слава богу!
Вот они уже на мелководье, вот на траве. Кругом валяются окровавленные тела… О господи! Лиза увидела кинооператора — он уже больше ничего и никого не снимал, лежал с камерой — мертвый, убитый. Да разве он один?! Убитые мужчины — и женщины, женщины!
Кто-то из солдат пытался стрелять по самолету из автоматов, но тот, ныряя к земле и взмывая ввысь, словно смеялся над обезумевшими людьми, снова и снова поливая их пулями.
— Вон туда, под деревья! — кричал Вернер, волоча Шубенбаха куда-то в сторону.
— Грузовик, грузовик… — прохрипел Шубенбах, поднимая голову, и Лиза поняла, что он хочет укрыться под защитой большого грузовика, стоящего на окраине пляжа. Видно было, что там нашли спасение множество людей. Они забились под широкий кузов и казались надежно защищенными от пуль.
— В рощу! — настаивал Вернер, но Шубенбах навалился всем телом на Лизу, норовя повернуть к грузовику. И тут очередь прошила кабину, а через мгновение полыхнул бензобак.
Далекое прошлое
…Ходили слухи, что в 1808 году, когда у выборгского губернатора Карла Юхана Шернваля рожала жена, Ева-Густава, в дом постучала какая-то добродушная старушка. Она назвалась повитухой и предложила свои услуги.
Шернваль был вне себя от страха за жену: врач задерживался, на служанок он не надеялся, местная повитуха, айти[4] Виртунен, еще не вернулась от другой роженицы, а тут помощь подоспела. Он допустил бабку до ложа будущей матери. Всю ночь длились схватки, а когда с первыми лучами солнца родилась очаровательная девочка, лицо «добродушной старушки» исказилось от злости и стало безобразным. Она плюнула на младенца и прошипела:
— Так пусть же твоя красота будет достойна тех несчастий, которые она принесет!
И бросилась бежать. В дверях она столкнулась с запоздавшей айти Виртунен и шепнула ей что-то такое, отчего повитуха повалилась почти без чувств и не скоро пришла в себя.
Ошеломленный Шернваль кликнул слуг, чтобы задержали старуху да надавали тумаков, однако те побоялись подступиться к страшной бабке, уверяя, что это была злая троллиха, которая обманом пробирается к ложу рожениц и проклинает всех красивых младенцев, поскольку ненавидит все прекрасное.
Но время шло, и дурное событие, омрачившее рождение Авроры Шернваль, постепенно забылось.
Мезенск, 1942 год
Грянул взрыв, но Лиза не могла понять, что звучало громче: этот грохот — или крики людей, разметанных взрывом в стороны. Ее отшвырнуло от Шубенбаха… было мгновенное ощущение, что она летит, летит, словно безвольный клочок бумаги, несомый ветром… На нее надвигались деревья, вот сейчас ее размажет о ствол! Однако взрывная волна опустила, вернее, уронила Лизу на землю.
Она лежала вниз лицом, а где-то там, наверху, металась эта смерть с черными крестами на крыльях…
«Русский, это русский пилот!» — кричал Вернер. Но Лиза не могла воспринимать этого летчика как своего. Он убивал фашистов, да… Наверное, она должна была кричать от радости, но зрелище этих залитых кровью тел было слишком страшным, чтобы возможно было ощутить хоть проблеск мстительного торжества. К тому же слепая пуля в любое мгновение могла поразить ее. Нужно было думать о спасении.
Лиза ринулась в рощу, но тотчас полетели с деревьев листья, сбитые пулями, и она упала на землю. Этот ненормальный, он что, не соображает, что делает, когда стреляет по роще? Он же видел, что туда бежала женщина. Русская женщина!
А впрочем, ему все равно, кто я, дошло до нее. Я с фашистами, значит, фашистка. Нет, на его милосердие надеяться нечего, нужно спасаться самой.
Хотелось распластаться на земле, зарыться в нее, но зарываться было нечем, это раз, а во‑вторых, Лиза рассудила, что лежа она гораздо уязвимей для пуль, чем стоя. Она ринулась к березе и прильнула к стволу, смутно надеясь, что пули каким-то чудесным образом ее минуют — ведь на гладком белом древесном стволе еще не было ни единой раны.
Выстрелы отдалились, шум моторов стал чуть тише — самолет метнулся к дороге, расстреливал там кого-то еще, Лиза не видела кого. Она озиралась, пытаясь понять, что делать теперь: искать ли другое укрытие или оставаться на месте, — как вдруг расслышала стон. Оглянулась — и увидела судорожно подергивающиеся босые ноги, торчащие из-под куста.
— Помогите… — донесся слабый голос.
Сколько боли в нем! Кажется, за всю жизнь, в которой бывало, конечно, всякое, Лиза не слышала такого страдания в голосе человека. Она не могла оставаться на месте, просто не могла. И, по привычке пригибаясь, как будто самолет все еще реял над ней, побежала к кустам.
И зажмурилась, когда увидела то, что увидела…
Там лежала молодая женщина в одном белье, от которого остались только кровавые клочья. Стройное загорелое тело было все изорвано пулями. Но женщина — бледная, со светлыми, разметавшимися по траве волосами, с серыми, почти обесцвеченными болью глазами — была еще жива. Рядом валялся мокрый купальник, раскрытый саквояжик, из которого вывалились какие-то вещи, и Лиза поняла, что женщина пыталась переодеться, когда ее сразила пулеметная очередь.
Лиза тупо стояла и смотрела на ее окровавленное тело. Надо было перевязать, но чем… да вот вещами, которые на траве… но даже на самый неопытный взгляд видно было, что сделать уже ничего нельзя, раны слишком страшны, женщина умирает, вот-вот умрет, и как облегчить ее последние минуты — неведомо. Принести воды? Но в чем? И для этого нужно вернуться к реке, выйти на открытый берег, подставить себя под пули…
Лиза зажмурилась от ужаса, с тоской понимая, что, если женщина попросит пить, она все-таки выйдет на берег, подставит себя под пули и попытается принести ей воды, хоть в горсти, хоть платок намочив.
Какой платок? Да у нее же ничего, кроме купальника!
Женщина вдруг проговорила, вернее, выдохнула:
— Ты кто? Ты русская?
Если на первый вопрос ответить было бы затруднительно (нет, ну в самом деле, как ей объяснишь, кто такая Лиза?!), то на второй ответ был однозначный:
— Да.
Молодая женщина с трудом размыкала сухие губы:
— Сходи на Полевую, 42. В ломбард… Я им деньги должна. Возьми в саквояже квитанцию, отдашь им. Скажи, что меня убило. Вещи мои себе возьми, все возьми, только отдай квитанцию… — Голос ее прервался, глаза закрылись.
Лиза невольно вскрикнула: умерла?! — но ресницы снова поднялись, и измученные глаза опять взглянули на нее:
— Как тебя зовут?
— Лиза. Елизавета Хов…
Она запнулась на фамилии. Брови женщины дрогнули, в глазах что-то словно бы вспыхнуло — и в следующее мгновение они закатились, рот приоткрылся, струйка крови выползла на подбородок…
Незнакомка умерла.
Лиза несколько мгновений тупо смотрела на нее, затем упала ничком, сотрясаясь в страшном нервном ознобе. Ее тошнило, но облегчить мучительно сжимающийся желудок казалось страшным кощунством. Рядом с мертвой, убитой!
Она лежала, и спазмы постепенно успокаивались, только глаза жгло. Оказывается, из них текли слезы, она плакала…
А ведь Лиза думала, что все слезы выплакала еще тогда, осенью, при обстреле поезда… Ну, их за прошедшее время скопилось в душе столько, подавленных, мучительных, тайных, что теперь можно рыдать без остановки несколько дней.
Можно. Но времени на это нет!
Лиза приподнялась и поглядела в сторону берега, видного из-за кустов.
Обстрел прекратился, самолет улетел. Кругом валялись мертвые тела, живых не было видно: то ли убежали с берега, то ли просто не осталось никого живых.
— Боже мой… — пробормотала Лиза. — Боже ты мой!
Додумать она не успела. Послышался рокот мотора, и Лиза увидела, что на берегу появился грузовик. Из кузова прыгали солдаты и разбредались по берегу. Они собирали мертвые тела, искали живых и раненых. Постепенно из окрестных рощиц выбирались те, кому удалось спастись от страшного обстрела. Многие женщины не могли унять истерику, да и мужчины выглядели не лучше.
Среди полуодетых людей, бродивших по берегу, Лиза увидела молодого человека с растрепанными русыми волосами. На нем был только мундир нараспашку и купальные трусы — ни галифе, ни сапог своих он, очевидно, не нашел, да и, такое впечатление, был не слишком-то озабочен своим видом. Он пристально всматривался в лица всех женщин, как если бы кого-то искал среди них. Это был человек по фамилии Вернер, и Лиза вдруг поняла, что он ищет ее.
Вот уж с кем Лиза ни за что не хотела бы встретиться сейчас! Конечно, ловелас, болтун, бабник, но прежде всего этот Вернер — солдат, фашист, и рано или поздно он начнет задавать вопросы, на которые Лиза не сможет ответить. Все, что она так уверенно придумывала, пробираясь через лес к реке, все, что казалось таким убедительным, сейчас виделось надуманным, глупым и неправдоподобным даже ей самой, а Вернеру, небось, втройне подозрительным покажется. Еще отволочет в гестапо!
Надо где-то отсидеться, дождаться, пока все уйдут с берега — и тогда… А где отсидеться-то? Здесь, в роще, ее живенько отыщет Вернер или кто-то другой — с таким же ворохом вопросов, на которые у нее просто нет ответов. Надо уйти куда-то, а куда?.. В город, куда еще. Ты хотела попасть в город — ну вот и иди!
«Матушка Пресвятая Богородица, ну почему ты не остановила меня, почему не отговорила от этой бредовой мысли — пойти в город?! Почему мне не сиделось в той тишине, в том покое?! Почему эти тишина и покой казались мне мертвящими?!»
Ладно, хватит причитать. Не нами сказано: на Бога надейся, а сам не плошай. Первым делом надо переодеться.
Эта несчастная женщина говорила про какие-то вещи. Снова надевать на себя чужое! А что делать, если уже давно нет ничего своего? Но жутко даже подумать, чтобы надеть что-то принадлежащее мертвой!
А что, есть выбор? Думала украсть вещи… теперь они сами свалились в руки.
Лиза с тоской покосилась на саквояж, лежащий в стороне, а потом решилась заглянуть в него. Сверху лежало платье — обычное, черное в белый горох, сатиновое и довольно измятое. Да ладно, не до жиру, быть бы живу! Прикинула — платье придется впору, его хозяйка была довольно высокой, как и сама Лиза, да и сложение примерно одинаковое. Под платьем белые туфли-лодочки на небольшом каблучке. Лиза вздохнула потрясенно: она так давно не носила туфель! Отвыкла, наверное. Ничего, как-нибудь привыкнет. Главное, чтобы пришлись по ноге!
Повезло, ну надо же! В саквояже лежала еще черная кофточка — простенькая, вязаная, шерстяная, — но самой поразительной находкой оказались два хрустящих целлофановых пакета. Ничего подобного Лиза не видела уже много лет: с тех пор как умерла мама. Ее вещи Лиза распродала на толкучке — на что-то ведь надо было жить, она не привыкла — на жалкую зарплату, а потом, когда спохватилась, то в доме почти ничего не осталось из прежней роскоши, а взять было уже неоткуда. Приходилось носить то же, что носят все, покупать по талонам, стоять в очередях… И вот — так и ударило воспоминаниями о прежних временах, когда мама могла достать все! Вернее, когда ей просто-напросто приносили всё, что она хотела! На одном пакете была наклеена картинка: умопомрачительная блондинка в ярко-розовой комбинации, рядом надпись — «Le Flamant». Наверное, это название фирмы или модели, в переводе с французского — «Фламинго». Внутри пакета лежало что-то тоже розовое, но не яркое, а совсем светлое, нежное. Лиза вскрыла пакет и обнаружила лифчик и трусики, совершенно новые, шелковые, в хорошеньких беленьких цветочках. Из пакета, скользнув по шелку, выпал бумажный квадратик; она развернула и прочла: «Прелестной Лизочке — ее верный Эрих». Это было написано по-русски, но готическим шрифтом — явно не русской рукой!
Лиза в ужасе смотрела на свое имя. Вот наденет вещи неведомой «прелестной Лизочки»… и примерит ее судьбу!
Да ну, глупости. Это просто совпадение! Мало ли Лизочек на свете. Нет, на самом деле их не столь уж и много, это не самое распространенное имя, а все же… совпадение! Все только совпадение!
Голоса слышались все ближе. Лиза посмотрела сквозь ветви кустов — Вернер приближался.
Нужно поскорей уходить отсюда. Нужно добраться до города, исполнить поручение погибшей женщины (последняя воля умершего — закон!), а потом… потом попытаться сделать то, ради чего она рвалась в город.
Теперь ей будет легче. Теперь у нее хоть одежда есть. Какой ценой, правда… но ведь она не виновата в этом! Не виновата!
Лиза разорвала пакет, стащила купальник и надела белье. Оно было мягкое-мягкое, ласковое такое, шелковей шелка! Во втором пакете обнаружились чулки с надписью «Bas de Fil de Perse». Так это же по-французски: чулки фильдеперсовые. «Верный Эрих» подарил своей «прелестной Лизочке» немецкое белье и французские фильдеперсовые[5] чулки.
Чулки Лиза не надела, хотя в саквояже нашлись две круглые резинки для их поддержки. Мыслимое дело — такую роскошь каждый день носить!
Она сунула тугие резинки и пакет с чулками в саквояж, туда же отправила свой сырой купальник — и наткнулась на расческу и странный конверт, сшитый из плотной суконной ткани. Там лежали какие-то бумаги, желтоватая книжечка, вроде бы удостоверение какое-то, школьная тетрадка в клеточку — и серая, невзрачная квитанция со штампом: «Ломбард и рост». Квитанция была заполнена чрезвычайно неразборчивым и корявым почерком, Лиза даже разбирать этот почерк не стала. Неграмотный писал, что ли? И какой еще рост? Ломбард — это понятно, но рост?! А, вспомнила: деньги в рост — так раньше, до революции, называли деньги в кредит, даваемые под проценты. То есть проценты растут, вот в чем штука. Где же она об этом читала? А ведь у Диккенса… в незапамятные, счастливые времена!
Лиза кое-как причесалась и бросила последний взгляд на мертвую женщину.
— Прощай, тезка! — пробормотала она и поспешно пошла, пригибаясь под низко свисавшими ветвями, прочь от реки, на небольшой холм, за которым вилась дорога, а впереди, примерно в километре, начинались огороды и разбросанные там и сям совершенно деревенские дома. Однако несколько дальше виднелись городские кварталы.
Значит, ей туда.
Нижний Новгород, наши дни
«Пистолет!.. Вот это номер, а ведь я о нем совершенно забыла!» — подумала Алёна Дмитриева, когда рука ее, сунувшись в ящик туалетного столика в поисках потерявшегося тюбика с кремом — интимным, веселящим, возбуждающим, «продлевающим ваше наслаждение», как было написано на этикетке! — вдруг наткнулась на что-то металлическое… и пальцы, как принято писать в романах, крепко стиснули рубчатую рукоять. Уже сами эти слова — «рубчатая рукоять» — были настолько романтичными и возбуждающими, что Алёна Дмитриева даже пискнула от восторга и растрогалась от давних воспоминаний.
Пистолет был старый — «беретта», купленная еще в опасных 90-х, когда в России торопливо, на скорую руку, небрежно, словно жилье для беженцев-переселенцев, начали строить капитализм. Тогда Алёна Дмитриева (в ту пору ее звали просто Елена Ярушкина), ее муж Михаил и их общий приятель Виктор Талызин вдруг возомнили себя перспективными и даже крутыми бизнесменами, открыли небольшую книготорговую фирму и, начитавшись желтой прессы, вообразили, что на них непременно станут наезжать рэкетиры. Поэтому и решено было обзавестись огнестрельным оружием. Не то чтобы кто-то намеревался пускать его в ход… хотя ежели для защиты собственной жизни, то почему бы нет?
Михаил, столичный житель, лишь на время наезжавший в Нижний к жене, которая в Москву уперто не желала перебираться (бывают такие причудницы, вот представьте себе!), нашел в этой самой столице каких-то нужных людей, и вскоре Алёна и Михаил встретились на Арбате с каким-то невероятно таинственным парнем в длинном плаще с отвисшими карманами. С первого взгляда было видно, что у парня полное помрачнение ума от собственной крутизны. И тем не менее он вынул из своих карманов два пистолета — для Ярушкиных и для Виктора Талызина, — а потом, покопавшись, извлек еще две коробочки с патрончиками, так что создавалось впечатление, что в этих карманах таится целый арсенал, там и «беретты», и «макаровы», и «кольты», и даже, очень возможно, припрятан пулемет «максим» с запасными лентами! Не исключено, что там сыскались бы даже газыри, набитые патронами, для винтовки образца одна тысяча восемьсот какого-нибудь года!
Ну это не суть важно. Куда важнее другое: при ближайшем рассмотрении «беретта» оказалась газовая… Выяснилось это методом научного тыка, когда Виктор спустил курок, целясь в старательно нарисованную от руки мишень, и после громкого хлопка из ствола вырвалось облачко ядовитого газа. Еще хорошо, что дело происходило на природе и участники эксперимента стояли с подветренной стороны!
Общий хохот и подначки Михаила на тему того, что Витя испортил воздух, помогли пережить разочарование. Михаил и Елена сначала по очереди таскали «беретту» с собой, он в борсетке, она — в сумочке, утешаясь мыслью о том, что, если они выпалят в лицо потенциального рэкетира, тому «мало не покажется». Это выражение тогда было очень модным, щеголять им считалось таким же признаком крутизны, как иметь огнестрельное оружие или держать пальцы веером. Алёна честно попробовала, но ничего не получилось: то ли пальцы ее не были к такому положению приспособлены, то ли чувство юмора помешало. Возможно, именно поэтому крутой бизнесменши из нее не получилось, так же как, впрочем, и из остальных, и их книготорговая фирма очень скоро скончалась. «Беретту» за ненадобностью сунули в верхний ящик туалетного столика. С Виктором Талызиным дружба как-то сама собой иссякла, Елена Ярушкина перевоплотилась в Алёну Дмитриеву и полностью отдалась тому, что раньше воспринимала как хобби: сочинению романов для издательства «Глобус». Михаил Ярушкин купил себе новый пистолет, пневматический «вальтер», и забрал его с собой, когда ушел от Алёны. А в верхнем ящике туалетного столика все прибавлялось какого-то повседневного барахла: коробочки с французскими «затыкалочками» для ушей лежали здесь вперемешку с тюбиками «веселящих» кремов, старыми, полными неистовой страсти письмами Михаила Ярушкина (последующие любовники Алёны Дмитриевой писали ей эсэмэски или электронные «мыла»), и очень может быть, она никогда не наткнулась бы на «беретту», если бы некто закодированный в ее мобильнике под именем «Др» не прислал ей эсэмэску следующего содержания: «Как мы сегодня будем?»
«Др» — так обозначался нынешний кавалер Алёны Дмитриевой по прозвищу Дракончег (лексика социальных сетей и разнообразных форумов не могла не оказать некоторого влияния на лингвистические пристрастия нашей героини). Знакомство их состоялось довольно давно и было достойно целого романа, но не о том сейчас речь [6].
Дракончегу до безумия нравились те веселые постельные игры, на выдумку которых была весьма горазда его изощренная подруга. Его собственная фантазия не шла дальше категоричных телефонных посланий: «Надень что-нибудь неприличное!» Ну Алёна и изощрялась, выуживая подходящие сочетания вещей из своего гардероба, который неприличным назвать было очень, ну очень сложно!
Надо, впрочем, сказать, что творческая мысль Алёны Дмитриевой работала непрерывно, находилась наша героиня в горизонтальном положении, вертикальном или сидела за компьютером, совершенно без разницы. Писательница, короче! Именно поэтому, стоило ей ощутить в ладони ту самую пресловутую «рубчатую рукоятку» и вспомнить про «беретту», как она нашла ответ на сакраментальный вопрос: «Как мы сегодня будем?»
Когда Дракончег позвонит в домофон, Алёна ему откроет, выключит свет в прихожей и встанет за дверью так, чтобы Дракончег, войдя в квартиру, ее не заметил. Вдали, в комнате, свет будет, конечно, гореть. Дракончег пройдет вперед, уверенный, что Алёна сейчас появится из комнаты, а она как выскользнет из-за двери, как упрет пистолет ему в бок. И скажет: «Руки вверх, лицом к стене!» И начнет его ощупывать и охлопывать во всех, даже самых неприличных местах, проверяя, не спрятано ли где-нибудь боевое оружие. Для Дракончега это будет в новинку, понятное дело. Да и для самой Алёны тоже! Чем дело кончится — понятно.
Она даже засмеялась от удовольствия, так здорово это должно было получиться! Пистолет не заряжен, коробка с патронами куда-то давно потерялась. Да и зачем патроны? Она ведь не собирается стрелять в Дракончега, боже сохрани.
Алёна загнала на место пустую вывалившуюся обойму, передвинула предохранитель на красную кнопку, чтобы ненароком не выстрелить… хоть пистолет не заряжен, а все же, бывает, и палка стреляет, — и пошла одеваться. Нужно выглядеть соответственно образу! Черный свитерок, черные джинсы. Хорошо бы эту маску, как ее, «чеченку», что ли, на лицо надеть. Но «чеченки» нету. Или чулок натянуть? Нет, чулки у нее дорогие, в сеточку, они надеты под джинсами… они так приятно шуршат по голой спине Дракончега… ладно, обойдемся без маски, в прихожей и так темно, а то ведь, когда они окажутся на свету, зрелище черной в клеточку (в сеточку!) физиономии может вышибить возбуждение даже из самого пылкого любовника. В таком деле главное — не переборщить.
От Дракончега пришла эсэмэска — буду-де через пятнадцать минут. Однако приехал он раньше: Алёна только-только успела переодеться, когда затрезвонил домофон. Она открыла и, хихикая от волнения, встала за дверью. Ее слегка потряхивало. «Рука дрожит, прицел будет сбит!» — подумала она и снова хихикнула. И тут же проглотила смешок: дверь начала медленно приотворяться. Алёна затаила дыхание и вжалась в стену.
Он вошел очень осторожно — наверное, темнота насторожила. И замер. Алёна догадалась, что он сейчас заглянет за дверь. Конечно, почувствовал, как что-то мешает ей открыться полностью! И решила опередить его: выскочила из-за двери и уперла ему в бок пистолет:
— Лицом к стене!
Он отпрянул… она тоже, потому что это оказался не Дракончег! Гораздо ниже ростом и шире в плечах, четвероугольный какой-то, как выразилась бы Наташа Ростова… Свет из дальней комнаты на миг обрисовал его резкий, чеканный, римский, можно сказать, профиль. От неожиданности пистолет дернулся в руке Алёны, а может, это дернулась сама рука, сжимавшая эту самую, черт ее дери, рубчатую рукоятку… пальцы невольно нажали на спуск — и раздался довольно громкий звук, подозрительно напоминающий выстрел хлопушки или шампанской бутылки, из которой вылетает пробка, но более всего — приглушенный выстрел.
С чего, ради всего святого, взяла Алёна, что в пистолете не осталось патрона?! В обойме-то, очень может быть, и не осталось, но он был в стволе! И кто, во имя неба, кто надоумил ее, что передвинуть предохранитель к красной кнопке — это значит включить его?! Наоборот, красное — значит огонь, она сняла пистолет с предохранителя, вот что она сделала!
Ну и теперь выпалила газом прямо в лицо незнакомца.
Наверное, от потрясения у Алёны перехватило дыхание — это ее и спасло. Человек взвыл, задыхаясь и кашляя, отпрянул, вывалился за дверь, загромыхал по ступенькам… Алёна не думала о нем — не до того было. Кинулась в спальню, распахнула балкон. Потом на кухню. Окно настежь! Закрыла дверь в дальнюю комнату. В ее квартире привольно чувствуют себя сквозняки, газ вынесет отсюда мигом. Что-то теснило ей грудь, слезились глаза. Ну, еще бы они не слезились! Алёна бросилась на кухню, высунулась в окно и только теперь позволила себе вздохнуть. Кто-то из соседей недавно жаловался на тяжелый воздух, который сделался на перекрестке улиц Ижорской и Генкиной, где стоит Алёнин дом. Ничего себе! Да это нектар, а не воздух по сравнению с той газовой камерой, которую она одномоментно устроила в своей квартире!
— Алёна! — раздался испуганный возглас, и в дверях кухни появилась высокая фигура.
— О господи, Дракончег! — Она кинулась к нему, прижалась… Ну да, иногда даже эта фуриозная эмансипатка (честное слово, Владимир Розанов словно бы про нее сказал, а не про Аполлинарию Суслову!) чувствовала, что мужчины годны не только на то, чтобы напропалую использовать их в горизонтальном фитнесе или оттачивать о некоторых из них ядовитое жало своего уязвленного самолюбия, но и на то, чтобы находить у них утешение… просто прижиматься и ничего, ничего не говорить!
Однако Дракончег молчать не собирался:
— Что тут произошло? Это газ, что ли?! Кто-то здесь стрелял из газовика?!
Алёна осторожно потянула носом. Газом еще пахло, конечно, и глаза пощипывало, но все же именно пощипывало, а не жгло.
— Ой, слушай, зря я дверь оставила открытой! — спохватилась она. — Как бы соседи не учуяли!
На самом деле она напрасно беспокоилась. Учитывая, что уже за полночь, можно не дергаться. Соседи, люди, встающие рано, уже давно и крепко спали, конечно, и их мог разбудить только взрыв бытового газа (господи, спаси и сохрани!), а не такая чепуха, как вонючка-пукалка «беретта».
Алёна торопливо закрыла дверь.
— Извини, так глупо получилось… — С пятого на десятое, путаясь в словах, обрисовала происшедшее, то смущенно ловя взгляд Дракончега, словно испрашивая прощения, то начиная хохотать. Чувство юмора у нее было, очень может быть, извращенное, но оно было, это факт, и порой поиздеваться над собой доставляло нашей героине немалое удовольствие.
— Слушай, а ведь я его видел, — воскликнул Дракончег. — Честное слово! Когда я уже собрался позвонить снизу, дверь вдруг открылась, и прямо на меня вывалился какой-то мужик, чихая и кашляя, как припадочный. Я поэтому и вошел без звонка. Он скатился по ступенькам и, шатаясь, потащился к машине. Я еще когда парковался, увидел, что на моем обычном месте какой-то «Ниссан» стоит.
— Загадочно, — сказала Алёна. — Он что, нарочно ко мне в гости приезжал? В домофоне-то он номер именно моей квартиры набирал… Вот, наверное, удивился, что я открыла, ничего не спросив, а потом еще и дверь оказалась настежь. Приятный сюрприз для вора!
— Зато потом его ожидал не очень приятный сюрприз, это факт, — покачал головой Дракончег. — Но вообще-то патроны у тебя какие-то контрафактные были, это точно, потому что нормальный газ не мог так быстро выветриться.
— Не пойму, — сказала Алёна. — Зачем он приходил? Кто он такой? Почему звонил именно в мою квартиру? Почему вперся, как к себе домой?!
— А может, это какой-нибудь из твоих бывших? — ревниво спросил Дракончег.
Наивный мальчик… Он ревновал к прошлому своей подруги! Ревновал бы лучше к настоящему, потому что у Алёны, как у опытного шулера, всегда была в рукаве какая-нибудь запасная карта. Не факт, что козырная, но факт, что была.
— Никаких бывших у меня нет, — сухо сказала Алёна. — В том смысле, что я не хожу по старым адресам. Я совершенно не понимаю, что произошло. Может быть, он шел в другую квартиру, а нажал нечаянно мою кнопку домофона, потом вдруг видит — дверь открыта, ну, думаю, дай загляну, и… — Она нервически хихикнула. — И получил заряд газа в физиономию! Поистине, шел в комнату — попал в другую! Жалко только, что он испортил весь эффект моей интермедии.
— Интермедии? — переспросил Дракончег. — А, понимаю… Слушай, а почему ты в таком виде вообще? Где трусики-чулочки?
— Да всё на своих, природой предназначенных местах, — заверила Алёна. — А интермедия заключалась в том, что я намеревалась тебя, видишь ли, заставить исполнять мои самые извращенные желания под дулом пистолета. Но не удалось.
— Кто тебе сказал? — хмыкнул Дракончег. — Я на все готов!
И он это немедленно принялся доказывать.
Далекое прошлое
Когда в 1824 году шестнадцатилетняя Аврора начала появляться на балах в Гельсингфорсе, люди при взгляде на нее напрочь теряли головы, глаза их слепли, словно смотрели на солнце, хотя имя ее — Аврора — значило не Солнце, а Заря. Впрочем, господа трезвомыслящие, едва уняв головокружение, наступившее от ее баснословного очарования, вздыхали с сожалением:
— В ней так много говорит душе, но ничего — карману!
В самом деле, красавицу никак нельзя было отнести к числу богатых невест. На счастье, трезвомыслящих людей в те поры в Гельсингфорсе оказалось удивительно мало, а потому вокруг Авроры закружился целый хоровод молодых красавцев, преимущественно офицеров, потому что Финляндия лишь недавно вошла в состав Российской империи и «право сеньора» требовалось непрестанно укреплять с помощью военной силы. Среди господ офицеров был поэт Евгений Боратынский, который выразил свое восхищение красотой Авроры де Шернваль в стихах:
Выдь, дохни нам упоеньем, Соименница зари; Всех румяным появленьем Оживи и озари! Пылкий юноша не сводит Взоров с милой и порой Мыслит, с тихою тоской: «Для кого она выводит Солнце счастья за собой?»У Боратынского был приятель по имени Александр Муханов — щеголь, красавец, взгляд которого искрился бесовским синим пламенем. И черные, роскошные очи Авроры зажглись ответным сиянием.
Муханов записал в свой дневник косноязычный отзыв о красоте избранницы: «Она хороша, как бог!», немедленно позабыл всех своих многочисленных любовниц (он был не только бретер, игрок, фат, щеголь, но и неутомимый волокита) в Петербурге, в Москве, в Гельсингфорсе, в Выборге, в Риге, в Вильно, в Христиании, в Тарту и так далее и тому подобное — и посватался к Авроре. Но едва получив ее согласие и собравшись за благословением к маменьке и отчиму Авроры, Муханов внезапно спохватился. Да что ж он делает, несчастный?! Сам без гроша в кармане (убогое Успенское, однодворное именьице), и невесту за себя берет такую же?! Одумайся, пока не поздно, Муханов! Что? Слово дал?.. Слово, оно конечно… но разве не написал его мудрый друг Боратынский:
Не властны мы в самих себе И, в молодые наши леты, Даем поспешные обеты, Смешные, может быть, всевидящей судьбе.Вот и Муханов оказался в себе не властен, вот и он дал поспешные обеты, над которыми сейчас, конечно, хохочет всевидящая судьба. И, чтобы не слышать этого хохота, он немедленно объявил себя чахоточным больным, просто-таки умирающим, а потом пустил в ход все свои связи, которые помогли бы ему перевестись из «гибельной финляндской сырости» в Петербург.
Ну да, там ведь сушь каракумская!
Мезенск, 1942 год
Лиза шла по обочине, воровато озираясь. Туда-сюда проезжали автомобили и грузовики, однако никто не обращал на нее внимания. Вот и замечательно!
Дорога оказалась удивительно хорошая, Лиза только диву давалась. Даже в Подмосковье она не помнила ничего подобного, а уж в Горьком-то… Это ведь не асфальт, не булыжник — это толстенные плиты, вроде бы бетонные. По такой дороге только на танках мчаться — аж до самой Москвы…
И они ведь домчались! Боже, спаси Россию!
Вдруг очередной автомобиль, обогнавший ее, не просто посигналил, но и притормозил у обочины. Задняя дверца распахнулась.
Ах ты черт, сглазила ведь, а?!
Лиза замерла. Чего от нее захотят? Спросить дорогу? Куда? А не все ли равно куда, если она ее и сама не знает! И что же она будет отвечать, если ее спросят?!
— Неужели это вы?
Из автомобиля выскочил высокий офицер в сером армейском мундире и с видом искреннего восторга уставился на Лизу:
— Фрейлейн! Неужели это вы?!
Вернер! Черт его принес, ну откуда он только взялся?! Вот же привязался, а? Просто спасенья от него нет.
— А я вас искал на берегу. Там кошмар… — Его оживленное лицо на миг помрачнело. — Фон Шубенбах лишился сознания, когда увидел двух растерзанных пулями женщин. Впрочем, его собственная рана оказалась не опасна. Его отправили в госпиталь, он просил передать вам свою искреннюю благодарность за спасение его жизни.
— Да? — пробормотала Лиза, не зная, что говорить, что делать, а главное, как избавиться от этого докучливого фашиста.
— Что, не верите? — вскинул брови Вернер. — И правильно делаете. Шубенбах ничего не просил вам передать, но не потому, что он такое бревно, а потому, что он был без сознания от потери крови и от потрясения. А ведь он фронтовик. Все-таки наблюдать гибель солдат, это одно, а такое…
Он сокрушенно покачал головой, но тут же радостно улыбнулся:
— Не представляете, как я счастлив видеть вас живой, не раненой… правда, ваш купальный костюм шел вам куда больше, чем это мрачное платье. — Он довольно бесцеремонно рассматривал Лизу. — Извините, я иногда бываю бестактен. Хотите знать почему? Впрочем, я расскажу вам об этом потом, по пути в город. Вы позволите вас подвезти?
«А не провалиться ли тебе туда, откуда ты взялся?» — мрачно подумала Лиза. Интересно, что будет, если она откажется прокатиться с этим обер-лейтенантом в его сером автомобиле? Кажется, это «Опель»: до войны несколько таких авто роскошно разъезжали на Горькому, затмевая даже «Эмки», которые считались самыми лучшими, только для начальства… Довольно роскошная машина для самого обыкновенного обер-лейтенанта. Вроде бы именно так — обер-лейтенантом — называл Вернера фон Шубенбах. Ага, значит, такое расположение на погонах позолоченных пуговиц с выдавленными на них римскими и арабскими цифрами означает, что человек находится в чине обер-лейтенанта. Лизе этого вовек не запомнить, не стоит и пытаться, она и советских-то воинских званий отродясь не различала, вот еще голову фашистскими забивать не хватало! Кстати, а почему просветы на погонах и в петлицах светло-красные? Лиза раньше думала, что у всех фашистов знаки отличия черные. А что означает светло-красный цвет?
Ой, о чем она только думает? Да вовек бы этого не знать, этих фашистских различий!
— Ну так что, фрейлейн, позволите мне вас подвезти? — Голос Вернера вырвал Лизу из совершенно неуместной задумчивости.
Она неуверенно улыбнулась. Вот ведь пристал, а?
— Садитесь, садитесь! — настаивал Вернер. — Мы в два счета будем в городе. Кроме того, у нас, как всегда… как это говорят русские? Начинают махать руками после того, как бой окончен? Ну, какая есть на эту тему русская пословица, напомните, пожалуйста?
— После драки кулаками не машут, — сказала Лиза.
— Совершенно верно, — обрадовался Вернер и повторил эту фразу по-русски, причем вполне чисто: — После драки кулаками не машут! А у нас только так и делают. И сейчас, можете не сомневаться, в городе происходит именно это. Удвоены и даже утроены патрули на улицах, идет усиленная проверка документов. На каждом углу стоят местные полицейские, или, как их тут называют, полицаи. — Это слово он тоже произнес как бы по-русски. — Хватают для тотальной проверки всех подряд, прежде всего пешеходов, хотя это полная чушь: ведь тот мерзавец, расстреливавший нас с самолета, отнюдь не пешком ходил, и вообще, он уже давно улетел, мы все — жертвы его нападения, и военные, и цивильная публика. Однако разум частенько отказывает в таких ситуациях, и страдают в первую очередь те, у кого не в порядке документы…
Лиза, доселе слушавшая его вполуха, растерянно хлопнула глазами. Он говорил с каким-то явным намеком, этот Вернер. Документы? А у нее вообще есть документы? В смысле, они были у той, погибшей женщины? У самой Лизы давным-давно не было никаких документов, она даже и забыла, как Баскаков рассказывал: в городе фашисты их чуть ли не на каждом шагу проверяют. Может быть, та желтоватая книжечка, которая лежит в суконном конверте, и есть документ? Ужасно захотелось на нее посмотреть. Вроде бы новые паспорта называются аусвайсы, вот как! А вдруг эта книжечка — не аусвайс? И там фотография есть или нет? Если есть, это, конечно, не ее фотография. Значит, доставать аусвайс нельзя. Вернер непременно это заметит. Черт, какая она дура! Почему не заглянула во все эти бумаги на берегу? Страх, паника, конечно, все понятно, но это теперь может обернуться гибелью. А если Вернер спросит, как ее фамилия?! Имя-то она знает благодаря записке Эриха Краузе, но как фамилия той Лизочки?
Что делать?
Остается только опередить Вернера. Наступление — лучший способ обороны, кто это сказал? Кто-то из военных. Вроде бы Лиза где-то читала, что авторство приписывается не то нашему генералу Брусилову, не то английскому маршалу Фошу. Наверное, эта мысль рождалась у каждого, кто попадал в безвыходное положение. И если бы даже эта фраза не была произнесена раньше, Лиза непременно высказала бы ее сейчас. То есть не вслух, понятное дело, а осуществила бы, так сказать, действием.
— Мне что, ауйсвайс вам предъявить, что ли? — сказала она с обиженным видом и положила руку на замочек саквояжа.
— А зачем? — усмехнулся Вернер. — Я и так знаю… — Он подтолкнул ее к автомобилю.
Лиза пошла, как во сне, не чувствуя ног… это расхожее выражение вдруг прочувствовалось ею как нельзя лучше. Она села, вернее, плюхнулась на неудобное кожаное сиденье.
— Я и так знаю, что ваши документы окажутся в полном порядке.
Вернер захлопнул дверцу, обошел автомобиль и сел за руль. «Опель» тронулся.
— Это почему же? — спросила Лиза и откашлялась: голос звучал так хрипло, как будто кто-то невидимый давил ей на горло.
— Да ведь я прекрасно понимаю: кто попало с какими попало документами просто не оказался бы на берегу в компании германских офицеров, — усмехнулся он. — К тому же вы о своих бумагах совершенно не беспокоитесь. Они ведь у вас в саквояже лежат, не правда ли? Вернее, валяются как попало. Именно так заведено у хорошеньких беспечных девушек, которые уверены, что даже во время войны с ними ничего не случится плохого! Я как-то раз случайно стал свидетелем одной серьезной проверки документов. Остановили двух селянок, которые привезли продукты на базар. У каждой девушки под кофточками были нарочно пришитые кармашки для аусвайса и мельдкарты. Документы у них были обернуты в бумажку, завязаны в чистые тряпочки и спрятаны так, что даже при самом смелом обыске не отыщешь!
Вернер хохотнул, оглянулся на Лизу, и та поняла, что надо если не поддержать веселье, то хотя бы изобразить, что поддерживаешь. Она представила, что к уголкам губ пришиты две такие специальные веревочки, и потянула за них.
Губы раздвинулись в улыбке.
«Мельдкарта, мельдкарта… А это еще что за чертовщина?! — всполошенно подумала Лиза. — Она у меня есть, интересно знать? Наверняка есть. В смысле, не у меня, а у Лизочки она наверняка должна была быть!»
— Правда, история в конце концов кончилась не слишком весело, — со вздохом продолжил Вернер. — Документы у девушек оказались фальшивые, к тому же сработанные весьма топорно. Фотографии явно переклеены с других документов, причем выглядели куда старше, чем аусвайс. Да и печати… Они были нарисованы очень убого, поддельные буквы на снимках отличались от действительных на странице аусвайса и выглядели кривыми, словно от влаги расползлись. Ну, конечно, девушки оказались партизанками, которые пробирались в город. Удивляюсь я этим русским: сами же навлекают на своих людей опасность провала, ну разве можно так безответственно подходить к столь тонкому, деликатному делу, можно сказать, искусству, как l’espionnage!
Лиза слушала его, стиснув ручку саквояжа.
Ее так и трясло. Девчонки… бедные девчонки! Что же с ними теперь? Убили, конечно. Ужас какой!
И ее наверняка ждал бы такой же ужас, если бы она поддалась на уговоры тех людей, которые приходили сначала просить, потом требовать, потом угрожать… тех людей, от которых она бежала!
— Честно говоря, — задумчиво протянул обер-лейтенант, — я поторопился отказаться взглянуть на ваши документы.
У Лизы перехватило дыхание.
— Мне ужасно хочется посмотреть на них — просто для того, чтобы узнать, как вас зовут! — смущенно усмехнулся Вернер.
«Да чтоб ты… чтоб ты пропал, фашист проклятый! Чтоб ты провалился со своими кретинскими шуточками!»
— Для этого не обязательно смотреть мой аусвайс, — снова потянула она за веревочки, пришитые к уголочкам губ. — Я и так могу вам сказать, что меня зовут Лиза.
Свою новую неведомую фамилию она решила пока придержать. Может, и не пригодится.
— А меня — Алекзандер, можно просто — Алекс! — Оторвавшись от руля, обер-лейтенант протянул ей руку. — Обер-лейтенант Алекс Вернер. Очень рад знакомству, прекрасная дама!
Пришлось поручкаться с ним, а что делать?!
Алекс Вернер на миг задержал пальцы Лизы в ладони и с явным сожалением вернулся к рулю.
— У вас очень красивые руки, — сказал он с восхищением. — Я неравнодушен к таким пальцам, как ваши: длинным, музыкальным, суживающимся к концам. Ах, как вашим чудесным ногтям нужен роскошный маникюр! Понимаю, в России этой сейчас непросто. Вообще в наше время так немногие женщины по-настоящему тщательно следят за собой! Вы знаете, меня поразила в парижанках вовсе не их красота — на самом деле они не столь уж и красивы, русские женщины гораздо лучше, на мой взгляд, — но их ухоженность. Парижанки — совершенно особенные женщины. Не секрет, что сейчас выпускается очень мало чулок. Шелк, шерсть, хлопок — это стратегические материалы… Здесь женщины непременно носят чулки, точнее, прячут свои ноги в эти кошмарные хлопчатобумажные мешки, которые у вас называются чулками. Хорошо, что вы не следуете их жуткому примеру. В Европе чулки теперь не носят от холодов до холодов. Иногда их имитируют на коже с помощью специальной краски для ног и карандаша для бровей, которым рисуют сзади «шов». Вообще очень распространена манера носить летнюю обувь на босу ногу, без чулок и носков. Так вот — парижанки умудрились недостаток сделать достоинством! В Париже теперь в большой моде педикюр, причем ногти покрывают очень ярким лаком. Лак можно купить в любой аптеке. Эта мода действует на мужчин просто сногсшибательно! Кстати, должен сказать, что ваш купальный костюм тоже произвел на меня потрясающее впечатление, — вдруг изменил он тему. — Это ведь отнюдь не русское производство, верно? А то, что я наблюдал здесь на женщинах, это их так называемое белье… Liber Gott! Мой старинный приятель Эрих Краузе завел себе тут подругу — из русских, сами понимаете, — и я по его просьбе привозил ей презент из Парижа. Отличное шелковое трикотажное белье фирмы «Le Flamant», которое так и обливает тело, и чулки из настоящего fil de Perse. Надеюсь, девушка была счастлива, как вы думаете, Лиза?
Лизе почудилось, что отличное шелковое трикотажное белье фирмы «Le Flamant» обливает ее тело, словно раскаленный металл.
Она тупо кивнула. Девушка была счастлива… Знал Алекс Вернер подругу Эриха Краузе в лицо? Видел ее когда-нибудь? Не потому ли он обратил внимание на платье Лизы, что уже видел другую девушку, другую Лизу, одетую в это же самое платье? Тогда получается, что он играет с ней, как кошка с мышкой. И эти разговоры о фальшивых документах… Не намек ли это на то, что Вернер отлично знает: аусвайс и эта, как ее, мельдкарта в саквояже принадлежат не Лизе, то есть Лизы, но другой! Вот ситуация, ужас. Хоть топись!
Как себя вести? Изображать неведение, непонимание, наивность? Или попытаться объяснить ситуацию? Да черта с два ее объяснишь! Что за игру ведет этот фашист? Совершенно непонятно!
— Вы, наверное, не можете понять, о чем я? — послышался в эту минуту голос «этого фашиста». — Наверное, мой интерес к тряпкам кажется вам чем-то диким? Этому есть объяснение, но это долгий разговор. Сейчас заводить его не время, мы в городе, меня ждут дела, да и вы спешите, наверное. Куда вас отвезти, скажите адрес?
Лиза невидяще посмотрела по сторонам и не сразу осознала, что придорожный ландшафт как-то незаметно сменился на городские улицы, довольно, впрочем, убогие, с деревенскими какими-то домами, стоявшими или в глубине садов, или за маленькими палисадниками. Проезжая часть была заасфальтирована, кое-где замощена, однако вместо тротуаров лежали деревянные мостки или просто плотно убитая земля. Так вот он какой, Мезенск…
Вернер спрашивает, куда ее отвезти. Но она представления не имеет, где живет, то есть жила, Лизочка Петропавловская. В любом случае этому странному и пугающему типу не нужно этого знать. Нужно от него отделаться, но как? Ага, вспомнила!
— Мне нужно на Полевую, сорок два.
— Вы там живете?
— Нет. Просто там ломбард. Мне нужно…
— Ломбард? — изумленно повторил Вернер. — Неужели ваша жизнь так нелегка, что вы закладываете вещи в ломбарде? Кстати, где вы работаете? Могу я взглянуть на вашу мельдкарту?
Лиза стиснула зубы. Опять началось! Черт его подери!
Она щелкнула замочками саквояжа, сунула руку внутрь и, расстегнув на ощупь суконную сумочку, покопалась в ней. Так… шершавый листок — это квитанция из ломбарда, тетрадка, рядом сложенный вдвое листок из более плотной бумаги и еще что-то вроде тонкой картонки. Делать нечего, придется рискнуть.
Лиза вытащила картонку.
Вернер покосился на нее, не выпуская руля:
— Елизавета Пет-ро-пав-лов-ска-йа… Liber Gott, русские фамилии созданы на погибель цивилизованному миру! Петропав… нет, я не смогу повторить, не смогу ни за что и никогда! — Он захохотал, а Лиза вздохнула чуточку свободнее. Кажется, Вернер не знал фамилии той, другой Лизы, приятельницы Эриха Краузе. Иначе немедленно бы прицепился. А так он просто хохочет. Слава богу, хоть в чем-то повезло.
Впрочем, Вернер тотчас оборвал смех:
— Где, где вы работаете? В ресторане «Rosige rosa»?!
Интересно, чему он так удивился? «Rosige rosa» в переводе с немецкого — «Розовая роза». Немножко слишком сладко, но вполне подходящее название для ресторана.
— Неплохое местечко «Rosige rosa», — задумчиво сказал Алекс Вернер. — Прекрасная кухня и обслуживание, особенно обслуживание… Я там бывал несколько раз, но ни разу вас не видел среди официанток.
— Я… только недавно туда устроилась, — пробормотала Лиза. — Поэтому вы меня и не видели.
— Понятно, — кивнул Вернер. — Если точнее, судя по документам, вы там будете работать с завтрашнего дня. То есть с завтрашнего вечера, ведь ресторан днем закрыт. Ну что ж, теперь у меня появился повод захаживать туда гораздо чаще, благо в «Rosige rosa» самая приятная атмосфера. Кстати, говорят, ваша начальница, фрау Эмма, — наполовину русская, из какой-то весьма значительной семьи. То есть семья эта до революции была значительной, а после подверглась репрессиям. Фрау Эмма невероятно благодарна оккупационным войскам, встречала их хлебом-солью, а теперь вот взялась за такое трудное дело, как устроить приятный досуг господам офицерам. — В голосе его послышались странные интонации. — Но после того как вы станете работать у фрау Эммы, вам вряд ли придется прибегать к услугам ломбарда. Я слышал, что любая девушка из «Rosige rosa» может очень недурно заработать, если, конечно, умно себя ведет. Вы как относитесь… к умному поведению?
Вернер покосился на Лизу с прежним насмешливым выражением.
— А что это, по-вашему, — вести себя умно? — спросила она настороженно.
— Это значит, что девушка заводит себе покровителя, который заботится о ней. Женщины вообще нуждаются в защите, а во время войны — гораздо больше, чем в мирное время.
Лиза вспомнила свою былую жизнь. Ее никто не защищал, кроме мамы, а после ее смерти количество защитников свелось до нуля. А когда началась война… защитницей хотели сделать ее! Защитницей родины. Жалкую женщину — защитницей огромной страны! Как будто мужчин мало.
Разумеется, ничего этого Алексу Вернеру говорить не стоило, Лиза это отлично понимала. Впрочем, Вернер и не ждал ее мнения, а продолжал говорить:
— А у вас уже есть постоянный друг или вы надеетесь найти его в «Rosige rosa»? Я слышал, там порядки хоть и строгие, но не драконовские, даже человечные. Фрау Эмма поощряет прочные связи своих, с позволения сказать, девушек с германскими офицерами, и если в зале появляется постоянный друг красавицы, она может провести с ним весь вечер, даже если уже приняла заказ от другого посетителя. Ему будет предложено сделать другой выбор или прийти в другое время, когда девушка освободится.
Лиза сидела окаменев, неподвижно глядя перед собой. Под ветровым стеклом лежали тонкие кожаные мужские перчатки. Наверное, это были перчатки Вернера.
Боже ты мой, чем дальше в лес, тем больше дров…
— Вы молчите? — послышался надоевший голос Вернера. — Молчание у русских — знак согласия? У вас нет приятеля?
Лиза с мученическим выражением посмотрела в окно — и вдруг увидела, что они спокойнехонько проезжают мимо дома, на котором висит табличка: «Полевая ул., 42», а рядом вывеска с надписью на двух языках: «Pfandleihhaus. Ломбардъ».
Первым шло слово по-немецки, а потом по-русски, причем с Ъ — ером на конце. При этой букве Лизе почему-то стало тошно, хотя раньше, когда ей приходилось читать книги в старой орфографии, всякие там яти, еры, ижицы и фиты ее, скорей, умиляли, чем раздражали.
Но это в книгах. А на самом деле… Твердый знак на этой вывеске значил неизмеримо больше. Хозяин ломбарда явно был из тех, кто старой орфографией приветствовал пресловутый новый порядок, neu ordnung!
Ладно, черт с ним, с хозяином, Лизе нет до него никакого дела, главное, что они наконец-то добрались до ломбарда и можно избавиться от Вернера. Надо надеяться, что он не потащится за Лизой в это унылое заведение.
— Мы приехали, господин обер-лейтенант! — радостно воскликнула она и схватилась за ручку дверцы, хотя автомобиль еще не остановился. — То есть мы даже проехали!
Вернер с явной неохотой сдал назад.
— Спасибо, герр обер-лейтенант, — отчеканила Лиза так лихо, как будто всю жизнь только и делала, что обращалась к германскому офицерскому составу. — Я вам очень, очень признательна, а теперь до свидания, мне так неловко, что я вас задержала… Огромное, ну вот очень большое спасибо!
И она выскочила из автомобиля с невероятным проворством, однако, обежав «Опель», снова наткнулась на Вернера, который оказался еще проворней и успел не только выбраться из автомобиля, но даже стоял на ступеньках ломбарда.
— Момент, — сказал он, — один момент, фрейлейн Лиза. Я, конечно, спешу, но не настолько, чтобы бросить в трудной ситуации красивую женщину. Я слышал, что каждый Wucherer, ростовщик, непременно Räuber — грабитель. Поэтому позвольте, я возьму на себя переговоры с этим чудовищем. Прошу вашу квитанцию.
У Лизы пересохло в горле. Честное слово, ей мало кого приходилось в жизни так ненавидеть, как этого типа! Да он ведь издевался над ней каждым своим словом, каждым взглядом своих насмешливых серых глаз, определенно издевался! И не поспоришь с ним. Придется отдать ему квитанцию. Но как же исполнить просьбу Лизочки? Удастся ли улучить минутку и сообщить о ее смерти?
Ладно, сориентируемся на месте. Сейчас нужно квитанцию Вернеру отдать.
Лиза запустила руку в саквояж, нашарила суконный конверт и выудила оттуда шершавый листок. «Еще бы знать, что я вообще сдавала, — подумала она мрачно, — в смысле, не я, а Лизочка. Сейчас спросит, а я что отвечу?!»
Вернер с изумлением разглядывал квитанцию.
— Ну и почерк, Mein Liber Gott! — проворчал он. — Истинное несчастье, а не почерк! Да еще и по-русски! Неужели вы тут что-то понимаете?
Вот он сейчас как спросит, что сдавала Лиза в ломбард…
— Главное, чтобы свой почерк понимала приемщица ломбарда, — довольно нахально ответила Лиза и толкнула дверь, не дожидаясь, пока это сделает Вернер.
Ему ничего не оставалось, как оставить расспросы и пойти за ней.
Нижний Новгород, наши дни
Алёна потянула на себя дверь и озадачилась — та не открывалась. Она пригляделась — не поставили ли какой-то новый особый замок, — но нет, эта общая дверь как была раньше без замка, так и оставалась. Замок с радиотелефоном был на двери, которая вела собственно в редакцию газеты «Карьерист». Но до нее еще предстояло дойти.
— Да что такое? — удивилась Алёна, посильнее дергая дверь, как вдруг она пошла в противоположном направлении, словно кто-то резко потянул ее на себя, и Алёну буквально втащило в коридор вслед за дверью, которую и впрямь сильно потянул на себя крепкий седой человек среднего роста с загорелым морщинистым лицом, которое почему-то невольно наводило на мысль об Альпах, горных лыжах, дорогих отелях, кругленьком счете в банке и разной прочей иностранщине. Вот именно — во всем облике человека, который таким примечательным образом помог нашей героине войти, было что-то безумно иностранное. А впрочем, не что-то, а все, начиная от твидового пиджака с кожаными заплатами на локтях и заканчивая голливудской, разумеется искусственной, но все же ослепительной улыбкой. Буржуй, короче, типичный! Однако прежде всего Алёну поразила его сила. Барышня она была, мягко говоря, не хрупкая: рост 172 сантиметра, вес 65 килограммов, — однако вот так запросто… при том что господин буржуй был, несмотря на внешний глянец, весьма преклонных лет. Его выдавали выцветше-серые глаза. В них не отражалась улыбка, в которой он весьма охотно сушил свои замечательные зубы. В этих глазах вообще сквозило полнейшее равнодушие к жизни, которую он наблюдал слишком, слишком долго… лет этак 85 — и это самое малое!
— Ой, батюшки, — сказала Алёна, несколько растерявшись. — Извините. Я забыла, что дверь открывается вовнутрь, и почему-то пыталась открыть ее наружу.
— Извините и вы меня, что я не позволил ей выполнить ваше пожелание, — до невероятности галантно сказал буржуй по-русски, но весьма иноземным голосом. — Это непростительная оплошность с моей стороны!
— Как здорово вы говорите по-русски! — восхитилась Алёна.
Вроде бы буржуй должен был обрадоваться этому весьма искреннему комплименту, но он почему-то огорчился:
— А что, мое иностранное происхождение так заметно?
— Честно говоря, оно так и бьет по глазам! — засмеялась Алёна. — А почему это вас огорчает? Вы, может быть, шпион, который решил слиться с массой русского народа и устроить тут какую-нибудь идеологическую диверсию?
Черт знает что она порола. Черт знает что было в этом старике, что заставляло ее чувствовать себя совершенно свободно, раскованно и даже, так сказать, шаловливо. Может быть, вся штука заключалась в том, что единственным чувством, которое все же отражалось в его глазах, было искреннее восхищение персоной нашей героини?
— Нет, я не шпион, — усмехнулся буржуй. — Честное слово. Я прибыл в ваш город из Дрездена по частному делу, которое меня очень интересует. А говорю я по-русски так хорошо потому, что некогда учил русский. Конечно, это было давно, однако в моей жизни случились некоторые обстоятельства… была одна женщина, в память о которой я не позволял себе забыть этот язык.
— Вы были в нее влюблены? — спросила Алёна и тут же устыдилась собственной наглости.
— Я до сих пор в нее влюблен, хотя ее уже почти семьдесят лет как нет на свете, — последовал поистине ошеломляющий ответ.
— Господи Иисусе! — воскликнула Алёна. — Простите, но вам…
Да, ей удалось вовремя остановиться, не ляпнуть вопиющую бестактность. Наверное, не только у женщин не стоит спрашивать о возрасте, но и у таких глубоких, глубочайших, замшелых, можно сказать, мафусаилов, как этот. Ему наверняка за 90 уже, он просто выглядит моложе. Да уж, его никак не назовешь замшелым!
— Сказать, что я очень стар, — значит ничего не сказать, — усмехнулся удивительный буржуй. — А между тем я еще не впал в маразм, люблю путешествия и неравнодушен к женской красоте. И мне хочется сказать вам, что вы чем-то напомнили мне ту женщину. Хотя она была несколько младше, когда погибла… ей было двадцать пять или двадцать шесть лет, а вам… вам ведь, прошу меня извинить, несколько за тридцать?
Нашей героине было куда-а больше, однако она не могла не оценить изящество комплимента и улыбнулась.
— Да, — проговорил старик, испытующе глядя на нее. — Когда я встречаю красавиц разных лет, которые напоминают мне ее, я всегда представляю, какой она стала бы с течением времени, не погибни тем июньским днем, когда подписала мне на память свое фото. Представляю, как она выглядела бы в тридцать, сорок, пятьдесят… в восемьдесят или в девяносто лет… хотя, от души надеюсь, она упокоилась бы гораздо раньше.
— Надеетесь? — изумилась Алёна. — Вы не хотели бы, чтобы она жила долго?!
— Я бы не хотел, чтобы она жила чрезмерно долго. Женщины не должны себе этого позволять. Они… как бы это сказать… — Он прищелкнул сухими, словно бы пергаментом обтянутыми пальцами — с отличным, впрочем, маникюром. — Они изменяются слишком уж безвозвратно!
— Ага, — усмехнулась Алёна и обиженно, и в то же время с той поразительной свободой, которую она ощущала в присутствии этого человека. — Долгожительство — привилегия мужчин! Понимаю. Где-нибудь в Америке вас непременно привлекли бы за сексизм или за что-нибудь еще в этом же роде!
— Например? — вскинул он седые брови.
— Ну… — туманно сказала Алёна. — За что-нибудь. Американцы уж нашли бы за что! А вообще я что хочу сказать? Что современная косметология дает женщинам возможность выглядеть очень классно и очень долго!
— Дело не в количестве морщин, вы меня неправильно поняли, — сказал буржуй-сексист, пожав плечами. — Дело в том, что женщины становятся избыточно мудрыми в преклонных летах. Они не способны ничему удивляться, и с ними бывает невероятно скучно.
— Конечно, — ядовито хмыкнула Алёна, — а со старикаш… я хотела сказать, с мужчинами в летах, конечно, жутко весело!
— Жутко не жутко, но весело, — сообщил буржуй, которого скромным нельзя было назвать даже под пыткой. — Вот вам со мной разве не весело? Ну вот положа руку на сердце — признайтесь!
Алёна положила руку на левую сторону груди, где у людей, как правило, расположено сердце (оговорка необходима, поскольку ей приходилось общаться с особями, у которых данный орган отсутствовал просто по определению), и призналась:
— Весело!
— Ага! — обрадовался старикан. — А все почему? Потому что я вами восхищен и не скрываю этого! Засим прощайте, прекрасная дама. Не смею вас более задерживать!
И он галантно посторонился, пропуская Алёну в коридор.
— Спасибо! — от души сказала наша героиня. — Будьте здоровы!
Ей почему-то захотелось пожелать ему непременно встретиться на небесах с той, которую он любил, но это было бы… это было бы как-то уж чересчур! Поэтому она просто улыбнулась старику на прощанье и пошла к двери редакции.
У Алёны Дмитриевой тут было дело. Газета «Карьерист» вовсе не являлась органом эгоцентристов и дельцов в одном лице, как можно было бы подумать по названию. Это была деловая, но живая, веселая газета, в которой много писали о хороших книгах — о книгах, между прочим, нашей героини писали тоже, так что не удивительно, что эту газету наша героиня любила, а с редактрисой ее, которую звали Марина, даже могла бы подружиться, не будь они обе так сильно заняты своими делами. Впрочем, дружить с женщинами у Алёны как-то не слишком получалось, так уж сложилось исторически! Марина уже целый год собирала со всей интеллигенции Нижнего, которую частенько удостаивала своим вниманием, книги для сельских библиотек. Алёна приволокла в «Карьерист» гору своих книг, за что даже почетную грамоту получила от газеты, поскольку, как это ни странно, ее книжки были любимы если не всем народом, то хотя бы некоторой его частью. Марина собиралась отвозить по библиотекам очередную порцию интеллектуального чтива, однако ей вдруг взбрело, чтобы писательница Дмитриева свои книжки подписала для благодарных читателей. Якобы это ее гражданский долг, во как! И писательница Дмитриева, которая своими благодарными читателями очень дорожила, явилась, как пионерка, по первому зову!
Алёна вошла в редакцию «Карьериста» — и немедленно насторожилась. В этом приятном помещении, где всегда пахло хорошим кофе, типографской краской и газетной бумагой (вот это совершенно непонятно почему, ведь газету печатали в типографии, а здесь ее только придумывали, набирали на компьютерах и верстали на них же!), сейчас отчетливо пахло бедой. То есть кофе там тоже пахло, но его аромат перебивался духом тревоги и озабоченности.
У красавицы-брюнетки Марины было потемневшее, осунувшееся лицо, и Алёна, само собой, чуть поздоровавшись, спросила, что случилось. Оказалось, в самом деле случилось весьма неприятное событие: пропали две редакционные сотрудницы, корреспондент и фотограф. Пропали они еще вчера утром, уехав вместе по заданию. Отправились они на редакционной машине, однако машина, не сделав и километра, сломалась и кое-как вернулась в редакцию, а девушки отправились дальше, в центр Сормова, на общественном транспорте. И сгинули!
Мезенск, 1942 год
Неизвестно, что ожидала Лиза увидеть в этом ломбарде — да ничего не ожидала, потому что в мирной жизни своей она не была столь уж частой посетительницей ломбардов, а если прямо сказать, явилась туда впервые, — но насчет приемщицы она дала маху. Никакой приемщицы в этой тесной комнатушке, где стояли две табуретки для посетителей, а угол был отгорожен не слишком уклюжим прилавком, и в помине не было. Вместо нее за прилавком сидел просто-таки иконописный старикан: серебряно-седые, в скобку постриженные волосы, столь гладко обливавшие голову, что напоминали шлем, постное — даже губы поджаты от постности! — выражение морщинистого лица, украшенного небольшой и очень аккуратной бородой. Имели место быть также и усы, которые несколько искажали картину общего благообразия, потому что обладали характерным желтоватым оттенком, свидетельствовавшим о том, что старый постник курил, а значит, был сущим ханжой и фарисеем, коли придавался дьявольскому пороку при столь святейшем облике. Черная косоворотка в белый горошек из вылинявшего сатина чем-то напомнила Лизе ее платье, и она непременно дала бы себе клятву никогда его больше не надевать, когда бы имела чем заменить…
— Черт меня побери! — изумленно сказал Алекс Вернер. — А старикашка здорово выпадает из образа! Здесь должен бы стоять какой-нибудь жид в пейсах и ермолке, этакий типичный Шейлок с отчетливо читаемой во взоре жаждой вырезать у каждого истинного арийца изрядный кусок живого мяса. А я наблюдаю истинное русское благообразие!
По мнению Лизы, старикашка с этим своим тошнотворным благообразием очень сильно напоминал Луку из пьесы Горького «На дне», но углубляться в литературные аллюзии она не стала.
— А впрочем, — проговорил Вернер, склоняя голову то к одному плечу, то к другому и меряя ростовщика таким взглядом, словно мерку с него снимал, — откуда же тут взяться колоритному Шейлоку? Всех местных евреев еще полгода назад отправили в гетто, так что придется довольствоваться тем, что есть, вернее, тем, кто есть. По-слу-шай-те, милей-ший, — перешел он на неуверенный, но вполне вразумительный, хотя и несколько замшелый русский, — не откажите взглянуть вот на эту кви… кви… quittung!
Тут он сбился, чертыхнулся, пожал плечами, но старик пришел на помощь:
— Я говорю по-немецки. Позвольте вашу квитанцию, герр обер-лейтенант.
— В самом деле говорите — и очень недурно! — обрадовался Вернер. — Прошу, взгляните. Впрочем, квитанция не моя, а вот этой прелестной фрейлейн, но я ее добрый знакомый, а потому счел нужным лично сопроводить даму.
— Понимаю, — сказал старик, переводя бледно-голубые, словно бы выгоревшие глаза на Лизу. — Вы желаете забрать свою вещь?
Она стояла столбом.
Что делать? Что сказать? Исполнить просьбу умирающей невозможно — при Вернере-то! Хороша же она будет, передавая привет от погибшей! Ладно еще, вовремя выяснилось, что Вернер недурно понимает и говорит по-русски. Вот гад, и где только наловчился?
А если старик-приемщик помнит Елизавету Петропавловскую? И сейчас спохватится — да как заорет: «Да ведь это не ваша квитанция! Вы ее украли!»
Если старик даже и собирался сделать что-то в этом роде, он не успел.
— Вот именно! — вмешался Вернер. — Фрейлейн желает забрать свою вещь. Назовите сумму, я уплачу.
Лиза дернулась было возмущенно: «Нет, нет, что вы!» — но Алекс Вернер и бровью не повел, доставая из кармана обширный бумажник.
— Сколько? Сто марок? Двести? Пятьсот? — спросил он с самой беззаботной улыбкой.
— Нет, это слишком много, герр обер-лейтенант, — наиприветливейшим образом улыбнулся старикашка. — Залог выплачен почти полностью. Остался последний взнос — всего-навсего двадцать пять марок. И милая барышня сможет забрать свой медальон.
— Всего двадцать пять марок? — явно разочарованно повторил Вернер. — Ну вот, а мне так хотелось тряхнуть кошельком и выступить в роли поистине щедрого рыцаря sans crainte et reproche![7]
Лиза молча смотрела на старика. Если залог выплачен почти весь, значит, настоящая Лиза Петропавловская бывала здесь не единожды. И старикан не мог ее не запомнить. Однако в его бледных глазах не видно никакого сомнения. А может быть, он еще не сообразил, что происходит? Или раньше тут был другой приемщик, а старик просто не знает Лизу?
Скорей всего, так и есть! Вот повезло, ну просто невероятно повезло!
Старик принял от Вернера деньги, тщательно пересчитал и сел за маленький и неудобный письменный стол, покрытый кухонной клеенкой с давно выцветшим и неразличимым узором. На клеенке лежали гроссбухи и стоял очень красивый, можно сказать, даже роскошный чернильный прибор каслинского литья, находившийся в вопиющем противоречии с убогой обстановкой ломбарда. «Наверное, кто-то сдал, а выкупить не смог», — подумала Лиза и почувствовала неприязнь к этому «скупому рыцарю». Наживается на чужих несчастьях! Кому война, а кому мать родная, кажется, так говорится?
— На чье имя прикажете выписывать квитанцию о приеме денег? — спросил старик, переводя взгляд с Вернера на Лизу и беря плексигласовую ручку с вставленным в нее перышком.
Лиза посмотрела на нее с отвращением. Точно такая была у Фомина… Кажется, ею не пользовались со времени покупки в магазине — совершенно новенькая, с блестящим перышком «рондо», она торчала в стаканчике рядом с тупым химическим карандашом. Тут же стояла высохшая чернильца-непроливайка. Она тоже была не нужна, потому что Фомичев писал только химическим синим карандашом. Слюнил во рту и, крепко сжав в толстых пальцах, корябал по тетрадному листку, присапывая от старания.
Лиза передернулась от тошнотворных воспоминаний, но тут же опомнилась и прислушалась к разговору.
— Мне никакой квитанции не нужно, — проговорил между тем Вернер. — Выпишите ее для фрейлейн.
— Как прикажете, — кивнул старичок и принялся листать гроссбух, бормоча: — Эн, О, Пэ… Па, Пе… — Найдя что искал, он взял ручку и начал писать, приговаривая: — Елизавета Петропавловская, адрес: улица Липовая, 14 а. Ничего у вас не изменилось, фрейлейн? На другую квартиру не переехали?
Лиза молча покачала головой. Она смотрела на старика. Он держал ручку как-то странно, хотя в чем странность, Лиза не могла понять.
— Извольте, — подал старик квитанцию. — А вот и ваш заклад. — И, открыв выдвижной ящик письменного стола, он извлек довольно большой и очень красивый медальон на цепочке — явно золотой, чистого, ярко-желтого оттенка.
— Прекрасная вещь, — сказал он, приветливо глядя на Лизу. — Я очень рад, что она к вам вернулась. Червонное золото[8], теперь такого не найдешь!
Сделан медальон был очень красиво и изящно: прекрасное плетение цепочки, на крышечке изящный вензель: две буквы А сплетены вокруг К. Но Лиза бросила на медальон только беглый взгляд и уставилась на пальцы приемщика. На правой руке они были изувечены самым жестоким образом, нелепо скрючены — непонятно, как он вообще мог перо держать и писать, неудивительно, что почерк был таким корявым и неразборчивым.
У Лизы вдруг пересохло в горле. Неразборчивый почерк… На квитанции о приеме вещи в залог точно такой же почерк. Этот же старик выписывал и первую квитанцию.
Почему промолчал? Почему не обличил ее? Или не узнал подлинную Лизу Петропавловскую?
Да нет, непохоже… эти старческие, выцветшие глаза, чудится, насквозь человека видят!
Узнал, конечно, но решил, видимо, не связываться с немецким офицером. Подумал, небось, что настоящая Лиза Петропавловская потеряла квитанцию, а эти двое авантюристов решили поживиться.
Ничего себе, поживиться! Вернер готов был пятьсот марок выложить, и если бы залог уже не был выплачен, выложил бы таки.
А был ли выплачен залог? Беспокоилась бы так Лиза Петропавловская из-за каких-то двадцати пяти марок? Думала бы о них перед смертью?
Здесь что-то не так. Не так! Подозрительно все это. И то, что старик достал такую ценную вещь из незапертого ящика стола… вообще для хранения ценностей сейфы есть, это же не целлулоидная игрушка, это золото!
Да, все это тревожно, странно! И никак не удастся сообщить о гибели Лизы Петропавловской. Значит, нужно будет прийти сюда еще раз. Надо попытаться отделаться от Вернера, а потом вернуться — и…
Они простились с подобострастно кланявшимся стариком и вышли, причем на крыльце при виде Вернера вытянулся в невероятный фрунт парень в кепке, поношенном пиджаке, высоких сапогах и солдатских галифе. На рукаве пиджака была белая повязка с надписью «Polizei».
«Полицай, это полицай!» — догадалась Лиза. Предатель… таких ненавидели не меньше, чем самих фашистов. Жалко, красивый парень: как бы итальянский такой тип, огромные карие глаза, черные волосы, тонкие черты, смугло-румяное лицо. И предатель! Да, с ним Ломброзо ошибся бы, это точно.
А она сама?! Какое она имеет право кого-то осуждать? Баскаков называл предательницей и ее просто потому, что она не хотела умирать, она хотела жить!
Лиза стиснула зубы. Не думать об этом! Ничего не вспоминать!
Вернер забежал вперед и предупредительно распахнул перед ней дверцу «Опеля»:
— Садитесь, фрейлейн, я отвезу вас домой.
— Нет, нет, что вы, это слишком, вы чересчур добры… — забормотала она нервически, с трудом вспоминая адрес своего «дома», названный стариком: Липовая улица, 14 а, так, кажется, — и понимая, что пропадет, если Вернер попросит показать дорогу.
Господи, да что, делать ему нечего?! Партизаны в окрестных лесах еще остались, в городе, судя по словам Баскакова, подполье действует, и вообще — война, война идет, так ты воюй, герр обер-лейтенант, а не с девушками любезничай! К тому же любезничаешь ты с русской, а как насчет расового сознания? Значит, ты не ариец, Алекс Вернер, нет, ты не настоящий ариец!
— Не понимаю, как можно быть слишком добрым, — усмехнулся между тем «не настоящий ариец», не обращая внимания на явное нежелание Лизы сесть в машину и мягко, но настойчиво подталкивая ее туда. — Слишком добрым, избыточно благородным, излишне благоразумным… Мне кажется, эти прилагательные относятся к разряду абсолютных понятий. А вы так не полагаете?
Лиза смирилась с судьбой и снова плюхнулась на кожаное сиденье «Опеля». Ей было не до прилагательных, честное слово. Вот сейчас, вот сейчас Вернер спросит, как проехать к ее дому… что она будет делать?!
А тот продолжал молоть языком:
— Очень советую вам носить этот прекрасный медальон, он необыкновенно украсит вас, хотя, как говорится, лучшее — враг хорошего. Но он правда очень красив с этим вензелем…
Лиза едва слушала. Придется, наверное, разыграть внезапный приступ жестокой тошноты, попросить остановить, сказать, что ее укачало, что она больше не может ехать, иначе испортит ему машину. И, кажется, даже разыгрывать ничего не придется, ее вот-вот и в самом деле вырвет от страха и всех этих непоняток, которые на нее обрушились.
— Приехали! — возвестил в это время Вернер, и автомобиль, не сделав и двухсот метров за угол, остановился. — Я довольно хорошо знаю эту улицу, часто проезжал по ней: ведь в конце ее находится тот самый ресторан, где вам предстоит работать. Даже жаль, что это так близко от вашего дома, а то я непременно начал бы набиваться к вам в сопровождающие, когда вы отправитесь на службу.
«Если ты начнешь набиваться ко мне в гости, я заору!» — мрачно подумала Лиза, выползая из машины.
— Милое местечко, идиллическое такое, — пробормотал Вернер, глядя на покосившуюся, заржавевшую металлическую ограду, на которой косо висела табличка: «Липовая ул. 14, 14 а». — Надеюсь, вы живете вон там, а не там?
«Вон там» находился одноэтажный флигелек в зарослях отцветшей сирени. Ну а «там» располагались развалины двухэтажного дома, заросшие крапивой и бурьяном.
Лиза тупо посмотрела на своего неотвязного спутника и поняла, что он так шутит. Ну и шуточки…
— Ну что ж, милая Лиза… как вас величать по отчеству? — осведомился Вернер. — Или вы не против, чтобы я обращался к вам по имени, как водится между добрыми приятелями?
Лиза пробормотала что-то на тему, да, мол, она не против, как водится между… и все такое. Она предпочла бы, чтобы Вернер на обратном пути ударился обо что-нибудь головой, впал в амнезию и забыл Лизины имя, фамилию и адрес, но рассчитывать на это вряд ли приходилось.
— Я не прощаюсь! — объявил Вернер. — Вечером непременно буду в «Розовой розе». Надеюсь увидеть вас там, а может быть, и не только увидеть!
Он прищурился так многозначительно, что Лизе безумно захотелось влепить ему пощечину. Но все же она удержалась почти невероятным усилием воли.
Ага, жди! Тащись в свою «Розу», жди там новую официантку, девицу для утех господ офицеров! Не дождешься! Сейчас Лиза вернется в ломбард, а потом…
Она постояла у калитки, висевшей на одной петле, надеясь, что Вернер отчалит, однако тот, видимо, решил быть галантным до последней капли крови и не трогаться с места, пока Лиза не войдет во двор. Сидел за рулем, кивал фуражкой и тыкал на калитку указательным пальцем: идите, мол, туда, идите! Лиза в конце концов не выдержала и вошла во двор, чувствуя такой приступ человеконенавистничества, какого не то что не испытывала — даже вообразить не могла, что когда-нибудь испытает!
Она сделала несколько шагов к флигелю, и только тогда заработал, а потом и отдалился рокот мотора. Неотвязный Вернер отвязался наконец. Можно уходить отсюда, дорога свободна!
Но Лиза не трогалась с места. Навалилась вдруг такая усталость…
Наверняка ключ от дома Лизы Петропавловской лежит в ее саквояже. Можно отпереть дверь, зайти, поесть (наверняка там найдется какая-нибудь еда, хотя бы хлеб), попить чаю или в крайнем случае просто воды, передохнуть. Она так устала, так ужасно устала!
Нет. Заходить туда нельзя. Эта чужая жизнь, в которую она нечаянно зашла, затягивает, как водоворот, эта чужая маска, которую она невольно на себя надела, начинает прирастать к лицу.
Нет! Нужно как можно скорей вернуться в ломбард.
А потом? Что ты будешь делать потом?
Да уж не жить под чужим именем, конечно. У Лизы были друзья, знакомые, в конце концов, этот ее немец, любовник, как его там, Эрих, нагрянет — и обнаружит подмену.
Уходить!
Лиза отвела взгляд от белых, обшитых кружевом занавесок, которые были видны сквозь чисто промытое окошко. Почему-то ей казалось, что это было окно Лизочки, занавески Лизочки. Хотя кто его знает, на самом-то деле.
Она вздохнула прощально и уже совсем решилась отправиться восвояси, как вдруг дверь флигеля распахнулась и на крыльце показался какой-то мелкий, худой, вертлявый мужчинка лет сорока, до крайности похожий на маленького таракана, а может, просто жучка. Он имел чисто выбритое, гладкое личико, почему-то наводившее на мысль о восковой маске, гладко прилизанные волосы и узкие губы, почти не видные под щетинкой усов. Усы, к слову сказать, у него были не тараканьи, даже не «вильгельмовские», торчащие в стороны, напомаженные и подкрученные, а узенькие, тщательно подбритые. Их носитель явно пытался подражать Гитлеру, так что понятно, почему Лиза мгновенно преисполнилась к нему отвращением. Однако «таракан» уставился на нее с превеликой приветливостью.
— Гутен таг! — закричал он и даже рукой помахал. — А ведь вы, наверное, есть панна, то есть фрейлейн Петропавловская?
Лиза заморгала, совершенно изумленная. Откуда он ее знает? Вернее, откуда он знает, за кого она себя выдает?! Мистика какая-то…
Мистика, впрочем, немедля разъяснилась.
— Мы с вами не имеем чести знаться! — радостно возвестил «таракан». — Но я про вас шибко наслышан от тетушки, от Натальи Львовны. Она говорила, что во втором номере живет молодая и очень, очень, — это слово было подчеркнуто жирной чертой, — красивая барышня, фрейлейн Лиза Петропавловская. Тетушка уехала на неделю в сельскую местность, а мне велела исполнять ее обязанности владелицы сего строения. — Он помахал в сторону флигеля. — Мое имя есть Анатоль Пошехонский. Я заходил к вам знакомиться, но дома никого не было, и я решил, что, видимо, вы отправились исполнять трудовую повинность, а может быть, меняете носильные вещи на продукты. И вот вы явились на место жительства!
— Извините, — не выдержала Лиза, — а почему вы говорите так странно? Как будто не по-русски?
И тут же она в ужасе прикусила язык: а что, если Лиза Петропавловская была конфиденткой этой, как ее там, Натальи Львовны, «владелицы сего строения», и должна была знать биографию ее племянника Анатоля Пошехонского? И он заподозрит неладное… Нет, бежать отсюда скорей! Только вот как бы от этого трепача отвязаться? Мужчины здесь, в этом городе, приставучие до неприличия. Сначала Алекс Вернер цеплялся, теперь этот. Дернула же нелегкая задать ему такой дурацкий вопрос!
— Так я ж с Запада приехал, с Варшавы, — с радостной улыбкой пояснил между тем Анатоль, который, кажется, не видел в ее вопросе ничего дурацкого. — Москальское наречие мне не так чтобы очень привычно. Уж извиняйте, будьте ласковы! Зато по-немецки я шпрехаю отменно, поскольку я есть чистокровный фольксдойче[9].
Несомненно, это словосочетание употреблялось в русском языке впервые, и Лиза, как ни была напряжена, с трудом сдержала усмешку.
Племянник, впрочем, не заметил припадка ее невежливого веселья, а таращился на нее с откровенным восторгом.
— Тетушка совершенно права была, сказавши, что вы великолепная урода, — возвестил он с улыбкой. — И ежели вы, к примеру сказать, чувствуете некоторую тоску длинными одинокими вечерами, я с превеликим угождением готов вашу тоску развеивать. Вам стоит только отдать такое волеизъявление, фрейлейн Лизонька.
Лиза нервно кашлянула, чувствуя себя персонажем какой-то трагикомедии и отчаянно мечтая из нее выбраться. Во-первых, в нем росту — метра полтора, не более. Во-вторых… и во‑всяких! Да пошел он туда же, куда она уже отправила мысленно некоего Алекса Вернера!
Кажется, единственный способ избавиться от «племянника» — войти в квартиру Лизочки Петропавловской. О господи, это болото прошлого затягивает Лизу все глубже…
— Извините, — пробормотала она, — извините, пан… господин Анатоль…
— Для вас я всегда готов стать просто Толик! — пылко возвестил племянник.
— Да, да, конечно, но я, понимаете ли, устала и сейчас хотела бы отдохнуть. Я пойду домой, хорошо?
— Конечно, конечно! — всплеснул руками племянник и вцепился в ручку саквояжа, явно намереваясь отнять его у Лизы. — Эдакое глупство, что я тут с вами точу разговоры, когда вы желаете протянуть с устатку ноги! Позвольте вам помочь, панночка, позвольте поднести ваш сак и отпереть вашу дверь. Извольте ключик, наикоханейшая Лизонька!
Ну уж нет, этого прилипалу «наикоханейшая Лизонька» даже близко к порогу не подпустит, не то что ключ ему дать. Потом не отвяжешься, это точно! Даже и сейчас отвязаться очень не просто.
— Извините, пан Анатоль, но я сама… — начала было она, однако вышеназванный не выпускал ручку саквояжа.
Ну что, по физиономии ему дать, что ли? Почему-то Лиза испытывала величайшее искушение сделать это!
— Эй, кто здесь хозяин? — раздался в это время ленивый голос, положивший конец затянувшейся сцене.
Пан Анатоль мигом отдернул руки от саквояжа и обернулся к воротам, в которые входил человек в кепке, с винтовкой и с белой повязкой на рукаве. К изумлению Лизы, это оказался тот самый черноокий итальянистый красавец, которого она видела на крыльце ломбарда. Он, впрочем, не обратил на Лизу ни малейшего внимания, а холодно воззрился на суетливо подбежавшего Анатоля:
— Ты хозяин?
— Не так точно, пан, то есть господин полицай, — отозвался тот. — Я есть племянник хозяйки, а она нынче в отъезде.
— Да мне нету разницы, кто из вас есть, а кто в отъезде, — сурово сообщил полицай. — Ты мне лучше скажи, это кто развел? — И он ткнул пальцем в развалины старого барского дома.
Анатоль воззрился на них недоуменно. Честно говоря, Лиза тоже была озадачена вопросом. Кто развел — что? Развалины? Или бурьян на них? Странный вопрос, честное слово.
— Чего изволите сказать? — переспросил растерянный Анатоль.
— Я говорю, вот эти заросли создают опасность, неужели непонятно? — раздраженно объяснил полицай. — Это же целый лес! В них может большевистский диверсант засесть, а то и снайпер. И никто не догадается, откуда он станет пулять в господ немецких офицеров! — погрозил он пальцем Анатолю, как провинившемуся малолетке. — Вот я и спрашиваю, почему, по недомыслию или злому умыслу, развели тут пристанище для врагов нового порядка? Партизанен, пуф-пуф! — И он наставил на Анатоля указательный палец, как дуло пистолета.
Лизе, конечно, нужно было убраться в квартиру, а то и за ворота потихоньку выйти, но ее ноги словно приросли к земле. Она во все глаза смотрела на полицая, но, само собой, вовсе не из-за его горячей красоты, а просто не могла взять в толк, серьезно он говорит или придуривается. Фарс какой-то, честное слово! Жуткий и жестокий фарс, вот куда она попала.
Не лучше ли в таком случае было остаться в лесу, зло спросила она себя. Лучше. Если бы не Баскаков и не Фомичев! Если бы не Фомичев и не Баскаков!
— Короче говоря, — подытожил полицай, которому, видимо, надоело наблюдать две пары откровенно вытаращенных на него глаз, — вот тебе приказ от городской управы: чтоб не позднее завтрашнего вечера тут ни травинки не было, ясно тебе?
— Пан полицай! — возопил Анатоль в откровенном ужасе, меряя перепуганным взглядом то джунгли на развалинах, то грозную фигуру полицая. — Да как же сие возможно? Тут неделю надо трудиться! Нет у меня таких сил и возможностей! Кроме того, я не настоящая хозяйка этих развалин, а племянник!
— Да какая разница немцам, кого к стенке ставить? — искренне удивился племянник. — Тебя или настоящую хозяйку? Не хочешь к стенке? Тогда чего ерепенишься? Давно взял бы себе из лагеря парочку пленных для домашних работ. Благо благонадежным гражданам это разрешается. А там не все жиды да комиссары, есть ребята смирные, трудолюбивые, они не сбегут, они только и мечтают себя немцам с хорошей стороны показать. Дают, дают их хозяевам на работу, ага, а как же. Только нужно охранников и пленных кормить, да взятку дать начальнику охраны, и мне за посредничество…
Он показал в наглой улыбке белоснежные зубы.
— Столько народу! — возопил в ужасе Анатоль. — Столько денег! Нет, это не в мой карман! Пускай тетя, пускай она, я нет, я не буду.
— Ну, воля твоя, — зевнул полицай. — Только ты тогда не обижайся, я доложу в шуцманшафт, в полицейский участок, значит, что по такому-то адресу саботируют распоряжения господина коменданта.
— Нет! — горестно всхлипнул Анатоль, и восковая мордашка его исказилась такой искренней болью, что Лизе стало смешно. А вообще ей эта перепалка надоела. Краем уха слушая, как горько вздыхающий племянник сговаривается с полицаем, во сколько и куда завтра прийти за пленными, она поднялась на крыльцо, нашарила в саквояже ключ и отперла английский замок на двери, посреди которой была намалевана белой краской большая облупленная цифра 2.
Далекое прошлое
Аврора была слишком горда, чтобы выказывать свое горе. Теперь ее красота казалась броней, пробить которую представлялось невозможным. И вот тут-то появился Карл Маннергейм — отчаянно влюбленный и мечтающий о браке с Авророй как о несбыточном счастии. Но она дала согласие! Да, сердце рвалось от любви к Александру Муханову, однако Аврора прекрасно знала, что станет Карлу Маннергейму хорошей женой. Будет верна ему до смерти, никогда в сторону не взглянет, и даже появись прямо вот сейчас перед нею синеокий демон-искуситель Александр Муханов, ему придется уйти ни с чем.
В знак любви она подарила жениху табакерку с своими инициалами и миниатюрой кисти самого Франца-Гавриила Виолье[10], обрусевшего швейцарца, известнейшего живописца и портретиста того времени.
День венчания назначили, он приближался, но Карл исчез! Доподлинно было известно, что в имении он побывал, с бабушкой встретился, благословение получил, но…
Куда он пропал потом? Что с ним случилось? Погиб, наверное, но где и как, — это осталось неизвестным для всех, для всех, в том числе и для его загадочной невесты. Точно так же неизвестной осталась для Гельсингфорса гибель в болоте двух крестьян, которые продали цыганам хорошего коня, а потом отправились домой — да и не дошли. Небось выпили лишнего, вот и заблудились. Места гиблые, всякое бывает…
Нижний Новгород, наши дни
— Слушайте, Марина, — осторожно спросила Алёна, — а что, они поехали в Сормово в какой-то бандитский притон? С криминальными авторитетами встречаться?
— Да какие, к чертям, авторитеты? — с досадой воскликнула Марина. — В музей района поехали, только и всего. Там вроде факты какие-то новые вскрылись насчет войны, ну и надо было узнать, что и как, у нас же рубрика такая есть: «Люди войны». Катя — корреспондентша которая — эту рубрику вела. А Таню отправили с ней, потому что в музее протечка крыши и еще какая-то гадость, экспонаты заливает, ну они нас и попросили взять это дело под контроль. Ничего более некриминального просто придумать невозможно, верно? Но девчонки пропали: ни дома их нет, ни на работе.
— Но вообще-то, — еще более осторожно проговорила Алёна, — они, наверное, барышни взрослые? Не могло быть так, чтобы…
— Не могло! — с еще большей досадой ответила Марина и даже воздух ладонью рубанула в доказательство того, что нет, не могло! — Таня еще ладно, она еще как-то худо-бедно способна на такие неожиданности, но Катерина… нет, исключено! Железный человек. Работа прежде всего и всякое такое. К тому же у нее встреча была сегодня назначена с одним иностранцем, немцем, который специально в Нижний приехал, чтобы с ней повидаться. Я не сильно в курса`х, что там и как, но вроде бы Катерина какой-то сенсацией грозилась. Дедуля к ней пришел, а ее нету. Он часа полтора прождал, да так и ушел. Правда, философски отнесся к тому, что Катерины нет, мол, дело молодое… я уж не стала ему говорить, что девчонки еще вчера пропали, а то хватил бы кондрат старикана, он уже совсем божий одуванчик, уже на грани старческого маразма, ну разве можно в такие годы в такую даль пускаться?
— Я этого старикана видела, — усмехнулась Алёна. — Ничего себе, нашли одуванчика! Он еще хоть куда, по-моему, маразма там можно ждать дольше, чем Сольвейг ждала Пер Гюнта. Да, впрочем, бог с ним. Слушайте, эта Катерина — она из какой редакции?
— Да из культуры, — сердито ответила Марина, которую, такое ощущение, праздное любопытство Алёны начало раздражать. — Разве вы ее не помните? Она вот здесь, за этим вот компьютером сидела. Вы же ее видели, конечно. Неужели не помните?
Честно говоря, хорошей памятью, особенно зрительной, Алёна не отличалась. То есть иногда некоторые лица впечатывались в нее просто намертво, а некоторые так и скользили где-то по обочине сознания. И поэтому она только виновато покачала головой, поглядев на стол, на который показала Марина: не помню, мол. И вдруг взгляд ее упал на фотографию, стоявшую в рамке на этом столе. Две девушки держали огромного белого медведя и тянули его к себе, как Груша и жена губернатора тянули в разные стороны ребенка в пьесе Бертольда Брехта «Кавказский меловой круг».
— Это они, — сказала Марина похоронным голосом, — они за один репортаж приз получили… на двоих… их потом даже по телевидению показывали…
В голосе у нее задрожали слезы, но Алёна не обратила на это внимания: она всецело была занята разглядыванием фотографии.
— Боже ты мой! — воскликнула она внезапно. — Слушайте, ну и растяпа же я! Память совершенно как решето! А я-то думала, ну где эту девушку видела! Да конечно, вот за этим столом!
— Вы о чем, Алёна? — раздраженно спросила Марина, видимо, до глубины души пораженная черствостью писательницы Дмитриевой. — О чем вы говорите, когда…
— Да о том, что я эту вашу барышню вчера видела! И подругу, наверное, тоже… вроде бы там были две девушки, только я на вторую внимания не обратила, а эту заметила, потому что она, во‑первых, рыженькая, а во‑вторых, на меня поглядывала, как на знакомую. Слушайте, слушайте, Марина! Когда пропали ваши девчонки?
— Да вчера в полдень примерно наш водитель оставил их на площади Горького.
— Ну точно! Я их видела в начале первого, — кивнула Алёна. — Именно на площади Горького, около магазина «Поларис». Ваши девочки садились в серый «Ниссан».
— В серый «Ниссан»? — нахмурилась Марина. — Получается что? Они остановили попутку, и этот чертов «Ниссан» завез их невесть куда?!
— Ну, — осторожно сказала Алёна, — очень может быть, что так и есть.
— Погодите! — всплеснула руками Марина. — Выходит, вы их последней видели?! А номер, номер этого «Ниссана»? Номер у него какой?!
— О господи… — пробормотала покаянно Алёна. — На номер-то я и не посмотрела, вот балда. То есть даже не обратила внимания.
— Алёна, Алёна! — в отчаянии почти закричала Марина. — Да напрягитесь же! Вы же детективы пишете, вы же должны… вы не можете не понимать… вам, может, только кажется, что ничего не заметили, а если порыться в памяти, то, может, и вспомните!
— Нельзя вспомнить то, чего не знаешь, как одна моя подруга говорила, — огорченно сказала Алёна, тем не менее добросовестно обшаривая все закоулки своей довольно-таки дырявой памяти. — Все, что помню, — это «Ниссан»… я почему-то про Чапека стала думать, а про девушек забыла.
— Чапек-то здесь при чем? — в сердцах просила Марина. — Нашли о чем думать в такой момент! Я его вообще терпеть не могу.
— Ну я же не знала, что момент будет такой, — оправдывалась Алёна. — Чапека я тоже не сильно люблю, кроме того его рассказа такого полудетективного… — И она вдруг замерла, уставилась на Марину, вскрикнула: — Вспомнила! Вспомнила, почему я про Чапека подумала! Помните, у него есть рассказ про поэтические ассоциации? Ну, там какой-то поэт видит машину, сбившую нищенку, и восстанавливает ее номер с помощью метафор… Двойки он сравнивает с шеями лебедей, что-то там еще было, не припомню уж, но точно знаю, почему я про Чапека подумала! Потому что в номере того «Ниссана» было две шеи лебедя! В смысле, две двойки!
— Так, — сказала Марина, и ее щеки загорелись от волнения. — Ну, теперь они у меня попляшут. Теперь пусть попробуют не принять мер! Я их со свету сживу!
И она сделала своими изящными руками, пальцы которых были унизаны перстнями один другого краше, такой жест, как если бы кому-то немилосердно скручивала шею.
— Марина, а «они», о которых вы так сурово говорите, — осторожно поинтересовалась Алёна, — это кто?
— Да эти… — Марина выразилась весьма энергично, — из полиции!
Немедленно выяснилось, что Марина, обеспокоенная судьбой девушек, уже пыталась заявить об их исчезновении, однако заявления у нее не приняли, ответив, что предпринимают такие действия лишь по просьбам близких родственников, это раз, второе, девушки уже совершеннолетние и мало ли какие у них могут быть потребности («Потребности, они так и сказали!» — с отвращением повторила Марина), поэтому фактом пропажи начинает считаться трехдневное отсутствие человека. А прошли всего лишь сутки.
Марина немедленно набрала номер и сообщила сведения о «Ниссане» и двух двойках в его номере.
Некоторое время она слушала ответ. Потом лицо ее исказилось бессильной яростью и, рявкнув: «Я больше не могу этого слушать! Вы не соображаете, что говорите!» — она шваркнула трубку на рычаг.
Алёна вздохнула и с жалостью взглянула на свою взбешенную приятельницу. Нетрудно было угадать, что ей сказали. Какую-нибудь гадость насчет девушек, которые небось поехали кататься со своими любовниками…
— Что, опять посоветовали ждать трое суток? — невесело усмехнулась она.
Марина снова выразилась весьма энергично, Алёна даже поежилась, поскольку к инвективной лексике относилась резко отрицательно. С другой стороны, такая уж была ситуация инвективная, что без соответствующей лексики просто не обойдешься.
— Ничего я не собираюсь ждать! — бушевала Марина. — Я знаю Катьку, она не способна загулять, и даже если загуляла бы, позвонила бы, предупредила! Она же знает, что нам послезавтра номер сдавать, она бы… — Она даже поперхнулась от гнева и воскликнула: — Немедленно поеду к начальнику этого отделения. Они у меня все попляшут!
Марина бросилась к вешалке и уже сорвала с нее плащ, когда Алена сказала:
— Погодите-ка. Есть один человек… Не хотела я его дергать, но раз такая история…
И она, достав мобильный телефон, вызвала номер, который в ее записной книжке был зашифрован как «МЛИн».
Мезенск, 1942 год
Притворив за собой дверь, Лиза постояла в прихожей, не решаясь войти в «свою» квартиру. Из прихожей вел коридор, по обе стороны которого были комнаты: две слева и две справа. Хотя нет, одна из комнат справа — это кухня.
Наконец она заставила себя войти. Боже ты мой, до чего убогая обстановка! А вот странность — прекрасные иконы — правда, без окладов, которые, очень может быть, блистали златом-серебром, — но до чего великолепное письмо! Вот этот Спас Нерукотворный… какие мучительные, страдающие, живые глаза!
Хорошо, что не придется жить в этой квартире. Под взором этих глаз начинаешь чувствовать себя просто-таки обязанной взойти на Голгофу.
Лиза прошла дальше, разглядывая громоздкий дубовый шкаф, продавленный и потертый до белизны коричневый кожаный диван, изящно расшитые накидки, салфетки. На полках много книг на церковнославянском языке. Неужели здесь жил священник? Лиза не утерпела — полюбопытствовала. Некоторые книги были подписаны: «Собранiе отца Игнатiя Петропавловскаго».
На тумбочке стоял патефон, рядом — стопка пластинок. Интересно, что на них, гимны православные, что ли? Нет, вполне светская, даже более чем светская музыка, в основном это были румынские пластинки, контрабандные, конечно: Вертинский, несколько дисков Петра Лещенко, а вот и советская пластинка Апрелевского московского завода — джаз Утесова. Ого, смело — держать песню из кинофильма «Веселые ребята» на виду! А впрочем, может быть, гитлеровцам нет дела до такой ерунды, как джазовая музыка, это ж не «Вставай, страна огромная!», в конце концов.
Лиза осторожно потянула пластинку из конверта, и на пол выпал клетчатый листок, исписанный старательным круглым почерком:
По горам, по вершинам наша молодость шла, Голубыми туманами наша юность прошла. Пронеслася и скрылася, как лихой буйный шквал, А теперь на пути у нас новый встал перевал. Что же, верные други мои, снова надо в поход, За любимую Родину зашагаем вперед. Помня молодость милую, помня тех, кто упал, Зашагаем, товарищи, на седой перевал…Это была старая песня, Лиза ее знала и любила. Кому же она нравилась до такой степени, что человек записал ее слова на листок и хранил, хотя это было опасно? Почерк вроде бы женский. Слова записала ее тезка? Лиза Петропавловская?
Как странно все это сочетается. Такая песня — и в то же время интимнейший подарок от какого-то фашиста…
Лиза сунула листок в конверт и отошла от тумбочки.
Загадки, загадки! Нечего и пытаться найти на них отгадки, да и к чему это?
Она заглянула в кухню и постояла, рассматривая огромный резной буфет, украшенный виноградными кистями, фруктами, оленьими рогами. Такое только в музее увидишь. В этом буфете должны храниться какие-нибудь севрские сервизы, а не простенькие фаянсовые чашки и тарелки в линялых узорах, должны лежать сочная ветчина, и жирный желтый сыр, и настоящие виноградные гроздья, а не завернутый во влажную тряпицу (чтоб не сох, видать) кусок хлеба, кастрюльки с остывшей, осклизлой картошкой и каким-то жидким супом, пучок редиски, соль в стеклянной банке, накрытой бумажкой и перевязанной тесемкой, и еще одна баночка с этикеткой: «Honig». Нарисованная рядом пчела, сидевшая на цветке, помогла Лиза вспомнить перевод этого слова: «Мед». Наверное, этот мед выдавали в пайках немецким офицерам, ну вот и Лизочке Петропавловской перепало от Эриха Краузе.
Есть захотелось просто невероятно, до тошноты. Картошка выглядела неаппетитно, да и суп вожделения не вызывал, к тому же, чтобы его разогреть, нужно было либо растопить печку, либо разжечь керосинку, стоявшую в углу, на отдельном столике, а Лиза не желала заниматься первым и просто не умела второго, поэтому она поела хлеба с медом (судя по мертвенному вкусу, сей продукт явно был эрзацем) и выпила воды из большого закопченного чайника, стоявшего на плите, причем ее не оставляло препротивнейшее ощущение, будто она — вульгарная воровка, забравшаяся в чужой дом.
Воровка не воровка, но в чужой дом она и впрямь забралась, хуже того — в чужую жизнь…
И такая тоска вдруг взяла от этого!
Хотелось полежать, отдохнуть, но Лиза не позволила себе. Как можно скорей — в ломбард. И покончить со всем этим.
«А ты уверена, что тебе это удастся? Что ты сможешь выбраться из города?»
Гоня мысли, от которых немедленно навернулись на глаза слезы, и не только навернулись, но и побежали по щекам, Лиза схватила саквояж, кинулась к двери, но не успела взяться за ручку, как дверь распахнулась. На пороге стоял тот самый полицейский — итальянистый красавчик.
А ему здесь какого черта нужно? Вроде бы в квартире ничего бурьяном не заросло! Вот разве что станет искать партизан в буфете!
Впрочем, надо быть с ним повежливей. Все-таки власть… Вот же, а? Предатель родины, плюнуть бы ему в физиономию, а нужно какие-то этикеты соблюдать!
— Добрый день, — холодно сказала она. — Что вам уго…
И осеклась, увидев позади полицая постную физиономию того самого старикашки из ломбарда.
Далекое прошлое
Об Авроре снова заговорили в гельсингфорсском обществе — заговорили с этаким многозначительным пожатием плеч, с закатыванием глазок, с сочувственными интонациями, за которыми крылось неприкрытое злорадство.
Красавица, да? Ну а толку с той красоты? Кажется, и впрямь злая королева троллей качала ее колыбель, вот и наградила свою подопечную горькой судьбой!
Однако сестра Авроры Эмилия, тоже красавица, но счастливая в своем браке с графом Мусиным-Пушкиным, увезла сестру к себе, в Петербург. Она была убеждена, что проклятье королевы троллей не будет иметь власти вдали от ее шведских, финских и норвежских владений!
И вот прекрасные сестры взошли на светском небосклоне старой и новой столиц и были представлены ко двору. Насмешница Александра Смирнова-Россет[11], фрейлина императрицы, как ни рылась в безднах своего злоехидства, не смогла все же найти уничижительного слова для совершенной красоты: «Тут явилась в свет Аврора в полном цвете красоты. Особенно у нее был необыкновенный цвет лица и зубы как жемчуг».
У обеих сестер, замужней и одинокой, немедля нашлись обожатели. Петр Вяземский совместно с композитором Вильегорским сочинил романс в честь старшей и сообщил об этом Александру Тургеневу в таких выражениях: «Здесь проезжала финляндская красавица Аврора, воспетая и Боратынским. Дурная погода и хорошенькое лицо ее, к тому же имя, которое ей по шерсти, так в рот и влагали стихи».
Вот они:
Нам сияет Аврора,
В солнце ну́жды нам нет:
Для души и для взора
Есть и пламень, и свет…
В дома Мусина-Пушкина и в Москве, и в Санкт-Петербурге зачастили Петр Вяземский, Александр Тургенев, Александр Пушкин… ну и старые знакомые: Евгений Боратынский и… Александр Муханов.
Мезенск, 1942 год
— Здрасьте, — пробормотала Лиза растерянно. — Это вы? А я как раз собиралась…
Да полно, неужели это тот самый старик? Где угодливое выражение сморщенной физиономии? Где ханжеская улыбочка? Ледяные глаза, напряженный голос:
— Кто вы такая? Как к вам попала квитанция? Почему на вас вещи Лизочки?
Она оторопела. Вот те на! Нужно было очень хорошо знать погибшую девушку, чтобы узнать ее платье, ее туфли, ее саквояж. Выходит, старик был коротко знаком с ней. Но отчего не заговорил об этом при Алексе Вернере?
Ладно, сейчас это не важно. Важно то, что красавчик полицейский тянет с плеча винтовку и явно готовится наставить ее на Лизу. И еще прикрикивает:
— Говори, быстро!
— Лизочка погибла, — выпалила Лиза, опережая его. И зачастила, спеша успеть все рассказать, пока эти двое еще не вышли из того почти омертвелого оцепенения, в которое повергли их ее слова: — Там, на берегу… на пляже, она играла в волейбол, купалась, потом налетел самолет, стрельба, взрывы… она была ранена, она умирала у меня на руках, ну и велела мне взять ее одежду, документы, отнести квитанцию в ломбард и сказать…
— Погибла… — выдохнул старик, покачнувшись. Нетвердо прошел в комнату и сел, вернее, упал на продавленный диван. — Почему? — прошептал тяжело. — Почему она не ушла вовремя?! Ведь знала, что в два часа начнется обстрел!
Теперь Лиза застыла в шоке. Получается, ее тезка знала о налете?! Получается, она связана с теми, кто это устроил? А тут без партизан не обошлось, конечно. Но если старик и полицай в курсе, значит, и они тоже — партизаны? Вернее, подпольщики?
Вот это попала, называется, Лиза Ховрина… В самое пекло! И чем дальше, тем становится жарче.
Старик открыл глаза. Лицо его было спокойно. Наверное, ему столько пришлось всего в жизни перенести, что надолго его ничто не может потрясти.
— Лизочка должна была уйти с пляжа в час дня, — сказал он. — Она задержалась. Почему? Из-за вас? Она вас ждала?
— Меня? — пожала плечами Лиза. — Да я ее сегодня впервые в жизни увидела.
У него по лицу прошла словно бы тень… он словно бы загородился и теперь беседовал с Лизой несколько издалека.
— Ну, может быть, вы условились о встрече письменно… — проговорил он осторожно. — Или через какого-то человека, знакомого… Иначе почему бы она задержалась и почему отдала вам свою одежду, почему попросила зайти в ломбард?
— Да случайно это вышло, — прижала руки к груди Лиза. — Ей-богу, случайно. Моя одежда… Я была раздета…
Эх, врать так врать!
— Моя одежда лежала около грузовика, а он взорвался. Все сгорело — вещи, сумка с документами. Я сама не пойму, как жива осталась. Кинулась в рощицу, а там лежит она. Она умирала, ну и сказала мне: возьми все, только отнеси квитанцию и скажи, что меня, мол, убило на берегу. Я оделась — не в купальнике же мне оставаться! — и пошла в город. К вам.
— Почему вы не сказали в ломбарде, что пришли по поручению Лизочки? Почему не сказали, а просто забрали медальон?!
— Медальон? — Лиза только сейчас о нем вспомнила. Да, он же золотой. Его надо вернуть. — Он в саквояже. Я сейчас достану.
— Стоять! — Полицейский навел на нее винтовку. — Хитрая какая. Достану! А там небось пистоль.
— Нету там никакого пистоля, честное слово, — растерянно пробормотала Лиза. — Можете сами посмотреть.
— Не волнуйся, посмотрю!
Полицейский очень ловко, продолжая держать Лизу на прицеле, левой рукой схватил, открыл и перевернул саквояж над большим круглым столом, застеленном кружевной скатертью, пожелтевшей от времени и стирок. Небогатое имущество Лизочки Петропавловской вывалилось на стол. Зашелестели целлофановые пакеты — от подарков Эриха Краузе. Сыро, тяжело шмякнулся купальник Лизы Ховриной. Выпал медальон.
— И правда, нету, — злобно буркнул полицай.
— Угомонись, Петрусь, — приказал старик.
Петрусь? Ого! Лиза вдруг вспомнила песенку, которую частенько пела соседка-украинка:
Как за того Петру́ся Семь раз била мату́ся. Ой, лихо — не Петрусь: Било личко, черный вус!Небось много девок потерпели неприятности и от этого Петруся: больно уж хорош собой.
Да черт ли тебе сейчас в его внешности?!
— Так почему ничего не сказали? — повторил старик.
— Потому что я не могла… при этом офицере.
— Что за офицер?
— Он тоже был на берегу, а потом подвез меня.
Старик вскочил резко, по-молодому. Толкнул Лизу на стул, наклонился. Лицо его стало недобрым:
— Кто он? Как зовут? Давно прибыл в Мезенск? Он ваш знакомый? Приятель? Где он живет? Где живете вы? Работаете? Где?
Тон его был таким… он с такой лютой злобой сыпал вопросами! Лиза сначала оторопела, а потом возмутилась:
— Да что это вы так разговариваете?! Устроили тут гестапо, понимаете ли!
— Гестапо? — прищурился старик. — Вы были в гестапо? Вас допрашивали? Или вы присутствовали на допросах? В качестве кого? В самом ли деле Лизочка убита на берегу? Она должна была встретиться с вами? Вы предали ее? Она в гестапо?
— Слушайте, да вы просто ненормальный, — с яростью прошипела Лиза. — Не шейте мне дело! Не нравится вам слово «гестапо»? Хорошо, пусть будет НКВД. Вот вам, пожалуйста: вы ведете себя как самый настоящий энкавэдэшник, ясно? Что, до прихода немцев допросы в застенках вели?
Старик снова сел на диван, откинулся на спинку. Лицо его было смертельно бледным.
— Батюшка… — обеспокоенно прошептал Петрусь, делая шаг к нему, но старик раздраженно махнул на дверь — и Петрусь покорно отошел, занял пост около нее, изредка приоткрывая и выглядывая, не идет ли кто.
«Батюшка? Это его отец? — изумленно подумала Лиза. — Вообще-то в деды годится».
— Допросов не вел, — сказал старик, поворачиваясь к Лизе. Силы, видимо, вернулись к нему, лицо уже не выглядело таким мертвенным. — Но столь многажды был допрашиваем, что невольно усвоил некие манеры. С кем поведешься, знаете ли…
Он тяжело вздохнул.
— Значит, погибла Лизочка… эх… бедная моя девочка!
В голосе его слышалась такая боль, что у Лизы сжалось сердце. Наверное, он хорошо знал Лизочку Петропавловскую. А может, это ее родственник. Дед?
И вдруг ее словно ударило внезапной догадкой! Да ведь Петрусь назвал старика батюшкой не потому, что это — его собственный батюшка. Он обратился к нему, как на Руси обращаются к священникам! Этот старик… это его книги?
— Вы — дед Лизочки? — так и ахнула Лиза. — Вы — отец Игнатий Петропавловский?
— Чертовщина… — прошипел у порога Петрусь.
Старик потрясенно уставился на Лизу:
— Откуда вы знаете? Этого никто не мог знать, только двое — Петрусь и Лизочка. Она сказала вам? Как же она решилась?.. Значит, она хотела, чтобы я поверил вам. Но почему она не открыла вам пароль? Все было бы проще!
— Она не успела, — сказала Лиза. — Она умерла. Да и при чем тут пароль?! Поймите, если даже Лизочка и ждала кого-то на берегу, если и должна была с кем-то встретиться, это не я. Я оказалась около нее случайно, говорю же! А ваше имя я увидела на книгах. Так просто догадаться!
— Ну хорошо, — устало кивнул отец Игнатий. — В таком случае почему после ломбарда вы пошли сюда? Почему не отправились к себе домой? Почему не ринулись в комендатуру восстанавливать документы? Если среди ваших приятелей офицер интендантских войск, он мог бы помочь вам.
Ага, подумала Лиза, значит, Алекс Вернер — интендант? При такой-то мужественной внешности и весьма любезных манерах — всего-навсего интендант? Какая скука. Вот, оказывается, что означают эти красные просветы в петлицах и на погонах. Ну, будем знать. Нет, хорошо бы никогда этого не знать!
— Я… он ничем не мог мне помочь, потому что я познакомилась с ним только сегодня. Мы вместе плыли от островка, ну знаете, там островок посреди реки, нас там обстрел застал. Потом вместе пытались спастись на берегу…
— Он видел Лизочку?
— Нет, он меня уже потом подобрал, на дороге, предложил подвезти, я побоялась отказать…
— Подобрал! — фыркнул Петрусь, но веселья в его насмешке не было, наоборот, ее можно было испугаться. Что он, что старик смотрели на Лизу без капли доверия, смотрели как-то… оценивающе, как будто высчитывали, сколько минут дать ей еще пожить, прежде чем вынести суровый, но справедливый приговор подпольного суда.
Именно этим ее и стращал Баскаков! Без суда и следствия… за сотрудничество с врагом на оккупированной территории…
Вот тут-то Лиза испугалась всерьез. Почти так же, как там, на берегу, под пулями.
— Я пошла сюда, потому что вынуждена была показать Вернеру — ну, этого офицера зовут Алекс Вернер, — торопливо разъяснила она, — мельдкарту Лизочки. И он решил, что я Лиза Петропавловская. А адрес вы сами вслух сказали в ломбарде, он меня сюда и привез, ничего не спрашивая. Мои документы сгорели при взрыве… то есть у меня их не было, то есть они были не в порядке, понимаете? И… и квартиры у меня нет, мне отказала квартирная хозяйка, потому что я… у меня кончились деньги, я… мне нечем платить. И с работы меня выгнали, то есть работы у меня нет, а в эту квартиру я зашла, потому что ко мне во дворе пристал этот, с усиками, племянник хозяйки, пан Анатоль. Он решил, что я — Лизочка, и я не стала спорить, надо же мне было куда-то идти! А потом я хотела сразу же пойти в ломбард и все вам объяснить, честное слово, я как раз собиралась в ломбард, когда вы тут появились!
Она сама не соображала, что говорит, мысли скакали, губы тряслись. Старый священник покачал головой:
— Медь звенящая и кимвал бряцающий, вот что такое ваши речи. Нет в них смысла, да и думаю, что в поступках своих вы смысла не видите. У молодых девушек часто бывает очень короткий ум, они не понимают, что мощный враг наш — всего лишь колосс на глиняных ногах, не понимают, что кружит, кружит ветер — и вновь возвращается на круги своя. Так и жизнь повернется. То, что от нас отторгнуто, будет нашим вновь. И тогда придется покаяться тем, кто запятнал себя предательством и сотрудничеством с врагами. Единственный выход сейчас — это искупить свою вину, помогая по мере сил и даже свыше сил, тому, кто с этими врагами борется.
Старик вещал, как будто Лиза была блудница вавилонская, которую он задался целью вернуть к праведной жизни! Проповедей таких высокопарных она по жизни просто не выносила, да и от Баскакова много чего успела наслушаться, а потому вспылила:
— Между прочим, у Лизочки, насколько я понимаю, тоже был друг немец. Оккупант. Эрих Краузе, не так ли? Она тоже запятнала себя сотрудничеством с врагами. С этим как быть прикажете?
Тут же ей стало стыдно.
— Извините, — пробормотала она. — Извините, отец Игнатий. Это… глупо. Я не должна была…
— Не извиняйтесь. Откуда вам знать, что Лизочка сознательно свое доброе имя на алтарь победы положила? — проговорил старик. — Она для победы дурной славы не убоялась, а теперь и жизнь отдала за нее. Но только… кто бы знал, что так судьба повернется! Ведь Эрих Краузе…
Он осекся.
— Что Эрих Краузе? — осторожно спросила Лиза.
Старик молчал.
Ну, понятно, ему больно говорить об этом фашисте, с которым опозорила себя его внучка…
— Вот вы говорите, что все вернется на круги своя, — промолвила Лиза устало. — Я знаю, что наши победят, конечно, победят, само собой! Но вы-то… вам-то за что любить большевиков? Они религию искореняли, церкви сносили, вас чуть не прикончили. Вас же, наверное, не они освободили, а немцы?
— Какие немцы? Срок вышел, вот и освободили меня, — вздохнул старик. — В начале июня сорок первого домой вернулся, а тут разорено все, жена умерла. Дочь моя уехала невесть куда, на Волгу, спасаясь от гонений. Теперь вот внучку война взяла. Один я остался, как перст. Квартиру эту отдали другим людям — родителям Петруся. Они меня и приютили. А потом поехали на Украину родню навестить — как раз перед самой войной, за несколько дней. Во Львов поехали… С тех пор ни слуху ни духу, надежду лелеем, что сохранил их Господь, но кто знает?
Лиза посмотрела на Петруся. А ведь и он, наверное, тоже положил свое доброе и честное имя на тот же алтарь победы. Конечно, пошел служить в полицию по заданию партизан и подпольщиков!
— Не за что мне любить большевиков, это верно, — снова заговорил отец Игнатий. — Мне есть за что Россию любить. Немилостивая, а все же мать. Сейчас дело идет не о том, какая власть будет, — сейчас дело идет о том, будет ли Россия! Это одни только дурачки думают, что немцам наша страна нужна — монархию восстановить или, к примеру, власть буржуазии. Им земля нужна, с которой можно драть три шкуры, пока все не сдерешь, пока одни голые камни бесплодные по России не лягут. И люди им не нужны: все мы обречены на уничтожение, одни раньше, другие позже. А чтобы этого не приключилось, надо против врага ополчаться. Всем ополчаться! И тебе в том числе.
— Мне? — Лиза даже отпрянула.
— А чем ты хуже других? Если Лизочка открылась тебе, просила ко мне прийти, значит, она тебе поверила. Значит, увидела в тебе свою, надеялась, что ты нам помогать будешь. А нам помощь нужна, ох как нужна! Ты уже поняла, конечно, что мы тут не просто отсиживаемся. Мы врагу житья не даем! Но тут такие дела… рация у нас сломалась, починить сами не можем. Нет связи с центром, с отрядом. Сегодня должна была связная к Лизочке прийти, она ее ждала, оттого, видать, и не ушла вовремя с берега, до начала обстрела. Не пришла связная, а может, пришла, да тоже при обстреле погибла. Теперь совсем тяжко будет. Все явки, все связи, все концы были у Лизочки. Ни с группами боевыми не связаться, ни с отрядом.
— Да я-то чем могу вам помочь? — спросила Лиза, испуганная этой неожиданной откровенностью. — Какой от меня толк? Судите сами: у меня ни дома, ни документов, ни денег, ни работы. Никаких ценных сведений я вам доставлять не могу. Мины делать и их устанавливать я не умею, с рацией работать — тоже, да ее и нет, я только стрелять умею, да и то… давным-давно пистолет в руки не брала!
— Мины делать есть кому — у нас Петрусь химический факультет Киевского университета окончил, — кивнул отец Игнатий Петропавловский на молодого полицая. — К тому же, бог даст, у него завтра будут два помощника. А ты могла бы нам поистине неоценимое подспорье оказать. Лизочка с сегодняшнего дня должна была начинать работать в ресторане «Розовая роза». Только для немцев — для высокопоставленных немцев заведение! Отбор туда — очень строгий. Устроиться туда удалось лишь с помощью фрау Эммы Хольт, хозяйки заведения. Она из местных, из «русских немцев», фольксдойче, но была замужем за чистокровным немцем, которого расстреляли в НКВД по подозрению в шпионаже, и своей ненавистью к большевикам известна! Через два дня в Мезенск приезжает некая персона… тварь редкая. Фамилия его Венцлов, это новый начальник гестапо. Он уже успел прославиться зверствами в Польше, ну а теперь его сюда перебросили. На усиление, так сказать, местных рядов. Мы разработали план. В честь его приезда будет устроена приватная вечеринка в «Розовой розе». Венцлов любит такие места! Нужно пронести туда кислотные мины. Взлетят на воздух многие и многие враги наши! Если все получится, это привлечет к Мезенску внимание центра. В Москве поймут, что здесь действует подполье, они будут искать с нами связь, борьба с фашистами тогда с новой силой разгорится. Эти мины отнести придется тебе.
— Мне?!
Лиза только теперь заметила, что отец Игнатий незаметно перешел на «ты» и не просто говорит-уговаривает, а буквально диктует, что она должна делать.
— Я не хочу никуда проносить никакие мины, кислотные или любые другие, не важно! — вскрикнула она. — Я боюсь, страшно боюсь всего такого. Во мне нет совершенно ничего героического, нет склонности подвиги совершать!
— Склонности у нее нет! — зло фыркнул Петрусь. — А у кого есть? Но что делать, коли фашисты?!
— Да вы поймите, я просто физически не смогу в «Розовую розу» что-то пронести, — в отчаянии стиснула руки Лиза. — Меня туда просто не пустят, вы что, не понимаете? У меня же документов нет!
— Да у вас же есть Лизочкины документы! — подал голос Петрусь — и тотчас осекся, понял, что глупость спорол.
— Ну вот видите, — снисходительно пожала плечами Лиза. — Вы сами понимаете, что это невозможно. Ее документы мне ничем не помогут. Там другая фотография.
— Мы переклеим фотографию и подправим печать, — спокойно сказал отец Игнатий. — Я в лагере был с одним замечательным фальшивомонетчиком, он меня таким хитростям обучил! Диву давался моим талантам!
— Ну уж нет! Спасибо огромное! — воскликнула Лиза. — Во-первых, я уже сказала: подвиги — это не для меня. Во-вторых, Вернер обмолвился, что сейчас развелось слишком много фальшивых, топорно сработанных документов и, как правило, людей выдает именно неаккуратная подделка печатей на фотографиях. А у вас рука изувечена, извините. Какая тут может быть тонкая работа?! Вы даже обычные квитанции заполняете так, что не разобрать ничего. А уж печать подделывать… Так что оставьте все это, смиритесь с тем, что затея ваша безнадежна, ничего не выйдет. Да и вообще…
Старик смотрел на нее с ненавистью. Однако Лиза обрела неожиданного защитника в лице Петруся.
— Батюшка, — осторожно промолвил красавчик полицай, — а ведь она дело говорит. Ох как внимательно документы проверяют! В комендатуре что ни месяц, то новые хитрости. То «гесен» — прямоугольную печать «проверено» — ставят внизу, то в левом верхнем углу пропуска, то вовсе не ставят. И еще точки — в одной деревне ставят синюю точку в уголке справа, в другой деревне — плюс сверху, в третьей — зеленую черточку внизу на обратной стороне. На первый взгляд все кажется случайным, а на самом деле окажется точка не там, где нужно ей быть для этой деревни, — и человека забирают. Поговаривают, что и по городским районам разные хитрости то ли введут, то ли уже ввели. Рядовым полицейским об этом знать не дают, я тут мало чем смогу помочь. Но на печати и фотографии смотрят в первую очередь. Все должно быть чисто, если не хотим, чтобы ее прямо на пороге «Розовой розы» шлепнули. Нам же не смерть ее нужна, нам же дело нужно!
Отец Игнатий взглянул на Лизу так, что у нее не осталось никаких сомнений: он не имеет ничего против того, чтобы ее шлепнули — пусть бы даже на пороге «Розовой розы». Однако дело в таком случае уж точно останется несделанным. И поэтому он позволит ей пожить еще немного, этот старый фанатик!
— Придется подлинный документ делать, — настаивал Петрусь. — Нам самим не обойтись, нужно кого-то из городской управы подкупать, фотографа нужно такого, который на немецкой бумаге, с немецкими реактивами карточки печатает. Но на это время нужно, батюшка. Пока подходы найдем, пока поговорим…
— Не ломайте головы, — зло сказал Лиза. — Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, как Чехов сказал. Документ вы способны сляпать какой угодно надежности, допускаю, но мне все равно в «Розовой розе» не работать, даже если вы меня уговорите ввязаться в эту безумную затею. Вы главного не понимаете! Кто принимал Лизочку на работу? Эта немка, как ее… фрау Эмма, что ли? Она Лизочку знает, а меня — нет. Она сразу подмену различит. Или она глухая и слепая старуха?
Петрусь как-то странно хмыкнул.
— Нет, — покачал головой отец Игнатий. — Она не слепая, не глухая и не старуха. Просто-напросто она Лизочку в глаза не видела, а принимала ее по моей просьбе. Когда стало известно о приезде Венцлова, когда у нас этот замысел возник, я пошел к фрау Эмме и попросил ее…
— Ничего себе, — перебила Лиза. — Вы что, добрые знакомые с ней, что ли? С этой фашисткой?
— Она не фашистка, — укоризненно взглянул на нее старик. — Она антисоветчица. И я антисоветчик. И он, — кивнул на Петруся. — Но мы русские, а фрау Эмма — немка. Наполовину, но все же… Муж ее, говорю, немец чистокровный был. Они сюда переехали из Ленинградской области, скрывали, что Пауль Хольт раньше пастором лютеранским служил в одном маленьком городке на границе с Эстонией. Мы с ним в пересыльном лагере вместе мучились, он на моих глазах умирал, я его соборовал, исповедовал… Бог один, не важно, на каком языке отходную читают… Эмму в тюрьме держали какое-то время, потом выпустили все же, никто ее на работу не брал, житья ей никакого не было. Понятно, почему она гитлеровцев хлебом-солью встречала, понятно, почему на них работает и у них на особом доверии сейчас.
— А вы? — подозрительно спросила Лиза, переводя взгляд со старика на Петруся. — Вы их тоже хлебом-солью встречали?
— Говори, да не заговаривайся, — с отвращением пробормотал Петрусь.
Старик ехидно ухмыльнулся:
— От избытка чувств глаголют уста? Понимаю… Хорошо бы мысли влагать в речения — хоть иногда.
Лиза хотела ответить ему как подобает, но не успела. Он продолжал:
— Так вот, мельдкарта была выписана на Лизочку, но ее фрау Эмма не видела. У Лизочки в тот день зубы разболелись, флюс страшнейший, я один за документами пошел. А вообще фрау Эмма Лизочку лишь издалека видела, на улице, и сказала, что фигура у нее хорошая: худые, мол, девушки пользуются симпатией многих господ немецких офицеров, хотя чаще встречаются любители пышных форм.
— Кости только собакам по нраву, — пробормотал Петрусь, как пишут в театральных ремарках, «в сторону». Однако Лиза немедленно поняла, что это адресовалось ей, и послала полицаю взгляд, полный самых пылких чувств. И это была отнюдь не симпатия!
— Таким образом, — продолжал неумолимый отец Игнатий, — фрау Эмма вполне может принять вас за Лизочку. И не будет никаких препятствий…
— А Эрих Краузе? — в отчаянии воскликнула Лиза. — Он-то Лизочку знает! Он ее видел не издалека! Ладно, сейчас он в отъезде, ну а вернется — и что будет?
— За Краузе не волнуйтесь. Он может появиться — если вообще вернется — дней через десять. С Венцловом мы должны покончить раньше. После этого задача ваша будет исполнена, мы поможем вам скрыться. Перейдете на нелегальное положение. Да и рано думать об отступлении, пока не нанесен главный удар, — отмахнулся отец Игнатий. — Сейчас речь о другом. Дайте-ка мне аусвайс Лизочки.
— Вон он пусть вам дает все, что нужно. — Лиза обиженно выпятила подбородок в сторону Петруся. — А то вдруг у меня в саквояже пистоль!
— Да нету там никакого пистоля, — с примирительной улыбкой проговорил красавчик, указывая на вещи, вываленные на стол. — Возьмите аусвайс, батюшка.
Отец Игнатий открыл документ и какое-то время поглядывал то на фотографию, то на Лизу, словно сличая их. Лиза даже забеспокоилась, не придет ли фанатичному старику мысль просто-напросто загримировать ее под его погибшую внучку. Но тут никаких шансов не было, конечно. Если фигуры у них и в самом деле были очень похожи — обе стройные, длинноногие, узкобедрые и пышногрудые, — то треугольное, нежное личико Лизочки никак не напоминало широковатое, с высокими скулами, с крепким, маленьким, круглым подбородком, большеглазое лицо Лизы. И волосы — если Лизочка свои длинные светло-русые волосы укладывала валиком надо лбом, то волосы Лизы были темнее и гораздо короче, едва достигали плеч, вились сами собой и не поддавались никакой прическе-укладке.
— Да, — вздохнул печально отец Игнатий. — Жаль, не останется у меня ее фотографии. Но делать нечего.
С этими словами он подошел к книжному шкафу, достал оттуда пузырек с чернилами — и щедро плеснул на аусвайс. Фиолетовые потеки закрыли лицо Лизочки…
Петрусь и Лиза ахнули в один голос.
— Тряпку принесите — с полу чернила подтереть, а то не отскребем потом, — будничным тоном скомандовал отец Игнатий. — Теперь с этим документом никуда. Нужно новый оформлять. Завтра же пойду на поклон к фрау Эмме. У нее знакомства в городской управе, бургомистр на нее не надышится. Она поможет! А ты пока дома сиди, — обернулся он к Лизе. — Без аусвайса на улицу выходить — смерти подобно. А завтра отправимся вместе к фрау Эмме. Я за тобой зайду часов в девять, будь готова.
— Так вы разве не здесь живете? — удивилась Лиза. — Квартира ваша вроде.
— Мы с Петрусем живем там же, где ломбард, — пояснил старик. — Здесь жила одна Лизочка. А теперь ты будешь… И не вздумай бежать! — глянул предостерегающе, словно прочитав самые тайные мысли Лизы. — И сама погибнешь, и нас погубишь. Петрусь будет за домом присматривать.
«Не за домом, а за мной», — хотела ехидно уточнить Лиза, но не стала. Зачем говорить о том, что и так ясно?..
А не слишком ли много они на себя берут?! Так сказать, я от Регины ушла, я от Фомичева ушла, от Баскакова ушла, а от тебя, дедуля, и подавно уйду!
Но на ночь глядя ничего не получится. Ночь придется провести здесь. А уж утром…
Главное, не проспать и убраться отсюда как можно раньше!
Далекое прошлое
Боратынский теперь человек женатый, с Авророю он встретился как старый друг. Муханов держал себя как ни в чем не бывало, словно и не объяснялся некогда в любви красавице. Он всматривался в ее лицо, пытаясь найти в нем следы страданий по нему, коварному изменщику, но не находил. Красота Авроры по-прежнему слепила взор и туманила голову.
И Муханов вдруг за эту самую голову схватился почти в отчаянии: так чего же еще он ищет на свете, какой любви, какого богатства?! Минуло почти десять лет после их разлуки, а ведь не нашел никого, кто стал бы милее и желанней, чем эта красавица!
Он посватался немедленно — как в омут бросился. Аврора и глазом не моргнула — пообещала подумать.
На другой день осунувшийся Муханов (ни маковой росины во рту не было и ни минуты ночью не спал) явился за ответом. Черные глаза Авроры были непроницаемы.
— Я… я просил вас… быть моей… — начал он напоминать, заикаясь и глупо переминаясь с ноги на ногу.
В горле пересохло.
«Откажет, откажет…»
Она молчала, глядя неподвижно в некогда синие, дерзкие, а теперь поблекшие от страха мухановские глаза.
Он медленно начал поворачиваться к выходу, словно неживой, забыв даже проститься.
Все ясно. Все ясно! Упустил ты свое счастье, болван!
— Я согласна, — вдруг сказала Аврора.
Муханов подарил Авроре браслет, она ему — перстень со своими инициалами: АШ.
Вскоре была назначена свадьба. Но, едва осмыслив свое счастье, Муханов снова начал хвататься за голову и сокрушаться: да что ж он делает, безумец?! Сам лишнего рубля за это время не нажил, да и Аврора ведь не разбогатела! И в панике он пишет приятелю: «На днях нелегкая дернет жениться. Пришлось подыматься на аферы: вообрази, в теперешний холод езжу здесь по городу в холодной шинели, и то в чужой, не на что сшить теплой…»
Ну вот он и доездился!
Муханов отправился на холостяцкую пирушку к приятелю. Всю ночь пили шампанское и развлекались стрельбой по пустым бутылкам. Под утро разгоряченный жених возвращался домой в холодной пролетке в одном мундире — шинель давно в карты проиграл. Простудился — и на глазах сгорел от воспаления легких.
Это было в студеном, ветреном апреле 1834 года. До свадьбы оставалось каких-то два дня.
Умирая, он просил, чтобы его похоронили с перстнем — подарком невесты…
Нижний Новгород, наши дни
МЛИн — это была аббревиатура с двойным дном. Сначала к человеку, которого она обозначала, Алёна относилась именно так: других ассоциаций, кроме матерных, он у нее не вызывал. Отсюда и появилось сие словечко. Потом между Алёной и МЛИном установился не вооруженный нейтралитет, а душевная дружба, однако обе стороны ее тщательно скрывали. Человеку, который слушал бы их разговор со стороны, могло показаться, будто Алёна и Муравьев Лев Иванович (МЛИн) терпеть друг друга не могут. Именно так подумала и Марина, когда слушала довольно наглую беседу своей приятельницы с начальником городского следственного управления. Мобильный телефон Алёны изрядно резонировал, так что все детали разговора становились, не побоимся этого слова, достоянием гласности.
— Лев Иванович? Добрый день. Это Алёна Дмитриева вас беспокоит.
MyBook — библиотека современной и классической литературы, новинки и бестселлеры, отзывы, рекомендации, популярные авторы.
— Здравствуйте, Елена Дмитриевна. — Муравьев называл ее только так, ее настоящим именем, никогда не употребляя псевдонима. — Можете не представляться, мой телефон всегда сообщает, что батарея на исходе, когда определяется ваш номер.
— Не беспокойтесь, Лев Иванович, я вашу батарею перенапрягать не стану. У меня один вопрос. Нельзя ли по линии автоинспекции выяснить, кому может принадлежать серый «Ниссан», у которого в номере две двойки?
Некоторое время царило молчание, потом построжавший голос Льва Ивановича осторожно спросил:
— А что там с этим «Ниссаном»? Я имею в виду, водитель жив еще?
— Пока да, — сухо ответила Алёна. — Лев Иванович, я знаю, у вас чувство юмора на моей персоне давно заточено, однако это может быть серьезное дело, связанное с похищением людей. Сообщите мне этот номер и владельца «Ниссана», и я скажу вам, что там случилось.
— В полицию обращались? — светским тоном поинтересовался Муравьев.
— Само собой, — вздохнула Алёна. — Иначе я вам не звонила бы. Вы, как всегда, моя последняя надежда.
— И отрада, — буркнул Муравьев. — Но вы понимаете, сколько серых «Ниссанов» я сейчас вам выдам с двумя дойками в номере? Замучаетесь записывать!
— Не замучаюсь, — обнадежила Алёна, — вы, главное, выдавайте!
— Ждите, — буркнул Муравьев. — Не отключайтесь. Две минуты.
Алёна выразительно прищелкнула пальцами, и Марина подсунула ей лист бумаги и ручку.
В трубке заиграла музыка ожидания. Это была весьма противная и пронзительная музыка, так и просверливающая ухо, и Алёна, поморщившись, отстранила от него трубку, думая, что произойдет, если Лев Иванович станет выяснять номер дольше трех минут. Она, как всегда, забыла уплатить за телефончик. Интересно, отключится он до конца разговора или после? Но вот честное слово, после разговора с Муравьевым Алёна немедленно кинется к ближнему терминалу и скормит в его равнодушную и ненасытную пасть пару-тройку сотен рублей!
Музыка, сверлившая слух, вдруг оборвалась, и Алёна перепугалась, что это означает конец связи, однако тут же раздался голос Муравьева:
— Елена Дмитриева, тут компетентные товарищи интересуются, двойки подряд или перемежались другой цифрой.
— Подряд, подряд, — закивала Алёна, и в ее прихотливом воображении возникли два лебедя с гордо изогнутыми шеями, плывущих по зеленой воде большого красивого озера. Возникла в памяти также раскрытая школьная тетрадка, исписанная довольно корявым почерком Лены Володиной (такова была девичья фамилия нашей героини), а внизу страницы — две раздраженные двойки.
Да уж… Отличницей ее никто не назвал бы в школьные годы!
— Не отключайтесь, — приказал Лев Иванович, и Алёна снова отстранила было трубку от уха, однако музыка-сверло не включилась, а почти тотчас снова зазвучал голос Муравьева: — К счастью, ситуация не настолько клиническая, как мне показалось сначала. «Ниссан» серого цвета номер пятьсот двадцать два только один.
«Ага, значит, лебедя было все же три, только первый плыл вверх ногами!» — подумала Алёна и воскликнула нетерпеливо:
— И кто его владелец?
— Я скажу, только это вам мало что даст, Елена Дмитриева. Владельца этого «Ниссана» зовут Москвич Николай Николаевич.
— Москвич?!
— Ну да. Фамилия такая.
Иногда полицейский начальник умел даже пошутить…
— Я догадалась, что это не место прописки, — пошутила в ответ и наша писательница. — Но почему вы сказали, что это мне мало что даст?
— Потому что со вчерашнего дня этот автомобиль числится в угоне. Владелец подал заявление.
Вот это плюха! Получалось, «Ниссан» угнали у этого Москвича, чтобы похитить на нем двух журналисток?! Значит, это спланированная акция, а не случайность? Но как тогда быть с внезапной неисправностью редакционного автомобиля? Очень уж вовремя он сломался… довез девушек до площади Горького, где уже ждал свежеугнанный «Ниссан», подал их похитителям, можно сказать, на блюдечке с голубой каемочкой… Или все это случайные совпадения, которые только изощренная (или правильнее будет сказать — извращенная?) фантазия беллетристки Алёны Дмитриевой пытается связать воедино?
Может быть. А может быть и…
— Лев Иванович, еще одну минутку! — воскликнула она не то чтобы умоляюще, а как бы даже тоном приказа, отчего Марина покачала головой, а в трубке послышался то ли скрежет зубовный, то ли лязганье кинжала, вынимаемого из ножен. С другой стороны, ну откуда у начальника городского следственного управления возьмется в служебном кабинете кинжал, да еще и в ножнах? Ну слышалось бы щелканье взводимого курка, еще куда ни шло.
— Еще одну минутку, Лев Иванович! А когда было подано это заявление?
— В полдень. В двенадцать дня, — последовал ответ.
Алёна пожала плечами. Странно, честное слово. Автомобиль был угнан через час после того, как на нем увезли в неизвестном направлении двух журналисток. Или просто хозяин раньше не знал об угоне? А случилось это раньше? Впрочем, чего странного? Ну, угнали неизвестные ухари автомобиль, ну, ударила потом моча в голову, схватили на улице двух первых попавшихся девиц и… поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал!
Запросто может быть и такое, кивнула сама себе Алёна. Только середина дня, ну ей-богу, не то время, когда людям ударяет моча в голову и они едут кататься с красотками. Это прозаическое время. Трезвое. К полудню даже вчерашнее похмелье более или менее проходит. А тут вдруг накатило на мужиков!..
Вот именно. Мужиков было двое, насколько помнила Алёна. Одного она видела — он стоял около автомобиля. Второй сидел за рулем, она его не разглядела, только темный силуэт.
Алёна сама не могла бы толком сформулировать побуждение, которое вдруг заставило ее сказать:
— Лев Иванович, а нельзя каким-нибудь образом получить фотографию вашего Москвича?
— У меня не «Москвич», а «Мерседес», с вашего позволения, — обиженно сказал Лев Иванович.
— С чем вас и поздравляю, — искренне сказала Алёна. — Но я имела в виду того Москвича, у которого «Ниссан» угнали.
— Понял я, — вздохнул Муравьев. — Шутки у меня такие… шутки, ясно вам? Теперь фото вам понадобилось… Аппетиты растут с каждой минутой. Скажите, Елена Дмитриевна, в самом деле какое-то серьезное дело вырисовывается?
— Пока не знаю, — честно признала Алёна. — Но похоже на то.
— Ждите, — буркнул Муравьев, и Алёна, заранее сморщившись, отвела трубку от уха.
«Может, попросить Марину выскочить в «Евросеть» напротив и заплатить за мой телефон? — мелькнула мысль. — Хотя деньги сразу на счет все равно не поступают, вроде бы какое-то время проходит… Так что остается только молиться, чтобы связь не прервалась!»
И Алёна принялась молиться, и молилась, наверное, не менее пяти минут, когда раздался голос Льва Ивановича, усталый и безнадежный, словно голос галерного раба, который знает, что грести ему по этому синему морю — не перегрести:
— Нашли вам фото. Даже два — анфас и профиль. Этот Москвич, оказывается, привлекался, так что в компьютере сохранились его портреты. Говорите факс, куда сбросить?
Марина, которая слушала разговор наивнимательнейшим образом, схватила ручку и написала на листке номер.
Алёна продиктовала номер Муравьеву. Слышно было, как он повторил его — наверное, тому человеку, который должен был переслать фотографии, а потом спросил сладким хамским тоном:
— А теперь, Елена Дмитриевна, если я исполнил все ваши желания, может быть, вы позволите мне вернуться к моим прямым и непосредственным обязанностям?
— Да ладно, — пожала плечами Алёна. — Пока возвращайтесь. Если вы мне понадобитесь, я вам еще позвоню.
— О господи! — простонал Лев Иванович и отключился.
Алёна тоже выключила свой телефон и посмотрела на Марину, ожидая неизбежных вопросов насчет того, какого высокого чина она столь беззастенчиво употребляла в своих целях, однако Марина уже стояла около факса и смотрела на ползущую оттуда бумажную ленту.
— Не совсем понимаю, что нам даст это фото, если машина в угоне, — пробормотала она. — А, Алёна?
Алёна не ответила. Не без изумления смотрела она на изображение на ленте. Снимок анфас вышел довольно расплывчатым, можно было понять только, что у человека довольно грубые и тяжелые черты лица, зато профиль отпечатался очень четко. Вот на него-то, на этот профиль, и уставилась Алёна, причем изумление ее росло поистине с каждой секундой.
И неудивительно, потому что именно этот профиль она вчера наблюдала… в собственной прихожей!
Обладатель именно этого профиля ввалился к ней вчера чуть ли не в полночь. В обладателя именно этого профиля она нечаянно выпалила из своей газовой «беретты», так что он, чуть жив, вывалился из квартиры, а потом и из подъезда, едва не сбив с ног Дракончега на крыльце, а потом бросился к «Ниссану», стоявшему на том же месте, где всегда парковался Дракончег…
Что?!
Опять «Ниссан»? Не слишком ли много «Ниссанов» за один день жизни писательницы Дмитриевой?
Алёна снова схватилась за телефон и, вознеся мысленную молитву Будде МТС, вызвала номер, зашифрованный как «Др».
Вообще звонить друг другу у них было не принято. Все-таки Дракончег был женат, и Алёна совершенно не хотела осложнять ему жизнь даже мало-мальски. Они обменивались эсэмэсками, а телефон оставался для самых экстренных ситуаций. Но сейчас ведь и была такая ситуация!
Вообще Дракончег мог и не взять трубку, мало ли что! Но он все же ответил.
— Привет, это я, извини, больше не буду, срочное дело, — на одном дыхании протараторила Алёна. — Ты вчера случайно не заметил номера «Ниссана»?
— Какого «Ниссана»? — изумился Дракончег. — Ты это о чем?!
— Вчера ты видел около моего подъезда машину, помнишь? — терпеливо объяснила Алёна. — Ну, она еще стояла около моего подъезда. В нее еще сел тот мужик… кашляя, как припадочный. Помнишь?!
— Ах да! — вспомнил Дракончег. — Точно, это был «Ниссан». Только номера я не заметил.
Алёна безнадежно кивнула. Полоса везения кончилась, конечно. Чапека Дракончег не читал: он читал только интеллектуальную модную литературу, желательно удостоенную премии Букера или уж Нобелевской. Подобной литературы Алена Дмитриева не выносила, но относилась к противоестественным увлечениям своего кавалера снисходительно. Он тоже относился снисходительно к ее, извините за выражение, творчеству и ничего из ее многочисленных книг в руки не брал.
Да и ладно, зато другие брали, берут и, хочется верить, будут брать!
— А цвет? — спросила Алёна на всякий случай. — Ты не заметил, какого он был цвета?
— Серый, — последовал ответ.
Сердце Алёны дрогнуло.
— В том смысле, что ночью все кошки серы? — спросила она, боясь поверить.
— Да при чем тут кошки! Я рядом проходил, протискивался мимо, можно сказать, так что не мог не заметить цвет, хоть и темно было. Серый он был, точно говорю, серый! А что?
— Ничего, все нормально, спасибо тебе, — пробормотала Алёна. — Я тебе потом позвоню, ладно?
— Погоди, а когда мы…
Голос Дракончега оборвался на сакраментальном вопросе: видимо, терпение Будды МТС наконец иссякло. Но Алёна этого даже не заметила, потому что в ту самую секунду дверь отворилась и в редакцию вошли две девушки. Те самые, которые тянули в разные стороны белого медведя на фотографии. Те самые, которые вчера пропали, увезенные на сером «Ниссане» в неизвестном направлении…
Пропажа нашлась!
Мезенск, 1942 год
Разумеется, Лиза проспала. Ее разбудил отец Игнатий, и вид у него был такой злой, что она поостереглась начинать вчерашние беседы насчет не хочу — не могу — не буду. Еще придушит этот безумный фанатик!
Ладно, что делать, пока, значит, придется склониться перед превосходящими силами противника. Но при первой же возможности…
Отец Игнатий несколько оттаял при виде ее демонстративной покорности и немедленно потащил к фрау Эмме.
Хозяйка «Rosige Rose» жила в том же здании, только вход находился не со стороны Липовой улицы («Lindenstrass» — гласила новенькая табличка), а со стороны какого-то Lindensackgasse. Лиза некоторое время мучилась над переводом, но отец Игнатий подсказал, что это означает Липовый тупик.
Звучало название весьма двусмысленно, однако тупик и впрямь оказался тупиком, совершенно даже не липовым: короткий проулок в два дома с одной стороны и в два дома с другой. Пятый дом замыкал проулок, образуя тупик. Этот дом, облезлый, облупленный, неприглядный, был обратной стороной «Розовой розы», которая сияла свежей краской фасада (само собой, розового).
Лиза ничего не имела против того, что им с отцом Игнатием придется явиться не с парадного входа заведения. Можно вообразить, какая там царит обстановка! Все-таки это не столько ресторан, сколько, прямо скажем, бордель. Она гнала от себя мысли о том, что ей хоть несколько дней, но придется в этом борделе поработать…
Они с отцом Игнатием вошли в обыкновенный подъезд, чистый, хотя и давно не ремонтировавшийся. Обвалившаяся штукатурка, дверь, обитая черным дерматином с торчащим из-под него ватином, перекрещенная дранкой. На стене болтался электрический звонок, вырванный с мясом.
Отец Игнатий придержал его одной рукой, указательный палец другой воткнул в кнопку.
Зацокали каблуки. «Она что, дома на каблуках ходит?» — удивилась Лиза. И первым делом посмотрела на ноги открывшей женщины, а уже потом на ее фигуру и лицо.
Фрау Эмма и в самом деле ходила дома в шлепанцах на высоком каблуке, да еще и с помпонами, а также в бордовом кимоно, расписанном драконами и золотыми розами.
Пахло сиренью. Лиза даже оглянулась, отыскивая букет, но тотчас вспомнила, что на дворе июль, какая может быть сирень. Это духи у фрау Эммы такие — сирень.
Лиза повнимательней взглянула на хозяйку.
Ей было, конечно, за сорок, и далеко, но Лиза не рискнула бы угадывать, насколько далеко. Женщина неопределенного возраста, что называется. Высокая, худая, она была немного похожа на Марлен Дитрих с этим ее чуточку хищным, чуточку безумным лицом. Собственно, безумными были в основном глаза… не то чтобы безумными, а странными. Главная странность заключалась в том, что эти очень красивые, большие, холодные серые глаза иногда жили своей жизнью, не имеющей отношения к тому, чем была занята в этот момент их обладательница. Лиза потом убедилась, что фрау Эмма могла думать и говорить о чем угодно, болтать, браниться — а она, как выяснилось, умела жутко, непотребно, виртуозно ругаться матом по-русски! — но глаза ее при этом думали о своем: страдали, мечтали, смеялись, — и порой это находилось в таком диссонансе с выражением лица и тем, о чем она говорила, что наводило на мысль о некоторой ненормальности. Например, Лизе предстояло стать свидетельницей того, как фрау Эмма бранит нерасторопного писаря городской управы — из русских. Брань, которая срывалась с ее уст, заставила бы покраснеть боцмана, а глаза при этом оставались задумчивыми и даже мечтательными, как если бы фрау Эмма не материлась, а читала вслух, ну, например, Блока:
Вновь оснеженные колонны, Елагин мост, и два огня, И голос женщины влюбленной, И хруст песка, и храп коня…Впрочем, при этой странности все повадки у фрау Эммы были не просто нормальной, но весьма хваткой, поистине деловой женщины. И тут эти неопределенные, «плавающие» глаза могли, оказывается, быть не просто внимательными, но видеть насквозь и человека, и ситуацию. Выслушав от отца Игнатия историю злоключений «его внучки» на берегу при обстреле (об этом гудел весь город, только об этом, и, конечно, русские с трудом сдерживали злобную радость, и было уже известно несколько случаев, когда немцы на месте расстреливали таких злорадных и неосторожных), фрау Эмма сказала, глядя на залитую чернилами страницу аусвайса:
— Ну и ну, вот странно, что ваши вещи, Лиза, не сгорели при взрыве грузовика, не были повреждены пулями, а пострадали от такой бытовой, невинной оплошности.
Лиза пролепетала что-то об иронии судьбы, отец Игнатий поддакнул, а Лиза с досадой подумала, как же они это сплоховали: ведь пропажа документов во время того обстрела — причина безусловно уважительная, не требующая никаких объяснений в городской управе! Но через несколько мгновений она думала уже иначе…
Фрау Эмма сказала, что согласна похлопотать, однако в городской управе существует такой порядок: если нужно документы выписать срочно, в обход общей очереди, русский житель оккупированной территории должен предоставить поручителя своей благонадежности — из числа немцев. Фрау Эмма спросила, есть ли такой поручитель у Лизы. Ну кого она могла вспомнить, кроме Алекса Вернера?! Пришлось назвать его, и тут же Лиза сообразила, что если бы они с отцом Игнатием ссылались на сгоревшие документы, этот номер у них не прошел бы: ведь Вернер знал, что документы целы! Узнай он, что Лиза оформляет новые бумаги, непременно почуял бы неладное.
Да, береженого Бог бережет, подумала тогда Лиза, и судя по легкому вздоху, который испустил отец Игнатий, та же мысль пришла и ему. Ну а теперь она спокойно могла сказать, что у нее есть знакомый обер-лейтенант из интендантской службы, который, наверное, не откажется подтвердить ее благонадежность.
— Интендантская служба? — Фрау Эмма вскинула свои тонкие, тщательно подбритые и подкрашенные брови так высоко, что они едва не коснулись золотистой шелковой косынки, повязанной на голове тюрбаном. Эта новая мода военного времени, вызванная к жизни элементарной необходимостью — отсутствием мыла, которое входило в разряд стратегической продукции, — Лизе совершенно не нравилась, но фрау Эмме, как это ни странно, тюрбан весьма шел. — Вернер? О, этот беспутный офицер вчера тут уже был и ужасно мне надоел, спрашивая о вас. Интересовался, давно ли я вас знаю, что вы за человек, есть ли у вас друг среди господ немецких офицеров… А у вас есть среди них друг? — резко спросила фрау Эмма.
Лиза замялась. Что сказать? Упомянуть Эриха Краузе? Лучше не надо.
— Сейчас нет, — сказала она, и этот ответ можно было понимать как угодно.
— Ну, — проговорила фрау Эмма, окидывая ее оценивающим взглядом, — не сомневаюсь, что свято место недолго будет пусто. Что касается обер-лейтенанта, он был очень любезен и обещал помочь раздобыть эффектную ткань для новых портьер в мой ресторан. Те, что сейчас висят, совершенно неприличны! И даже оставил свою визитную карточку со служебным телефоном. Это нам сейчас пригодится.
Она подошла к высокому зеркалу, за умопомрачительной — в стиле модерн — рамой которого были как-то очень простецки заткнуты несколько визитных карточек и открыток, и взяла одну из них. Подсела к большому, рогатому черному телефонному аппарату, стоявшему на хорошеньком, очень будуарном столике (тоже модерн!), и сняла трубку.
Лиза чуть приподняла брови. Она уже знала, что телефоны у всех жителей города были отключены, оставались только в тех домах, где жили высшие чины германского командования, и само присутствие телефона в квартире фрау Эммы говорило очень о многом.
«Овчарка, — подумала Лиза брезгливо. — Самая типичная немецкая овчарка!»[12]
— Господина Вернера, будьте любезны, — проговорила между тем «овчарка» на столь безупречном немецком, что о нем захотелось сказать, мол, это и есть истинный язык Шиллера и Гёте, а вовсе не та хрипловатая лающая скороговорка, на которой изъяснялись оккупанты. — Герр обер-лейтенант, это говорит Эмма Хольт…
Разговор не затянулся. Вернер мигом согласился написать необходимое поручительство и даже предложил встретиться всем вместе в городской управе, тем паче что она находилась в двух шагах от места его службы — интендантского управления.
После этого фрау Эмма попросила Лизу подождать и отправилась переодеваться. Отец Игнатий ушел — пора было открывать ломбард. На прощанье он украдкой погрозил Лизе пальцем, и та не удержалась — показала язык строгому старику. Он погрозил пальцем и ткнул в окно. Лиза вздохнула: где-то там караулил Петрусь с винтарем наизготовку, конечно. Отец Игнатий ясно давал понять, что недреманное око подпольщиков без устали за ней следит. Насильственная вербовка в героини продолжалась…
Сзади зацокали каблуки, и Лиза оглянулась.
Темно-русые волосы приподняты валиком над высоким лбом, а сзади волнами ниспадают на плечи, цветастое платье с неимоверно широкими плечами, воланами на груди и пышной короткой юбкой, чулки-сеточка, туфли с пуговками и на высоченных каблуках, черная сумка-планшетка через плечо… Рядом с этим платьем скромное Лизочкино, на сей раз не черное креп-жоржетовое, а синее крепдешиновое с белым кружевным воротничком платье, казалось просто линялой тряпкой, честное слово!
Черт, откуда у нее такие наряды?! Халат невероятный, платье еще более… Где она их шьет?! «Да не шьет, а все небось отнято у людей! — с ненавистью подумала Лиза. — Как фольксдойче, к тому же бывшая жертва большевиков, она пользуется особым расположением господ немецких офицеров. Овчарка!»
Впрочем, мамина работа состояла в том, что приходилось довольно часто и нагло врать людям в глаза. Лиза и сама как-то незаметно научилась.
А впрочем, тут врать не придется, вот жалость-то!
— Это сногсшибательно, фрау Эмма, — с самой ослепительной улыбкой на свете сказала Лиза. — У вас невероятный вкус!
Та дрогнула углом красивого, хотя и несколько тонкогубого (всё у нее по моде, даже тонкие губы!) рта, накрашенного темно-красной помадой, и сказала только:
— Поехали.
У фрау Эммы оказался потрясающий автомобиль с бордовой кабиной и белыми крыльями, сверкающий свежей краской.
— Как он называется? — спросила совершенно ошеломленная Лиза. — Вот это машинка!
— «Опель-адам», причем почти новый, ему лет семь-восемь всего.
Сидя рядом с фрау Эммой в уютном салоне, где пахло бензином и духами («бензина запах и сирени остановившийся покой», — немедленно вспомнилось из старой-престарой, еще дореволюционной книжки Ахматовой), Лиза дикой, страстной завистью завидовала этому автомобилю и этой небрежно-элегантной манере водить. Садясь за руль, фрау Эмма надела тончайшие замшевые перчатки с крагами, и, честное слово, если бы она еще сжала своими тонковатыми, густо накрашенными губами сигарету в янтарном (непременно янтарном!) мундштуке, Лиза просто завизжала бы от зависти.
Обошлось, на счастье, иначе, конечно, знакомство ее с фрау Эммой кончилось бы, едва успев начаться, а отец Игнатий подвел бы некачественную подпольщицу под скорый, но справедливый суд народных мстителей.
Они свернули за угол, притормозив перед перекрестком, который пересекал тяжелый грузовик (светофоры не работали, водителям приходилось надеяться только на свою внимательность), и Лиза, посмотрев в окно, так и ахнула:
— Боже мой! Да это же… это…
Гитлеровец в солдатской форме непринужденно справлял нужду под деревом на виду у всех.
— Ну и хам! Ну и… — Лиза задохнулась от возмущения.
Фрау Эмма молчала. Ее красивое лицо ничего не выражало.
— Потомки Шиллера и Гёте, черт вас возьми, — прошипела Лиза. — Освободители Европы от жидо-масонского ига! Поганцы, прости господи, и больше ничего!
Фрау Эмма все молчала.
Вообще, конечно, Лизе тоже следовало бы помолчать. Но, как часто говорила мама, любившая «Двенадцать стульев», Остапа понесло, и поделать с этим было невозможно совершенно ничего:
— А впрочем, вы же их ждали, этих чертовых освободителей! Вы же их хлебом-солью встречали!
— Вы полагаете, что я их одна ждала? — не поворачиваясь, очень сухо сказала фрау Эмма. — Я одна, что ли, встречала их хлебом-солью?.. Помню, мы уже знали, что немцы вот-вот войдут… как странно, что я называю их немцами, да? А сама-то кто? — вдруг хмыкнула она. — Ну вот, видим, стало быть, что идут два настоящих немецких солдата. Все бросились к ним. Бабы, соседки, немедленно вынесли какие-то конфеты, кусочки сахара, белые сухари. Все свои сокровища, которые сами не решались есть, берегли не знаю как, даже в последние дни, когда уже продуктов не было, когда за керосином стояли очереди фантастические, картошку по огородам воровали, — сами не ели, а вот солдатам принесли.
— Не может быть! — зло сказала Лиза.
— Еще как может! — усмехнулась фрау Эмма. — Нужно смотреть правде в глаза: вся Россия страстно желала победы врагу, какой бы он там ни был. Этот проклятый строй украл у русских все, в том числе и чувство патриотизма.
— Ну, вы за всю Россию погодите говорить, — буркнула Лиза. — Немцев бьют в хвост и гриву, насколько я слышала!
И прикусила язык… Ох, что-то разговорилась она… что-то разболталась! Вот сейчас фрау Эмма как развернет свой «Опель-адам» по направлению к зданию гестапо, которое не столь уж и далеко отсюда, в таком-то маленьком городке!
Однако фрау Эмма никуда «Опель-адам» не разворачивала.
— Ну, сейчас, может быть, и бьют, — согласилась она снисходительно. — Но в первые-то месяцы войны позорное отступление было невероятным, согласитесь. Думаете, только внезапность нападения свою роль сыграла? Народ намучился до отчаяния, настрадался! Вы не из Мезенска, не знаете, как тут было. Когда война началась, продуктов почти никаких достать было нельзя. За хлебом очереди на полкилометра — и больше ничего. Ох, как тогда всё проверялось… Одна моя соседка — партийная, между прочим, учительница истории, рыльце у нее очень сильно было в коммунистическом пушку! — бегала все время из своей комнаты на помойку соседнего двора с охапками красных томов Ленина… Царила дикая шпиономания. Население с упоением ловило милиционеров, потому что кто-то пустил удачный слух, будто немецкие парашютисты-диверсанты переодеты в форму милиционеров. Люди, конечно, не всегда были уверены в том, что милиционер, которого они поймали, немецкий парашютист, но не без удовольствия наминали ему бока. Все-таки какое-то публичное выражение гражданских чувств! Ненавидели советских, ненавидели — и было за что! Однажды, незадолго до взятия Мезенска, немцы сбросили листовки с предупреждением, что будут бомбить привокзальный район. Несмотря на все кары, которыми советские власти грозили за прочтение листовок, они были все же прочитаны. Некоторые хотели уйти из этих домов. Но район был оцеплен милицией, и не только никто не смел выселиться, но даже и за хлебом не пускали.
— Ну, это, конечно, провокация была, — пожала плечами Лиза. — Чтобы панику посеять. Ничего не бомбили, верно?
— Бомбили, и зверски. Причем, как обещали, только привокзальный район и вдоль железной дороги. Ох, сколько людей погибло… А ведь этих жертв можно было избежать.
Теперь молчала Лиза. А вот их никто не предупреждал, никакие добренькие фашисты… Их просто разбомбили. А потом расстреляли из пулеметов. Весь эшелон.
Нет, не надо вспоминать, от этих воспоминаний жить не хочется!
— Но знаете что? — сказала вдруг фрау Эмма. — Я тоже ждала потомков Шиллера и Гёте. А дождалась… — Она передернула плечами. — Одно могу сказать: раньше я жалела о том, что наполовину немка, а теперь рада, что наполовину русская.
Лиза недоверчиво смотрела на этот надменный профиль со стиснутыми губами.
Провокация, конечно. Точно провокация… А может, и нет. Ладно, не ее это дело, расследовать душевные бездны немецкой «овчарки» фрау Эммы Хольт! Лизу вдруг стукнуло неожиданной догадкой. Если Эмма хорошо знакома с отцом Игнатием, она наверняка знает, что его дочь и внучки живут в Горьком. Как же, интересно, старик объяснил ей Лизочкино появление в Мезенске? Как-то объяснил, но как, Лиза об этом не знает. А отец Игнатий забыл ей сказать. Что, если в городской управе спросят?! Ну какая, какая причина могла ее сюда привести?!
— Я думаю, — раздался в это мгновение холодный голос фрау Эммы, — у вас тоже не осталось тех иллюзий, с которыми вы дезертировали из Красной армии и добрались до Мезенска. Я вас понимаю. Все же я наполовину русская, и меня тоже не могут не оскорблять и зверства, и жестокость, и глупость наших так называемых освободителей. Ну, предположим, с евреями пусть делают что хотят…
— Как что хотят? — ужаснулась Лиза. — Вы одобряете гетто, желтые звезды и все такое?!
«Молчи, идиотка! — тут же одернула она себя. — Молчи, ради бога!»
— Вы принадлежите к жалельщикам евреев, так, что ли? — фыркнула фрау Эмма. — А до войны, конечно, страшно жалели бедных негров в Америке? Интересно, а жалели вы своего русского раскулаченного мужика, которого на ваших глазах вымаривали, как таракана? Или вы, как все русские, способны жалеть только чужих, ну а своих — своих бей, чтоб чужие боялись? Не замечаете, конечно, что именно русских целенаправленно уничтожали большевики — уничтожают и гитлеровцы. Мы-то живем сейчас недурно, что я, что ваш дед, куда лучше, чем раньше, а вот остальным наша прежняя подсоветская нищета кажется непостижимым богатством. У людей нет ниток, пуговиц, иголок, спичек, веников и многого, что прежде не замечалось. Особенно тягостно отсутствие мыла и табака. От освещения коптилками, бумажками и прочими видами оккупационной электрификации вся одежда, мебель и одеяла во многих домах покрыты слоем копоти… Ладно, так я о чем? Ах да! Об этих пресловутых потомках Шиллера и Гёте! Немцы цивилизованны, но не культурны. Русские дики, невоспитанны и прочее, но искра Духа Божия, конечно же, в нашем народе гораздо ярче горит, чем у европейцев. Разумеется, и среди немцев есть люди, но все же шантрапы больше. Война, фронт и прочее, но от освободителей России хотелось бы чего-то другого. Между прочим, есть вещи, творимые этими самыми потомками, которых русское население им никак не прощает, особенно мужики. Например, немцам ничего не стоит во время еды, сидя за столом, испортить воздух. Громко, без стеснения. Об этом рассказывал со страшным возмущением один крестьянин, у которого покупаю молоко. Он просто слов не находил, чтобы выразить свое презрение и негодование. Русский мужик привык к тому, что еда — акт почти ритуальный. За столом должно быть полное благообразие. В старых крестьянских семьях даже смеяться считается грехом. А тут такое безобразное поведение. И еще то, что немцы не стесняются отправлять свои естественные надобности при женщинах, вообще прилюдно, — вы сами только что видели. Как ни изуродованы русские люди советской властью, они пронесли сквозь все страстную тягу к благообразию. И то, что немцы столь гнусно ведут себя, причиняет русскому народу еще одну жестокую травму. Он не может поверить, что народ-безобразник может быть народом-освободителем. Знаете, какую частушку про них поют? «Распрекрасная Европа, морды нету, одна жопа!»
Лиза, которая сатанела даже от одного только намека на неприличные слова, и глазом не моргнула. Частушка была хороша. Нет, ну в самом деле, весьма хороша! Однако на что эта фрау намекает? Как реагировать? Возмущаться, угодливо улыбаться? Опасные разговоры она ведет при незнакомом человеке! Или настолько доверяет отцу Игнатию, что подразумевает: его внучка не может оказаться предательницей? Или все же провокация?
— С другой стороны, надеяться нам, кроме как на немцев, не на кого, — совсем другим тоном, лишенным даже оттенка прежней горечи, проговорила фрау Эмма. — И я прекрасно понимаю, почему вы идете на работу в такое сомнительное заведение, как «Розовая роза», а ваш дед, священник, праведник, не просто не препятствует, но еще и протежирует вам. Вы, конечно, хотите найти себе состоятельного друга, кого-то вроде Алекса Вернера, и заручиться поддержкой значительных лиц, от которых будет зависеть разрешение на эвакуацию, когда до этого дойдет время. Об этом, такое ощущение, мечтают все красивые девушки. Знаете, еще полгода назад, пока еще не существовало «Розовой розы» — а она была открыта не по моей инициативе, ее открыли германские оккупационные власти, чтобы устраивать досуг офицеров, меня просто пригласили ее возглавить, — пояснила фрау Эмма со странной улыбкой, которую вполне можно было бы назвать извиняющейся, — еще полгода назад я зарабатывала себе на жизнь весьма оригинальным способом: гаданием. Моя бабка была гадалкой, и у меня сохранился если не дар, то некие знания. Моими клиентками были отнюдь не бедные русские бабы, разлученные с родней или мужьями и сыновьями, воевавшими на фронте. Моими клиентками были кралечки (я их так называла) германских офицеров. Парадоксально: чем больше девушка пользуется успехом у немцев, тем больше она сама привязывается к какому-нибудь гансу или фрицу, тем бо`льшая тоска у ней по дому и по прошлому. А что не все кралечки только продаются за хлеб и за солдатский суп, это совершенная истина. Цинично продающихся — весьма небольшой процент. И какие бывают крепкие и трогательные романы среди них! Гадать им, конечно, было очень легко. Король, любовь до гроба, скорая встреча, дорога. Это главное. Все они страстно мечтают о дороге. Куда угодно, только бы вырваться отсюда! Потом, когда открылась «Роза», многие пришли ко мне. Почти всех я взяла на работу. Вот так и вы будете искать своего короля.
— Слушайте, — недоверчиво проговорила Лиза, — мне показалось или вы упомянули об эвакуации? Вы в самом деле думаете, что она будет?
— Ни минуты не сомневаюсь, — зло фыркнула фрау Эмма. — Раньше, позже, но немцев выбьют отсюда. Потом откроет военные действия Америка — и все, Гитлер капут. Отсюда валом повалят. Но я в Германию не вернусь. И при большевиках не останусь. Хватит, нажилась у них. Я добыла себе морфий.
— Что? — повторила потрясенная Лиза.
— Морфий. Что, не слышали такого слова? Один из главных алкалоидов опия, содержится в маке снотворном, химическая формула C17H19NO3, — усмехнулась фрау Эмма. — Безболезненная, прекрасная смерть. Немедленно по приходе красных отравлюсь. И это не красивые слова. Я ждала гитлеровцев, как ждут спасения умирающие. Ладно, я готова терпеть, что они не такие, как мне мечталось, я готова жить, зная, что в любое время дня и ночи военные патрули могут ввалиться к тебе в комнату и проверить, нет ли у тебя в кровати немецкого солдата, а под кроватью — большевистского шпиона. Это война. Но полного и окончательного крушения надежд, советского, большевистского зверства над собой я просто не переживу. И даже переживать не собираюсь. Морфий хранится в туалетном столике рядом с моей кроватью. Только руку протяни! Сказать правду, такое ощущение меня иногда одолевает… А впрочем, я шучу. Это моя последняя шлюпка при кораблекрушении! Ну вот, мы приехали. Это управа, а вон тот обер-лейтенант на ступеньках — это, если мне не изменяет зрение, ваш Алекс Вернер.
Лиза смотрела на улыбчивого лощеного офицера со странным выражением. Он и раньше вызывал у нее неприязнь, а уж после того, как фрау Эмма чуть ли не записала ее в кралечки Алекса, на него и вовсе смотреть не было охоты.
Как хорошо, что с ней не поехал отец Игнатий! Алекс непременно насторожился бы, да что — их встреча была бы просто катастрофой!
Вскоре Лиза, к изумлению своему, обнаружила, что это нежелание смотреть друг на друга было взаимным. Вернер открыл дверцу «Опеля» перед фрау Эммой, а Лизе пришлось выбираться самостоятельно. Фрау Эмма воспринимала его галантность как нечто само собой разумеющееся, с элегантной, насмешливой небрежностью. Они пошли вперед, превесело болтая на немецком, который оказался для Лизы слишком уж быстрым. Впрочем, она и не вслушивалась, а просто изумлялась тому, что Вернер едва поздоровался с ней. Она значила для него не больше, чем горничная фрау Эммы. До встречи с той «овчаркой» он был совсем другим! Тогда, на острове, да и потом, когда вез ее в город…
«Господи! — вдруг спохватилась Лиза. — Да я что, спятила?! Я что, ревную фашиста к фашистке?! К старухе?!» И она вспомнила, как Петрусь хмыкнул, когда она назвала Эмму глухой и слепой старухой… Итак, фрау Эмма относилась к тому странному разряду немолодых женщин, которых терпеть не могут и молодые, и старые — именно из-за того, что те никак не могут постареть. Точно такой же была и мама. Все Лизины кавалеры немедленно начинали сходить с ума по ее маме. Лизу это ничуть не огорчало, а только смешило, потому что не было у нее в жизни ни единого кавалера, которым стоило бы дорожить. К тому же мама обещала, что и сама Лиза когда-нибудь станет таким же «неувядающим цветком», как она это называла.
Чуть ли не впервые воспоминание о маме не вызвало приступа горя. Сейчас, при взгляде на Алекса, Лизе стало просто смешно.
Ну и хорошо, ну и отлично, ну просто замечательно, что Алекс — такая мягкая глина в руках фрау Эммы! Его любезность распространилась до того, что он пошел с женщинами в кабинет, где вел прием чиновник фольксдойче (длинная очередь проводила их взглядами, полными покорной ненависти), ведающий оформлением аусвайсов. Дальнейшее происходило со сказочной скоростью: фотография, заполнение куцей анкеты и так далее. Лиза старалась писать так же, как Лизочка: текст песни про юность, которая прошла голубыми туманами, пронеслась и скрылась, как лихой, буйный шквал, так и стоял перед ее глазами — это был единственный образчик почерка Лизочки. Впрочем, вряд ли кто-то взялся бы сличать почерк на старой и новой анкете: чиновник посетовал, что эти анкеты никто не хранил, они уничтожались через три месяца после выдачи аусвайса, иначе немцы потонули бы в бумагах, и даже при всей склонности этой нации к образцовому орднунгу они не доходили до такой степени бюрократичности. Вот и слава богу, подумала Лиза, ведь на старой анкете была бы фотография настоящей Елизаветы Петропавловской!
За готовым аусвайсом следовало явиться уже завтра.
— Ну, тут вы обойдетесь, наверное, без меня, — сказал Вернер, наконец-то удостоив Лизу приветливой улыбкой. — Я спешу. Но имейте в виду, я приду в «Rosige Rose» в ваш дебютный вечер. Просто чтобы сразу дать понять господам офицерам, что им на вашу благосклонность не следует рассчитывать, ведь, как выразились бы французы, вы ангажированы! И прошу вас отныне, фрейлейн Лиза, называть меня просто Алекс. Прощайте, дамы.
Фрау Эмма хмыкнула, окинула уходящего Вернера самым сардоническим взглядом и пошла к машине, бросив на прощание Лизе:
— Ну, я же вас предупреждала! Мои предсказания всегда сбываются. Вот и искомый король. До завтра, Лиза! Как получите аусвайс, немедленно загляните ко мне, в «Розу».
Далекое прошлое
Теперь о «роковой Авроре» зашептались и в Петербурге, и в Москве. Она не хотела слушать никаких утешений, не хотела даже с сестрой говорить: уехала в крохотное именьице Муханова, село Успенское, которое теперь по закону принадлежало ей, затворилась там, скрылась от всех, от молвы, сочувствия, злословия на два года.
Разумеется, Эмилия понимала ее горе, ее страх перед ударами судьбы, но она не могла смириться с тем, что красавица сестра заживо похоронила себя в такой-то глуши. У нее у самой жизнь складывалась прекрасно: она была любящей и любимой женой, заботливой матерью, блестящей светской дамой. С помощью графа Ребиндера, друга семьи, Эмилия стала хлопотать, чтобы Аврору зачислили в штат фрейлин императрицы. Та любила окружать себя прекрасными цветами, несмотря на то что Николай Павлович порою вдруг принимался повесничать. Хлопоты увенчались успехом, и Аврора принуждена была покинуть глушь и мрак заточенья и явиться на фрейлинскую службу.
Между прочим, это была весьма выгодная служба, не говоря уже о ее почетности. Фрейлины жили во дворце на всем готовом и получали от двух до четырех тысяч рублей в год. Жалованье сие было сравнимо с генеральским. Как правило, императрица, которая своего мужа обожала и считала, что ее семейная жизнь складывается весьма счастливо, с удовольствием устраивала личную жизнь своих фрейлин. Так что, послужив при дворе, у каждой имелся шанс весьма выгодно выйти замуж.
При виде прекрасной и печальной Авроры сердце добродушной Шарлотты, вернее сказать, императрицы Александры Федоровны, дрогнуло от жалости. Она немедленно перетасовала мысленно колоду всех известных ей женихов (такая колода непременно хранится в голове у каждой светской женщины, совершенно как у цыганки — в кармане ее необъятной пестрой юбки), с негодованием отбросила одних королей и валетов, с сомнением отложила в сторону других, и вдруг с восторгом уставилась на пикового короля, имя которому было — Павел Демидов.
Нижний Новгород, наши дни
Сирень цвела вовсю и у соседнего дома, и около того, в котором жила Алёна, и она подумала, что такой вот конец мая, который выдался в этом году, — самое лучшее время для жизни. Обычно в такие дни она останавливалась, что называется, под каждым кустом — нанюхаться сирени вволю, а когда черемуха цвела — останавливалась под каждой черемухой, а когда цвели яблони — под каждой яблоней, хотя, конечно, под ними приходилось стоять подольше, ведь аромат яблонь — тонкий и нежный, в голову не ударяет, его надо улавливать и ноздрями, и ртом, и словно бы всем существом своим, и глаза никак нельзя закрывать, потому что зрелище цветущих яблонь, яблоневых нежных цветов, белых, чуточку розоватых и прозрачных, — одна из самых красивых картин на свете. То есть это Алёна Дмитриева так думала. Хотя она не стала бы спорить, что зрелище цветущей сирени тоже обалденно-красивое. Ну а запах жасмина, цветение которого еще впереди, тоже заставит ее стоять под каждым кустом.
Вчера еще, примерно в эту же пору возвращаясь домой, она просто наслаждалась жизнью и весной, наслаждалась легко и радостно, как и положено наслаждаться, однако сегодня настроение было не столь безоблачным. Мысли мешали. Много думать вообще вредно, это всем известно, поэтому выражение «Во многой мудрости — многая печаль» вполне можно назвать не постулатом, а аксиомой, но гораздо более многая печаль в мыслях, которые бестолковы. Проще говоря, утомительно и огорчительно задавать себе вопросы, на которые не можешь ответить. Скажем, эта история с журналистками.
Ну да, они нашлись. Но так никто и не понял, почему они пропадали!
Конечно, можно себе представить, что началось в редакции, когда они вдруг появились. Визги, слезы, объятия, поцелуи… Девушки были, в общем, в порядке (первым делом Марина озабоченно спросила, не насиловали ли их, ну так вот — ничего такого не было), только физиономии у них были чумазые, пыльные, со следами слез. И обе девушки ужасно хотели есть.
— Еды нам никакой не давали, — рассказала Катя, — но ладно, хоть вода была. Из-под крана, правда, но и на том спасибо. Только она такой тоненькой струйкой шла, что даже умыться толком не удавалось, поэтому здорово было бы сейчас под душ. И поесть… можно кого-нибудь в «Макдоналдс» послать? Мне два бигмака, большую картошку фри и два пирожка, лучше с яблоками, но можно, в принципе, любых. И фанту со льдом. Да, еще мороженое с карамелью. А к бигмакам соус карри, хорошо?
— Мне то же самое, только не карри, а кетчуп, и три пирожка, — присоединилась Таня.
Между прочим, никто, ни одна живая душа в редакции не выразилась в том смысле, что в «Макдоналдсе» едят одни плебеи, а человек — это то, что он ест. Промолчала даже известная поборница здорового питания и всевозможных диет Алёна Дмитриева. Раз в год (ну, скажем, раза два или три… иногда четыре) она тоже позволяла себе оторваться на канцерогенах. Обычно это происходило, когда она страшно, нечеловечески уставала или ощущала, что количество диет уже переходит в качество — отвращение к жизни. Нездоровая и неправильная еда из «Макдоналдса» обладала поразительным свойством: она все ставила на место в ее мироощущениях и заставляла смотреть на мир куда более благосклонно, чем, к примеру, трехдневное голодание!
— Погодите, — изумленно сказала Марина, — так вы что, когда сбежали, прямиком приехали в редакцию, даже не поели нигде?!
— Ну да, — кивнула Катя. — Мы сразу поймали такси, хотя страшно было, конечно, снова садиться в случайную машину после того, как мы так влетели с этим «Ниссаном», и помчались сюда. Еще бы! Ведь это такая сенсация — похищение двух журналисток!
Марина с гордостью посмотрела на Алёну: вот, мол, какие девчонки у меня работают. Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете… На глазах у нее даже слезы умиления выступили. В смысле, у Марины они выступили. Ну а Алёна изобразила в своих сухих глазах подобающий случаю восторг, но подумала, что именно поэтому, наверное, и забросила журналистику, которой когда-то, в былые молодые года, занималась: слишком уж она любила себя, любимую, слишком уж сибариткой была, и никакая сенсация не могла бы отвлечь ее от мыслей о хорошей еде и горячем душе.
Впрочем, Таня немедленно внесла нотку трезвости в эту симфонию умиления.
— Да и вообще, у нас дома хоть шаром покати, — сказала она прозаично. — И горячую воду как раз отключили, а здесь же душ работает?
— Работает, работает, — успокоила Марина. — Давайте, идите.
Первой под душ пошла Таня. Катя еще раз продиктовала младшему редактору Людочке длинный список того, чем следовало запастись в «Макдоналдсе», и жадно закурила, повалившись в кресло и так блаженно вытянув ноги, как будто прошедшие сутки провела, сидя на корточках.
Ну вот наконец-то можно было начинать задавать вопросы, что Алёна и начала незамедлительно делать:
— Что произошло? Как вы попали в этот «Ниссан»? Я ведь видела, как вы в него садились — вас вроде бы никто силком туда не запихивал!
— Совершенно никто, — сказала Катя. — Но когда наша редакционная машина сломалась и мы начали другую ловить, вдруг остановился этот «Ниссан», вышел этот симпатичный парень — нет, ну он правда очень симпатичный, бездна обаяния! — и говорит, мол, пресса опаздывает как обычно? А я говорю, откуда он знает, что мы — пресса? А он говорит, что видел меня по телевидению, когда показывали репортаж о конкурсе репортеров Нижнего. Мы с Танькой как раз победили, и нас награждали. Он это видел. Восхищен, все такое, и с удовольствием подвезет нас туда, куда надо. Ну, мы и сели. И поехали. А вы нас заметили, да? Я на вас смотрела…
— Я вас заметила, но не могла вспомнить, где раньше видела, — усмехнулась Алёна. — И потом, когда пришла в редакцию и узнала, что вы исчезли, вспомнила, что вы садились в серый «Ниссан». Но погодите, девушки. Рассказывайте по порядку. Где вас держали? Как же вам удалось сбежать? И что от вас вообще хотели?
— Да черт их знает, чего они от нас хотели! — пожала плечами Катя. — Они только все время талдычили, чтобы я не лезла, куда не следует. «Хочешь жить — сиди и не суйся не в свое дело!» — таков был общий смысл всей этой чепухи, которую они несли. Я пыталась спросить, в чем вообще проблема, чего от нас хотят, куда именно я не должна соваться, кто они такие и когда нас отпустят, но ни одного толкового ответа не было. «Обещай, что никуда не будешь соваться!» — вот и все. Но когда я снова и снова спрашивала, куда именно, они не отвечали. Вообще получалось, что Таньку со мной за компанию прихватили, а все дело в том, что я куда-то «совалась». Глупости какие-то! Не похищение, а фарс! — сказала Катя с некоторым как бы даже разочарованием. — Нас не мучили, не били, и мы не сбежали — это было просто невозможно, потому что эти два мужика сидели как привязанные около двери. Не с нашей стороны, нет, но дверь все время была открыта, то есть наше каждое движение стерегли. У них был пистолет.
— Настоящий? — уточнила Алёна.
— В каком смысле? — растерялась Катя.
— Ну, может, газовый или пневматический.
— Да фиг его знает. Большой черный пистолет, все как положено. Очень похожий на настоящий. Уточнять нам, если честно, не очень хотелось.
— Да уж наверное! — с ужасом передернула плечами Марина. — Но ты рассказывай, Катюша, рассказывай!
— Окна были закрыты ставнями или щитами какими-то, там было темно и сыро, из рощи — дом стоял совсем уж на окраине Сормова — несло каким-то противным ветром. Дом старый, рассохшийся весь, там в каждую щель дуло. Он был явно заброшенный, там рядом ни одной живой души, я думаю, наверное, они потому и выбрали такое место, что никто ничего не видел бы — просто видеть было некому, никаких соседей, дорога очень далеко. Ну так вот — они сидели там, за дверью, разговоров с нами не начинали, только если мы с Танькой начинали возмущаться и требовали нас отпустить или хотя бы объяснить, почему нас сюда привезли, они заводили эту мутату — мол, мне нельзя куда-то там соваться. Иногда они звонили по мобильному, иногда им кто-то звонил, но разговоров мы не слышали. И вот буквально час назад кто-то снова позвонил и что-то такое сказал, от чего они жутко, просто жутко перепугались. То есть сначала они мирно спросили, кто такой Муравьев…
Мезенск, 1942 год
Фрау Эмма уехала. Вернер скрылся. Лиза осталась одна. Никто не предложил отвезти ее домой. А почему они, собственно, были должны?.. С одной стороны, хорошо, что эти оба странных человека хоть на время оставили ее в покое, с другой — Лиза вдруг почувствовала себя одинокой и растерянной.
Что делать? Куда идти? Вернуться домой? Или все-таки попытаться сбежать? Она свободна. Присмотра никакого. Петрусь не поплелся следом, хотя этого следовало ожидать. Вполне можно попытаться…
Чтобы уйти из Мезенска, надо перейти мост. Там неподалеку линия фронта. Если умудриться ее пересечь, можно вернуться домой.
Пересечь линию фронта, да шутка ли сказать?!
Не шутка. Поэтому нужно все делать по очереди. Сначала перебраться через мост.
А как же взрыв в ресторане? А как же замысел подпольщиков, который невозможно осуществить без ее помощи?
«Да что вы ко мне привязались? — мысленно сказала Лиза отцу Игнатию и Петрусю. — Что, на мне свет клином сошелся? А если бы меня не оказалось на берегу в ту минуту, когда погибла Лизочка? Или если бы я не потащилась относить эту несчастную квитанцию, не попалась бы вам на глаза? Как бы вы обходились? Наверное, что-нибудь придумали бы, верно? Вот и теперь придумаете!»
Она не очень хорошо представляла себе дорогу к реке, но улица шла вниз, а река непременно должна бежать в низине. Значит, ей туда.
Лиза быстро шла по неширокой, неожиданно многолюдной улице. Ощущение невероятности происходящего, которое уже вроде оставило ее, накатило вновь при виде множества этих бледных, исхудалых, замученных и так плохо одетых людей. Почти у всех в руках были сетки-авоськи с какими-то свертками, кто-то нес узел, кто-то — заплечный мешок. Многие везли свои узлы на топорно сработанных двуколках или в детских колясочках. Наверное, тащили вещи или продукты на обмен, на одну из многочисленных толкучек, которые стихийно возникали чуть не на каждой площади. Зато какое безлюдье царило ночью! Вчера с наступлением сумерек город замер. Слышался только стук шагов немецких патрулей, обутых в сапоги с железными подковами. По центральной улице иногда мчались военные машины. Шум их моторов отдавался в соседних кварталах и нарушал и без того неровный сон Лизы.
Спуск становился все круче, и вот впереди, в просвете между домами, мелькнула сизая полоска. Река!
Лиза ускорила шаги и скоро оказалась на невысоком берегу. Остановилась, чтобы оглядеться. Через реку, к довольно большому селению, раскинувшемуся на противоположном берегу, перекинут мост — громоздкое, неуклюжее сооружение! Через него мчатся машины, едут телеги, идут люди. На обеих сторонах моста охрана. Людей пропускают почти беспрепятственно, документы проверяют выборочно, телеги досматривают все. Машины тормозят только те, у которых за ветровым стеклом нет зеленой таблички. Что на ней написано — неведомо, наверное, это какой-то особый пропуск.
Ну что, рискнуть? А если остановят? Сказать, что пропуск будет готов только завтра? Но за каким чертом ты без пропуска потащилась в соседнее село, где у тебя нет родственников? Вранье насчет того, что хотела вещи на продукты сменять, тоже не пройдет: во‑первых, у тебя нет вещей для обмена, во‑вторых, крестьяне сами везут все в город.
Лиза с тоской смотрела на реку.
«Я хочу домой! Я хочу туда, где нет войны! Ну есть же такое место на свете хоть где-нибудь! — думала она, чувствуя, как слезы текут по щекам. — Я не могу здесь! Я не героиня! Я не хочу участвовать ни в какой борьбе!»
— Слезы утри да не стой тут, а то привяжется, сволочь поганая! — проговорил кто-то рядом торопливо, неразборчиво, словно сквозь зубы, и Лиза всполошенно оглянулась.
Около нее стояла немолодая женщина в поношенном платье, с узлом в руках. Платок был низко надвинут, скрывая лицо. Она говорила с Лизой, но смотрела куда-то в сторону, и Лиза вдруг заметила, что туда же оглядываются все идущие мимо. Она тоже посмотрела — да так и обмерла.
Высоченный молодой немец, опираясь на железный плуг, вспахивал газон между домом и деревянным тротуаром. В плуг были впряжены четверо мужчин: исхудалых — кожа да кости! — в изорванной и грязной военной одежде. Лица их были туго обтянуты спаленной солнцем кожей, глаза ввалились. Они были босы.
«Да ведь это пленные! — вдруг поняла Лиза. — Такие же пленные, каких сегодня утром должен был привести пан Анатоль, чтобы вырвать бурьян на развалинах. Но здесь-то зачем пахать?! И как вообще можно было додуматься до этого?!»
Немец пахал деловито, старательно. Фуражка его была сдвинута на затылок, китель висел на изгороди, на белой нижней рубахе проступил пот. Подтяжки, которые придерживали брюки, натянулись на его напряженной спине. Было что-то невыносимо бюргерское в этих подтяжках! Он старался. Он пахал этот несчастный газон так деловито, как будто совершал некое чрезвычайно важное деяние. Невозможно было понять, поверить, что издевательство над людьми может доставлять удовольствие другому человеку, но это было несомненно. Его румяное от усилий лицо с тяжелым подбородком выражало торжество — наверное, тем, что никто, кроме него, до этого еще не додумался — пахать никчемушный газон на людях!
Вот он вытащил из-за пояса кнут и со всего размаха стеганул по пленным. Те рванулись, напрягли последние силы — лемех, запущенный глубоко в землю, тронулся с места.
Лиза рванулась вперед, но кто-то с силой вцепился в ее руку. Та женщина в платке…
— Нельзя, молчи, убьют! — прошипела она. — Или в гестапо отволокут. Терпи! Отольются им наши слезы! Пошли отсюда, а то вон патруль притащился, еще прицепятся.
Лиза оглянулась. Прохожие спешили пройти мимо. На всех лицах было написано страдание, которое они тщетно старались скрыть. Веселились только патрульные: два солдата и унтер-офицер. Они молча остановились, сначала таращились с туповатым изумлением, а потом дружно расхохотались.
Лиза резко отвернулась и пошла прочь от берега. Ни одной мысли не было у нее в голове. Она не размышляла о гитлеровской идеологии, изуродовавшей людей и опустившей их до скотского состояния. Она не думала о том, что земля должна гореть под ногами оккупантов. Она шла и тихо, истово молилась Богу о том, чтобы этот «пахарь» в подтяжках оказался в «Rosige Rose» в тот вечер, когда там рванут кислотные мины, которые пронесет туда она, Лиза.
Далекое прошлое
Демидову недавно исполнилось тридцать восемь. Он происходил из семьи знаменитых уральских заводчиков, некогда получавших дворянство и титулы из рук самого Петра I. Павел Николаевич был старшим сыном Николая Никитича Демидова, тайного советника и камергера, российского посланника во Флоренции. Его мать происходила из древнего рода Строгановых.
Павел получил блестящее образование. Проявляя «патриотическую ревность», в четырнадцать лет решил отправиться воевать против французов и для этого в 1812 году сформировал на средства отца специальный Демидовский егерский полк. Павел Демидов участвовал в Бородинском сражении. Однако дальнейшую карьеру сделал на гражданской службе. Он получил титул действительного статского советника, стал камергером двора, был награжден множеством орденов. В наследство Демидов получил горнорудные прииски на Урале и в Сибири, а также восемь фабрик, работавших на нужды армии.
Павел Демидов был известен своей страстью к коллекционированию. Его дом на Большой Морской напоминал восточный дворец, наполненный несметными сокровищами. Венцом его приобретений был знаменитый алмаз «Санси», некогда принадлежавший Карлу Смелому, затем утерянный, вновь найденный… легендарный, волшебный камень!
Свои богатства — поистине несметные! — Павел Николаевич тратил отнюдь не только на коллекционирование, но и не на кутежи и красоток, хотя и того, и другого в его жизни было много. Он стал одним из крупнейших российских меценатов и благотворителей. Однако здоровье его было слабым. Чем дальше, тем меньше времени мог он проводить без инвалидного кресла. Правда, явиться по приглашению императрицы во дворец он смог на своих ногах.
Выслушал ее просьбу, а затем получил приглашение на придворный бал. Пришел туда. Посмотрел в прекрасное, печальное лицо Авроры Шернваль. И между двумя вальсами, которые не танцевал, конечно, из-за своей болезни, сделал предложение.
И тут же Демидов выставил свои требования: он обеспечивает жене роскошное существование, а она никак не вмешивается в его жизнь, не пристает с разговорами и как можно реже появляется в гостиной.
Аврора так удивилась, что дала согласие…
Мезенск, 1942 год
Лиза не помнила дороги домой. Вообще странно, что не заблудилась на незнакомых улицах, тем более что не обращала внимания, куда идет. Однако случайно взглянула на дом, мимо которого проходила, — и придержала шаги, увидев табличку: «Липовая, 12». Ну так она уже почти пришла, оказывается! А вот и покосившаяся ограда, вот и знакомый флигель, вот и развалины… развалины, по-прежнему заросшие бурьяном. Неужели пану Анатолю не удалось заполучить пленных?! И вдруг Лиза увидела его… лежащего под крыльцом.
Милостивый бог! Заболел, что ли? В обморок упал?! А что это за звуки раздаются? Храп? Он задыхается? Умирает?!
Лиза осторожно подошла поближе, наклонилась и тотчас отпрянула, сморщившись, — таким перегаром шибануло в лицо. Пан Анатоль спал — мертвым, вернее, мертвецки-пьяным сном, чудовищно и жутко храпя. Фу, гадость какая!
Лиза брезгливо подобрала подол и осторожно переступила Анатоля. Поднимать его и усаживать поудобнее не было ни малейшей охоты. Она ступила на крыльцо, и тут ступенька нервно заскрипела. Через мгновение распахнулась дверь, и на крыльцо вылетел Петрусь с безумными глазами. В руках он держал винтовку наперевес:
— Руки вверх!
— Ты что? — изумленно воскликнула испуганная Лиза. — Спятил?!
— А, это ты, — неприветливо буркнул Петрусь, опуская винтовку. — Что так рано пришла?
— А что, ты не один? — едко спросила Лиза, поражаясь тому, какую неприязнь возбуждает в ней этот красавчик со всеми его итальянистыми атрибутами. Честное слово, кажется, даже Алекс Вернер казался ей симпатичней! Вдобавок она учуяла винный дух, исходящий от Петруся.
— Фу, — пробормотала Лиза, сморщившись. — Так вот это чьих рук дело! — махнула она в сторону Анатоля. — Нашел с кем пить, с этим придурком.
— Ну, знаешь, ты мне не жена, чтобы указывать, с кем мне пить! — огрызнулся Петрусь. — Пришла тут… умная больно!
Он все еще стоял в дверях и, такое ощущение, не собирался пропускать Лизу в квартиру. Да что происходит? Точно, в комнатах кто-то есть, какое-то движение там явно ощущается.
— Ты меня что, решил в дом не пускать? — спросила возмущенно. — Может, мне сходить в ломбард, к отцу Игнатию, и попросить, чтобы он тебя образумил?
— Ладно, — неохотно буркнул Петрусь. — Проходи, черт с тобой.
Нет, это просто патологическая наглость какая-то! Черт с ней, главное! Рассуждает так, как будто это Лиза навязалась им, а не они ей, как будто это они ей до смерти нужны, а не она им!
До смерти, вот именно…
Даже слово сказать этому наглецу было противно. Лиза угрюмо вошла в квартиру, снова поморщилось — тут царил отчетливый запах какой-то едкой кислятины, что они вообще пили, бражку, что ли, какую-то перестоявшуюся?! — и вдруг увидела двух худых парней в рваной военной одежде. Они сидели за кухонным столом и ели вареную картошку прямо из кастрюли.
Лиза так и замерла; слезы мгновенно прихлынули к глазам. Пленные! Значит, пан Анатоль их все же привел. Но почему они здесь?
Парни вскочили при ее появлении, но было в этом их слаженном движении что-то не воинское, не армейское, а очень мирное. Так вскочили бы вежливые юноши при появлении дамы. Во взгляде этих парней, в выражении их лиц ощущалось что-то интеллигентное, как будто это были, что называется, мальчики из хороших семей.
«Студенты, наверное, — подумала Лиза и попыталась откашляться. — Может быть, добровольцами пошли. И вот…»
— Здравствуйте, — прошептала она, боясь говорить громче, чтобы не зарыдать. — Извините, я не хотела вам мешать. Кушайте, кушайте пожалуйста!
— Спасибо, — дожевывая, бормотали наперебой парни. — Мы целый день только и делаем, что едим, всю картошку, наверное, у вас съели. Нам уже пора… скоро вечерняя поверка.
— Ох, господи, — причитала Лиза, — если бы я знала, что будут гости, я бы обед приготовила! Может быть, вы подождете, я сварю что-нибудь, я быстро!
Мельком глянув в сторону, она перехватила изумленный взгляд Петруся. Почему он так смотрит? Потому что у нее слезы на глазах? Или просто она забыла о том, что никаких продуктов в доме нет?
— Угомонись, — буркнул Петрусь. — Ребятам возвращаться пора, уже некогда варить, а с собой все равно взять нельзя даже хлеба, их там обыскивают, чуть ли за щеками не смотрят.
— Как — возвращаться?! — всплеснула руками Лиза. — Зачем?! Они должны остаться! Мы их спрячем!
— Этого никак нельзя, — покачал головой один из пленных. — За побег каждого десятого расстреляют. Такой грех на душу мы не возьмем.
Лиза даже согнулась под тяжестью этого ужаса.
— Да ничего, — смущенно улыбнулся парень. — Такая жизнь, что ж. Спасибо вам, не тревожьтесь… мы и так будто дома побывали. Наелись до того, что вот-вот лопнем. Ну и вообще, поработали замечательно! — Он подмигнул Петру и хмыкнул как-то очень многозначительно.
— Ага, — скромно подал голос второй «студент». — И правда, как будто дома. И еще такую красавицу повидали… Дай вам бог здоровья, товарищ! — И он неловко, но храбро схватил руку Лизы и потащил к губам.
У нее опять слезы навернулись от этого восторженного, мальчишеского поцелуя. Отвернулась к окну, пытаясь скрыть их, и спохватилась:
— А как же бурьян?! Развалины-то не успели очистить!
— Да и шут с ними, — ухмыльнулся Петрусь. — Рабочей силе не было дано задания. Кто ж виноват, что хозяин напился, как последняя сволочь, и выпустил все из-под контроля? Он и виноват, что работу не сделали. Пускай сам потом рвет эту несчастную крапиву.
— А… а ты ему не сказал? — робко заикнулась Лиза.
— Разве я сторож брату моему? — вскинул соболиные брови Петрусь. — Да ладно, шут с ней, с этой несчастной травой, мне лично она нисколько не мешает.
Парни ушли после многочисленных «до свиданья» и «спасибо» и еще помахали Лизе от ворот. Она стояла на крыльце и утирала слезы, которые пролились-таки. Может быть, Петрусь позовет этих ребят еще? Может быть, она сможет им приготовить что-нибудь более сытное? Хотя, кажется, ничего такого в доме нет. А на толкучке сегодня она видела сало. Можно было бы что-нибудь поменять на сало, только что? Надо посмотреть в шкафу.
Лиза вошла в комнату и опять поморщилась: кислятиной несло по-прежнему. Наверное, разлили бражку, только где? Вроде бы ничего нет на полу… Ладно, нужно открыть окна, проветрить, а потом посмотреть в шкафах, выбрать что-нибудь в обмен на продукты.
Она открыла шкаф и ахнула: кислятиной тянуло отсюда. Внизу, под платьями, стояла какая-то коробка. Лиза нагнулась, хотела вытащить ее, но отдернула руки. В коробке лежали узкие металлические трубочки, запаянные с одного конца, стояла бутылка, из которой несло кислой, едкой гадостью. Да ведь это кислота! Интересно, серная, азотная, соляная? Да какая разница, по сути дела? Так, а это что? Жестянки, заполненные каким-то составом… О, кажется, поняла. Отец Игнатий говорил о кислотных минах. Кислота и кислотные мины… Это заготовка для них, вот что это такое! Старик вчера также обмолвился, что Петрусь оканчивал химфак Киевского университета, но у него будут два помощника. Так вот же они, эти помощники, Лиза их видела несколько минут назад. «Поработали замечательно…» — сказал один из парней. Та-ак, теперь все стало ясно с этой травой и с целенаправленным спаиванием пана Анатоля. Очистка развалин была только предлогом, чтобы привести сюда помощников: очень может быть, что эти парни — с того же факультета, что и Петрусь.
Насколько понимала Лиза, действие кислотной мины основано на том, что кислота разъедает тонкую металлическую перегородку в стеклянной пробирке, в которую налита кислота, и, соединившись с другим составом, вызывает взрыв.
Вдруг что-то загрохотало в коридоре. Лиза панически захлопнула шкаф и одним прыжком оказалась в дверях.
О боже… воскресение из мертвых! Да это Анатоль, некоторым образом очухавшийся, хотя глазки все еще самопроизвольно собираются к носику. И вообще — видок у него исключительного качества!
— Наик… ик… наикоханыейшая Лизонь…оньк… — с невероятным усилием выговорил он, — а где полоня… а где пленные? Бурьян, трава… партизанен пуф-пуф?! — Он сделал попытку наставить на Лизу указательный палец, так же как это делал Петрусь, но промахнулся и ткнул в косяк.
— Полицай увел их обратно в лагерь, — непринужденно сообщила она.
— Увел?! — разинул рот Анатоль.
Лиза поморщилась и отпрянула. Нет, это просто газовая атака какая-то. А приходится быть любезной с этим слизняком. Домохозяин все-таки!
— Как увел?! — продолжал вопить домохозяин.
— Спокойно, — любезно пояснила Лиза. — Вы не отдали им распоряжений, поэтому они не работали.
— Но почему он не разбудил меня?! — чуть ли не всхлипнул Анатоль. — Почему не заставил их заняться делом?!
— Разве он сторож брату своему? — пожала плечами Лиза. — Извините, я должна отдохнуть.
И она бесцеремонно выставила несчастного Анатоля за дверь.
Нижний Новгород, наши дни
— Муравьев? — в один голос воскликнули Марина и Алёна. — Как Муравьев?!
— Ну да, Муравьев, — кивнула Катя, — а потом они начали панически орать, мол, они пропали, дураками они были, что ввязались в эту историю, и теперь они понимают, что никакими деньгами тут не успокоишься, потому что этот Муравьев их очень быстро возьмет за…
Катя глянула на Алёну и, усмехнувшись, закончила явно не так, как собиралась:
— За всякие выступающие части тела. И не просто возьмет, но и отрежет им эти самые части. А кто вообще он такой, этот Муравьев?
— Муравьев Лев Иванович — это начальник следственного городского отдела, — сказала Марина. — Знакомый Алёны. Вон ее. — И она энергично указала подбородком на нашу писательницу, как будто в кабинете находилось еще две или три носительницы этого имени, и Марина ужасно боялась путаницы.
— То есть это благодаря вам мы спаслись? — спросила Катя как бы даже с некоторым священным ужасом. — Вы запомнили, что нас увезли в сером «Ниссане», вы позвонили этому своему знакомому начальнику… Ничего себе! Как здорово, что я оказалась с вами знакома! — Она попыталась рассмеяться, но вместо этого всхлипнула. — А этот идиот черноглазый, ну, который нас похищал, он сказал, что никаких ваших книг не читал, знать вас не знает, ему Пелевин нравится, вы можете себе представить?!
— Ну отчего же, — пожала плечами Алёна, — вполне могу. — И в самом деле, у нее было богатейшее воображение, недаром когда-то, на заре, как принято выражаться, своего творческого пути, она писала фэнтези — и очень недурные фэнтези, между нами говоря! — А что, получается, вы этому вашему похитителю обо мне говорили?
— Ну да, он спросил, что за женщина на нас так пристально смотрела, а я ему — это, мол, детективщица здешняя, знаменитая…
Алёна чуть поморщилась. Нет, не только из природной скромности — вот, мол, назвали знаменитой, а какая я знаменитость? Она ничего не имела против того, чтобы зваться знаменитой, но уж, пожалуйста, без этой назойливой приставки — «здешняя». Широко известная в узких кругах, вот именно!
Впрочем, засунь подальше свое больное тщеславие, писательница Дмитриева. Сейчас речь идет о делах поважнее!
Получается, один из мужчин, замешанных в этом деле, знал о существовании Алёны Дмитриевой. Фактически она стала свидетельницей похищения, причем не случайной, которая мгновенно забудет о том, что видела, а «детективщицей», то есть человеком по определению опасным. Так, кое-что вырисовывалось в объяснении событий вчерашнего вечера…
— А скажите, вы того человека, который был за рулем, хорошо рассмотрели?
— Ну конечно, — кивнула Катя. — Как же не разглядеть. Они ведь нас вдвоем стерегли в том доме. Правда, совсем уже ночью он вроде бы куда-то уезжал, тот черноглазый один оставался…
Ага! Куда-то уезжал! Ну что же, Алёна совершенно точно знает, куда именно он уезжал. По тому адресу, где живет «знаменитая детективщица». Интересно бы знать, как это они так лихо узнали ее адрес, это раз, а во‑вторых, с какой все же целью этот тип отправился к ней глухой и темной ночью? Тоже провести словесную обработку — мол, помалкивай и никуда не суйся, целей будешь? Или… судя по напористости, с какой он влез в ее дверь, тут словесной обработкой не ограничилось бы. Но он получил заряд газа в морду — не повезло парню. Зато Алёне повезло!
И все же надо кое-что уточнить.
Алёна подошла к факсу и оторвала кусок бумажной ленты, на котором была изображена физиономия гражданина по фамилии Москвич, по имени Николай Николаевич.
— Катя, эта, извините за выражение, рожа вам знакома?
— Ё-пэ-рэ-сэ-тэ!.. — Катя взволнованно перечислила такие буквы алфавита, что Алёна вздохнула. Впрочем, тут же одернула она себя, еще неизвестно, какие буквы перечисляла бы она, если бы оказалась на Катином месте! — Так ведь это второй! Ну, второй, который был в «Ниссане». Шофер!
— Слушайте, вот хитрецы! — с отвращением сказала Марина. — То есть они решили от себя подозрение отвести, да? Этот Москвич заявил об угоне…
— Откуда вы знаете, что он из Москвы? — перебила Катя.
— Не из Москвы он, а Москвич. Фамилия такая, — быстро пояснила Марина. — Это мы тоже через Муравьева узнали. Этот Москвич берется за ваше похищение и запугивание. Но чтобы обезопасить себя — ну, на всякий случай, особенно после того, как стало ясно, что вас видели около этой машины, — заявляет об угоне. Мол, я не я и бородавка не моя.
— Какая бородавка? — испугалась Катя.
— Это из «Тома Сойера», — пояснила Алёна, и они с Мариной переглянулись, как заговорщицы.
— Слушайте, Алёна, еще слава богу, что они не решили вас устранить, как опасного свидетеля! — воскликнула вдруг Катя.
— Да! — испугалась Марина.
Алёна промолчала. Ей не хотелось говорить о вчерашнем. Совершенно ни к чему, чтобы вокруг нее началась такая же суматоха, как вокруг девочек. Беспокоиться, строго говоря, нет причин. Не исключено, вчера, когда журналистки были еще «в плену», похитители и намеревались попугать детективщицу, которая могла оказаться слишком глазастой и языкастой. Скорее всего, тут шла речь именно о запугивании — ну, просто логически рассуждая. Если девчонок и пальцем не тронули, пожалуй, не тронули бы и Алёну. То есть превентивный удар по ночному визитеру оказался, мягко говоря, неадекватен его намерениям. А впрочем, нападение — лучший способ обороны, это всем известно!
Волноваться не стоит еще по одной причине. Если Москвич и его подельник узнали об интересе, которое к делу проявил Муравьев, они узнали, конечно, кто его к этому интересу подвигнул. То есть поняли, что с этой детективщицей лучше не связываться. Во-первых, палит из газовика в физиономию даже без предупреждения, а во‑вторых, способна привести в действие очень нешуточные милицейские силы.
— Самое интересное, каким же это образом они разузнали о том, что Муравьев вступил в игру? — спросила Алёна, уводя разговор в сторону от своей персоны. — Поскольку вряд ли в его кабинете установлено подслушивающее устройство, то речь может идти о некоем информаторе.
— Который сидит в кабинете Муравьева?! — округлив глаза, сказала Катя.
Алёна задумчиво на нее посмотрела. Девочка реабилитировалась чрезвычайно быстро и уже начала шутить? Ну что ж, это хорошо!
— В кабинете Муравьева он сидит едва ли, — любезно ответила Алёна. — Хотя бы потому, что сидеть там физически негде, кабинет ужасно тесный, и Лев Иванович по этому поводу все время бухтит: его-де не уважают и не расширяют. В смысле, не уважают Муравьева, а не расширяют кабинет. Я вообще не слишком верю в утечку информации из городского управления МВД. Как это… менты-оборотни, так, кажется, говорят? Не катит, Катя, извините за каламбур. Разговор ведь на двух концах провода происходит, верно? На одном конце у нас Муравьев. В подслушку с этой стороны не верю, уже говорила. На другом конце провода нахожусь я. Я — в вашей редакции…
— А в подслушку с этой стороны вы верите? — обиделась Марина. — Здесь, в этом кабинете, только мы вдвоем были и еще Людочка, младший редактор. Ни она, ни я из кабинета не выходили, она только теперь в «Макдоналдс» пошла.
— Я вас и не обвиняю, — пожала плечами Алёна. — Но то, что в этой редакции есть человек, который к ситуации причастен, для меня совершенно ясно.
— Это почему? — спросила Марина.
— Это кто? — спросила Катя.
Алёна в задумчивости посмотрела на них, обдумывая, кому сначала ответить, и решила все же соблюсти субординацию и повернулась к Марине:
— Потому что серый «Ниссан» остановился рядом с девушками в то самое время, когда сломалась редакционная машина. Одно из двух: или похитители вели вас от самой редакции, выжидая удобного момента напасть, и воспользовались остановкой, сориентировались, или — или ваш шофер с ними в сговоре.
— Но у него машина сломалась… — заикнулась Катя.
— Откуда это известно? — спокойно спросила Алёна. — У нее что, колесо отвалилось? Или еще какая-то часть?
— Нет, Вадька сказал… Вадик — это шофер, — уточнила Катя. — Сказал, что бензопровод полетел, наверное, потому что она не едет…
— Знаете, я, к примеру, даже не знаю, что такое бензопровод, — усмехнулась Алёна. — И впервые слышу, что он умеет летать. А вы знаете, что это? Вы машину водите?
— Нет, у меня и машины-то нету, не заработала еще, — засмеялась в ответ Катя. — А бензопровод — это, наверное, такая штука, по которой бензин куда-нибудь поступает. И Вадька вроде бы сказал, что он полетел потому, что засорился. Конечно, я ему поверила: машина-то не едет!
— Ага, — кивнула Алёна. — Но потом он, я так поняла, Вадька этот, доехал до редакции, верно? Значит, не столь уж далеко и улетел этот самый бензопровод? А вот вас завезли довольно далеко.
— Да вы что? — почти с ужасом пробормотала Катя. — Вы думаете, Вадька мог? Да он же наш… он свой! Он нас возил не перевозил! Да не мог он нас предать!
Далекое прошлое
Девятого ноября 1836 года Павел Демидов и Аврора Шернваль обвенчались. Поскольку слух о том, что Аврора — женщина роковая, смертельная, опасная (ну как же, ведь двух женихов со свету сжила!), в это время вновь пронесся среди досужих сплетников, они держали пари: хватит Демидова удар в церкви или уже по выезде?
Ничего, обошлось. Правда, во время свадебной церемонии Павел Николаевич сидел в инвалидном кресле, ну так что ж, дело житейское…
Свадьбу устроили в Гельсингфорсе, и по великолепию равных ей не было. Небо полыхало от огней фейерверка, столы ломились от диковинных яств, из фонтанов, сложенных по приказу Демидова, круглые сутки лилось дорогое французское шампанское.
Когда вернулись в Петербург, Аврора, соблюдая договор, старалась не надоедать супругу и как можно меньше показываться ему на глаза, благо в огромном особняке на Морской имелось достаточно комнат, чтобы уединиться. А Павел Николаевич вдруг начал злиться на себя за эти дурацкие условия. Ему, наоборот, хотелось видеть жену как можно чаще. Своей утонченной, безусловной красотой она напоминала ему знаменитый алмаз Санси. В конце концов он подарил ей камень — и отменил свое категоричное распоряжение. Сам себя не узнавая, он вдруг взялся наряжать Аврору. Сам подбирал ей гардероб и раздал горничным большинство ее старых платьев. А потом приказал (иначе слова не подберешь) знаменитому живописцу Карлу Брюллову написать портрет этой несравненной красавицы.
…Светлое атласное платье с большим декольте, модный тюрбан (именно Павел Николаевич настоял на том, чтобы его водрузили на голову Авроры), дорогой соболиный палантин… Изумительные черты, совершенная линия покатых плеч, точеная шея… Портрет был написан Карлом Брюлловым в Петербурге в 1837–1838 годах.
Мезенск, 1942 год
— Ну как, все в порядке в управе? — спросила фрау Эмма.
— Без сучка без задоринки! — Лиза гордо показала аусвайс и хихикнула. Собственная физиономия, заклейменная краешком самой настоящей немецкой печати, казалась ей ужасно глупой и смешной.
— Великолепно. Значит, вечером можете выйти на работу.
— Ну да… — пробормотала Лиза, и улыбка слиняла с ее лица.
— Только вот что, Лиза. — Фрау Эмма холодно смотрела на нее, вскинув свои безукоризненные брови. — Вечерами вы будете надевать форменную одежду э-э… официанток нашего ресторана, но днем вы бываете на улице, вас может увидеть кто-то из господ офицеров, и если вы окажетесь одеты так, как сейчас…
Она пренебрежительно выпятила подбородок, указывая на очередное платьице Лизочки Петропавловской, на сей раз темно-коричневое, шелковое, с желтым воротником. Сущий ужас, конечно, но Лиза надела его совершенно сознательно, именно за это уродство: вот еще, пытаться немцам понравиться!
— Если вы будете выглядеть так, как сейчас, — продолжала фрау Эмма, — это может нанести удар репутации нашего заведения. Я строго слежу за одеждой своих девушек. На меня работают хорошие портнихи. Сейчас нет времени делать вам новый гардероб, но вы можете порыться в моих шкафах. Вон там, в той комнате. — Она махнула рукой на дверь. — Там несусветное количество вещей. Понимаете, когда немцы вошли в Мезенск, у меня появился замечательный покровитель… в весьма высоких чинах. Всего-навсего комендант города. Потом он погиб при налете партизан, но благодаря ему я получила доступ к складу бывшего Военторга. Там вы увидите то, что при большевиках можно было взять только по талонам, в закрытом распределителе для товарищей красных командиров и их женушек, этих глупых советских барынь. По сути дела, весь этот склад перекочевал в мою квартиру. Там есть очень недурные заграничные вещи, можете не стесняться! И прошу вас, хорошенько запаситесь чулками. Служащая «Rosige rose» не может себе позволить сверкать голыми коленками, усвойте это, Лиза. Может быть, это и не французские чулки, какими потихоньку спекулирует Алекс Вернер, но в Кёнигсберге была очень недурная фабрика, а там чулки именно из Кёнигсберга. И туфли есть, думаю, на вашу ногу можно подобрать. Прошу вас, проходите.
Какое-то время Лиза тупо стояла перед распахнутыми шкафами, дивясь царившему там изобилию. Потом нерешительно оглянулась на фрау Эмму.
— Берите все, что нравится, — небрежно сказала та. — Мои вещи в другой комнате, так что не стесняйтесь. На самом деле, конечно, все это самую чуточку устарело и вышло из моды. Теперь платья — это типичная буква «Х»: широкие плечи, подчеркнутая талия, короткие расклешенные юбки. В Париже носят очень высокие платформы и каблуки из дерева или пробки, а на головы водружают немыслимые сооружения из всех мыслимых материалов, начиная с газетной бумаги с отделкой из вуали и вплоть до цветов, бархата и перьев. Смешнее всего, что изготовители шляп — единственные, кто не испытывает недостатка в материале. Да и вообще, шляпы — единственный товар, который можно купить не по карточкам и талонам, а совершенно свободно. Кстати, как вы думаете, почему так резко укоротились юбки? Думаете, потому, что многим женщинам пришлось начать работать, а короткие юбки удобнее? Ничего подобного. Длина нормирована специальными распоряжениями оккупационных властей: с апреля по всей территории Третьего рейха, включая, конечно, и завоеванные территории, были ограничены длина юбки и ширина брюк, запрещены лишние детали (например, отвороты на брюках). И все-таки в Париже процветает haute couture[13]! Я слышала, что, по плану фюрера, парижские Дома высокой моды должны были переместиться в Берлин или Вену, чтобы столица Третьего рейха стала и столицей моды. Однако один знаменитый кутюрье — его имя Люсьен Лелонг — сумел убедить оккупационные власти, что haute couture может существовать только в Париже. Ведь она тесно связана со многими фирмами: поставщиками белья, обуви, украшений, головных уборов, перчаток, кружев, сумок, пряжек, пуговиц и всего прочего, а некоторые из этих предприятий насчитывают по нескольку веков истории! Благодаря его усилиям в Париже сохранилось 92 Дома моды, вы представляете? Конечно, коллекции стали гораздо меньше, чем до войны (было разрешено делать только сто моделей); лимитировано количество ткани, которое можно использовать в одной модели, нельзя шить платья или костюмы, напоминающие немецкую военную форму… И все же мир моды жив! Между прочим, Алекс Вернер, который обладает поразительными познаниями в мире тряпок и всего, что связано с тряпками, рассказывал, что Лелонг был женат на Натали Палей, двоюродной сестре последнего российского императора Николая Александровича, дочери его дяди, великого князя Павла Александровича, от морганатического брака. Потом, когда Лелонг развелся с Натали, он выпустил духи, которые назывались «Le N…». Вроде бы названы по первой букве имени Натали, но ведь на французском так же звучит слово ненависть — l’haine[14]! Интересно, верно?
Спустя час Лиза вернулась на Липовую с огромным узлом новой одежды. Причем это была только часть тех вещей, которые заставила ее взять фрау Эмма. Остальное предстояло забрать завтра. Лиза просто не унесла бы всё разом, все эти костюмы, пальто, осенние туфли на каучуковой подошве… Прямо скажем, к подбору осенней одежды она отнеслась наплевательски. Ведь она вовсе не собиралась зимовать в Мезенске. И даже осень встречать не намеревалась. А когда она уйдет из города, с собой возьмет только самое необходимое, то, что можно надеть на себя. И все же в этом узле было куда больше одежды, чем ей понадобилось бы на оставшуюся неделю ее жизни в Мезенске! После взрыва в «Розовой розе» ей будет не до фланирования по городским улицам в этих прелестных платьицах. Надо будет сразу уходить… если еще останется жива при взрыве!
Лиза с трудом отогнала мысль о том, что фрау Эмма, которая была так добра к ней, обречена погибнуть вместе со своей «Rosige rose», и именно она, Лиза, станет причиной ее гибели. На войне как на войне. A la guerre comme à la guerre… На войне как на войне! A la guerre comme à la guerre!
Беспрестанно повторяя эту пословицу то по-русски, то по-французски, Лиза начала было развешивать вещи фрау Эммы в шкафу Лизочки Петропавловской, как вдруг ощутила, что ей не хватает воздуха. Оказывается, не так просто жить чужой жизнью и все время подчиняться правилам навязанной ей игры. Невыносимо захотелось побыть самой собой, сделать что-то свое, проявить, так сказать, инициативу. А вот что она сделает — сходит на толкучку. Вдруг Петрусь еще раз приведет тех ребят-химиков, пленных? Нужно раздобыть сала для них, а то и мяса.
Что взять для обмена? Чулки, это само собой. Две и даже три пары она вполне может пожертвовать. И шерстяную кофту, новую, довольно старушечью. Лиза ее нарочно прихватила, с дальним прицелом, — именно для того, чтобы снести на базар. Наверняка теплые вещи всегда в цене, а кофта очень хорошего качества, хоть и уродлива до крайности. Ладно, сейчас не до красот!
О, вот чем она не запаслась у фрау Эммы: бельем. Возможно, оно лежало в других шкафах или комодах. Жаль. У нее по-прежнему один и тот же шелковый гарнитурчик от Эриха Краузе, вернее, от Алека Вернера. Ну и ладно, шелк отличного качества, ему ничего не делается от ежедневных стирок. Так что будем продолжать стирать, хотя мыло, конечно, ужасное. О, а вдруг на базаре попадется нормальное туалетное мыло? Это было бы здорово!
Лиза нашла на кухне авоську и сложила туда кофту и три пакета с чулками. Хотела прихватить еще одно платье — ситцевую цветастую «татьянку», очень нарядную, — да одумалась. Людям теперь не до нарядов, нужны только практичные вещи.
Поспешно вышла из дому. Конечно, до вечера, до семи часов, когда ей на работу, еще масса времени, а все же мешкать не следует.
Лиза помнила, где видела вчера толкучку, и скоро дошла до нее. Это была небольшая площадь, сбоку от которой стояло длинное двухэтажное здание, очень похожее на школу. Кажется, теперь там разместилось что-то вроде казармы. За копьями ограды, на просторном дворе, строились в колонны молодые ражие немцы. Их было не меньше сотни. Судя по мундирам, это были солдаты частей СС.
— К параду готовятся, — гомонили на площади. — Вроде бы ихний большой начальник на днях приезжает, вот они и чеканят тут шаг с утра до вечера. Эх, всех бы одной бомбой!
— Молчи, дурак! — одернули неосторожного. — Вон полицай ошивается, еще привяжется…
Большой начальник, которого ждут, — это, конечно, Венцлов, подумала Лиза. Ну, бомбу не бомбу, а парочку-троечку мин я вам, кажется, могу пообещать…
Она отвернулась от казармы.
Сегодня народу на толкучке было еще больше, чем вчера. Шастали по базару и немцы, продававшие сигареты цвета соломы, сахарин, мыло. Продавали солдаты и коньяк, и какие-то вина.
— Ишь, наживаются! — проворчал однорукий мужик, пытавшийся поменять поношенный пиджак на картошку. — Все это не настоящее, а подделка из подкрашенного эрзац-спирта. От их сигарет в горле дерет, а мыло пены не дает и не стирает. Обманщики и грабители, вот они кто!
Как ни странно, раздобыть кусочек нормального мыла фабрики «Свобода» («Земляничное» — было написано на розовом брусочке, завернутом в обрывок немецкой газеты) удалось очень быстро. Лиза ничтоже сумняшеся отдала за него одну пару чулок. Обе стороны — и Лиза, и вертлявая веснушчатая девица, менявшая мыло, — остались, похоже, весьма довольны обменом.
Так, теперь можно и о продуктах позаботиться. А их было мало, совсем мало. Лиза разлетелась было к порядочному ломтю сала, но постыдилась доставать свои новенькие шелковые чулки, когда первой начала торг исхудавшая женщина, пытающаяся обменять изрядно заштопанную пару хлопчатобумажных. Видно было, что она продает последнее, лишь бы не умереть с голоду. Таких людей, кстати, на толкучке было много. Они предлагали поношенную одежду, штопаное белье, пожелтевшие салфетки, посуду с трещинками и щербинками.
— А вот прянички! Не желаете пряничков? — выхваляла маленькая старушка, держа перед собой корзинку, доверху наполненную темно-коричневыми поджаристыми коржиками. Выглядели они очень аппетитно, и Лиза невольно сглотнула слюну.
— Это что такое? Овсяное печенье, что ли?
— Ну, овсяное, где ж теперь овсяного взять? — пожала плечами старушка. — Эка ты чего захотела, милая моя. Желудевые прянички, да что с того? Ничуть не хуже, чем овсяные!
— Желудевые?! — Лиза уставилась непонимающе. — Да как же можно?! Из желудей — прянички? Как из них стряпать?
А впрочем, она тут же вспомнила то, о чем читала в книгах: в гражданскую вовсю пили желудевый кофе. Может, из гущи этого кофе пряники пекут?
— Да очень просто, — покровительственно усмехнулась старушка. — Замечательно получается — с глицерином и корицей. Вы купите хоть один, попробуйте, вас потом за уши не оттянешь!
Лиза зачем-то сунулась в саквояж, хотя заранее знала, что там нет ни копейки денег, да и не в ходу тут деньги. Но не отдавать же за какие-то пряники драгоценные чулки! Неравноценный обмен!
— Не покупайте! — схватила ее за руку невысокая женщина с милым, усталым лицом, очень похожая на сельскую учительницу из довоенного фильма, который так и назывался — «Сельская учительница». — Отравитесь!
— Вот еще! — Старушка обиделась, мигом ощетинилась, и ее маленькое сморщенное личико приняло воинственное выражение. — Это еще почему?!
— Потому что в желудях находится ядовитое вещество — танин, — с наставительным выражением проговорила «сельская учительница». — У нас у соседей сын съел кашу из желудей — и у него отнялись ноги. Отравился танином.
— И что? — ужаснулась Лиза. — Умер?!
— Еле выходили, — вздохнула «сельская учительница». — Нужно было молоко, чтобы вылечить его. А где молоко взять? У другой соседки есть корова, но она такая куркулиха — не давала ни капли, только на обмен. Они с себя все сняли, меняли, поили сына, кое-как выходили мальчика, но сами нищие остались.
— Ну и сучка! — вызверилась старушка. — Сейчас таких куркулей развелось немало. Но соседи твои, милушка, сами виноваты, что сын отравился. Плохо желуди приготовили. Их сначала надо очистить и кипятить, все время меняя воду. Терпение нужно для этого, зато потом ничего не бояться можно. Покупайте прянички, не сомневайтесь! — повернулась она к Лизе, однако та послала ей извиняющуюся улыбку и замешалась в толпу.
Не хватало еще танином отравиться! Кто будет для нее молоко добывать? Петрусь, что ли? Ха-ха! Или отец Игнатий? Один ее с удовольствием пристрелил бы, второй — придушил. Соратнички у нее, конечно, по борьбе с немецко-фашистскими захватчиками… еще те соратнички!
Лиза бродила по площади туда-сюда, но никак не могла найти того, чего искала. Между делом присматривалась к людям.
Многие немецкие солдаты хотели поменять на продукты униформу, шинели, армейские башмаки или сапоги. Их сторонились. Лиза поняла, что люди избегают обмена, потому что их поражает низкое качество материала, из которого была сшита форма. Неудивительно, что те солдаты, которые, наоборот, меняли на вещи еду — мед в картонных стаканчиках, или подозрительного вида колбасу, или крупу, не похожую на крупу, — просили за них шерстяные или меховые вещи. Пережив русскую зиму хоть раз, начинаешь относиться к ней как к серьезному противнику и заботиться о себе сам, если это не в силах сделать командование.
Вот и хорошо, что оно не в силах! Вот и замечательно!
Послышался рокот самолета. Все задирали головы и смотрели в небо. Пилот доказывал свое мастерство, то заставляя «мессершмит» взмывать в неимоверную высоту, то падать низко к земле. Выглядело это весьма эффектно, но у Лизы мороз пошел по коже. Она машинально начала запихивать обратно в сетку кофту, которую только что развернула.
— Погоди! — схватила ее за руку какая-то толстая селянка с мрачным краснощеким лицом. — Что ж, менять не станешь? Какая вещь добрая, полпуда картошки даю, берешь?
— Не беру, — буркнула Лиза, сбрасывая ее короткопалую руку со своей. — Нет, я не буду менять. Я раздумала.
— Чего это? Почему? — изумилась баба.
Лиза ее почти не слышала, да и вряд ли понимала, что говорит и что делает. В ушах звенело от рева самолета. В глазах темнело при виде этих черных крестов на его крыльях.
Ерунда, конечно. Таких самолетов полно, это самый типичный немецкий истребитель. И все же леденит душу его рев. Пуганая ворона, знаете ли… Нужно уйти отсюда. Тот случай на берегу сделал ее настоящей психопаткой. Нужно уйти!
Она пробиралась сквозь толчею к краю площади. А, черт, Липовая же на противоположной стороне, куда только Лиза смотрела! Повернула снова на площадь, и в это мгновение самолет пошел в крутое пике, а к реву мотора примешался другой звук.
Он начал стрелять! Он расстреливал эсэсовцев, собравшихся во дворе казарм!
Тот же самый самолет. Тот же самый кошмар, что был на берегу!
Пули косили солдат — Лиза воочию убедилась теперь, насколько верно это выражение. Именно косили, как траву! Все кинулись врассыпную, но устоять на ногах удавалось немногим: солдаты падали десятками, подряд. Самолет зашел на новый вираж. Кто-то из уцелевших эсэсовцев пытался скрыться в здании, но многие выбежали из ворот и в панике метались по площади. Люди, и продавцы, и покупатели, кинулись врассыпную. Но «мессер» снизился и носился над площадью. Его пулеметы не переставали строчить. Может быть, он выцеливал черные мундиры, но пули не выбирали…
Страшный крик стоял над площадью. Люди падали и застывали в крови. Молодой эсэсовец — и та женщина со штопаными чулками, так и зажатыми в руке. Еще один черный мундир — а рядом поношенный пиджак, одинаково залитые кровью. Мальчик с желудевым пряником в руке… Боже мой!
— Не стой! Бежим!
Кто-то с силой толкнул Лизу в спину, да так, что она чуть не упала. Тот же человек помог ей удержаться, схватил за руку, потащил за собой.
— Шевели ногами! Убьют!
Человек затолкал ее в подворотню.
Лиза тупо удивилась, увидав Петруся. Он ее что, спасает? Чудеса… Откуда он тут взялся, интересно знать?
— Как ты сюда попал?!
— Да так, пришел сахарку выменять на махорку, — угрюмо ухмыльнулся он. — А тут такое… Смотрю, ты мечешься, ну, думаю, надо спасать.
— Что врешь?! — возмущенно выкрикнула Лиза. — Сахарок, махорка… Ты за мной следил! Боялся, чтобы не сбежала, да? Вы мне не верите, ни ты, ни отец Игнатий!
— Да и что такого? Ну, не верим, подумаешь, велика беда, ну, следил… Если б не следил, если б не оказался рядом, небось валялась бы там, в кровище!
Он махнул в сторону площади, и тут же новая очередь заглушила его голос.
Петрусь схватил Лизу за плечи и прижал к кирпичной стенке, прикрывая собой. Пули чиркнули в полуметре от их ног, и Петрусь подтолкнул Лизу глубже в подворотню.
— Вот застрелили бы тебя, кто взорвал бы «Розовую розу»? — проворчал он.
— Ну да, — зло усмехнулась Лиза. — Я для вас со стариком такое ценное взрывное устройство, не больше.
— Вот именно, — холодно согласился Петрусь.
Лиза опустила голову. Их с Петрусем неприязнь взаимна, что и говорить. Для этого невозможно красивого парня она — нечто неодушевленное, чужое, внушающее отвращение и даже ненависть. Ее просто используют — и даже используют с отвращением.
— Удивляюсь, — с трудом выговорила она, а горло так и сводило подступавшими слезами, — как это ты решился до меня дотронуться. Мог бы и винтовкой в подворотню затолкать. Ты ж ненавидишь меня, ты и этот старикашка. Я для вас только граната, которую вы готовитесь бросить во врага, а что будет со мной — вам все равно. Ты еще радоваться будешь, если я взорвусь там, вместе с фаши…
Она не договорила. Петрусь прижал ее к стенке и навалился всем телом. Рот его прильнул к ее рту и впился в него. Лиза задохнулась. Попыталась рвануться, но литое тело его, руки его лишали возможности шевельнуться, а губы лишили возможности соображать. Вспышка неистового счастья прострелила стремительней пули, и она ощутила себя брошенной, потерянной, одинокой, когда Петрусь отстранился.
Ошарашенно уставилась в мрачные черные глаза:
— Зачем ты это сделал?!
— Чтобы доказать тебе, что ты не внушаешь мне отвращения.
Петрусь хлопнул ресницами и спросил неуверенно:
— Доказал?
— Доказал… — Лиза с трудом сдерживала улыбку.
Они снова прижались к стене — стрельба не утихала, вдобавок неподалеку забахали зенитки, выйти из подворотни было невозможно, о, совершенно невозможно! — и Лиза с готовностью приоткрыла губы, когда лицо Петруся приблизилось к ее лицу, но вдруг что-то особенно страшно громыхнуло над площадью. Петрусь рванулся к краю стены, выглянул:
— Сбили! Его сбили!
Лиза подскочила к нему.
«Мессер» падал, оставляя за собой хвост черного пламени. Вот канул куда-то за дома, ближе к реке, там вспыхнул взрыв.
— Куда он упал? — прошептала Лиза. — На дома? Неужели на дома?
— Куда же еще, — тяжело вздохнул Петрусь. — Там слободка, домишко на домишке! Вот загорелось уже!
Там, куда упал «мессер», поднялись новые клубы дыма.
— Он спрыгнул! — воскликнул Петрусь. — Смотри!
Белый купол парашюта качался в небе, опускался плавно и красиво, так страшно-красиво… Нельзя было поверить, что мирно плывущая в воздухе фигура только что хладнокровно расстреливала людей, не делая никакого различия между врагами — и теми, кого он хотел защищать.
— Зачем он спрыгнул? — с ужасом проговорила Лиза. — Его же убьют! Его убьют фашисты!
Петрусь с болью оглянулся на нее:
— Ты послушай! Ты только послушай!
— Пусть он только спустится над городом, мы его на куски разорвем! — донесся до Лизы безумный бабий крик.
И разорвут, поняла она, глядя в окровавленные, залитые слезами лица. Он только что убивал этих женщин. Он убивал их детей!
— Боже мой, — прошептала она, — боже мой, что же это будет? Зачем он прыгнул? Его же растерзают! Уж лучше пусть к фашистам попадет!
Петрусь повернул к ней побледневшее лицо:
— Его будут пытать в гестапо, он не выдержит…
Он вдруг бросился вперед. Выскочил на площадь, приложил к плечу винтовку, прицелился, выстрелил в парашютиста раз, другой, третий.
Потрепанный «Опель» с визгом затормозил перед ним, выскочили несколько солдат, схватили Петруся, вышибли винтовку, завернули руки за спину.
— Сволочь, русская свинья, болван! — обрушился на него высокий статный офицер с рукой на перевязи. — Если ты попал в него, будешь повешен! Это красный диверсант, он позавчера убивал людей на берегу, теперь прилетел сюда. Я раньше времени выписался из госпиталя, только чтобы возглавить его поиски. У меня к нему свой счет! И вот он попался, Бог отдал его в мои руки. Он должен быть казнен публично! Это враг, которому ты хотел помочь ускользнуть от расправы!
Его чеканное, красивое лицо с яркими голубыми глазами болезненно побледнело, он покачнулся, но тут же подскочил невысокий худой ефрейтор, подхватил его под руку:
— Герр гауптман, сядьте в автомобиль, прошу вас. Вы разбередите свою рану. Эх, рано вы вышли из госпиталя!
— Арестуйте этого идиота, — буркнул гауптман устало. — Глаз не спускать.
И тут Лиза узнала эти яркие глаза, эту чеканную надменную физиономию!
Раздумывать было некогда. Она вылетела из подворотни и бросилась к офицеру:
— Господин фон Шубенбах! Как я счастлива видеть вас живым и здоровым! Я так беспокоилась о вас!
Порыв ее был столь неудержим, что охрана не успела спохватиться, а Лиза уже повисла на шее гауптмана, чуть не сбив с ног и его, и поддерживавшего его унтера. Он отпрянул было, и тут же на лице его выразилось превеликое изумление:
— Это вы, фрейлейн? Что за чудо! Я тоже счастлив видеть вас, я беспокоился, что вас убило тогда, на берегу, но Вернер сказал, что, благодарение Богу, вы живы. Примите мою вечную благодарность, фрейлейн, вы спасли мне жизнь. А я даже не знаю вашего имени…
— Меня зовут Лиза. — Она протянула руку. — Лиза Петропавловская.
Фон Шубенбах поцеловал ее пальцы. Губы у него были холодные, как лед.
«Наверное, он много крови потерял», — попыталась объяснить это Лиза, но по плечам озноб прошел. Такое ощущение, что ее коснулись губы мертвеца.
Она отмахнулась от страшной мысли и улыбнулась фон Шубенбаху так воодушевленно, что уголки ее губ, казалось, коснулись кончиков ушей.
К ее изумлению, он тоже улыбался восторженной, широкой улыбкой:
— Однако как странно, что мы снова встречаемся в аналогичной ситуации, верно? В этом можно разглядеть довольно ироническую усмешку судьбы. Однако я счастлив ее причудой, потому что она дала мне возможность вновь увидеть вас. Я хотел вам кое-что сказать, Лиза… Да уведите вы его, наконец! — властно махнул он солдатам, которые держали Петруся.
— Погодите, герр гауптман! — воскликнула она. — За что вы хотите арестовать этого человека?! Он не смог сдержать своей ненависти к убийце. Клянусь, если бы я имела возможность, я бы и сама этого летчика убила своими руками! Да вы только посмотрите, что он сделал! Он хладнокровно расстреливал женщин и детей!
Глаза фон Шубенбаха похолодели:
— Женщин и детей? Вы говорите о русских? А то, что он расстреливал доблестных солдат фюрера, — это вас, конечно, не волнует?
Лиза прижала руки к сердцу:
— Но ведь эти солдаты — тоже чьи-то дети, господин фон Шубенбах!
Чеканные черты смягчились.
— Для вас я — просто Вальтер, — сказал он, чуть понизив голос. — Вы умны и чувствительны, фрейлейн Лиза. Мы иногда забываем, что все мы — дети своих матерей. Страшно представить, что стало бы с моей бедной матушкой, если бы там, на берегу, вы бросили меня на произвол судьбы… Хорошо, ради вас я отпускаю этого чрезмерно усердного недоумка.
Он сделал повелительный жест, и солдаты не только отпустили Петруся, но и вернули ему винтовку.
Подскочил другой офицер, молодой, тощий, покрасневший от возбуждения:
— Господин помощник военного следователя, он опустился где-то в расположении моторизованных частей! Там его сразу возьмут, если уже не взяли!
— Едем туда! — скомандовал фон Шубенбах, и его лицо порозовело от возбуждения. Он шагнул было к автомобилю, но тотчас обернулся к Лизе: — Прошу меня извинить, фрейлейн Лиза. Вернер говорил, что вы начинаете работать в «Розовой розе» с нынешнего вечера? Я изо всех буду стараться приехать туда сегодня, чтобы сразу дать понять господам офицерам, что вы находитесь под моим покровительством. А теперь прошу меня извинить!
И, еще раз поцеловав Лизе руку, он сел в автомобиль, который немедленно умчался.
Лиза стояла, тупо глядя ему вслед.
Что имел в виду фон Шубенбах? Что за глупости он нес? Какое, к чертям, покровительство?! Рана у него открылась, что ли? Кровь в голову бросилась?
— Ну, — раздался мрачный голос Петруся, — долго ты тут торчать намерена?
Лиза повернулась и торопливо пошла в сторону Липовой, не поднимая головы до тех пор, пока они не вышли с площади и картина мертвых тел, луж крови и отчаянных, испуганных лиц не перестала рвать сердце.
Что наделал этот человек, этот летчик?! Как он мог совершить такое?! И как это ужасно для несчастных жителей Мезенска — вот так нелепо погибнуть от руки своего же, советского человека, который расстреливал их столь же хладнокровно, как гестаповцев! Ну ладно, там, на берегу, он стрелял в женщин, потому что они все были подругами фашистов, но здесь, на этой бедняцкой толкучке…
— Слушай, — тронула она рукав Петруся, молча, угрюмо топавшего рядом, — ты пытался его спасти, да?
— Кого? — глянул он свысока, будто на дуру неразумную.
— Этого человека — ну, пилота. Ты его знаешь? Он немец, да?
Петрусь даже побледнел:
— С чего ты взяла? Что ты там насочиняла такого?!
— Ничего я не сочиняю, — зло ответила Лиза. — Элементарная логика! Лизочка должна была уйти с берега в час дня, потому что в два должен был прилететь самолет. Об этом знал отец Игнатий. Он сам проговорился, я помню, еще тогда обратила на это внимание. Теперь ты… ты сказал: «Его будут пытать в гестапо, он не выдержит…» И выскочил с винтовкой, даже не задумавшись, что явно не попадешь в него. Ты пытался избавить его от мучений? Или спасти и себя, и отца Игнатия, и других подпольщиков? Ты знаешь этого немца?
— Опять за рыбу гроши, — огрызнулся Петрусь. — Почему тебе вообще взбрендилось в голову, что он немец?!
— Да потому, что абы кто не подберется на фашистском аэродроме к истребителю, чтобы его угнать и спрятать на какой-то тайной посадочной площадке.
— Что-о? — Голос у Петруся даже сел от потрясения. — Откуда ты знаешь?!
— Голова у меня есть, голова на плечах! — Лиза для наглядности даже постучала себя по лбу согнутым пальцем. — Это не мог быть «мессер», поднявшийся с гитлеровского аэродрома. Такое не осталось бы в тайне, к тому же, я помню, там, на берегу, Шубенбах удивлялся, что в Мезенске есть истребительная авиация. Самолет явно был угнан, или вам удалось привести в порядок машину, совершившую вынужденную посадку в лесу, на какой-нибудь поляне. Летчика или убили, посадили вместо него своего, или он стал работать на наших. Наверняка это какой-то антифашист, камрад, так сказать. Только знаешь что? Этот ваш камрад зашел в своей борьбе с фашизмом слишком далеко! Он сегодня так старался уничтожить гестаповцев, что не обращал внимания на них, кого антифашисты вроде бы должны защищать. Он борется с фашизмом не ради людей, а во имя торжества идеи антифашизма! Но кому это нужно?! И если этот парень еще жив, если он оказался так глуп, что попался живым в руки гестаповцев, а потом из него выбьют, кто он и с кем связан, он окажет вам очень плохую услугу. Люди будут проклинать подпольщиков и партизан. Ты понимаешь это? Или, может быть, у него было такое задание: истребить как можно больше фашистов? А на жертвы среди мирного населения не обращать внимание? Партизаны, наверное, и раньше проводили какие-то диверсии, за которые страдали обыкновенные люди? Убивали какого-то матерого фашиста, а в отместку немцы сжигали целую деревню. Или расстреливали в городе всех жителей целой улицы, на которой был убит какой-то гитлеровский бонза… А как же! Земля должна гореть под ногами оккупантов! Причем растопкой вполне могут служить женщины и дети! Но ведь у них остаются родственники, остаются близкие, которые оплакивают их смерть и проклинают за нее равно — вас и гитлеровцев. Неужели ты не задумывался над этим?
Петрусь остановился, и Лиза только сейчас заметила, что они уже дошли до дома.
— Какая ты беспощадная, — глухо сказал Петрусь. — Это так страшно, что ты говоришь. Зачем называть вещи своими именами? Зачем высказывать все, что только приходит в голову? У нас должны оставаться какие-то иллюзии, должна быть вера, идеалы… тогда мы победим, тогда мы осилим врага. Но если мы вот так будем раскладывать все по косточкам… Если мы впустим в свою душу сомнения… Мы не имеем права на сомнения! Я против большевиков. Я против Советов. Но сейчас я с ними. Я знаю, что нельзя иначе, если мы хотим победить фашистов!
Лиза не отвечала.
Молча они прошли через двор, молча поднялись на крыльцо, молча вошли в квартиру.
Лиза устало бросила в угол свой узел и опустилась на табурет.
Петрусь прошел на кухню, и Лиза слышала, как он зачерпнул из ведра ковшом воду и жадно пьет. Она представила, как ледяные струйки стекают по его жарким губам и по подбородку, увлажняют шею и сбегают за расстегнутый ворот рубахи. У нее вдруг стало сухо во рту и тоже захотелось припасть к ледяному ковшу с водой. Ну да, это все понятно. После таких жутких приключений на толкучке… к тому же у нее с утра почти ничего во рту не было…
Понятно, это все понятно. Но только…
Почему Петрусь поцеловал ее там, в подворотне? Просто потому что была такая опасная ситуация? Говорят, люди в таких ситуациях часто теряют над собой контроль.
Ну, вот, наверное, и он потерял.
Петрусь вышел, приглаживая влажные волосы. Брови его тоже были влажны и сурово сведены к переносице.
— Ты эти мысли все выкинь из головы, поняла? — приказал неприязненно. — Слишком много ты с этой сволочью вражеской общаешься, вот что. Вернер, который сломя голову кинулся подтверждать твою благонадежность… Теперь гауптман. Помощник военного следователя! Это ж не просто так он тебе ручки целовал, верно? Не просто так в покровители набивался. Смотри, девушка, с такими-то знакомствами можно знаешь до чего дойти?
Голос его срывался.
— До чего? — вызывающе спросила Лиза. — Ну до чего? До каких-таких бездн? Например, жизнь тебе спасти можно, верно? Ты забыл уже, что я так лебезила перед фон Шубенбахом, чтобы спасти тебе жизнь!
— Ну, я тоже тебе жизнь спас там, на площади, — зло напомнил Петрусь. — Так что мы квиты, и нечего тут особо выставляться. Нет, я не требую, чтобы ты меня благодарила. Но надеюсь, своему гауптману ты передашь мою самую пылкую благодарность? Когда будешь перед ним юбку задирать в отдельном кабинете!
Лиза еще никогда никого не била по лицу. Как-то вот так… не сходилось в жизни. Но сейчас сдержаться было невозможно!
На бледной щеке Петруся отпечаталось красное пятно.
— Да ты что?.. — выдохнул он потрясенно. — Что ты о себе возомнила, что такое себе… — У него сел голос.
Еще бы! Не ждал такого от «взрывного устройства»! Ну, на то оно и взрывное, чтобы взрываться!
— Нет, это ты о себе что-то возомнил, — прошипела Лиза. — Не пойму, что уж такого праведника-то взялся разыгрывать? Ты забыл, наверное: это не я рвалась на службу в «Розовую розу», это вы с отцом Игнатием принудили меня к этому. Не я мечтала разыгрывать новый вариант Юдифи и Олоферна. Вам ведь главное, чтобы я отнесла в «Розу» мины, верно? А придется мне ради этого переспать с одним фон Шубенбахом или со всем мезенским гарнизоном — вам до лампочки. Разве не так? Совершенно так! Для вас главное — убийство Венцлова. Если бы вы имели возможность подсунуть меня в постель самого Венцлова, предварительно привязав мне между ног кислотную мину, вы бы это сделали ничтоже сумняшеся. Вам совершенно без разницы, что случится со мной. Чтобы рассчитать, как скоро кислотный раствор той или иной концентрации разъест стенки металлических трубочек и произойдет взрыв, нужны опыты. У нас нет возможности такие опыты производить.
Петрусь так и вытаращил глаза:
— Ты что? Вид…видела? Ты нашла-а?!
Он даже заикаться начал от потрясения.
— Надо было прятать получше, тогда бы не нашла! — фыркнула Лиза. — Вот всё у вас так. Сунули заготовки для мин куда попало, авось никто не найдет. И будете и дальше действовать наобум Лазаря. То есть я запросто смогу взорваться вместе со всей фашистской гоп-компанией. Так отвяжись от меня вместе со своими высоконравственными проповедями, я обречена, ну и ладно, последнее желание приговоренных — закон, а потому я буду спать с тем, с кем хочу, кого выберу, и ты мне тут не указ!
— Выбери меня.
Лиза замерла с полуоткрытым ртом, так неожиданно прозвучали его слова.
— Что?..
Петрусь кинулся к ней и схватил в объятия:
— Что слышала. Ты не одна обречена — мы оба на эшафоте: или фашисты убьют, или красные, когда придут. Нам не простят, что остались на оккупированной территории, что умудрились выжить, а про то, что мы в услужение к фрицам пошли ради победы, и не вспомнит никто. Нет у меня никаких иллюзий: нам или на Колыму, или в подвалах забьют сапогами, как били отца Игнатия, или просто в петлю сунут, пулю для предателей пожалев. Нам лучше в бою погибнуть. Но сначала…
— Ты меня поэтому поцеловал? — прошептала Лиза в его побелевшие от напряжения губы. — Чтобы успеть хоть что-то взять от жизни до того, как мы погибнем?
Его глаза были так близко, что Лизе пришлось чуть отстраниться, чтобы видеть их выражение. Они были непроглядны, как ночь, которая на них надвигалась: ночь любви, ночь смерти — кто знает?..
— У меня никогда ничего такого не было, — пробормотал Петрусь, — это первый раз. Ты — первая. Как ты пришла, я с тех пор тебя день и ночь вижу. Спать перестал.
— Ну, теперь уснешь, — выдохнула она, запрокидывая голову: его горячие губы обжигали шею.
Далекое прошлое
Демидов обращался с женой, словно с дорогой игрушкой, и сам дорого дал бы, чтобы проникнуть за неподвижную маску ее красоты! Впервые он понял, что не совсем безразличен жене, когда упал с лошади и сильно растянул связки. Целый месяц ему пришлось проваляться в постели, и Аврора, отсылая прислугу, проводила все время рядом с ним…
Вскоре родился сын, и Аврора настояла, чтобы его назвали в честь отца — Павлом. И тогда Демидов возблагодарил императрицу, которая однажды чуть не со слезами умоляла его жениться на своей прекрасной и печальной фрейлине.
Аврора была осыпана подарками мужа! Но ей и самой хотелось подарить ему что-нибудь необыкновенное. Она чудесно вышивала мелким речным жемчугом и однажды расшила ему манжеты шлафрока своими инициалами — ДА. Это значило и «Демидова Аврора», и ответ на тот вопрос, который Павел Николаевич так часто ей задавал: любит ли она его.
Конечно, она его любила, она была счастлива с ним! Никто не ждал беды. Однако вскоре вдруг началась у Павла Николаевича горячка.
Чахотка, плюс костный туберкулез… Болел Павел Николаевич всего только месяц. Уже с трудом удерживая карандаш, он написал на книге: «Моя любимая Аврора!»
Рано утром, придя ненадолго в сознание, перед тем как отойти в мир иной, он позвал жену, не замечая, что та сидит рядом…
Похорон Аврора почти не помнила, она превратилась в тень. Оставаться в особняке было тошно, страшно, холодно. Приказывала день и ночь топить камины: все время зябла и не могла согреться. Постоянно носила на руках сына, только в эти минуты чувствовала себя спокойно.
И тут ей открылась одна страшная тайна…
Нижний Новгород, наши дни
Катя была еще очень молоденькая. Все открытия — и приятные, и нет — у нее были еще впереди. Что там какой-то «свой» Вадька! Предают все, кому не лень: мужья и лучшие подруги — в первую очередь. Предают иногда из возвышенных побуждений, иногда просто ради денег. Чаще всего!
— Оставим пока восклицания, ладно? — предложила Алёна. — Это не более чем вариант. Но мне было бы интересно узнать, где находился этот самый Вадька, когда я говорила по телефону с Муравьевым. Не стоял ли под дверью?
— Я схожу узнаю, — вызвалась Марина. — А ты, Катерина, иди в душ. Вон Татьяна бредет, чистая до неузнаваемости. А вот и Людочка с вашими бигмаками.
— Я лучше в душ, — уныло сказала Катя. — А то мне теперь кусок в горло не полезет, после этих откровений насчет Вадьки.
— А что такое насчет Вадьки? — спросила Таня, пятерней расчесывая еще влажные волосы. — Он со вчерашнего дня на больничном. «Волжанка» так и стоит на приколе с этим бензонасосом.
— А ты откуда знаешь? — изумилась Катя.
— Да я когда шла в душ, видела, как Советиков с Михалычем ругался. Советиков, — пояснила она для Алёны, — это наш репортер. Ему в Дзержинск надо ехать, а не на чем. Машины нет, а на электричке ему неохота, это и ежу понятно. И он взял за жабры Михалыча, это наш хозяйственник, машины в его подчинении. Он и стал жаловаться, что Вадька вчера еле-еле притрюхал на «Волге» с засорившимся бензопроводом, а потом отпросился, мол, плохо себя чувствует, траванулся соком, что ли, а утром позвонил и сказал, что берет больничный, потому что траванулся-таки очень сильно и надо будет вызвать врача.
— Ага! — радостно вскричала Катя, и Таня посмотрела на нее с некоторым испугом. — Ага! И бензопровод засорен, и Вадька заболел. А вы говорите! — И она с торжеством уставилась на Алёну.
— Ну, допустим, — пожала та плечами. — Хотя я бы сначала сама поговорила с этим вашим Михалычем и уточнила, вызывал ли все же Вадька врача. Но предположим, что он тут ни при чем. И засорившийся бензопровод в самом деле — проявление невероятной везухи этих ваших похитителей. И все же я предпочла бы, чтобы это был Вадька.
— Почему? — в один голос спросили Таня и Катя и волками посмотрели на Алёну. Вернее, волчицами.
Ну понятно, этот Вадька, конечно, какой-нибудь несусветный красавчик. И, конечно, черноглазый. Явно, что именно такие девчонкам нравятся — вот ведь они, как мышки в мышеловку, впрыгнули в серый «Ниссан» совершенно добровольно, только потому, что их поманил пальчиком черноглазый похититель. Беда с этими черноглазыми, Алёна Дмитриева и по своему печальному опыту знала, что — беда бедучая…
— Да потому, что мы в один момент нашли бы сообщника ваших злодеев. И преподнесли бы их всех Льву Ивановичу Муравьеву на блюдечке с голубой каемочкой — вместе с причиной, по которой этот киднепинг был учинен. Уж причину бы мы из вашего Вадьки в два счета вышибли бы. А теперь… ищи его, свищи, осведомителя и пособника похитителей!
— А вы по-прежнему не хотите допустить, что он все же находится где-то там, где Муравьев? — осторожно спросила Марина.
— То есть против нас работает кто-то на самом верху? — уточнила Алёна. — Кажись, так пишут в шпионских романах? Ну… напрашивается такой вывод, но почему?! Чем вы могли так озлобить эти самые «верхи», что они просто не могут жить по-старому и взялись вас трясти?
И она с сомнением оглядела сначала Катю, потом Таню, которые вгрызались в бигмаки с такой сокрушительной напористостью, что становилось ясно: младшему редактору Людочке придется бежать в «Макдоналдс» еще раз. А может, даже и не раз.
— Слушайте, девчонки… — вдруг пробормотала Марина потрясенно. — А ведь я знаю… Я знаю, почему это произошло!
— По-э-у? — издали некие звуки Катя и Таня, слаженно жуя.
— Это тебе, Катя, мэровский заводик аукнулся.
Девушки так и застыли с открытыми ртами. Переглянулись. Снова принялись жевать, но уже задумчиво. По всему было видно: то, о чем говорила Марина, им понятно и они вполне допускают такую версию. Но Алёна ничего не понимала, поэтому потребовала объяснений. И вот что она услышала.
Оказывается, еще зимой Катя написала материал — очень острый и дерзкий, — в котором просто-таки обрушилась на мэра города. В последнее время в Нижнем стали активнейшим образом ломать асфальт на тротуарах и мостить их брусчаткой. Всю Покровку — главную пешеходную улицу города — замостили тоже. Алёне эта новая мода казалась порядочной дурью. Сколько набоек от своих высоких каблуков она оставила в бороздках между брусчаткой, сколько раз ногу там подвернула! Но, как говорится, против лома нет приема. Приходилось терпеть и постепенно переходить на низкие каблуки. Но Катя писала отнюдь не о женских ножках и каблучках, а о том, что расчистка льда зимой на тротуарах ведется старым дедовским способом: не используются ни соль, ни песок, ни какие-то химические соединения, ни тем паче подогрев тротуаров — выходят дворники и колотят ломами в лед, разбивая и его, и брусчатку. Натурально, по весне происходит ее замена, причем не только разбитой, но и весьма большого участка вокруг. Катерине удалось узнать, что коммунальный отдел мэрии теперь принципиально не отпускает никаких антигололедных, так сказать, средств в жилконторы и домоуправления. Поэтому приходится использовать дворников. А на брусчаточном заводике у нее отыскался информатор, который сообщил, что заказами эта мэровская игрушка теперь обеспечена выше крыши, и в отделе планирования нарочно составлен график перемощения улиц. То есть не первичной замены тротуаров, а повторной. В основном повторной!
«Короче, почти по Гоголю, — подумала Алёна, услышав это. — Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельность градоправителя!»
Выводы, которые приходят в голову любому человеку, имеющему мыслить связно, Катя изложила в статье.
Ожидалось, что поднимется шум и против «Карьериста» начнется крестовый поход власти. Марина приготовилась отражать нападки мэровской камарильи и защищать Катерину. Но ничего подобного не случилось! То есть от возмущенных народных масс письма шли сплошным потоком — как электронные, так и «живые». Разумеется, возмущались не статьей, а мэром. Однако власть предержащие молчали. И постепенно все затихло. Получился, как говорила сама Марина, ожидавшая скандала, семипудовый пшик. Однако через какие-то каналы дошла весть о том, что мэр очень сильно разгневался-таки и не полез в драку только по зрелом размышлении, но кому-то из «ближних людей» посулил, что достанет-таки эту Катерину и этот «Карьерист».
Ну что ж, это весьма походило на правду — и на версию…
Катерина немедленно начала чувствовать себя узником совести и невыносимо задрала нос. Марина утирала слезы умиления. Робкая попытка Алёны выразить сомнение была с негодованием отметена. И она поняла, что ей здесь больше делать нечего, в этой атмосфере всеобщей борьбы за права человека, а потому тихонько и незаметно слиняла — и пошла домой, притормаживая под каждым сиреневым кустом и размышляя о неувязках, которые так и выпирали из «мэровской версии».
С одной стороны, конечно, уши у всех начальников длинные, вполне могут расслышать и то, что говорит и какие отдает распоряжения начальник городского следственного управления. С другой стороны… как-то мелко все это выглядело и отдавало очень большой самодеятельностью. Будь Алёна мэром, уж она нашла бы более конкретный и весомый способ расквитаться с обидевшей ее газетой! И не один. А тут какой-то фарс, правильно Катя говорила. Не похищение, а пародия. Что-то здесь не так… то есть здесь не так все! И без Муравьева не разобраться, пожалуй. Конечно, девчонки напишут заявление на Москвича и его черноглазого сообщника, но что-то подсказывало Алёне, что делу вряд ли будет придан надлежащий ход. Ничего не случилось, и вправду так! Ну, поднимет шум «Карьерист»… А толку-то?
Пожалуй, тут не обойтись без Муравьева. Все-таки не только журналистки едва не стали жертвами в этой истории. Могла пострадать и Алёна Дмитриева. Разумеется, она могла присовокупить свое заявление для усиления, так сказать, впечатления. Но как объяснить присутствие в своей квартире незарегистрированного газового пистолета?! Как бы тут не вышло классического — пошли по шерсть, вернулись бриты. В том смысле, что можно ведь подлететь под очень крупный штраф. Оно ей надо?
А вот и ее двор. Алёна постояла под сиренью и поблаженствовала. Вот-вот жасмин зацветет… Надо сегодня музыку не включать вечером. В прошлом году в это время соловьи пели прямо тут, во дворе, в вершинах берез. А вдруг и в этом году услышать их голоса?
Она медленно поднялась на крыльцо и остановилась, роясь в сумке в поисках ключа от домофона и оглядываясь на сирень и березы. В это мгновение домофон пискнул и дверь открылась. В проеме стояли два человека в полицейской форме.
— О, как здорово, что вы меня впустили, — улыбнулась Алёна. — Разрешите пройти?
— А вы случайно не гражданка Ярушкина из семнадцатой квартиры? — спросил один из полицейских, несколько повыше ростом и смуглый.
— Она самая, — сказала Алёна. — А что? Какие-то проблемы с охраной? Вы из отдела охраны?
— Да нет, мы из райотдела полиции, — сказал этот смуглый. — Младший лейтенант Скобликов. Скажите, Ярушкина, у вас есть разрешение на ношение огнестрельного оружия?
— Господь с вами, — изумленно сказала Алёна. — Ни разрешения, ни…
— Если нет разрешения, почему вы его храните? — перебил Скобликов.
— Что я храню?! — вытаращила глаза Алёна.
— Огнестрельное оружие, — терпеливо повторил Скобликов. — Поступило заявление. Позвольте пройти в вашу квартиру, гражданка Ярушкина. Дело серьезное, и на улице его мы решать не будем.
И он сделал приглашающий жест, пропуская Алёну в подъезд.
Она вошла медленно, со странным ощущением, что входит в тюремную камеру, и тяжелая подъездная дверь медленно и пугающе захлопнулась за ней… совершенно как дверь камеры.
Правда, не прозвучало необходимого (если судить по романам) скрежета надзирательского ключа в замке, но, с другой стороны, наверное, бывают в камерах и автоматические двери, верно?
Мезенск, 1942 год
— Что вы так удивились? — спросил Алекс Вернер, ухмыляясь. — Неужели не ожидали увидеть меня? Я же говорил, что непременно появлюсь в «Rosige rosa» в первый же день, когда вы выйдете на службу. Только не говорите, что вы об этом забыли.
— Забыла, ну и что? — буркнула Лиза, делая движение проскользнуть мимо него и войти наконец в ресторан. Но Вернер схватился обеими руками за перила и перегородил перед ней лестницу.
— Куда же вы спешите, милая фрейлейн? Как это говорят в России?.. Работа не волк, поэтому в лес не уйдет?
— Не убежит, — поправила Лиза, снова раздражаясь от того, что Вернер так хорошо знает русский язык.
— Не убежит, — покладисто согласился он. — Пусть будет так. Но объясните мне, почему слово «работа» — женского рода — сравнивается с волком, который существо рода мужского, а не с волковицей? Это было бы гораздо более логично, вы не полагаете?
— Нет, не полагаю, — невольно усмехнулась Лиза. — Хотя бы потому, что слова «волковица» в русском языке нет. Есть слово «волчица». А волк — не существо, а существительное мужского рода!
— Правку насчет волчицы принимаю, — кивнул Алекс. — Но почему же волк — не существо?! А кто же он, по-вашему? Ставлю вам «плохо» по русскому языку!
И он захохотал, чрезвычайно собой довольный.
«Да чтоб ты провалился!» — привычно подумала Лиза. Черт его знает, почему он до такой степени ее бесит, этот фашист, ведь на самом деле он существо (вот именно!) довольно безвредное, а местами даже полезное, во всяком случае, выказывал себя таковым.
Да потому и бесит, что фашист, тут же ответила она себе. Потому и бесит! Было бы странно, если бы не бесил.
— Кстати, фрейлейн Лиза, я все хотел спросить вас, почему вы всюду таскаете с собой этот громоздкий и неудобный саквояж? — неожиданно спросил Вернер. — Сейчас во всей Европе в моде женские сумки через плечо, на манер противогазных, почтовых или полевых. Из чего их только не шьют: не только из кожи, которую теперь не достать, но и из старых пальто, парусины и других самых неожиданных материалов. Во Франции вы уже не увидите никаких ридикюльчиков: женщины оставляют руки свободными, чтобы ездить на велосипеде, которые там весьма популярны. Француженки очень практичны, вот и породили новую моду. Помяните мое слово, сумки через плечо приживутся и всегда будут популярны у деловых женщин, даже когда окончится война!
— Вы в своем репертуаре, — насмешливо ответила Лиза. — Как всегда, знаете тысячу вещей, о которых ни один мужчина и задумываться не станет. То рассказывали мне о чулках и педикюре, теперь вот о сумках…
— Помнится, мы еще говорили о белье, — напомнил Вернер, сопроводив свои слова весьма игривым взглядом. — Эту тему я вообще готов обсуждать хоть целый час. Объясняю почему: это профессиональный интерес. Мой отец — самый крупный в Германии производитель трикотажа, в том числе и шелкового, бельевого. Его иногда называют трикотажным королем.
— Фу-ты ну-ты… — изумленно протянула Лиза. — А вы, значит, трикотажный принц?
— Вот именно, — кивнул Алекс. — Разумеется, теперь, с войной, все иначе. Ах, как бы я хотел, чтобы вернулись прежние времена, и наши заводы вновь начали производить дамское белье, чтобы все девушки, в том числе русские, могли носить трусики и лифчики, сшитые не из каких-то ситцевых тряпок или, в самом лучшем случае, из обрезков парашютов сбитых летчиков (честное слово, это, так сказать, исторический факт, я не вру, сам видел нечто подобное, даже купил за немалые деньги, когда-нибудь устрою музей белья и выставлю там как экспонат), а настоящий шелковый трикотаж! Желательно натуральный. Я недолюбливаю вискозу. Говорят, за ней большое будущее, но пока от нее одни только хлопоты.
— В каком же смысле? — живо поинтересовалась Лиза — не потому, конечно, что это было ей так уж интересно, а чтобы заговорить Алексу зубы и отвлечь его внимание от саквояжа.
Все замечает это глазастый фашист! Само собой, саквояж был громоздким и неудобным, вдобавок обшарпанным, совершенно не шел к Лизиному новому платью в изысканную меленькую бело-зеленую клеточку и к новым белым туфлям (все из запасов фрау Эммы, разумеется!), но через пару-тройку дней Лиза в этом самом саквояже принесет в «Розовую розу» кислотную мину, и ей хотелось приучить окружающих к его виду. Саквояж должен стать ее привычным атрибутом, не вызывающим никаких подозрений.
— У отца есть несколько фабрик, где производят обычную шерстяную или суконную, не трикотажную ткань, — начал рассказывать Вернер. — Разумеется, он охотно размещал у себя военные заказы, потому что они хорошо оплачивались. Мы шили армейскую униформу. До тысяча девятьсот тридцать пятого года ее делали из чистой шерсти, но затем стали добавлять пять процентов вискозного волокна. Постепенно его содержание повысили до двадцати процентов, а за время войны оно достигло шестидесяти пяти процентов! Если так дело пойдет, к тысяча девятьсот сорок третьему году около девяноста процентов форменной одежды будет производиться из искусственных тканей. Но разве это шерсть? Одна видимость, и то лишь издалека. — Вернер покачал головой. — Каково может быть качество разбавленного чая? Он жидкий и невкусный. То же и с тканью. Она теряет вид и прочность. Кроме того, чрезмерное употребление вискозы, могу так сказать, развращает производителей. Из экономии при окраске материи стали использовать более дешевые вискозно-серные красители вместо более дорогих кубовых, которыми пользовались ранее. Теперь наша продукция — самый настоящий эрзац! Даже новый китель последних выпусков смотрится как поношенный, плохо держит тепло и быстро намокает в сырую погоду. Это профанация, это стыдно, но это вызвала к жизни война…
У Вернера был озлобленно-унылый вид. Лиза уставилась на него изумленно. Какой борец за качество продукции, кто бы мог подумать! Ну не применяли бы вискозу, кто их заставляет это делать? Небось денежки лопатой гребут со своего Третьего рейха, а себестоимость продукции нарочно занижают. И якобы прямо совесть их заедает, ну надо же!
А между прочим, плохое качество униформы снижает боеспособность германской армии. Так что пускай примешивают вискозу! И чем больше, тем лучше!
— Да, все это страшно интересно, — сказала Лиза, с трудом скрывая злорадную улыбочку. — Я бы с удовольствием еще послушала, честное слово. Но извините, герр обер-лейтенант, мне еще переодеться нужно, прежде чем выйти в зал.
— Во-первых, если мне не изменяет память, я еще вчера, когда мы встретились в городской управе, просил называть меня просто Алекс, — сказал Вернер. — А во‑вторых, покажите мне ваш аусвайс.
— Уж не перешли ли вы служить в гестапо? — проворчала Лиза, устанавливая на перилах саквояж и открывая его. — Хотя нет, мундир на вас вроде бы прежний… а вот интересно, для вас по знакомству его из чистой шерсти пошили или это тоже эрзац? В любом случае, вы что, сомневаетесь, что я — это я?
Вернер захохотал.
— Честное слово, мне еще не приходилось видеть такой наглой русской девушки! — наконец выговорил он сквозь смех. — Все, кроме вас, прекрасно понимают, что любой представитель оккупационных властей имеет полное и неоспоримое право спросить любой документ у любого жителя оккупированной территории. Но в данном случае я вовсе не хочу лишний раз удостоверить вашу личность. Мне будет просто приятно взглянуть на ваш новый аусвайс, ведь я имею к его выдаче самое прямое и непосредственное отношение!
Лиза послушно достала аусвайс и протянула Вернеру. Он прав во всем. Пора запомнить, что любой оккупант имеет право не только проверить у нее документы, но и убить ее.
Просто так. Безо всякого повода. И безо всякого наказания за это. Хотя убитого мало греет, наказан ли потом его убийца или нет…
Но если честно, Вернер («просто Алекс») сам вынуждает Лизу так себя вести. Никогда не поймешь, когда он говорит серьезно, а когда шутит, насмехается — причем не только над Лизой, но и над собой. С ним невозможно быть серьезной, его невозможно бояться, а ведь это враг, фашист! Наверное, даже узнай он о том, в каком страшном деле она вынуждена участвовать, даже разоблачив ее, даже направляя на нее пистолет, он будет смеяться и шутить.
— Интересно, — задумчиво сказал Вернер, возвращая Лизе аусвайс, — сохранился ли у фотографа, который делал этот прелестный снимок, негатив? Я бы с удовольствием заказал ему еще одно ваше фото. Для себя. Только не такое маленькое, а кабинетного, так сказать, формата. Знаете, с почтовую открытку, вот такого размера. — Он показал на пальцах. — И носил бы его в бумажнике, иногда с гордостью предъявляя своим приятелям. Они рассматривали бы его, завидовали бы мне, восхищались вашим изумительным лицом, делали бы скабрезные намеки, которые я с тонкой улыбочкой игнорировал бы, а потом спрашивали, что написано на обороте снимка. И я с удовольствием переводил бы им вашу дарственную надпись, сделанную, конечно, по-русски: «Моему любимому Алексу — на вечную память. Лиза Пет-ро-пав-лов-ская». Неужели мне удалось выговорить вашу фамилию?! Ну и в конце пусть будет написано — такого-то числа, такого-то года, город Мезенск, бывшая Россия.
— Вам бы фантастику писать, герр обер-лейтенант, — сухо сказала Лиза, с усилием пытаясь справиться с дрожью ненависти.
«Любимому Алексу» — это ладно, это переживаемо, это мещанство и пошлость, но это терпимо. Но насчет «бывшей России»… Да как ты смеешь?!
— Фантастику? — удивился Вернер. — А, понимаю. Жюль Верн, Герберт Уэллс… Ну и Томас Мор, конечно. «Утопия»! Я читал, очень любопытно. Интересно, что кажется вам утопией?
Вот пристал, а?!
— Алекс, может, я пойду, а? — жалобно попросила Лиза, нарочно называя его по имени: авось рассиропится и угомонится. — Меня ждет фрау Эмма. Как-то неловко опаздывать в первый же рабочий день!
— Ну, за это обращение я для вас готов даже луну с неба достать! — усмехнулся Вернер, однако вид у него сделался очень самодовольный, и Лиза поняла, что ее невинная женская хитрость подействовала. — Сейчас я вас пропущу. Я хотел бы проводить вас в зал и сразу, так сказать, заявить свои права, потому что, подозреваю, у вас отбоя не будет от поклонников, однако должен уехать: меня вызывает фон Шубенбах. Да, вообразите, наш простреленный приятель лично возглавлял поимку этого мерзавца, который вчера с самолета положил несколько десятков доблестных солдат фюрера, а заодно — жителей Мезенска… Вы слышали, конечно, об этом?
Лиза кивнула, решив умолчать о том, что она об этом не только слышала, но и имела несчастье наблюдать своими глазами.
— Ну так вот, этот негодяй арестован, все сведения о нем держатся в секрете, однако расследование идет полным ходом, и я сейчас должен ехать к Шубенбаху по его личному вызову. Ума не приложу, что там за срочность и чем я могу ему помочь, — может быть, он попросит с помощью моего отца нажать на какие-то педали в Берлине, чтобы наделить его новыми полномочиями. Все-таки его шеф сейчас в отъезде, у Шубенбаха возник замечательный шанс выдвинуться, а он весьма честолюбив, своего не упустит. Сами понимаете, служба прежде всего, кроме того, помощник военного следователя — не та персона, приглашением которой можно пренебречь. Словом, дорогая, я попытаюсь вернуться пораньше, но если этого не произойдет, умоляю вас держаться стойко и не простирать свою благосклонность на первого же попавшегося бравого фронтовика, поразившего ваше воображение своими байками. Помните, что у вас есть перспектива получше! Вашу ручку!
Вернер приложился к ее руке и ушел, посмеиваясь, а Лиза смотрела ему вслед с ненавистью. «Любимый Алекс»… чтоб ты сдох со своими намеками! Все-таки, как ни кощунственно это звучит, нет худа без добра: если бы не этот гад-антифашист, устроивший бойню на площади, Алекс так просто не отвязался бы сегодня от Лизы, и современные вариации на тему Юдифи и Олоферна вполне имели бы шансы воплотиться в реальность.
Но после того, что сегодня было с Петрусем, это просто невозможно!..
Лиза прогнала поплывшие перед глазами воспоминания, которые вмиг сделали ее слабой, и вошла в ресторан.
Далекое прошлое
На похороны зятя приехала мать Авроры, госпожа фон Валлен, и рассказала, что, когда о кончине Павла Николаевича Демидова стало известно в Гельсингфорсе, она получила письмо от той самой айти Виртунен, которая некогда опоздала принять новорожденную Аврору. Повитуха была на смертном одре и всеми святыми умоляла госпожу фон Валлен навестить ее. Несмотря на то что нужно было срочно ехать к дочери, та не могла отказать умирающей в исполнении последнего желания. И умирая, матушка Виртунен сообщила, что именно сказала ей «королева троллей» в ту минуту, когда они столкнулись в дверях дома Шернвалей. «Да будет проклята ее красота и имя ее! А ты молчи об этом, не то умрешь на месте!» — вот каковы были ее слова.
Матушка Виртунен поняла, что пророчество касалось прекрасной Авроры, а угроза — ее самой. Вот она и молчала — до тех пор пока смерть не подошла к ее изголовью и бояться ей больше было нечего. Едва проговорив эти слова, она испустила дух.
Услышав рассказ матери, Аврора не могла не задуматься над тем, что, оказывается, она и в самом деле была невольной причиной смертей тех, кого любила. Трижды она дарила вещи со своими инициалами людям, которых любила, — и трижды их настигала смерть.
Сама толком не зная, верит она в это или нет, Аврора поклялась больше не делать таких ошибок — ведь у нее оставался единственный мужчина, которого она любила: сын.
Лишь миновал девятый день после кончины мужа, она уехала на Урал, в Нижний Тагил.
Нижний Новгород, наши дни
— Вообще существует такое понятие, как презумпция невиновности, — пробурчала Алёна, неохотно волоча себя по лестнице. Менты напористо топали следом, явно мечтая подтолкнуть ее в спину. Они так и горели служебным рвением.
Ответа на ее реплику не последовало.
— Не понимаю, почему вы меня не слушаете! — возмутилась Алёна. — Говорю вам, у меня нет никакого оружия, ни огнестрельного, ни холодного, кроме ножей кухонных. Но это вроде не считается?
— В определенных обстоятельствах и кухонный нож может стать орудием убийства, — сообщил Скобликов. — Я вам сколько угодно таких случаев могу рассказать.
— Спасибо, не надо! — передернула плечами Алёна. — То есть я вам очень признательна, но — спасибо, не надо. Может быть, когда-нибудь в другой раз. У меня сейчас очень много работы.
И она остановилась на лестнице, всем своим видом показывая, что дальше пускать их не намерена.
— Придется пройти в вашу квартиру, — сказал Скобликов и несколько двинул Алёну с места, протиснувшись мимо нее. — У нас имеется предписание на обыск.
— Что?.. — прошептала она, как-то сразу обессилев. — Какой еще обыск?
Она тупо смотрела на спину Скобликова, который теперь неумолимо шагал впереди, но тут за спиной вдруг кашлянул второй полицейский, и Алёна обернулась к нему. Почему-то показалось, что он подает своему лейтенанту какой-то секретный сигнал, направленный против нее. Теперь ей казалось, что весь мир направлен против нее!
Однако никакого знака или сигнала она не уловила. Вид у этого мента — звания его Алёна не распознала, потому что вообще в званиях, ни военных, ни морских, ни полицейских, не разбиралась, — был какой-то очень уж растерянный. И физиономия покраснела. Он даже снял фуражку и отер вспотевший лоб. Волосы у него были очень светлые, а рядом с покрасневшим лбом вообще казались белыми. И глаза были голубые-голубые, ну чисто васильковые! И они были устремлены на Алёну с каким-то совершенно несчастным и даже, не побоимся этого слова, рабским выражением.
Она неприметно пожала плечами. Ясное дело. Именно молодые мужчины вот такого типа всегда мигом теряли головы при виде рельефной фигуры и высокомерной физиономии нашей писательницы. Разумеется, ни у кого из них не было ни единого шанса приковать к себе ее внимание, в том числе и у этого невзрачного типа в форме, и все же эта робкая дань восхищения ее прелестям несколько взбодрила нашу эгоцентристку и эгоистку, некоторым образом даже гедонистку, и она обрела былую бодрость, на повороте обошла Скобликова и подскочила к своей двери первой.
— И все же я не понимаю, — попыталась она выстроить последний рубеж обороны, — с чего вы взяли, что у меня есть оружие?
— Заявление поступило.
— Заявление?! От кого?!
— Ну, такие служебные тайны я вам выдавать не вправе, — усмехнулся Скобликов.
Алёна тупо смотрела на него. Вообще говоря, единственным человеком (Дракончег, понятно, не в счет), который знал, что у нее есть оружие, был Москвич, схлопотавший от общения с этим самым оружием просто море слез… отнюдь не слез счастья. Но если он написал такое заявление, это… это еще похлеще дурь получается, чем у унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла! Только полный кретин может так подставиться! С другой стороны, все случившееся не свидетельствует об особой далекости Москвича… И все же — вряд ли можно до такого-то имбецильства дойти!
Тогда — кто?!
— Странно как-то, — пробормотала Алёна. — Выходит, я тоже вот так на любого-каждого могу написать, мол, оружие у него, — и вы что, пойдете прямо проверять?! И обыскивать? По одному только заявлению?!
— Вы сами знаете, какая криминогенная обстановка в городе и стране, — доверительно сказал Скобликов. — Приходится иногда полагаться и на непроверенные факты. Преступление лучше предупредить, чем потом тратить время и силы на то, чтобы обезвредить преступника. Поэтому, гражданка Ярушкина, прошу вас открыть. Не заставляйте у меня изымать у вас ключ.
— А что, такое возможно? — изумилась Алёна.
— Разумеется.
— У меня там сигнализация…
— Сигнализацию придется отключить, — приказал Скобликов. — Так, или вы сейчас же открываете дверь, или я оформляю отказ повиноваться властям.
— Ну хорошо, — мстительно проворчала себе под нос Алёна, от души надеясь, что мент не расслышит, с какой интонацией это было сказано. — Ну, если вы так…
Она открыла дверь и под громкий писк охранной системы замерла перед щитком сигнализации. Нужно было набрать четыре цифры: 4891. Когда эта комбинация доходила до пульта управления, квартира автоматически снималась с охраны. Но настройщик прибора сообщил Алёне одну хитрость.
— Если, к примеру, вы открываете квартиру под принуждением… всякие ситуации бывают, все нужно предусмотреть, то последней вы набираете не единицу, а восемь. Звук исчезает, но на пульт поступает тревожный сигнал. И к вам на выручку выезжает оперативная группа. Прошу вас не забыть эту хитрость, Елена Дмитриева! — сказал он наставительно и посмотрел на Алёну поверх старых круглых очков, одна дужка которых была обмотана изолентой.
Как ни странно, она не забыла… то есть очень может быть, и забыла, но сейчас вспомнила — как нельзя более кстати!
Пугало одно — вдруг Скобликов знает всякие такие охранные хитрости? Уж очень внимательно смотрел на те цифры, которые Алёна нажимала. Но делать было нечего, пришлось рисковать.
Тревожное пиканье умолкло, и полицейские вслед за Алёной вдвинулись в квартиру.
Мезенск, 1942
Все в общем-то оказалось не столь страшно, как ей казалось. Переодевшись в совсем даже не вульгарное, хотя и очень короткое, розовое платье и надев премиленький веночек из шелковых розочек, который здесь носили официантки вместо наколок, Лиза вышла в зал. Ее поразило, с каким вкусом он был убран. Казалось, находишься в роскошном розовом саду. Искусственные цветы, шелковые шали на абажурах, сплошь розовая обивка мебели — здесь сочетались самые разные оттенки этого цвета, от почти малинового до почти серого… Больше это напоминало изысканный салон, чем ресторан. Видимо, фрау Эмма просто органически не способна на вульгарность. И эта обстановка действовала на людей: офицеры вели себя весьма чинно, не скандалили, не орали «Хорста Весселя», а приватные предложения девушкам делали не иначе как в письменном виде, для чего на столиках лежали специальные розовые блокнотики с розовыми же вложенными в них карандашиками. В листок была непременно завернута купюра, которая не входила в оплату заказанных блюд, а считалась необходимым авансом девушке и заведению и не возвращалась даже в том случае, если офицер получал отказ.
Все эти тонкости Лиза наблюдала пока что со стороны. К счастью, на ее благосклонность пока никто не претендовал, хотя один армеец лет сорока — вроде бы это был оберст-лейтенант — поглядывал многозначительно. Фрау Эмма, пока Лиза переодевалась, преподала ей краткий экскурс в гитлеровские военные звания и знаки различия Heer, то есть армии, Luftwaffe, то есть военно-воздушных частей, и Waffen SS — эсэсовцев. Звания офицеров Kriegsmarine, иначе говоря, военно-морского флота, оставили в покое, поскольку ни единого их представителя в Мезенске невозможно было и днем с огнем отыскать. Оберст-лейтенант — по-нашему, это звание соответствует подполковничьему — принадлежал к пехоте.
«Ладно, может, обойдется», — подумала Лиза с надеждой, однако тут же увидела, что майор потянулся к розовому блокноту.
Ого! Кажется, запахло жареным…
Может, действовать по принципу — с глаз долой, из сердца вон?
Лиза выскользнула в коридор. Она сбегала на кухню и спросила, как там дела с цыплятами для господина гауптштурмфюрера СС (этот ее клиент, к счастью, не интересовался ничем, кроме еды). Цыплята собирались вот-вот спорхнуть с вертела.
— Вам скажут, когда будет готово, фрейлейн, — успокоил ее повар.
Но Лиза не успокоилась. Она ощутила настоятельную потребность зайти в туалет, потом выглянуть на крыльцо и подышать воздухом, потом ей послышались какие-то странные звуки около двери черного хода… Во время всех этих хождений она не просто скрывалась от пехотинца — она осваивалась в «Розовой розе», пытаясь отыскать себе пути к бегству, если это понадобится. Самым надежным, хотя и банальным, путем оказалось окошко в туалетной комнате, которое открывалось довольно легко и в которое было очень удобно вылезти, взобравшись на умывальник. Правда, со стороны улицы оно располагалось высоковато, придется прыгать в случае чего, да ладно, как-нибудь…
Лиза как раз выходила из туалета, когда перед ней возникла фрау Эмма — в серебристо-розовом умопомрачительном, невероятно элегантном платье, отделанном страусовыми перьями.
— У вас расстройство пищеварения? — спросила она холодно. — В чем дело, Лиза? Я полагала, вы внесете оживление в жизнь моих клиентов, а вы, такое ощущение, пренебрегаете своими обязанностями. Герр оберст-лейтенант выражает удивление вашим исчезновением. И это очень мягко сказано!
— Фрау Эмма, — беспомощно пробормотала Лиза, — но он вроде бы брался за блокнот, и я… Честное слово, я просто испугалась. Во-первых, мне он не нравится, а во‑вторых… господин Вернер…
— Господина Вернера здесь нет, — сухо сказала фрау Эмма. — Видимо, он изменил свои намерения относительно вас.
— Нет, не изменил, — воскликнула Лиза. — Он приезжал, встречал меня на крыльце, но должен был уехать, его вызвал господин фон Шубенбах. Между прочим, фон Шубенбах, с которым мы сегодня случайно встретились, тоже говорил… ну, мол, он не прочь стать моим покровителем. Так что этот оберст-лейтенант… он тут как-то не к месту, мне кажется.
— А мне кажется, у вас мания величия, — сказала фрейлейн Эмма еще более сухим тоном. — Фон Шубенбах, помощник военного следователя… Алекс Вернер, один из богатейших людей Третьего рейха… Угомонитесь, дорогая. Как говорила моя русская бабушка, знай сверчок свой шесток, не садись не в свои сани и руби дерево по себе.
— Но, по-моему, Алекс Вернер вчера при вас изъявлял свои намерения, — обиженно сказала Лиза. — И я же говорю, он приезжал, но должен был спешить, потому что фон Шубенбах…
— Вызвал его, да-да, это я уже слышала, — кивнула фрау Эмма. — Мы вернулись к тому же, с чего начали, но довольно толочь воду в ступе. Эти оба достойных воина далеко, а оберст-лейтенант сидит в зале и имеет весьма недовольный вид. Это раз. Девушки моего заведения не имеют права ни на какие симпатии и антипатии в ущерб этому заведению. Это два. Прошу вас в зал, и пусть беседа на эту тему будет у нас первой и последней, это три.
Она сделала приглашающий жест, и Лизе ничего не оставалось, как подчиниться и пойти вперед.
«Зараза, — зло думала она. — А казалась такой добренькой! Платья мне дала, аусвайс оформлять помогала…»
Лиза вошла в зал и радостно встрепенулась: пехотинца за столиком не было! Эсэсовец наворачивал своих цыплят — видимо, его обслужила другая девушка, пока Лиза искала пути к бегству.
— Значит, он ушел, — сказала Лиза со вздохом, который долженствовал был изображать раскаяние.
Подошел низенький мужчина во фраке (нет, не розовом, как можно было подумать, а в черном, и это было, кажется, единственное чужеродное пятно в оформлении «Розы») — метрдотель, который напоминал Лизе почему-то иллюзиониста Игоря Кио с фотографий в журнале «Огонек», — и сделал полупоклон:
— Герр оберст-лейтенант ждет фрейлейн Лизу в кабинете. Он оплатил заказ, но откушать не пожелал. Он жаждет встретиться с фрейлейн.
— Проводите фрейлейн, — приказала фрау Эмма и вышла из зала.
Лиза, не помня себя, вошла в кабинет. Армеец полулежал на розовом (а как же!) диванчике и не подумал встать при ее появлении. Его мундир был полурасстегнут, темно-карие глаза оценивающе обшаривали фигуру Лизы.
— Ненавижу розовый цвет, — наконец сказал он. — Какой дурак решил, что он должен возбуждать мужчину? Снимите это!
И он, кивком указав на ее платье, расстегнул еще одну пуговицу мундира.
Лиза стояла столбом. Если она сейчас воспротивится, карьере ее в «Розовой розе» придет конец. Если не воспротивится, то через пять минут оберст-лейтенант изнасилует ее вот на этом курьезном диванчике. Пожертвовать жизнью и честью ради Родины она никогда не была готова… тем паче после Петруся… это слишком большая жертва с ее стороны! С каким-то фашистом! Да еще таким неприятным на вид. Он совсем даже не стар, ну какой это возраст, сорок, сорок пять лет, но какой у него обрюзгший, неопрятный вид, какие короткопалые руки! Стоит представить, что сейчас они поползут по телу Лизы…
Бежать. Немедленно. Вот просто повернуться — и…
И как это — сейчас исчезнуть и больше никогда не увидеть Петруся? Не услышать, как он задыхается, и бормочет, и стонет, не ощутить, как бродят его губы по обнаженной шее, повергая в дрожь?
— Ну что вы стоите, как гейша, которая еще не исполнила полностью обряд развлечения мужчины? — буркнул оберст-лейтенант.
— Вы знаете о гейшах? — с трудом выдавила Лиза. — Это очень интересно, правда?
Среди маминых клиенток была одна — они с мужем долго жили на Дальнем Востоке, правда, не в Японии, а в Маньчжурии, но про Японию она тоже многое знала и рассказывала, рассказывала, а Лиза слушала, слушала… но сейчас в голову не приходило совершенно ничего, кроме того, что у каждой гейши был свой дану — покровитель. Где ж оба ее дану?! Набивались-то наперебой, а как дошло до дела…
«Ага, — ехидно произнес в голове Лизы некий голос, — а тебе в принципе не все равно, с кем из этих гитлеровцев переспать? Какая разница, будет это пехотинец, или интендант, или помощник военного следователя? Все дело в том, что Вернер и фон Шубенбах (Алекс и Вальтер, черт бы их подрал!) — помоложе и покрасивей, чем этот подержанный оберст-лейтенант. Ну да, спать с красивым фашистом приятней, чем с некрасивым!»
— Я бывал в Японии, — проговорил «подержанный оберст-лейтенант». — Я вообще много ездил. Моя работа… — Он осекся. — На гейшах слишком много наверчено. Слишком много тряпок. Кимоно, потом все, что под ним… И еще этот широченный и такой длинный оби, так у них называется пояс. Пока развяжешь, желание остынет. Поэтому я не спал с гейшами. Там есть и нормальные проститутки. Но гейши приятно поют. Это единственное, что мне в них нравилось. Ты умеешь петь?
Лиза кивнула.
— Вон там я видел гитару. — Он кивнул в угол, и Лиза, полуобернувшись, увидела висящую на стене гитару. — Я сниму. Споешь?
— Я умею только петь, но не умею играть на гитаре, — пробормотала она.
— Почему же?
— Все время хотела научиться, но… как-то некогда было.
— Ну, я умею играть на гитаре.
Оберст-лейтенант встал и снял гитару со стены. Умело тронул струны:
— Надо же, она не слишком и расстроена! Что ты хочешь спеть?
О господи, да что же ему спеть?! Русские романсы? «Он говорил мне — будь ты моею, и стану жить я, страстью сгорая!» Или на стихи Дениса Давыдова, то, что любила мама:
Не пробуждай, не пробуждай Моих безумств и исступлений, И мимолетных сновидений Не возвращай, не возвращай!..Ну уж нет. Много чести петь этому фашисту романс на слова Дениса Давыдова! Ну, тогда то, что пела мама украдкой, только для себя и для Лизы. И говорила при этом — тс-с, помни, что за стеной чужие уши! Это у них в подъезде такой плакат висел: мужественного вида тетенька прикладывает пальцы к губам. Она как две капли воды походила на Пахомову, их соседку. Все знали, что Пахомова служит не только в «Госзаготзерне», но и постукивает в НКВД. И смеялись над плакатом: Пахомова как будто сама предупреждала, что надо быть с ней осторожней! Конечно, мама никогда не пела эту песню, если Пахомова была дома. На счастье, она часто уезжала в командировки, и тогда вся их огромная коммунальная квартира словно оживала…
— Может быть, «Лили Марлен»? — сказала Лиза, чувствуя, что глаза ее наливаются слезами, а губы невольно улыбаются — чувства всегда словно бы рвали ее в разные стороны, когда она вспоминала маму.
— Ого! — оживился пехотинец. — Ты знаешь «Лили Марлен»?
— Конечно, — кивнула Лиза. — Ведь это очень красивая песня.
Тут она не врала. Нисколько.
Оберст-лейтенант взял первые аккорды. Играл он хорошо, и Лиза наконец-то справилась с судорогой, которая стискивала горло:
Около казармы У самых у ворот, Фонарь стоит высокий, Горит он круглый год. И мы с тобой, в любви горя, Стояли здесь, у фонаря, Моя Лили Марлен. Моя Лили Марлен…— Deine Schritte kennt sie,
Deinen zieren Gang, —
вдруг перебил ее приятный мужской голос:
Alle Abend brennt sie, Doch mich vergass sie lang Und sollte mir ein Leid gescheh’n Wer wird bei der Laterne stehen Mit dir Lili Marleen. Mit dir Lili Marleen…«Ну просто оперетта «Летучая мышь», — с тоской подумала Лиза, оборачиваясь к двери. Там стоял Алекс и пел «Лили Марлен» по-немецки, и Лизе ничего не оставалось, как подпевать ему по-русски:
Фонарь тот, старый, вечный, По-прежнему горит. Тебя он снова видит, Но я уже забыт. Сердце болит в краю чужом — Ведь ты с другим под фонарем, Моя Лили Марлен. Моя Лили Марлен…Мезенск, 1942 год
— Это напоминает сцену из оперетты «Веселая вдова», — прервал песню Алекс и захохотал. — Моя милая и в самом деле с другим под фонарем. Прошу извинить меня, герр оберст-лейтенант, но в этом заведении существуют весьма строгие правила относительно того, что покровители тех или иных девушек имеют на них приоритетные права. Я предупреждал хозяйку, что приду.
— Я знаю о правилах, — миролюбиво кивнул пехотинец, откладывая гитару. — Но вас не было. И может быть, тыловая крыса уступит сегодня красотку бравому боевому петуху, который защищает его поганую задницу на фронте?
— Тыловая крыса ничего старому драному петуху не уступит, — с обаятельной улыбкой сообщил Алекс. — Если вы уж так разохотились на эту милашку, что не пожелаете взять другую девушку, вам придется подождать, пока я с ней закончу. Однако я не спешу в постели. Да и в постель пока не спешу. Мы потанцуем, да, Лиза? — спросил он, выводя Лизу в залу. — Поставьте нам что-нибудь этакое… О, «Лили Марлен»! Поставьте «Лили Марлен»!
Повинуясь его знаку, метрдотель кинулся к патефону и поставил пластинку. Зазвучала музыка, и Алекс Вернер повел Лизу танцевать, подпевая Лале Андерсен:
Schon rief der Posten, Sie blasen Zapfenstreich Das kann drei Tage kosten Kam’rad, ich komm sogleich Da sagten wir auf Wiedersehen Wie gerne wollt ich mit dir geh’n Mit dir Lili Marleen. Mit dir Lili Marleen.— Это звучит издевательски, — пробормотала Лиза.
— А ну, давайте по-русски! — велел Алекс, и Лиза послушно пропела:
Часовой уж злится, Труба играет сбор. Пойду на гауптвахту, Не кончив разговор. Прощай, прощай, auf Wiedersehen. Как я хочу остаться с ней, С моей Лили Марлен. С моей Лили Марлен…— Издевательски, — согласился Алекс. — Очень вероятно, что наш бравый боевой петух сейчас кинется на меня с кулаками. И это отлично! У меня настроение подраться.
— Почему же?
— Ну, у меня дурное предчувствие, — пояснил Алекс. — Предчувствие крупных неприятностей. Со мной такое бывает. А когда со мной такое бывает, мне всегда хочется подраться. Впрочем, это не только предчувствие. Фрау Эмма — кстати, вы знаете, что она еще не так давно промышляла гаданием и все еще раскладывает карты для ближайших друзей или если ее хорошенько попросить? — еще пару дней назад нагадала мне крупные неприятности через близкого друга и любимую женщину. А мне ужасно не хотелось бы ввязываться в неприятности. Это непременно дойдет до отца, и мне тогда несдобровать. Я и так накуролесил в Париже выше всякой меры.
— Парижанки виноваты? — понимающе спросила Лиза.
— Они самые! — усмехнулся Алекс. — Ах, какая прекрасная музыка и как вы прекрасно танцуете! В Париже я танцевал фокстрот с одной русской, она княгиня.
— Ну да, — кивнула Лиза. — Конечно. Если в Париже и русская — то уж непременно княгиня.
— Вы что, издеваетесь надо мной? — хохотнул Алекс. — Самая настоящая русская княгиня, ее зовут Вики Оболенская. Но забудьте о ней! У вас нет никаких поводов для ревности. Сейчас меня интересуете только вы!
Лиза от злости едва нашла в себе силы улыбнуться. Самодовольный идиот. Да нужен ты мне!
Однако серые глаза Алекса начинают как-то странно поблескивать. Надо быстренько заговорить ему зубы.
— Как быстро вы вернулись от Шубенбаха, — сказала она сладким голосом.
— Я до него не доехал, — с досадой ответил Алекс. — Лопнула покрышка, а у меня не оказалось запасного колеса. Я бросил автомобиль возле какого-то склада под охраной часового и понял, что мне придется либо идти к Шубенбаху пешком, а это очень далеко, либо явиться к нему завтра с утра, а сегодня отправиться в «Rosige rosa», которая была в получасе ходьбы. Конечно, я выбрал второе — и правильно поступил, как мне кажется. Вы со мной согласны?
— Конечно, — нерешительно проговорила Лиза. — Смотрите, тот подполковник, то есть оберст-лейтенант, он опять скандалит.
Пехотинец уже уселся за свой стол и сейчас пререкался с метрдотелем. В зал вышла фрау Эмма. Музыка кончилась, и Лиза отчетливо расслышала, о чем идет разговор.
Оказывается, пехотинец, потерпев неудачу на любовном фронте, решил утешиться чревоугодием и приказал принести ему тушеную баранину, которую он заказал и оплатил, но есть не стал. И тут выяснилось, что баранина отдана другому посетителю, который попросил обслужить его побыстрей! Отдана и съедена…
— Герр оберст-лейтенант, — уговаривала фрау Эмма, — умоляю вас подождать. Вам приготовят другую баранину буквально через пять минут, клянусь!
— Да что вы мне говорите! — кипятился пехотинец. — Я не желаю жрать сырое мясо. Пять минут! Что я, не знаю, сколько готовится баранина? Нет! Я ухожу! Потрудитесь вернуть мне деньги за заказ!
— Герр оберст-лейтенант, — твердо сказала фрау Эмма, — вам будут возвращены деньги за баранину и кофе, которые вы не желаете ждать. Но салат и егерские колбаски вы съели, водку выпили. С вашего позволения…
— Нет, я хочу все деньги! — зло выкрикнул оберст-лейтенант.
— Фу, какое скопидомство, — проворчал Алекс. — Отдайте ему деньги, этому фронтовому каплуну. Тыловая крыса оплатит его заказ. И пусть эту несчастную баранину приготовят для меня примерно через час. Очень хорошее время для приготовления мяса! А я тем временем проследую с фрейлейн Лизой в отдельный кабинет.
Ну, наверное, так-то уж куражиться не стоило. Это стало последней каплей. Оберст-лейтенант схватился за кобуру, Вернер тоже принялся возить руками по ремню, отыскивая свою…
— Господа! — Фрау Эмма бросилась вперед, простирая руки. — Я вас умолю! Прошу у вас обоих прощения, я виновата в этом недоразумении, и только я. Умоляю вас, господа, пощадите репутацию моего ресторана. Вы знаете, что герр Венцлов намеревался удостоить нас чести… Если пойдут слухи о том, что господа офицеры схватились из-за одной из моих девушек… Умоляю вас! Это может отразиться не только на репутации заведения, но и на ваших репутациях!
— Беспокойтесь только о себе, — неприязненно проговорил полковник. — Я ухожу, я не унижусь до того, чтобы пачкать руки об эту тыловую крысу. Деньги мои оставьте себе. Но я сумею поставить вас на место с вашим борделем и с вашими шлюхами!
Он вышел. Фрау Эмма ринулась было следом, но остановилась, бессильно свесив руки и изо всех сил пытаясь изобразить безразличие.
— Да ну, пугает, — усмехнулся Вернер. — Ну что он может, скажите на милость? Вырвался на один день с фронта, завтра же туда снова уедет.
— Будем надеяться, — кивнула фрау Эмма, улыбаясь Алексу, но Лиза была удостоена столь неприязненного взгляда, что поняла: она лишилась расположения госпожи начальницы.
Ну и ладно, подумаешь, беда. Не очень-то и хотелось. Тем легче будет через два или три дня пронести сюда мины и оставить их, чтобы…
Так, не думать об этом.
А вдруг фрау Эмма разозлится настолько, что уволит ее?!
Лизу пробрал озноб.
— Вы дрожите, моя Лили Марлен? — чуть прижал ее к себе Алекс. — Может быть, настало время вас согреть?
— Я… нет, нет, я не замерзла, — забормотала она, пытаясь отстраниться.
— Но я замерз. Пойдемте.
Он увлек ее в кабинет. Мягко светила лампа.
— Может быть, вы не любите при свете? — с улыбкой спросил Алекс. — Я могу выключить.
— Нет! — панически выкрикнула Лиза.
— Отлично, — согласился Алекс, расстегивая мундир и садясь на низкий диван. — Обожаю смотреть, когда женщина раздевается. Или тебе помочь?
Он вдруг схватил ее за руку и дернул к себе. Она оказалась между его расставленными ногами, и он стиснул ее коленями и руками, да так, что не вырвешься. Губы его коснулись ее живота через платье.
— Ну, сколько тут всего, — тихонько засмеялся Алекс, и Лизу озноб пробрал, когда его теплое дыхание все же проникло сквозь ее платье. — Давай-ка посмотрим, что ты на себя надела лишнего. Платье — это само собой, платье мы снимем потом.
— Нет! — взвизгнула было Лиза.
Алекс довольно чувствительно шлепнул ее по заду:
— Стой тихо и молчи. Фрау Эмма и так несусветно зла, а если узнает, что ты и меня обидела, и вовсе с ума сойдет. Как бы не уволила тебя. И тогда тебе придется рассчитывать только на фон Шубенбаха… А на него надежда плохая.
— Откуда вы знаете? — шепнула Лиза изумленно, стараясь не трястись, как осиновый лист, когда руки его пробрались ей под юбку и принялись осторожно, аккуратно отстегивать пажики нового пояса, который тоже был подарен фрау Эммой.
— Да он сам проболтался, — шепнул Алекс. — Когда звонил мне и вызывал, проболтался, что был на базарной площади практически в то время, когда этот мерзавец расстреливал наших солдат. Сказал, что встретил там тебя, что будет счастлив нанести тебе сегодня или завтра визит. Собственно, я потому и устроил себе прокол шин вечером, чтобы иметь предлог не ехать к нему и вернуться сюда. Не мое дело, как будут складываться твои отношения с фон Шубенбахом дальше, но сегодня я хотел бы быть у тебя первым, понимаешь?
Лиза взялась руками за горло.
«У меня никогда ничего такого не было. Это в первый раз. Ты первая…»
И как он потом прошептал, этот наивный, ничего, ничегошеньки не понимающий в женщинах мальчик:
«Но ведь тебе же первый раз было так хорошо, правда? Со мной — с первым в первый раз?!»
Ну что она могла ему сказать?! Только да…
Она отвлеклась на воспоминания о Петрусе лишь на мгновение, но вдруг ощутила, что чулки ее уже отстегнуты и ползут вниз, а Вернер поднимает ей подол.
— Нет, пожалуйста! — прохрипела Лиза. — Отпустите меня! Ну хоть не сегодня! Пожалуйста!
— Ты смешная, — пробормотал Алекс. — Ты такая смешная и очень наглая русская девчонка. Ты думаешь, мужчина, который вдохнул запах женщины, может ее отпустить? Как бы не так!
Он резким движением задрал ей юбку и уставился на розовые трусики, перечеркнутые белым узким поясом, с которого смешно свешивались пажи.
— Вот оно как, — сказал он вдруг задумчиво. — Вот как? Ну что ж, мы все это снимем.
Какая-то мысль мелькнула в голове и исчезла. Пугающая мысль… кажется, еще более пугающая, чем действительность, которая была ужасна.
Алекс резко толкнул Лизу, и она упала на диван. Теперь руки его были у нее между ног, тискали грудь, гладили по голове — они были везде, везде, и еще он непонятным образом умудрялся в это время раздеваться сам!
Китель полетел в сторону, он остался в майке, Лиза в какой-то миг увидела, как резко вздымается его грудь — сердце колотилось неистово!
Алекс толкнул ее на спину, придерживая коленями раскинутые ноги, начал расстегивать брюки.
— Мне нравится твое белье, — хмыкнул он. — Я хочу порвать его на тебе. Не волнуйся, я завтра же подарю тебе другое. Тоже французское.
Снова та же мысль прокралась краешком сознания, но Лиза была слишком испугана, чтобы обратить на нее внимание.
Алекс ее не отпустит, он слишком возбужден. Неужели придется… А Петрусь?! Ну ладно, утешайся тем, что ты приносишь жертву во имя победы!
Но я не хочу!..
А кто тебя спросит?!
Раздался резкий стук в дверь.
— Какого черта?! — взревел Алекс.
— Господин обер-лейтенант, вас спрашивает господин помощник военного следователя, герр гауптман фон Шубенбах, — ледяным голосом проговорила фрау Эмма. — У него к вам срочное дело.
— Rindvieh, Astes, Ekel, — выпалил Вернер. — Скотина, сука, гадина. Мало того — завистливая гадина. Я его вызову на дуэль. Честное слово, вызову. И не отговаривай меня!
Это адресовалось Лизе, которая молча сжалась в уголке дивана. У нее и мыслей не было — отговаривать!
«Вызови! Вызови! И пусть он согласится! И перестреляйте друг друга!»
— Ну где там этот чертов Шубенбах? — рявкнул Алекс.
— Я здесь.
Дверь распахнулась.
Вошел Вальтер фон Шубенбах, мельком бросил взгляд на Лизу, причем она сразу поняла, что он заметил ее смятую юбку и спущенные чулки. Лицо его приняло брезгливое выражение.
— Почему вы не приехали, герр обер-лейтенант, по моему вызову? — холодно спросил он.
— Попал в аварию, — так же холодно ответил Алекс. — Спустило колесо. Если не верите, можете найти мой автомобиль на Вильгельм-штрассе, около какого-то склада. Его охраняет часовой.
— Значит, сюда вы пришли пешком?
— Да.
— А почему сюда, а не ко мне в кабинет? Насколько я понимаю, расстояние примерно одно и то же.
Он говорил с отеческой интонацией, словно с неразумным школьником.
— Мне показалось, сюда гораздо ближе, — пояснил Алекс. — К тому же я был уверен, что ваш рабочий день уже закончен. И вы уедете к тому времени, когда я появлюсь.
— Вы ошиблись. Мой рабочий день еще длится. И я прибыл сюда сейчас для того, чтобы пригласить вас отправиться со мной. Вы мне нужны, чтобы провести очную ставку с одним преступником. Оказалось, это весьма известная личность среди господ офицеров этого гарнизона. Некоторые из них даже называли его другом. Есть такие и среди здесь присутствующих. Поехали, обер-лейтенант. Поверьте, вы будете изумлены… не уверен, впрочем, что приятно. Спокойной ночи, фрейлейн!
И, не удостоив Лизу взглядом, фон Шубенбах вышел, буквально волоча за собой полураздетого Алекса.
Далекое прошлое
Надо было вступать во владение делами покойного мужа. Брат его, Анатолий Николаевич, почти все время жил за границей, в Италии, помочь не мог — галерея искусств во Флоренции, которую основал, и крошечное княжество Сан-Доминго, владетельным герцогом которого он являлся, отнимали все его свободное время. Совладельцем имущества и прибылей был он лишь формально, на бумаге.
Следовало или нанять умелого директора, или… Аврора захотела попробовать вникнуть в дела сама и приняла на себя всю тяжесть управления и забот. Она ложилась спать за полночь, почти все время просиживала в кабинете, над бумагами, в обществе многочисленных управляющих и приказчиков. Разумеется, приняли ее почтительно, но в то же время скептически. Однако были изумлены неожиданной деловой хваткой!
Писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк записывал то, что удалось узнать о деятельности Авроры в качестве горнозаводчика: «Как никто из владельцев до нее, она умела обращаться с людьми. Она крестила детей, рабочих, бывала посаженой матерью на свадьбах, дарила бедным невестам приданое, по ее инициативе построены богадельня, родильный дом, несколько школ и детский приют, стали выделять пособия при несчастных случаях».
Лето и часть осени Аврора проводила за границей и на Урале, зиму и весну в Петербурге, в своем особняке на Дворцовой площади.
Она потихоньку смирялась с жизнью и начала забывать о тяготеющем над ней роке. Однако судьба всегда наблюдала за ней, чтобы нанести жестокий удар в самую счастливую, спокойную минуту.
Сестра Авроры, Эмилия Карловна, по отзывам знавших ее людей, была «непритворно добра». В 1846 году разразилась эпидемия тифа. Эмилия ухаживала за больными крестьянами, заразилась… и вскоре умерла. Ей было тридцать шесть лет. Хорошо знающий ее Владимир Соллогуб писал: «Графиня Мусина-Пушкина умерла еще молодою — точно старость не посмела коснуться ее лучезарной красоты».
Мезенск, 1942 год
Лиза стояла на крыльце и смотрела в удивительно ясное ночное небо, усыпанное звездами. Луна светила ярко, и тьма небес вокруг нее была чиста, черна и непроглядна.
Близ луны прекрасной тускнеют звезды, Покрывалом лик лучезарный кроют, Чтоб она одна всей земле светила Полною славой.Сафо… красиво как и как точно. И как беспредельно далеко от того ужаса, в который попала Лиза. Далеко, всеобъемлюще, полно, самодостаточно и равнодушно. Ее жизнь — мелочь, капля, чепуха. Звезды не заметят, если ее жизнь погаснет. А она — муравьишка, букашка, песчинка! — заметит, если погаснет хоть одна звезда из мириада, что видны на небесах? Нет, вряд ли! К тому же свет умерших звезд… а это откуда? Ах да, из Маяковского! — так вот, свет умерших звезд идет до нас миллионы лет, так что, очень может быть, некоторые из этих небесных светил давно уже погасли. И ничего. Человеку нужен не сам факт существования звезды. Для него куда важнее видеть ее свет…
Если бы знать! Если бы быть уверенной, что твоя гибель осветит мирозданье, что твой конец приблизит победу, что твоя смерть нужна как непременный ее залог! И вроде бы немного от нее требуется: не грудью на амбразуру пулеметного дота, не с гранатами под пулемет, а всего лишь — в постель с фашистом. Почему, почему это невозможно? Родина — это что-то столь огромное и абстрактное, что она даже и не заметит, как крошечный мотылек — Лиза Ховрина — исчезнет в пламени войны. Не потушит мотылек пожара своими жаркими крылышками, не потушит, безмерно жалки все их трепетания! Но если затрепещут миллионы мотыльков… может быть, им удастся?
Ну, если миллионы, тогда конечно. Но ведь их миллионы! Их и так много — без меня! Подумаешь, два каких-то жалких крылышка — из миллионов-то! Ну что они значат, какое они имеют значение?
Лиза с трудом отвела глаза от неба и осторожно спустилась с крыльца. Наверное, нужно было остаться до утра в «Розе», как другие девушки, у которых нет ночного пропуска. Но они живут далеко, а она — в конце этой же улицы. Авось как-нибудь добежит, невзирая на комендантский час. Просто побыть еще хоть самое малое время в «Розе» было невыносимо. Нагляделась она сегодня, наслушалась звуков, доносящихся из кабинетов… Судьба Онегина хранила — но только сегодня. Завтра, может быть, ты тоже будешь пьяно визжать, распятая на розовом диванчике… Да, наверное, надо будет напиться, если уж не миновать этой участи. Фрау Эмма спуску не даст. Фрау Эмма… Сучка. Старая развратная сука! И Лиза, и все эти девушки — они для нее только средство добиться расположения фашистов. Дровишки для костра! Ее щедрость, ее хлопоты… чепуха! Не ради Лизы — только ради себя.
Можно, конечно, уволиться… А Венцлов? Да не черт ли с ним?! Подумаешь, какой-то гестаповец. Найдутся на него народные мстители и помимо Лизы Ховриной.
Она шла медленно, с трудом различая дорогу, и это страшно злило. Хотелось бежать со всех ног, хотелось раздеться, умыться, свернуться на постели в комочек, подоткнуть одеяло со всех сторон и прижать колени к подбородку. Хотелось — пусть даже лишь во сне — вернуться домой!
Не вернешься, конечно. А, черт, да пусть будет, что будет, она так устала! И скорей бы приехал этот Венцлов, вот что, ведь после того, как он взлетит на воздух, в «Розовую розу» уж точно не надо будет ходить!
Темнотища какая. И тишина… Даже шума военных машин не слышно с центральной улицы. Только вроде бы похрустывает что-то позади, поскрипывает. Лиза остановилась, замерла.
Тихо. Почудилось?
Пошла — странные звуки возобновились. Щебенка хрустит под чьими-то шагами, вот что это такое!
Лиза опять остановилась — стих и хруст. Ну так это свои шаги она и слышит, вот глупая трусиха.
А это что такое?! Вспыхнул огонек сбоку. Вспыхнул — и исчез.
Там кто-то закурил. Закурил и спрятал папироску в кулак или погасил ее. Нет, не погасил — вот снова появился крошечный огонек!
Кто-то следит за Лизой. Кто-то следит! Идет шаг в шаг с ней, чтобы она не догадалась о его присутствии. Но от волнения или нетерпения закурил, вот и выдал себя.
— Кто здесь? — тихо спросила Лиза, глядя на нагло мерцающий огонек. — Кто?
Молчание. И вдруг — хруст щебенки совсем близко!
Лиза вскрикнула и кинулась вперед, не в силах справиться с паникой. Все волнения этого вечера, этого дня, этих дней, этих полутора лет войны обрушились на нее — и начисто вымели разум из головы. Бежала, ничего не видя, ничего не понимая.
«Домой! Домой!»
Не о доме на улице Липовой думала она, конечно…
— Стой! Погоди! — послышался голос сзади, и ее словно в спину толкнуло, заставило лететь еще быстрей, еще бездумней.
— Стой!
Кто-то с силой схватил за плечи, развернул к себе, притиснул к груди, глуша панический вопль.
— Да ты что? Тише, тише, это я.
Но Лиза и так узнала его — по первому же прикосновению. Вот странно — по голосу не узнавала, а по прикосновению…
— Куда ты летишь? — В голосе Петруся была ласковая насмешка. — Ну куда ты летишь, неразумная? Мимо дома промчалась. Впереди перекресток, наткнешься на патруль как пить дать, а ночной пропуск у тебя есть? Конечно, нету.
Он что-то бормотал, она не слышала, постепенно обретая разум — и тотчас вновь теряя его в объятьях этих рук, в касаниях этих губ.
— Слушай, пошли лучше домой, а? — прошептал наконец Петрусь, с трудом прерывая поцелуй. — Скорей пошли, ладно?
— Ты меня до смерти напугал, — сказала Лиза. — Крался, курил… Погоди! А это кто?!
Она в ужасе посмотрела на обочину, где вспыхивал и гас огонек сигареты.
— Во! — изумленно сказал Петрусь. — Да это ж светляк. Ты что, светляков не видела?
— Видела, — буркнула Лиза, злясь, что только сейчас заметила, что огонек-то зеленоватый, бледный, призрачный… — Конечно, а как же. Просто испугалась. Ты что тут делаешь?
— Как что? Тебя встречаю, в смысле, провожаю. Знал же, что у тебя нет ночного пропуска, ну и пришел встретить и до дому довести.
— Да? — Способность мыслить связно уже возвращалась к Лизе. — А почему не подошел, пока я стояла на крыльце? И потом, когда я пошла? Почему крался сзади? Следил, что ли? Ты следил, одна я выйду или нет?
— Ну и что? — угрюмо отозвался Петрусь. — Пока ты там была, знаешь, какие мысли в голову лезли? Ты мне изменяла? Скажи честно!
Лиза вообще была вспыльчива, но этот парень делал из нее просто вулкан. И не только любовной страсти! Точно так же неудержимо, как вожделение, охватывала ее и ненависть к этой его любви: такой искренней — и такой безжалостной, унижающей ее и исполненной жертвенной готовности принести в жертву себя и ее!
— Тебе повезло. То есть мне повезло — сегодня я чудом избегла радости переспать с двумя фашистами. Даже с тремя! Чудо свершилось, воистину. Но это случайность. Больше на это не рассчитывай. И я не верю, что мне и завтра так же повезет. Если не хочешь делить меня с гитлеровцами, придумай что-то другое насчет Венцлова, чтобы мне больше не ходить в эту поганую «Розовую розу».
— Да что ж я могу сделать? — тоскливо спросил Петрусь. — Думаешь, это я выдумал? Это батюшка. Может, с ним поговорим?
— Поговорим?! — взвизгнула Лиза, окончательно теряя над собой контроль. — Да о чем с ним можно говорить, ты что? Он родную внучку не жалел, а меня пожалеет? Тебя? Ну ладно, я еще понимаю, был бы он большевик, советский насквозь, а то ведь битый ими, ломаный… русский патриот! Фанатик несчастный!
— Тише, угомонись, — бормотал Петрусь, но Лиза не слышала: истерика пролилась слезами. Тогда он подхватил ее на руки и потащил, прижимая к себе и пытаясь заглушить рыдания.
Она не осознавала, что с ней происходит, не помнила, как Петрусь принес ее в дом. Очнулась уже в постели, в его объятиях. Вслед за кратковременным безумием отчаяния нахлынуло такое безумие телесного счастья, что Лиза перестала сдерживать себя, забылась, словно бы растворилась в наслаждении. Она искала забвения и спасения в теле этого юноши, так же как и он, наверное, искал в ее теле лишь забвения и спасения, но они были людьми, у них болели сердца и души, а потому они прикрывали свое неистовое вожделение вздохами, нежностью и словами любви, которые сами собой слетали с их сливающихся губ и растворялись в поцелуях.
Они разомкнули объятия, когда совсем обессилели. Петрусь встал, задернул маскировочные шторы и принес из кухни воды. Оба пили жадно, поочередно припадая к большому холодному ковшу.
Когда Лиза допивала последние капли, Петрусь смотрел на нее и качал головой:
— Ты знаешь, я никогда не думал, что женщина может быть так красива. Я никогда не видел обнаженной женщины. Только на картинах. Но я думал, это выдумка, так не бывает. А что, все женщины такие? Или ты одна? И неужели все женщины носят такие красивые вещи?
Он поднял с полу ее розовые трусики, скомкал и прижал к щеке:
— Даже представить не мог, что бывает такое… что женщины надевают это на себя!
Его наивность пугала и трогала. Лиза вспомнила, с каким знанием дела рассуждал о женском белье Алекс Вернер. А потом…
«Вот оно как, — сказал он, глядя на Лизу, лежащую перед ним с задранной юбкой. — Вот как? Ну что ж, мы все это снимем».
«Мне нравится твое белье, — сказал он чуть позже. — Я хочу порвать его на тебе. Не волнуйся, я завтра же привезу тебе другое. Тоже французское».
А это он говорил чуть раньше:
«Мой старинный приятель Эрих Краузе завел себе тут подругу — из русских, сами понимаете, — и я по его просьбе привозил ей презент из Парижа. Отличное шелковое трикотажное белье фирмы «Le Flamant», которое так и обливает тело, и чулки из настоящего fil de Perse. Надеюсь, девушка была счастлива, как вы думаете, Лиза?»
О господи… Так вот что пришло ей в голову там, в «Розовой розе», вот почему стало так страшно и так тревожно!
Алекс узнал это белье. Он знает теперь, что Лиза… то есть не она, а Лизочка Петровская, но это все равно, — была подругой Эриха Краузе. А Эрих Краузе — друг Алекса Вернера…
Да и что такого, попыталась уговорить себя Лиза, что тут страшного? Может быть, это даже хорошо. Может быть, Алекс теперь от нее отцепится — уважая свою дружбу с Эрихом? Все, что ни делается, все к лучшему, это общеизвестно!
Так-то оно так… Но почему по-прежнему щемит сердце? Почему от страха сохнет в горле, и даже руки Петруся, даже губы его не могут прогнать этот ужас?..
И вдруг что-то легонько брякнуло в стекло — раз и еще раз. Потом снова. И почти тотчас отозвалось троекратным стуком в дверь.
Лиза прижала руки ко рту, глуша крик.
— Ничего, — прижал ее к себе Петрусь. — Ничего, это батюшка. — И тотчас спохватился, смешно вскрикнул: — Ой, боже мой!
Вскочил, кинулся было одеваться, но влез только в штаны, посмотрел на Лизу, которая лежала неподвижно и даже не собиралась, такое впечатление, прикрываться, — и устыдился своей трусости.
— Да ладно, подумаешь, — проворчал заносчиво, — что я, мальчик, что ли? — Но все же не выдержал, глянул на нее моляще и накинул простынку. Правда, не сказал ни слова.
Лиза не шевельнулась, слушая, как щелкнула щеколда и повернулся ключ в замке.
— Ты что, спал?! — послышался возмущенный голос старика. — А где…
И осекся.
Это он вошел в комнату и увидел Лизу в постели.
— Доброй ночи, отец Игнатий, — сказала она светским тоном. — Что, не спится?
Ну, такое лицо у него было… Лиза уж думала, сейчас проклянет ее, анафеме предаст, причем во весь голос.
— Да ты… да вы что тут… Петрусь, ты… Ты ж Лизочку… ты ж за Лизочкой… А теперь с этой?.. — Голос у него сорвался, видно было, каким немыслимым усилием он пытается справиться с собой.
— С этой? — повторила она задумчиво. — С этой — с какой?
Отец Игнатий помолчал, потом смог выговорить:
— Прости. И ты, Петрусь, прости. Я старик… я священник. Забыл, что жизнь идет ради жизни, а не ради смерти.
Лизе стало зябко и неловко своего полуголого тела.
— Извините, выйдите на минутку, пожалуйста, я оденусь, — забормотала, отводя глаза.
Мужчины вышли без слов.
— Не ко времени все это, — устало проговорил отец Игнатий, когда она вышла к ним в столовую, где уже горела лампа. — Мы ведь со вчерашнего дня — как на пороховой бочке. Живым его взяли или нет?
Лиза мгновенно поняла, о ком идет речь. Значит, верны были ее догадки насчет их связи с тем пилотом… Да, жив он или нет — это имеет сейчас для подпольщиков первостепенное значение. Если погиб — вечная память, но это только его смерть. Если жив… если не выдержит пыток… потянет за собой многих и станет причиной многих смертей.
Наверное, и Петрусь думал бы только об этом, если бы не потерял из-за нее, Лизы, голову. И неведомо, к добру это или к худу.
— Что он знал о вас? — спросила Лиза.
— Многое, — вздохнул старик. — Очень многое.
— Это плохо. Потому что его взяли живым.
— Откуда знаешь?!
— В «Розу» приезжал фон Шубенбах, говорил, что начали проводить очные ставки: у этого пилота много друзей среди офицеров.
— Да кабы только среди них… Ох, Лиза, плохи дела, ты даже не знаешь, насколько плохи!
Отец Игнатий вдруг насторожился. Петрусь вскочил со стула, и Лиза только сейчас уловила слабое поскрипывание половиц в коридоре.
Петрусь кинулся туда. Слышно было, как распахнулась дверь сеней, а потом что-то тяжелое проволокли по полу. И в комнате возник Петрусь, крепко держащий пана Анатоля, руки которого были заломлены за спину.
— Это еще кто? — изумился старик.
— Племянник хозяйки дома. Она уехала, а сюда племянник перебрался на время, — пояснила Лиза.
— Да я ж вам говорил, — напомнил Петрусь. — Он еще развалины не захотел от крапивы чистить. Я ему пленных по разнарядке привел, а он напился, как свинья, да завалился спать.
— Ну и спал бы, — пожал плечами отец Игнатий. — Больше спишь — меньше дребедени всякой в уши скачет. Кто много спит, тот спокойно живет. Чего притащился сюда, чего вынюхивал-выслушивал, говори?
— Да что вы, добрые панове? — проблеял пан Анатоль, делая безуспешную попытку моляще сложить руки, но не в силах справиться с хваткой Петруся, а потому только слабо трепыхая ими, словно крылышками. — Отпустите меня, добрый пан, дуже больно!
Старик кивнул, Петрусь послушался. Пан Анатоль с облегчением вздохнул.
— Ну-ну, — сказал отец Игнатий. — Слушаю тебя. Зачем приперся сюда?
— Я ж просто к красивой паненке решил заглянуть, — застенчиво признался пан Анатоль, разминая руки. — Может, скучно ей вечер-ночь коротать, так развеял бы ее глубокую печаль.
— Отчего ж вы решили, сударь, что она в такой печали пребывает? — любезно поинтересовался старик, бросая взгляд на Лизу.
Она усмехнулась. В самом деле, ну совершенно не с чего ей печалиться!
— Ну как же… — пробормотал пан Анатоль. — Я ж видел-слышал, как она горькие слезы проливала, когда ее молодой пан на руках нес.
— Ну и чего ты приперся сюда, если здесь молодой пан и так есть? Третий лишний, знаешь ли, — буркнул Петрусь.
— А разве старый пан не лишний? — лукаво улыбнулся Анатоль.
— Я ее дед, — любезно пояснил «старый пан». — А это — жених.
При этих словах Петрусь вроде бы покачнулся, но никто, кроме Лизы, на это внимания не обратил.
— Жени-их? — уныло протянул пан Анатоль, причем его задорные усики а-ля фюрер явственно обвисли. — Эвона как… А что ж мне тетя не казали, шо у паненки Лизы из второго номера жених есть?
— У тети и спросите, шо она вам не казали, — буркнула Лиза.
— То так, то так, — закивал пан Анатоль. — А вы, стало быть, дедушка паненки? А мне тетушка казали, шо у них дедушка — кацапский поп.
— Он самый и есть, — ухмыльнулся отец Игнатий. — Бывший, само собой, какие нынче попы, сам посуди.
— То так, то так, — снова закивал Анатоль. — Ну, коли так, звиняйте, будьте ласковы, панове. Пойду я… Добржей вам ночи… — И он поспешно засеменил к выходу. Никто и оглянуться не успел, как он оказался в сенях. И вдруг там сильно грохнула дверь, раздался короткий вскрик Анатоля, а потом он заблажил, как недорезанный, в полный голос: — Ой, спасите-помогите-рятуйте, пан офицер, то ж партизанское гнездо! Держите их! Ловите их, пан офицер! Они хочут спасти того летчика, который нынче расстреливал солдат фюрера!
Мгновение оцепенения, в которое впали все враз и которое еще усилилось, когда пан Анатоль снова влетел в комнату — на сей раз головой вперед, словно его кто-то здорово пнул сзади. Он пронесся через всю комнату, налетел на стену головой, сполз в угол и замер на полу. А вслед за ним вошел тот, кто его пнул: Алекс Вернер.
В руке у него был пистолет.
Далекое прошлое
Горе Авроры не поддавалось описанию. Единственное, в чем она находила в это время утешение, — это во встречах с людьми, которые хорошо знали Эмилию и любили ее. К счастью, таких было много. Слушать восхваления (совершенно справедливые!) младшей сестры ей было необычайно приятно. Люди охотно радовали прекрасную госпожу Демидову и сами первые начинали разговоры о ее сестре. Но внезапно один человек начал говорить не об Эмилии, а о самой Авроре…
Звали этого человека Андреем Карамзиным, и он был сыном знаменитого историка Николая Михайловича Карамзина, автора «Истории государства Российского».
При этом он был кадровым офицером русской армии, адъютантом графа Алексея Федоровича Орлова и следовал устному завету своего отца — историографа Николая Михайловича Карамзина, утверждавшего, что «служить Отечеству любезному, быть нежным сыном, супругом, отцом, хранить, приумножать стараниями и трудами наследие родительское — есть священный долг моего сердца, есть слава моя и добродетель».
Он был яркой личностью, однако слишком уж сильно мучило его, что всю жизнь — всю жизнь! — его представляли прежде всего как сына своего отца…
Служебной карьерой своей Андрей доволен не был. Единственно, в чем он мог, выражаясь языком современности, самоутвердиться, — это в многочисленных романах.
Женщины досаждали своим вниманием светлоглазому высокомерному красавцу. Однако сам он среди сонма поклонниц предпочитал не столько красавиц, сколько по-настоящему интересных личностей, любовью которых он мог бы гордиться. Среди его любовниц была, между прочими, знаменитая поэтесса Евдокия Ростопчина, родившая от Андрея двух внебрачных дочерей. Любила она его страстно, до сумасшествия, и много чудесных стихов было посвящено этой любви.
Когда б он знал, что пламенной душою С его душой сливаюсь тайно я! Когда б он знал, что горькою тоскою Отравлена младая жизнь моя! Когда б он знал, как страстно и как нежно Он, мой кумир, рабой своей любим… Когда б он знал, что в грусти безнадежной Увяну я, непонятая им!.. Когда б он знал!..Он знал. Знал, знал… а потом взял да и забыл всё это ради несравненной красавицы Авроры Демидовой. Причем Андрей был влюблен в нее давно, уже десять лет, но решился заговорить о своей страсти только сейчас, когда уже мог явиться перед ней не юношей, а зрелым мужчиной: ведь он был младше Авроры на восемь лет.
В те времена разница эта была почти неодолима!
Нижний Новгород, наши дни
— Ну так что? — холодно спросил Скобликов. — Будем писать акт о добровольной сдаче огнестрельного оружия или приступим к обыску?
Алёне дурно делалось при одной мысли о том, что эти два мужика сейчас начнут копаться в ее вещах — и прежде всего в той тумбочке, где злополучная «беретта» так и валяется между тюбиками «веселящего» крема, каких-то просроченных таблеток, коробочек с французскими затыкалочками для ушей и старыми, любовными, тоже начисто «просроченными» письмами Михаила. Почему, черт, ну почему она не додумалась припрятать газовик? Может, сдать его да и не мучиться? Все равно ведь отмажет ее Муравьев! В конце концов, она расскажет ему о нападении. Понадобятся свидетели — Дракончег, наверное, не откажется подтвердить, что видел того мужика, который сел в «Ниссан».
Ну нет. Дракончега неохота выводить из тени. Нужно еще самой побарахтаться!
— Ну вы хоть намекните мне, кто писал заявление! — попросила она, стоя посреди коридора и явно не выражая намерения пропустить Скобликова и сержанта (ну, пусть будет сержант!) в квартиру.
— Свидетели, — исчерпывающе ответил лейтенант и сделал попытку обойти Алёну справа, однако она чуть подалась в ту сторону, и лейтенант принужден был отступить.
— Как можно быть свидетелем того, чего не было?! — воскликнула Алёна с несколько избыточным пафосом и посоветовала себе не переигрывать.
— Соседи — они всегда все видят, — проговорил философски сержант, за что был награжден неодобрительным взглядом лейтенанта.
Алёна тихонько ахнула. Ценную информацию выдал белобрысый!
Соседи, значит… Неужели кому-то в этом подъезде настолько осточертела Елена Ярушкина (Алёна Дмитриева тож), что ее решили выселить в места не столь отдаленные? Невозможно поверить. Живет она тихо и замкнуто, шумных гулянок ни-ни, а те высокие молодые люди, которые порою к ней проскальзывают под покровом темноты, вряд ли могут кого-то всерьез обеспокоить.
Но вот, значит, обеспокоили.
Соседи. Соседи… Логически рассуждая, тот невыразительный звук, который издала «беретта», могли расслышать только люди, живущие на одной площадке с Алёной. Но вот смех в чем: на площадке три квартиры, соседи напротив три дня назад уехали в Турцию, а в квартире рядом вообще никто не живет — дед с бабулей померли, их дочка затеяла было ремонт, но дело идет ни шатко ни валко. В любом случае, вчера в полночь там никого не было. У кого же из ее соседей оказалось столь чуткое ухо, столь длинный нос и столь недоброжелательное к красавице и умнице Алёне Дмитриевой сердце? Нет, главное, в полицию сразу…
— Гражданка Ярушкина, — внезапно воскликнул Скобликов очень сердито. — Немедленно выдайте оружие, или…
Ба-бах! Дверь распахнулась, с грохотом врезавшись в косяк, и на пороге возникли две бронированные фигуры с автоматами, в касках и со свирепым выражением лиц:
— Лицом к стене, руки за голову!
Лейтенант с сержантом так и шарахнулись!
— Мне тоже? — хладнокровно спросила Алёна. — Мне тоже руки за голову? Я хозяйка этой квартиры. Предъявить паспорт?
— Да знаю я вас, — буркнул один из броненосцев, ростом повыше и корпуленцией помощнее.
Надо сказать, он не солгал, потому что дежурным из отдела охраны приходилось общаться с Алёной Дмитриевой очень часто. Ведь она была величайшей растяпой нашего времени и беспрестанно забывала что-нибудь сигнализационное включить или выключить.
— В чем дело, Елена Дмитриевна?
— Не в чем, а в ком, — уточнила вышеназванная. — Вот в этих двоих. Они ворвались ко мне в дом, не предъявив никаких документов, и начали угрожать, что сейчас проведут обыск.
— Я не угрожал, — пискнул сержант (или как его там?).
— Вы не угрожали, — кивнула Алёна. — Но вот он! — И она обличительно ткнула в Скобликова. — Он угрожал!
— Предъявите документы и разрешение на обыск.
Документы Скобликов предъявил и при этом что-то интимно шепнул броненосцу. Однако тот секретничать почему-то не захотел:
— Нет разрешения?! Какого же, извините, товарищ лейтенант, э-э… черта вы пугаете Елену Дмитриевну?
— Я никого не пугаю, — огрызнулся лейтенант, мигом приобретший самый жалкий вид. — Я просто хотел выяснить, насколько правдиво заявление о том, что гражданка Ярушкина хранит огнестрельное оружие.
— Ехал бы ты отсюда, лейтенант, — посоветовал второй броненосец, постарше. — Бесполезняк все это. Она писательница, детективы пишет — ну, Елена Дмитриева, значит. Слыхал про Алёну Дмитриеву? Ну так это она, понял? У нее в друзьях сам Лев Иваныч Муравьев — знаешь его? У нее грамота областного УВД за ценную помощь в раскрытии преступлений. Ну куда ты лезешь, а?
— Я… не знал, что… — начал заикаться лейтенант, имеющий вид новобранца, который оскорбил какого-то деда, а тот оказался фельдмаршалом, генералиссимусом и вдобавок главным военным начальником новобранца. — Не знал, что… заявление…
— Кто написал заявление? — с нажимом спросила Алёна, однако лейтенант, несмотря на откровенный шок, держался стойко и не отвечал.
— Соседи, конечно, кто еще, — со знанием дела усмехнулся первый броненосец. — Знаете, как это бывает? Затопите кого-нибудь, или нечаянно забудете поздороваться, или, к примеру, случайно намусорите под дверью… или лампочку на площадку в свой черед не вкрутите… Даже говорить смешно, из-за чего иной раз сосед на соседа бочку катит!
— Затопите, — с нажимом повторил вдруг белобрысый сержант, и Алёна изумленно на него оглянулась.
Мальчишка так на нее таращился… аж немножко щурился, как если бы на солнышко смотрел.
Она улыбнулась ему совершенно автоматически, но тот так и засверкал весь, будто его мелом начистили.
И тут до Алёны дошло, что этот пылкий мальчик не просто так глазки ей строил, а конкретно ответил на ее вопрос. Итак, заявление написали те, кого она, так сказать, затопила. Нижние жильцы со второго этажа. Рая и Вася…
Мезенск, 1942 год
— Не двигаться, — скомандовал Алекс. — Тихо, не то стреляю. Руки поднимите. Вы, Лиза, тоже. Эй ты, вставай, слышишь?
Это относилось к пану Анатолю, который не двигался с места.
— Какого черта? — проворчал Алекс. — Лиза, посмотрите, что там с ним.
Лиза с трудом поднялась со стула и, ощущая себя невыразимой идиоткой с поднятыми руками — вдобавок плечи заломило невыносимо! — подошла к Анатолю. Пошевелила его ногой. Он лежал неподвижно.
— Да посмотрите, наклонитесь, чего вы стоите, как манекен! — рявкнул Алекс.
— Руки можно опустить? — зло спросила Лиза.
— Опустите, черт с вами.
Она наклонилась, потрясла Анатоля за плечо, повернула его голову, да так и ахнула: он смотрел мертвыми, неподвижными глазами.
— Господи, да вы его убили, Алекс! Он так ударился в стену, что шею себе сломал!
— Что за черт?! — Вернер нахмурился, глянул мельком, сморщился. — Черт… Ладно. Ладно, не стойте над ним. Потом сунете его в развалины, я видел во дворе, там целый отряд можно спрятать.
Лиза вспомнила, как Петрусь убеждал пана Анатоля, что в бурьяне, которым поросли развалины, может спрятаться полк солдат, — и закашлялась, чтобы не зарыдать от ужаса.
Что происходит? Зачем здесь Алекс?!
— Вы… вы убили человека, а говорите: суньте его в развалины? — пробормотала она дрожащими губами. — Вы… как же так можно?!
— Какого черта! — огрызнулся Алекс. — Сейчас не время посыпать голову пеплом, поверьте мне, Лиза. Я убил человека, который готов был предать вас первому попавшемуся германскому офицеру или русскому полицаю. Если бы вы позволили ему уйти, как вы по глупости или прекраснодушию собирались сделать, он прямиком помчался бы в шуцманштадт или вообще в гестапо. Вы должны благодарить меня. Я пришел вовремя.
— Ну и зачем вы сюда пришли? — резко спросил отец Игнатий. — Что вам нужно?
— Мне нужно спасти свою шею от петли, а голову — от пули, — с приятной улыбкой ответил Алекс. — А также вашу, если повезет. И заодно этой фрейлейн, вашей внучки, насколько я понял из подслушанного разговора. Зачем только было разыгрывать комедию тогда, в ломбарде, якобы вы незнакомы? — Он раздраженно передернул плечами. — Или она все же не внучка вам? Так же как этот молодой человек — не жених ей?
— Отчего же? — обиженно пробормотал Петрусь.
— Да оттого, — пренебрежительно повернулся к нему Алекс, и Петрусь невольно отшатнулся, потому что пистолет Алекса как бы ненароком уперся в его грудь. — Да оттого, что ни один нормальный мужчина, будь он даже русский фанатик, не отправит свою невесту на работу в «Розовую розу»…
«Много ты знаешь о русских фанатиках!» — угрюмо подумала Лиза.
— …и не позволит ей даже ради победы над кровавым оккупантом (кажется, так вы честите доблестные германские войска?) встречаться с одним из них настолько коротко, чтобы прослыть его подругой. Тем паче если речь идет об этом безумце-зельбстопфере Эрихе Краузе!
«Так, — подумала Лиза почти спокойно. — В самом деле, он узнал мое белье. Худо дело…»
Впрочем, ей предстояло с минуты на минуту узнать, что дело обстоит куда хуже, чем кажется.
— Зельб… Кто? — ошеломленно переспросил Петрусь. — Как вы его назвали?
— Так называются смертники. От слова «Selbstopfermänner», «люди, готовые к самопожертвованию», — перевел Вернер. — Идея разрабатывается в наших армейских верхах, на самый крайний случай: так называются летчики, обреченные погибнуть со своим самолетом. Да уж, для Эриха было бы куда лучше, если бы он в самом деле оказался смертником. Знаете, я был к нему искренне расположен и даже считал его другом, именно поэтому я думаю, что ему следовало бы взорваться вместе с самолетом, чем спрыгнуть и попасть в расположение наших частей. Или лучше было бы угодить в руки тех разъяренных русских баб, которые, по слухам, неистовствовали на базарной площади. Ну, растерзали бы его на месте. Это все же быстрая смерть, а то, что готовит ему фон Шубенбах…
И только тут до Лизы дошло.
— Так значит, Эрих Краузе…
Она осеклась, зажала рот рукой.
— Боже мой, — произнесла невнятно.
Так, значит, вот что это была за командировка! Да, теперь понятно, почему так волновались старик и Петрусь. Эрих, видимо, отлично знал их обоих.
Стоп. А если его начнут пытать?! Да, Лиза угадала все правильно — там, на площади…
— Боже мой!
— Не печальтесь о нем, дорогая, печальтесь о себе, — сурово проговорил Алекс Вернер. — А также можете поплакать и обо всех нас, здесь собравшихся. Потому что мы все обречены.
— Он нас не выдаст, — сказал отец Игнатий, однако Петрусь промолчал, и Лизе почему-то показалось, что это молчание не было знаком согласия.
— Он вас не выдал — пока еще, — уточнил Алекс.
В своем разговоре он переходил с русского на немецкий, но напряжение было таким сильным, что на это никто не обращал внимания. Все четверо словно бы перешли на некий общий, может быть, даже интернациональный язык — язык страха, опасности, безнадежности.
— Не выдал, но я не уверен, что этого не случится поутру. Фон Шубенбах сделает все, лишь бы вытрясти из него все сведения. Все, и даже больше, чем все! Для него сейчас великолепный случай выдвинуться не просто на место своего шефа, но, может быть, даже возвыситься над ним. В Берлине ищут молодого, деловитого службиста в главную военную прокуратуру рейха на должность начальника нового, только что образованного отдела по России. Прежде там был общий отдел Восточных территорий. Теперь решили открыть новый, отдельный, в связи с тем, что кампания затягивается на неопределенный срок. Наш друг Вальтер готов сейчас перевернуть небо и землю для того, чтобы попасть на это место. У него довольно сильная поддержка в Берлине, очень надеется он также и на протекции моего отца, вернее, на его связи. Именно поэтому он привез меня вчера ночью в тюрьму и показал мне Эриха. Он хотел напугать меня — ведь мы с Эрихом считались близкими приятелями. Он хотел шантажировать меня: мол, если твой отец не поддержит меня в Берлине, я устрою тебе неприятности в Мезенске. Ну что же, я охотно оказал бы ему эту услугу — что такое приятельские отношения с Эриком, это мелочи, ведь, кроме меня, в приятелях Краузе числились еще десяток офицеров, причем в куда более высоких чинах, чем я, среди них есть и гестаповцы… Но я завяз куда глубже, чем они все.
— Что вы имеете в виду? — нахмурился отец Игнатий.
— Я имею в виду вот эту обворожительную фрейлейн, которой бросился протежировать — в расчете на ее милости, — пояснил Алекс, поворачиваясь к Лизе. — Какого черта вы мне не сказали, что встречаетесь с Эриком, — не сказали, когда я вез вас в город? Вы строили из себя просто-таки святую наивность, ну и, само собой, я, с моей страстью к изысканным красавицам, попался на крючок и рассудил, что ваше сердце свободно от постоя. Понятно, вы ставили перед собой цель охмурить как можно больше солдат противника… как там звали эту даму в Библии, которая работала против солдат противника? Рахав?
— Вы плохо знаете Писание, — сказал отец Игнатий. — Именем Рахав Лизу могли бы назвать свои, русские, потому что считали бы, что она предает своих ради врагов. Ведь Рахав предала жителей Иерихона ради евреев, «ибо Всевышний Израиля — Он есть Бог на небесах, в высях небес и на земле и всем, что ниже ее».
— Я вот раздумываю, счесть ваши слова за жидо-масонскую пропаганду или нет? — задумчиво проговорил Алекс. — Клянусь, я бы именно так и поступил в любой другой ситуации, но сейчас нет времени хвататься за идеологическое оружие. Умоляю, не надо о боге Израиля! Оставьте его в покое, он нам ничем не поможет. Давайте вернемся в настоящее, давайте спустимся с небес на землю.
— Итак… — начал было отец Игнатий, но Алекс прервал:
— Итак, Краузе ранен и находится без сознания. Фон Шубенбах показал мне его из дверей палаты, в которой он лежит. Ее охраняют, как тюремную камеру. Но рядом с ним ежеминутно врачи, он очень плох, а фон Шубенбаху нужно, чтобы Краузе пришел в себя и начал давать показания. И он их, конечно, даст — не позднее чем через два дня.
— Почему вы так уверены? — в один голос спросили отец Игнатий и Петрусь. Лиза присоединилась к этому вопросу мысленно.
— Да потому, что сюда едет Венцлов, а вместе с ним — доктор Шранке.
— А кто это такой?
Лиза слабо улыбнулась, что было немедленно отмечено Вернером:
— Вам кажется забавной его фамилия? Напрасно, моя прелестная Лили Марлен! Шранке — известный палач. Вряд ли вы знаете, что творится в лагерях для военнопленных… в Аушвице, например, в Дахау, в Бухенвальде, — но Шранке работал в некоторых из них. Это прирожденный гестаповец, это палач по призванию, мастер самых изощренных пыток. У него, так сказать, инспекционная поездка — проверка, не слишком ли мягкосердечны господа в черных мундирах с врагами рейха. И если этот господин возьмется за Эриха, тот скажет все, что было и чего не было. Он вспомнит вас, Лиза, и ваших родственников, и ваших друзей… Как бы ни был он крепок, признания польются из него потоком. И вот тогда фон Шубенбах задумается. Он поймет, что поддержка моего отца в Берлине — учитывая, что я практически уличен в пособничестве русским подпольщикам, — ничто. Он швырнет меня на расправу Шранке, и это даст такой немыслимый козырь конкурентам моего отца, что империи Вернеров, можно не сомневаться, придет мгновенный конец.
Честное слово, Лиза на миг растрогалась от того, что сейчас Алекс думал и заботился не о себе, а о семейной империи — великой трикотажной империи. Ну что ж, так и положено наследному принцу! Воистину — nobles oblige, что в точном переводе означает — благородство обязывает. Происхождение обязывает…
— Ну и само собой, вас всех прикончат тоже, причем страшно и мучительно, — проговорил Алекс и наконец умолк.
Да в общем, все уж и так было сказано.
Некоторое время царило молчание.
«Все это кошмар, конечно, — подумала Лиза, — но могло быть хуже. Мы могли узнать обо всем гораздо позже, то есть когда вообще уже было бы поздно что-то предпринимать. Кто предупрежден, тот вооружен, а мы теперь предупреждены заранее. Наверное, у этих подпольщиков предусмотрены какие-то пути отступления в случае провала. Ну, переход на нелегальное положение, или они уходят в партизанский отряд… Так или иначе, мне больше не придется идти в «Розу»! Правду говорят, что все, что ни делается, к лучшему!»
Это она пыталась себя так успокоить. Довольно неуклюже.
Алекс медленно переводил взгляд с одного лица на другое.
— Так… — проговорил он вдруг с издевкой и поднял пистолет. — Неужели я ошибся в русских патриотах? Неужели вы сейчас обдумываете, как бы половчее удрать? Ну и ну, а ведь когда я был в Париже, там полным ходом шел процесс над русскими сотрудниками Музея человека, как же их… ах да, Борис Вильде и Анатолий Левицкий, которые были активными резистантами[15]. Клянусь, что, узнав об их мужестве, я начал уважать русских, которых прежде считал просто темными, забитыми мужиками, которым все равно, на кого гнуть спину: на господ или на комиссаров.
— Вы не ошиблись в русских патриотах. — Голос отца Игнатия звучал твердо и спокойно. — Если у кого-то из нас и была минута слабости, то это была лишь минута, и она уже прошла. Мы не помышляем о бегстве. Мы должны сделать все, чтобы спасти нашего товарища по борьбе, это во‑первых, а во‑вторых, отплатить добром за добро человеку, который спас нам жизни. Во всяком случае, попытался это сделать. Я говорю о вас. Скажите, у вас есть какой-то план действий? Что нужно сделать?
— Да, я знаю, что должно быть сделано, — кивнул Алекс и снова опустил пистолет. — То есть у меня нет четкого плана, выработать его я предоставляю вам, так как — не сомневаюсь! — у вас больше опыта в деятельности такого рода, — но я убежден, что нужно спешить. Послезавтра здесь будут Венцлов и Шранке. Меры безопасности в городе будут усилены фантастически. Поэтому мы должны успеть до их появления здесь.
— Успеть что? — не выдержала Лиза.
— Убить Эриха Краузе и Вальтера фон Шубенбаха.
— Что?.. — они воскликнули это в один голос: все трое.
— Иначе нельзя, — кивнул в подтверждение своих слов Алекс. — Эрих должен умереть. Это будет акт человеколюбия по отношению к нему: иначе ему предстоит испытать такое, чего и врагу не пожелаешь. Ну а с Шубенбахом нужно расправиться, чтобы все, что он уже знает об Эрихе и его связях, не пошло дальше него. Нужно спешить.
— Ну, в общем-то, наверное, это не столь сложно, — пробормотал отец Игнатий. — Нужно пробраться в его квартиру. Любым образом мы должны пробраться в его квартиру! Думаю, вы можете помочь нам сделать это тайно.
— Ну, единственный путь, который я вижу, это мне самому явиться к Шубенбаху — якобы для приватной беседы — и убить его, — пожал плечами Алекс. — Это примерно то же самое, что здесь и сейчас пустить себе пулю в лоб. Жизнь моя все равно будет кончена. Меня уничтожат… то есть сначала пропустят через все круги ада в гестапо, а потом повесят.
— Я не говорил о том, что вы должны убить его сами, — покачал головой старик. — Но, будучи у Шубенбаха, вы можете незаметно открыть дверь или окно, чтобы туда пробрался наш человек. Вы уйдете — все будут видеть, что вы ушли, когда хозяин еще был жив, — а потом…
— Ну, все это не так просто. Не представляю себе возможности для вашего человека пробраться незамеченным, а главное, спрятаться в той весьма тесной и неудобной квартире, которую занимает Шубенбах. Это просто нереально. Кроме того, там всегда присутствует денщик Шубенбаха. По сути дела, он глаз не сводит со своего хозяина, оставляя его одного в трех случаях: во‑первых, когда тот отправляет естественные надобности, но ведь вы не сможете спрятаться в его клозете, верно?
— А во‑вторых? — подал голос Петрусь.
— Во-вторых, Шубенбах остается один, когда отправляется к даме. Он охоч до постельных утех, однако проститутки ему надоели, он давно подумывал о том, чтобы завести постоянную любовницу. И, такое ощущение, он нашел женщину, которая ему понравилась. — Алекс покосился на Лизу. — Конечно, она может сыграть роль Юдифи при этом Олоферне, однако, в отличие от библейской героини, ей едва ли удастся покинуть лагерь врагов столь благополучно. От нее потребуется пожертвовать жизнью.
«За эти дни я как-то слишком много слушаю о библейских героинях, и у всех какие-то зверские наклонности», — невесело подумала Лиза.
— Кроме того, — продолжал Алекс, — все эти варианты невыигрышны, невыразительны, камерны, сказал бы я. Мой отец много внимания уделял рекламе нашей продукции. Он всегда говорил, что Европа отстает в этом смысле от Америки, и в ущерб себе. Я это к чему? К тому, что убийство фон Шубенбаха — отличный повод прорекламировать деятельность подпольщиков в Мезенске. Это должна быть акция невероятной дерзости и яркости, понимаете?
— Понимаем, — с непроницаемым выражением проговорил отец Игнатий. — Однако вы сказали, что фон Шубенбах остается один в трех случаях. А назвали только два. Какой же третий?
— Он идет один от подъезда своего дома через двор к подворотне, около которой в семь утра ждет служебный автомобиль. Его денщик является его шофером, и на то время, что готовит к поездке машину, выпускает Шубенбаха из поля своего зрения. У вас здесь есть бумага и перо, хотя бы карандаш? Я нарисую план дома.
Алекс склонился над столом. Его плечи загораживали от Лизы бумагу, но она видела азарт на лицах Петруся и отца Игнатия и понимала, что план убийства Вальтера фон Шубенбаха у них уже складывается.
«Непостижима природа человеческая, — подумала она со вздохом. — Алекс так старался там, на берегу, спасать Шубенбаху жизнь… Ну что ж, своя рубашка ближе к телу!»
Странно, почему именно эта «бельевая» ассоциация пришла ей на ум при мыслях о «трикотажном принце» Алексе Вернере?
— Чем раньше мы расправимся с фон Шубенбахом, тем лучше, — говорил между тем Алекс. — Мы получим несколько часов форы. Они нам необходимы для того, чтобы освободить от мучений Эриха.
— Каким образом? — спросила Лиза.
Алекс глянул исподлобья и пожал плечами.
— Вы что, в самом деле предлагаете его убить? — с запинкой спросил Петрусь и был удостоен такого же взгляда.
Помолчали. Потом Алекс, словно бы нехотя, сказал:
— Поверьте, господа, если бы имелся хоть один шанс спасти ему жизнь, я бы сделал это. Поверьте. Клянусь! Но шансов нет. Чтобы увезти его из госпиталя, понадобился бы целый особый отряд. У вас есть отряд? Подозреваю, что нет. Вы молчите… Значит, подтверждаете мои слова?
Все молчали. Что тут говорить? Понятно же, что отряда никакого не было.
— Кроме того, ему необходимо лечение, какое можно обеспечить только в Берлине или в Москве. У вас есть возможность переправить Эриха в Берлин или хотя бы в Москву?
— Да ладно глупости говорить! — буркнул наконец Петрусь. — Хватит издеваться! Что делать предполагаете?
— Звучит кощунственно, но лучше всего было бы отравить Эриха, — проговорил Алекс Вернер.
— Что? — выдохнула Лиза.
— А что? — буркнул он. — Не надо смотреть на меня так, как будто я тут Джек-потрошитель. Если он доживет до приезда Шранке, он выдаст вас всех. Наши замыслы — это мизерикордия. Известно вам такое понятие?
— Не важно, как назвать, — сказал Петрусь. — Все ясно… Но почему именно отравить?
— А что сделать? — с тоской спросил Алекс. — Удушить? Застрелить? Это явно будет делом рук человека, которого станут искать. В то время как укол чего-то вроде морфия может сойти за больничную процедуру. Главное, чтобы больничные запасы морфия были не тронуты, понимаете? То есть мы должны раздобыть препарат сами.
— У меня есть цианид, — сказал Петрусь. — Немного, но вполне достаточно, чтобы…
— Не пойдет, — решительно качнул головой Алекс. — Вы когда-нибудь видели отравленных цианидом? Очень выразительная картина. Сразу станет ясно, что Эриха спровадили на тот свет. Кто? Начнут искать — и найдут! Нет, только укол, и лучше всего — морфия. Но где его раздобыть?
— А укол-то кто сделает? — спросил отец Игнатий.
Алекс вздохнул:
— Такой человек есть. Это один санитар из госпиталя… Его сын обязан жизнью моему отцу. Его сбил автомобиль — военный грузовик. Отец в это время проезжал мимо, велел своему шоферу остановиться, подобрал мальчика, увез в больницу. Трогательная история — в свое время об этом писали все газеты Германии. Если я скажу, что смерть Эриха нужна ради блага моего отца, этот санитар пойдет на все. Его даже и не заподозрят. Только морфий нужно найти.
— При отравлении морфием ярко выраженные симптомы, — сказал Петрусь. — Булавочные зрачки, замедленное дыхание, холодная липкая кожа, покраснение губ и мочек…
— Укол нужно сделать перед сном, — сказал Алекс. — Все симптомы угаснут. Вот только зрачки… Наверное, если приподнять веки, это будет видно.
— Атропин, — буркнул Петрусь. — Если закапать в глаза атропин, зрачки будут расширены.
Отец Игнатий вдруг вскочил так резко, что все обернулись к нему. Священник стоял, стиснув руки в кулаки, низко наклонив голову.
— Ты попустил сие, отец наш небесный… — наконец проговорил он и снова сел, вернее, тяжело упал на стул.
— Прошу вас, — тихо сказал Алекс, глядя на Лизу и Петруся, — прошу вас, молчите. Я знаю: все, что здесь происходит, выходит за рамки… за рамки… — Он осекся и смог продолжать только через некоторое время: — За рамки всего человеческого. Но мы только играем по правилам, которые нам навязала война.
Больше к моральным аспектам не возвращался никто, даже отец Игнатий.
— Морфия не раздобыть, — с сожалением сказал Петрусь, — ну где мы, в самом деле, его возьмем? К тому же с уколом — сложнее. Проще использовать дигиталис. Его можно дать внутрь. Это растительный яд, он разлагается так быстро, что уже через сутки невозможно отыскать его в организме.
— Морфий удобен тем, что его можно вколоть независимо от воли больного, — возразил Алекс. — Чтобы выпить дигиталис, нужна его добрая воля. А у меня, — он зло оскалился, что, очевидно, должно было обозначать ухмылку, — есть основания сомневаться, что Эрих примет яд по доброй воле.
— Почему? Неужели он надеется… неужели он может надеяться купить себе жизнь предательством? — в ужасе проговорил отец Игнатий.
— Ну посудите сами, если бы он готов был умереть, разве он выпрыгнул бы с парашютом? — с горечью проговорил Алекс Вернер.
— Я знаю, у кого есть морфий, — вдруг сказала Лиза. Она тут же пожалела о своих словах, но было уже поздно.
Далекое прошлое
Аврора выслушала признание Андрея Карамзина со странной смесью изумления и негодования. Придя домой, больше изумлялась и то и знай пожимала своими изумительными плечами: да неужели этот красивый мужчина возомнил, что для нее еще возможно счастье?!
То и дело приближала к зеркалу свое похудевшее, помрачневшее лицо, всматривалась в свои вдруг оживившиеся глаза, ловила эхо голоса Андрея, все еще звучавшего в памяти: «Люблю вас… люблю вас единственную на свете…»
К утру она до изнеможения влюбилась в Андрея Карамзина. Однако еще два месяца мучила его отказами: не из кокетства, а из страха за него же!
В конце концов Аврора дала согласие, и хотя родные Андрея вовсе не в восторге были от этой женитьбы, поделать они ничего не могли. А Аврора была сама себе хозяйка. Себе — и своему счастью, которое состояло в Андрее Карамзине.
Фамилию, кстати, Аврора после венчания с Андреем не изменила и во всех официальных бумагах подписывалась длинно: «Аврора Демидова-Карамзина, урожденная Шернваль», поясняя: «Я горжусь фамилиями, которые ношу!»
Почти десятилетие брака пролетело как одно счастливое, безоблачное мгновение. Супруги подолгу жили в Нижнем Тагиле, где Андрей Николаевич позаботился об открытии для рабочих столовых, школ, больниц и даже городской читальни. Именно Карамзин установил на заводах Демидова восьмичасовой рабочий день. Эта новая деятельность интересовала его необычайно, жену он любил… все предрасполагало к долгому и безмятежному частью.
Аврора помнила: никаких подарков.
Никаких именных подарков!
Нижний Новгород, наши дни
Между прочим, и в самом деле — был такой грех… Обычная история, не единожды показанная по телевидению в рекламе средства Calgol. Из стиральной машинки вдруг вылилась на пол вода, а Алёна этого не заметила. Заметить было трудно, потому что она спала. Машинка стирала, а она спала. Каждому свое! На дворе стоял, конечно, белый день, но такое с ней бывало, с нашей писательницей, когда от сидения за компьютером ее внезапно морило и неодолимо клонило в сон. Нужно было прикемарить на каких-нибудь полчасика (на часик, конечно, лучше, да ведь хто, как говорится, дасть?!), чтобы восстановить силы. И вот именно в это время машинка возьми и разразись потопом…
Само собой, когда на потолке Раиной ванной — на втором этаже — образовалось этакое подобие тучки, из которой пошло подобие дождика, она кинулась к верхней соседке и принялась звонить в дверь. Но Алёна не слышала, потому что спала в своих любимых затыкалочках для ушей. Воск обеспечивал надежную изоляцию от посторонних шумов, а звонок у нее вообще был не очень громкий. Спустя полчаса, проснувшись и затыкалочки вынув, Алёна услышала, как Рая разоряется во дворе, под ее балконом (дело было летом, все двери настежь), и выглянула… разумеется, угодив как раз на разбор своих полетов. И никакие извинения и заверения, что Алёна не нарочно соседей затопила и не нарочно не открывала на звонки, не помогли. Рая вот уже год (процесс затопления случился ровно год назад!) была с верхней соседкой чрезвычайно суха и здоровалась, как говорится, через губу.
И все же, чтобы помнить о давным-давно высохшем пятне на потолке и даже мстить за него, — это надо очень сильно писательницу ненавидеть! А может, дело не в пятне, а в том, что Вася при встречах частенько называл Алёну самой красивой женщиной Нижнего Новгорода и его окрестностей? А Рая, когда такое случалось при ней, непременно уточняла, что Вася алкоголик и такую чушь вечно порет, что уши вянут?
Полицейские (как доброжелательные к гражданке Ярушкиной, так и нет) давно покинули ее квартиру, сойдясь на том, что лучше оную гражданку оставить в покое, потому что никакого оружия она выдавать не желает, а найти его прав у лейтенанта Скобликова нет никаких, — и Алёна забыла о них, вся ударившись в свое любимое занятие: размышления и распутывание веревочек, судьбой в клубочек запутанных.
Ладно, побудительные причины могут быть какие угодно, но вот что самое интересное: минувшей ночью, когда Алёна пустила в ход пресловутую «беретту», Раи дома не было. Стопроцентно. Потому что утром, с трудом продрав глаза (Дракончег уехал в третьем часу!) и раздергивая шторы, она увидела Раю, которая входила во двор с огромным пуком красной сирени. Такая сирень росла на ее даче, и Рая не раз ею хвасталась. Рая часто уезжала на дачу днем или вечером, чтобы вернуться утром и успеть на работу — она была уборщицей где-то в Сормове. Дача находилась недалеко — в Толоконцеве, но все же туда-сюда к семи часам невозможно обернуться. Итак, Рая уехала вчера вечером, утром вернулась, сбегала на работу, потом, вдруг сорвавшись с цепи, написала заявление на соседку, и заявлению этому был дан невероятно спешный ход…
Кто-то все же сидел «на самом верху», точно сидел, ведь и об Алёниных звонках Муравьеву похитителям журналисток стало известно немедленно. Может быть, дело и впрямь в мэре и в его «свечном заводике», то есть в этом, брусчаточном?
Ладно, с мэром и заводиком потом. Сейчас нужно с Раей разобраться. Она-то в какой связи со всей этой дурью находится? Кто ее подзудил написать заявление о том, о чем она могла знать только и исключительно понаслышке?! Определенно, что единственным свидетелем применения «беретты» был Москвич. Получалось, именно от него Рая и узнала о сем факте. Но какая меж ними связь? Может, Москвич ее родственник? Может, раньше, в девичестве, до того, как выйти за Васю Абрамова, Рая была Москвичом? Или Москвичкой? В смысле, носила фамилию Москвич?
Конечно, можно пойти к Рае и впрямую ее спросить. Но она, факт, не скажет. Кроме того, она сейчас почти наверняка снова упилила в Толоконцево за сиренью, которую утром еще успевает где-то продать: наверное, по пути на работу. Ну что ж, святое дело, пенсия у нее наверняка не очень чтобы… Но у кого же все-таки вызнать Раину подноготную? Ага, есть такой человек! Нина Ивановна с четвертого этажа. Во-первых, она старожилка, знает всех соседок чуть ли не с детства и называет их только по девичьим фамилиям. Отчего не раз происходили многочисленные путаницы у работников жилконтор, почтальонов и даже участкового полицейского. Во-вторых, Нина Ивановна знает все про всех в доме и очень охотно делится информацией. Очень может быть, она не раз наблюдала со своего балкона полночью таинственное движение неких мужских фигур — визитеров шалой писательницы… очень может быть, об этих фигурах узнавал потом весь дом… но сейчас Алёна готова была простить старой сплетнице даже и эти сплетни, тем паче что они ей никак не мешали. Да пусть говорят — и пусть завидуют! Главное, чтобы Нина Ивановна дома оказалась, главное, чтобы ответила!
Алёна наскоро придумала предлог, набрала номер, и Нина Ивановна взяла трубку почти тотчас, словно ожидала ее звонка.
— Нина Ивановна, у меня к вам вот какой вопрос, — начала Алёна после необходимых приветственных реверансов. — Я тут генеральную уборку надумала устроить, но сама не осилю. И времени особого нет, да и желания, честно. Вы не знаете, в нашем доме никто этим не промышляет? Ну, в качестве приработка. Я же заплачу, сами понимаете.
— Понимаю, что заплатишь, — хихикнула Нина Ивановна. — Еще бы ты не заплатила! Кто за бесплатно будет трудиться? Никто. Но вот ничем тебе не могу помочь. По-моему, никто у нас не пойдет к тебе убираться. Народ, сама знаешь, какой. Боится себя уронить…
— В каком смысле — уронить? — удивилась Алёна. — Нет, я понимаю, что вас я не попрошу об этом и Галину из второго подъезда не попрошу, она все же в городской администрации работает. Но Рая — она вроде и так уборщица, насколько мне известно. Может, мне к ней обратиться, как считаете?
— К Райке Конопелькиной обратиться — боже тебя упаси! — с искренним ужасом воскликнула Нина Ивановна. — Она и так тебя терпеть не может, а тут и вовсе поедом съест. Она ведь даром что уборщица, но не где-то как-то абы как. Она всю жизнь проработала в районном музее в Сормове, этой, как ее… хранительницей, что ли, ну а когда на пенсию вышла, ее там уборщицей и оставили. За боевые заслуги. Там, в том музее, вся ее жизнь. Честное слово! Я Райку недолюбливаю, но уважаю. Ты думаешь небось, она цветы с дачи с утра пораньше прет для продажи? А вот и нет. В музей, в родимый свой музей! Там все этими цветами с весны до осени уставлено, вот она как его любит!
— Ничего себе! — ахнула до глубины души пораженная Алёна. — Кто бы мог подумать?!
— Да вот так, — сказала Нина Ивановна. — Человеческая душа — вообще загадка. Хотя, с другой стороны, с этим мудаком Васей жить, детей не иметь, а любить-то что-то надо? Вот она и любит до смерти свой музей и все его экспонаты.
Они еще немножко поохали на тему загадочности человеческой души вообще, а Раиной конкретно, и Нина Ивановна уже начала было переходить к теме, по какой причине Алёну сегодня вечером ждали менты, как она распрощалась. Не до трепотни! Гораздо важнее, что Рая была в девичестве не Москвичом, а Конопелькиной. Очень мило! И работала в районном музее Сормова…
Мезенск, 1942 год
Лиза стояла за высокими кустами бересклета, плотно прильнувшими к стене дома, и смотрела на автомобиль, который лихо развернулся около подворотни и остановился. Верх был опущен, и она отчетливо видела скучающее лицо шофера, который лениво жевал зубочистку, изредка вынимая ее изо рта и внимательно оглядывая. Его звали Ганс Файхен, он служил денщиком у Шубенбаха с начала восточной кампании, был известен откровенной наглостью по отношению к другим денщикам и водителям, но страшно заискивал перед начальством, а все свободное время проводил на толкучках, выменивая на пайковые продукты хорошие шерстяные вещи. Файхен был скуп, очень любил курить, но отказывал себе во всем, даже в сигаретах, чтобы прийти с толкучки с хорошей добычей. Все это рассказал Алекс Вернер, и хотя имя шубенбаховского шофера не имело, конечно, никакого значения, вот эти сведения насчет его пристрастия к сигаретам помогли вчера составить верный план действий. А впрочем, окажется этот план верным или совсем наоборот, покажет время… причем очень недолгое. Все решится в течение ближайших пятнадцати минут.
Файхен посмотрел на часы. На его физиономии появилось некое недоумение. И Лиза знала почему: по гауптману фон Шубенбаху можно было часы проверять — ему следовало выйти из подворотни две минуты назад, однако его не было. Лизе также была известна причина этой задержки: Шубенбаха задержал внезапный звонок по телефону. Разумеется, Лиза была также в курсе того, кто и почему позвонил гауптману. Это был Алекс Вернер, которому вдруг именно сейчас, с утра пораньше, взбрело сообщить другу Вальтеру о своем ночном телефонном звонке в Берлин и о беседе с отцом. Алекс рассказал отцу о честолюбивых надеждах Шубенбаха занять место главного военного следователя Восточного фронта, и герр Вернер-старший обещал всеми силами поддержать эти надежды. Разумеется, Шубенбах несколько опешил от такой расторопности Алекса. Может быть, даже не слишком поверил в его угодливость и счел, что тот просто пытается расположить бывшего приятеля, ставшего теперь очень опасным, в свою пользу. Впрочем, гауптман мог сам убедиться в том, что это правда, справившись у телефонистов на станции. Алекс и в самом деле звонил в Берлин и, не называя никаких фамилий, говорил с отцом о помощи, которая может понадобиться его доброму знакомому, даже, можно сказать, лучшему другу. Ну а если этот сумбурный разговор заставил герра Вернера усомниться в здравости рассудка сына, то это уж осталось сугубо между ними двумя. Алекс рассчитывал, что даже если Шубенбах почует неладное и позвонит на станцию, то содержание разговора уточнять не будет: во‑первых, ему нужно спешить на службу, во‑вторых, телефонист, дежуривший ночью, сменился. Впрочем, можно было уповать на то, что обойдется без проверки: Шубенбах будет воодушевлен тем, что «трикотажный принц», этот высокомерный насмешник, теперь заискивает перед ним. И, натешив свою гордыню, гауптман поспешит к автомобилю, изумляясь, как это он, известный своей пунктуальностью, мог настолько опоздать! На целых четверть часа!
За эти четверть часа возле подворотни произошло следующее.
Мимо Ганса Файхена, который уже начал слегка беспокоиться, прошла красивая высокая девушка — по виду из тех русских, которые отлично уживались с новым порядком. Об этом можно было судить по ее нарядной одежде, веселой улыбке и французской сигарете, зажатой в напомаженных губах. Она шла, безуспешно щелкая зажигалкой, наконец отбросила ее и повернулась к машине.
— Не дадите ли прикурить, господин ефрейтор? — спросила она, улыбаясь еще веселей, ну и Ганс, конечно, полез за своей зажигалкой, мечтая о том, чтобы такая красотка сделала ему некие авансы, а в крайнем случае — предложила закурить свой «Голуаз» (эти сигареты частенько доставал из портсигара обер-лейтенант Вернер, приятель господина гауптмана фон Шубенбаха, и Ганс, заядлый курильщик, запомнил их восхитительный аромат, совершенно отличный от вони обычного эрзаца, входившего в солдатский паек). И его мечты немедленно начали сбываться! Чтобы прикурить, красотка нагнулась так низко, что Ганс смог разглядеть нежные холмики грудей меж розовым кружевом дорогого белья.
Ах, мейн либер Готт, подумал Ганс Файхен, до чего хорошо быть русской шлюхой! Вот у его жены, милой и добропорядочной Марихен, ничего подобного этому бюстгальтеру и в помине нет… а впрочем, Марихен настолько добропорядочна, что ничего подобного и не наденет на свою плоскую грудь. Да и вообще, такие штучки не для жен, а для шлюх, причем дорогих. Эта девка не по карману бедному ефрейтору, она из разряда тех, содержать которых мог бы позволить себе герр гауптман, и то с большим напряжением для кошелька. Гансу показалось, будто он уже видел где-то эту красотку. Но тут же мысли вылетели у него из головы, потому что девушка вновь заговорила с ним на своем очень недурном немецком:
— Спасибо, господин ефрейтор, вы необычайно любезны. А не хотите ли и вы закурить? Сигареты очень недурны. Попробуйте!
И она, расстегнув плоскую сумку, напоминающую планшет (Ганс, конечно, был против этой военизированной моды, которая, словно поветрие, охватывала женщин, но что он мог сделать?!), достала портсигар и раскрыла его. Там лежали всего две сигареты, однако Ганс не задумываясь цапнул их обе. Девушка улыбнулась так весело, словно он не оставил ее без курева, а, наоборот, предложил целую пачку того же самого «Голуаза».
— Берите, берите! — сказала она радушно. — А теперь позвольте, я сама дам вам прикурить.
И она нагнулась так же низко, как в первый раз, и Ганс поглядел на белые нежные холмики в розовых облаках кружев, и забыл обо всем на свете, в первую очередь о милой и добропорядочной фрау Файхен, и затянулся так глубоко, что едва не поперхнулся… а в следующее мгновение в голове его помутилось — и он лишился сознания. Изо рта его полезла пена, тело скрутили судороги.
Девушка успела придержать его за плечо, прежде чем он начал валиться на рулевое колесо, и тревожно оглянулась. В ту же минуту из подворотни быстро вышел темноволосый и темноглазый молодой человек с белой повязкой полицая на рукаве пиджака.
Он бесцеремонно распахнул дверцу и сел за руль, небрежно подвинув водителя, который завалился бы на сиденье пассажира, когда бы там уже не оказалась та самая красотка, которая угостила Ганса Файхена такими странными сигаретами. Полицай включил зажигание, дал газ — и автомобиль сдал несколько метров назад, встав так, что заклинил узкую подворотню, сделавшись вовсе не видным с улицы. За эти несколько мгновенний девушка, лицо которой было мертвенно-бледно, но сосредоточенно, буквально вытряхнула мертвого водителя из форменной куртки и содрала с него фуражку. Как только автомобиль остановился, полицай снял свой пиджак и надел куртку и фуражку Ганса. Куртка тщедушного водителя треснула на его широких плечах, но в подворотне было полутемно, этого было не разглядеть, так же как и того, что волосы у нового шофера темные, а Ганс был белобрыс. В это время девушка выскочила из машины, тело Ганса было вытащено вон и с помощью невесть откуда взявшегося тщедушного старичка оттащено к стене подворотни, в самый темный ее угол, где его было не видно. Бывший полицай, облаченный в куртку и фуражку Ганса, следил, не заметил ли кто случившегося.
Однако двор был пуст, так же как и улица. Все обошлось.
Да, все обошлось, хотя риск был страшный. Но они успели закончить подмену буквально за минуту до появления фон Шубенбаха из арки.
Гауптман приблизился к машине, явно недоумевая, почему шофер не выскакивает, чтобы приветствовать его и открыть перед ним дверцу. Резко окликнул: «Файхен!» — и это было последним словом, которое было суждено ему произнести в жизни. Что-то уткнулось ему в левый бок — фон Шубенбах с изумлением понял, что это пистолетное дуло. Держал пистолет тщедушный старичок, имевший весьма благообразный вид… в то же мгновение он дважды выстрелил, фон Шубенбах повалился наземь, а выскочивший из автомобиля полицай добил его двумя выстрелами в голову, разворотив ее в кровавую кашу.
После этого куртка и фуражка водителя были брошены на сиденье, а полицай, девушка и старичок исчезли в неизвестном направлении, оставив в подворотне два трупа: застреленного помощника военного следователя гауптмана Вальтера фон Шубенбаха и его шофера и денщика ефрейтора Ганса Файхена, отравленного цианистым калием.
Далекое прошлое
Однако Андрей подарил жене золотой медальон с вензелем АКА, обозначавшим: Аврора — Карамзины — Андрей. Две буквы А сплетались вокруг буквы К, а внутри были сплетены — по моде того времени! — две пряди волос: темная — Авроры и светлая — Андрея.
Время шло, и вскоре младшая сестра Алина (третья из красавиц Шернваль фон Валлен) получила от Авроры такое письмо: «В Андрее снова проснулся военный с патриотическим пылом, что омрачает мои мысли о будущем. Если начнется настоящая война, он покинет свою службу в качестве адъютанта, чтобы снова поступить в конную артиллерию — и не оставаться в гвардии, а командовать батареей. Ты поймешь, как пугают меня эти планы. Но в то же время я понимаю, что источником этих чувств является благородное и мужественное сердце, и я доверяю свое будущее провидению…»
Увы, эти предчувствия оказались вещими.
В феврале 1854 года, сразу по объявлении Турцией войны России, Андрей Николаевич подал прошение зачислить его в военную службу и получил назначение в Александрийский гусарский полк, дислоцировавшийся в Малой Валахии и входивший в состав тридцатитысячного корпуса под командой генерала Липранди.
Перед отъездом он попросил Аврору подарить ему ее миниатюрный портрет. Она отказалась. Ну хотя бы прядь волос с медальоном! Она отказалась. И объяснила почему…
Андрей снисходительно улыбнулся и больше этого разговора не затевал.
Однако, когда он уехал, Аврора никак не могла найти тот медальон с вензелем АКА. Неужели его тайно взял Андрей?!
С тех пор она ждала беды. Ничего не могла с собой поделать — ждала беды…
Нижний Новгород, наши дни
Что-то про этот районный музей Алёна слышала, причем совсем недавно. Буквально сегодня! Но что? И где? Она принялась перетряхивать в памяти день, рассеянно вскрывая упаковку с творожной «Активией». С этими «Активиями» — с черносливом которые! — Алёна давно и бесповоротно изменила любимым некогда творожкам «Чудо». Вообще-то время уже после шести, а давно ли было решено после шести — ни-ни… ни крошечки?!
Но что делать, сегодня был довольно стрессовый день, надо хоть чуточку восстановить силы. К тому же после этих творожков гораздо лучше соображается, а надо вспомнить, где же она сегодня слышала про музей, музей, музей…
Творожок помог, честное слово, потому что Алёна вспомнила: про музей Сормова упоминала Марина, когда рассказывала, куда поехали пропавшие журналистки. Именно в этот музей они и поехали, а потом пропали.
Какая странная получается картина… Девчонки направляются в музей, садятся в серый «Ниссан». Перед этим Катя видит Алёну и говорит о ней похитителям. Этим же вечером один из них является к Алёне и получает то, что получает. И на другой же день, после того как перепуганные похитители отпускают девушек, уборщица и бывшая хранительница музея в клювике тащит в полицию заявление на писательницу Дмитриеву (Зачем он шапкой дорожит? Затем, что в ней донос зашит… донос на гетмана-злодея царю Петру от Кочубея!)… а оная писательница, во‑первых, выстрелила в ночного гостя, а во‑вторых, именно после ее звонка Муравьеву план похищения дал глубокую трещину, а потом и вовсе рухнул. То есть похитителям есть за что ей мстить. И Рая стала орудием этой мести.
Ни-че-го себе… Связь прямая, хоть и полный бред все это. Что же там такого произошло, в этом заштатном сормовском музее, из-за чего сначала похитили двух журналисток, а потом наехали на писательницу Дмитриеву, причем наехали, как принято выражаться, конкретно?!
Алёна схватилась за телефон.
— Марина, привет, извините за поздний звонок. Извините. Очень нужно. Вы не подскажете, зачем Катя собралась вчера в сормовский районный музей?
На том конце провода молчали. Ну, естественно, вопрос из разряда неожиданных!
— Алёна, может, вы лучше с Катей на эту тему?.. — наконец осторожно предложила Марина. — А то я знаю только в общем… какие-то новые факты вскрылись насчет их персонажей… немец этот приехал… Честно, не в курсе. Позвоните Кате, она будет рада.
Алёна записала номер и набрала его.
— Катя, добрый вечер. Это Алёна Дмитриева. Извините, у меня один небольшой вопрос насчет…
— Ой, Елена Дмитриевна, добрый вечер, а можно я вам через часик перезвоню, а? — виновато ответила Катя. — У меня сейчас встреча назначена, боюсь опоздать, тут один немец специально ко мне приехал…
Ух ты!
— Это такой старикан импозантный? Вы сейчас с ним встречаетесь?
— Да. — Катя явно растерялась от такой осведомленности. — А откуда вы…
— Не важно. Это как-то касается сормовского районного музея?
— Не то слово, — ответила Катя мрачно. — А как вы…
— Не важно! Слушайте, Катя, можно я к вам присоединюсь? Не буду объяснять почему, то есть потом объясню!
— Ну… — озадаченно протянула Катя. — Ну я не могу отказать своей спасительнице. Мы с ним через пятнадцать минут встречаемся на площади Нестерова. Около памятника, знаете? Ну, где гостиница «Октябрьская»!
— Знаю. И площадь, и памятник, и гостиницу! — засмеялась Алёна, у которой с этой местностью вообще и с этой гостиницей в частности были связаны недавние и очень приятные воспоминания… жаль, кратковременные! [16] — Через пятнадцать минут я не успею, но через двадцать — буду. Договорились?
И, не дожидаясь ответа, она отключилась и ринулась к двери. И притормозила у порога…
Жизнь сегодня преподала ей урок. Надо этому уроку внять! Заявление Раи Абрамовой (в девичестве Конопелькиной) о том, что гражданка Ярушкина Е. Д., проживающая по такому-то адресу, хранит в своей квартире газовое (а может, и огнестрельное!) оружие и периодически его употребляет, по-прежнему в полиции. И явно тот, кто подзудил Раю это заявление написать, не успокоится на достигнутом. А ретивый лейтенант Скобликов (еще, кстати, вопрос, в чем причина такой особенной его ретивости!) в следующий раз и впрямь явится с разрешением на обыск! Значит, нужно, во‑первых, навести порядок в ящичках туалетного столика — просто на всякий случай, — а во‑вторых, избавиться от газовика. Спрятать его где-нибудь вне дома. Но где? Или просто выбросить? Может, и выбросить, все равно обойма уже пустая. А чтобы купить патроны, нужно все то же разрешение. Конечно, Муравьев поможет его получить, но… у султана не просят мешочек риса. Муравьев пригодится для более важных дел. Поэтому от бесполезной «беретты» лучше избавиться вместе с ее романтической рубчатой рукояткой. Вот взять ее с собой прямо сейчас, завернуть в пластиковый пакет из «Спара» — в таких пакетах Алёна мусор выносит — и опустить в какой-нибудь мусорный ящик. И все, и привет, и улики уничтожены!
Алёна завернула «беретту» в пакет и снова понеслась к двери, но тут ее буйное воображение нарисовало засаду в лице лейтенанта Скобликова и Раи Абрамовой, подкарауливающих ее где-нибудь на выходе из подъезда или вообще в кустах сирени-жасмина-шиповника. А кто их знает, лиходеев?! Всякое может быть! Потому надо себя обезопасить, вот что надо сделать! Как это поступил в аналогичной ситуации герой любимого детектива «На то и волки», принадлежащего перу любимого писателя Бушкова (с которым Алёна была шапочно знакома и страшно, просто неприлично этим знакомством гордилась, хотя знаменитый писатель, конечно, двадцать пять раз о факте ее существования и их мимолетной встрече забыл)? Алёна вернулась к письменному столу, с трудом нашла приличный листок бумаги (поскольку она писала романы на компьютере, а сюжеты прописывала в тетрадках в клеточку, то приличная бумага в ее доме сама собой повывелась) и написала от руки — несколько коряво и в спешке:
«В отделение милиции Советского района от Ярушкиной Елены Дмитриевны, проживающей там-то и там-то. Сегодня я случайно нашла на улице газовый пистолет марки «беретта», каковой пистолет и несу сдавать в полицию».
Подписалась, хихикнула над словом «каковой» и наконец-то выскочила из дому.
Засады ни в подъезде, ни в кустах не обнаружилось, но беда в том, что не встретилось по пути и мусорных ящиков, в которые можно было бы выкинуть пистолет… то есть ящики встречались, конечно, но около них, как нарочно, кучковался народ, а в кусты пистолет кидать, при той криминогенной обстановке в городе, о которой упоминал Скобликов, Алёна просто не могла себе позволить, поэтому она так и добежала до площади Нестерова, имея в сумочке злосчастную «беретту» вместе с ее пресловутой рубчатой рукояткой.
Мезенск, 1942 год
Ночь выдалась бессонная у всех: разрабатывали планы, которые, что один, что второй, были дерзки до отчаяния и до отчаяния безумны, но ведь только в полном отчаянии и решились на это люди, которые были обречены. Участвовать пришлось всем троим: и отцу Игнатию, и Петрусю, и Лизе. Она больше всего боялась, что водитель Шубенбаха узнает ее. Все же он успел увидеть ее там, на площади, где Петрусь пытался стрелять в парашютиста, а она отвлекала разъяренного фон Шубенбаха. Но нет, не узнал. Конечно, нарядная и легкомысленная девица, в облике которой Лиза явилась сейчас, очень отличалась от той перепуганной, растрепанной девчонки, которая была на площади. На это и был расчет.
Петрусь же опасался, как бы она не грянулась в обморок, когда на ее глазах отравленный цианидом Файхен начнет биться в конвульсиях и пускать пену изо рта. Но все прошло так быстро, что Лиза даже не успела испугаться толком. Не до страха было ей, не до угрызений совести, так же как и отцу Игнатию, который застрелил фон Шубенбаха, и Петрусю, который начинил цианидом сигареты для шофера и добил гауптмана выстрелами в голову.
Впрочем, Алекс Вернер считал, что львиная доля трудностей досталась именно ему: ведь он звонил отцу в Берлин, потом задерживал разговорами подозрительного и пунктуального фон Шубенбаха…
Но в дальнейшем он не участвовал. Ему оставалось только волноваться, скрывать свое волнение от окружающих — и ждать, когда к нему придет темноволосый и темноглазый полицейский и принесет морфий для Эриха Краузе — морфий, который еще предстояло раздобыть.
Лишь только было закончено с фон Шубенбахом, Лиза и отец Игнатий направились окольными путями в Липовый тупик (Lindensackgasse) и позвонили в дверь фрау Эммы. То есть звонил только отец Игнатий, а Лиза стояла за поворотом лестницы.
Время едва подобралось к половине восьмого, и являться в такую пору к хозяйке ночного заведения было, конечно, верхом неприличия, но на том и строился весь расчет. Да и не до приличий было в данной ситуации, вот уж нет!
Долго не открывали, и Лиза уже начала беспокоиться, а не приняла ли фрау Эмма снотворного, чтобы проспать до полудня и хорошенько отдохнуть, однако наконец-то раздался знакомый стук каблуков, а потом хриплый, недовольный голос, лишь отдаленно похожий на высокомерные интонации фрау Эммы и вообще не слишком напоминающий женский, спросил, кто там.
— Это я, — с трудом ответил отец Игнатий. — Откройте. Случилось несчастье!
Заскрежетали засовы, дверь открылась — и фрау Эмма издала удивленное восклицание. Лиза знала, кого она видит перед собой: бледного, трясущегося старика с глазами, обведенными черными кругами. Что и говорить, убийство Шубенбаха и быстрая ходьба, почти бег до дома фрау Эммы достались отцу Игнатию дорого, он никак не мог прийти в себя, все время хватался за сердце, задыхался. Лиза даже боялась, что он может потерять сознание, но нет, старик приплелся-таки к фрау Эмме и теперь срывающимся голосом, однако непреклонно убеждал ее, что его внучка нынче утром не вернулась домой.
— Успокойтесь, отец Игнатий, — откашливаясь, проговорила фрау Эмма. Ее прокуренный голос звучал теперь мягко и участливо. — Я сама видела, как Лиза уходила из ресторана.
— Этого не может быть, — упрямо сказал отец Игнатий. — Здесь идти всего ничего. Если бы она ушла, она давным-давно должна быть дома!
— Вы решили, что я вру? — начала раздражаться фрау Эмма, которая, конечно, мечтала только о том, чтобы лечь и уснуть. — Говорю же, что она ушла! Если не верите мне, идите в ресторан и поищите там вашу драгоценную внучку сами.
— Вы издеваетесь, что ли? — прошипел отец Игнатий. — Ресторан закрыт, там никого нет, кроме сторожа, который не отпирает дверь, а грозится пристрелить меня. Пойдемте со мной, заставьте его открыть. Я сам хочу убедиться, что Лизу не держат силой в этом блудилище.
— Да кому она нужна, силой ее держать? — лающе, словно солдат с промороженным горлом, захохотала фрау Эмма. — И потом, откуда такие словечки вдруг взялись? Блудилище! Что за несусветный архаизм?! С чего бы вдруг? Не вы ли сами умоляли меня взять вашу внучку на работу в «Розовую розу»? Что, вдруг возомнили себе, что она невинная девица? Да бросьте. Ничуть не сомневаюсь, что, прежде чем дезертировать из Красной армии, она переспала со всеми подряд товарищами советскими офицерами, так что отдаваться мужчинам, пусть господам гитлеровским офицерам, ей будет не в новинку.
— Вы можете говорить, что вам угодно, — помолчав, проговорил отец Игнатий таким слабым голосом, что Лиза поняла: силы его на пределе, он еле держится. — Оскорблять нас как угодно. Но я умоляю вас пойти со мной сейчас. Я должен убедиться своими глазами, что моей девочки нет в ресторане. Потому что домой она не вернулась. И если ее нет в «Розе», значит, с ней что-то случилось.
— Да что с ней могло случиться? — зло фыркнула фрау Эмма. — Небось уехала с каким-то поклонником, который оказался понастойчивей всех тех, кого она отшила! — И вдруг она резко изменила тон: — Ну ладно, если вы так хотите… Идемте, так и быть. Только подождите минуточку, не могу же я идти в халате по улице, хоть платье надену.
Застучали, удаляясь, каблуки, и Лиза спорхнула со ступенек к двери, которая тотчас отворилась, и отец Игнатий — как ей показалось, еще более бледный и измученный, — сделал приглашающий знак.
Лиза бесшумно впорхнула в прихожую и шмыгнула в темный угол, заставленный громоздким гардеробом, откуда отчетливо несло нафталином. Через минуту вернулась фрау Эмма — она успела надеть платье и обмотать непричесанную голову очередным тюрбаном, на сей раз черным, придававшим ей усталый и бледный вид, — и они со стариком вышли из квартиры, захлопнув за собой дверь.
Лиза выскользнула из своего укрытия и бросилась в спальню фрау Эммы. Кровать была не застелена, в комнате пахло все той же сиренью — духами.
Вот туалетный столик — фрау Эмма говорила, что хранит морфий, свое последнее средство спасения, там. Верхний ящичек заперт, второй и третий тоже, но ключей в них нет, ключ торчит только в нижнем. Лиза мгновенно вспомнила: старый комод у них дома, рассохшийся, с тугими, заедающими ящиками, верхние заперты, ключ — резной, необыкновенно красивый, затейливый — торчит только в нижнем. Он подходил ко всем другим ящикам и легко отпирал их, но мама почему-то настаивала, чтобы ключ вставляли именно в скважину нижнего замка. А что, если и у фрау Эммы такие же причуды?
Лиза на всякий случай открыла этот ящик, но он был пуст. Тогда она выдернула ключ из скважины и попыталась открыть верхний ящик. И ключ подошел! Ящик открылся!
Открыться-то он открылся, однако там не оказалось ничего, даже отдаленно напоминающего ампулы. Вроде бы фрау Эмма говорила про ампулы… или это должны быть таблетки? В лекарствах, тем паче такого рода, Лиза была не сильна. Впрочем, таблеток в ящичке тоже не было. Много тюбиков с помадой, коробочек с пудрой, баночек с кремами, какие-то пуховки, кисточки… Подобное самое обнаружилось и во втором ящичке, который также открылся с помощью все того же ключа. Третий ящик был набит целлофановыми пакетами с чулками — все сетчатые, все черные, со швом и высокой пяткой. Но хотя Лиза всегда считала такие чулки верхом совершенства, сейчас у нее не было времени ими любоваться. Где же морфий?!
Она огляделась, сунулась в платяной шкаф, поворошила вещи на полках — нет, все белье, прекрасное, французское белье, даже странным кажется, что одной женщине нужно столько трусиков, лифчиков и комбинаций, вот бы на толкучку это снести, сколько сала можно выменять для пленных — и хлеба или лепешек, настоящих лепешек, не желудевых!
Лиза прислушалась. Впрочем, она все время была настороже, готовая при первом скрежете ключа в замке закрыть шкаф и спрятаться, но все было тихо. В принципе, отец Игнатий знал, что должен задержать фрау Эмму в ресторане как можно дольше. А еще времени прошло — всего ничего. Десять минут. Ого, уже десять минут прошло, а она так ничего и не нашла?!
Лиза удвоила старания. Если, когда рылась в туалетном столике, старалась трогать вещи осторожно, что брала, возвращала на место, укладывала все аккуратно, то сейчас отчаянно рылась в тряпках, не думая, как будет наводить потом порядок. Никакого «потом» для нее не существовало, была только эта минута — и несчастные ампулы, которые нужно, нужно было найти во что бы то ни стало!
И они нашлись-таки — в плоской белой коробке из тонкого картона. На ней не было ничего, никакой наклейки, и все же в ней ощущалось что-то невероятно медицинское. Лиза рванула крышку — боже мой, шесть ампул… разве нужно так много морфия, чтобы умереть?!
— Ага, — произнес в эту минуту хрипловатый насмешливый голос за ее спиной. — Я так и знала, что ваш дед устроил этот дешевый спектакль не просто так! Именно поэтому и вернулась.
Ну, вот оно и настало — «потом»…
Лиза резко сунула коробку под шелковый ворох белья и обернулась. У нее было темно в глазах и сухо во рту.
— Я… я не слышала, как вы пришли.
— Ну конечно, — кивнула фрау Эмма. — Вы прислушивались, не откроется ли дверь в прихожей. Но, строго говоря, можно было предположить, что есть проход между моей квартирой и рестораном. Я оставила вашего дедулю запертого, под охраной сторожа, а сама — через этот самый проход… В советские времена таблички висели такие: «Служебный вход». Или «Служебный выход», смотря по надобности. Помните? И еще кругом, надо или не надо, было написано: «Посторонним вход воспрещен!» Но даже в советские времена не вешали таких табличек на дверях, ведущих в квартиры. Потому что как бы само собой подразумевалось: вход туда воспрещен посторонним людям. Ну, разумеется, если они не воры — или если на них не надеты гимнастерки с петлицами НКВД. На вас такой гимнастерки нет, значит, вы воровка?
Лиза понимала, что фрау Эмма издевается над ней. Ну что ж, у хозяйки были все основания. Сама виновата, что так глупо попалась. Боже ты мой, как же глупо… И что теперь делать?!
— И что же вы хотели украсть? — допытывалась фрау Эмма. — Деньги? Драгоценности? Но с чего вы взяли, что я держу их в платяном шкафу? Или…
Хозяйка шагнула вперед и приподняла бледно-розовую комбинацию. Открылась белая коробка из тонкого картона.
— Ах вот оно что!
Она оглянулась и посмотрела на туалетный столик. Ключ торчал не в нижнем, а в третьем ящичке. Эх, конспираторша я несчастная, зло подумала Лиза.
— Вот за чем вы пришли, — кивнула фрау Эмма. — Запомнили, как я сказала, где держу морфий… И нашли все же, хоть я его и переложила. Морфий, значит… Вы что же, наркоманка?
Лиза тупо кивнула.
— Покажите ваши руки! — скомандовала фрау Эмма.
Лиза повернула к ней дрожащие ладони.
— Да не так! — с досадой сказала хозяйка. Схватила Лизу за ладонь и заставила вытянуть руку, потом другую. Усмехнулась, ткнув пальцем в сгиб локтя: — Врете, причем бездарно и очень глупо. У вас нет следов от уколов в вены. Вы такая же наркоманка, как я — товарищ Сталин. Ну так зачем вам понадобился морфий? Кого вы хотели убить?
Лиза даже покачнулась. Откуда она знает, эта ехидная ведьма?!
— Я… никого… почему? С чего? — забормотала бестолково.
— Тогда зачем вам морфий?!
Лиза вдруг вспомнила одну мамину заказчицу, жену какого-то ответработника. Она сначала одолевала портниху заказами, потом исчезла. Стороной дошли вести о том, что эта дама умерла от рака, причем страшно мучилась, ей нужен был морфий, но его выписывали очень мало, и даже ее муж, со всеми своими ответственными связями, не мог облегчить страдания жены.
— Одна моя знакомая, — выпалила Лиза, словно услышала подсказку суфлера, — умирает от рака… — Ох, чего бывает рак?! Вроде что-то такое слышала она про рак легких… — Умирает от рака легких. Она страшно мучается, а морфия ведь не достать. Ну и…
— Какая трогательная история, — насмешливо сказала фрау Эмма. — Только не ждите, что я в нее поверю. Здесь слишком мало морфия для облегчения длительных страданий, но вполне достаточно для того, чтобы отправить человека на тот свет. И кого вы решили упокоить столь милосердным и даже приятным способом? Уж не идет ли речь об Эрихе Краузе?
Лиза снова покачнулась. Что-то ноги ее не держат… Да ведь и не удивительно!
— Только не разражайтесь бестолковыми вопросами, откуда я это взяла, — все с тем же недобрым ехидством проговорила фрау Эмма. — У меня, видите ли, голова отнюдь не пустая. Я умею связывать концы с концами, кроме того, умею неприметно вытягивать из людей нужные мне сведения. А некоторые из этих сведений стекаются ко мне сами. Одна из тех кралечек, которым я гадала, сказала мне — не теперь, а в свое время, — что внучка моего знакомого, отца Игнатия, нашла себе «короля» среди немецких офицеров. Назвала его имя. А сегодня, вообразите, один мой поклонник из числа сотрудников вашего поклонника Шубенбаха тайком шепнул мне имя пилота-антифашиста, сбитого над базарной площадью. Ну, все остальное додумать просто.
— И все же я не совсем понимаю, — глухо пробормотала Лиза. — Ну и что, что у меня был роман с Краузе? Почему я теперь должна красть у вас морфий, чтобы его убить?!
— Да потому, что я сама была в похожем положении, — сказала фрау Эмма, и в голосе ее теперь не было ни нотки прежнего ехидства. — Когда я узнала, каким пыткам подвергают моего мужа в НКВД, я готова была душу дьяволу продать для того, чтобы добыть для него яд. Морфий, не морфий — не важно, главное, надежный яд. Поэтому я вполне понимаю ваш порыв: спасти любимого человека. Да, наверное, вы его и правда любите, если готовы ради него на такой страшный риск!
Лиза стояла ни жива ни мертва. Она не могла произнести ни слова, да и не знала, что сказать.
— Я дам вам морфий, — вдруг проговорила фрау Эмма. — Врагу не пожелаешь такого горя… Но как вы передадите лекарство в госпиталь? У вас там есть свой человек, который сделает… который сделает все это?
— Пока нет, — с трудом пробормотала Лиза, которая вовсе не собиралась делиться с фрау Эммой секретами Алекса Вернера. — Но я надеюсь… может быть, мне удастся подкупить какого-нибудь санитара?
Фрау Эмма посмотрела на нее с сомнением и даже плечами пожала:
— Плохо верится, что такое возможно, однако Бог вам в помощь, вот все, что я могу сказать.
— Спасибо, — прошептала Лиза, еще не вполне веря в удачу, и протянула руку к коробке: — Так я возьму это?
— Берите, — кивнула фрау Эмма. — Только скажите, ради бога, как вы собирались поступить со мной, если бы я не отдала вам морфий? Застрелили бы меня? У вас оружие-то есть?
Лиза покачала головой. И оружия у нее не было, и намерения хоть какие-то, насчет того, как обойтись с фрау Эммой, если она и в самом деле начнет сопротивляться или попытается позвать на помощь, не пришли в голову ни ей, ни кому-то другому из ее сообщников. Они этого просто не предусмотрели. Они просто мысли такой не допускали!
Лиза молча взяла коробку и, кивнув то ли в знак благодарности, то ли на прощанье, пошла к двери. Нет, ну в самом деле, что говорить?! Непонятное добросердечие фрау Эммы и озадачивало, и настораживало. Она и в самом деле сочувствует? Или это просто какая-то ловушка? В любом случае она и не подозревает, что не только спасает от мучений Эриха Краузе, но и сохраняет жизнь Лизе и отцу Игнатию. Ну и Алексу Вернеру. И Петрусю, о котором она даже не знает…
Теперь скорей домой. Лизу должен ждать Петрусь. Он заберет ампулы и понесет их Алексу Вернеру. Вполне может статься, что труп Шубенбаха обнаружен (то есть наверняка, в этом можно не сомневаться!) и все ближайшие к месту улицы оцеплены. Может быть, там уже хватают всех подряд…
Лиза вдруг споткнулась. Мысль о последствиях убийства Шубенбаха тоже никому из них не пришла в голову. В ответ на любую акцию партизан и подпольщиков гитлеровцы убивают и правого, и виноватого. Еще там, в лесу, когда Баскаков вербовал ее в «свою веру», они спорили о том, приносит ли деятельность партизан больше пользы или вреда. Может быть, для будущей — да будет ли она еще?! — победы и польза, но для тех, кто своими жизнями ответит за порою бездумное исполнение приказа «Земля должна гореть под ногами оккупантов!»… Ну ладно, священная война, война народная и все такое. Высокие побуждения хоть как-то оправдывают эти жертвы… вот именно — хоть как-то, худо-бедно… А они, отец Игнатий, Петрусь, она сама? Они думали только о себе. О спасении своих жизней. Не о справедливой мести врагу — ведь Шубенбах прежде всего враг. Они спасали свои шкуры. И продолжают спасать, стараясь прикончить Эриха Краузе. Они в данном случае ничем не отличаются от Алекса Вернера, который от трусости оказался способен придумать отчаянно храбрый и дерзкий план…
Те двое пленных, которых приводил Петрусь, могли скрыться, но не стали, потому что за их побег расстреляли бы каждого десятого. Они не решились взять грех на душу. А они? Петрусь, Алекс, старик? А она сама, Лиза?..
— Я прикажу отпустить вашего деда, — проговорила вслед фрау Эмма, но Лиза почти не слышала.
Даже не простившись, она вышла из подъезда и медленно побрела из Липового тупика, хотя должна была спешить со всех ног.
Если все удастся и с убийством этого незнакомого ей Эриха Краузе, наверное, в госпитале тоже не обойдется без жертв. И виновата в гибели незнакомых ей людей будет прежде всего Лиза. Может быть, вернуться к фрау Эмме и отдать ей морфий? А своим сказать, что ничего не нашла?
— Что-то ты не торопишься, — послышался рядом голос Петруся. — Получилось? Нашла?!
Лиза покачала головой.
— Как нет? А это что такое? — прошипел Петрусь, с удивлением глядя на белую коробку, которую Лиза так и несла на виду, даже не позаботившись хоть чем-то прикрыть. — Шутишь, что ли? Ну и шутки у тебя!
Он взял коробку из ее рук, глянул внутрь, удовлетворенно присвистнул, сунул коробку за пазуху.
— Умница моя! — Он легонько коснулся губами Лизиной щеки. — Ну, я к Вернеру! До встречи!
И со всех ног пустился в сторону площади, где находилось управление, в котором служил Алекс Вернер.
Лиза молча, устало смотрела ему вслед. Ей захотелось повернуться — и пойти не домой, а к реке. К тому месту, откуда она вчера смотрела на мост. Спуститься вниз — нет, не для того, чтобы перейти по мосту на противоположный берег, у нее по-прежнему нет пропуска, а сейчас, конечно, еще больше усилена и без того усиленная охрана моста, — а чтобы просто войти в воду. Войти в воду, нырнуть — и не вынырнуть. Утопиться…
Не то чтобы ей захотелось вдруг умереть. Ей просто расхотелось жить.
Далекое прошлое
В полку Андрея Карамзина встретили не слишком приветливо. Некоторые офицеры смотрели на него как на «петербургского франта, севшего им на шею», недовольны были скорым его продвижением в полковники, считали его выскочкой. Андрей Николаевич сразу это заметил, переживал и очень хотел на деле доказать, что он не тот человек, за которого его приняли. Он рвался в самые опасные вылазки и только и ждал случая, чтобы проявить себя.
Время войны шло. Решено было провести тщательную разведку в районе города Каракала, занятого противником. Осуществить это мероприятие, не исключающее участия в боевых действиях, поручили Карамзину. Он ликовал. Сбылось желание на деле проявить себя и показать, на что он способен.
Рано утрам 16 мая отряд вышел в поход. Карамзин успел шепнуть Вистенгофу, что он принятым решением доволен и во сне видел своего отца, вероятно, считая это добрым предзнаменованием. На деле же оказалось иначе. Как командир Андрей Николаевич обязан был предусмотреть и меры предосторожности для обеспечения безопасности отряда, но он этого не сделал. Отряд проходил по дороге в болотистой низине. На пути было два узких моста, последний перед Каракалом переходить бы не следовало.
Представитель генерального штаба Черняев предложил отойти обратно. Карамзин возмутился: «Чтобы с таким известным своей храбростью полком нам пришлось отступать, не допускаю этой мысли — с этими молодцами надобно идти всегда вперед!» И дал приказ переходить мост, не послав вперед лазутчиков. А сразу за мостом стояли колонны турецкой конницы. Отряду Карамзина пришлось принять бой, заранее обреченный на поражение. И отступить не было никакой возможности: турки отрезали путь назад, захватив злополучный мост.
Во время боя Андрея сбросила лошадь и умчалась. Ему подвели другую, но в этот момент наскочили турки и плотным кольцом окружили Карамзина. Стали снимать с него саблю, пистолет, кивер, кушак, взяли золотые часы и деньги, чтобы затем гнать в плен. Когда коснулись золотой цепочки с заветным медальоном, Карамзин в отчаянии выхватил у стоящего рядом турка саблю, нанес ему сокрушительный удар по голове, другому перешиб руку…
Андрея Карамзина нашли бездыханным — с восемнадцатью колотыми и резаными ранами. Медальон, конечно, исчез. И никто не знал, к кому он теперь попал, какой путь еще совершит, неся смерть…
Впрочем, для Авроры это не имело значения. Важно было только то, что она опять погубила человека, которого любила.
Нижний Новгород, наши дни
— Многие иностранцы и не слышали никогда о Нижнем Новгороде или о Горьком, но я это название помнил много лет, — сказал Алекс Вернер, осторожно трогая ложечкой «Тропический десерт», словно раздумывая, решиться ли сломать пирамидку из кусочков фруктов, политых желе, или оставить эту красоту в неприкосновенности. — Именно оттуда родом была женщина, которую я любил, — помните, я вам о ней говорил? — взглянул он на Алёну.
Она кивнула.
— Поэтому мой взгляд невольно ловил всякое — очень редкое, надо сказать! — упоминание об этом городе в газетах, как в наших, так и в русских, которые попадались мне на глаза. И вот однажды я оказался в самолете рядом с одним русским нижнее… нижегородцем. У него из портфеля выпала газета «Карьерист», на которой крупными буквами было упомянуто название вашего города, я попросил газету почитать, русский мне ее охотно презентовал. Я с удовольствием читал заметки, разглядывал фотографии и наткнулся на небольшую статью, посвященную подготовке к празднованию Дня Победы в музее Сормова. Уж не помню, о чем там шла речь, но упоминалась одна девушка… Она жила в Горьком, а погибла в 1942 году в Мезенске, взорвав мост через Святугу и уничтожив огромное количество боеприпасов, которые перевозили к линии фронта. Звали эту девушку Лиза Петропавловская, рядом была помещена ее фотография — довольно хорошая, если учесть вообще качество российской полиграфии. — Тут герр Вернер пренебрежительно хмыкнул. — Я так и ахнул, посмотрев на нее! Очень может быть, что это была в самом деле Лиза Петропавловская, но что это была не та девушка, которая взорвала мост в Мезенске, — я мог бы дать руку на отсечение! Понимаете, это произошло на моих глазах… я разговаривал с ней перед тем, как она взошла на этот мост… она была очень странной, но она всегда была странной, да и я сам при ней вел себя странно, по-дурацки… Но как бы она ни выглядела, у меня и в мыслях не было, что она идет, чтобы погибнуть! Взрыв был страшный, погибло очень много народу, я был контужен — взрывной волной меня выбросило из открытой машины и отшвырнуло на десяток метров, я не погиб просто чудом каким-то. И это учитывая, что я уже успел отъехать от моста! А там был просто огненный ад. Конечно, неудивительно, что ваши послевоенные историки так возвеличили деятельность Мезенского подполья… а ведь его, по сути дела, не было. Я написал об этом по электронной почте в редакцию «Карьериста», автору статьи, госпоже Екатерине Лаврентьевой, она мне ответила, что в музее существует развернутая экспозиция, в которой много материалов о жизни и военной службе, а также подпольной деятельности Елизаветы Петропавловской, поэтому, скорее всего, я ошибся. Тогда я рассказал Екатерине историю своего знакомства с той девушкой, которая на самом деле взорвала мост и которая называла себя Лизой Петропавловской, а также объяснил, как могла произойти путаница.
— Этот рассказ меня не то чтобы убедил, но впечатлил, — сказала Катя, которая все это время проворно расправлялась со своим «Тропическим десертом», а также с пышным пирожным под названием «Наш сад». — И я поехала в музей, чтобы все выяснить. Но меня в такие штыки встретил директор… Это просто ужас. Святотатство — это был самый мягкий комплимент в мой адрес. Я завелась, потому что никакого святотатства у меня и в мыслях не было. Я просто хотела уточнить, какие документы подтверждают деятельность Лизы Петропавловской в Мезенском подполье и то, что именно она взорвала мост. Насколько я поняла, никаких документов нет вообще. На чем основано такое стойкое убеждение, что Лиза Петропавловская героиня, мне не пожелали объяснять. Я написала об этом господину Вернеру…
— Милые барышни, — сказал означенный герр с чувством, — зовите меня по имени, прошу вас! Меня зовут Алекс, если вам это кажется слишком фамильярным — то Алекзандер, пожалуйста.
— А по батюшке? — спросила Катя, чуточку смущаясь. — В смысле, отчество ваше как?
— Моего отца звали Зигфрид. То есть это получается…
— Алекзандер Зигфридович, — хором выговорили Алёна и Катя и посмотрели друг на дружку с сомнением.
Вернер захохотал во все свои суперские зубы.
— Язык сломаешь, — буркнула Катя.
— Ладно, пусть будет Алекс, — усмехнулась Алёна, которой было приятно лишний раз вспоминать имя Дракончега. — Если вам кажется такое обращение естественным…
— Вполне! — заверил Алекс Вернер.
— Короче, я написала об этом Алексу, — с некоторой запинкой повторила Катя, — и он ответил, что сам приедет, чтобы сходить в музей и расставить, так сказать, точки над «i». Мы договорились встретиться сегодня утром в редакции, а вчера мы с Таней поехали в музей, чтобы сделать снимки старой экспозиции… я почему-то была уверена, что ее после рассказа герра… то есть Алекса переделают… но случилось то, что случилось!
При этих словах она значительно взглянула на Алёну, и та поняла, что Катя решила не светиться перед иностранцем и держать в секрете историю с похищением. Ну что ж, это очень патриотично. У советских собственная гордость, с Дону выдачи нет, грязь из избы не выносить, а заметать ее под ковер и все такое прочее. Хорошее дело, Алёна была вполне солидарна с Катей в этом деле.
По лицу Алекса Вернера было видно, что ему до смерти охота спросить, что же вчера случилось и почему сорвалась их с Катей утренняя встреча. Однако он вежливо сдержался и сунул-таки ложечку в свой «Тропический десерт».
— Катя, а как фамилия директора музея? — спросила Алёна как бы между прочим.
— Столетов. Иван Петрович Столетов.
Так, осечка. Если Алёна ждала, что он окажется Москвич, то ждала напрасно. Впрочем, может быть, этот Москвич — его дядя. Или скорее племянник.
— Что он за человек?
— Ну… такой дядечка лет под семьдесят. Настоящая музейная крыса! — сказала Катя — впрочем, с восхищением. — Фанатик. Вообще музей существует благодаря ему. И он знатных сормовичей всячески прославляет. У него несколько книг — о сормовичах — участниках войны, о героях труда и все такое. Как раз ко Дню Победы книжку о героях войны переиздали — конечно, за счет спонсоров, но он очень ловко умеет этих спонсоров находить. Ведь у всяких ветеранов и героев остались родственники, которым очень лестно свою фамилию прославлять. Потомки сестры Лизы Петропавловской — ее внучатые и правнучатые племянники — люди просто богатые в самом деле, поэтому ее экспозиция — основа выставки. Там ее письма, там ее фотографии детские и юношеские, там фотографии ее деда, отца Игнатия Петропавловского, который руководил подпольем и погиб вместе с Лизой…
— Так деда или отца? — не поняла было Алёна. — А, ясно, он был священник.
— Между прочим, хотя de mortuis aut nihil, aut bene [17], но этот отец Игнатий был, по-моему, человеком страшным как внешне, так и внутренне, — пробормотал Алекс Вернер как бы в сторону. — Выглядел он сущим Кощеем в смеси с горьковским Лукой…
— Вы читали Горького? — изумилась Катя.
— Лиза однажды упомянула о нем в каком-то разговоре, ну я после войны достал книжки и прочел. Очень сильно, очень бесчеловечно, очень… скучно, прошу меня извинить.
Алёна была с этим согласна на все сто, но сочла за благо промолчать. Тем паче что разговор свернул в другом направлении, а она не хотела бы терять его нить.
Вообще вырисовывалась более или менее ясная картина. Конечно, и Столетову, и родственникам Лизы Петропавловской очень хотелось бы, чтобы ничего не менялось. Всякая попытка опровергнуть подвиг Лизы неминуемо должна быть воспринята ими в штыки. Но вот вопрос, насколько далеко они могут зайти ради того, чтобы оставить все на своих местах?.. Неужели скромный директор заштатного музея и какие-то там родственники…
— Кстати, как их фамилия? — спросила Алёна на всякий случай. — Ну, родственников этой Лизы. Тоже Петропавловские?
— Да откуда же мне знать их фамилию? — растерялась Катя.
— Ну как же? Вы же про музей материал писали.
— Ну да, про музей, но не про родственников же.
— А откуда вы знаете, что они богатые и все такое?
— Ну, еще когда у нас с этим Столетовым были хорошие отношения, когда я только начала писать о музее, он упоминал их, мол, люди увековечивают память о своей знатной родственнице и не жалеют на это средств.
— А как бы эту самую фамилию узнать?
— Ну, наверное, можно Столетову позвонить, — предположила Катя. — Только завтра с утра, сейчас-то не совсем удобно. Поздно уже.
— Ну, тогда придется ждать до завтра, — с некоторым нетерпением вздохнула Алёна.
— Извините, милые дамы, — проговорил вдруг Алекс Вернер, который до сего момента помалкивал, только переводил взгляд с Кати на Алёну и обратно. — А может быть, мы не будем звонить? Опыт работы в разведке учит меня, что лучше получать необходимую информацию, пользуясь эффектом неожиданности. Скажем, не звонить, а просто явиться в музей. Причем не вам, Катя, а мне. Скажите, там наслышаны о моем приезде?
— Нет, я ничего такого не говорила.
— Отлично! — Алекс Вернер хлопнул в ладоши. — Тогда тем паче там нужно появиться мне с тем важным видом, который, если судить по вашим фильмам, непременно следует иметь инозем… то есть иностранцу. Иностранцам, сколь я мог заметить, в вашей стране больше оказывают и внимания, и почтения, при этом нас считают людьми недалекими и часто откровенничают о таких вещах, о каких откровенничать вовсе бы не стоило.
— Павел Андреич, вы шпион? — пробормотала Алёна, вовсе не желая быть услышанной, однако Алекс покосился на нее и подмигнул так значительно, что можно было понять: он не только читает классику советской литературы, но и смотрит советское кино. Определенно понял, откуда цитата!
Однако отвечать не стал. Может, и впрямь шпион?
Может быть. А может и не быть.
— То есть вы предлагаете отправиться в музей самостоятельно? — уточнила Катя. — Без меня?
— То, что вам там быть не следует, моя милая Екатерина, к моему глубокому сожалению, однозначно, — со вздохом сказал Алекс, и Алёна почему-то подумала, что в былые годы он был обворожительным мужчиной. Интересно, как складывались их отношения с той Лизой, которая не Петропавловская? Была ли она тоже влюблена в него? Что ж, такие истории бывали в войну… Это, черт побери, тоже ужасно непатриотично, но, наверное, сердцу не прикажешь. То есть факт, что ему не прикажешь, уж кто-кто, а Алёна Дмитриева знала это по своему собственному опыту. — Вы там уже засветились, прокололись, провалились! — Алекс Вернер усмехнулся. — Но и одному мне идти туда… как это… не с руки, вот так говорят, да? Поэтому я явлюсь с переводчицей. Переводчицей будете вы, — решительно повернулся он к Алёне. — Вы немецкий знаете?
— Нет, буквально два слова, — изумленно покачала она головой. — Гутен таг, их либе дих, шпрехен зи дойч, хальт, хенде хох, цурюк, арбайтен, Вольга-Вольга, муттер Волга…
— Курка, яйки, млеко, жрать, — хохотнул Алекс Вернер, доказав свое незаурядное чувство юмора. — Все понятно. На каком языке вы говорите, чтобы в случае необходимости я мог провести с вами секретное совещание?
— На французском, — пробормотала Алёна, пытаясь освоиться с новой ролью разведчицы, играть которую ей еще в жизни не приходилось. Хотя нет, приходилось… было дело под Полтавой, нет, не под Полтавой, конечно, а под Парижем, в одном шато, но было, было-таки! [18]
— Да? — проговорил Алекс Вернер, придирчиво ее оглядывая. — Mais vous savez, j’ai ainsi pensé! [19]
Мезенск, 1942 год
Прошло два дня. Два дня полной неизвестности. Единственное, что узнала Лиза, это то, что были расстреляны жители всех четырех домов, стоявших в непосредственной близости от того места, где был убит фон Шубенбах. Около ста человек. В их числе дети. Это была цена спасения жизней — Лизы, отца Игнатия, Петруся, Алекса Вернера. Сто человек. Женщины, у которых мужья были на фронте. Несколько мужчин, которые остались в Мезенске при оккупантах и пытались выживать при новом режиме, как могли: околачивали пороги биржи труда, меняли шило на мыло на базаре или кустарничали. Были среди расстрелянных и несколько стариков, которые, конечно, тоже хотели жить — хотели так же сильно, как отец Игнатий, в жертву которому они были принесены. На себя Лиза брала вину за гибель женщин. Петрусь был ответствен в смерти мужчин. Но самый страшный грех нес на себе Алекс Вернер: он был виновен в смерти детей. Именно Алекс Вернер был в Лизиных глазах главным преступником, главным виновником всего происшедшего. Она должна была благодарить его за спасение свое и Петруся, но она проклинала его. Что чувствовали другие, Лиза не знала. Отец Игнатий почти не разговаривал, сутками напролет лежал на диване, даже в ломбард не ходил. То ли раскаяние мучило, то ли отходил от страха, пережитого тем утром… Петрусь не являлся из казармы — теперь все полицейские жили на военном положении. Видимо, это касалось и гитлеровцев — Алекс Вернер тоже не показывался, никаких вестей от него не было, и Лиза даже не знала, как окончилась его попытка убийства Эриха Краузе. Может быть, конечно, Алекс не приходил потому, что не желал продолжать опасное знакомство? Да и бог с ним, век бы его не видеть! Лиза о нем старалась не вспоминать, даже думать о нем не хотела и, честное слово, легко прожила бы остаток жизни, никогда более не видя «трикотажного принца». Наверное, и Алекс Вернер испытывал схожие чувства, именно поэтому и не появлялся, и никак не напоминал о себе.
И все же, удалось ли ему прикончить Эриха Краузе? Может быть, об этом могла бы рассказать фрау Эмма, которая обладала самыми неожиданными сведениями, но «Розовая роза» была закрыта из-за усиления строгостей в городе и продления комендантского часа. То есть Лиза не ходила на работу, и это было единственное хорошее, что принесло ей убийство Шубенбаха. Ну, конечно, оставался еще сам факт того, что она живет, дышит, ест, пьет, ее не терзают пытками в гестапо… наверное, это было отлично, наверное, Лиза когда-нибудь сможет это оценить, но в том состоянии, в каком она находилась сейчас, она не была на это способна.
На третий день отец Игнатий кое-как сполз с дивана и спросил Лизу, какое сегодня число. Было 15 июня, о чем Лиза ему и сообщила.
— Да, а я было решил, что со счету сбился, пока в лежку лежал, — слабо улыбнулся старик. — Нужно сегодня в ломбард пойти.
— Да какой может быть ломбард?! — возмутилась Лиза, глядя на его восковое лицо. — Вы же больны!
— Дело встало, — вздохнул старик. — Может, кому-то вещи свои забрать нужно. Или в залог сдать. А там замок на двери. Непорядок. Нехорошо. Пойду.
Старик еле ворочал языком, оттого и говорил короткими, отрывочными фразами, был бледнее беленой стенки, к которой прислонялся, чтобы не качаться, словно былина на ветру, глаза его были окружены темными кругами и провалились. Краше в гроб кладут, ну ей-богу!
Уж на что Лиза его терпеть не могла, этого навязанного ей судьбою «доброго дедушку», а все же стало жалко старика.
— Ну хотите, я сама схожу в этот ваш ломбард и посижу там, а вы еще денек отдохните и съешьте хоть что-нибудь, нельзя же так! — предложила она раздраженно и тут же ужасно пожалела, что черт потянул за язык. Больно надо ей в этот ломбард тащиться. Хотя с другой стороны, хоть какое-то развлечение…
В выцветших глазах мелькнуло очень странное выражение. То ли изумление (ну, понятно, неожиданное сочувствие Лизы, которая своей неприязни к отцу Игнатию не скрывала никогда, не могло его не изумить), то ли подозрительность. Ага, ну конечно, он решил, что Лиза только и жаждет добраться до его сейфа и взломать дверцу, чтобы разжиться сданными в залог немногочисленными ценностями — и сбежать с ними. Этот старик доверил ей свою жизнь, а вот имущество — боится.
И правильно делает, между прочим, потому что, окажись у нее хоть малейшая возможность завладеть деньгами или драгоценностями, которые помогли бы ей жить и выживать, она пошла бы даже на откровенную и самую вульгарную кражу. И только бы ее видели отец Игнатий и…
А как же Петрусь?!
Лиза вздохнула. Да никак. Она сама не понимает, что творится в ее душе, в ее сердце, в ее теле. Конечно, с Петрусем — это все совершенно другое, чем было когда-то там, в лесном доме, с Баскаковым, чем то, чего хотел от нее Фомичев… И все же она точно знает, что ради него не останется в Мезенске ни за что. А может быть, попытаться уговорить его уйти вместе? Бросить все здесь к черту… попытаться спастись…
Она так задумалась, что даже не заметила, как отец Игнатий на подгибающихся от слабости ногах ушел-таки в свой ломбард. И почти тотчас в дверь постучали снова. Лиза открыла, убежденная, что вернулся старик, — и изумилась: это оказался Никита Степанович, сторож из «Розовой розы», который сообщил, что Лизу требует к себе барыня. Так он называл фрау Эмму. Лиза немедленно вспомнила, как отец Игнатий в редкую минуту доброго расположения духа и откровенности рассказал: его внучки Лизочка и Танечка, еще когда были совсем маленькими и не уехали из Мезенска в Горький, играли в развалинах (в тех самых, где теперь медленно гнил труп пана Анатоля!) в «барыню». Выглядело это так: Лизочка брала кусочек тюля, покрывала им голову, подвязывала фартук и садилась на крыльце разрушенного дома в «кресло» из кирпичей и сучьев. Такой дети воображали барыню — бывшую хозяйку этого дома. Они забирались к ней в сад, ломали сирень, барыня — «Лизочка» — вскакивала с кресла и сердито кричала: «Ах, разбойники! Ну, подождите, я позову милиционера!» Почему милиционера-то? Ну, они ведь не знали, эти советские дети, что барыня звала бы городового…
Никита Степанович передал приказ хозяйки, но уходить не спешил. Оказалось, фрау Эмма ждет Лизу немедленно, а сторожу велено ее сопроводить в ресторан. Вернее, послужить ей конвоиром, мрачно подумала Лиза и, делать нечего, принялась одеваться.
О том, что ее ждет у фрау Эммы, она думала без особого интереса, вяло. Вот только любопытно было, как они теперь встретятся… после того как фрау Эмма отдала ей морфий для убийства Эриха Краузе…
Против ожидания, Никита Степанович повел Лизу не в Липовый тупик, а в ресторан с главного входа. Открыл дверь своим ключом и махнул рукой вдоль розового коридора:
— В кабинете они-с. Ждут-с.
У Лизы неприятно дрогнуло сердце — кто это они, кто ее ждет? Не гестаповцы ли? Не дать ли деру, пока не поздно? Однако сторож стоял позади, отрезая путь к отступлению, а он был мужик крепкий, совсем еще не старый, сладить с ним у Лизы не было возможности — пришлось идти вперед.
Немедленно выяснилось, что паниковала она напрасно — фрау Эмма находилась в кабинете одна, с Лизой дурную шутку сыграла старорежимная манера Никиты Степановича говорить о «высших» во множественном числе.
Фрау Эмма была вся в черном. Видимо, носила траур по своему бывшему клиенту фон Шубенбаху, со злым ехидством подумала Лиза. Фрау Эмма хмуро взглянула на нее и, даже не поздоровавшись, даже не кивнув, холодно и высокомерно проговорила:
— Я проклинаю тот день, когда поддалась дружеским чувствам к вашему деду и взяла вас на службу. Вы приносите мне несчастье. Мало того что из-за убийства Шубенбаха ресторан закрыт вот уже два дня, так теперь еще и приезд Венцлова…
— А с чего вы взяли, что я имею отношение к убийству Шубенбаха? — перебила Лиза с самым высокомерным видом, на который только была способна. — Она изо всех сил подражала фрау Эмме.
— А я разве сказала, что вы имеете к нему отношение? — вскинула брови хозяйка. — Или… или все же имеете?
— Что вы! — очень старательно ужаснулась Лиза, поняв, что нечаянно проговорилась. — С чего вы взяли? Как бы я могла?
— Да кто вас знает с чего, какие у вас резоны, — пожала плечами фрау Эмма. — А что до того, как могли… смогли же вы добраться до несчастного Краузе! Он скоропостижно скончался, в госпитале поднялся страшный шум, но общее мнение склоняется к тому, что он просто умер от ран. Так что свой удар мизерикордии вы совершили-таки!
Лиза вспомнила, что о мизерикордии говорил и Алекс Вернер. Она вспомнила также старый роман, читанный еще дома, в Горьком… она искала значение этого слова в словаре и нашла: это так называемый удар милосердия, который наносили особым стилетом обреченному воину или гладиатору на арене, мизерикордия — это, собственно, кинжал, которым убивали обреченного…
Она встряхнулась. Фрау Эмма продолжала что-то говорить.
— Простите, я не расслышала, — прервала Лиза.
— Так что, вы и впрямь имели отношение к убийству Шубенбаха? — с невинным видом переспросила фрау Эмма. — Говорят, там, около его дома, тем роковым утром видели какого-то старика, полиция и красивую девушку.
— Кто видел? — выпалила Лиза.
— Я не знаю, — пожала плечами фрау Эмма. — Мне сказали, что кто-то видел. Но я уже говорила вам, что виртуозно умею связывать концы с концами. Вы убили Эриха Краузе, в это же утро был прикончен следователь, который вел его дело. Шубенбах мог выбить из Краузе признания, которые оказались бы смертоносными для очень многих. И если Эрих Краузе антифашист, легко предположить, что его девушка — тоже антифашистка, может быть, даже подпольщица, связанная с партизанами. И в этой связи невольно начинаешь задумываться, с какой целью вы пришли в «Розовую розу», учитывая контингент ее посетителей? В самом ли деле вы были в Красной армии и дезертировали оттуда? Или же были, как это говорится, заброшены в тыл врага? И ваше стремление в «Розовую розу» не было ли связано с приездом Венцлова, к чему сейчас готовится военное командование? Ваша акция с фон Шубенбахом…
— При чем тут я? — возмущенно воскликнула Лиза. — Это все ваши фантазии!
— Ну какая разница, как назвать? — пожала плечами фрау Эмма. — Хорошо, скажем так: акция подпольщиков прибавила хлопот военному начальству Мезенска, но, с другой стороны, как это там у Гоголя? Чем больше шума, тем очевиднее расторопность градоправителя?
— Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельность градоправителя, — машинально поправила Лиза, вспомнив своего любимого «Ревизора».
Фрау Эмма странно усмехнулась:
— Может быть, ваш дед вам и не говорил, но я работала преподавателем литературы в школе. И знаю точную цитату. Я нарочно сказала неправильно, чтобы вас проверить. Вы хорошо образованны… Я отлично помню дочь отца Игнатия, помню и ее мужа, который увез ее в Горький. Это были добрые, но очень ограниченные люди. Можно было предположить, что своих детей они воспитают по образу своему и подобию: они, может быть, и будут знать грамоту, но вряд ли окончат хоть что-то выше школы первой ступени. А вы знаете Гоголя, вы не переспросили, что такое мизерикордия, весь строй речи выдает в вас образованного человека. Это наводит на некоторые размышления…
— Ну, — зло спросила Лиза, — на какие именно размышления это вас наводит?
Ей надоел этот разговор, изобилующий опасными намеками, ей казалось, что фрау Эмма играла с ней, будто кошка с мышкой, и она больше не хотела, как загнанная мышка, метаться туда-сюда в поисках укрытия. Так хотелось цапнуть кошку за ехидную морду!
— На какие размышления? — повторила с усмешкой «кошка». — Над этим я еще подумаю и только потом скажу. А теперь должна сообщить вам, что, даже если вы и рассчитывали устроить что-нибудь для Венцлова в моем ресторане, вам это не удастся.
Да, мышке кошку не цапнуть, не стоит и пытаться…
— Что, выдадите? Пойдете со своими подозрениями в гестапо? — попыталась усмехнуться Лиза, но, конечно, это ей очень плохо удалось: лицо свела жалкая гримаса.
— Нет, и в мыслях такого не было! — качнула головой фрау Эмма. — Дело вовсе не во мне. Просто военным начальством Мезенска решено, что встреча состоится в более официальной обстановке, в ресторане «Бремен».
Лиза почувствовала, что у нее похолодели щеки:
— Но почему?! Чем вы провинились перед немцами?
— Прежде всего тем, — недобро усмехнулась фрау Эмма, — что у меня работают слишком строптивые девушки, которые не уважают доблестных воинов фюрера.
Нетрудно было догадаться, в чей огород швырнула камушек фрау Эмма, но вслед полетел и булыжник:
— Помните того оберст-лейтенанта, того пехотинца, которому вы предпочли Алекса Вернера? Помните, он грозился устроить нам неприятности? Так он их и устроил! Оказалось, он давний, еще с гимназических времен, друг фон Венцлова и нарочно звонил ему, чтобы убедить сменить ресторан на более, скажем так, респектабельный. И убедил, мстительная тварь!
Фрау Эмма выругалась самым грязным образом, но Лиза практически не слышала. Она просто оцепенела.
Значит, все зря, все старания, все страхи… В первое мгновение на нее нахлынуло бешенство, но тут же оно сменилось невероятным, почти невыносимым оцепенением. Радоваться надо, а не переживать! Ведь теперь она свободна! Теперь отец Игнатий не будет ее задерживать! Хотя… хотя, если не получается с Венцловом, отцу Игнатию может потребоваться какая-то другая громкая акция, чтобы заявить партизанам о своем существовании. А ведь такая акция уже совершена, вдруг осознала Лиза. Это убийство фон Шубенбаха. Об этом же говорил и Алекс Вернер, когда разглагольствовал о рекламе. Теперь все сделано, теперь понятно всем, что в Мезенске действует подполье. Отец Игнатий может успокоиться. Партизанам о нем наверняка известно! Они к нему придут — если захотят. А Лизе нужно убираться из города как можно скорей — пока они не пришли, не захотели, не надумали чего-нибудь нового, ужасного, для чего им непременно потребуется ее участие… И уходить нужно прямо сейчас. Нет, сначала следует сообщить отцу Игнатию о том, что встреча Венцлова состоится в другом месте, и ей можно считать себя свободной. Наверное, это будет для него удар. Ну и отлично, Лиза с удовольствием понаблюдает, как его удар хватит! До чего же он ей надоел, этот полубезумный старикашка, оголтело ненавидящий страну, которую любит до фанатизма, этот лишенный милосердия священник, самоотверженно любящий страну, которую до фанатизма ненавидит! Лиза не сомневалась: если бы не этот ханжа-фанатик, она, конечно, смогла бы уговорить Петра уйти с ней из Мезенска. Но он не уйдет. Ну что же, может быть, Петр хотя бы согласится перевести ее через мост? К полицаю не придерутся. В случае чего он скажет, что ведет ее под конвоем… куда? Ну, куда-нибудь, Петр что-нибудь придумает, наверное. А там, на той стороне Святуги, Лиза пойдет сама, пойдет от деревни к деревне до линии фронта. Нужно только взять каких-нибудь продуктов на первое время. Одеться как следует, подобрать подходящую обувь…
Она так задумалась, что женский голос обрушился на нее неожиданно, словно камнепад:
— Чем больше я наблюдаю напряженную работу мысли, которая отражается на вашем лице, тем отчетливей понимаю, что мои подозрения относительно вас были правдивы.
Лиза осознала, где находится. Она еще не перешла мост и не двинулась к линии фронта. Она еще в Мезенске, в кабинете фрау Эммы, о которой она совершенно забыла!
А та, конечно, как всегда, издевается! Ехидничает!
Лиза вскинула глаза на это красивое, ненавистное лицо:
— Какие опять у вас подозрения?
— Да все те же. Насчет того, что вы и ваша компания и в самом деле планировали нечто разрушительное в «Розовой розе». И теперь, с известием о том, что Венцлова здесь не будет, этот план провалился. Поистине, начинаешь думать, что нет худа без добра, все, что ни делается, к лучшему. Кажется, Бог — лютеранский или православный, уж не знаю! — уберег меня от изрядной беды благодаря тому, что вы прогневили этого пехотинца, любителя утонченных красоток и баранины.
— Ну, если уж говорить о баранине, — обиженно сказала Лиза, — то не я ее съела. Не я отдала ее другому посетителю. Не я требовала с него деньги за какие-то там охотничьи колбаски!
— С вас все началось! — сварливо огрызнулась фрау Эмма. — С ваших капризов! Я вообще с ужасом думаю о том, что при расследовании убийства фон Шубенбаха кто-то вспомнит о высокой красивой девушке, которая была среди его знакомых, — о вас, свяжет вас со мной… Я больше не желаю иметь с вами ничего общего. Вы уволены. Я сделала для вас и вашего деда все, что могла, — помогла вам спасти ваши шкуры, прикончив Эриха Краузе. И на этом — все, мы незнакомы! — Она резко рубанула воздух ладонью.
— Помогая нам прикончить Эриха, как вы изволите выражаться, — не смогла удержаться от злой иронии Лиза, — вы заботились прежде всего о себе! Если бы он выдал нас, то и вас подцепили бы на крюк следствия. Вы хлопотали обо мне, вы помогали мне добиваться документов… Нет, вас не оставили бы в покое!
Несколько мгновений фрау Эмма смотрела на нее своими ничего не выражающими глазами, и Лиза гадала, что она будет сейчас делать: браниться матом или впадет в истерику. Но не произошло ни того, ни другого. Фрау Эмма улыбнулась — причем не злоехидно, а вполне дружелюбно:
— А вы не только красотка и порядочная стерва, но и умница! Если вам повезет и вы уцелеете в военной мясорубке, а потом, после победы красных, вас не поставят к стенке свои же — ну тогда вы еще успеете получить от жизни немало удовольствий. И с каждым годом они будут восприниматься вами все острее, потому что вы научитесь их подобающим образом ценить. Но для того, чтобы выжить, чтобы прежде всего выжить, вы должны расстаться со всякими благоглупостями насчет патриотизма, насчет того, что каждый советский человек должен быть прежде всего колесиком и винтиком… не помню уж там, где и в чем именно, что он обязан думать прежде всего о Родине, а уж потом — о спасении собственной жизни. Вы сейчас — не советский человек. Вы просто женщина, которой надо остаться в живых. А теперь прощайте. От души надеюсь, что наши пути более не пересекутся.
И фрау Эмма махнула на дверь так выразительно, что Лизе не оставалось ничего другого, как выйти вон. Да, собственно, и оставаться больше не было ради чего. Все сказано…
Далекое прошлое
Вначале Андрей Карамзин был похоронен там же, в Малой Валахии, вторым дивизионом, которым командовал. Известие о его гибели дошло и до Петербурга, и до Нижнего Тагила. На сороковой день состоялась панихида во всех тагильских заводах.
Федор Иванович Тютчев, хорошо знавший и Карамзиных, и Аврору, писал дочери:
«Это одно из таких подавляющих несчастий, что по отношению к тем, на кого они обрушиваются, испытываешь, кроме душераздирающей жалости, еще какую-то неловкость и смущение, словно сам чем-то виноват в случившейся катастрофе… Был понедельник, когда несчастная женщина узнала о смерти своего мужа, а на другой день, во вторник, она получает от него письмо — письмо на нескольких страницах, полное жизни, одушевления, веселости. Это письмо помечено 15 мая, а 16-го он был убит… Последней тенью на этом горестном фоне послужило то обстоятельство, что во всеобщем сожалении, вызванном печальным концом Андрея Николаевича, не всё было одним сочувствием и состраданием, но примешивалась также и значительная доля осуждения. И, к несчастью, осуждение было обоснованным. Рассказывают, будто Государь, говоря о покойном, прямо сказал, что поторопился произвести его в полковники, а затем стало известно, что командир корпуса генерал Липранди получил официальный выговор за то, что доверил столь значительную воинскую часть офицеру, которому еще недоставало боевого опыта. Представить себе только, что испытал этот несчастный А. Карамзин, когда увидел свой отряд погубленным по собственной вине… и как в эту последнюю минуту, на клочке незнакомой земли, посреди отвратительной толпы, готовой его изрубить, в его памяти пронеслась, как молния, мысль о том существовании, которое от него ускользало: жена, сестры, вся эта жизнь, столь сладкая, столь обильная привязанностями и благоденствием…»
Нижний Новгород, наши дни
Музей находился в здании, которое по всем меркам можно было отнести к ветхому фонду, однако в залах пахло не ветхостью, а сиренью.
— А вот здесь у нас находятся материалы, которые особенно дороги сердцу каждого советского человека, в частности сормовича, — задушевно сказал Иван Петрович Столетов и подвел их к стенду, над которым была надпись: «Никто не забыт, ничто не забыто».
Стенд был огромный. Нет, ну серьезно — в масштабах районного музея, где рассказывалась история всех сормовских предприятий, перечислялись все знаменитые люди района, — занять целую стену информацией о десятке-другом человек, которые были на фронте во время Великой Отечественной войны… Конечно, в основном здесь рассказывалось о том, как Сормово помогало фронту (ведь Горький находился в тылу), но фронтовикам было уделено очень много внимания. Оказывается, среди сормовичей были и Герои Советского Союза, и кавалеры ордена Славы, и те, кто повторил подвиги Александра Матросова и капитана Гастелло…
Жаль, что этим великолепием особо любоваться было некому. Кроме Алекса и Алёны посетителей в музее практически не оказалось. Правда, около стенда с историей завода «Красное Сормово» зевал какой-то унылый молодой тип с блокнотом, куда с явным отвращением что-то переписывал со стенда. При взгляде на него каждому приходило в голову: наверное, студент-историк или аспирант, небось курсовую пишет или диссер, но с каким отвращением, это же надо! Что ж он там напишет, бедолага?
А впрочем, его проблемы.
Алёна скользила взглядом по фотографиям, отыскивая женские лица. Радистка Зоя Перепелицына, летчица, «ночная ведьма», Ольга Шаповалова, медсестра Анна Поливанова… Рядом почти с каждым снимком военных лет находилась и фотография мирного времени. Иногда их было несколько. Большинство военных снимков запечатлели женщин в форме, явно сделаны были на фронте, но Алёна предполагала, что Лизу Петропавловскую сфотографировать ни в партизанском отряде, ни в Мезенске было невозможно, поэтому искала изображение девушки в цивильном платье 40-х годов. И ошиблась.
Под шапкой «Подвиг Елизаветы Петропавловской (Григорьевой)» оказалось несколько снимков. Один — старика напряженного, даже, можно сказать, исступленного вида. На нем была простая ряса с наперсным православным крестом, однако именно такими Алёна представляла себе воинствующих старообрядцев. Наверное, это и был тот самый отец Игнатий, о котором говорил Алекс, сравнивая его со старцем Лукой. Ну нет, это не Лука, может быть, он в Мезенске и был похожим на него, а здесь — это, пожалуй, боярыня Морозова в мужском обличье! Протопоп Аввакум, только обратившийся в никонианскую веру.
«Отец Игнатий Петропавловский, — гласил текст под снимком, — был родным дедом Елизаветы Петропавловской-Григорьевой. Пользуясь своим положением несправедливо репрессированного при советской власти, он вошел в доверие немецкого командования и использовал это для того, чтобы добывать ценные сведения для партизанского отряда Г. Г. Баскакова. Его явочная квартира была местом встреч подпольщиков, которые работали в Мезенске».
— Mensonge, — прошипел Алекс Вернер над ухом Алёны и продолжил по-французски: — Вранье. Никаким доверием немецких офицеров он не пользовался. Он держал ломбард, куда зашел — и то однажды — всего один немецкий офицер. Это был ваш покорный слуга. Хотя очень может статься, что Эрих Краузе там тоже бывал. А в основном там толклись бедные русские, которые тащили этому Шейлоку последнее, что у них было, сдавали в заклад. Не уверен, забирали ли обратно, но сдавали. Как вы думаете, стоит рассказать ему это? — Он мотнул подбородком в сторону Столетова, который мигом насторожился, услышав иностранную речь, однако по глазам было ясно, что он не понимает ни слова, такой воинственно-растерянный вид у него был.
— Если скажете о ломбарде, нам придется раскрыться, а пока, по-моему, еще рано, — возразила Алёна. — А кто такой Эрих Краузе, о котором вы упомянули?
Лицо Алекса помрачнело:
— Он был другом и помощником той женщины, ради которой мы сюда пришли. Не хочу называть ее имени, чтобы не насторожить господина музейного директора. Может быть, ее любовником… судя по тому, что заказывал для нее шелковое белье. Между прочим, это белье привозил из Парижа я. Собственно, благодаря этому белью я и узнал потом об их связи. Эрих был убит.
— Неужели партизанами? — ахнула Алёна. — Как обидно! Или попал в гестапо? Его раскрыли?
Алекс чуть покосился на нее со странным выражением и кивнул. Алёна так и не поняла, которое из ее предположений было правильным. Да какая, по сути, разница теперь-то, через столько лет?
Алекс уже внимательно рассматривал другую фотографию. Это был групповой снимок молодых людей — всем едва за двадцать, но одеты до того нелепо, что многие кажутся старше своих лет. Надпись гласила, что это выпускная фотография химического факультета Львовского университета, который окончил Петр Мазуренко, один из соратников Елизаветы Петропавловской (Григорьевой) и отца Игнатия Петропавловского. Рядом находился портрет этого самого Петра, видимо, увеличенный с группового снимка, но на нем мало что можно было разобрать, кроме огромных мрачных черных глаз. Вообще юноша напоминал врубелевского «Демона», и Алёна подумала, что он, наверное, был очень красив.
— Так, — сказал Алекс угрюмо, — вот и еще одно знакомое лицо. Он выдавал себя за жениха… сами понимаете кого. Он служил в полиции, видимо, по заданию партизан, и погиб там же, на мосту. А вот… вот та самая фотография, из-за которой, собственно, и разгорелся весь сыр-бор.
Последние слова он произнес по-русски, и Столетов так и разлетелся к нему:
— Наш гость знает русский язык?
— Немножко, — ответила Алёна, мгновенно входя, даже, можно сказать, впрыгивая в роль переводчицы. — Некоторые слова. Преимущественно пословицы.
— А к чему относились эти слова про то, что разгорелся сыр-бор?
Алёна раздраженно откинула сумку за спину. Черт же дернул Алекса это брякнуть! Вот прицепился Столетов! Неужели ему померещилось что-то подозрительное в том, что они, на рысях пробежавшие весь музей, так прилипли к этим снимкам?
— Наш гость имел в виду, — самым безразличным тоном сказала Алёна, — что война разгорелась, как сыр-бор, и в ней сгорели множество жизней.
Постная физиономия Столетова приняла соответствующее скорбное выражение.
За спиной открылась дверь. Столетов сделал грозное лицо. Наверное, это лицо испугало того, кто сунулся было в музей, потому что, когда Алёна обернулась, там уже никого не было. Зато Столетов опять смотрел скорбно.
Быстро приспосабливался к обстановке, ничего не скажешь!
Вообще он был нормальный старикан, конечно, но Алёне ужасно не нравился. Наверное, она была субъективна. Наверное…
Она покосилась на Алекса. Лицо у него было странное. Суровое и несчастное в одно и то же время. Он с такой болью смотрел на снимок женщины, подписанный: «Елизавета Ильинична Петропавловская (Григорьева), 1917–1942 гг.», что Алёне и самой стало больно. Может быть, Алекс надеялся, что Катерина в своем материале все же что-то напутала, что здесь, в музее, все в порядке, что он увидит ту, настоящую Лизу, которую так любил и которая так страшно погибла? Но чем больше смотрела на стенд Алёна, тем больше понимала: доказать, что с Елизаветой Петропавловской (Григорьевой) произошла ошибка, будет не так просто…
Во-первых, начать с того, что имелось несколько ее снимков. Самая большая фотография, на которой хорошо было видно нежное треугольное личико со слабым подбородком и наивными глазами, запечатлела Лизу в военной форме. Сделана она была в то время, когда девушка, сразу после начала войны, училась в Горьковской школе радисток. Рядом с этим снимком под стеклом в рамках висели несколько ее писем сестре, посвященных этому периоду ее жизни, и Алёна их быстро пробежала глазами. Судя по напряженному лицу Алекса, он тоже пытался прочесть небрежно написанные — отнюдь не каллиграфическим почерком! — слова:
«…Знаю, что точка-тире, «ти-та», — это «а». Наш преподаватель отстукивает на ключе «ти-та» пять раз в минуту с одинаковыми интервалами. Я понимаю, что это «а», но записать не успеваю. Говорю, что слишком быстро, а преподаватель смеется: «Да вы будете легко записывать по сто двадцать знаков в минуту, а то и больше!» В это невозможно поверить… Для примера он отстукал на ключе радиограмму со скоростью сто сорок знаков в минуту. Нет, это недостижимо…
…Мы уже так набили руку, что целый урок могли беспрерывно принимать радиотексты со скоростью сто — сто двадцать знаков в минуту. Мысленно еще не успевали расшифровать принятые звуки, а рука уже писала букву. Оказывается, все возможно, все достижимо!
…Мы должны знать каждый проводок, каждую деталь в рации, чтобы при аварии уметь самим отремонтировать ее. Паяльник совсем маленький, пальцы по сравнению с ним кажутся громоздкими, и всего одна крошечная капля сверкающего олова возвращала рацию к жизни…
…Моя любимая песня: По горам, по вершинам наша молодость шла, Голубыми туманами наша юность прошла. Пронеслася и скрылася, как лихой буйный шквал, А теперь на пути у нас новый встал перевал. Что же, верные други мои, снова надо в поход, За любимую Родину зашагаем вперед. Помня молодость милую, помня тех, кто упал, Зашагаем, товарищи, на седой перевал…Я случайно купила пластинку и не расстаюсь с ней. Жаль только, патефона нет, играть не на чем…»
Больше писем не было. Зато был отрывок из воспоминаний о Лизе ее младшей сестры, Татьяны Григорьевой. Как уже поняла Алёна, Григорьева — была настоящая фамилия Елизаветы, а Петропавловская — ее партизанский псевдоним, и отчасти эти воспоминания ее сестры объясняли, почему она взяла именно его:
«Помню свое детство в старом доме в Мезенске. Мы жили на Липовой, номер 14а, вместе с еще одной семьей. Это был большой флигель старинного барского дома, раньше там жила прислуга. Сам барский дом стоял в развалинах, его почему-то никто не пытался отремонтировать, развалины поросли бурьяном и крапивой. Мы там играли с удовольствием весной и в июне, а потом начинала буйствовать крапива, да так, что не слишком разыграешься.
Единственное целое, что от барского дома осталось, — это крыльцо. Иногда моя сестра Лизочка брала кусочек тюля, покрывала им голову, подвязывала фартук и садилась на крыльце в «кресло» из кирпичей и сучьев. Такой в нашем представлении была барыня — бывшая хозяйка нашего дома. Мы забирались к ней в сад, ломали сирень, барыня — Лизочка — вскакивала с кресла, размахивала руками и кричала: «Ах, разбойники! Ну, подождите, я позову милиционера!» — так обычно на нас ругалась дворничиха, и мы тогда даже не знали, что нужно кричать городового, а не милиционера, если уж про барынь речь идет…
Эту пору жизни в Мезенске я помню до 1935 года, до того времени, как арестовали моего деда, священника, отца Игнатия Петропавловского. Моя бабушка осталась ждать исхода его дела, хотя всем понятно было, какой тут может быть исход, один он был для всех: к стенке врага народа, да и все, семью тоже, конечно, не помилуют… Ну вот. Бабушка, значит, осталась ждать своей участи, а матери моей велела ехать в семью ее мужа. Тут такая история: супруг матери, отец мой покойный, Григорьев Илья Климович, был родом из Горького, он приезжал в Мезенск в командировку и там с матушкой нашей познакомился, и они с ним друг друга полюбили. Они зарегистрировались тайно, а венчаться не стали, потому что Григорьев был из крепкой староверской семьи, хоть и атеист. Над церковниками он смеялся и как старовер, и как атеист. Ну, дед мой, конечно, был против такого брака и дочку к Григорьеву не отпустил. Илья Климович приезжал в Мезенск часто, самое малое раз в месяц, родители встречались. Так родились у них две дочки, Лизочка и я, Таня. Лизочка была старшая. Она очень любила покойного деда-священника и сама была его любимица, очень горько плакала, когда мать нас увезла, и потом не раз говорила, что арест деда — самое несправедливое на свете, что только могло произойти. Думаю, именно поэтому потом, в партизанах, она и приняла его фамилию».
На стенде находились еще три фотографии Лизы Григорьевой, сделанные до той поры, когда она стала Петропавловской. Одна — Лизе пятнадцать лет, у нее тонкая недлинная коса, которая выбивается из-под лыжной шапочки. Лиза в смешном спортивном костюме стоит на лыжах, но сразу видно, что фотография сделана не в заснеженном лесу или на горке, а в фотостудии. И лыжи, и поваленное дерево, и сугроб — не более чем антураж. А вот фотография ее класса: в 35-м году Лиза окончила школу в Мезенске и потом, видимо, сразу уехала вместе с матерью и сестрой в Горький. Да, в это время он уже был Горький, его ведь в 32-м переименовали. И еще один снимок, тоже из студии: Лиза уже взрослая девушка рядом с хорошенькой толстушкой-подростком и мальчиком лет пяти. Написано: «Лиза и Таня Григорьевы и их брат Валентин». Да, это то же самое лицо, что и на фотографии военных лет. Почему же Алекс уверяет, что произошла какая-то роковая путаница? Нет никаких сомнений, что именно эту девушку звали Лизой Петропавловской…
Хотя нет, вспомнила Алёна, суть не в том. Алекс Вернер как раз уверял, что за Лизу Петропавловскую выдавала себя совсем другая девушка. Она-то и взорвала мост.
Черт, какая глупость, что Алёна вчера ничего у него толком не спросила о той давней истории: постеснялась, время было позднее, а он все же человек, мягко говоря, немолодой, неловко его утомлять. Да и вообще, она была зациклена на этой истории с похищением журналисток. А ведь, если подумать, история, которая до сих пор жива в памяти этого немца, может быть куда более запутанной и интересной, чем попытки родственников Лизы Петропавловской «обезвредить» тех, кто может повредить увековечению памяти их «собственной» героини. Интернет навел ее кое на какие размышления, но проверить их пока не представлялось возможным.
Утром Алёна ни о чем другом не могла думать, кроме как о том, удачной ли окажется ее маскировка: все же какой-то шанс столкнуться в музее с Раей Абрамовой имелся, и Алёна по этому поводу прилизала волосы гелем и заколола их, надела очки — были у нее такие очки без диоптрий, которые придавали ей до тошноты занудный вид, — напялила мешковатый черный свитер, юбку до пят и туфли на низком каблуке. Сверху всего этого великолепия, по причине прохладного пасмурного утра, был еще напялен старый серый плащ чуть ли не до полу. В музее его пришлось сдать в гардеробную, и Алёна вздохнула с облегчением, уж очень он был страшен! Конечно, благодаря этой маскировке писательница наша, у которой вечно вились вокруг лица самые легкомысленные кудряшки на свете, носившая преимущественно обтяг, очень короткие юбки и гордившаяся тем, что всегда на каблуках, когда не в постели, преобразилась неузнаваемо. И все же она беспокоилась. И вместо того чтобы выспросить Алекса Вернера о событиях прошлого — такого больного для него прошлого! — она изображала из себя Штирлица, который готовится пойти на встречу с Мюллером. И вот теперь чувствует себя дура дурой…
— Спросите этого господина, знакомо ли ему такое имя — Елизавета Ховрина? — спросил в это время Алекс, который твердо держался образа иностранца, и Алёна перевела.
Столетов нахмурился:
— Елизавета Ховрина? Нет, я впервые слышу…
— А между тем, — резко проговорил Алекс по-русски, — именно она взорвала вот этот мост! — И он ткнул пальцем в снимок, где был изображен Мезенск до войны. Тут же висело еще одно фото — Мезенск в развалинах (1945 год, гласила подпись), и на месте очень красивого и мощного моста, перекинутого через Святугу, — какое-то временное деревянное сооружение, явно наведенное наспех.
Мезенск, 1942 год
Лиза кивнула Никите Степановичу на прощанье и спустилась с крыльца ресторана. Что делать теперь? Зайти в ломбард, сообщить старику о том, что Венцлова в «Rozige rose» не будет, а она, Лиза, там больше не работает? Или уходить сразу, без всяких объяснений? Она почему-то была убеждена, что отец Игнатий ее не отпустит. Нет, лучше забежать домой, собрать вещи, взять побольше чулок, которые можно будет менять на продукты, — и уходить с каким-нибудь невзрачным узелком, который не вызовет подозрений ни у какого патруля. И самой одеться как можно невзрачней…
Она поспешила по дорожке, отчаянно молясь о чуде. Боже, сделай так, чтобы именно сегодня, сейчас отпустили из казармы Петруся! Боже, сделай так, чтобы удалось уговорить его уйти из Мезенска! Если он станет упираться, Лиза уйдет одна… но отпустит ли ее Петрусь? Может быть, лучше ничего не говорить ему, исчезнуть молча? Но хватит ли у нее вообще сил оторваться от него?!
Лиза с ужасом ощутила, что при мысли о Петрусе слабеет, тело словно огнем опалило. Плотское томление оказалось такой страшной пыткой, какой она не знала раньше. А ведь и в самом деле — не лгала она, признаваясь Петрусю, что никогда прежде… ни с кем и никогда до него… Ах, кабы можно было остаться с ним навсегда, на всю жизнь!
Нет, не остаться. Забрать его с собой…
От этих мыслей, от противоречивых желаний у Лизы разболелась голова, а глаза то и дело заволакивало слезами. Она изнервничалась, конечно, за эти дни, вот и ударяется в слезы каждую минуту! Утирая глаза, она не заметила, как едва не сбила с ног толстую тетку в розовой косынке, увязанной на голове пресловутым тюрбаном, и заношенном розовом халате не халате, капоте не капоте — словом, в каком-то жутко грязно-розовом, жутко затрапезном одеянии. Тетка, стиснув губы, натужно толкала перед собой тачку, доверху груженную мешками и узлами. Не обращая внимания на ее визгливые проклятия, Лиза вошла во двор, взбежала на крыльцо, сунулась в свой пресловутый саквояж — и, только переворошив там все вещи, обнаружила, что ушла без ключа.
Ох уж эти проклятущие английские замки! Как же Лиза их ненавидела! Сколько раз она захлопывала их раньше, дома! Сколько раз опаздывала из-за этого в школу и институт, сколько раз ее ругала мама! Впрочем, и мама была точно такая же забывайка. Лиза отлично помнила, как дворник пытался забраться в их квартиру через балкон, чуть не упал с третьего этажа… был ужасный скандал… С тех пор мама безропотно позволяла ломать дверь всякий раз, когда ключи бывали забыты.
Еще хорошо, что здесь первый этаж. Лиза подошла к окну, пошатала рассохшиеся рамы и открыла-таки их. Встав на завалинку и подобрав юбку, влезла в комнату. Открыла шкаф, куда выгрузила несколько дней назад все барахло, принесенное от фрау Эммы. Так, вот этот большой клетчатый платок вполне сгодится, чтобы в него увязать все, что нужно унести. Сначала продукты.
Лиза шагнула было на кухню, как вдруг раздалось дребезжанье оконного стекла и одновременно — громкий стук в дверь. Глянула в окно — и не поверила глазам, увидев за стеклом полицейского с винтовкой. Что за бред?!
Кинулась к двери, распахнула ее — и в коридорчик вломилась давешняя тетка в розовом грязном капоте. За ней виднелась громоздкая фигура еще одного полицая.
— Воровка! — закричала тетка. — Попалась! Держите ее, господа полицаи, я сама видела, как она влезла в окно!
— А ну, покажь аусвайс! — приказал полицейский, напирая на Лизу.
— Я ничего не понимаю, — слабо простонала она, — вы кто такие?!
— Ты сама сначала скажи, кто ты такая! — надсаживалась тетка. — Я тут хозяйка всему, над всем домом хозяйка, Наталья Львовна Пошехонская. Вы только поглядите, господа полицаи, — обернулась она к тем, всплескивая руками, — стоило только уехать, оставить на племянника дом и двор, так он развел тут ворья несчитаное количество! — И она зачем-то несколько раз ткнула пальцем в Лизу, как если бы та была не одна, а экземплярах, скажем, в десяти. — Несчитаное! — повторила Наталья Львовна с выражением. — И сам куда-то подевался, квартира настежь отперта, заходи, кто хочешь, бери, что хочешь!
— Помолчи, тетенька, хоть минуту, — устало сказал полицейский. — А ты, девушка, аусвайс показывай давай. Есть у тебя аусвайс?
Лиза молча смотрела на него и думала, что она, конечно, погибла. Аусвайс-то у нее был… да ведь он выписан на фамилию Елизаветы Петропавловской, Лизочки, которую хозяйка, конечно, великолепно знала. И если она увидит аусвайс с фотографией одной Лизы, но с именем и фамилией другой — это уж точно погибель, полная погибель… Да так и так конец. Хозяйка видела, как Лиза забиралась в окно. Нет, всё, всё погибло…
И вдруг раздался знакомый голос:
— Наталья Львовна! Вы вернулись? Как съездили?
Боже мой, да это отец Игнатий! Кажется, никому на свете Лиза еще не радовалась так, как этому старику, которого только полчаса назад называла мерзким старикашкой. Хотя… чем он поможет-то? Если возьмутся проверять ее аусвайс…
— Съездила-то хорошо, — словоохотливо сообщила Наталья Львовна, — картошки наменяла, муки, сала, а главное, вернулась вовремя! Подхожу к дому, а она в окно лезет. Воровка, вот она, вот! — И снова принялась тыкать коротким пальцем с грязным ногтем в Лизу.
Отец Игнатий посмотрел на Лизу, пожал плечами и сказал спокойно:
— Да какая же это воровка?! Это наша знакомая. Подруга моей внучки, ее тоже Лизой зовут. Моя Лиза в село уехала — так же как и вы, вещи на продукты менять, — а подругу попросила тут пожить да за моим здоровьем посмотреть.
Лиза так и застыла с приоткрытым ртом. Виртуозность этого вранья привела ее в восторг. Вот это сообразительность! Кто бы мог ожидать от этого святоши…
— Вы, Лиза, с чего вдруг решили в дом через окно пробираться? — сказал в это время старик, усмехаясь совершенно беззаботно. — Я же вам ключ дал.
— Да я ключ дома забыла, — стараясь говорить как можно спокойней, произнесла Лиза. — Вон он, на столе лежит. Ну что мне было делать, как не в окно лезть?! Кабы я знала, что вы скоро вернетесь, я бы вас подождала, конечно, а так… ну что делать?!
— Пускай аусвайс покажет, — упрямо буркнул полицейский, прислоняясь к дверному косяку. — Внучка не внучка, подруга не подруга, а аусвайс надо предъявить.
Понятно, ему было жаль, что его попусту оторвали от дела, а скорее от безделья, и он хотел теперь во что бы то ни стало продемонстрировать свою власть.
Лиза и отец Игнатий переглянулись, и она поняла, что до старика дошла вся опасность их положения. Он даже побледнел, не зная, что ответить полицаю, и тут, словно по мановению волшебной палочки, зазвучали шаги на лестнице, и в комнату вошел… не кто иной, как Петрусь. У него был усталый вид, глаза провалились, видно, мало приходилось спать эти дни, осунулось и заросло щетиной лицо, рубаха была грязной, а все же никогда еще не казался он Лизе более желанным, более любимым, чем сейчас.
Она даже о своих бедах забыла. Просто смотрела на него и думала — да как же можно было просто помыслить уйти от него, покинуть его?!
— Здорово, Илюха, здорово, Савичев! — за руку поздоровался Петрусь с полицаями. — Что это вы тут злобствуете, словно мусора советские? Отстаньте от девушки. Нет у нее никакого аусвайса и быть не может, потому что ее документы я сам позавчера на перерегистрацию унес. Она с мужем развелась и фамилию меняет обратно на свою, на девичью. Была Иванова, стала Петрова, — сказал Петрусь, и Лиза тупо порадовалась тому, что он не придумал какие-нибудь более сложные фамилии, запомнить которые у нее не хватило бы соображения. А еще она подумала, ну неужели кто-то в такие времена может разводиться?! А впрочем, если могут влюбляться, то, наверное, и жениться могут, и разводиться… Жизнь идет. Банально звучит, зато верно.
— Ну, коли так, мы пойдем, — сказал тот полицейский, которого звали Илюхой.
— Топайте, ребята, — кивнул Петрусь. — Меня на один денек на побывку домой отпустили, а завтра снова в казарме встретимся.
— Ну, если это ваша знакомая, — сказала хозяйка, неприязненно глядя на Лизу, — то пускай живет день или два. А я пойду домой. Только вот что скажите: вы моего племянника Анатоля не видели? Может, сказал, куда ушел?
— Да мы с ним здрасьте — до свиданья, — пожала плечами Лиза, чувствуя, что пора и ей внести свою лепту вранья. — Ничего он нам не сообщал.
Отец Игнатий только кивнул. Петрусь промолчал.
— Ну, появись он, несчастный гуляка! — погрозила в пространство кулаком Наталья Львовна и пошла на крыльцо. А у Лизы подкосились ноги, когда она услышала, как один из полицейских брезгливо говорит во дворе:
— Что-то, хозяйка, из той вон крапивы у вас смердит. Кажись, труп там гниет! Может, собака сдохла?
— Боже милостивый! — возопила хозяйка. — Да что же это такое, ни на денек нельзя из дому отлучиться, не понос, так золотуха!
— Травищу эту вычистить надобно, — наставительно говорил Илюха. — Тут народу целый партизанский отряд спрятать можно!
— Я говорил пану Анатолю, — поддакнул Петрусь, высунувшись из окна. — Он даже пленных хотел взять из лагеря, чтобы очистить тут все, да так и не взял.
— Завтра же я сама в лагерь пойду, — деловито засучила рукава хозяйка. — Не извольте беспокоиться, господа полицейские, через день тут все очищено будет.
И она с полицейскими наконец-то сошли с крыльца.
— Господи, — пробормотала Лиза, закрывая глаза руками, — это все какой-то нескончаемый кошмар. Как же я перепугалась! До чего же вы оба вовремя появились!
— Да уж, — хмыкнул Петрусь, закрывая окно. — Очень удачно вышло, что меня как раз сегодня на побывку отпустили. Сегодня же как раз пятнадцатое! Как по заказу. Я сразу в ломбард, к отцу Игнатию, думаю, мало ли, а вдруг… Ведь пятнадцатое! И смотрю — в самом деле… Ну, мы втроем и пришли.
— Втроем? — удивилась Лиза. — А где третий-то? И при чем тут пятнадцатое число?
— Ну, мы тебе все сейчас объясним, — сказал отец Игнатий. — На пятнадцатое число каждого месяца была назначена встреча со связным из отряда. Если Лизочка вовремя не давала условного знака, в ломбард должен был заглянуть человек, узнать, как и что. Два месяца никого не было, мы уже и ждать перестали, а сегодня… Заходите, товарищ Ивлев!
В сенях послышались шаги, и вошел человек в черном потертом и помятом костюме. Лиза подумала, что он, наверное, все это время прятался за лестницей, чтобы не попасться на глаза хозяйке и полицейским. На их месте она непременно спросила бы у него документы. Вид у него был очень подозрительный…
Она смотрела на этого «товарища Ивлева» — Ивлева, ну да, конечно, как же! — с отвращением, а он уставился изумленно:
— Это ты! Ты! Глазам своим не верю! Лиза?!
— Здравствуйте, товарищ Баскаков, — угрюмо проговорила она, отворачиваясь.
Все. Кончено.
Вот теперь она точно — пропала…
И никто не спасет.
Далекое прошлое
Спустя несколько дней Тютчев сообщил жене своей: «Завтра, 18 июля, мы приглашены на печальную церемонию, похороны бедного Андрея Карамзина, тело которого, однажды уже погребенное и открытое, только что прибыло в Петербург. А я вижу, словно это было вчера, как он, в военной шинели, расстается с нами на вокзале и я говорю ему на прощание — воротитесь. И вот как он вернулся!»
В Малую Валахию за телом Карамзина был послан секретарь Авроры Карловны — Иосафат Огрызко.
После погребения в карамзинской церкви Божией Матери Всех Скорбящих Радости появилась запись: «Карамзин, Андрей Николаевич, полковник, р. 24 октября 1814, убиен во брани за веру и отечество против турок 16 мая 1854. Блажени милостиви яко тии помиловани будут». Скорбные строки эти попали в Петербургский некрополь.
В Нижнем Тагиле рабочие по подписке собрали деньги, чтобы хоть малой толикой поучаствовать в сооружении памятника Андрею Карамзину. Памятник отлили сами, на одном из заводов. За высокохудожественную и добросовестную работу, исполненную заводчанами, Анатолий Демидов подарил создателям памятника образ Святого Андрея Критского в драгоценном окладе, равный стоимости памятника — деньги рабочие брать отказались.
Образ был освящен в церкви и установлен в часовенке, неподалеку от площади. На открытие часовни и памятника приехала из Петербурга семья Карамзиных, прибыл из Флоренции брат Демидова, герцог Сан-Доминго.
Аврора смотрела на бронзовую статую мужа, думала о роке, который преследовал ее, и уповала лишь на то, что не выдержит этой боли и умрет — не сегодня, так завтра!
Нижний Новгород, наши дни
Алёна так и ахнула. Вот тебе и образ беспристрастного иностранца! Он треснул по всем швам! А еще Алекс, помнится, упоминал, что всю жизнь работал в разведке. Ничего себе! Да с таким напарником подстрелят, едва выберешься из окопа.
Столетов отпрянул:
— Какие у вас есть основания… у нас проверенная экспозиция, у нас… Что вы такое говорите?! И почему вы говорите по-русски? Вы что, не интурист?
— Успокойтесь, я в самом деле прибыл из Дрездена, — махнул на него рукой Алекс. — Но летом сорок второго года я некоторое время служил в Мезенске в составе интендантской службы. Я был близко знаком с девушкой, носившей фамилию Петропавловская. Это не она. — Он показал на нежное треугольное личико с большими беззащитными глазами.
— Как не она?! — возопил Столетов. — Да вы только поглядите, вот же ее детские фотографии! Там же сказано, кто она! Как — не Петропавловская?!
— Нет, я ничего не говорю, очень может быть, что она и в самом деле была в Мезенске и даже, — Алекс Вернер недоверчиво хмыкнул, — имела отношение к священнику Игнатию Петропавловскому, я не раз ее видел рядом с ним и вот с этим молодым человеком. — Он ткнул пальцем в лицо Петра Мазуренко, и Алёна вдруг поняла, что Алекс когда-то ревновал Петра к той, другой Лизе. — Не стану отрицать — она называлась фамилией Петропавловская, у нее был аусвайс на эту фамилию, я сам помогал ей получить его. Но это совершенно другая женщина. Вот она. — Он вынул из внутреннего кармана плотный конверт и достал оттуда снимок. — И это именно она взорвала Мезенский мост, погибнув при этом вместе со священником и Петром… нет, сколько я помню, его называли не Петр, а Петрусь, да, вот именно, Петрусь. — И в голосе его снова зазвучали нотки ревности, не расслышать которых мог только глухой, а потому и Алёна, и Столетов сначала посмотрели на Алекса и лишь потом на фотографию, которую он держал в руках.
Это была не копия, а именно очень старый снимок, но он был покрыт ламинатом. Ну разумеется, за столько лет… десятков лет! — снимок превратился бы в труху, если бы Алекс носил его с собой.
В самом деле, совсем другое лицо! Кудряшки вокруг лба, четкий очерк губ, крепкий, круглый подбородок. Глаза тоже большие, но форма и выражение совсем другие, чем у Лизы Петропавловской-Григорьевой. Красивая девушка. Слов нет, очень красивая и вовсе даже не томно-печальная, как та, первая Лиза, но все-таки что-то трагическое, обреченное видно в линии губ, в прищуре глаз. Или это просто кажется потому, что известно: она погибла, погибла трагически… или героически, ну, это можно трактовать как угодно.
— Это она? — тихо спросила Алёна, и только Алекс Вернер понял, что в свой вопрос она вложила смысл куда более глубокий, чем простое уточнение, та ли это женщина, которую он называл Елизаветой Ховриной. Алёна спросила, та ли это женщина, которую он любил более полувека, ради которой проехал пол-Европы, — и Алекс молча кивнул.
— Да, я понимаю, — проговорила Алёна, остро завидуя этой любви и вспоминая, как Алекс говорил, что она похожа на Лизу. Интересно чем? Да не важно.
— Этого портрета, — сердито сказал Столетов, перебегая глазами с фотографии на лица Алекса и Алёны, — в нашей экспозиции нет, так что…
В это мгновение у него в кармане зазвонил мобильный, и лицо его приняло обеспокоенное выражение, какое Алёна не раз подмечала у людей, так сказать, старшего поколения, для которых каждый вызов по телефону вообще, а по мобильному в частности — это настоящий стресс.
— Алло? — вынул он весьма убогую «Моторолу». — Это… что? — Он растерянно хлопнул глазами. — К телефону? А кто?.. А, понятно, да. — Он покраснел и отвернулся от Алёны и Алекса.
«Может, ему любовница звонит?» — подумала вдруг наша героиня, у которой было весьма своеобразное чувство юмора…
— А что я скажу, почему не… — заикался Столетов. — А, понятно, не прохо… да, понятно. А он, а… Да, понятно. Да, хорошо.
Он отключил звонок и посмотрел на Алёну:
— Вас к телефону просят.
— К какому еще телефону? — изумилась она, вытаскивая из кармана мобильный. Никаких неотвеченных вывозов на дисплее обозначено не было.
— У нас тут звонки иногда не проходят, особенно если из верхней части города звонить, — пояснил Столетов.
Алёна извинилась перед Алексом и шагнула было к двери, как вдруг сообразила:
— Стойте-ка! А кто меня спрашивал? И как?
— Ну я же не говорил по телефону, — пожал плечами Столетов. — Мне передали, что просят переводчицу туриста, который сейчас в музее. Я вам сказал, вы же переводчица. Телефон в комнате хранителей, это сразу как выйдете из зала — налево.
Ну, если просят переводчицу… это только Катя может звонить, догадалась Алёна. Что ж такое срочное случилось, что понадобилось позвонить? Видимо, правду говорит Столетов, звонки на мобильный здесь не проходят — такое бывает.
— Алекс, я сейчас вернусь, наверное, это Катя, — сказала она по-французски. — Что-то срочное, наверное… две минуты, хорошо?
Он рассеянно кивнул, переводя взгляд с одной Лизы на другую.
Алёна выскочила из зала и огляделась. Ну, где тут эта комната хранительниц? Налево, сказал директор. Левая рука — это та, где часы. Алёна, если правду сказать, с понятием право-лево путалась до смешного. Чтобы не уподобляться герою истории про сено-солому, различала руки и стороны по часам и обручальному кольцу. Потом, когда оное кольцо исчезло из ее жизни, ориентировалась только на часы. Конечно, это неудобно, но что делать, если колец она не любит? Разве что браслет завести, а почему бы и нет? С чего она взяла вообще, что браслеты — не ее стиль и не идут ей?
Что-то ее заклинило на этих браслетах… Думая о них, Алёна постучала в дверь и вошла. Комната была узкая и длинная, как пенал. В конце, у окна, стояли два стола. Здесь тоже сильно пахло сиренью, потому что на одном из столов стояла большая ваза с букетом. За столом сидел какой-то мужчина. Солнце било в глаза Алёне, и она видела только темный силуэт.
— Извините, — сказала она, удивляясь, что хранителем музея работает мужчина. Хотя, с другой стороны, если здесь мужчина директор, почему не быть и мужчине хранителю? — Извините, меня тут к телефону вашему позвали…
И озадаченно примолкла, увидев, что трубка лежит на аппарате. Неужели Катя уже отсоединилась?
— Проходите, Елена Дмитриевна, — сказал мужчина, вставая со стула. — Проходите, мне нужно с вами поговорить.
Алёна замерла, уставившись на него.
— Вижу, вы меня узнали, — проговорил он с усмешкой. — Или все еще не верите своим глазам? Тогда вам, наверное, лучше снять очки. Нет, правда. Зачем они вам? Только зрение портить!
Алёна растерянно потянула с носа очки. За спиной послышался звук открываемой двери. Словно холодом повеяло оттуда… Алёна обернулась — сзади стояла Рая Абрамова.
Отчего-то вдруг вспомнилось, как Варенуха и Гелла «обложили» Римского в его кабинете в одну страшную полночь…
— А я тебя по сумке узнала! — с торжеством сказала Рая. — Помнишь, тебя Нина Ивановна спрашивала, где ты такую сумку оторвала, а ты сказала, что в Париже и что тут ни у кого такой нет. Что ж ты вся замаскировалась, как Штирлиц, а сумку старую оставила? Вот и прокололась!
И Рая захохотала, довольная до изнеможения.
Смотреть на нее было противно, а потому Алёна, скрипнув зубами, отбросила сумку-предательницу (и в голову не пришло ее заменить, а ведь сумок в ее доме — не перечесть!) за спину и повернулась к мужчине, который с любопытством наблюдал эту дамскую мизансцену. Это был тот самый молодой человек, который два дня назад усаживал в серый «Ниссан» Катю и Таню.
Да, тот самый, черноглазый…
Мезенск, 1942
Она ждала час и два, ждала каждую минуту, сотрясаясь в ознобе, который никак не могла унять. То ли мерзла, то ли от страха дрожала. Зачем, зачем она от фрау Эммы пошла сюда?! Надо было бежать со всех ног, словно дикому зверю, который сорвался с привязи. Нет, она потащилась за обрывком веревки, который так долго сдавливал ей шею! Ради Петруся вернулась, а он…
А он не шел. Ну что ж, Лиза видела его лицо, видела его глаза, когда Баскаков бросился к ней, принялся обнимать, впился в ее губы, целовал, бормоча:
— Лиза, ну наконец-то! Я думал, ты погибла! Товарищи, простите, это моя… Ну, словом, любовь у нас! Разлучила война, я думал, все, потерял ее, а тут… Лиза!
Фальшивка, фальшивка! Как же она успела возненавидеть эту фальшивку за то недолгое время, что была знакома с Баскаковым! Как же возненавидела это его умение видеть мир таким, как ему хочется, а не таким, какой он был на самом деле! Тошнота подкатила к горлу. Как-то раз во время вот такого же припадка тошноты и ненависти к нему она убежала из лесного дома в чем была. И сейчас готова была точно так же, очертя голову, кинуться невесть куда, но к двери не прорваться было — Баскаков надежно загораживал дорогу. Она даже сказать ничего не смогла: один только раз взглянула на Петруся, увидела его глаза — и вырвалась из рук Баскакова, оттолкнула его, кинулась в свою комнату, оставив позади мертвое молчание. Потом, не слишком скоро, раздалось гудение голосов, но Лиза была почти уверена, что говорят не о ней — говорят о каких-то своих партизанско-подпольных делах, к которым она не имела и не желала иметь отношение. Она лежала на кровати — сначала поверх покрывала, потом, начав замерзать, стащила платье и перебралась под одеяло, подоткнула его со всех сторон, сжалась в комок, но продолжала трястись от злости, от страха, от боли, от ненависти к себе: почему опять не вылезла в окно и не убежала вон?! Решила оправдаться перед Петрусем? Да нужны ли ему ее оправдания?! И разве она в чем-то перед ним виновата?
И все же чувствовала себя виновной, несмотря ни на что, виновной и несчастной из-за того, что Петрусь не приходил, чтобы спросить с нее эти оправдания…
За одно можно было благодарить судьбу: Баскаков тоже не приходил. То ли дошло до него что-то, то ли, и это вернее, был слишком увлечен, обсуждая со стариком новые планы того, как поджечь землю под ногами проклятых оккупантов. Человеческими телами и судьбами, само собой!
Бледный свет назойливо пробивался из окна к глазам Лизы. Значит, было уже около четырех утра: начало рассветать. Наверное, он уже не придет. Можно было бы уйти теперь, но до шести утра комендантский час. Часик подремать, потом собраться потихоньку — и все, больше ее здесь не увидят. Черт с ними, с деньгами, вещами, авось не пропадет!
И тут Лиза вспомнила, что забыла саквояж в той комнате. А в саквояже документы! Да провались оно все пропадом!
Она всхлипнула от злости на себя и на судьбу, которая все время подставляла ей ножку, как вдруг какая-то тень мелькнула перед ее крепко зажмуренными глазами. И в то же время рука — его рука! — коснулась ее плеча. Не открывая глаз, она узнала его и вся рванулась навстречу, вся раскрылась его рукам и губам.
— Мне хочется убить его, — сказал Петрусь некоторое время спустя, когда они лежали, утомленные любовью и пресыщенные счастьем, которое рухнуло на них так внезапно и так болезненно. — Я даже не пойму, отчего сильнее ненавижу его: оттого, что ты любила его, или оттого, что он олицетворяет собой весь прошлый советский мир, который разрушал и уничтожал все, что я привык любить, за что молился и чем жил.
— Я не любила его! — возмутилась Лиза — не слишком, впрочем, сильно, потому что вот наконец-то выпала ей возможность оправдаться! — Я его ненавидела. Я убежала от него в одном купальнике.
— В чем?! — изумленно приподнялся он на локте.
— В купальнике, — мрачно усмехнувшись, повторила Лиза. — Помнишь, когда ты вывернул вещи из саквояжа, оттуда выпал мой мокрый купальник и ты на него так удивленно поглядел? Черный такой?
— Помню, конечно. И что?
— Да то. Я сделала вид, что пошла купаться. Там, около лесного дома, где я жила, было озерко. Туда я ходила купаться. В халатике и тапочках. Это мне разрешалось: ну кому бы в голову взбрело убегать в лес в халате, купальнике и тапках?! Но мне ничего другого просто не оставалось, понимаешь? Я ненавидела Баскакова, который принуждал меня… понимаешь? Они с Фомичевым разыграли меня, как вещь, как Ларису Огудалову разыграли Кнуров и Вожеватов. Помнишь, в кино «Бесприданница»?
— Как в пьесе Островского? — уточнил Петрусь. — Помню. Но почему?.. И кто такой Фомичев?!
— Фомичев был хозяином того дома… Сначала Регина, потом Фомичев, потом Баскаков…
— А Регина-то кто такая? — совсем запутавшись, спросил Петрусь.
— Ну послушай, я расскажу все с начала, — устало вздохнула Лиза и снова вздохнула — потому что не представляла, как уместит все случившееся с ней в коротком рассказе.
Но пришлось попытаться…
— Мы с мамой жили в Горьком. Она была знаменитая портниха, такая знаменитая, что от клиенток отбою не было, даже из Москвы приезжали. Мы очень хорошо жили, все было, ни в каких очередях никогда не стояли… Потом она умерла. У нее были почки больные. Ну и во время одного из приступов отказало сердце. Я училась в педагогическом институте, жила на то, что продавала вещи. Очень трудно стало потом, когда все продала. Работать в школе никогда не хотела, но что делать! Тоска меня брала просто страшная! И вот перед самой войной одна подруга, Регина Самойленко, позвала меня поехать с ней в Киев, в гости к ее родным. Она ко мне очень хорошо относилась, ну очень, я думала, по дружбе, а оказалось, она в меня была влюблена.
— Как так? — растерянно спросил Петрусь.
— Да так, — хмыкнула Лиза. — Оказывается, у женщин это бывает, и у мужчин тоже. Влюбляются друг в друга — ну, между собой.
— Про мужчин я знаю, у нас два таких были во Львове… — буркнул Петрусь. — Жуткая картина…
— Да уж. И вот в Киеве она мне призналась, так сказать, в любви. Я от нее бегом убежала и тут же взяла билеты на поезд — домой ехать. И на другой день — война! И наш поезд разбомбили. Я не могу даже вспомнить об этом, сразу слезы… — У нее перехватило горло. — Ужасно было! Я выскочила с чемоданчиком, он раскрылся, я, как дура, пытаюсь в него вещи запихать, а кругом — боже мой, это ад! Вдруг какой-то мужчина схватил меня за руку — бежим! И мы побежали, не знаю куда, подальше от поезда, от бомбежки. В лес. И я этот чемоданчик с остатками вещей тащила. На самом деле там остались только халатик, купальник и тапки. Смех. Сумка с документами пропала, все пропало. А я эти глупые вещи тащу… Фамилия этого человека была Фомичев. Оказывается, он жил в деревне… то есть не то что в деревне, а в лесу даже, очень уединенно, в домике на берегу озера. И от того места, где поезд разбомбили, туда было километров пятьдесят. Мы их прошли за три дня. Он меня привел к себе, я совсем больная была. Как сумасшедшая. Столько страшного повидала… Когда мы пришли, со мной что-то сделалось от усталости и потрясения — ноги отнялись, левая рука не двигалась. Фомичев меня лечил, спасибо ему огромное. Мы жили одни посреди огромного леса. У него были огромные припасы продуктов, у Фомичева. Иногда только до деревни ходил — узнать, как дела. На самом деле это не столь далеко было от Мезенска, километров пятнадцать. Но кругом озера и болота, надо тропки знать. Немцы туда не совались. Боялись болот, которые даже зимой не промерзали почему-то… Полгода я почти не вставала с постели, потом Фомичев начал меня в бане парить и хлестать можжевеловыми и еловыми вениками. И это помогло, как массаж подей-ствовало, что ли. Мне стало лучше. И вот когда я уже начала ходить, он ко мне пристал.
— Как пристал? — со странной интонацией спросил Петрусь.
— Как банный лист, — попыталась улыбнуться Лиза. — Невозможно, как пристал! Хотел со мной спать. Я была ему благодарна, что жизнь спас, что выходил меня, но он был мне противен до невыносимости. Он пожилой уже, но даже не в этом дело! Противно, и всё. А потом пришел Баскаков. Оказывается, в этих местах уже начал действовать партизанский отряд, Баскаков там был то ли комиссаром, то ли разведчиком. Он знал Фомичева по довоенным временам и хотел устроить для своего отряда перевалочную базу в его доме. Но когда увидел меня, он… — У нее снова сел голос, и понадобилось время, чтобы она смогла говорить. — Они с Фомичевым договорились, что тот отдаст ему меня, а Баскаков не станет приводить в дом своих партизан, которые, конечно, все продукты подъели бы, да и вообще — по их следу рано или поздно фашисты пришли бы, а Фомичев хотел отсидеться среди своих болот до конца войны. Ему все равно было, кто победит, он просто хотел выжить, понимаешь?
— Понимаю, — неуверенно проговорил Петрусь. — Я только одного понять не могу, что это значит: Фомичев тебя Баскакову отдал?
— Не понимаешь, правда? — недобро глянула на него Лиза. — А что тут непонятного, скажи? По-моему, как раз все очень даже ясно. Я не хотела, мне никто из них не был нужен. Они меня напоили, чтоб не дергалась, и Баскаков меня изнасиловал. Это было со мной в первый раз — ну, с мужчиной. И я подумала, что так и должно быть. Потом я уже не сопротивлялась, это было… ну, терпимо. Я подумала: наверное, моя такая судьба, и это всяко лучше, чем Фомичев. И вот прошла зима, весна, лето близилось, а немцы по лесам все смелей шныряли, и стало ясно, что они скоро доберутся и до домика Фомичева, и до отряда. Баскаков — он не трус, он такой же фанатик, как отец Игнатий, понимаешь? Он красный, он советский, он патриот, он, наверное, человек отважный и смелый, он ради победы ничего не пожалел бы, ни свою жизнь, ни мою. И вот запало ему в голову, что я должна пробраться в город и там начать работать на партизан. Говорил, что здесь есть подпольщики, среди них есть и женщины… Я так понимаю, он вас имел в виду, Лизочку, наверное, он тоже знал.
— Конечно. Это была ее связь, Лизочки, — сказал Петрусь. — Мы-то его не знали, только пароль на крайний случай. По этому паролю мы сегодня и поняли, кто к нам пришел. Когда Лизочка перестала на связь с партизанами выходить, они решили, что мы тут все погибли, но узнали про убийство фон Шубенбаха — и поняли, что кто-то в городе действует. И Баскаков сам пошел проверить, остался ли кто-то из нас в живых.
— Понятно, — усмехнулась Лиза. — Алекс Вернер про рекламу говорил, помнишь? А отец Игнатий хотел дать знать партизанам, что подполье осталось. Ну вот все так и вышло.
— Да. Но ты рассказывай, что и как дальше было, — сказал Петрусь.
— А что рассказывать? — передернула она плечами. — Я не героиня, это я тебе точно говорю. Я ненавижу фашистов, но и к советской власти, знаешь, спокойно отношусь. Мне все равно, есть она или нет. Мама рассказывала, как было раньше, до Советов. Спокойная буржуазная страна — вот чего бы я хотела для России. Но это не ее судьба… Ладно, пусть будут Советы — но только мирные. Мирные! Я боялась войны! Я не хотела сражаться в партизанах, в подполье, где угодно. Я хотела вернуться в тыл. Я сказала об этом Баскакову. Он засмеялся и ответил, что для этого надо перейти линию фронта — всего-навсего. Показал на карте, где она находится. Рассказал, как до нее дойти. Добраться до Мезенска и пересечь мост через Святугу. Дальше идти от села к селу… Если повезет, можно дойти.
— Ты что, всерьез?! — почти с ужасом спросил Петрусь. — Всерьез весь этот цирк?!
— Ну да, а что? — глянула на него Лиза. В комнате становилось все светлей, и она отчетливо видела слабую насмешку в уголках его губ. Глаза его темно, странно мерцали, и она вдруг подумала, что такие глаза, наверное, должны быть у ангела смерти. Прекрасные, нечеловеческие глаза. Глаза человека, который не создан для счастья и долго не проживет…
О нет, глупости! Пусть он живет долго, пусть сводит с ума женщин, как свел ее, пусть занимается своей химией, ну а если ему все же суждено погибнуть, пусть они погибнут вместе с Лизой, пусть свет его глаз будет последним светом, который она увидит!
— Да если бы это было так просто, тут, в тылу у немцев, никого бы не осталось, наверное. Все бы ушли от войны. Хотя, — тут же осадил Петрусь сам себя, — хотя не знаю. Я бы не ушел. Может, это и не цирк… женщина там пройти может, где мужчина на первом же шаге убит будет. Лизочка ведь перешла же фронт, правда, с той стороны, по заданию советского командования. Почему не пройти обратно?..
— Ну вот видишь! — обрадовалась Лиза. — И мне это запало в голову. А Баскаков начал меня стыдить. Боже, сколько всякой фальшивой мути он вылил на мою голову! Он почему-то думал, что на меня подействуют всякие красивые слова насчет того, что я должна непременно погибнуть во имя победы нашей советской родины. Я говорю: ну вот ты сам и погибни! Обвяжись гранатами и иди на танки. Или с взрывчаткой — на какой-нибудь мост или, я не знаю, на военный объект. Но меня не трогай. Я женщина, я жить хочу. А он снова и снова про долг, про родину, про все такое. Мы страшно поругались, когда я ему однажды сказала, что ради той России, о которой мне мама рассказывала, я бы, может быть, и могла бы пожертвовать жизнью, но только не ради Советов. Я думала, он меня убьет от злости! А потом начал тянуть меня в постель. И я сказала, что сначала пойду искупаюсь. И пошла к озеру. А от озера кинулась в сторону той тропы, которая вела в город. Но я заблудилась, я по берегу слишком большой крюк сделала и вышла из лесу как раз напротив пляжа, где в тот день купались немцы. Я их увидела… а я в лесу уже почти целый день блуждала. Устала и уже поняла, что в халате и тапках, без еды далеко не уйду. Мне нужны были одежда, обувь, документы. Я долго из кустов присматривалась к людям, потом подумала, что мне нужно перебраться к купающимся и украсть чьи-то вещи. Мне казалось, это будет нетрудно. Наверное, я тебе очень наивной кажусь, но, знаешь, меня эти двое, Фомичев и Баскаков, просто с ума свели. Я их так ненавидела, что мне вообще все равно было, только бы от них избавиться, только бы к ним не возвращаться. Я боялась, что если еще останусь на той стороне, то они меня найдут и снова приволокут в лесной домик. И я решилась. Сначала все было хорошо. Я тихо-тихо спустилась к воде — и поплыла к пляжу, иногда ныряя. Я хорошо плаваю, под водой тоже могу. Но то ли я перенервничала, то ли что, но уже около пляжа у меня вдруг ногу свело. Я только крикнула от боли — и начала тонуть. Меня спасли Шубенбах и Вернер. А потом прилетел самолет, начался обстрел, я увидела умирающую Лизочку… Ну и дальше ты знаешь.
Он молчал.
— Роман какой-то, — пробормотал спустя некоторое время. — Честное слово, роман!
— Ты что, мне не веришь?! — испугалась Лиза.
— Да почему же? Верю. Я за войну такого навидался, столько узнал о людях… всякое бывает. Я тебе верю, конечно! Сволочь Баскаков… убил бы его! Но что же теперь делать?
— Давай уйдем! Давай уйдем, пока они еще спят! — горячо схватила его Лиза за руки. — Прямо вот сейчас вылезем в окно и пойдем к мосту. Мы вместе перейдем, ты меня будешь как будто конвоировать. Нас никто не остановит. А если остановят, ты скажешь… я не знаю, мы что-нибудь придумаем! Главное, перейти мост! Правда, у нас денег нет…
— Деньги ерунда, — отмахнулся Петрусь. — Здесь хранятся кое-какие вещи из вещей, которые были заложены в ломбарде, да так и не выкуплены. Медальон — помнишь? Я его тебе отдам, и еще кое-какие мелочи.
— Ты что? — уставилась на него Лиза. — Отец Игнатий ничего мне не даст, ты что — украдешь? Ради меня?
— Ну, — буркнул Петрусь. — Ради тебя. Я хочу, чтобы ты ушла, чтобы спаслась, а без денег пропадешь. И не будем больше об этом говорить. Сейчас немцы перерегистрацию сельских жителей затеяли. Что-то вроде переписи. Они же порядок любят, у них все по ранжиру, статистика — это для них главное! Ну и наши полицейские водят по селам статистиков, охраняют их. Я могу сказать, что ты такой статистик. У них повязки на рукавах и папки черные клеенчатые… я смогу это раздобыть, у меня знакомый работает в статистическом отделе гебитскомиссариата. Только на это время нужно, хотя бы до полудня.
— Нет, мы сейчас должны уйти! — так и тряхнула его Лиза. — Сейчас, сию же минуту! Иначе они нас прикончат, они нас не выпустят! Они придумают что-нибудь такое же кошмарное, как взрыв «Розовой розы»… Захотят, чтобы мы твоими кислотными минами подорвали мост, или склады, или…
— Они хотят, чтобы мы подорвали мост, — угрюмо сказал Петрусь. — Но ты не бойся. Все это не так просто. Я уже не говорю о том, что кислотные мины тут не помогут. Их нужно где-то оставить, спрятать где-то, потому что никто не может точно сказать, когда кислота оболочку проест и прольется на взрывчатку. Если людям слишком долго носить готовые кислотные мины, они взорвутся, причем даже знать не будут, как и когда это произойдет. Нет, Баскаков хочет, чтобы мы с тобой мост как следует оглядели и прикинули, есть ли возможность туда принести — и куда именно! — большое количество взрывчатки. Причем где-то посредине моста ее нужно спрятать, понимаешь?
— Почему вдруг? Что им этот мост так понадобился? — прошептала Лиза — не потому, что боялась, будто их кто-то подслушает, просто известие оказалось таким поразительным, что у нее даже голос сел.
— Да все очень просто. Позавчера в ста километрах отсюда был взорван еще один мост — железнодорожный. Партизаны хотели пустить под откос эшелон с боеприпасами, однако взрыв произошел чуть раньше, мост рухнул буквально за пять минут до того, как на него въехал эшелон. Тот успел остановиться. Железнодорожный путь восстановить пока не удалось, однако чуть ниже по течению гитлеровцы навели понтонную переправу, перегнали туда колонну грузовиков, перегрузили боеприпасы на грузовики — и они сейчас идут в Мезенск. Здесь они будут когда, неизвестно, завтра, кажется. Баскаков не говорил точно. К этому времени мы должны осмотреть мост и решить, где именно нужно заложить взрывчатку.
— А как ее потом взорвать? — спросила Лиза. — Про кислотные мины мы уже говорили…
— В этом я не силен, — пожал плечами Петрусь. — Баскаков опытный подрывник. Это его забота. А моя — добыть документы для перехода моста. Мы с ним должны сегодня в полдень пройти там — я его буду сопровождать как статистика. Но я потребую, чтобы мы взяли тебя с собой. Я раздобуду справку и для тебя. Ты перейдешь мост — и отправишься дальше. Я не позволю Баскакову тебе помешать!
— Погоди, — непонимающе повернулась к нему Лиза, — а ты?! Разве ты не пойдешь со мной?!
— Я не могу дезертировать, — угрюмо ответил Петрусь. — Понимаешь? Я мужчина, я не могу!
— Да почему дезертировать, ты что? — пробормотала она в ужасе, хватаясь за него, но понимая, что он выскальзывает — не то что из рук ее, нет, но из ее жизни. — Там, за линией фронта, ты можешь в армию пойти, ты еще больше пользы принесешь!
— В армию меня не возьмут, — покачал головой Петрусь. — К стенке поставят, что да, то да. Женщине затеряться проще… Кроме того, я не хочу воевать за Советы. Я за Россию — тут. За Советы — там. Понимаешь? Вижу, что нет… Короче, я решил: помогу тебе спастись, но сам останусь.
— То есть я для тебя вообще ничего не значу, так, что ли? — пробормотала Лиза, не слыша себя, не понимая, что говорит. — Ты не любишь меня, если хочешь остаться!
— Я могу сказать, что ты не любишь меня, если хочешь уйти без меня, — буркнул Петрусь. — Но это все пустые разговоры.
— Я ухожу, потому что хочу жить! — с рыданием выговорила Лиза.
— Как будто я не хочу, — угрюмо ответил Петрусь. — Но говорю же — это пустое! Хватит. Поспи хоть немного, уже рассвет.
Лиза закрыла глаза. Слезы сначала копились под сомкнутыми ресницами, потом пролились на щеки, сбежали к ушам, мочили волосы, подушку. Она старалась не всхлипывать, как вдруг Петрусь обнял ее, прижал к себе:
— Не разрывай мне сердце. Если бы я мог заплакать!
И вдруг оттолкнул ее, вскочил, кинулся к двери, распахнул.
— Показалось, там кто-то стоит. Показалось…
Он стоял над Лизой, глядя на нее сверху. Потом потянул с нее одеяло:
— Пусти меня к себе. Попрощаемся. Что бы ни случилось с нами, может, не увидимся никогда, век буду Господа благодарить, что ты есть у меня… что ты у меня была!
Нижний Новгород, наши дни
— Привет, — сказал этот тип, — ну так что?
— А что? — вызывающе спросила Алёна.
— Вы-то зачем во все это ввязались?
— Случайно, — ответила она, усмехнувшись, потому что это была чистая правда. — Слушайте, спорим, я знаю, как ваша фамилия?
— Ну?
— Григорьев.
— А вот и нет, — злорадно сказал черноглазый. — Но вы все равно почти угадали. Моя-то фамилия — Карнаков, Эдик Карнаков, а вот жена моя — Григорьева.
— Ясно, — кивнула Алёна, — вы потомки Валентина Григорьева, брата Елизаветы.
— Моя жена — его внучка, дочь его сына, — уточнил Эдик Карнаков. — А вообще все это отношения к делу не имеет.
— Да отчего же? — удивилась Алёна. — Конечно, имеет. В этом все и дело, по-моему. Одного не могу понять, неужели вы всерьез всю эту историю с похищением журналисток затевали?
— Да попугать мы их хотели, — с досадой ответил Эдик. — Попугать, не более того. Так и так мы их отпустили бы, а тут вы влезли. Ну зачем?! Ваше какое дело вообще?
— Я влезла? — удивилась Алёна. — А за каким чертом ваш этот Москвич влез в мою квартиру?
Эдик Карнаков скривился, как от зубной боли.
— Господи боже, ну какой черт вас принес тогда на площадь Горького? — чуть не взвыл он. — Какого черта вы такая глазастая оказались? И какого черта палите из газовиков в первого попавшегося человека?!
Как-то слишком много чертей, подумала Алёна и на всякий случай коснулась груди там, где под свитером прятался крестик. Береженого, знаете ли, Бог бережет!
— Вы не ответили на мой вопрос, — напомнила Алёна. — Насчет ночного гостя.
— Он просто приходил вас предупредить о невмешательстве, — изящно выразился Эдик. Он был вообще-то симпатичный парень лет тридцати пяти, и такие витиеватые выражения ему вполне шли.
— Предупредить? — повторила Алёна. — Или попугать?
Эдик пожал плечами:
— Это уж как вышло бы.
Обаятельный парень, даже откровенный цинизм ему к лицу.
— Слишком много суеты, — сказала Алёна. — Слишком много! Слишком все тяжело делалось, грубо, без изящества.
Эдик снова скривился.
— Я что? — сказал он брезгливо. — Всем распоряжается мой тесть. Колька Москвич — его племянник двоюродный, со стороны жены.
— Ну прямо коза ностра! — восхитилась Алёна. — Все по-семейному. Даже террористов и боевиков нашли в своих собственных рядах. Вот как хорошо, и платить никому не надо, всё в дом, всё в дом… Приятно видеть такую трогательную заботу о прославлении памяти своей родственницы. Ваш тесть спонсирует этот музей?
— Ну да, — отозвался Эдик.
— Что ж, неужели это дает ему какие-то дивиденды?
— Он человек старой закалки, хоть и удачливый предприниматель, — пояснил Эдик. — Для него громкое имя и слава Елизаветы Петропавловской, его тетушки, важнее денег. И он не намерен никому позволить эту славу опорочить.
— Правда?! — восхитилась Алёна. — Так все эти криминальные… ну ладно делать оскорбленное лицо, давайте называть вещи своими именами! — криминальные разборки нужны исключительно для поддержания своего громкого имени и славы тетушки Лизы?
— Ну да…
— А как насчет переименования улицы Школьной в улицу имени Елизаветы Петропавловской? — как бы между прочим спросила Алёна.
Эдик несколько дернулся:
— А вы откуда знаете?!
— Если это секретная информация, вам следовало бы постараться, чтобы она не попала в Интернет. На сайте этого замечательного музея я вчера вечером нашла и фамилии меценатов, и историю семьи Григорьевых, и то, что ваш тесть, Игнатий Валентинович, ратует за переименование Школьной в улицу имени его тетки и уже практически заручился поддержкой депутатов… Да и еще кое-что там обнаружилось, — пробормотала Алёна с самым невинным видом.
— Что еще? — насторожился Эдик Карнаков.
— Да насчет этой застройки.
— Ка?.. — хотел спросить Эдик, но подавился.
— Ну, той самой, застройки всей этой старой улицы новыми домами. Снос старого фонда, полный комплекс строительных работ, гаражи, автостоянки, инфраструктура… Все это муниципальная затея, но подряд может получить, если не ошибаюсь, компания «ГригорьевСам»? И получит, факт, потому что у Игнатия Валентиновича поддержка в городской думе и давняя дружба с мэром. А если еще и улица будет переименована в честь Лизы Петропавловской, то это сулит громадные дивиденды, как материальные, так и моральные. У Игнатия Валентиновича есть шанс войти в историю города. Честолюбие для меня, к примеру, ничто, тщеславие — тоже пустота, но для мужчины… для удачливого бизнесмена, который уже начал задумываться о посмертной славе… ну что ж, я готова понять, что ради этого на многое можно пойти. Кроме того, я смею предположить, что на обеспечение той самой поддержки в городской думе тоже были затрачены немалые… силы, скажем так, и это все может ухнуть, если «Карьеристу» удастся доказать, что вовсе не Лиза Петропавловская взорвала тот знаменитый мост. Конечно, она была партизанка, подпольщица, честь ей и хвала прежде всего за это, однако именно взрыв того моста существенно ослабил позиции мезенского гарнизона, что дало возможность партизанам провести несколько серьезных диверсионных операций, и, очень может статься, сыграл весомую роль в событиях 42-го года. Ведь через Мезенск должны были идти танки на Курск. А им приходилось двигаться в обход… Об этом упоминается в мемуарах некоторых деятелей войны, не часто, но упоминается. Я ночь в Интернете провела, подковалась, так сказать, теоретически. На весах войны даже малая малость была весома. И если сейчас начнутся разборки вокруг имени Лизы Петропавловской… начнется выяснение, да был ли мальчик-то, вернее, девочка… да еще если за дело возьмется такая амбициозная газета, как «Карьерист»… позиции «ГригорьевСам» изрядно ослабеют. Мэр не захочет связываться с «Карьеристом» после того, как эта газета так крепко стукнула по его заводику по изготовлению брусчатки и некоторым мерам, которые наш мэр принимает… для расширения производства на этом заводике.
— Ну и что? — наконец обрел дар речи Эдик, но голос его звучал преуныло.
— Да ничего, — пожала плечами Алёна. — Только вы не учли, что все эти ваши игры на поверхности лежали. Выводы из ваших телодвижений можно было сделать самые очевидные.
— Да если бы вы не ввязались в это дело, никто ничего и не понял бы! Девчонок мы пугали вообще, абстрактно, не говоря, о чем именно нужно молчать. Мы надеялись, что они просто испугаются, с работы уйдут. Девчонки же, им страшно было, я же знаю… Так нет же, понадобилось вам влезть! Расследование затеяли! И Муравьеву звонить начали, и…
— А кстати, кто у вас там прямой доступ к звонкам Муравьева имеет, интересно? — перебила Алёна. — Вообще, как я посмотрю, в полиции у вас многое схвачено! Раю науськали заявление написать — насчет хранения газового оружия…
— Никто меня не науськивал, что я, собака цепная?! — так и взвилась Рая за спиной. — Я сама слышала выстрел и чуяла запах.
— Чуяла запах? — повторила Алёна, обернувшись. — Обычно этот глагол употребляют как раз в применении к собакам… А вы ничего чуять не могли. Вы на даче были. Я вас утром видела с сиренью, как вы возвращались с электрички. Так что не науськали вас, а вы дали себя науськать, но я вас не виню, вы за музей душу положите… я видела сирень в залах, да и вон целый пук стоит. — Она кивнула на вазу, в которой роскошно раскинулась сирень.
Рая вылетела из комнаты.
«Застеснялась, что ли?» — озадачилась Алёна.
— Итак, — снова обернулась она к Эдику Карнакову, — с Раей мы разобрались. Заявление заявлением, но ведь служебное рвение лейтенанта Скобликова еще надо было обеспечить! Подумаешь, газовое оружие, это ж не хранение наркотиков, чтобы бригада наркоконтроля немедленно с места срывалась! А тут получилось, что Рая написала заявление — и через десять минут опергруппа в лице Скобликова и какого-то там юного симпатичного сержанта (таким образом Алёна поблагодарила своего белобрысого доброжелателя) оказалась у меня с попыткой произвести несанкционированный обыск. Понятно, что в прокуратуру бы вы с этим делом не полезли. Да и зачем? Вы тоже просто хотели попугать! Кстати, антр ну суа дит, что означает — между нами говоря, — в Советском райотделе лейтенанта Скобликова нет, я нарочно выясняла. И в Сормовском нет. Он служит в ГАИ, в городской ГАИ… к нему-то и попал запрос о номере серого «Ниссана», верно? Он вас предупредил, что делом заинтересовался Муравьев? Ну и кем он вам приходится, этот лейтенант? Тоже племянник чей-нибудь? Брат, сват?
— Не ваше дело, — буркнул Эдик Карнаков.
Алёна подумала и согласилась. В самом деле — не ее. Да и не важно это.
Вдруг пасмурное чело Эдика осветилось.
— Слушайте, а ведь вы плащик сдали в гардеробную, — вкрадчиво проговорил он. — Что, если мы сейчас вызовем тот самый наркоконтроль, о котором вы говорили. И в кармане вашего плаща найдут пакетик с дурью?
Ого, востер мальчик! Ловит идеи на лету! Далеко пойдет… если полиция не остановит, как говорилось в какой-то старой прибаутке.
— А у вас что, пакетик приготовлен был заранее или вы вообще на всякий крайний случай его с собой имеете? — с невинным видом спросила Алёна. — Для вашей собственной необходимой дозаправки?
— Ехидная вы дамочка, а ведь скандалы не только вы с вашим «Карьеристом» раздувать умеете, не только вы, другие газеты тоже есть! — начал улыбаться Эдик. — Известная писательница, а…
— Ага, — кивнула Алёна, — все же вы признали мою известность! А не далее как позавчера говорили, не знаю, мол, такой!
Она улыбалась самым беззаботным образом. А между тем в том, что он говорил, была своя сермяга. Насчет газет — любительниц скандалов…
— Известная писательница, значит, а по ночам с молодыми любовниками встречаетесь, газовое оружие применяете. Да еще и наркотой балуетесь! — сообщал он Алёне один за другим интересные факты ее биографии. — Представляете, каким дерьмом вас обольют? А? В ваши-то годы — с мальчиками-красавчиками?
— Уверяю вас, Эдик, — холодно сказала Алёна, окидывая его взглядом с ног до головы, — что я чрезвычайно разборчива.
Ну да, это она умела! Как влепит иной раз… она это называла — поставить человека на место. Вот только Эдик на отведенном ему месте стоять не желал.
Лицо его исказилось ненавистью. Еще бы, всю жизнь считал себя неотразимым, а тут… Нет, они, неотразимые, такого не любят! Вне себя от ненависти, Эдик так и ринулся на Алёну.
Она отпрянула, наткнулась на стул, чуть не упала и, чтобы удержать равновесие, взмахнула сумкой… сумка вылетела из ее рук и шлепнулась на пол. Почему-то она оказалась открытой, и оттуда вылетели и разъехались по кабинету косметичка, кошелек, еще одна косметичка, в которой Алёна держала паспорт и дисконтные карты, а также свои кредитки, расческа, тюбик с кремом для рук (он был большой и не помещался в косметичке), связка ключей, пять гелевых ручек (писательница наша была дама запасливая), оранжевая тетрадка в клетку полиграффирмы «Апельсин», которую Алёна носила вместо блокнота, а также нечто тяжелое, завернутое в пластиковый пакет из магазина «Спар». Это что-то, прокрутившись на полу, подъехало к ногам Эдика и остановилось. Пакет от удара прорвался, и на свет божий высунулась черная рукоятка пистолета.
Рубчатая, само собой…
Мезенск, 1942
— Лиза! Фрейлейн Лиза!
Голос долетел словно бы издалека. Не вдруг Лиза осознала, что голос этот ей знаком.
— Черт бы тебя подрал, — тихо, но со звенящей ненавистью проговорил Петрусь. — Да ведь это Вернер!
А ведь и правда… Лиза повернула голову и с недоумением уставилась на Алекса, выскочившего из открытого автомобиля и махавшего ей портфелем, который держал в руках. У него был усталый вид, но улыбался он широко и радостно.
— Какая счастливая встреча! — Сунув портфель в открытую дверцу машины, он схватил Лизу за руку и поцеловал ее дрожащие пальцы. — Вы что это так дрожите? Неужели я так взволновал вас своим пылом? Или перепугал своим внезапным появлением?
Он снова захохотал. Лиза молчала, глядя на него и изо всех сил стараясь принять менее затравленный вид. Надо улыбнуться. Надо изо всех сил заставить себя улыбнуться!
Но что-то плоховато получалось… Еще хуже было с радостными восклицаниями, которых, конечно, ждал от нее Вернер. Она не могла издать ни звука! А впрочем, он был так воодушевлен встречей, что, такое ощущение, мог разговаривать сам с собой, токовать, словно тетерев!
— У меня огромная радость! — воскликнул Алекс. — Я вызван в Берлин. И не в командировку — меня туда переводят. Конечно, постарался папенька. На него такое впечатление произвела гибель Вальтера фон Шубенбаха, которого он отлично знал, и Эриха Краузе, о котором был наслышан, что нажал на все педали — и вытребовал любимого сына в Берлин. Я счастлив, что уезжаю из Мезенска, и только…
— Я очень рада за вас, — чувствуя, что ее окаменелое молчание становится просто неприличным, наконец разжала стиснутые челюсти Лиза. — Я вас отлично понимаю. Вернуться на родину… Господи, как бы я хотела оказаться сейчас дома, в Горьком!
— В Горьком? — вскинул брови Алекс. — Как странно, а я-то думал, что вы из Москвы. Горький — это ведь какая-то деревня, наверное?
— Ну вот еще! — Обида помогла Лизе собраться с мыслями, взять себя в руки. — Это большой город, раньше он назывался Нижний Новгород. А знаете, какой там автозавод?! Какие там машины строят? «Эмки» ничем не хуже вашего «Опеля»!
— Как он трогателен, этот ваш патриотизм, — промурлыкал Алекс. — И что, у вас в Горьком родственники?
Внезапно до Лизы дошло еще одно совпадение: а ведь Лизочка Петропавловская тоже из Горького. Об этом говорила фрау Эмма! Честное слово, что-то роковое есть в этих совпадениях, которые принудили Лизу войти в эту чужую жизнь, как в реку. Но скоро она выйдет из этой страшной реки. Скоро она перейдет ее — перейдет вот по этому мосту, на краю которого ее остановил Алекс Вернер! Вот и еще одно совпадение — он встречал Лизу на пороге ее новой, чужой, мезенской жизни — он же провожает ее…
— Да, там у меня родственники, — сказала Лиза. — Там похоронены мои предки, там могила моей мамы, которая умерла пять лет назад, там наш дом на улице Ошарской…
— Когда-нибудь, — проговорил Алекс Вернер таинственным тоном сказочника, — когда кончится война, я возьму и приеду в ваш город Нижний Новгород — это название нравится мне больше, чем Горький. Очень печальное слово…
— Наш город назван так в честь знаменитого русского писателя, — сказала Лиза, цепляясь за любую возможность отвлечь Алекса от неминуемого вопроса о том, что она делает на мосту. — Это его псевдоним — Максим Горький.
— Он сумасшедший! — засмеялся Алекс. — Взять такой псевдоним — это значит заведомо испортить себе жизнь!
Лиза чувствовала взгляд Петруся, который так и обжигал ей спину.
— Алекс, — начала она, снова пытаясь подавить унявшуюся было дрожь, — извините, я была очень рада вас повидать, но мне пора. Поэтому я вам желаю счастливого…
— А интересно, — перебил ее Алекс, устремив взгляд ей за спину и, такое впечатление, только сейчас заметив ее спутников, — а куда это вы собрались всей своей подозрительной и опасной компанией? Может быть, решили спастись бегством из Мезенска? Не стану препятствовать, это было бы самым разумным для всех вас выходом. Шранке и фон Венцлов церемониться не станут.
— Ну… — пробормотала Лиза, пораженная тем, что он угодил почти в десятку, — вообще-то мы о бегстве еще не думали… — Как бы не так, не думали они! — Мы просто хотели отвести моего деда в село, к родственникам. Он очень болен…
— Да, — сказал Алекс, меряя задумчивым взглядом отца Игнатия, — сказать, что он напоминает смертельно больного человека, это значит сделать ему комплимент. Он очень похож на вставшего из гроба покойника. Что с ним? Сердце больное? Ну так ему надо хорошенько беречься, с сердцем шутить нельзя, такого старика любой мало-мальский припадок в два счета в могилу сведет!
Лиза промолчала. Припадок, который случился под утро у отца Игнатия, свел бы в могилу с десяток солдат, а он ничего — отлежался, пока Петрусь бегал в комендатуру, о пропуске хлопотал, — отлежался, да и пошел на своих ногах через мост… Именно он убедил Баскакова в том, что тому идти не стоит — в два счета прицепятся патрули. Баскаков упрямился, говорил, что они не смогут выбрать подходящее место для взрывчатки, но отец Игнатий напомнил, что в лагере он одно время кашеварил для бригады взрывников, которые для новой трассы — БАМа — рвали скалы, чтобы прокладывать железнодорожное полотно. И он разберется, как выбрать подходящие для закладки взрывчатки места на самом обычном мосту!
Но Баскаков все еще упрямился. Тогда отец Игнатий зазвал его в другую комнату, и они о чем-то долго там шептались. Когда вышли, в глазах у отца Игнатия просверкивало мстительное торжество, а Баскаков был угрюм и на Лизу не смотрел. И некое вещее чувство подсказало ей, что Петрусю тогда, на рассвете, не померещилось, что кто-то стоит за дверью: это был старик, он подглядывал, он подслушивал, он услышал их с Петрусем разговоры, он понял, что Лиза решила бежать, а Петрусь ей в этом пособник, — и теперь он открыл их планы Баскакову. Они не могут оставить Лизу и пойти вдвоем — все-таки женщина, при одном взгляде на нее у любого меньше подозрений становится, с ней легче пройти мост. Но вместо Баскакова теперь должен был идти старик. Наскоро придумали новую легенду — про родственников в деревне Гнилька, куда внучка и внучек сопровождают больного деда. Баскаков остался в городе и простился с Лизой так спокойно, что она поняла: он не сомневается, что она вернется, что старик не выпустит ее из своих цепких лап! Все, что она могла сделать, — это наскоро перемолвиться словцом с Петрусем. Он так и побелел, услышав новость, но глаза его были мрачны и решительны.
— Уйдешь, ничего, — прошептал он, украдкой передавая Лизе тряпичный узелок с золотом. Среди серег, колечек отчетливо прощупывался медальон. Она спрятала узелок в лифчик, набросила на плечи шарф, чтобы отец Игнатий не заметил ничего.
У Петруся был решительный вид, но Лиза знала, как ему трудно будет выполнить обещание, если старик, которого он боготворил, начнет требовать своего. Так что настроение у нее и без того было похоронное, а тут еще и Алекс привязался!
— А как же ломбард? — проговорил в это время он.
— Ломбард… продан, — на ходу придумала Лиза. — Там теперь другой хозяин.
— А вы вернетесь в Мезенск? — спросил Алекс.
— Не знаю, — уклончиво ответила Лиза, думая, что лучше утопится или повесится, но в эту проклятую западню больше не сунется. — Как позволит дедушкино здоровье. Да и какая разница, вернусь или нет, мы с вами все равно больше не увидимся, ведь вы уезжаете в Берлин.
— Ах да, — спохватился Алекс. — Я и забыл. Верно, вы правы, мы не увидимся. И это меня очень печалит. Вы меня перебили в ту минуту, когда я хотел сказать, что единственное, что затемняет картину моего безоблачного счастья, — это мысль о неминуемой разлуке с вами. Но вот что, Лиза… Я все равно хотел разыскать вас в Мезенске. Подпишите мне свое фото!
— Вы с ума сошли, какое фото? — слабо улыбнулась она, но так и ахнула, когда Алекс снова сунулся в автомобиль, снова достал свой портфель, раскрыл его и из какой-то толстой тетради в клеенчатой обложке вытащил фотографию… Да боже ты мой, это ведь был тот самый снимок, который был на Лизином аусвайсе, только увеличенный до размера открытки!
Недоверчиво глядя на свое лицо, которое сейчас почему-то казалось чужим, она вспомнила, как Алекс говорил, стоя на крыльце «Rozige rose»: «Интересно, сохранился ли у фотографа, который делал этот прелестный снимок, негатив? Я бы с удовольствием заказал ему еще одно ваше фото. Для себя. Только не такое маленькое, а кабинетного, так сказать, формата. Знаете, с почтовую открытку, вот такого размера. И носил бы его в бумажнике, иногда с гордостью предъявляя своим приятелям. Они рассматривали бы его, завидовали бы мне, восхищались вашим изумительным лицом, делали бы скабрезные намеки, которые я с тонкой улыбочкой игнорировал бы, а потом спрашивали, что написано на обороте снимка. И я с удовольствием переводил бы им вашу дарственную надпись, сделанную, конечно, по-русски: «Моему любимому Алексу — на вечную память. Лиза Пет-ро-пав-лов-ская». Неужели мне удалось выговорить вашу фамилию?! Ну и в конце пусть будет написано — такого-то числа, такого-то года, город Мезенск, бывшая Россия.
Она тогда сказала — вам, мол, фантастику бы писать, а ведь вот оно, фото!
— Как видите, я сдержал обещание, — с торжеством проговорил Алекс. — Я всегда исполняю то, что обещал. Фото сделал, в Нижний Новгород приеду… Я почему-то убежден, что выживу в этой бойне, — ведь империя не может остаться без наследного принца, верно?
Лиза слабо кивнула. Черт его знает, может быть, он и прав, Алекс Вернер, трикотажный принц!
— Так что прошу вас подписать мне снимок так, как я хочу.
Лиза беспокойно оглянулась. Петрусь, как никогда, напомнил ангела смерти, сопровождающего мученика на тот свет. Судя по лицу старика, полному ненависти, путь ему был предписан не в рай, а прямиком в ад…
Но делать нечего, если не исполнить просьбу Алекса, он не отстанет. И, кивнув, Лиза приняла от него тяжеленный «Паркер» с золотым пером. Несколько мгновений подержала, восторженно разглядывая невозможно красивую ручку, и, опираясь на портфель Алекса, который тот держал вместо некоего походного столика, начала писать под его диктовку: «Моему любимому Алексу — на вечную память». Боже мой, какой-то бред, бред, это бред, честное слово, как у Анненского: «Какой тяжелый, темный бред!» Каждое слово Алекса, которое Лиза старательно писала под его диктовку, было издевкой над ней, над Петрусем, над их любовью, такой щемящей, такой обреченной, но она старалась не думать об этом, а писала, покорно, тупо, стараясь закончить быстрей, чтобы он отвязался наконец! Написала имя, фамилию, эту кошмарную последнюю фразу: «Город Мезенск, бывшая Россия», протянула фотографию Алексу:
— Ну вот, все, возьмите. Теперь прощайте!
Одной рукой он схватил снимок, другой удерживал Лизу за запястье. Читал — очень внимательно, как будто проверял, не сделала ли она грамматических ошибок.
— Вы написали по-русски, — сказал удовлетворенно. — Очень хорошо. Только почему вы…
— Что? — почти выкрикнула она, еле владея собой.
— Ничего, — покачал головой Алекс, убирая фотографию. — Ничего. Теперь идите. Только я советую вам поспешить. Вы должны перейти мост как можно скорей, потому что через пятнадцать минут, — он взглянул на часы, — да, именно так, через пятнадцать минут через него пойдет колонна грузовиков с боеприпасами, так что как бы вас не задержали, не отвели на пост. Там могут так прицепиться, что никакой дедушкиной болезнью не отговоритесь.
— Как через пятнадцать? — с ужасом спросила Лиза. — Откуда вы это взяли?!
— Ну, я все же офицер германской армии, — усмехнулся Алекс. — Человек со связями. Меня предупреждали, чтобы я поспешил пересечь мост, ведь если кто-то окажется там во время движения колонны, не оберется неприятностей. Так что спешите. А может быть, вам лучше переждать здесь?
— Нет, мы должны успеть!
Лиза сорвалась с места и бросилась к Петрусю:
— Скорей, нужно скорей!
— Что такое?
— Через четверть часа здесь пройдет колонна грузовиков с боеприпасами…
— Стой! — воскликнул Петрусь. — Как так? Баскаков сказал, она будет здесь только завтра!
— Значит, он ошибся! — чуть не закричала Лиза. — Значит, его сведения не точные. Скорей, скорей, ну?!
До нее только сейчас дошло, что это та самая колонна, которую хотел взорвать Баскаков. Да, вот это он промахнулся, смертельно промахнулся! И что делать, если старик сейчас скажет, что все бессмысленно, нужно возвращаться, не переходя моста?!
— Все бессмысленно, нужно возвращаться, — резко сказал Петрусь. — Нас остановят. Давайте вернемся.
— Нет, мы пойдем вперед, — мучительно выхрипел старик. — Мы пойдем вперед и сделаем то, что я обещал Баскакову.
Он еще больше побледнел, влажная от холодного пота, зеленоватая от слабости кожа обтянула лицо. Даже смотреть на него было противно, Лиза и старалась не смотреть, но она была благодарна, благодарна ему! Перейти мост, скорей!
Она почти бежала, волоча за собой старика, Петрусь еле поспевал за ним. Они были практически на середине, когда солдаты вдруг все побежали к противоположной стороне.
— Остановить движение! — крикнул кто-то. — Освободить проход колонне!
Они опоздали!.. Что теперь делать?
Часовой смотрел направо, откуда должны были появиться машины.
— Надо спрятаться, не то нас задержат, — шепнул Петрусь, подталкивая Лизу к каким-то тюкам, завешанным брезентом. И как только они свернули, старик вдруг встал на четвереньки и заполз за брезент. Лиза и Петрусь ошеломленно смотрели, как проворно он ползет. Откуда только силы взялись?!
— Уходите, — послышался его голос. — Уходите отсюда. С моста. Ну, быстро. А то прицепится часовой — не отвяжется. Еще и арестует, и оружие у тебя отберет. Уходите, быстро!
— Да уже поздно, — с тоской пробормотала Лиза. — Теперь лучше здесь отсиживаться.
— Уходите, кому сказано?! — с ненавистью выкрикнул старик.
— Тише, отец Игнатий, тут же часовой рядом, — прошипел шепотом Петрусь, но было поздно — часовой оказался уже около них, выставил автомат.
— Руки вверх! Эй ты, — это относилось к Петру, — сдай оружие! Быстро отдавай! Кто вы такие? Ваши документы?
Петрусь сунул было руку за пазуху, но часовой навел на него автомат и заставил опустить руку:
— Нет. Стой! Пускай с вами разберется лейтенант! Пошли в будку, ну!
Он пинками вытолкал из-под брезента отца Игнатия. Лиза и Петрусь стояли с поднятыми руками. Лиза пыталась понять, что происходит, хотя и так все было вполне очевидно, что тут понимать-то… но не могла. Ни единой мысли не было в голове, только клубилась тьма отчаяния.
Они вышли из-за брезента. Несколько солдат с автоматами бросились к ним.
Старик снова упал. Часовой требовал встать, отец Игнатий бормотал, что у него припадок… Подбежали двое солдат, пытались его поднять, он не давался, уворачивался с каким-то молодецким проворством. И лицо его вдруг словно бы помолодело.
Мост задрожал — это первые машины пошли по нему.
— Лежать! Застрелю! — кричал часовой. Отец Игнатий, словно нарочно, словно вызывая его на этот выстрел, то ложился, то вскакивал.
«Он сошел с ума», — тупо подумала Лиза, крепко прижав руки к груди и чувствуя, как врезался в нее медальон.
— Идите к перилам! — закричал подбежавший солдат, сильно толкнув ее автоматом.
Петрусь бросился было на помощь, но его не подпустили:
— К перилам! Пошел!
«Нас убьют там, — внезапно поняла Лиза. — Пристрелят и сбросят в воду!»
В эту минуту отец Игнатий вскочил и кинулся прочь от перил. Машины приостановились одна за другой: наверное, при выезде образовался затор.
Часовой вскинул автомат, но снова опустил его. Лицо у него было испуганное, но он почему-то не стрелял в отца Игнатия, и Лиза наконец поняла почему: да ведь мимо шли машины с боеприпасами! А попади пуля в грузовик, в его мотор?! Да ведь мост взлетит на воздух! И еще в мгновенном прозрении она поняла, что отец Игнатий именно и старается сделать так, чтобы охранники потеряли головы, чтобы открыли по нему стрельбу. Но наперерез уже бежал офицер, крича:
— Не стрелять!
Голос его таял в реве моторов, но охранники опускали автоматы.
Отец Игнатий обернулся. Кажется, он понял, что стрелять в него не будут. Лицо его выражало покорность судьбе, было отрешенным.
И вдруг он рванул на груди свое старое, тяжелое пальто.
— Господи, прими душу мою грешную! Господи, прости! — выкрикнул он тонким голосом, и Лиза увидела странную связку тяжелых предметов на его груди. Это были гранаты… отец Игнатий схватил одну из них…
Лиза обернулась к Петрусю, но в это время полыхнуло за спиной, и она ничего не успела увидеть, только его глаза, которые так напоминали глаза ангела смерти.
Нижний Новгород, наши дни
Надо отдать должное Эдику — он и в самом деле был востер, и реакция у него оказалась отменная, как у фехтовальщика.
— Рая! — заорал он как безумный и, выскочив из-за стола, перехватил Алёну, рванувшуюся было к пистолету — подобрать. Впрочем, она тут же одумалась и остановилась, так что Эдик напрасно старался и стискивал ее в объятиях.
Рая, которая, само собой, подслушивала под дверью, влетела в кабинет — да так и ахнула, уставившись на пол.
— Пистолет выпал из ее сумки! — крикнул Эдик. — Зови свидетелей! Скорей! Кого угодно!
Рая снова выскочила за дверь. Слышен был ее топот по коридору.
Черт побери… Проклятая «беретта»… Алёна начисто о ней забыла. Начисто забыла, что собиралась еще вчера выбросить ее в мусорный ящик, да так и оставила в сумке. Вот и дооставлялась!
И что теперь делать? Да ничего.
— Не держите меня так крепко, — брезгливо сказала Алёна, передергивая плечами. — Я и без того верю, что вы роковой мужчина. Тише, я не собираюсь спасаться бегством. И пистолет не собираюсь поднимать, что я, сумасшедшая, что ли, чтобы его в моей сумке нашли? А так — на полу лежит, ну и лежит… Я не я и бородавка не моя! — И она неуместно хихикнула, вспомнив Марину и Тома Сойера.
— Какая бородавка? — оторопело спросил Эдик, разжимая руки, но Алёна не удостоила его ответом.
— Вы сейчас меня шантажировать станете? — спросила она безразлично. — Мол, если я не отступлюсь от этой истории, вы перемажете меня всей грязью бытового мира? А если отступлюсь, то отпустите меня восвояси? Да? И еще, конечно, потребуете, чтобы я взялась убедить журналистку из «Карьериста», чтобы она не писала больше ничего об этом музее и предоставила событиям развиваться их чередом? Однако в таком случае вы совершенно напрасно подняли шум. Такие вещи надо решать тет-а-тет, визави, а не при свидетелях. Теперь Раю уже не остановить, теперь сбежится народ, и вы, само собой, хотите или не хотите, должны будете поднять шум насчет пистолета и таким образом утратите средство мною управлять и меня остановить.
— А если бы не было шума? — с надеждой спросил Эдик. — Мне бы удалось вас остановить?
Алёна подумала — и покачала головой.
— Наверное, надо было вам сразу деньги предложить, — с тоской проговорил Эдик. — Приличную сумму! Тысяч, скажем, десять евро — это вам как?
— Нормально, — искренне сказала Алёна. — Хорошая сумма. Но деньги — это еще не всё.
— А пятнадцать? — с надеждой спросил Эдик.
Более безденежной детективщицы, чем наша героиня, не рождала земля русская, однако она покачала головой:
— Я же говорю, дело не в деньгах.
— Вы ради какого-то бывшего фашиста… — прошипел Эдик. — Вы готовы сотрудничать с тем, кто когда-то сам воевал против наших!
— Да и бывший фашист тут совершенно ни при чем, — сказала Алёна.
— А что — при чем?! — измученным голосом спросил Эдик. — Что, объясните мне?!
— Лозунг один, — сказала Алёна. — У вас в музее есть лозунг: «Никто не забыт, ничто не забыто». Понимаете теперь?
Он смотрел бешеными глазами. Он думал, она смеется над ним. Издевается!
— Ну так и черт с вами! — рявкнул Эдик. — Смотрите, что выпало из ее сумки! — воскликнул он, обращаясь к группе людей, вбежавших в кабинет и предводительствуемых Раей. Это были Алекс Вернер, Столетов и тот молодой человек, историк-студент-аспирант или что-то в этом роде.
— Пистолет! — взвизгнула возбужденная Рая. — А разрешение на ношение оружия у вас есть?
— Нет, — спокойно сказала Алёна. — Ну и что?
— А то! — крикнула было Рая и подавилась.
Алёна с интересом на нее посмотрела. Оказывается, Рая подавилась потому, что Алекс Вернер взял ее за руку. Вроде бы совсем легонечко взял, а вот поди ж ты…
— Разрешения на ношение оружия у этой дамы нет, — сказал он по-русски очень спокойно, — зато оно есть у меня. И эта «беретта» — моя.
Ого… у этого ветерана Второй мировой был поистине глаз-алмаз! Разглядеть марку пистолета, замотанного в пакет, — это не всякий может.
— Я отдал ее этой даме, потому что у меня нет портфеля или «дипломата», а носить оружие в кармане я давно отвык. Так что прошу вернуть его мне и на этом покончить с этим делом.
— Этот номер не пройдет, — сказал «историк» и даже покачал головой, усиливая свои слова. — Вы иностранный гражданин, а значит, ваше разрешение на ношение оружия действительно только на территории вашего государства. Или вы успели выправить такое разрешение на территории России?
Алекс растерянно покачал головой:
— Нет, не успел…
— Да врет он! — азартно выкрикнула Рая. — То есть это — обманывает!
Редактирование, видимо, было произведено исключительно из соображений пиетета перед лицом иностранного гражданина.
Ну что ж, настала пора Алёне внести свою лепту в эту фантасмагорию.
— Скажем так — господин Вернер шутит, — сказала она. — Это не его пистолет, но и не мой. Я его нашла на улице — вчера. Нашла и решила сдать в полицию. Я даже заявление написала на имя начальника полиции. Да вон оно, под стулом валяется! — показала Алёна носком туфли. — Видимо, вылетело.
«Заявление я писала вчера, поставила ли дату? Или никто не заметит?»
Рая пала на колени, выхватила бумагу из-под стула, развернула перед Эдиком:
— Читайте!
«Сама неграмотная, что ли?» — хотела было с угрюмой язвительностью спросить Алёна, да не стала пачкаться.
— Начальнику отделения полиции Советского района… — начал было вслух Эдик — и радостно завопил: — Советского! А тут Сормовский! Вы что ж, думали, написали эту бумажку — и можете нарушать закон?! Шляться с незарегистрированным оружием где ни попадя? Рая, звоните в полицию! И в «Вечер трудового дня».
— Да вроде еще не вечер, — пожала плечами Алёна. — Вполне можно и в «Полдень трудового дня успеть».
«Вечер» и «Полдень» — это были две самые скандальные передачи местного телевидения. Попасть в них приличному человеку означало надолго, если не навсегда, проститься с доброй репутацией!
— Так, никто никуда не звонит, — строго сказал «историк» и вынул из нагрудного кармана красненькие корочки. — Полиция уже здесь. Сотрудник городского следственного отдела капитан Марышев. Специально прибыл для того, чтобы встретиться с Еленой Дмитриевной и принять от нее найденное оружие, которое она не успела сдать в свой райотдел.
— А кто такая Елена Дмитриевна? — растерянно спросил Эдик.
— Да вот она, Ленка Ярушкина! — зло ткнула пальцем Рая. — Говорила же я, у нее все схвачено, за все…
— Простите? — высокомерно повернулся к ней капитан Марышев, и Рая защелкнула рот. Крепко защелкнула, с очень громким звуком.
Остальные стояли молча, пока капитан Марышев на краешке стола оформлял принятие от писательницы Дмитриевой Алёны (Ярушкиной Е. Д.) найденного ею на большой дороге газового пистолета марки «беретта». А Алёна в это время добрым словом поминала Льва Ивановича Муравьева, который отреагировал на их вчерашний поздневечерний разговор (Алёна позвонила ему после того, как пошарила в Интернете и поняла особый интерес Григорьевых в прославлении имени Лизы Петропавловской) таким удивительно креативным, как теперь модно выражаться образом, это раз, а во‑вторых, что держит при себе таких соображучих и креативных сотрудников, как «историк» капитан Марышев.
— Послушайте, господа… — вдруг проговорил Алекс Вернер по-русски, но каким-то особенно-нерусским голосом. — Я не совсем понимаю… этот ваш сыр-бор продолжает полыхать из-за… из-за женщины, которую я… — Он запнулся, но только Алёна поняла, что именно он хотел сказать сначала вместо того, что сказал потом: — Которую я знал в Мезенске в тысяча девятьсот сорок втором году? Из-за нее?
И он снова достал фотографию другой Лизы, и теперь уже не только Алёна и Столетов, но и Эдик, и Рая, и капитан Марышев могли увидеть это лицо с тревожными глазами и словно бы обреченным взглядом.
— Это не Петропавловская! Не Григорьева! — снова завел было Столетов, однако Алекс Вернер остановил его движением руки:
— Я знаю. Однако, повторяю, именно она жила в Мезенске в июне сорок второго года под именем Лизы Петропавловской. Не знаю причин, по которым она так назвалась. Знаю одно — я никогда не узнал бы ее настоящего имени, если бы не встретил ее в ту минуту, когда она шла на смерть. Она подписалась своим настоящим именем, не владея собой. Я до сих пор вижу ее глаза — глаза человека, который уже видит невдалеке свою смерть. Поэтому она так покорно выполнила мою просьбу и написала то, что я просил. Вот взгляните.
Он перевернул снимок, и все увидели надпись на обороте, сделанную дрожащим, неровным почерком:
«Моему любимому Алексу — на вечную память. Лиза Ховрина. 17 июня 1942 года, город Мезенск, бывшая Россия».
— Бывшая Россия?! — низким, клокочущим от возмущения голосом произнес Столетов. — Бывшая?! И вы хотите нас уверить, что… эта ваша немецкая «овчарка»… эта предательница, эта шлюха, которая подстилалась под оккупантов…
— Молчите, — приказал Алекс очень тихо, но как-то так, что Столетов немедленно умолк. — Если бы не были так стары, я ударил бы вас, но я уважаю ваши годы.
Он был лет на двадцать старше Столетова, но почему-то никто не удивился его словам. А Алёне на мгновение показалось, что это говорит тот молодой мужчина, который когда-то провожал на мезенский мост любимую им женщину, даже не зная, что она погибнет, даже не зная, что будет любить ее и помнить всю жизнь… такую долгую, слишком долгую…
— Прошу вас, молчите, — снова сказал Алекс Вернер. — Она писала каждое слово под мою диктовку. Она не понимала, что пишет. Именно поэтому она написала свою настоящую фамилию — Ховрина. Так вот я говорю вам еще раз и клянусь своей слишком длинной жизнью и скорой смертью — мезенский мост взорвала Лиза Ховрина. И все же… и все же она носила в ту пору своей жизни фамилию Петропавловская. Мы не знаем и никогда не узнаем, почему она ее приняла. Но на то была ее воля. Она так хотела. Наверное, будет справедливо, если под этим именем она останется в истории… в истории войны и в истории вашего города. Я больше не хочу никаких споров на тему, чья фотография висит в музее и чьи родственники должны получить дивиденды с этого имени. Страшная, слепая и безразличная к людям Судьба рассудила так, а не иначе. Помню, я смотрел один ваш фильм… очень хороший фильм. Назывался он «Доживем до понедельника». Там был мудрый учитель, который сказал, что от многих людей в истории осталось только тире между двумя датами. От Лизы Ховриной осталось больше. От нее осталась эта фотография, которую я храню всю жизнь и которую завещал положить с собой в могилу. Понимаете, только после смерти Лизы я понял, как сильно любил ее. И только сейчас — сейчас! — понял, что ей все это — ее посмертная слава! — было бы совершенно не нужно. Может быть, Лиза даже посчитала бы ее незаслуженной. Она шла на смерть как жертва, а не как подвижница, понимаете? Я только теперь осознал это. Только теперь. Поэтому я прекращаю, как говорят стряпчие, все прения по этому делу и уезжаю завтра же. И прошу вас, господа… или товарищи, как вам будет угодно, — поправился он, заметив, как передернулся Столетов, — забыть о моем приезде. Забыть обо всех этих недоразумениях. Алёна, моя просьба касается и вас, и Кати… впрочем, я ей сам позвоню. А сейчас у меня большая просьба… можем мы с вами поехать на Ошарскую улицу?
— Конечно, — сказала несколько озадаченная Алёна. — Выйдем отсюда, сядем на маршрутку и поедем. Кажется, на сорок первой отсюда можно до Варварки доехать, остановка «Концертный зал «Юпитер», а это практически начало Ошары. Или лучше такси возьмем.
— Я вас отвезу, — вмешался капитан Марышев. — Не надо никаких маршруток, не надо такси, у меня внизу машина. А что там, на Ошарской?
— Лиза мне говорила, что она жила на этой улице до войны, — объяснил Алекс. — И я хотел бы там побывать на прощанье.
— Понятно, — сказал капитан Марышев, почему-то вытягиваясь в струнку, словно готов был стать в почетный караул. — А номер дома какой?
— Не знаю, — ответил Алекс Вернер. — Она не сказала. Но я думаю… если я пройдусь по этой улице… может быть, мне сердце подскажет? Как вы думаете, Алёна?
Она молча кивнула.
Далекое прошлое
Аврора Карамзина прожила почти 94 года. Похоронила сына — ему было тридцать с небольшим, когда он в одночасье сгорел от лихорадки, наверное, наследственной.
Однако разбирая его вещи, она нашла шлафрок Павла Николаевича с манжетами, расшитыми мелким речным жемчугом и с инициалами «ДА». Нашла — и ужаснулась, и проследила мысленно страшную цепочку роковых случайностей.
Карл Маннергейм исчез… неизвестно, кому в руки попала табакерка и какова была участь того человека.
Александр Муханов умер — кольцо легло в могилу вместе с ним. Значит, больше никто не пострадал.
А эта вышивка?! А медальон, попавший после смерти Андрея в руки неведомо кому?!
Было слишком страшно думать об этом, и Аврора думать не стала.
Жизнь она доживала одна, пеклась о заводах, о делах благотворительных, о детях сестры…
Уже начался новый век, когда умерла Аврора Шернваль-Демидова-Карамзина, одна из красивейших женщин своего времени, с отчаянием и горечью носившая титул «смертельной красавицы».
Примечания
1
Это русское произношение шведского названия финского города Хельсинки (Helsingfors (швед.), Helsinki (финск.)), которое в то время, когда Финляндия входила в состав Российской империи, имело место в быту, в официальных документах и в картографии. (Здесь и далее прим. автора.)
(обратно)2
Бог мой (нем.).
(обратно)3
Обнаженная; голая (франц.).
(обратно)4
Матушка (финск.).
(обратно)5
Fil de Perse — означает персидская нить, так называлась особым образом обработанная шелковистая пряжа, из которой вязали женские чулки примерно во времена Второй мировой войны. Fil d’Ecosse — шотландская нить, так называлась гладкая крученая хлопчатобумажная пряжа, имеющая вид шелковой. Фильдеперсовые чулки в просторечии назывались шелковыми.
(обратно)6
Об этом можно прочитать в романе Елены Арсеньевой «Академия обольщения». «Эксмо».
(обратно)7
Без страха и упрека (франц.).
(обратно)8
Старинное червонное золото было весьма высокопробным сплавом с медью. Соотношение металлов — 9:1, причем в пользу золота. Настоящее червонное золото соответствует пробам от 916 до 986, а это, можно сказать, чистое золото.
(обратно)9
Фольксдойче — так на оккупированных фашистской Германией территориях назывались люди смешанного происхождения, наполовину немцы.
(обратно)10
Так в России называли Анри Франсуа Габриэля Виолье (1752–1839).
(обратно)11
Смирнова (Россети, Смирнова-Россет) Александра Осиповна (1809–1882) — фрейлина русского императорского двора, знакомая, друг и собеседник А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова. Автор известных мемуаров о временах Николая Второго.
(обратно)12
Так в годы оккупации презрительно называли женщин, которые сотрудничали с фашистами.
(обратно)13
Высокая мода (франц.).
(обратно)14
Во французском языке h в начале слова не читается, артикль сливается с существительным.
(обратно)15
Участники Résistance — движения Сопротивления во Франции.
(обратно)16
Об этом можно прочитать в романе Елены Арсеньевой «Бабочка на стене». «Эксмо».
(обратно)17
О мертвых либо молчать, либо говорить хорошее (лат.).
(обратно)18
Об этом можно прочитать в романе Елены Арсеньевой «На все четыре стороны». «Эксмо».
(обратно)19
А знаете, я так и думал! (франц.)
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
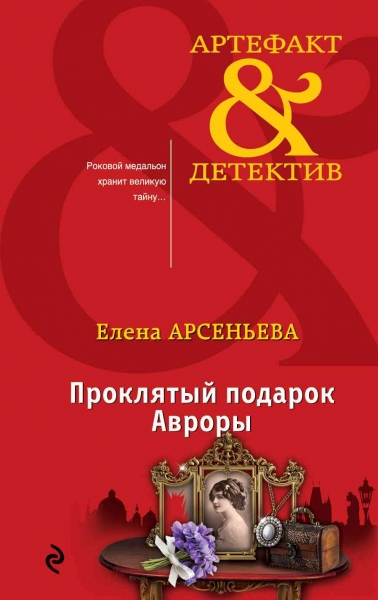
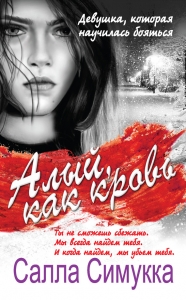




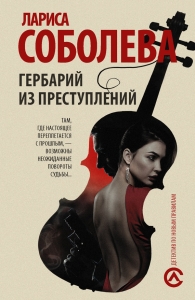

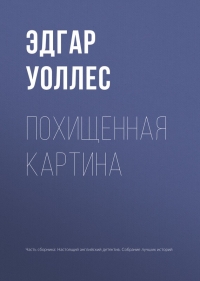

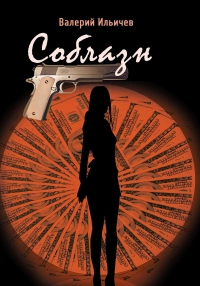

Комментарии к книге «Проклятый подарок Авроры», Елена Арсеньева
Всего 0 комментариев