Рут Уэйр Игра в ложь
© Ruth Ware, 2017
© Школа перевода В. Баканова, 2018
© AST Publishers, 2018
* * *
Дорогой Хелен, с огромной любовью
Этим утром вода в Риче на удивление тихая, бледно-голубое небо располосовано розоватыми, с перламутровым отливом облачками, море на отмели немного рябит под легким бризом, и поэтому собачий лай кажется чередой ружейных залпов. Вспугнутые чайки с воплями кружат над водой.
Зуйки и крачки вспархивают при приближении пса; тот, совершенно счастливый, мчится к реке, буксует в дюнах, щетинящихся острой травой, вырывается на прибрежную полосу, бурую от водорослей. Здесь морские горько-соленые воды встречаются с пресными водами Рича. В отдалении, подобно часовому, замерла, словно нарисованная тушью на прохладном утреннем небосклоне, приливная водяная мельница – единственный рукотворный объект в окрестностях, медленно и неумолимо поглощаемый морем.
– Боб!
Восторженный лай прерван женским голосом. Женщина, тяжело дыша, пытается поспеть за собакой и кричит на бегу:
– Боб! Ах ты, зверюга! Фу! Фу, я сказала! Что ты опять выкопал?
Пес между тем силится вытянуть из сырой глинистой почвы нечто, им обнаруженное.
– Ну получишь ты у меня! Фу! Фу! Что там еще? Надеюсь, не очередная дохлая овца?
Собака делает последний героический рывок, по инерции почти опрокидывается, бежит, взбирается на дюну и с победным видом кладет находку к ногам хозяйки. Женщина застывает в ужасе. Собачьи бока ходят ходуном, высунутый язык розовый и мокрый. Безмолвие, подобно приливу, наступает на дюны, воцаряясь в утреннем мире.
Правило первое: лги
Едва слышное жужжание, уведомляющее о сообщении, не тревожит спящего Оуэна. Оно не потревожило бы и меня, если бы я спала. Но я бодрствовала. Я лежала, уставившись в темноту, придерживая младенца у груди. Моя дочь уже насытилась, но медлила выпустить сосок. Она дремала и посапывала. Несколько секунд я раздумывала, кто бы это мог среди ночи прислать сообщение. Все мои друзья спят… разве что Милли уже встала и собирается на работу… Все равно не вижу повода для сообщения. Правда, я обещала забрать Ноя, если родители Милли не успеют приехать из Девона до того, как она уйдет на работу. Неужели все-таки Милли? До телефона не дотянуться; я колеблюсь, наконец пальцем раскрываю маленькие цепкие челюсти, переворачиваю на спинку дитя – налитое теплым молоком, закатывающее сонные глазки, словно под молочным кайфом. Мгновение смотрю в маленькое личико, касаюсь гладкого, упругого тельца. Под моей ладонью, за птичьими ребрышками, сердечко постукивает все ровнее, все размереннее. Только теперь я беру телефон. Мое сердце начинает биться чуть чаще, эхом отзываясь на удары крохотного сердечка.
Глядя на экран, говорю себе: не глупи, Милли еще месяц носить, наверняка это спам, очередное «А вы уже потребовали возврата страховых взносов?».
Ввожу пин-код, телефон разблокирован. Сообщение не от Милли. В нем всего три слова:
Вы мне нужны.
Часы показывают половину четвертого. Сна ни в одном глазу, мои ступни холодит кафельная плитка кухонного пола, я грызу ногти и пытаюсь справиться с желанием закурить. Десять лет я не брала в руки сигареты, но, когда мне страшно или тревожно, мысль о никотине вытесняет прочие мысли и потребности.
Вы мне нужны.
Незачем спрашивать, что это значит и кто это написал, хотя на экране только номер, без имени.
Это написала Кейт.
Кейт Эйтагон.
Достаточно произнести ее имя – и она передо мной во плоти. Запах мыла, оливковая кожа, россыпь веснушек – будто молотую корицу распылили по переносице. Кейт. Фатима. Тея. И я сама.
Закрываю глаза и вижу всех; мобильник, теплый после моих рук, болтается в кармане, ожидая новых сообщений.
Фатима сейчас спит рядом с Али, защищенная его гибким телом. Ей сообщение придет примерно в шесть – в это время Фатима просыпается, чтобы приготовить завтрак Надии и Самиру и собрать их в школу.
Насчет Теи сказать сложнее. Если сегодня ее смена, она сейчас в казино, где сотрудникам нельзя пользоваться телефонами. Мобильники заперты в шкафчиках для одежды. Когда заканчивается смена? Часов в восемь, не раньше. Тея, как правило, задерживается – у них заведено выпивать после смены. Ответ придет ближе к девяти от Теи, взбудораженной алкоголем, чаевыми, понтерами, рябью цифр на фишках, вычислением шулеров и профессиональных игроков.
Наконец, Кейт. Кейт уж точно не спит – это ведь она прислала сообщение. Наверняка она сейчас за отцовским рабочим столом – теперь это ее стол. Он стоит у окна, откуда виден Рич. На глазах у Кейт вода приобретает бледно-серый предрассветный оттенок, все четче становятся отражения облаков и мельницы. Пальцы, как всегда, мнут сигарету. Взгляд устремлен на воды в устье реки – бурлящие, то наступающие, то отступающие. Картинка не меняется годами – и в то же время меняется каждое мгновение, совсем как сама Кейт.
Ее длинные волосы убраны за уши, тонкое лицо полностью открыто, в том числе и гусиные лапки в уголках глаз – неизбежный отпечаток всей жизни, всех тридцати двух лет, проведенных на морском ветру. Пальцы в пятнах масляной краски, забравшейся глубоко под ногти. А глаза – глаза у нее сейчас самого темного грифельно-синего тона и так глубоки, что дна не разглядеть. Кейт ждет, когда мы ответим. «Когда», а не «как» – потому что на сообщение из трех слов мы всегда отвечаем двумя словами, четко:
Уже бегу.
Уже бегу.
Уже бегу.
– Уже бегу! – кричу я снизу в ответ на призывы Оуэна, которые заглушают сонное хныканье Фрейи.
Оуэна я застаю с Фрейей на руках, ходящим взад-вперед, помятым, с отпечатком подушки на красной щеке.
– Извини, – Оуэн подавляет зевок. – Пытался укачать ее, но ты же знаешь, какая она, когда есть хочет.
Забираюсь обратно в постель, усаживаюсь, обложившись подушками. Оуэн подает мне Фрейю – возмущенную, раскрасневшуюся. Она поднимает оскорбленный взгляд и с удовлетворенным вздохом припадает к соску. Воцаряется тишина, слышно только, как жадно малышка тянет молоко. Оуэн снова зевает, проводит рукой по волосам, косится на циферблат, берет трусы.
– Уже собираешься? – В моем голосе удивление.
Оуэн кивает:
– Ну да. Какой смысл снова ложиться, если в семь все равно вставать? Ненавижу понедельники.
Смотрю на часы. Шесть утра. Я думала, меньше. Потеряла счет времени.
– А кстати, ты-то чего ни свет ни заря вскочила? Мусоровоз разбудил, да?
Я качаю головой:
– Просто не спалось.
Это ложь. Я почти забыла, какова она на вкус, как легко она соскальзывает с языка, как сильно после нее мутит. Тяжелый, теплый от рук телефон лежит в кармане халата, я его чувствую бедром. Жду, когда он завибрирует, принимая сообщение.
– Понятно.
Оуэн подавляет очередной зевок, застегивает рубашку.
– Кофе будешь? Могу и на тебя сварить.
– Да, пожалуйста, – отвечаю я и добавляю: – Оуэн…
Но он успел выйти и меня не слышит. Через десять минут он появляется на пороге с чашкой кофе. Десять минут – достаточное время, чтобы обдумать, что сказать, и как это преподнести, и отрепетировать тон необходимой степени беззаботности. И все-таки я вынуждена сначала сглотнуть, затем облизнуть губы, пересохшие от напряжения.
– Оуэн, вчера Кейт прислала мне сообщение.
– Кейт, с которой ты работаешь?
Он ставит чашку несколько резче, чем следовало, немного кофе проливается. Вытираю лужицу краем халата – чтобы книга не промокла и чтобы выгадать время.
– Нет. Кейт Эйтагон, с которой я в одной школе училась.
– А, эта Кейт! Та самая, что на свадьбу с собакой приехала?
– Да. Собаку зовут Верный.
Верный. Белая немецкая овчарка с черной мордой и темными, как сажа, крапинами вдоль хребта. Верный имеет привычку дежурить в дверном проеме, он рычит на чужих, а своим подставляет белоснежное брюхо, чтобы чесали.
– Ты получила сообщение. Что дальше? – напоминает Оуэн.
Выходит, я замолчала, сама того не сознавая. Потеряла нить.
– А, ну да. Кейт приглашает меня в гости. И я подумала: почему нет?
– Действительно. Тебе развеяться не помешает. Когда едешь?
– Вообще-то сейчас. Зачем тянуть?
– А как же Фрейя?
– Она поедет со мной.
Чуть не добавила «разумеется», вовремя спохватилась. Фрейя до сих пор не приемлет никакого питания, кроме материнского молока; а я очень старалась ее перевести, и Оуэн тоже. Помню, меня пригласили на вечеринку – так Фрейя подняла крик в полвосьмого и ни на минуту не умолкала до без двух полночь, когда я ворвалась в квартиру и приняла ее из рук мужа, уставших от бесконечного укачивания.
Снова повисает молчание. Фрейя откидывает головку, изучает мое лицо, хмурится, отрыгивает и возвращается к серьезнейшему из занятий – добыче пропитания. На лбу Оуэна написаны все его мысли: он будет скучать, один, совсем один в постели…
– Тогда я пока займусь ремонтом в детской, – наконец выдавливает Оэун.
Киваю, хотя Оуэн сейчас поставил точку в давнем споре. Ему хочется, чтобы спальня принадлежала нам двоим, а я – только ему. Он полагает, что полугодовалая Фрейя сможет спать в детской без постоянного присмотра. А я… я не согласна. Отчасти поэтому я до сих пор не нашла времени вынести вещи из гостевой комнаты и покрасить стены в какой-нибудь позитивный, подходящий для младенцев цвет.
– Конечно, – говорю я.
– Значит, решено, – заключает Оуэн и принимается перебирать свои галстуки. Спрашивает, не оборачиваясь: – Тебе машина нужна?
– Нет, на поезде доберусь. Кейт меня встретит.
– Уверена? Ты детские вещи в поезде потащишь? Это неудобно. Посмотри: пойдет?
– Что?
С минуту я не могу понять, о чем Оуэн говорит. Потом соображаю – о галстуке.
– Да, неплохо. Нет, правда, я отлично доеду поездом. Так проще. Если Фрейя проснется, я смогу без проблем ее покормить. А вещи сложу в коляску.
Оуэн не отвечает. Понятно: прокручивает в уме предстоящий день. Я тоже так делала еще несколько месяцев назад – сейчас кажется, что с тех пор прошла целая жизнь.
– Так я бы прямо сегодня поехала. Ты не против?
– Сегодня?
Он берет из комода горсть монет, бросает в карман и подходит к кровати, чтобы поцеловать меня в темечко.
– А к чему такая спешка?
– Нет никакой спешки, – лгу я.
Щеки вспыхивают. Ненавижу лгать. Когда-то я считала ложь забавой – до тех пор, пока ложь не стала единственным выбором. Сейчас я редко об этом думаю, может, потому, что мысли о лжи и так съели уйму времени. Но они никуда не делись. Они – словно зуб, который то ноет без перерыва, то внезапно начинает болеть.
А самое гадкое – лгать Оуэну. До сих пор мне удавалось его не впутывать, однако теперь и он влип. Теперь и он в паутине. Сообщение Кейт не удалено, и из него будто течет яд, грозя уничтожить все, все вокруг.
– Просто у Кейт сейчас перерыв – один проект закончила, к другому еще не приступила. Не будет отвлекаться. А я… мне через несколько месяцев на работу. Попробуй тогда вырвись.
– Ладно.
Оуэн озадачен, но от подозрений далек.
– В таком случае надо тебя поцеловать по-настоящему, как положено.
И он меня целует – как положено, в губы, чтобы я вспомнила, за что люблю его и почему ненавижу ему лгать. Затем отстраняется, прижимается губами к лобику Фрейи. Она недоверчиво смотрит на него и на миг перестает сосать, но возобновляет свое занятие с непоколебимой решимостью, от которой меня неизменно накрывает волна обожания.
– И тебя, вампиреныш, я тоже очень люблю, – с чувством говорит Оуэн. Следующая фраза адресована мне: – Сколько туда ехать?
– Часа четыре. Смотря на какой пригородный успею.
– Понятно. Что ж, желаю хорошо провести время. Напиши, как доберешься. Сколько думаешь погостить?
– Несколько дней?
Предположение рискованное, и я добавляю:
– Вернусь к выходным.
Новая ложь. Я не знаю, когда вернусь. Не могу сказать даже приблизительно. Пробуду столько, сколько потребуется Кейт.
– По обстановке, Оуэн.
– Ладно, – повторяет он. – Я тебя люблю.
– И я тебя.
Наконец-то можно ему не лгать.
День знакомства с Кейт я помню до часа, до минуты. Стоял сентябрь. Я ждала ранний поезд до Солтена, хотела приехать в школу к ланчу.
– Можно спросить?
Мой голос, звенящий от напряжения, прозвучал на пустом перроне неожиданно резко. Девчонка, к которой я обращалась, повернула голову. Очень высокая, невероятно красивая, с вытянутым, слегка надменным лицом, она будто сошла с полотна Модильяни. Черные волосы, вызолоченные на кончиках, спускались до самой талии, на джинсах красовались дыры выше колен.
– Спрашивай, – разрешила она.
– Этот поезд идет в Солтен? – выдохнула я.
Последовал оценивающий взгляд, вобрал в себя солтенскую школьную форму – темно-синюю, хрустящую от новизны, юбку, блейзер без единого пятнышка, лишь утром впервые снятый с «плечиков».
– А я откуда знаю? – ответила красавица вопросом на вопрос и обратилась к своей подруге: – Кейт, это солтенский поезд?
– Хорош выпендриваться, Тея, – хрипло сказала та, которую назвали Кейт.
Голос не сочетался с внешним видом – ей было лет шестнадцать, от силы семнадцать, а по голосу казалось гораздо больше. Светло-каштановые волосы, подстриженные очень коротко, обрамляли смуглое лицо с веснушками цвета мускатного ореха – от улыбки в мой адрес эти веснушки так и запрыгали на носу. Кейт продолжила:
– Да, это солтенский поезд. Главное – сесть в нужный вагон, а то на Гемптон-Ли полпоезда отцепят.
Обе развернулись и пошли прочь, успев удалиться на приличное расстояние, когда я спохватилась – я же не спросила, какую именно половину поезда отцепляют.
Взгляд бегает по доске объявлений. «Пассажирам, следующим до Солтена, надлежит занимать места в первых семи вагонах». Но откуда они считаются? Которые семь – первые? Те, что ближе к пункту контроля, или те, что будут первыми по ходу движения? Как назло, поблизости не было ни одного человека в железнодорожной форме, а до отправления, судя по вокзальным часам, оставались считаные минуты. Я решилась бежать к дальнему концу поезда, вслед за этими девчонками. С трудом втащила по лесенке свой здоровенный чемодан, оказалась в купе. Шесть мест, все свободные.
Не успела я захлопнуть дверь, как раздался свисток. С отвратительным ощущением, что перепутала вагоны, я опустилась на диванчик. До сих пор отлично помню, как обивка сиденья покалывала ноги. Лязгая, дребезжа и скрежеща, поезд потащился из-под темных сводов вокзала, и солнце залило купе с такой внезапностью, что ослепило меня. Я откинулась на подголовник и зажмурилась. По мере того, как поезд набирал скорость, мое воображение все четче рисовало ужасную картину: вагон не тот, я не доеду до Солтена, директриса напрасно будет ждать меня на перроне. Что, если меня завезут в Брайтон, или в Кентербери, или еще куда? Или хуже: что, если моя жизнь, подобно этому поезду, разделится надвое, каждая половина станет развиваться по-своему, и обе будут страшно далеки от первоначальных планов природы на мое становление?
– Привет!
Я подпрыгнула и открыла глаза.
– А ты все же едешь!
Голос принадлежал Тее – высокой девчонке с перрона. Тея стояла, прислонившись к деревянному дверному наличнику, вертя сигарету в пальцах.
– Еду, – процедила я. Эта девица и ее подруга могли бы и объяснить насчет поезда. – По крайней мере, надеюсь доехать. Это ведь правильный вагон? До Солтена довезет?
– Да, – лаконично бросила Тея.
Снова оглядела меня с ног до головы, постучала незажженной сигаретой по дверному косяку и произнесла тоном доброжелательницы:
– Не сочти меня стервой, но запомни: садиться в поезд в школьной форме – не принято.
– Что?
– Мы всегда переодеваемся на станции Гемптон-Ли. Это… это негласное правило. Знать нелишне. Только первоклассницы и новенькие лезут в поезд в форме. Поэтому их сразу видно.
– Значит… значит, ты тоже учишься в Солтене?
– Ну да. В наказание за грехи.
– Нашу Тею выгнали из трех школ, – пояснила стриженая Кейт, возникшая из глубин коридора с двумя чашками чаю. – И не берут никуда, кроме Солтена. Ей светит остаться недоучкой.
– По крайней мере, меня не из милости в школе держат, как некоторых, – бросила Тея, но по ее тону я поняла: они подруги, а что до колкостей – для них это норма.
– Отец Кейт у нас рисование ведет, – продолжала Тея. – В контракте у него оговорено бесплатное обучение для дочери.
– Сытый голодного не поймет. – Кейт улыбнулась и подмигнула мне. – Тея в сорочке родилась.
Они переглянулись, и результатом этого молчаливого совещания стал вопрос Теи:
– Как тебя зовут?
– Айса, – ответила я.
– Вот что, Айса. Поедем вместе, хочешь? – Тея вскинула бровь и добавила: – Мы с Кейт заняли купе ближе к проводнику. Присоединяйся.
Я сделала глубокий вдох, словно перед прыжком с трамплина. Кивнула, подхватила чемодан, потащила его вслед за Теей, не догадываясь, что переход в соседнее купе навсегда изменит мою жизнь.
Странно вновь оказаться на вокзале Виктория. В Солтен теперь ходит новый поезд с плацкартными вагонами. Двери открываются автоматически – не то что в допотопном составе, который возил нас семнадцать лет назад. Зато перрон почти не изменился. Внезапно понимаю: все эти годы я бессознательно избегала и вокзала, и того, что было связано с Солтеном.
В одной руке удерживая стакан с кофе, другой вталкиваю коляску в вагон, ставлю стаканчик на свободный столик и начинаю привычную борьбу с заклепками и застежками, которыми к коляске крепится багаж. Слава богу, поезд полупустой, никто не стоит над душой, дожидаясь, пока я разберусь со своими вещами, не торопит. Под звук свистка дежурного, одновременно с мягким толчком, с легким «уф», которое испускает конструкция, трогаясь с места, мне поддается последний ремешок, и вот у меня в руках почти невесомая колыбель. Осторожно помещаю спящую Фрейю подальше от столика с кофе.
Все-таки забираю горячий стакан, прежде чем продолжить распаковку вещей. В голове крутятся ужасные картины: резкая остановка, кипяток, пролившийся на мою девочку… Понимаю: этого быть не может, Фрейя спит по другую сторону прохода. Но такова моя послеродовая реальность. Такой я стала. Мои прежние страхи – насчет разламывающегося напополам поезда, заклинивших дверей лифта, таксистов-маньяков и просто маньяков – я перенесла на Фрейю.
Наконец, мы обе устроились с комфортом – я раскрыла книгу, потягиваю кофе; Фрейя спит, по самые щечки укрытая одеяльцем. В свете июньского полдня у нее просто ангельское личико. Кожа такая тонкая, такая чистая, что меня захлестывает волна любви, и мне больно, как если бы кофе вдруг пролился прямо на сердце. Целый миг я – только мать Фрейи и никто больше, и мы с ней одни в этом летнем свете, в этой любви.
В следующий миг я понимаю: жужжит телефон.
На экране высвечивается «Фатима Чодхри». Сердце подпрыгивает.
Руки дрожат. Нажимаю «Прочесть».
Буду обязательно. Приеду на машине, когда уложу детей. Ждите к 9–10 вечера.
Значит, началось. Тея пока не написала, но я не сомневаюсь: напишет. Чары растворились, иллюзию, что мы с Фрейей просто едем на денек к морю, унесло ветром. Я вспоминаю, зачем я в этом поезде. Вспоминаю, что мы натворили.
В 12.05 выехала с Виктории – такое сообщение я им отправляю. Кейт пишу отдельно: Встретишь меня?
Ответа нет, но я знаю: Кейт не подведет. Закрываю глаза. Кладу ладонь Фрейе на животик, хочу удостовериться, что она рядом. Пытаюсь уснуть.
Просыпаюсь в ужасе. Грохот, лязг, треск. Крушение поезда. Первый порыв – схватить Фрейю. С минуту не могу понять, что меня разбудило. Потом соображаю: мы на Гемптон-Ли, там, где всегда происходит отцепка состава. Фрейя хнычет, возмущенная, но еще есть надежда ее укачать. Следует второй рывок, сильнее и резче первого, и Фрейя открывает глазки, кривит личико и ударяется в слезы.
– Тише, тише, маленькая.
Склоняюсь над ней, воркую, беру ее на руки, теплую, достаю из кокона пеленок, из скопища игрушек.
– Все хорошо, плюшечка моя сладкая, все хорошо. Тише.
Глаза у Фрейи темные от возмущения, личико сердитое. Фрейя бодает меня в грудь. Привычно расстегиваю блузку. Процесс кормления в первую секунду потрясает, шокирует – впрочем, как всегда.
Фрейя жадно тянет молоко, и тут, под последний рывок, под заключительный лязг, под свист дежурного, перрон подается назад, плывет, уступая место ограждениям, затем – домам, наконец, полям с телеграфными столбами.
Все настолько знакомо, что сердце замирает. Вот Лондон меняется беспрестанно, сколько я его помню. Он вроде Фрейи – каждый день новый. Тут магазин открылся, там паб закрылся. Вчера еще не было «Огурца» – смотришь, уже стоит; то же самое с «Осколком»[1]. На пустыре появился супермаркет, жилые дома растут как грибы – за одну ночь, вырываясь то из топкой почвы, то прямо из бетона.
Дорога в Солтен – все та же.
Обугленный вяз.
Едва видное, замшелое сооружение времен Второй мировой.
Хлипкий мост – звуки, производимые катящимся по нему составом, создают полное ощущение, что висишь над пропастью.
Достаточно закрыть глаза – и я снова в одном купе с Кейт и Теей. Хихикая, обе надевают через головы форменные юбки, натягивают их прямо на джинсы; застегивают блузки, повязывают галстуки, не сняв маек. Помню, как Тея стала надевать чулки – бережно раскатывала чулок на своей бесконечной ноге, возилась с застежками под школьной юбкой. Вогнала меня в краску, сверкнув голым бедром. Я тогда сразу отвернулась, стала смотреть на пшеничное поле. Сердце колотилось, а Тея лишь усмехалась моей стыдливости.
– Пошевеливайся, Тея, – сказала Кейт. Впрочем, даже в ее голосе слышалась лень. Она уже успела одеться и запихнуть в чемодан джинсы с ботинками. – К Уэстриджу подъезжаем, там всегда садятся толпы курортников. Не хватало какому-нибудь старперу инфаркт получить.
Тея высунула язык и продолжила не спеша пристегивать пояс для чулок. Лишь когда поезд остановился на станции в Уэстридже, Тея наконец-то оправила юбку.
На платформе и впрямь ожидало немало туристов. Тея поморщилась. Поезд встал так, что напротив нашего купе оказалось семейство – мать, отец и мальчик лет шести, с ведерком и совком в одной ручонке и капающим мороженым в другой.
– Еще трое поместятся? – бодро поинтересовался отец семейства, распахнув нашу дверь. За ним ввалились жена и сын. В купе сразу стало ужасно тесно.
– Видите ли, в чем дело, – скорбным тоном заговорила Тея, – мы бы и рады ехать с вами, но наша подруга… – Тея указала на меня, – …ее, понимаете, на сегодня отпустили из колонии. На один день, чтобы посетить особые занятия в школе. Так вот, одно из условий – запрет на контакты с малолетними детьми. Судья на этом особо настаивал, а он лучше знает.
Мужчина заморгал, его жена издала нервный смешок. Мальчик не слушал – был занят сбором кусочков шоколадной глазури с переда футболки.
– Мы о вашем же сыне заботимся, – серьезно продолжала Тея. – Ну и, конечно, вовсе не хотим, чтобы Ариадна загремела в карцер.
– Рядом есть свободное купе, – добавила Кейт.
Я заметила: она изо всех сил старается не рассмеяться.
Тея поднялась, открыла дверь.
– Извините. Нам ужасно неловко. Мы просто не хотим проблем – ни себе, ни вам.
Мужчина окинул нас подозрительным взглядом и подтолкнул к двери жену и сына.
Едва они шагнули в коридор, Тея перестала сдерживаться. Пожалуй, семейство курортников успело расслышать ее смех – дверь-то не мгновенно захлопнулась. Кейт, однако, покачала головой.
– Незачет, Тея. Они тебе не поверили.
– Да ладно!
Из кармана школьного блейзера Тея извлекла пачку сигарет, прикурила и глубоко затянулась, несмотря на то, что на окне висела табличка «Курить запрещено».
– Главное, что убрались.
– Они, Тея, убрались, потому что приняли тебя за сумасшедшую. Говорю: незачет.
– Это… это у вас игра такая? – спросила я.
Пауза повисла надолго. Тея и Кейт уставились друг на друга, как на сеансе телепатии. Решали, что ответить. Я почти видела, как между ними искрит воздух. Наконец Кейт улыбнулась – уголком рта. Подалась ко мне, оказалась настолько близко, что в ее серо-синих глазах стали видны темные прожилки.
– Это не просто игра. Это наша с Теей игра. Называется – игра в ложь.
Игра в ложь.
Воспоминания шокируют внезапностью – как запах моря, как вопли чаек над Ричем. А ведь я практически вытеснила их, практически сумела изгладить из памяти расчерченный лист бумаги, что висел у Кейт над кроватью, весь испещренный какими-то иероглифами, которые служили для сложнейшей системы накопления баллов. Это – за новую жертву. Это – за полную правдоподобность. Дополнительные баллы за продуманные детали, за одурачивание тех, кто однажды уже обвинил тебя во лжи. В известном смысле я до сих пор играю в это, не задумываясь. Играю беспрестанно.
Со вздохом смотрю на умиротворенное, довольное личико Фрейи. Фрейя тянет молоко, Фрейя занята, поглощена полностью. Смогу ли я это сделать? Смогу ли вернуться? Я не знаю.
Что стряслось? Что заставило Кейт прислать нам сообщения среди ночи? Причина может быть только одна – и мне тяжело о ней думать.
Поезд замедляет ход, приближаясь к солтенскому вокзалу. Вибрирует мобильник. Наверное, Кейт прислала сообщение – я здесь, я жду. Но это не Кейт. Это Тея.
Скоро буду.
Перрон пуст. Едва растворяется вдали грохот поезда, едва умиротворение, подобно ковру, вновь разворачивается над Солтеном, я улавливаю летние звуки – стрекотание сверчков, птичий щебет, отдаленный шум комбайна. Раньше первое, что я видела на парковке, был сине-голубой школьный микроавтобус. Теперь парковка похожа на раскаленную пыльную коробку, и никого на ней нет – даже Кейт.
Качу коляску к выходу с перрона, тяжеленная сумка оттягивает плечо. Ну и что мне делать? Звонить Кейт? Надо было заранее обговорить с ней время. Мое сообщение наверняка дошло, но что, если мобильный Кейт разрядился? В любом случае на мельнице нет стационарного телефона.
Ставлю коляску на тормоз, достаю из сумки мобильный. Надо проверить новые сообщения и заодно посмотреть, который час. Пока ввожу пин-код, вдали нарастает шум двигателя. Дюны заглушают его, но ошибки быть не может. Действительно, к парковке подъезжает автомобиль. Я ожидала увидеть огромный внедорожник, на котором Кейт семь лет назад приехала к Фатиме на свадьбу. Как сейчас помню: вместо пассажирских кресел – скамьи, а в опущенном окне торчит темная, с вываленным языком, морда Верного. Однако к парковке заруливает обычное такси. Целую минуту я сомневаюсь, что за мной приехала Кейт, но вот она не без труда выбирается с заднего сиденья, сердце трепещет, и я уже не адвокат по гражданским делам, не мать, а девчонка, что бежит по перрону навстречу лучшей подруге.
– Кейт!
Она ничуть не изменилась. Те же тонкие, даже костлявые, запястья, те же светло-каштановые волосы и кожа медового оттенка, тот же вздернутый кончик носа, те же веснушки. Только волосы отпустила, перехватывает их простой резинкой, а тончайшую кожу вокруг глаз и рта испещряют лучики морщинок. Во всем остальном Кейт – прежняя, моя. Мы обнимаемся, я вдыхаю ее запах. Кейт осталась верна и своим излюбленным сигаретам, и привычному мылу. И, как всегда, от нее, художницы, пахнет живичным скипидаром. Чуть отстраняюсь, ловлю себя на дурацкой улыбке – счастливой, вопреки всему.
– Кейт, – повторяю в очередной раз, а она в очередной раз обнимает меня, прижимаясь щекой к моим волосам.
Детский писк напоминает, кто я, кем стала – и что произошло с нашей последней встречи.
– Кейт.
Односложное имя так легко, так сладко произносить.
– Кейт, познакомься с моей дочкой.
Приподнимаю козырек детской коляски, беру маленький, теплый, сердитый, сучащий ножками сверток, подношу к Кейт.
С трепетом Кейт принимает у меня Фрейю. Подвижное, тонкое лицо расцветает улыбкой.
– Какая ты красавица, – воркует Кейт. Голос мягкий и хрипловатый – как мне и помнится. – До чего похожа на свою мамочку… Айса, она прелесть!
– Что, правда на меня похожа?
Синие глаза Фрейи уставились в синие глаза Кейт. Пухлая ручка тянется дернуть за волосы, замирает, зачарованная особым светом, какой бывает только возле моря.
– Глазки ей от Оуэна достались, Кейт.
В детстве я ужасно расстраивалась, что глаза у меня не синие.
– Ну что, поедем?
Кейт обращается к Фрейе, а не ко мне. Берет Фрейю за ручку, гладит пухлые, шелковистые младенческие пальчики, трогает ямочки на запястьях.
– Пора. Поехали.
– Куда делась твоя машина?
Мы идем к такси – Кейт несет Фрейю на руках, я толкаю коляску, в которой лежит сумка.
– Барахлит опять. А на ремонт денег нет. Как обычно.
– Кейт!
«Когда ты уже найдешь нормальную работу? – вот что я могла бы спросить. – Когда продашь мельницу, когда переедешь в нормальный город, где твой талант оценят по достоинству? Когда перестанешь зависеть от туристов, которых в Солтене год от года все меньше?» Но я молчу. Потому что знаю ответ. «Никогда». Кейт никогда не покинет мельницу. Никогда не уедет из Солтена.
– На мельницу, леди? – кричит из окна таксист, и Кейт кивает:
– Да, Рик, спасибо.
Рик выходит из машины.
– Давайте я уберу коляску в багажник. Она у вас складная?
– Конечно.
Снова борьба с клапанами и застежками, и внезапное осознание:
– Черт, я же детское кресло забыла! Колыбель взяла – думала, Фрейя в ней спать будет. А кресло – нет.
– Не волнуйтесь, здесь полицейского днем с огнем не найдешь, – успокаивает Рик, закрывая багажник. – Только и есть что сынок Мэри, а он моих пассажиров арестовывать не станет.
Боюсь я вовсе не ареста; но имя «Мэри» режет слух.
– Сынок Мэри? – Я смотрю на Кейт. – Это Марк Рен, что ли?
– Он самый. – Кейт выдавливает улыбку, рот у нее чуть кривится. – Теперь его величают «сержант Рен».
– Мне казалось, он еще юнец.
– Всего на пару лет моложе нас, – говорит Кейт.
Разумеется. Тридцать лет – достаточный возраст, чтобы служить в полиции. Но Марк Рен видится мне четырнадцатилетним юнцом с прыщами и пухом над верхней губой, с привычкой сутулиться, чтобы скрыть шесть футов два дюйма роста. Помнит ли он нас? Помнит ли нашу игру?
– Ничего не поделаешь, – извиняющимся тоном произносит Кейт, пока мы пристегиваемся. – Придется держать Фрейю на коленях. Конечно, это не идеальный вариант.
– Я поеду тихо-тихо, как твоя улитка, – обещает Рик, выезжая с парковки на дорогу среди дюн. – Тут всего-то несколько миль.
– Через марш[2] ближе, – бросает Кейт и стискивает мою ладонь. Понятно: в ее воспоминаниях сейчас – все наши походы через марш в школу и обратно.
– С коляской по пескам не пройти.
Рик пытается поддерживать разговор:
– Жарко для июня, верно?
Заворачивает за угол, навстречу солнцу. Солнечный свет пятнает листву, мельтешение слепит, жарит щеки. Жмурюсь. Интересно, я солнцезащитные очки вообще взяла? Поддакиваю Рику:
– Пе́кло еще то. В Лондоне гораздо прохладнее.
– Что это вам вздумалось приехать в наши края? – Взгляд Рика в зеркале заднего вида встречается с моим. – Вы учились в школе вместе с Кейт?
– Да.
После этого лаконичного ответа я замолкаю. Действительно, что это мне вздумалось? Что меня позвало? Сообщение из трех слов? Переглядываюсь с Кейт, понимаю: сейчас, при таксисте, она объясняться не станет.
– Айса приехала на вечер встречи, – неожиданно выдает Кейт. – Завтра в Солтен-Хаусе торжественный ужин.
Хлопаю глазами, но Кейт сжимает мне ладонь: кивай да помалкивай. Мы доезжаем до железнодорожного переезда, машина подпрыгивает на рельсах, и я вынуждена обхватить Фрейю обеими руками.
– Говорят, эти ужины в Солтен-Хаусе просто шикарные, – вздыхает Рик. – Моя младшенькая там подрабатывает официанткой, я всякого от нее наслушался. И канапе подают, и шампанское, и бог знает что еще.
– Не знаю, не видела, – говорит Кейт. – Просто сейчас пятнадцатая годовщина нашего выпуска, вот я и подумала: не пора ли побывать на вечере встречи?
Пятнадцатая годовщина? С минуту мне кажется, что Кейт ошиблась в подсчетах. Мы-то сами покинули школу семнадцать лет назад, с аттестатами о среднем образовании – останься мы на подготовку к университету, Кейт была бы права. Для наших одноклассниц с выпуска прошло как раз пятнадцать лет.
Такси заворачивает за угол, я буквально стискиваю Фрейю. Вот я дура, что не взяла детское кресло!
– Часто подругу навещаете? – продолжает Рик, глядя на меня в зеркало.
– Нет. Не то чтобы. Давно здесь не была. – Ерзаю на сиденье, понимая, что Фрейе тесно и неловко в моих объятиях, но хватку ослабить не могу. – Все, знаете, хлопоты, дела какие-то…
– Жаль. У нас так красиво, – откликается Рик. – Лично я не представляю, как бы в другом месте жил. Конечно, каждая лягушка свое болото хвалит. А ваши отец с матерью откуда родом?
– Они… они… – Слова застревают в горле, но Кейт рядом, и я умудряюсь выговорить: – Отец сейчас живет в Шотландии, а сама я росла в Лондоне.
Только что такси цеплялось боками за ограду пастбища – и вот уже мы едем через марш. Внезапно впереди возникает река. Наша река. Рич. Серая гладь с тростниковыми островками, с легкой рябью, почти не искажающей отражения линялых облаков; ширь, и простор, и блеск, и чистота, от которых ком подступает к горлу. Кейт смотрит мне в лицо, улыбается, шепчет:
– Что, забыла уже?
Качаю головой:
– Конечно, нет.
Я лгу. Я действительно успела забыть, что нигде в мире нет ничего, подобного нашей реке. Я видела немало рек, пересекала и другие устья – но ни одно не было столь прекрасно, ни одно не являло слияния земли, небес и моря – столь полного, столь безоглядного слияния, что и не разобрать, где кончаются облака и начинается водная стихия.
Дорога становится направлением. Шины шуршат по гальке, брюхо автомобиля царапает сухая трава.
Наконец впереди вырастает черный силуэт, ложится тенью на тихую воду, располосованную отражениями облаков. Это – приливная мельница, еще более обветшалая, чем мне помнится; уже не строение, а куча пла́вника, собранного ветрами, поставленного торчком среди вод; игрушка ветров, которую они в любой миг могут сломать, разметать по морю. Сердце екает, непрошеные воспоминания бьются в черепной коробке, щекочут крыльями виски.
Закат. Голая Тея плещется в Риче, кожа у нее золотая, чахлые деревца отбрасывают неожиданно длинные, неожиданно черные тени на воду, которая в лучах солнца кажется жидким пламенем; устье подобно великолепной тигровой шкуре.
Морозное утро, камыши и тростники густо опушены инеем. Кейт распахнула заиндевевшее окно, высунулась, раскинула руки, выкрикивает что-то восторженное. Слова белыми облачками уносятся в небо.
Полдень. Фатима в крошечном купальнике растянулась на деревянных мостках. Кожа у нее оттенка красного дерева, гигантские солнцезащитные очки отражают ослепительную водную рябь.
А еще – Люк. Но здесь мое сердце запирается от памяти на ключ.
Мы подъехали к воротам.
– Лучше здесь и остановиться, Рик, – говорит Кейт. – Сегодня ночью был прилив, земля еще не просохла. Завязнете.
– Точно? – Рик оборачивается. – А то я не прочь рискнуть.
– Не надо. Мы прогуляемся.
Кейт тянется к ручке, вынимает банкноту в десять фунтов, однако Рик жестом отказывается от денег.
– Себе оставьте.
– Но, Рик…
– Я всю дорогу Рик. Ваш отец был хорошим человеком, что бы здесь о нем ни болтали; да и вы уже сколько лет среди сплетен живете и не пачкаетесь. В другой раз заплатите.
Кейт сглатывает, явно хочет что-то сказать, но не может. Произношу за нее:
– Спасибо вам, Рик. От меня-то вы деньги можете принять, верно?
Достаю десять фунтов. Рик колеблется, и я кладу банкноту в пепельницу. С Фрейей на руках выбираюсь из такси, Кейт тащит мою сумку, вынимает из багажника коляску. Наконец Фрейя уложена и пристегнута, и Рик решается:
– Так и быть, возьму. Понадобится куда-нибудь подъехать – сразу мне звоните. Хоть днем, хоть ночью. Договорились? Этакое страшное место, – продолжает он. – Не сегодня завтра под воду уйдет, а вы тут одни, без машины. Звоните мне, поняли? О деньгах не думайте.
– Поняли, поняли, – говорю я и для большей убедительности киваю.
И правда, как-то надежнее, когда есть, кому позвонить.
Итак, Рик уехал. Смотрим друг на друга, сами не понимаем, что нам связало языки. Солнечный жар льется с высоты прямо на наши макушки. Хочу спросить Кейт насчет сообщения, но что-то меня удерживает. Пока я собираюсь с мыслями, Кейт распахивает ворота, подталкивает меня вперед. Иду к деревянным мосткам, соединяющим мельницу с берегом.
Мельница расположена на клочке песчаной почвы, который едва ли шире, чем фундамент. Вероятно, в прежние времена этот клочок был частью берега. При строительстве прорыли узкий канал. Отделив мельницу от суши, он регулировал приливы и отливы, вращавшие мельничное колесо. Теперь колеса́ нет, и только черный обрубок, торчащий из стены, указывает на место их прежнего нахождения. Над обрубком устроены мостки в десять футов длиной – именно настолько мельница отстоит от берега. Семнадцать лет назад мы, четверо, бегали разом по этим мосткам; сейчас даже представить страшно, как мы не боялись, что дерево не выдержит нашего совокупного веса. Мостки – гораздо у́же, чем мне помнится, просоленные доски местами прогнили, а поручней здесь и раньше не было. Кейт, впрочем, ступает уверенно, неся мою сумку.
Делаю глубокий вдох, отгоняю страшные картины (мостки рушатся, коляска скользит в соленую воду) и следую за Кейт. Сердце колотится где-то в горле, когда коляска проезжает над проломами. Выдыхаю, лишь очутившись в относительной безопасности по ту сторону мостков.
Дверь не заперта. Ее здесь никогда не запирали. Кейт надавливает на ручку, отступает, пропуская меня внутрь. Толкаю коляску по деревянным ступеням, вхожу.
С Кейт я последний раз виделась семь лет назад, а вот в Солтене не была вдвое дольше. Целый миг кажется, что я сделала шаг в прошлое, мне снова пятнадцать, и это мое первое посещение мельницы – так завораживающе прекрасен царящий здесь упадок. Высокие асимметричные окна с потрескавшимися рамами выходят на устье, сводчатый потолок заставляет запрокидывать голову, высматривая в сумрачной вышине почерневшие балки; лестница идет винтом, как пьяная, делает передышки на хлипких площадках, заглядывает в спальни, словно кого-то ища, пока не успокаивается в мансарде с видом на стропила, под самой крышей.
Я вижу закопченную печь с гнутой, как змея, трубой и приземистый диван с лопнувшими пружинами; но главное – картины. Им нет счета; они кругом. Некоторые мне незнакомы – наверное, их рисовала Кейт; но не меньше сотни для меня словно старые друзья или полузабытые имена. Вот над ржавым умывальником, в золоченой раме – малютка Кейт, круглолицая, с чубчиком, сосредоточенно тянется к некоему объекту, скрытому художником от зрителя.
Вот между высоких окон, незаконченный холст – Рич, хрусткое зимнее утро, одинокая цапля низко летит над замерзшей водной гладью.
У двери, что ведет к туалету, – акварельный портрет Теи. Контуры лица размыты, Тея словно впитывается шершавой бумагой.
Над столом карандашный набросок – мы с Фатимой качаемся в гамаке, наши руки сплетены, мы смеемся – словно причин для страха вовсе нет.
Воспоминания, подобно приливной волне, едва не сбивают с ног, тянут за собою обратно в прошлое – но тут раздается громкий лай. Вихревое пятно – белое с серым – мчится ко мне, и в следующую секунду две большие лапы уже на моих плечах. Верный тычется темной в крапинку мордой мне в колени, разбивает чары – ведь Верного в нашем прошлом не было.
– Кейт, здесь все по-прежнему!
Понимаю: звучит глупо, банально. Кейт передергивает плечами, расстегивает ремешки коляски.
– Не все. Видишь – я холодильник передвинула.
Она кивает на пустой угол, на часть стены, десятилетиями не знавшую косметического ремонта.
– И пришлось продать множество папиных картин. Лучших картин, Айса. Пустое пространство я заполнила своими картинами, но куда мне до папы! Ты теперь не найдешь двух моих любимых вещей – помнишь, скелетик ржанки и гончий пес среди дюн? Что до остальных… я не сумела с ними расстаться.
Кейт смотрит на картины поверх головки Фрейи и взглядом ласкает каждую. Забираю Фрейю из ее рук, устраиваю у себя на плече, не озвучивая своих мыслей: «Мельница выглядит как музей-квартира какой-нибудь знаменитости. Полное ощущение, что владелец вышел минуту назад; абсолютно такое же, как в спальне Марселя Пруста, заботливо воссозданной в музее Карнавале, или в кабинете Киплинга, который сохранился нетронутым в Бейтманс-Хаусе. Только на мельнице нет веревок, не подпускающих к экспонатам; и дом – обитаемый: здесь живет Кейт».
Боясь, как бы Кейт не прочла мои мысли, делаю шаг к окну, глажу Фрейю по упругой теплой спинке – не столько для ее успокоения, сколько для своего. Смотрю на Рич.
Даже в отлив деревянные мостки возвышаются над плещущими волнами всего на несколько футов. Изумленная, поворачиваюсь к Кейт.
– Похоже, вроде как мостки затопило?
– И не только их, – печально произносит Кейт. – Под воду уходит вся мельница, ничего не поделаешь. Я даже эксперта приглашала, и он сказал, здесь нет нормального фундамента. Мельницу ни продать, ни заложить нельзя. Никто за нее гроша не даст.
– Но как же… погоди, в каком смысле «под воду уходит»? А если укрепить? Что, совсем никак не получится?
– Совсем. Проблема в том, что под нами песок. Не на чем установить фундамент. Рано или поздно мельница будет затоплена полностью.
– Но ведь это опасно!
– Да нет. В смысле, да, конечно, от подтопления покосились стены, полы на верхних этажах покоробились и все такое. Расслабься: до утра мы точно не утонем. Вот с проводкой действительно беда.
– С проводкой?
Смотрю на выключатель, почти готовая к тому, что сейчас он заискрит. Кейт усмехается:
– Не волнуйся. Я уже давно установила мощный автомат защиты сети. Как только поняла, что дело серьезное, так и раскошелилась. Срабатывает при малейшем намеке на короткое замыкание. То есть почти каждый раз во время прилива.
– При таких характеристиках дом не застрахуешь.
Кейт смотрит так, словно я сказала глупость.
– А к чему мне страховка?
Качаю головой.
– Что ты в мельницу вцепилась, Кейт? Это же сумасшествие. Нельзя жить в таких условиях.
– Айса, – терпливо говорит Кейт, – пойми: я не могу уехать. Не могу, и точка. Дом никто не купит.
– Ну так не выставляй его на продажу. Просто уезжай. Ключи пусть банк забирает. Объяви себя банкротом, если потребуется.
– Не могу, – упрямо повторяет Кейт, подходит к плите, поворачивает рычажок, пускает газ. Горелка вспыхивает голубым огнем. Чайник начинает посвистывать. Кейт достает две кружки и старую коробку с заваркой. – Причина тебе известна, Айса.
Возразить нечего. Кейт попала в точку. Именно по этой причине я сейчас здесь.
– Кейт, – слова приходится выталкивать усилием воли, – Кейт, твое сообщение…
– Не сейчас, Айса.
Она стоит ко мне спиной – специально, чтобы я не видела лица.
– Извини, просто это было бы… нечестно. Придется нам подождать остальных. Тогда я все расскажу.
– Ладно, – спокойно соглашаюсь я.
Хотя спокойствия не ощущаю.
Следующей приезжает Фатима. Уже почти стемнело, в окна вяло тянет теплым бризом, я листаю роман, пытаюсь отвлечься. Хочется встряхнуть Кейт, выбить из нее правду. Не меньше хочется, как страус, спрятать голову в песок.
Сейчас, вот в этот самый миг, все пропитано изумительным покоем; при мне моя книга, рядом моя Фрейя, мирно посапывающая в колыбели. Кейт хлопочет у плиты, аппетитно пахнет чем-то острым. Цепляться бы за эти мелочи, сколько хватит сил. Может, если я достаточно долго продержусь, если мы не станем говорить о прошлом – получится самая обычная встреча старых подруг. Как я и сказала Оуэну.
Вздрагиваю от шипения сковородки. В ту же секунду Верный начинает отрывисто лаять, и слышится шорох шин. С основной дороги свернул автомобиль и приближается к Ричу.
Поднимаюсь, открываю ту дверь, что выходит на сторону суши. Вот он, большой черный внедорожник, катит, сотрясаясь от какого-то хита, распугивая дюнных птиц, что крикливыми стаями взмывают в небо. Внедорожник все ближе, ближе. Наконец он останавливается, под шинами хрустит галька, скрипит ручной тормоз. Двигатель заглушен, возвращение тишины внезапно, ошеломляюще.
– Фатима! – зову я.
Распахивается водительская дверь. Бегу навстречу Фатиме, которая уже раскрыла мне объятия.
– Айса! – Яркие глаза черны, как у малиновки. – Когда же мы в последний раз виделись?
– Не помню!
Целую Фатиму в щеку, наполовину скрытую под шелковым шарфом, прохладную после нескольких часов, что Фатима провела в автомобиле с кондиционером. Отстраняюсь, всматриваюсь в ее лицо.
– Кажется, я к тебе приезжала после рождения Надии. Выходит, шесть лет назад. Боже!
Фатима кивает, вскидывает руки к невидимкам, которыми крепится у нее на голове шелковый шарф, повязанный а-ля Одри Хепберн. Вот сейчас она его снимет. Однако Фатима, наоборот, поправляет невидимки, и я внезапно понимаю: это не просто шарф, это хиджаб. Что-то новенькое. Новенькое с нашей последней встречи, а не со школьных времен. Уловив мой взгляд, Фатима угадывает и мою мысль. Улыбается, закрепляя последнюю невидимку.
– Ну да, я немного изменилась. Давно прикидывала, не пора ли носить хиджаб, а после рождения Самира что-то во мне щелкнуло. Решила: самое время.
– Это ты из-за… то есть ради… ради Али?
Мысленно ругаю себя за дурацкое начало. Фатима косится на меня своими блестящими черными глазами.
– Милая Айса, ты меня достаточно давно знаешь. Скажи, я когда-нибудь делала ради парня что-либо, чего сама не хотела? – Она вздыхает. – Сама не пойму, в чем тут дело. Может, материнство заставило меня пересмотреть жизненные ценности? Или к пресловутым корням возвращаюсь? Знаю только одно: сейчас я счастливее, чем когда-либо прежде.
– А я…
Не получается выразить свои чувства. Скольжу взглядом по платью, застегнутому наглухо, до самой шеи; по шарфу, плотно облегающему голову Фатимы, и вспоминаю ее прекрасные волосы – черный водопад, струившийся по плечам, по лямкам и чашечкам бикини, так что казалось, Фатима под этим покровом обнаженная. Амброуз как-то назвал ее леди Годивой. Тогда я еще не знала, кто это такая. А сейчас… сейчас все спрятано. Впрочем, мне-то желание Фатимы отгородиться от прошлого вполне понятно.
– Если честно, я такого не ожидала. А что Али? Он с тобой солидарен? В смысле, празднует Рамадан, и все такое?
– Да. Мы к этому вместе пришли.
– Твои родители, наверное, довольны.
– Не знаю. Трудно сказать.
Фатима закидывает сумку на плечо, мы идем по мосткам, напрягаем зрение, высматривая подгнившие доски. Солнце вот-вот скроется.
– Да, пожалуй, мои родители довольны, хотя мама всю жизнь делала вид, что принимает меня и без хиджаба. Сейчас, кажется, она втайне торжествует: надо же, дочка все же вернулась к корням. А свекр со свекровью… ты удивишься, но они не в восторге. Свекровь у меня женщина веселая, общительная; твердит мне: «Фатима, в этой стране люди не одобряют тех, кто носит хиджаб, ты сама себе шансы найти работу сокращаешь, в школе другие родители тебя радикалкой считают». Я говорю: «Что вы, мама, знаете, как у нас в больнице меня ценят? Женщина-врач на полной ставке, да еще и урду владеет. А что до родителей, так половина детей в школе из мусульманских семей». Представь: не верит!
– Как дела у Али?
– Отлично. Его постоянно на консилиумы приглашают. Работает без отдыха. Впрочем, как и мы все.
– Только не я. У меня отпуск по уходу за ребенком. Целыми днями дома зависаю.
В ответ на мою фразу, сдобренную легким смешком, Фатима тупит взгляд.
– А, ну да, к этому прилагаются бессонные ночи и трещины на сосках. Уж лучше в больнице, на полную смену… А где Фрейя? Хочу с ней познакомиться.
– Спит. Устала за поездку. Но скоро проснется.
Мы успели добраться до дверей. Фатима медлит и не поворачивает дверную ручку.
– Айса…
Достаточно одного этого слова, одной паузы после него, чтобы я поняла, о чем думает Фатима, о чем не решается спросить. Качаю головой:
– Понятия не имею. Спросила Кейт, а она говорит: пусть все соберутся, а то получится нечестно.
Фатима сникает, и все вдруг становится пустым и ненужным, и от вопросов о работе и здоровье губы сохнут, будто от пыли. Фатима нервничает не меньше меня, мы обе думаем только о сообщении Кейт, обе гоним мысль о том, что оно может означать. О том, что оно наверняка и означает.
– Готова?
Фатима выдыхает, почти не разжимая губ. Следует короткий кивок:
– Конечно. Как всегда. Проклятье. Похоже, началось.
Фатима открывает дверь, и прошлое накатывает на нее – точь-в-точь, как накатило на меня.
В тот самый первый день, на солтенском перроне, были только мы втроем – я, Тея и Кейт, да еще вдалеке маячила хрупкая темноволосая девочка лет одиннадцати-двенадцати. Несколько раз окинув перрон растерянным взглядом, девочка направилась в нашу сторону. По мере ее приближения я заметила, во-первых, что на ней школьная форма, а во-вторых, что сама она гораздо старше, чем показалась издали, – ей все пятнадцать, просто она миниатюрная.
– Привет, – сказала она. – Вы в Солтене учитесь?
– Нет, мы шайка педофилок, а форму напялили для конспирации, – отозвалась Тея, видимо, по привычке, и сразу добавила, качнув головой: – Извини, глупость сморозила. Да, мы из Солтена. Ты новенькая?
– Новенькая.
Девочка зашагала вровень с нами, представилась:
– Меня зовут Фатима.
У нее оказался лондонский акцент, и я сразу к ней прониклась.
– А где остальные? – продолжала Фатима. – Я думала, будет полный поезд солтенских учениц.
Кейт покачала головой:
– Родители обычно сами привозят своих дочек, особенно после летних каникул. Вдобавок, приходящие ученицы и те, что ночуют в школе только в будни, а каждые выходные отправляются по домам, не приедут раньше понедельника.
– А много их, приходящих?
– Примерно треть от общего количества. Я сама из второй категории, то есть на выходные ухожу домой. Просто я гостила у Теи в Лондоне, вот мы и поехали обратно вместе.
– А где твой дом? – спросила Фатима.
– Вон там.
Кейт махнула в сторону марша, туда, где в отдалении серебрилась вода. Я, как ни напрягала глаза, дом разглядеть не смогла. Но он явно там был, затерянный среди дюн, а может, стоял за лесополосой, что тянулась вдоль железнодорожных путей.
Фатима обратилась ко мне:
– Ты тоже приходящая?
Личико у нее было округлое, приветливое, волосы, зачесанные с висков под ободок, черной волной падали на спину.
– Давно здесь учишься? В каком классе?
– Мне пятнадцать. В пятый перешла. Я… я новенькая, как и ты. И тоже пансионерка.
Не хотелось рассказывать всю историю – про мамину болезнь, про длительные курсы лечения, когда мы с тринадцатилетним братом, Уиллом, оставались одни дома, когда папа допоздна задерживался на работе в банке. А потом ему взбрело в голову отправить нас в закрытые школы. Это было как гром среди ясного неба. Почему папа так решил? Разве я доставляла ему неприятности? Я не бунтовала, не баловалась ни травой, ни «колесами», номеров не выкидывала. На мамин диагноз отреагировала тем, что стала учиться еще прилежнее. Еще внимательнее относилась к обязанностям по дому – стряпала, ходила за покупками, напоминала отцу, что пора платить экономке. А он что сделал? Позвал нас с Уиллом и начал: «Так для вас будет лучше… не надо вам в собственном соку вариться… учеба не должна страдать… последний год перед экзаменом на аттестат…»
Помню, я стояла, как пыльным мешком прибитая; и на солтенском перроне я чувствовала себя точно так же. Уилл только кивнул, у него даже верхняя губа не дрогнула – а ночью я слышала, как он плачет в подушку. В тот день отец отвез его в Чартерхаус, а на мою доставку его уже не хватило. Поэтому я ехала одна.
– Мой папа сегодня очень занят, – неожиданно для себя самой объяснила я. – А то бы он меня привез.
Получилось естественно, словно я эту фразу отрепетировала.
– А мои родители за границей, – сказала Фатима. – Они у меня врачи-волонтеры. На год уехали. Бесплатно.
– Ни фига себе! – выдала Тея. По тону было ясно: она под впечатлением. – Мой отец выходными не пожертвует, а тут – целый год! Им что, вообще ничего не платят?
– Только стипендию, или как ее там. Может, правильнее сказать «суточное содержание». Но сумма зависит от зарплат местных жителей, так что выходит совсем чуть-чуть. Они не ради денег, а ради веры. Так они понимают служение Аллаху.
Мы завернули за угол крохотного здания вокзала, где поджидал сине-голубой микроавтобус. Рядом с автобусом стояла женщина в юбке и блейзере, с блокнотом в руках.
– Добрый день, девочки, – произнесла она, обращаясь к Тее и Кейт. – Надеюсь, вы хорошо провели лето?
– Да, мисс Рурк, – ответила Кейт. – Это Фатима и Айса. Мы познакомились в поезде.
– Фатима… – мисс Рурк медленно повела шариковой ручкой по своему списку.
– Квуреши, – подсказала Фатима. – Пишется: «К», «В», «У»…
– Достаточно, – отрезала мисс Рурк и подчеркнула нужную фамилию. – А ты, должно быть, Изза Уайлд.
Я покорно кивнула.
– Я правильно произношу – Изза?
– Нет, нужно «Айса». Чтобы рифмовалось с «вливайся».
Мисс Рурк воздержалась от комментариев, сделала пометку в блокноте и убрала наши чемоданы в багажное отделение. Друг за дружкой мы полезли в микроавтобус.
– Закройте дверь поплотнее, – распорядилась мисс Рурк с переднего сиденья, не глядя на нас.
Фатима ухватилась за дверную ручку, потянула, дернула. Последовал громкий хлопок. Микроавтобус тронулся, запрыгал по раздолбанному асфальту, покатил меж дюн к морю.
Тея и Кейт потихоньку переговаривались на заднем сиденье, а мы с Фатимой сидели плечом к плечу, молча, и делали вид, будто каждый день катаемся в школьных микроавтобусах.
Первой не выдержала я:
– Фатима, ты раньше в закрытой школе училась?
Она покачала головой:
– Нет. Я вообще сюда не хотела. Лучше бы с родителями в Пакистан поехала. А ты?
– Та же фигня. А Солтен-Хаус ты видела?
– В прошлом году родители меня сюда возили, когда школу подыскивали. Как тебе это заведение, Айса?
– Мне? Я… я здесь не бывала.
Отец все решил за меня и без меня, на ознакомительные визиты времени не осталось. Если Фатима и сочла это странным, то своих мыслей не выдала.
– Не бывала так не бывала, – сказала она. – Знаешь, ты не пугайся, только… только этот Солтен-Хаус сильно смахивает на образцовую тюрьму.
Я кивнула с вымученной улыбкой. Ясно, что имеет в виду Фатима – я видела Солтен на фото в рекламном проспекте, мне в глаза тоже бросилось сходство с тюрьмой. Белый прямоугольник фасада, развернутый к морю; мили железного заграждения. Фотография на обложке являла общий план здания – пугающе строгие линии, аскетизм скорее подчеркнут, нежели смягчен, четырьмя довольно-таки нелепыми башенками по углам, будто архитектор в последний момент спохватился – а не слишком ли сурово получилось? – и дорисовал эти чужеродные башенки. Острые углы мог бы сгладить плющ или хотя бы мох; впрочем, на морском ветру ни одному растению, наверное, не выжить.
– Как думаешь, нам позволят выбирать, с кем поселиться в одной комнате? – спросила я.
Вопрос возник еще при выезде из Лондона и с тех пор терзал меня.
Фатима пожала плечами:
– Кто их знает? Вряд ли. Сама подумай, какие споры начнутся, если каждая ученица станет сама выбирать себе соседку. Наверное, списки давным-давно готовы, остается только подчиниться.
Я снова кивнула. Я внимательно читала проспект, и меня очень задело, что в Солтене девочкам разрешается селиться по одной только в шестом классе. До́ма я привыкла к собственному личному пространству. Четвероклассницы и пятиклассницы, гласил проспект, живут по две в комнате. Ладно, по крайней мере, у них упразднен такой анахронизм, как дортуары[3].
Мы снова замолкли. Фатима углубилась в книгу Стивена Кинга, я стала смотреть в окно, на соляные марши, слепившие обширными пятнами водной глади, на плотины и каналы, что змеились под солнцем. Скоро пейзаж изменился: марши уступили место песчаным дюнам. Микроавтобус ехал теперь как бы по неглубокому ущелью между дюнных гряд. С моря дул ветер, и даже мы, пассажиры, ощущали, как нелегко микроавтобусу с ним бороться.
Наконец, дорога повернула, мисс Рурк махнула водителю, и тот выехал на подъездную аллею, мощенную белой плиткой. Аллея вела прямо к школьным воротам.
Солтен прочно врезался в мою память. С трудом верится, что были в моей жизни и досолтенские времена. В тот день я сидела, притихшая, в микроавтобусе, который еле тащился по подъездной аллее вслед за «Мерседесами» и «Бентли», и вникала в обстановку. На фасад, ослепительно-белый на фоне синего неба, было больно смотреть; фото для рекламной брошюры явно делали в такую же погоду. Четкие прямоугольники окон, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, сверкали, придавая строению дополнительную строгость. Пожарные лестницы чернели по торцам и обвивали четыре башенки, словно рукотворный плющ. Вдали виднелись хоккейная коробка и теннисный корт, а также безразмерная площадка для прогулок. За ней начинался соляной марш. Приглядевшись, я увидела, что парадная черная дверь открыта настежь. Девочки бегали, кричали, обнимались с родителями, приветствовали подруг и наставников – эта суматоха напоминала пчелиный рой.
Микроавтобус остановился, мисс Рурк поручила нас с Фатимой другой учительнице, мисс Фарквухарсон-Джим. Оказалось, она ведет гимнастику. Тея и Кейт словно растворились, а нас затянуло в толпу девочек, читавших списки на доске объявлений, громко выражавших удовлетворение или возмущение тем, как их распределили по комнатам и спортивным командам. Кто-то тащил чемодан, кто-то хвастался домашними лакомствами или новой стрижкой.
Над общим хаосом звенел голос мисс Фарквухарсон. Казалось, ей никаких усилий не стоило перекрикивать толпу.
– Сразу две новенькие в пятом классе – очень нехарактерное явление для нашего учебного заведения.
Вслед за мисс Фарквухарсон мы вошли в холл с высоким потолком, панелями на стенах и крутой винтовой лестницей.
– Как правило, новеньких мы сразу селим со старенькими, чтобы они быстрее усваивали наши правила. Но в вашем случае, по ряду причин, мы решили иначе. Вы будете жить вместе.
Мисс Фарквухарсон заглянула в блокнот и добавила:
– Башня 2Б – вот где ваша комната. Конни, постой-ка! – Она ухватила за руку девочку помладше нас, мчавшуюся куда-то с ракеткой для бадминтона. – Будь добра, Конни, покажи Фатиме с Айсой дорогу в башню 2Б. Да проведи их мимо буфета, чтобы они не заблудились после, когда настанет время ланча. А ланч у нас, девочки, ровно в час дня. О нем возвещает колокол, но лишь за пять минут до начала, так что настоятельно советую вам сразу выходить из комнаты, ибо до буфета от башни 2Б далековато. А сейчас ступайте вместе с Конни.
Мы закивали. От криков кружилась голова. Конни ускакала вперед, мигом смешавшись с толпой, а мы с тяжелыми чемоданами потащились следом.
– Советую усвоить: парадный вход не для всех. Его открывают только в первый день семестра, в другие дни им пользуются только привилежки.
– Кто-кто? – переспросила я.
– Отличницы, капитаны команд, старшие по дисциплине и прочие. Скоро сами разберетесь. Одно посоветую: не уверены – не лезьте через парадный. Досадное правило, потому что так быстрее всего возвращаться с пляжа и с хоккея, но экономия времени выговора не стоит.
Без предупреждения Конни нырнула в очередной дверной проем и махнула в сторону коридора, выложенного каменными плитами:
– Вон там у нас буфет. Двери не откроют, пока час не пробьет, но лучше не опаздывать, а то без мест останетесь. Вас правда в башню 2Б поселили?
Вопрос показался мне странным. Фатима ответила за нас обеих:
– Так учительница сказала.
– Повезло вам, – с завистью вздохнула Конни. – В башнях лучшие спальни, это каждый знает.
Она не потрудилась объяснить, чем башенные спальни отличаются от прочих. Толкнула тяжелую дверь и начала непростой подъем по узкой и темной лестнице, которую с порога можно было и не заметить. Я пыхтела, выбивалась из сил, еле успевая за Конни. Чемодан Фатимы громыхал по ступеням.
– Давайте поживее, – поторапливала Конни. – Меня Летиция ждет, я обещала, что до ланча приду – не знала, что мне вас навяжут.
Я снова кивнула, на сей раз мрачно, и втащила чемодан на очередную лестничную площадку. Наконец мы оказались перед дверью с табличкой «Башня 2».
– Дальше сами, девочки, – сказала Конни. – Теперь не заблудитесь, там всего две комнаты – А и Б. Ваша – Б.
– Огромное спасибо, – бросила Фатима, и Конни мигом скрылась – будто в кроличью нору канула. Мы с Фатимой, выдохшиеся, растерянные, смотрели на табличку «Башня 2».
– Да тут целый лабиринт, – произнесла Фатима. – Фиг найдешь эту их банкетную.
– Буфетную, – автоматически поправила я и тотчас прикусила язык.
Впрочем, Фатима, если и расслышала, то не обиделась.
– Ну что, идем, Айса?
Она толкнула дверь Башни, но не вошла, а сделала поклон.
– После вас.
Я заглянула внутрь. Снова лестница, на сей раз винтовая, исчезающая где-то в вышине. Со вздохом я взялась за ручку чемодана. Если так каждый день бегать вверх-вниз, скоро я такие мышцы на ногах накачаю, что просто ах.
Первая дверь вела в ванную. Мы увидели умывальники, две туалетные кабины и перегородку, за которой, наверное, была ванна. Мимо, мимо, все дальше, все выше – и вот мы на второй лестничной площадке с единственной дверью, помеченной буквой «Б». Я покосилась на Фатиму, смерила взглядом лестничный колодец, вскинула бровь.
– А теперь куда?
– Только вперед, – оптимистично ответила Фатима.
Я постучалась. Ответа не последовало, и я осторожно толкнула дверь. Мы вошли.
Комната с двумя окнами оказалась неожиданно уютной – вероятно, за счет округлых стен башни. Одно окно выходило на север – из него открывался вид на марши. Второе, западное, являло бесконечные школьные спортплощадки и дорогу вдоль побережья. Я прикинула: наша башня – левая задняя, если смотреть с фасада. Прямо под нами пестрели крыши. По фото из брошюры я узнала крыло с помещениями для занятий естественными науками и спортивный зал. Под каждым окном стояла узкая железная кровать с простым белым постельным бельем и красным одеялом в ногах. Возле кроватей – деревянные тумбочки, а между окнами – два шкафчика, высокие, но слишком узкие, чтобы называться платяными. Один был помечен табличкой «А. Уайлд», второй – «Ф. Квуреши».
– По крайней мере, насчет кроватей все решено за нас, – произнесла Фатима, подтащила чемодан к шкафчику со своей фамилией и добавила: – Организация на высшем уровне.
Я как раз изучала стопку бумаг на столе, которую венчал «Контракт между Школой и Ученицей» – его надлежало подписать и отдать мисс Уэзерби, – когда зазвенел, затрещал, отозвался эхом в коридоре какой-то безумный звонок. Фатима подпрыгнула, явно перепуганная не меньше меня.
– Что еще за черт? Только не говори, что здесь всегда такими звуками в буфет приглашают.
– Кажется, так оно и есть. – Сердце у меня все еще колотилось от первого испуга. – Гадский звонок. Как думаешь, к нему можно привыкнуть?
– Сомневаюсь. По-моему, нам пора на выход. Вряд ли мы за пять минут отыщем эту их обжорную.
Я молча открыла дверь. Сверху слышались шаги, и я подняла голову, надеясь увязаться за девочками, которые так уверенно спускались в обеденный зал. Ноги, представшие моему взору, были длиннющие и удивительно знакомые. Всего несколько часов назад при мне на эти самые ноги натягивались чулки, запрещенные правилами внутреннего школьного распорядка.
– Так-так-так, – произнесла Тея.
За Теей, из-за поворота винтовой лестницы, появилась Кейт.
– Знаешь, кто наши соседки, кого поселили в 2Б? – нараспев продолжала Тея. – Похоже, предстоит веселый год.
– То есть ты теперь не пьешь? – говорит Кейт, вновь наполняя мой бокал, а затем и свой. Лицо в свете лампы насмешливое, брови не столько хмурятся, сколько выражают удивление. – Прямо совсем?
Фатима кивает и отодвигает тарелку.
– Именно. Отказ от спиртного – обязательное условие, сечешь?
Она закатывает глаза – не ожидала от себя этого словечка.
– Ну и как оно, вечно на трезвую голову? – спрашиваю я.
Фатима делает глоток лимонада, который привезла с собой, и пожимает плечами:
– Если честно – нормально. В смысле, я помню, как мы веселились и каков на вкус джин с тоником, но…
Она замолкает.
Догадываюсь, что именно Фатима хотела сказать: алкоголь – не абсолютное благо, без него мы, пожалуй, столько ошибок не наделали бы.
– Я всем довольна, – произносит наконец Фатима. – Потому что так – правильно. И во многих отношениях без алкоголя проще. Например, когда ты за рулем или беременна. Я из мухи слона не раздуваю. Завязала – значит, завязала.
Потягиваю красное вино. Верхний свет выключен, мы сидим при лампе, и потолок расцвечен рубиновыми бликами из бокала. Прямо над нами, на втором этаже, спит Фрейя. Физически ощущаю, как алкоголь просачивается в грудное молоко.
– Я стараюсь не увлекаться. Ради Фрейи. Позволяю себе пару бокалов, не больше. Я ведь грудью кормлю. Но девять месяцев без единой капли еле выдержала. Если честно, меня только одна мысль грела – о бутылке «Пуйи-Фюмэ», которую я припрятала на период после родов.
– Целых девять месяцев без единой капли! – Кейт осторожно поворачивает бокал, оценивая маслянистость вина. – Я уж и не припомню, когда последний раз девять дней подряд выдерживала. А ты, кажется, больше не куришь? По-моему, бросить курить – это достижение.
– Я бросила, еще когда познакомилась с Оуэном. С тех пор – ни-ни. Поэтому и позволяю себе выпить вина – невозможно отказаться разом от двух и более дурных привычек. Тебе, Фатима, повезло, что ты к сигаретам никогда не притрагивалась.
Фатима смеется:
– Верно. С чистой совестью могу втирать пациентам о вреде табака. Они, знаете ли, не особенно верят доктору, от которого дымом разит. Мой Али периодически покуривает. Тайком, но я-то его насквозь вижу.
– И ты его не упрекаешь? – спрашиваю я с мыслью об Оуэне.
Фатима пожимает плечами:
– Пусть это остается на его совести. Вот если бы Али при детях курил – ему бы не поздоровилось. А так… перед Аллахом ответит за нанесенный собственному организму ущерб.
– До чего странно… – Кейт смеется. – Ой, прости, я ничего плохого в виду не имела. Просто не могу привыкнуть. Ты вроде прежняя Фатима, и все-таки… – Кейт указывает на хиджаб. Фатима давно сняла его с головы, но он лежит у нее на плечах, как вещественное доказательство глубины изменений.
– Только не обижайся, – продолжает Кейт. – На самом деле это круто. Просто мне нужно время на… на адаптацию. То же самое было, когда я увидела Айсу с Фрейей.
Кейт улыбается мне, тонкие морщинки в уголках рта проступают явственнее.
– Нет, правда. Смотрю – идет по перрону с коляской, а в коляске – живой маленький человечек. Ты, Айса, так ловко с Фрейей управляешься, мордашку ей вытираешь, подгузники меняешь – будто всю жизнь только этим и занималась… Не верится, что ты теперь мать. Вот ты сидишь на своем старом месте, и вроде ничего не изменилось, а на самом деле…
На самом деле изменилось все.
В одиннадцать Фатима смотрит на часы, отодвигается от стола. Мы разговаривали – долго и обо всем, начиная с пациентов Фатимы и заканчивая солтенскими сплетнями и работой Оуэна. Одной только темы не касались, но неозвученный вопрос – зачем Кейт собрала нас, к чему такая срочность – висел между нами в воздухе.
– Мне нужно отлучиться, – говорит Фатима. – В туалет.
– Ага, иди, – отзывается Кейт, не поднимая головы.
Она готовит себе папиросу, тонкие смуглые пальцы привычно и ловко берут табак, помещают на бумагу, раскатывают.
– Где мне расположиться? В задней комнате или?.. – спрашивает Фатима.
– Ой, прости, с этого следовало начать. – Кейт качает головой, как бы себе в укор. – Нет, внизу разместится Тея. А тебе, Фатима, я уступаю свою старую комнату. Теперь я сплю на самом верхнем этаже.
Фатима кивает, идет в ванную. Мы с Кейт остаемся одни.
Кейт берет самокрутку и разминает на столешнице. Медлит закурить.
– Не обращай на меня внимания, Кейт.
Конечно, она не закуривает, потому что я бросила.
– Нет, Айса, так нечестно. Лучше выйду на улицу.
– И я с тобой.
Кейт распахивает дверь, что выходит на реку, ведет прямо к мосткам. Вместе мы шагаем за порог, погружаемся в теплый ночной воздух. Темно, и луна над Ричем восхитительна. Кейт держится левой стороны мостков, движется против течения Рича. Вдали перед ней – деревушка Солтен. Соображаю, хоть и не сразу, почему Кейт выбрала это направление. Противоположный конец мостков, тот, где нет поручней, где мы, бывало, сидели во время прилива, болтая ногами в воде, – полностью затоплен.
Кейт ловит мой взгляд, пожимает плечами, выражая покорность судьбе.
– Ну да, прилив их теперь затопляет. – Следует взгляд на часы. – Это – максимум; скоро вода начнет спадать.
– Кейт, я даже не представляла… Ты это имела в виду, говоря, что мельница тонет?
Кейт кивает, щелкает зажигалкой, глубоко затягивается.
– Но это ведь серьезно. В смысле, она и правда уходит под воду.
– Ну да.
Голос ровный. В ночное небо устремляется струйка дыма. От желания закурить у меня кружится голова. Дым щекочет и дразнит нёбо.
– А что поделаешь?
Вопрос риторический. Кейт мешает говорить самокрутка в углу рта. Внезапно у меня сдают нервы. Ожидание кого угодно с ума сведет.
– Кейт, дай затянуться.
– Что?
Кейт оборачивается, луна освещает ее сзади. Лицо Кейт в тени.
– Не дам. Завязала – значит, завязала. Держись, Айса.
– Ты не хуже меня знаешь – завязавших не бывает, бывают те, кто достаточно долго не развязывается.
Зря я это сказала. Не сразу сообразила, кого цитирую; зато осознание подобно кинжалу в сердце. Семнадцать лет прошло, а я все думаю об этом человеке; насколько же горько должно быть Кейт!
– Господи! – Я всплескиваю руками. – Кейт, прости, прости, пожалуйста…
– Все нормально, – говорит Кейт.
Но больше не улыбается, а морщинки у рта становятся резче и глубже. Она затягивается, а в следующий миг почти вкладывает самокрутку в мои пальцы.
– Я думаю о нем беспрерывно. Напоминанием больше, напоминанием меньше – какая разница?
Папироса в моих пальцах невесома, как спичка. Подношу ее к губам, делаю глубокую затяжку. Ощущение, что погружаюсь в горячую ванну. Мои легкие впитывают дым, и как же это сладко… А затем случаются два обстоятельства. Во-первых, вдали, со стороны суши, возле моста, появляется двойная вспышка света. Автомобильные фары. Машина останавливается, немного не доехав до мельницы. Во-вторых, радионяня в моем кармане заливается тонким, пронзительным плачем, проникающим в сердце. Голова дергается, словно кто-то задействовал ниточку, связывающую меня с Фрейей.
– Давай назад. – Кейт протягивает руку, я спешно возвращаю ей самокрутку.
Неужели я это совершила? Одно дело – бокал вина, но неужели я, воняющая дымом, сейчас стану качать на руках моего ребенка? Что бы сказал Оуэн, если бы узнал?
– Иди к Фрейе, – говорит Кейт. – А я посмотрю, кого там принесло…
Бегу в дом, взлетаю по лестнице в спальню, где оставила Фрейю. Мне совершенно ясно, кто приехал. Тея обещала – и вот она здесь. Мы наконец-то собрались – все четыре.
На лестнице почти сталкиваюсь с Фатимой, выходящей из комнаты, которую уступила ей Кейт. Выдыхаю:
– Извини… там Фрейя…
Фатима пятится, я врываюсь в комнату в самом конце коридора. Кейт предоставила Фрейе колыбель из гнутой древесины, в которой когда-то спала сама. Что до комнаты, она прекрасна; лучше, пожалуй, только студия Кейт, совмещенная со спальней, на самом верхнем этаже. Раньше ее занимал отец Кейт.
Фрейя со сна горячая и потная. Вынимая ее из конверта, ощущаю вязкое тепло. Начинаю укачивать и оборачиваюсь на шум. В дверном проеме стоит Фатима, с интересом оглядывая комнату. Спеша по лестнице, я не заметила важного обстоятельства: Фатима до сих пор полностью одета.
– Я думала, ты спать пошла, Фатима.
– Нет, – качает головой. – Я молилась.
Голос приглушенный – Фатима боится потревожить Фрейю.
– Как странно, Айса. Ты – и вдруг в его комнате.
– Страннее не бывает.
Сажусь на плетеный стул. Фатима переступает порог и снова осматривается. Скошенные окна, темная древесина половиц. Листья из гербария, прицепленные к потолочным балкам, шевелятся на сквознячке. Кейт убрала отсюда почти все вещи Люка. Нет больше ни постеров с рок-группами, ни белья, предназначенного для стирки и сваленного за дверью, ни акустической гитары под окном, ни древнего, аж из семидесятых годов, проигрывателя, что раньше находился у кровати. И все равно присутствие Люка ощущается очень явственно, и комнату иначе, как комнатой Люка, не назовешь, даже в мыслях, хотя Кейт, отправляя меня сюда, и сказала: «Тебе отведу дальнюю спальню».
– Ты с ним общаешься? – спрашивает Фатима.
– Нет. А ты?
– Нет.
Она садится на край кровати.
– Но вспоминаешь его часто, так ведь?
С минуту молчу; тяну время, поправляю на Фрейе чепчик.
– Бывает, – отвечаю лаконично.
Я лгу; хуже того – я лгу Фатиме. Нарушаю главное правило игры в ложь: лги чужим, но не смей лгать своим.
Годами я лгала; лгала до тех пор, пока ложь не въелась в мой мозг, не вросла в мою плоть, не перестала быть чужеродной. Теперь она – часть меня. Я уехала, потому что мне захотелось перемен. Понятия не имею, что случилось с Люком, почему он исчез. Я не сделала ничего дурного.
Фатима молчит, однако ее глаза, по-птичьи яркие, остановились на мне, смотрят пристально. Моя рука, теребившая волосы, бессильно падает. Когда в твоем присутствии лгали столько раз, язык жестов лгущего становится понятен как родной. Тея грызет ногти. Фатима прячет глаза. Кейт каменеет, умудряется отдалиться на недосягаемое расстояние, физически оставаясь рядом. А я… я бессознательно тереблю волосы, наматываю пряди на пальцы, словно плету паутину – вязкую, как наша ложь. Когда-то я немало усилий приложила, чтобы избавиться от этой привычки. По сочувственной улыбке Фатимы понимаю: возня с волосами снова выдала меня. Я вынуждена сознаться.
– Я и впрямь часто думаю о нем. Очень часто. Ты тоже?
Фатима кивает:
– Разумеется.
Повисает молчание. Знаю наверняка: нам обеим видятся в эту минуту его ладони – удлиненные, изящные; его сильные пальцы, перебирающие гитарные струны – сначала в неспешной, обстоятельной любовной прелюдии, затем все быстрее, так, что происходит визуальное слияние пальцев и струн. И глаза, изменчивые по-тигриному – медные при солнечном свете и золотисто-карие в сумерках. Лицо Люка въелось мне в память, я вижу его столь же отчетливо, как если бы Люк стоял передо мной во плоти. Римский нос, благодаря которому профиль у Люка столь четкий, крупный, выразительный рот; излом бровей, чуть приподнятых у висков, отчего кажется, что он вот-вот нахмурится.
Вздыхаю, и Фрейя, не успевшая толком уснуть на моей груди, вздрагивает.
– Мне уйти? – шепчет Фатима. – А то малышка беспокоится.
– Нет, останься.
Фрейя снова закрыла глазки, отяжелела, расслабилась. Верный признак, что скоро заснет. Кладу ее, полусонную, обратно в колыбель. И как раз вовремя – снизу доносятся звуки шагов, хлопанье дверьми. Лает Верный, а голос Теи звенит на весь дом:
– А вот и я, мои дорогие!
Фрейя вздрагивает, сучит ручками. Движения мягкие, словно это ручки не человеческого младенца, а лучи морской звезды. Кладу ладонь ей на грудь, и веки дочки снова тяжелеют. Вслед за Фатимой выхожу из комнаты Люка и спускаюсь в гостиную, к Тее.
Больше всего из солтенской жизни мне запомнились контрасты. Пронзительно яркое море солнечными зимними днями и непроницаемая тьма по ночам – в Лондоне так темно не бывает. Сосредоточенное безмолвие на уроках рисования и чудовищный шум в буфете, издаваемый тремя сотнями голодных девчонок. И главное – крепость дружеских уз, что возникли всего через пару недель после знакомства и развились в атмосфере, более всего для этого пригодной… А еще – неминуемые враги такой дружбы.
Тем, первым вечером, меня шокировал звонок к ужину. Мы с Фатимой как раз занимались распаковкой чемоданов, двигались почти бесшумно по маршруту «кровать – шкафчик – кровать». Молчание между нами не напрягало, ведь мы успели подружиться и чувствовали себя комфортно друг с другом. По звонку мы выскочили в коридор и наткнулись на звуковую стену. В моей прежней, дневной школе звонки были как звонки, а этот, сам по себе невыносимый, только усиливался по мере того, как мы приближались к буфету.
Там и во время ланча было не протолкнуться, а с тех пор приехало еще немало девочек. Каждая старалась перекричать и подруг, и невменяемый звонок; барабанные перепонки у меня едва не лопались.
Растерянные, мы с Фатимой высматривали, где бы приземлиться. Нас толкали, мимо нас шли – целенаправленно, к конкретным столам, к старым подругам. Внезапно я заметила Тею и Кейт. Они сидели за длинным полированным деревянным столом, лицом к лицу; возле каждой из них было свободное место.
По моему кивку Фатима взяла курс на эти места, но перед нами выскочила какая-то девочка с явным намерением сесть за тот же стол. Для троих места не хватило бы.
– Садись, – сказала я Фатиме с деланой беззаботностью. – Ничего со мной не случится, если я за другим столом поем.
– Еще чего не хватало! – Фатима толкнула меня локтем. – Я тебя не брошу. Должны же где-то быть два места рядом.
Но Фатима не занялась поисками. Нет, она застыла, ибо между Теей, Кейт и незнакомой выскочкой повисло напряжение. Даже на расстоянии мне удалось почуять враждебность, причин которой я не понимала.
– Место ищешь? – приветливо спросила Тея, едва девочка к ней приблизилась.
Потом я узнала, что ее имя – Хелен Фитцпатрик, она вообще-то компанейская девчонка и любительница перемыть кости ближним. Но вопрос Теи она встретила смешком – горьким, скептическим.
– Лучше возле туалета сидеть, чем с тобой рядом. Ты зачем мне наплела, будто мисс Уэзерби ребенка ждет? Я, как дура, открытку ей послала с поздравлением. Она осатанела! Родителям нажаловалась, меня два месяца под домашним арестом держали!
Тея ничего не ответила, но было видно: она еле сдерживается, чтобы не рассмеяться. По губам Кейт, сидевшей к Хелен спиной, я прочла: «Десять баллов»; кроме того, Кейт подняла большие пальцы на обеих руках, словно поздравляя Тею.
– Что молчишь? – Хелен снова напирала на Тею.
– Извини. Видимо, я неверно поняла. Может, чего недослышала.
– Неправда! Ты специально наврала. Специально!
– Уж и пошутить нельзя, – сказала Тея. – И потом, я ведь не говорила, что информация точная. Я говорила: слушок прошел. Советую впредь тщательнее проверять факты.
– Факты? Будут тебе факты! Я кое-что знаю про тебя, Тея. У нас в лагере с теннисным уклоном была девочка из твоей прежней школы. Так вот, она объяснила, почему тебя выгнали; правильно сделали, кстати. Потому что ты с головой не дружишь! Скорее бы ты и отсюда с треском вылетела!
Кейт резко поднялась, развернулась к Хелен. Ее лицо, такое лукавое и дружелюбное в поезде, полностью изменилось. Теперь на нем читалась холодная ярость – мне даже стало жутковато.
– Знаешь, Фитцпатрик, в чем твоя проблема? – Кейт подалась к Хелен, заставив ее попятиться. – Ты слишком много времени тратишь на слухи и сплетни. Вот и получила по заслугам.
– Да пошла ты! – отрезала Хелен.
В следующую секунду все три вздрогнули – над ними раздался голос мисс Фарквухарсон.
– За этим столом все в порядке?
Хелен покосилась на Тею, хотела, наверное, наябедничать, но не рискнула и процедила мрачно:
– Да, мисс Фарквухарсон.
– Тея? Кейт? Все в порядке?
– Да, мисс Фарквухарсон, – отозвалась Кейт.
– Вот и славно. Кстати, за вашими спинами стоят две новенькие, не знают, где сесть, и хоть бы одна из вас догадалась позвать их на свободные места. Фатима, Айса, идите сюда, располагайтесь. Хелен, ты тоже у нас неприкаянная?
– Нет, мисс Фарквухарсон, мне Джесс место держит.
– Ну так что же ты здесь делаешь? Ступай займи его.
Мисс Фарквухарсон уже собралась уходить, как вдруг что-то остановило ее. Она даже в лице изменилась. Чуть склонившись над Теей, мисс Фарквухарсон принюхалась.
– Тея, чем это от тебя пахнет? Надеюсь, ты не посмела курить на школьной территории? В прошлом семестре мисс Уэзерби, по-моему, успешно донесла до твоего сознания: еще раз попадешься с сигаретами – мы звоним твоему отцу и ставим вопрос об исключении.
Повисла долгая пауза. Тея судорожно вцепилась в край стола, переглянулась с Кейт и открыла было рот – но тут, совершенно для меня неожиданно, я заговорила:
– В вагоне для некурящих мест не было, мисс Фарквухарсон. Пришлось тесниться в вагоне для курящих. А там один… один мужчина дымил сигарой. Бедняжка Тея сидела как раз рядом с ним.
– Мы все надышались, мисс Фарквухарсон, – вставила Фатима. – Мне еще повезло – я сидела у окна, – и все равно меня всю дорогу мутило.
Мисс Фарквухарсон уставилась на нас, оценила и мою совсем детскую мордашку с искренней улыбкой, и темные глаза Фатимы – невинные, без намека на лукавство. Мои руки сами собой взметнулись к волосам, но я вовремя стиснула их за спиной, в том положении, в какое их привела бы смирительная рубашка. После долгих раздумий мисс Фарквухарсон кивнула:
– Крайне неприятный эпизод. Что ж, Тея, закроем тему. Пока. Садитесь ужинать, девочки. Сейчас начнется раздача. Старшие по классам уже готовы.
Мы сели, и мисс Фарквухарсон наконец-то удалилась.
– Черт возьми, – прошептала Тея, под столом нашарила мою ладонь, стиснула до боли. Пальцы у нее были холодные, все еще дрожали от страха. – Не знаю, что и сказать. Спасибо!
– Это не пустые слова, – добавила Кейт, качнув головой. На лице ее читалось облегчение вперемешку с каким-то печальным восхищением. Стальная ярость исчезла без следа. – Вы обе сработали как настоящие профи.
– Зачет по игре в ложь, – произнесла Тея. – Хотите, будем играть вместе? Кейт, ты не против?
Кейт кивнула и с усмешкой добавила:
– Я только за. Кстати, вы по десять баллов заработали.
Очень скоро – буквально в первый вечер – нам с Фатимой открылось, почему все стремятся жить именно в башнях. Итак, я вернулась из общей комнаты, где смотрела фильм. Фатима успела забраться в постель, но не спала – писала письмо на тончайшей бумаге для авиапочты. Волосы, шелковистые, цвета красного дерева, с обеих сторон закрывали ее лицо. Фатима подняла взгляд и зевнула. На ней была пижама – простая майка и розовые фланелевые шортики. Фатима потянулась, майка поехала вверх, отрыв плоский животик.
– Ну что, спать? – спросила Фатима, выпрямляясь.
– Конечно.
Я села на скрипучую кровать, сбросила туфли.
– Голова идет кругом. Столько новых лиц…
– Я тоже совсем разбита, – отозвалась Фатима, откинула с лица темные волосы и сунула письмо в тумбочку. – Как тебя еще на фильм хватило? Я лично после ужина поняла: больше ни единого нового лица не выдержу – и пошла в спальню. Ты не обижаешься?
– Нет, что ты. Только жалею, что сама с тобой не пошла, а зависла в общей комнате. Но я ни с кем не говорила – там был один молодняк.
– А фильм понравился?
– Нет. Чушь какая-то.
Подавив зевок, я отвернулась к стене и принялась расстегивать блузку. Я-то думала, в спальнях будут хотя бы перегородки – шторки какие-нибудь или ширмы. Начиталась рассказов про частные школы, ага. Шторки только в дортуарах положены, а в спальнях на двоих извольте, девочки, отворачиваться или вовсе выходить, чтобы соседку не смущать.
Уже одетая в пижаму, я сунула руку в тумбочку, нашаривая пакет с туалетными принадлежностями. Неожиданный стук заставил меня резко оглянуться. Стучали не в дверь.
– Фатима, ты стучишь, что ли?
Она отрицательно качнула головой.
– Я думала, Айса, это ты стучала. Но нет – стук от окна долетел.
Шторы были задернуты. Мы обе поднялись и прислушались. Глупо было в этом сознаваться, но нас обеих охватил страх. Я хотела уже развеять его смехом и остро́той насчет Рапунцель, но стук повторился, на этот раз громче. Мы ойкнули и нервно захихикали. Теперь было совершенно ясно: стучат в мое окно. Я шагнула к нему и отдернула штору. Не знаю, что я ожидала увидеть – но никак не бледное лицо, прильнувшее к стеклу с наружной стороны, окруженное тьмой, как ореолом. Около минуты я таращилась на это лицо в полной растерянности, а потом вспомнила виденное из микроавтобуса: черные плети пожарных лестниц, обвивающие башни, подобно плющу. Я всмотрелась пристальнее. За окном была Кейт. Улыбаясь, она странно вертела кистью руки, и до меня дошло: Кейт хочет, чтобы я открыла окно. Задвижка была ржавая, поддавалась туго – пришлось повозиться.
– Наконец-то, – выдала Кейт и махнула на хлипкую лестничную площадку, чернильно выделявшуюся на фоне темного моря. – Ну, и чего мы ждем?
Я оглянулась. Фатима жестом изобразила согласие, я стянула с кровати одеяло, вскарабкалась на подоконник и спрыгнула в прохладную осеннюю тьму.
Ночной воздух был тих, всюду царило безмолвие. Мы с Фатимой на цыпочках шли за Кейт по металлическим ступеням пожарной лестницы. Волны накатывали на галечный пляж, разбивались с шорохом – этот шорох, а заодно и причитания чаек, доносила до нас ночная тьма.
Тея ждала на лестничной площадке, на самом верху, за последним витком лестницы. Футболка еле прикрывала ее стройные бедра.
– Давай расстилай одеяло, – скомандовала Тея, и я послушалась.
Мы устроились, и Кейт заговорила.
– Итак, теперь вы в курсе, – начала она, заговорщицки улыбаясь. – Наша с Теей тайна – в ваших руках…
– А вот чем мы можем отплатить за ваше молчание, – продолжила Тея, доставая бутылку виски «Джек Дэниелс» и пачку «Силк Кат». – Больше у нас ничего нет. – Вы курите, девочки?
Тея постучала по пачке и протянула ее нам. В картонке болталась единственная сигарета.
– Я не курю, – сказала Фатима. – Но от виски не откажусь.
Кейт передала ей бутылку, и Фатима сделала основательный глоток, затем вздрогнула всем телом, вытерла губы и улыбнулась.
– А ты, Айса? – Тея по-прежнему держала передо мной сигарету.
До этого я не курила. Пару раз пробовала в лондонской школе. Мне тогда не понравилось, вдобавок я прикинула, как рассердятся родители, особенно отец. Сам он в юности курил, потом бросил, но периодически срывался. Срывы заканчивались самоедством, которое отец усмирял сигарами. Но здесь, в Солтене… здесь я была не я, не та ответственная девочка, что всегда делает домашнее задание и пылесосит в доме, прежде чем идти к подружкам. Здесь я могла вести себя как угодно. Могла стать совершенно другим человеком.
– Спасибо, – произнесла я и взяла сигарету.
Кейт щелкнула зажигалкой «Бик», я подалась вперед, к ее пальцам, в которых, как в чаше, светился огонек. Мои волосы упали Кейт на смуглую руку, словно я к ней ластилась. Я затягивалась осторожно, моргая от дыма и надеясь не закашляться.
– Еще раз спасибо, – сказала Тея. – За то, что прикрыли меня в столовой. Не представляю, как бы я без вас выкручивалась. Если я и отсюда вылечу, отец меня точно запрет.
– Да ладно, проехали, – выдохнула я.
Дым, похожий на распушенную шерстяную нить, потянулся вверх, поплыл над крышами, прямо к бесподобной, белоснежной луне. До идеального круга оставалась всего одна фаза. Проводив дым глазами, я добавила:
– А что ты там говорила насчет баллов, Кейт?
– У нас особая система. Десять баллов, если твоему вранью полностью поверили. Пять, если ты пустила слушок или прикрыла другого игрока. Пятнадцать, если удалось поставить на место какую-нибудь выскочку. Баллы, понимаете, сами по себе награда. Чтобы играть было интереснее.
– В похожую игру мы в одной моей прежней школе играли, – добавила Тея и с наслаждением затянулась. – Новеньких дурачили. Смысл был в том, чтобы заставить их что-нибудь идиотское вытворить. Например, сказать, будто на вечерние занятия надо брать с собой махровое полотенце – ну, чтобы потом сразу в душ и быстрее в постель. Или убедить их, будто на прогулке первогодкам разрешено двигаться только по часовой стрелке. Всякая фигня, короче говоря. Ну и вот, когда я сюда угодила, я как раз и оказалась новенькой. И подумала: вот они, бывалые, сейчас у меня попляшут. На сей раз врать буду я, а они – уши развешивать. Только я не новеньких дурила, нет. Новенькие – они беззащитные. Я сразу занялась теми, за кем власть, – училками, привилежками и заводилами. Которые слишком выпендриваются.
Тея выдохнула целый клуб дыма.
– А когда я соврала Кейт, она не взбесилась и не стала мне грозить. Она просто рассмеялась. И я поняла: Кейт не такая, как другие.
– И вы тоже – вы не из их лагеря, – доверительно добавила Кейт. – Я права?
– Права, – подтвердила Фатима.
Она глотнула еще виски и улыбнулась. Я ограничилась кивком и снова поднесла к губам сигарету, сделав еще одну затяжку, на сей раз более глубокую; почувствовала, как дым проник в легкие, в кровь. Рука с сигаретой дрожала, когда я решила опереться на витой металлический поручень. Я надеялась только, что девочки ничего не заметили. Тея смотрела пристально, и меня не отпускало ощущение, что ее-то не обманешь, она и мысли мои читает, и понимает, как тяжело прикидываться заядлой курильщицей. Но Тея не стала меня дразнить, только протянула мне бутылку виски.
– Запей.
Гласные Тея произносила странно – резко и звонко, словно стекло била. Сообразив, что командует, она улыбнулась и смягчила тон:
– У тебя день выдался непростой. Надо расслабиться.
Я подумала о маме: как она спит сейчас под больничным одеялом, а яд капля за каплей проникает ей в вены; о брате, который остался один в новой комнате в Чартерхаусе; об отце, который едет по ночному шоссе в Лондон, к нашему пустому дому. Нервы отозвались стоном, словно скрипичные струны. Я кивнула, потянулась за бутылкой.
Виски обожгло рот, больших усилий стоило не закашляться. Я проглотила пламя, почувствовала, как огненный шар скользнул в желудок и ниже, как напряжение, терзавшее меня, чуть-чуть поддалось власти этого пламени. И протянула бутылку Кейт. Она взяла виски спокойно, хлебнула смело, не так, как мы с Фатимой, сделав два-три полноценных глотка – быстро, без пауз, без колебаний, словно не виски пила, а молоко. Затем вытерла рот, сверкнула в темноте глазами.
– За всех нас! – воскликнула она, высоко держа бутылку, наблюдая, как на стекле играет лунный свет. – Чтобы нам старости не знать.
Из трех подруг дольше всего я не общалась с Теей. Мысленным взором вижу девчонку семнадцати лет, с тонким лицом, с волосами, подобными штормовому фронту, бог весть откуда взявшемуся, ворвавшемуся в безоблачный день. Да, такова Тея, которая мне помнится.
На очередном повороте винтовой лестницы мой взгляд напарывается на акварель Амброуза: Тея, купающаяся в Риче. Амброуз уловил, передал с изумительной точностью, как солнечный свет дробится в легкой ряби, как играет на плечах и руках Теи. Ее голова закинута назад, мокрые волосы не отвлекают внимание от лица, но лишь подчеркивают, насколько оно прекрасно.
Держа в уме эту картинку, миную последний лестничный виток. И вот она, Тея, передо мной.
Казалось бы, хорошеть ей уже некуда – а она похорошела. Лицо стало еще тоньше, черты заострились, лишившись нежной девичьей размытости. Волосы пострижены очень коротко. Впечатление, будто красота Теи очищена от всего наносного – от водопада волос, окрашенных в два тона, от косметики, от бижутерии. Повзрослевшая Тея буквально завораживает. Она еще похудела, если не сказать – отощала. И все же это прежняя Тея.
Вспоминаю тост, произнесенный Кейт в ту, первую ночь: «Чтобы нам старости не знать…»
Выдыхаю:
– Тея.
В следующий миг я уже вишу на ней, и обнимаю ее, и чувствую каждую косточку. С другого боку повисла хохочущая Фатима, и слышится голос Теи:
– Вы меня задушите! Смотрите не запачкайтесь! Паршивец таксист высадил меня на полдороге, а там же глина. Думала, по шею увязну…
От Теи пахнет сигаретами… и спиртным. Ее дыхание пропитано алкогольными парами, в первое мгновение их можно спутать с приторным запахом перезрелых фруктов. Тея смеется, прячет лицо в мои волосы, запах обволакивает и их тоже. Наконец мы размыкаем объятие. Тея подходит к столу возле окна.
– Не верится, что вы обе стали мамочками.
Улыбается она в своей прежней манере – немножко кривя рот, словно знает некую тайну.
Тея выдвигает стул возле своего давнего, законного места. Да, мы всегда рассаживались в определенном порядке, чтобы полуночничать за сигаретами и алкоголем.
Тея достает сигарету марки «Собрание» – черную, с золотым концом.
– На месте правительства я бы запретила размножаться мерзавкам вроде вас, – выдает Тея, держа сигарету в уголке рта.
– И была бы права, – подхватывает Фатима. – Ровно то же самое я сказала Али, когда мне принесли новорожденную Надию. А потом спросила: «Ну и что мне теперь делать?»
Кейт протягивает Тее тарелку и вскидывает бровь.
– Есть будешь? Кус-куса целая гора осталась.
Тея только головой качает:
– Не буду. Лучше выпьем. И очень хочется узнать, на кой ты нас так спешно позвала.
– У нас есть вино… вино… и снова вино, – говорит Кейт, косясь на колченогий туалетный столик. – Да, еще есть вино! Живем!
– Эх, милые мои, сдали вы, ничего не скажешь. Ладно, раз все так безнадежно, выпьем хоть вина, – отзывается Тея.
В большущий сине-зеленый стакан с трещиной Кейт выливает добрую треть бутылки, передает стакан Тее. Та смотрит сквозь вино и стекло на пламя свечи, оценивает игру багряных бликов.
– За нас, – выдает наконец Тея. – Чтобы нам старости не знать.
А мне за это пить не хочется. Мне как раз хочется дожить до старости. Ради того, чтобы увидеть Фрейю взрослой, я и на морщины согласна. Каково, интересно, ощущать их кожей?
Но от комментариев меня спасает Тея. Не донеся стакан до губ, она вдруг замечает, что у Фатимы в бокале – лимонад.
– Стоп! Стоп! Это еще что за фигня? Фатима, тосты лимонадными не бывают. Или твой муженек тебя по третьему разу обрюхатил?
Фатима отрицательно качает головой, улыбается и указывает на хиджаб, покрывающий ее плечи:
– Времена меняются, Тея. Думаешь, это просто шарф, для красоты? А это…
– Ай, да успокойся! Наличие хиджаба в монашки не записывает. Знаешь, сколько в наше казино мусульман ходит? Толпы! И один из них прямо мне сказал: джин с тоником в исламе считается не алкоголем, а лекарством, потому что содержит хинин.
– Во-первых, в теологических кругах подобные советы подпадают под определение «ересь», – произносит Фатима. Ее губы по-прежнему растягивает улыбка, но в нарочито беззаботном тоне звенит металл. – А во-вторых, посетительница казино, будь на ней хоть три хиджаба разом, не имеет отношения к исламу, ибо в Коране по поводу азартных игр все очень четко прописано.
Повисает молчание. Переглядываюсь с Кейт и вздыхаю. Впрочем, сказать мне нечего, на языке вертится всего одна фраза: «Заткнись, Тея».
– Раньше ты не была такой ханжой, – наконец бросает Тея и делает глоток вина.
Кейт каменеет, я это чувствую. Зато Тея снова улыбается своей фирменной кривоватой улыбкой.
– Поправьте меня, девочки, если я ошибаюсь. Только очень мне помнится одна игра… в покер с раздеванием… Или в ней участвовала совсем другая мисс Квуреши?
– А ты раньше не была такой стервозиной, – парирует Фатима. Впрочем, в голосе сквозит не злоба, а веселье.
Фатима слегка толкает Тею локтем, Тея смеется, и мы все видим ее настоящую улыбку – широкую, открытую, исполненную самоиронии. Эта улыбка вспыхивает, похоже, вопреки желанию самой Теи.
– Врушка, – дразнит она, все еще улыбаясь, и напряжение за столом спадает, словно провод заземлили.
Без малейшего понятия о времени поднимаюсь из-за стола и иду в ванную. Наверное, сейчас далеко за полночь.
На обратном пути заглядываю к Фрейе. Малышка мирно спит, полностью расслабившись, по-паучьи раскинув ручки и ножки.
На винтовой лестнице замираю и сверху смотрю на подруг, сидящих за столом. Эффект дежавю силен как никогда. Фатима, Тея и Кейт заняли свои прежние места, подались друг к другу, словно заговорщицы; на лицах пляшут тени от свечи, что стоит посреди стола. Отсюда, с лестницы, кажется, что им снова по пятнадцать. Ощущение, будто слушаю заевшую пластинку, которая вновь и вновь проигрывает эхо наших прежних разговоров. Сгущаются, обретают объем призраки прошлого: Амброуз, Люк… Сердце сжимается, боль почти физическая, и на миг – на краткий и мучительный миг – передо мной возникает сцена, которую я так старалась забыть.
Закрываю глаза и ладонями пытаюсь стереть видение. Действительно, после немногих моих усилий внизу, за столом, снова лишь Тея, Фатима и Кейт. Но воспоминание никуда не делось: труп на ковре, четыре искаженных болью и недоумением бледных, зареванных лица…
Холодное прикосновение к руке заставляет меня подпрыгнуть. С колотящимся сердцем озираюсь, вперяю взгляд в темноту, где растворяется верхний пролет. Не знаю, кого ожидаю увидеть – в доме только мы. Наверное, напугал меня призрак, может, даже мой собственный – мы, прежние, до сих пор смотрим с этих стен.
Слышится приглушенный смешок Кейт, и до меня доходит. Это не призрак, это Верный тронул мою руку холодным и влажным носом и теперь сам не рад – во всяком случае, вид у него сконфуженный.
– Это он пытается сказать, что давно пора баиньки, – объясняет Кейт. – А еще он надеется на ночную прогулку.
– Прогулка… так ску-у-учно, – тянет Тея, выуживает очередную сигарету, зажимает меж губ золоченый кончик. – Искупаться надо, вот что.
– А я купальник не взяла.
Говорю это прежде, чем улавливаю значение вскинутой брови Теи, лукавого выражения ее лица.
– Нет-нет, ни в коем случае. И вообще, Фрейя здесь. Как я ее оставлю?
– Просто не заплывай слишком далеко, – советует Тея. – Кейт! Тащи полотенца!
Кейт встает, залпом допивает вино, идет к шкафу и достает стопку старых протертых полотенец. Когда-то они были яркими, сейчас оттенки перешли в разряд пастельных. Одно полотенце Кейт бросает Тее, второе – мне. Фатима поднимает руки, словно для защиты.
– Спасибо, но… только…
– Да чего ты стесняешься? – растягивая слова, произносит Тея. – Здесь мужчин нет.
– Все так говорят. А потом вываливается из паба целая компания пьяных, и… Нет уж, спасибо. Я на мостках посижу.
– Как знаешь, – пожимает плечами Тея. – Айса, Кейт! Ну вы-то хоть со мной? Вы-то меня не кинете?
И Тея начинает расстегивать рубашку. Я и раньше заметила: бюстгальтер она не носит.
Мне не хочется раздеваться. Тея, конечно, сейчас начнет высмеивать мою застенчивость; а я и правда стыжусь послеродовой дряблости тела, налитых молоком грудей с синими венами, растяжек на обвислом животе. Вот если бы Фатима тоже согласилась купаться – тогда другое дело. А так мы будем голые втроем – Кейт с Теей стройные, подтянутые, не хуже чем семнадцать лет назад, и я – рыхлая кормящая мамаша. Но от купания не отвертеться, иначе насмешки Теи гарантированы. Да мне и самой хочется в воду. И причина – не только в том, что шея под волосами вспотела, а платье липнет к лопаткам. Нет, все куда сложнее. Мы наконец-то вместе, все четыре. Я окунусь не в Рич, а прямо в прошлое.
Беру полотенце и шагаю за порог. Никогда у меня не хватало отваги первой влезть в воду. Удерживал дурацкий суеверный страх – вдруг на глубине таится нечто враждебное? На всех разом, рассуждала я, это нечто напасть не посмеет.
Нет, первыми, наперегонки, мчались по мосткам Тея и Кейт; прыгали в воду с визгом, метили в то самое место, где течение быстрее всего. Сейчас я тоже боюсь – только не водяных существ, а собственного тела.
Платье у меня из податливой хлопчатобумажной ткани. Снимаю его рывком, расстегиваю бюстгальтер и стягиваю трусы. Глотнув воздуха, ныряю – пока не прибежали остальные, пока не разглядели меня, мое дряблое тело.
– С ума сойти! Айса в кои-то веки первая окунулась!
Выныриваю, отчаянно плещусь – вода холодная. Воздух пропитан липкой духотой, но сейчас прилив, поэтому губам солоно.
Тея выходит на мостки. Плыву, почти задыхаясь от холода, впрочем, тело быстро адаптируется.
Разглядывая украдкой раздетую Тею, понимаю: ее тело тоже изменилось, и, пожалуй, не менее существенно, чем мое. Тея всегда была худощавой, теперь же она близка к анорексии. Живот впал, груди висят, как полупустые мешочки, ребра выпирают. Лишь одно остается прежним – Тея не ведает слова «смущение». Вот она стоит на самом краю мостков, сзади освещенная фонарем; стоит и отбрасывает на воду длинную, неестественно тонкую тень. Стоит, ничуть не стыдясь наготы.
– С дороги, куриные ноги! – кричит Тея.
И ныряет. Входит в воду без брызг, как профессионал. Восхитительный прыжок. И в то же время безумный, суицидальный. Потому что Рич не достаточно глубок, потому что в воде чего только нет – и коряги, и остатки снастей, и колышки старых причалов, и верши для ловли крабов, и всякий мусор, пригнанный течением из верховий. Я уж не говорю о непостоянстве донного рельефа, о наносах и промоинах, созданных временем и морским течением. Тея запросто могла сломать себе шею. Кейт это отлично понимает: она застыла в ужасе, прижав ко рту руки. Но Тея выныривает и по-собачьи встряхивает стриженой головой.
– Чего стоим, кого ждем? – обращается она к Кейт.
– Психованная!
Кейт сначала выдыхает с облегчением и только потом выкрикивает это слово. В голосе, кроме страха, еще и нечто близкое к ярости.
– Там, как раз посередине, песчаная отмель. Ты убиться могла.
– Ну не убилась же, – парирует Тея.
Глаза у нее горят, дыхание прерывистое от холода. Рука, манящая Кейт в воду, покрыта гусиной кожей.
– Давай к нам! Прыгай в воду, женщина!
Кейт колеблется. Целую минуту я думаю, что знаю, какие именно картины рисует ее воображение. Те же, что и мое: в неглубокую яму просачивается вода, обрушивая песчаные края.
Но вот Кейт напрягает спину. В ее осанке чувствуется готовность защищаться.
– Ладно.
Она стягивает майку, вылезает из джинсов, отворачивается, чтобы расстегнуть бюстгальтер. Перед прыжком берет бутылку и прикладывается к горлышку. Тянет, тянет вино. И поворот ее головы, и судорожные сокращения хрупкого горла девически-трогательны, и я вижу прежнюю Кейт – на пожарной лестнице Солтен-Хауса, с бутылкой виски, отражающей лунный свет.
В следующее мгновение бутылка летит на груду одежды, а Кейт группируется и делает прыжок. Волны, поднятые ее телом, касаются моего тела; Кейт – в футе от меня. Она погружается словно бы не в воду, а прямо в лунный свет. Жду: сейчас вынырнет. Однако Кейт не появляется. Пузырьков не видно, вообще ничего толком не видно из-за лунных зайчиков на воде.
– Кейт! – кричу я.
Идут секунды, и страх нарастает, сгущается под моими ладонями, колотящими по воде. Кейт не выныривает.
– Тея, куда Кейт подевалась?
Вдруг что-то вцепляется мне в лодыжку и тянет, тянет вниз, на дно. Глотнуть воздуха успеваю, вскрикнуть – нет. Я уже под водой, пытаюсь высвободиться. Хватка размыкается, я выныриваю, отчаянно дышу, моргаю, тру глаза – слизистую щиплет от соленой воды – и вижу рядом с собой Кейт. Она смеется, обнимает меня и поддерживает на поверхности.
– Ах ты, змея! Выдра!
Не пойму, чего мне хочется больше – обнять Кейт или утопить ее.
– Предупреждать надо!
– С предупреждением весь смысл пропадает, – хохочет Кейт. У нее сияют глаза.
На середине потока, там, где течение сильнее всего, где глубина максимальна, Тея ложится на спину, работает руками и ногами, чтобы остаться на месте, не дать реке унести себя.
– Плывите ко мне! – зовет она. – Здесь супер!
Фатима наблюдает с мостков, мы с Кейт плывем к Тее. Такое впечатление, будто она зависла не в воде, а в звездном сиянии. Мы тоже ложимся на спины; я оказываюсь между Кейт и Теей, обе поддерживают меня, а я, раскинув руки, поддерживаю их. Наши тела, прозрачные от лунного света, образуют нечто вроде созвездия; наши руки переплетены, течение разрывает эту связь, но мы не дремлем – снова подплываем друг к другу, снова сцепляемся.
– Фати, давай к нам! – кричит Тея. – Почувствуешь, до чего классно.
Она права. Первый шок от погружения давно миновал. Вода, пронизанная и словно согретая сиянием почти полной луны, ласкает, поддерживает, будоражит. Если нырнуть и посмотреть на луну сквозь толщу мутно-молочных вод, откроется дивное зрелище: луна покажется разбитой на бесчисленные осколки.
Выныриваю. Фатима уже приблизилась к краю мостков, села, трогает воду рукой, на лице тоска.
– Без тебя все не то, Фати, – умоляет Кейт. – Давай прыгай. Тебе же самой хочется…
Фатима качает головой, встает. Наверное, собралась идти в дом. Нет. Ничего подобного. Она делает глубокий вдох – и прыгает, как была, одетая. Длинный конец хиджаба, подхваченный резким движением, подобен птичьему крылу. Фатима оказывается в воде с чавкающим звуком.
– Ай да Фати! – кричит Тея. – Прыгнула все-таки!
Мы устремляемся к Фатиме и почти истерически хохочем, и она хохочет, пытаясь отжать мокрый хиджаб и повисая на нас, потому что отяжелевшее платье тянет ее ко дну.
Мы снова вместе.
И на краткий миг для нас четверых лишь это имеет значение.
Уже далеко за полночь. Мы ругались, царапая голени о подгнившие доски мостков, со смехом отжимали волосы и растирали тела, покрытые гусиной кожей. Фатима переодевалась, качая головой, как бы сама в изумлении от собственной безрассудности. И вот мы, полусонные, в пижамах, валяемся на потертом диване, обнимаемся, время от времени обмениваясь тычками и толчками, болтаем о прежней жизни. Рефреном звучит «А помните, как…».
Фатима распустила мокрые волосы и теперь выглядит моложе – почти совсем как та прежняя девочка-птичка. Не верится, что она – замужняя женщина, мать двоих детей. Она смеется в ответ на сказанное Кейт, и тут начинают бить старинные напольные часы. Два гулких удара – и Фатима оглядывается, меняется в лице.
– Вот это да! Два часа ночи! Мне нужно хоть немного поспать.
– Эх ты, слабак! – упрекает Тея.
Сама она с виду совсем не усталая. Кажется, Тея могла бы еще несколько часов бодрствовать – глаза у нее так и сверкают над кромкой бокала с вином.
– Вчера я на смену только после полуночи заступила!
– С тобой все ясно, – парирует Фатима. – А вот некоторые годами приучали себя к адекватному режиму, работают с девяти до пяти и растят двух дошколят. Мне это переключение очень трудно далось. Кстати, Айса тоже зевает!
Все смотрят на меня. Стараюсь подавить зевок, хотя рот уже открылся и челюсти пришли в движение. Машу рукой и смеюсь.
– Что тут скажешь? Утрата выносливости совпала у меня с утратой талии. А вообще Фатима права. Моя Фрейя просыпается в семь. Хотелось бы хоть немного поспать перед кормлением.
– Значит, на боковую, – произносит Фатима.
– Подождите.
Голос Кейт неожиданно тих, и я вдруг соображаю: она давно уже не произносила ни слова. Фатима, Тея и я – мы втроем в последние пару часов выкапывали из памяти смешные эпизоды, розыгрыши, – а Кейт отмалчивалась, словно стерегла свои мысли.
Одновременно оборачиваемся. Кейт сидит, поджав ноги, в кресле, волосы падают на щеку, но нечто в выражении ее лица заставляет нас замереть. В животе у меня – противное, тягостное нытье.
– Что такое? – почти испуганно спрашивает Фатима.
Снова садится – только на сей раз на край дивана; теребит сырой хиджаб, висящий на каминной решетке.
– В чем дело, Кейт?
– Я… – Кейт отводит взгляд, пытается заговорить снова: – Боже. Не представляла, что будет так трудно…
Мне сразу ясно, о чем пойдет речь. И я вовсе не уверена, что хочу это услышать.
– Давай, Кейт, – говорит Тея. В ее голосе – жесткость и напор. – Колись. Мы достаточно ходили вокруг да около, пора открыть причину.
«Причину чего?» – могла бы спросить Кейт. Но в этом нет необходимости. Мы все знаем, о какой причине говорит Тея. О причине нашего приезда. О значении сообщения, отправленного каждой из нас. О смысле трех слов: «Вы мне нужны».
Кейт делает вдох и поднимает глаза, которые при свете лампы больше похожи на темные провалы. Однако не заговаривает, нет. Она встает с кресла и подходит к камину, к корзине с газетами, оставленными на растопку. Верхняя газета – «Солтенский обозреватель». Молча подруга берет ее в руки. Страх, который она столь успешно подавляла вином, маскировала возней в воде – этот страх теперь искажает ее лицо. Газета датирована вчерашним днем. Заголовок на первом развороте прост:
В РИЧЕ НАЙДЕНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОСТАНКИ
Правило второе: стой на своем
– Твою мать!
Голос, нарушивший тишину, принадлежит Фатиме. Не ожидала я от нее такой резкости.
– Твою мать! – повторяет Фатима.
Подхватываю газету, выпавшую из рук Кейт, читаю: «Для идентификации останков, обнаруженных на северном берегу Рича, вблизи деревни Солтен, вызвана полиция…»
Дрожь моих рук так сильна, что строчки прыгают перед глазами, обрывочные фразы не складываются в одно целое. «Представитель полиции подтвердил… фрагменты человеческого скелета… свидетель, имя которого не разглашается в интересах следствия… подверглись сильным разрушениям… судебная экспертиза… местные жители шокированы… территория оцеплена»…
– Они уже… – Тея – что совсем не в ее стиле – давится фразой, начинает сначала: – Они знают…
Следует пауза. Договариваю за Тею:
– Они уже знают, кто это? – Мой голос тверд, тон холоден. Я смотрю на Кейт, сжавшуюся под бременем вопросов. Газета трепещет, словно осенний лист на ветру. – Знают, что это тело?..
Кейт качает головой. Нет нужды озвучивать нашу общую мысль: «Пока не знают»…
– Мало ли, чьи это останки? Мало ли, кто когда утонул в Риче? – произносит Тея. Вдруг лицо ее перекашивается. – Черт, кого я обманываю?!
Тея бьет рукой по столу, забыв, что в этой руке у нее бокал с вином. Бокал рассыпается на осколки.
– Тея! – шепчет Кейт.
– Хватит истерить, – сердито говорит Фатима. Делает шаг к раковине, берет тряпку и щетку и бросает через плечо: – Ты не поранилась?
Тея, сильно побледневшая, качает головой, позволяет Фатиме осмотреть руку, вытереть с запястья капли вина. Поневоле Фатима отворачивает длинный рукав, и в свете лампы я вижу то, чего не видно было при луне, – белые шрамы, давно зажившие, но все-таки четкие. Не могу сдержаться – вздрагиваю и отворачиваюсь. Потому что помню время, когда эти шрамы были свежи.
– Думать надо, что делаешь, – упрекает Фатима, но в ее голосе нежность и волнение. Фатима убирает с запястья Теи прилипшие осколки.
– Я снова это не выдержу, – стонет Тея и трясет головой. Теперь видно: она пьяна в дым, просто до сих пор ей удавалось это скрывать. – Нет, не выдержу. Знаете, как в казино строго? Если хоть малейший слушок просочится, а тем более если полицейское расследование будет – все, кранты. Уволят с треском…
Голос Теи надламывается. Она готова разрыдаться.
– Могут отобрать лицензию на занятие игорным бизнесом. Без работы останусь, без права восстановления.
– Мы все в одной лодке, – перебивает Фатима. – Кому нужен практикующий врач с багажом вроде моего? Или, думаешь, Айсу оставят в адвокатах, если все вскроется? Нам с Айсой грозит потерять не меньше, чем тебе.
О Кейт она не упоминает. В этом нет нужды.
– Что будем делать? – наконец-то спрашивает Тея. Обводит взглядом меня, Кейт, Фатиму. – Кейт, зачем ты нас сюда вызвала?
– Вы имеете право знать, – отвечает Кейт. Голос ее дрожит. – А как еще я бы вам сообщила? Каким надежным способом?
– Поступим, как должны были поступить семнадцать лет назад, – горячо и уверенно говорит Фатима. – Разработаем легенду прежде, чем начнутся допросы.
– Не надо ничего разрабатывать. Легенда та же, что и была, – произносит Кейт. Забирает у меня газету, складывает так, чтобы не видеть заголовка, проводит по сгибу ногтями. Руки у нее трясутся. – Мы ничего не знаем. Ничего не видели. Ничего не слышали. Нам только это и остается – стоять на своем. Держаться прежней легенды.
– А сейчас-то как мы поступим? – Тея повышает голос. – Здесь поживем? Разъедемся? Фатима на машине, может увезти. В Солтене нас ничто не держит.
– Никаких «разъедемся», – произносит Кейт. В голосе звучит безапелляционность, столь хорошо мне знакомая. Спорить бесполезно. – Вы три остаетесь, потому что, по моей официальной версии, приехали на торжественный ужин. Который будет завтра.
– Что?
Тея хмурится. Ну конечно – про вечер встречи знаю только я.
– Какой еще ужин?
– Тот, который всегда бывает на вечере встреч выпускниц Солтен-Хауса.
– Мы ведь не приглашены, – вступает Фатима. – Разве они нас пустят? После тех событий?
Кейт пожимает плечами, проходит мимо раковины к доске для заметок, к которой прикноплены четыре белоснежные глянцевые открытки-приглашения.
– Вот, полюбуйтесь.
Кейт отцепляет кнопку и машет приглашениями.
Ассоциация выпускниц Солтен-Хауса имеет честь пригласить на ежегодный летний бал…
Далее следует большое пустое пространство. Имя каждой из нас написано синей ручкой:
Кейт Эйтагон
Фатиму Чодхри (урожденную Квуреши)
Тею Уэст
Айсу Уайлд
Кейт держит приглашения веером, как игральные карты, словно предлагает нам выбрать по одной карте из колоды и сделать ставки.
Но я смотрю не на имена и не на золоченые буквы основного текста – я смотрю на дырочки, оставленные в каждой открытке острием кнопки. Очень символично. Как ни старайся освободиться, итог один – мы прикованы к нашему прошлому.
Рисование в Солтен-Хаусе было предметом факультативным. Официально не входило в категорию дисциплин, «обогащающих учебный процесс», и постоянно посещали рисование лишь те девочки, которые собирались сдавать по нему экзамен. Меня это не касалось. Минуло несколько недель, и я успела привыкнуть к школьному распорядку прежде, чем попала в студию и познакомилась с Амброузом Эйтагоном.
Как и в большинстве закрытых школ, в Солтене ученицы группировались по домам, каждый из которых носил имя какой-нибудь греческой богини. Мы с Фатимой попали в «Артемиду», потому «обогащение учебного процесса» постигло нас одновременно. Морозным октябрьским утром, сразу после завтрака, мы метались по школьному двору, спрашивая всех встречных: «Как пройти на рисование?»
– Да где же эта студия, чтоб она сгорела! – в десятый раз воскликнула Фатима, а я отозвалась:
– Без паники, Фати, мы ее отыщем.
Едва эти слова в восьмой раз слетели с моих губ, как мимо нас, в сторону математического кабинета, пробежала девочка с большущей папкой бумаги для акварели.
– Постой! – крикнула я. – Ты на рисование бежишь, да?
Она повернула к нам раскрасневшееся лицо, пропыхтела:
– Да. Опаздываю. Чего надо?
– Мы ищем студию. Можно пойти с тобой?
– Можно. Только пошевеливайтесь.
Девочка юркнула в арку в изгороди из снежноягодника, отворила деревянную дверь, раньше нами не замеченную. За дверью, вполне предсказуемо, обнаружилась лестница (никогда – ни до, ни после Солтена – я в такой отличной физической форме не была). Так вот, мы пустились бежать вверх по ступеням и преодолели два, если не три пролета, прежде чем я задалась вопросом: а куда мы вообще направляемся?
Наконец мы очутились на крохотной лестничной клетке перед стеклянной дверью. Девочка, что привела нас, дернула дверь, натянув заржавевшую пружину, и мы вступили в галерею.
Стены были низкие, а потолок как таковой вообще отсутствовал. Перекрещенные балки уходили прямо под треугольную крышу. Взгляд, оценивающий высоту этой крыши, неминуемо натыкался на бесчисленные этюды, что подсыхали, прикрепленные к балкам. Пространство было занято различными предметами – вероятно, их использовали для натюрмортов. Были здесь и пустая птичья клетка, и сломанная лютня, и чучело мартышки с мудрыми, скорбными глазами.
Солнце проникало сюда только сквозь окна верхнего света. Я поняла: студия расположена под самой крышей, в мансарде, над кабинетом математики. Потому и обычных окон нет – стены для них слишком низки. Все помещение, плотно уставленное деталями натюрмортов, увешанное картинами, залитое бледным позднеосенним светом, являло удивительный контраст с другими классными комнатами – белостенными, почти стерильными, по-казенному пустыми. Я буквально замерла в дверном проеме, щурясь и моргая.
– Амброуз, я тут запуталась… – пропищала какая-то второклашка.
Амброуз? Я вытаращила глаза. В Солтене преподавали в основном женщины, и к каждой из них следовало обращаться «мисс», независимо от фамилии и семейного положения. Ни одна из учительниц не позволяла называть себя просто по имени.
Кого же столь фамильярно назвали Аброузом? Я оглядела студию, и тут-то мне впервые предстал он – Амброуз Эйтагон.
Давно, еще до встречи с Оуэном, я рассказывала о нем своему тогдашнему парню. Описать Амброуза не получалось, хоть тресни. Фотографии у меня сохранились, но на них запечатлен обычный человек среднего роста, с жесткими и довольно редкими темными волосами, сутулый от постоянного корпения над этюдами. Как и у Кейт, его лицо было тонким и подвижным, а годы пленэра и необходимость щуриться на ярком солнце изрядно добавили ему морщин. Парадоксальным образом с морщинами Амброуз Эйтагон казался не старше, а моложе своих сорока пяти лет. Грифельно-синие глаза (передавшиеся по наследству Кейт) были единственной незаурядной особенностью внешности Амброуза – но фотографии не передают их живости, столь мне запомнившейся. А ведь Амброуз и минуты не сидел спокойно. Он был как шарик ртути. Память подбрасывает сотни кадров, в которых Амброуз пишет красками либо рисует углем, смеется, скручивает папиросу, отодвигает стакан сухого красного вина (оно хранилось в двухлитровых бутылках в кухне под умывальником; никто, кроме Амброуза, не мог пить такую кислятину). А главное – всеми, буквально всеми его движениями, всеми действиями руководила любовь.
Лишь такой крупный художник, как Амброуз Эйтагон, мог стать вместилищем столь огромного запаса жизненных сил, совместить в себе столько противоречий – каменную сосредоточенность и беспокойную энергичность, а еще – загадочный магнетизм при весьма ординарной внешности. Что интересно – он так и не написал автопортрета. По крайней мере, я о таковом не слышала. Есть в этом своеобразная ирония, ведь Амброуз рисовал буквально все – птиц над рекой, солтенских девчонок, хрупкие, неброские растения, что выживают на соляных маршах, трепещут на летнем ветру, разлетаясь пухом семян, рябь на водах Рича…
Кейт он рисовал с истинной одержимостью. Вся мельница была буквально завалена набросками: Кейт ест, плавает, спит, играет… Позднее Амброуз стал рисовать нас с Теей и Фатимой; правда, он всегда спрашивал разрешения. Как сейчас, помню его хрипловатый серьезный голос (Кейт даже интонации унаследовала): «Не возражаешь, если я, хм, тебя слегка увековечу?»
Мы никогда не возражали. Хотя, может, и следовало бы.
Однажды, бесконечным летним днем, Амброуз взялся рисовать меня – за кухонным столом, со съехавшей бретелью сарафана, упершую подбородок в ладони, устремившую взгляд прямо на него. До сих пор помню, как солнце припекало мне щеку, каким приливом жара реагировало сердце на каждый мой взгляд, устремленный к Амброузу. И как искрило между нами в те моменты, когда Амброуз отрывался от наброска и наши взгляды встречались.
Набросок достался мне, но где он сейчас, я понятия не имею. Я почти сразу отдала его Кейт на хранение. В школьной спальне набросок было негде спрятать, показывать родителям и солтенским девочкам казалось невозможным – они бы все равно не поняли. Никто бы не понял.
Когда Амброуз пропал, сразу поползли слухи – о его прошлом, о давней наркозависимости, о том, что у него и диплома-то преподавательского не было. Но хрустким и звонким октябрьским утром я ничего об этом не знала. Понятия не имела ни о роли Амброуза в жизнях нас четырех, ни о том, как ему самому аукнется наша дружба с его дочерью, ни о том, сколь долго будет рябить вода, утекающая с нашей первой встречи. Я тогда стояла в дверях, вцепившись в ремешок сумки, запыхавшаяся, и смотрела, как Амброуз Эйтагон сутулится над ученическим мольбертом. Вот он взглянул на меня своими синими-пресиними глазами, улыбнулся, пустив вокруг глаз и бородки лучики морщин, и произнес:
– Привет.
Затем отложил кисточку, вытер руки о фартук и добавил:
– Похоже, мы еще не встречались. Меня зовут Амброуз.
Я лишь рот открывала, словно рыба. Амброуз умел одним только взглядом уверить, что нет для него во всей вселенной человека дороже, чем тот, к которому он сейчас обращается. Умел создать впечатление, будто вы с ним наедине – и пусть комната полна людей.
– Я… меня зовут Айса. Айса Уайлд.
– А меня – Фатима, – пролепетала Фатима, уронив сумку.
Я заметила, что она тоже оглядывается с изумлением, точно Аладдин в пещере сорока разбойников. Еще бы – студия, полная сокровищ, так не походила на остальные школьные помещения.
– Фатима, Айса, – заговорил Амброуз, – я сердечно рад познакомиться с вами.
Он взял мою руку, но не пожал, как я ожидала, а стиснул мне пальцы, словно скрепил этим жестом нашу некую клятву. Руки у Амброуза были теплые и сильные, в складочки, в кутикулу намертво въелась краска: ясно было – ее не отмыть никакими щетками.
– А теперь, девочки, – Амброуз обвел студию широким жестом, – берите мольберты и кисти, проходите, усаживайтесь. Чувствуйте себя как дома.
И мы повиновались.
То, что уроки рисования кардинально отличаются от других уроков, мы поняли сразу. Во-первых, учителя всех называли по имени; во-вторых, ни одна из девочек не надевала на рисование ни блейзер, ни галстук.
– Катастрофа, если галстук тащится по вашей акварели, – пояснил Амброуз в тот первый день, почти заставив нас развязать наши «удавки».
Но дело было не только в предполагаемой порче рисунка. Дело было в свободе от формальностей. Снимая галстуки, мы словно получали возможность дышать; в остальное время на каждую из нас давила школьная уравниловка.
Несмотря на то, что буквально все девчонки были влюблены в Амброуза и пытались привлечь его внимание – расстегивали блузки, чтобы явить ему, склонившемуся над ученическим холстом, краешек бюстгальтера, – Амброуз оставался невозмутим. На занятиях он был настоящим профессионалом. Держал дистанцию – в прямом и в переносном смысле. Помню, как в самый первый день он подошел ко мне, заметив мою неравную борьбу с эскизом. Я тогда подумала: сейчас поступит, как моя прежняя учительница рисования, мисс Драйвер – та имела привычку привалиться к ученику сзади своим душным животом, обдать запахом пота. Амброуз, напротив, остановился в добром футе от меня, застыл, вдумчиво созерцая мои труды. Я его отлично видела в зеркальце, прикрепленном к мольберту, – мы рисовали автопортреты.
– Дерьмово получается, да? – спросила я с безнадежностью в голосе. И тотчас прикусила язык, приготовившись к нотации за сквернословие.
Амброуз дурного слова будто и не разобрал. Он с прищуром смотрел на мою работу, едва ли замечая меня саму. Я протянула ему карандаш, ожидая, что он станет вносить исправления, как, бывало, делала мисс Драйвер. Рассеянно Амброуз взял карандаш, но бумаги им даже не коснулся. Зато он взглянул мне в лицо и серьезно сказал:
– Вовсе не дерьмово. Но ты, Айса, в зеркало-то и не смотришь. Рисуешь наугад. Нужно смотреть; нужно всматриваться. В свое отражение. В себя.
Я отвернулась, попыталась сделать, как наставлял Амброуз. Всмотрелась в себя, вместо того чтобы пялиться на его лицо, на котором морской ветер и солнце оставили столь заметные следы. Ничего хорошего в зеркале я не увидела – только прыщики на подбородке, детскую припухлость щек да непослушные волосы, кое-как собранные резинкой.
– У тебя потому не получается, что ты рисуешь отдельные черты, а не личность. Ты, как и всякий другой человек, не являешься набором досадливых ужимок, которые выдают твое недовольство собой. Лично я, глядя на тебя, вижу…
Амброуз замолчал, остановив взгляд на моем лице. Я ждала продолжения. Он смотрел так пристально, что мне больших усилий стоило не ерзать на стуле.
– Лично я вижу отважную девушку, – наконец выдал Амброуз. – Отважную и усидчивую. Я вижу девушку с тонкой внутренней организацией и силой, о которой она сама пока не догадывается. Я вижу в глазах этой девушки беспокойство, которое ей, впрочем, нет нужды испытывать.
Я вспыхнула. Слова, в устах любого другого нестерпимо банальные, у Амброуза прозвучали как простая констатация факта; вероятно, виной всему был хрипловатый голос.
– Вот и постарайся передать все это на бумаге, – сказал Амброуз.
Вернул мне карандаш и вдруг улыбнулся доверительно, широко. Сразу, словно нарисованные быстрой умелой рукой, проступили морщинки вокруг синих глаз.
– Нарисуй девушку, которую я в тебе разглядел, – добавил Амброуз.
Я не нашлась с ответом, только кивнула. До сих пор слышу его голос, так похожий на голос Кейт, – отрывистый, с дивной хрипотцой. «Нарисуй девушку, которую я в тебе разглядел». Тот эскиз у меня сохранился. На нем – девчонка, открытая миру; девчонка, которой нечего таить, кроме собственной ранимости. Одна беда: той девчонки, которую увидел Амброуз, в которую он поверил, больше нет на свете.
Может, ее никогда и не было.
Фрейя просыпается от моих шагов, хотя я крадусь на цыпочках. В комнате Люка (даже мысленно не могу назвать ее иначе) я пытаюсь убаюкать свою дочь. Тщетно. Приходится взять Фрейю в постель (в постель Люка). Кормлю лежа, опираюсь на локоть над маленьким компактным тельцем, столь хрупким, если противопоставить его моему весу.
Так мы и лежим – я и Фрейя. Смотрю на нее, жду, когда меня сморит сон; думаю об Амброузе… о Люке… о Кейт, которая живет совсем одна в разрушающемся доме, что мельничным жерновом повис у нее на шее. С завораживающей медлительностью дом погружается в дюны и тянет с собою упрямую Кейт, не желающую расстаться с этим бременем.
Дом поскрипывает на ветру, пошатывается. Переворачиваю подушку прохладной стороной кверху. Я должна бы думать об Оуэне – а думаю о прошлом, о долгих, томных летних днях, что мы проводили на мельнице. Мы пили, купались и хохотали; Амброуз все это зарисовывал, а Люк… Люк просто смотрел из-под своих тяжелых миндалевидных век.
Может, все потому, что я – в его комнате; но только ни разу за эти семнадцать лет воображение не рисовало мне Люка столь отчетливо. Призраки его личных вещей роятся надо мной, его простыни нежат мое тело, и я не могу отделаться от ощущения, будто сам Люк, во плоти, лежит рядом – такой теплый, такой долговязый, такой загорелый и растрепанный.
Наваждение до того реально, что в попытке его стряхнуть я не выдерживаю – поворачиваюсь, открываю глаза. Разумеется, мы с Фрейей здесь одни. Качаю головой.
До чего я докатилась? У меня, как и у Кейт, крыша едет, а расшатывают эту крышу призраки былого.
Но ведь была же одна давняя ночь, что я провела в этой постели!.. Голоса и прочие звуки преследуют меня, словно заело пластинку, словно она прокручивает все тот же трек.
Они все здесь: Люк, Амброуз, да и мы тоже – тонкорукие, гибкие девчонки, что смеялись без умолку до тех пор, пока дивное лето не завершилось катастрофой, заставив нас замереть в ужасе, а потом карабкаться дальше, применять ложь не ради забавы, а ради выживания.
В этом доме призраки нас прежних чуть ли не реальнее, чем три женщины, что спят этажом выше, этажом ниже, через стенку. Их присутствие осязаемо, и я вдруг понимаю, почему Кейт не в силах уехать.
Я почти сплю. Бессильно беру телефон – посмотреть, который час. Когда я возвращаю его на тумбочку, отсвет экрана падает на покоробившийся пол, и я что-то замечаю. В щели между половиц белеет, рябит строчками уголок бумажного листа. Что это? Письмо, написанное Люком и потерянное, а может, спрятанное?
Сердце колотится, я будто вторгаюсь на территорию Люка (впрочем, отчасти так и есть), тяну за уголок и достаю бумагу из пыли и паутины. Сплетения линий говорят о том, что это – рисунок. При свете экрана толком не разберешь, а лампу включать я не хочу, иначе Фрейя проснется. Крадусь к открытому окну. Шторы колышет морской бриз, луна почти полная. Поворачиваю листок в лунных лучах.
Это эскиз, написанный акварелью. Девичий портрет. Возможно, изображена Кейт. Автор, скорее всего, Амброуз. Наверняка сказать не могу, и вот почему: портрет весь исчеркан черной ручкой, линии жирные, на лице – даже двойные и тройные. В них – злоба, столь отчаянная, что местами острие стержня прорвало бумагу. Некто выколол нарисованные глаза девушки – в чем не было нужды, ведь лицо и без того практически полностью замазано. Явная попытка вычеркнуть эту девушку из жизни, стереть из памяти, уничтожить полностью.
С минуту стою у окна, на ветру, пытаюсь понять, чья это работа. Люка? Нет, исключено. Люк никогда бы так не поступил – он любил Кейт. Может, свой портрет испортила сама Кейт? Исключено и это. Впрочем, как ни странно, в акт вандализма со стороны Кейт мне легче поверить.
Тщетно пытаюсь разгадать тайну эскиза, пропитанного яростью, но вдруг в окно врывается ветер и выхватывает бумагу из моих пальцев. Попытки поймать листок безуспешны: он порхает над матовым мутным Ричем, ложится на водную гладь, быстро намокает и тонет.
Что бы ни означал этот рисунок с девичьим лицом – его больше нет. Меня потряхивает, несмотря на духоту ночи. Ложусь в постель и невольно думаю: пожалуй, и к лучшему, что рисунок канул в воду.
После дня и вечера, столь насыщенных эмоциями, я должна бы провалиться в сон без сновидений – нет же. Сначала мне не дает расслабиться исчерканный портрет, затем я все-таки засыпаю, однако сны мои мрачны и запутанны, как коридоры Солтен-Хауса. Я бреду по этим коридорам, поднимаюсь по винтовым лестницам, ищу комнаты, которых в Солтене никогда не было, и, разумеется, не нахожу их. Впереди меня идет Кейт, я слышу ее голос, но не могу за ней угнаться. «Сюда, – говорит Кейт, – мы почти пришли». Ей отвечает жалобный крик невидимой во сне Фатимы: «Опять врешь!..»
А потом раздается лай Верного, я улавливаю звуки шагов и приглушенное: «Тише, Верный, тише». Хлопает дверь – значит, Кейт вывела пса на прогулку.
И снова тихо. Настолько, насколько может быть тихо в старом, кишащем призраками доме, который из последних сил противостоит ветрам и приливам. В очередной раз я просыпаюсь от голосов, доносящихся снаружи, от громкого встревоженного шепота. Сажусь в постели, тру глаза. Что происходит? Утро. Солнце пробивается сквозь тонкую ткань занавесок, и моя Фрейя – словно в озерце света, ее ручки и ножки непроизвольно подрагивают. Она спит. Вдруг начинает хныкать, и я беру ее на руки, прикладываю к груди – но нашей идиллии мешают чужие голоса. Фрейя вскидывает головку, оглядывает комнату; кажется, больше всего ее смущает характер освещения. У нас в Лондоне летом, после полудня, свет ложится пыльными желтоватыми пластами. Здесь он ослепительно чист – до того, что больно глазам – и не знает ни минуты покоя. Блики от волн пляшут на потолке, на стенах – вся комната в движении.
И еще голоса… тихие, взволнованные голоса, оттеняемые по временам жалобным повизгиванием Верного.
Наконец я не выдерживаю. Заворачиваю Фрейю в одеяльце, набрасываю халат, босиком иду вниз по деревянной лестнице, осторожничая на изъеденных временем ступенях. Дверь, выходящая в сторону суши, распахнута, снаружи льется свет – но еще прежде, чем я преодолеваю последний лестничный виток, мне ясно: случилось что-то плохое. Так и есть: плиточный пол залит кровью.
Замираю на ступенях, стискиваю Фрейю, прижимаю к груди, словно такая близость способна унять болезненное сердцебиение. Фрейя пищит, и лишь тогда я соображаю: мои пальцы впились ей в пухлые ножки. Ослабление хватки требует усилий – это было инстинктивное движение, и приходится задействовать волю. Между тем я уже ступила на окровавленный пол.
Только теперь я вижу: это не просто пятна крови. Это следы от окровавленных собачьих лап. Собака у нас одна – Верный. Следы идут от входной двери, делают круг по комнате и удаляются из дому, словно Верного поспешно выгнали.
Голоса доносятся снаружи, со стороны суши. Влезаю в сандалии и выхожу, щурясь от солнца.
Кейт и Фатиму я вижу со спины; Верный сидит рядом с Кейт, тихонько, тоскливо подвывает. Накануне Верный разгуливал свободно – сейчас он в ошейнике, и тонкая рука Кейт сжимает короткий поводок.
– Что случилось, девочки?
Кейт с Фатимой оборачиваются. В следующее мгновение Кейт делает шаг в сторону, и моему взору предстает нечто доселе скрытое. Моя ладонь зажимает рот, я сглатываю, а когда вновь обретаю дар речи, голос у меня дрожит:
– Господи. Она что… мертвая?
Дело не в самом факте – мне и раньше доводилось видеть мертвые тела; дело в эффекте неожиданности, в несоответствии кровавого месива сине-золотому, восхитительному летнему утру. Шерсть влажная – наверное, ее промочил прилив; кровь медленно стекает в черные щели мостков, пропитывает глинистую отмель. Прилив успел отхлынуть, остались только лужицы, а крови достаточно, чтобы окрасить воду в цвет ржавчины.
Фатима мрачно кивает. Прежде чем покинуть стены дома, она не забыла надеть хиджаб и выглядит сейчас как женщина-врач тридцати с хвостиком лет – а не как вчерашняя девчонка-школьница.
– Мертвее не придумаешь, – говорит Фатима.
– Но… но почему… как?.. – мямлю я, не в силах спросить прямо: «Кто?»; между тем мой взгляд устремляется к Верному.
Морда у него вымазана кровью. Привлеченная запахом, на окровавленный собачий нос присаживается муха. Верный взвизгивает, мотает головой. Муха улетела; длинный розовый язык вывалился из пасти в попытке слизнуть липкую мерзость.
Хмурая Кейт пожимает плечами:
– Понятия не имею. Наверняка не мой Верный – он сам как ягненок, хотя… хотя чисто физически он мог бы… Да, он мог бы.
– Но как же?..
Прежде чем мой невнятный вопрос тает в воздухе, взгляд успевает метнуться от мостков к изгороди. Калитка открыта.
– Вот черт!
– То-то и оно. Если бы я только знала, никогда бы его не выпустила.
– Кейт, милая! Мне так жаль! Наверное, это Тея открыла…
– Ну-ка, ну-ка – что конкретно открыла Тея?
Оборачиваюсь на заспанный голос. Тея, взъерошенная, с неприкуренной сигаретой в пальцах, жмурится на пороге мельницы.
– Тея, я в том смысле, что… – осекаюсь, переступаю с ноги на ногу.
Я и правда не думала валить все на Тею – как бы ни прозвучало мое предположение.
Внезапно Тея видит кровь, израненную плоть, мокрую шерсть.
– Черт. Что случилось? При чем тут я?
– Кто-то оставил калитку открытой… – Голос у меня затравленный. – Я совсем не имела в виду, что…
– Неважно, кто не закрыл калитку, – резко обрывает Кейт. – Виновата я. Я должна была проверить все запоры, прежде чем выпускать Верного.
– Это что, твой пес сделал, да?
Тея, бледная, как полотно, пятится от трупа, от Верного, от его окровавленной морды.
– Господи боже.
– Мы не знаем, – коротко поясняет Кейт.
Вид у Фатимы перепуганный, и мысль ее мне ясна: если не пес это сделал – тогда кто?
– Пойдемте отсюда, – говорит Кейт.
От ее резкого поворота с кишок, вываленных на мостки, срывается стая мух – чтобы через мгновение вернуться к пиршеству.
– Пойдемте в дом, – продолжает Кейт. – Надо обзвонить фермеров – может, кто овцы недосчитался. Черт. Только этого нам не хватало.
Пояснения мне не нужны. Дело не только в овце, не только в том, что созерцать растерзанный овечий труп втройне тяжелее с похмелья. Дело в зловонии, которое пропитало воздух. В крови, которая отравила морскую воду, сделала ее мерзкой, враждебной для нас. Сама смерть взяла курс на мельницу.
Фермера, недосчитавшегося овцы, Кейт находит лишь с четвертого или пятого звонка. Затем ждет. Она цедит кофе, старается абстрагироваться от мушиного жужжания над трупом – жужжания, которое слышно даже через закрытую дверь. Тея отправилась досыпать, мы с Фатимой заняты Фрейей – поджарили для нее тост. Фрейя, конечно, его не ест – только делает вид.
Кейт меряет шагами комнату; мечется, словно тигрица в клетке, подходит то к окну, выходящему на Рич, то к подножию лестницы; без конца, до мельтешения в глазах, повторяет маршрут. Она курит самокрутку – дрожь пальцев, а значит, и весь настрой, заметны лишь по вибрациям этой самокрутки в тонких пальцах.
Внезапно Кейт дергает головой, и вместо тигрицы я вижу собаку – чуткую, настороженную собаку. Мгновением позже звук, от которого Кейт так встрепенулась, доходит и до меня. Это – шорох автомобильных шин. Кейт выскакивает из дому, закрывает за собой дверь. Снаружи рокочет чужой недовольный голос, полушепотом извиняется бедная Кейт.
– Простите, пожалуйста. Мне так неловко… Что? В полицию?..
Фатима не выдерживает:
– Как думаешь, Айса, нам выйти?
– Даже не знаю… – Мои пальцы теребят оборку халата. – Этот фермер… он вроде не очень зол. Может, Кейт сама разберется?
Фатима держит Фрейю на руках. Подхожу к окну. Кейт с фермером нависли над мертвой овцой. Фермер и впрямь не столько рассержен, сколько опечален. Кейт кладет ему руку на плечо – жест утешительный, не объятие, нет – но что-то близкое к объятию. Впрочем, Кейт сразу отдергивает руку. Слов фермера не разобрать. Вдвоем они берут злосчастную овцу за ноги, тащат по мосткам и бесцеремонно забрасывают в кузов фермерского пикапа.
– Сейчас принесу деньги, – произносит Кейт.
Фермер закрепляет задний борт. Кейт поворачивается к дому, в пальцах у нее на миг мелькает нечто маленькое, окровавленное – мелькает и исчезает в кармане.
Отшатываюсь от окна. Успеваю прежде, чем открывается дверь; прежде, чем, встряхивая головой, словно стараясь отделаться от дурного впечатления, входит Кейт.
– Все в порядке? – спрашиваю я.
– Не знаю. Вроде того.
Кейт моет окровавленные руки, затем делает шаг к комоду, где лежит кошелек. Открывает отделение для купюр, заглядывает. Выдыхает:
– Вот черт!
– Наличные нужны? – поспешно спрашивает Фатима.
Поднимается, передает мне Фрейю.
– Подожди, сейчас принесу. Моя сумка в спальне.
– Я тоже участвую. Сколько нужно?
Хорошо, что и я могу помочь Кейт.
– Сотни две, – вполне спокойно отвечает Кейт. – Овца, конечно, столько не стоит, но хозяин вправе вызвать полицию, а мне это не нужно.
На лестнице появляется Фатима с сумочкой.
– Вот, у меня есть сто пятьдесят. Еще на Гемптон-Ли, когда заправлялась, вспомнила, что в Солтене банкомат днем с огнем не сыщешь, и сняла с карты немного нала.
– Нет, половина – с меня.
Одной рукой удерживая на плече Фрейю, достаю из сумки, которую оставила болтаться на лестничной подпорке, тугой кошелек.
– У меня достаточно денег, Кейт. Возьми, пожалуйста.
Достаю пять хрустящих двадцаток, причем Фрейя, развеселившись, пытается ухватить каждую из них. Фатима добавляет сотенную купюру. От Кейт нам достается короткая, печальная улыбка.
– Спасибо, девочки. Я отдам, как только мы до Солтена доберемся, – на почте есть банкомат.
– Не надо отдавать, – возражает Фатима.
Но Кейт уже закрыла за собой дверь, ее голос доносится от пикапа. Фермер что-то бурчит, забирая деньги. Затем слышится шорох шин. Пикап удаляется, увозит с мельницы растерзанную овцу.
Кейт возвращается бледная, но с выражением облегчения на лице.
– Слава богу. Теперь едва ли он в полицию станет звонить.
– Но ты ведь не на Верного думаешь? – уточняет Фатима.
Кейт молча подходит к раковине, снова моет руки.
– У тебя кровь на рукаве, Кейт, – говорю я.
– И правда. – Кейт оглядывает свою одежду. – Откуда только в этой старой овце столько кровищи?
Улыбается она криво – понятно, о чем вспомнила. О мисс Винчельси, о пьесе «Макбет», в которой так и не сыграла. Кейт передергивает плечами, сбрасывает жакет прямо на пол, подставляет под кран ведро.
– Помочь? – спрашивает Фатима.
Кейт отрицательно качает головой:
– Нет, не надо. Пойду ополосну мостки, а потом приму ванну. Я такая грязная, просто ужас.
Еще бы. Даже у меня ощущение, будто я пропиталась запахом свежей крови, а ведь не я, а Кейт помогала фермеру тащить мертвую овцу.
От стука закрываемой двери я вздрагиваю. Слышно, как Кейт разом выплескивает воду из ведра на мостки, как метет веником по доскам.
Укладываю Фрейю в коляску.
– Как думаешь, Айса, это пес овцу загрыз?
Фатима говорит шепотом. Пожимаю плечами. Одновременно смотрим на Верного, пристроившегося на коврике возле холодной печи. Вид у него несчастный и пристыженный, в глазах тоска. Под нашими взглядами Верный вздрагивает, вновь принимается облизывать морду розовым языком, недоуменно поскуливает. Чует: что-то не так.
– Трудно сказать, – отзываюсь я.
Одно ясно: я никогда не оставлю Фрейю наедине с этим псом.
Жакет Кейт так и валяется на полу. Меня охватывает внезапное желание помочь, хотя бы в мелочи.
– Слушай, Фати, не знаешь, есть у Кейт стиральная машина?
Фатима озирается по сторонам.
– Неа. Помнишь, в Солтен-Хаусе она всегда сдавала одежду в общую стирку? Кстати, и Амброуз стирал свои вещи сам, прямо в раковине. А что?
– Да вот, хотела постирать жакет. Наверное, лучше сначала его замочить?
– Ага, замочи, только в холодной воде. Тогда кровь быстрее отойдет.
Поскольку стиральной машины нигде не видно, я затыкаю раковину пробкой, пускаю холодную воду, поднимаю с пола жакет. Разумеется, перед замачиванием нужно проверить карманы – что я и делаю. Лишь когда мои пальцы нащупывают нечто мягкое, склизкое, я вспоминаю о предмете, который Кейт столь торопливо сунула в карман там, на мостках.
Предмет – бесформенный комок – оказывается в моих пальцах. Невольно вскрикиваю от отвращения и спешу сунуть руку под кран. Комок, подобно лепестку, разворачивается в холодной воде, скользит на дно раковины.
Не знаю, чего я ожидала – но только не этого. В моих руках – записка, розовый от крови клочок бумаги с оборванными краями, с расплывшимся, но все еще читабельным текстом. Вот что нацарапано шариковой ручкой:
Может, и ее в Рич кинешь, а?
Чувство, меня охватившее, совершенно ново. Это паника – полная, абсолютная. С минуту я стою словно каменная, не в силах не только говорить, но даже дышать. Кровавая вода омывает мои пальцы, сердце бьется о ребра, щеки краснеют от раскаяния и страха.
Кто-то что-то выведал. Кому-то что-то известно.
Мой взгляд обращается к Фатиме – та уткнулась в мобильник, вероятно, пишет сообщение Али. Открываю рот, но по велению внутреннего голоса тотчас закрываю. Пальцы без моего ведома, сами собой, терзают, рвут бумажный комок, впиваются ногтями в ладони, и скоро с запиской покончено, ни единого слова не уцелело. Свободной рукой выдергиваю из раковины пробку, и розовая вода устремляется в сточное отверстие вместе с запиской. Я включаю кран и смываю в канализацию все следы, все обрывки, все волоконца, способные послужить уликами против нас.
И вот их нет, словно никогда и не было.
Мне просто необходимо выйти на воздух.
Кейт все еще в ванной, Тея спит, Фатима включила ноутбук и проверяет почту; ее силуэт отчетливо выделяется на фоне окна.
Фрейя сидит на полу. Пытаюсь играть с ней – тихонько, чтобы не мешать Фатиме. Раскрыла любимую тактильную книжку дочки, читаю полушепотом. Дети в книжке затеяли прятки. Но я то и дело забываю перевернуть страницу, и Фрейя хлопает по ней ладошкой, возмущается: мол, что же ты, мама?
– А где у нас малыш? – шепчу я, однако подпустить в тон загадочности не получается – может, потому, что Верный все так же лежит на своем коврике, облизывает морду длинным языком. У меня только одно на уме: схватить дочь и унести ее из этого дома.
Снаружи доносится стрекотанье кузнечиков, а из головы не идут овечьи кишки на мостках. Открываю в книжке очередное окошечко, в котором застыла нарисованная детская мордашка, – и вижу нечто страшное. Прямо за чудесной, восхитительной, самой сладкой в мире ножкой Фрейи таится острая щепка, отколовшаяся от половицы.
Место, где я когда-то с таким наслаждением полуночничала, теперь полно угроз.
Резко встаю, хватаю Фрейю, которая от неожиданности икает. Книжка из ее ручонок падает на пол.
– Фати, я пойду прогуляюсь.
Фатима отвлекается от ноутбука:
– Ага, иди. Куда направишься?
– Еще не решила. Может, в деревню.
– До нее же почти четыре мили!
Подавляю внезапное раздражение. Мне и без Фатимы отлично известно, сколько миль до Солтена. Я тоже не раз преодолевала это расстояние.
– Ничего, мне полезно пройтись, – говорю я спокойно. – Обувь подходящая, коляска прочная. Обратно на такси можно вернуться.
– Ну, раз ты уверена… Приятной прогулки, Айса.
– Спасибо, мамуля.
В этой фразе прорывается мое раздражение. Фатима выдавливает улыбку.
– Что, и правда так получилось? Прости. Честное слово, не стану напоминать тебе про пальто и про пи-пи на дорожку.
Прыскаю смехом. Принимаюсь устраивать Фрейю в коляске. Фатиме всегда удавалось рассмешить меня, а можно ли сердиться, когда смешно?
– Насчет пи-пи совет совсем нелишний, Фати, – соглашаюсь я, обуваясь. – Мышцы тазового дна уже не те, что раньше.
– Кому-кому, а мне можешь не рассказывать, – рассеянно отзывается Фатима, щелкая по клавиатуре. – Доктор Кегель[4] в помощь. Сжимайся!
Снова смеюсь. Выглядываю в окно. Солнце шлифует воды Рича, над дюнами поблескивает марево. Не забыть намазать Фрейю защитным кремом. Куда я его дела?
– Он в пакете с умывальными принадлежностями, – произносит Фатима – не очень внятно, ведь между зубов она держит карандаш.
Вздрагиваю.
– Что ты сказала?
– Услышала, как ты бормочешь «Где защитный крем?». Увидела, как роешься в детской сумке. Вспомнила, что натыкалась на тюбик в ванной.
Боже, неужели я крем вслух упомянула? Точно крыша едет. Расслабилась в отпуске по уходу за ребенком, начала сама с собой разговаривать, озвучивать свои мысли, привыкнув, что дома никого нет. Становится не по себе. Что еще я выболтала?
– Спасибо, Фати. Будь добра, пригляди минутку за Фрейей, пока я в ванную сбегаю.
Фатима кивает. Спешу в ванную, топая по ступеням.
Дверь заперта изнутри. Лишь дернув за ручку, вспоминаю: Кейт все еще моется.
– Кто там?
Голос приглушен дверью, но усилен эхом.
– Извини, Кейт, мне нужен защитный крем для Фрейи. Можешь передать?
– Сейчас открою, сама возьмешь.
Слышится плеск воды. Щелкает задвижка. Кейт опускается обратно в ванну.
– Заходи, Айса.
Приоткрываю дверь, однако осторожничаю напрасно. Кейт успела скрыться в мыльной пене, видна только голова с небрежным пучком волос да длинная, стройная шея.
– Извини за вторжение. Я быстро.
– Валяй.
Кейт поднимает из пены ногу и берется за бритвенный станок.
– Зря я вообще заперлась. Ничего принципиально нового ты все равно здесь не увидишь. Гулять пойдешь, да?
– Да. Может, в Солтен наведаюсь. Пока не знаю.
– В Солтен? Тогда возьми мою кредитку, сними пару сотен, чтобы я вам с Фатимой долг отдала.
Я давно отыскала крем и вот стою, верчу крышечку.
– Кейт, послушай… я… мы с Фатимой… мы вовсе не потому… в смысле, не надо…
Господи, до чего же неловко. Кейт всегда была такой щепетильной. Что, если она обидится? Как сказать, что в таких обстоятельствах – с поломанной машиной, с домом, который медленно поглощает море, – ей нельзя разбрасываться сотенными купюрами, а мы с Фатимой не обеднеем?
Старательно подбираю слова – и вдруг в сознании происходит вспышка. Так случается, когда шаришь в сумке и натыкаешься пальцем на булавочное острие. Булавка болтается на дне бог знает с каких времен, укол подобен щелчку, который включает память. Иными словами, я вдруг вижу окровавленный бумажный комок.
Может, и ее в Рич кинешь, а?
К горлу подступает тошнота.
– Кейт, – вымучиваю я, – что на самом деле произошло? Что случилось с твоей собакой?
Лицо у Кейт становится непроницаемым – будто кто-то опустил плотную штору.
– Надо было мне самой калитку проверить. Я сама виновата.
Она лжет, и я это знаю. Потому что Кейт окаменела – как всегда в таких ситуациях. Мы клялись не лгать друг другу. Вот она, Кейт, – в мыльной пене, как в облаке, с плотно сжатыми губами – тонкими, нервными, удерживающими правду. Что означала записка, уничтоженная мной?
Кейт отлично понимает: я ей не верю, и сейчас заявлю об этом – но не решаюсь. Если Кейт лжет, то, наверное, не без причины.
– Понятно, – выдавливаю я.
Я струсила, не уличила Кейт и упустила момент.
– Кредитка в кошельке! – кричит Кейт мне вслед. – Пин-код восемь-четыре-три-один.
Я бегу вниз по лестнице, к Фатиме, к спящей Фрейе; я даже не пытаюсь запомнить пин-код. Потому что не намерена брать ни кредитку Кейт, ни ее деньги.
Толкая перед собой коляску, буксующую в песке, краем глаза наблюдая, как блестит на солнце Рич, удаляясь с каждым шагом от мельницы, я успокаиваюсь. Мне даже почти весело.
День тихий, безветренный; прилив несет чаек, что покачиваются на волнах. Кулики со вниманием изучают глинистое дно. То один, то другой дергает головкой и тюкает клювом, извлекая из глины зазевавшегося червяка или жука.
Солнце печет сзади, и я поднимаю козырек коляски, а защитным кремом, который только что любовно наносила на пухлые ручки и ножки Фрейи, мажу себе шею.
Ноздри до сих пор чувствуют запах крови; кажется, чтобы отделаться от него, нужно дышать морским воздухом – дышать долго и интенсивно. Неужели овцу убил Верный? Попробуй разберись. Вновь передо мной растерзанная овечья тушка и скулящий пес. Чем были нанесены раны – собачьими челюстями или ножом? Не знаю.
Ясно только одно: Верный не мог написать записку. Кто же ее написал?.. Под жаркими солнечными лучами становится зябко; чья-то злоба, словно лютый холод, пробирает меня до костей. Внезапный импульс – выхватить из коляски, прижать к груди моего ребенка – почти непреодолим. Вот бы Фрейя вернулась в мою утробу, где была бы ограждена от паутины тайн и лжи, что налипает на меня, затягивая в прошлое, к давней ошибке, путь от которой был так долог и так труден, а иллюзия его преодоления – так желанна!
Семнадцать лет мы хранили тайну, пытались, каждая на свой лад, убежать – и вот поняли, что нам это не удалось. Пожалуй, я с самого начала знала: все напрасно.
Проселок упирается в развилку: одна дорога ведет к вокзалу, другая – к мосту, за которым расположена деревня Солтен. Ступаю на мост, медлю, покачивая коляску, обозреваю окрестности, столь хорошо мне знакомые. Местность совершенно плоская, и с моста, как со смотровой площадки, открывается неплохой обзор. Прямо передо мной, на фоне блестящих вод Рича, чернеет мельница – расстояние сделало ее миниатюрной, почти игрушечной. Слева, на другом берегу реки, виднеются коттеджи – ими словно утыканы узкие солтенские улочки.
Справа, далеко-далеко, за деревьями, маячит что-то белое; древесные кроны не скрывают фигурной крыши, которая почти сливается с маревом на выцветшем горизонте. Это – Солтен-Хаус.
Отсюда, с моста, невозможно разглядеть нашу заветную тропу. Ту самую, через марши; ту, по которой мы, злостные нарушительницы солтенской дисциплины, регулярно сбегали по ночам. Наверное, тропа давно заросла. Странно другое: сейчас наши вылазки представляются мне верхом безрассудства. Вспоминаю первую из них. Был промозглый октябрьский вечер, стемнело, когда мы вчетвером выбрались через окно на пожарную лестницу. Фонарики мы держали в зубах, сапоги – в руках; шли босиком, чтобы не грохотать рифлеными подошвами по железным ступенькам. Спустившись на землю, мы обулись. (Кейт предупредила: «Учтите – нужны резиновые сапоги; не кроссовки, не ботинки. Хоть лето было и засушливое, а на маршах все равно топко».) И вот мы, подобающим образом экипированные, пустились в путь. Мы бежали, сдавленно хихикая; мы почти не чувствовали земли. В голос начали смеяться, лишь когда миновали хоккейную площадку. Теперь никто не мог нас услышать. Этот участок пути был самым опасным – и чем ближе к весне, тем опаснее он становился. Дни удлинялись, светлые сумерки зависали за школьными стенами, темнота наступала очень не скоро после отбоя. Начиная с Пасхи, любая учительница, которой взбрело бы в голову выглянуть в окно, могла увидеть, как наша четверка преодолевает выбритое газонокосилкой поле: длинноногая Тея вышагивает, как журавль, Кейт почти не отстает от нее, мы с маленькой Фатимой пыхтим в хвосте.
Но в тот первый вечер темнота была непроницаемой, и мы безо всякого риска добрались до низкорослых кустарников и чахлых деревьев, за которыми и начинались марши. Теперь можно было смеяться сколько влезет; теперь можно было погасить фонарики.
Вела нас Кейт. Безошибочно находила тропу в темном лабиринте каналов и канавок с солончаковой водицей, бликовавшей в лунном свете.
Мы перелезали через изгороди, перепрыгивали канавы – мы во всем слушались Кейт. А она выдавала инструкции скороговоркой, чуть обернувшись: «Здесь осторожнее – слева настоящее болото… Придется лезть через забор – если открыть ворота, их потом не запрешь, и овцы сбегут… Видите травянистый холмик? Ну, я же на нем стою! Глаза напрягите! Сюда прыгайте, здесь самая надежная почва».
Кейт привыкла к маршам – бегала по ним еще совсем крошкой. Да, она не знала названий цветов, через раз не могла идентифицировать вспугнутую нами птицу – зато отлично обследовала все западни, уготованные маршами. Каждый холмик, каждый участок топи, ручей, канава и надежный островок были ею изучены. В полной темноте Кейт умудрилась провести нас через этот лабиринт овечьих троп, трясин и речных рукавов, не ошибившись, не дав нам ни испугаться, ни зачерпнуть сапогами солоноватой воды. Наконец, преодолев очередную изгородь, мы замерли: перед нами лежал Рич, великолепный, бесподобный под луной, а в отдалении, на дюне, маячила мельница с единственным освещенным окошком.
– Значит, твой папа дома? – спросила Тея.
Кейт покачала головой:
– Нет. Он, наверное, в деревне завис. Ты про свет? Так это Люк включил – больше некому.
Люк? Вот когда я впервые услышала его имя. Задумалась – кто бы это мог быть? Дядюшка Кейт? Или брат? Вроде Кейт говорила, что она у отца единственная. Но мы с заинтригованной Фатимой успели только переглянуться – Кейт ринулась вперед, быстро достигла дорожки, ведущей к крыльцу. На сей раз она не оглядывалась, не проверяла, успеваем ли мы за ней – потому что почва под нашими ногами была надежная, твердая. Мы шли или, точнее, почти бежали по утрамбованному песку. На пороге Кейт помедлила, подождала Фатиму, нашу неизменную замыкающую, и наконец открыла дверь, не дав Фатиме толком отдышаться.
– Ну, девочки, добро пожаловать домой.
Так я впервые вступила под своды мельницы.
Интересно, что с того вечера и по сей день мельница почти не изменилась. Правда, тогдашняя коллекция картин и рисунков несколько отличалась от нынешней, да и весь дом казался крепче, устойчивее, опрятнее – но прежними остались и деревянная винтовая лестница, и мансардные окна, из которых льется на воды Рича золотистый, теплый свет.
В печи пылал огонь, и, едва Кейт открыла дверь, меня обдало волной тепла, запахами горящей древесины, скипидара, масляных красок и морской воды.
Дом не был пуст. Кто-то устроился в кресле-качалке перед огнем с книгой; на наши шаги этот кто-то удивленно оглянулся.
Я увидела мальчика наших лет (позже я узнала, что он пятью месяцами моложе меня и, следовательно, всего на год старше моего брата). Но какой контраст этот юноша составлял с Уиллом – румяным, белокожим, белокурым – этаким сдобным пончиком! Этот юноша был долговяз и смугл, стрижка у него была неаккуратная, будто он сам орудовал ножницами, корнал, как придется, свои темные волосы. Еще он сутулился, что свойственно людям высокого роста, которым приходится жить в домах с низкими притолоками.
– Кейт! Каким ветром?
Юноша встал; голос у него оказался глубокий, низкий, чуть хрипловатый, акцент – новый для моего уха. Кейт, во всяком случае, говорила иначе.
– Отца нет дома.
– Привет, Люк, – сказала Кейт. Приподнялась на цыпочки, чмокнула Люка в щеку – небрежно, по-сестрински. – Извини, что не предупредила. Просто я не могла больше гнить в этой тюрьме и подруг там кинуть не могла тоже. Ну, с Теей ты знаком. Это Фатима Квуреши.
– Привет, – смущенно произнесла Фатима и протянула смуглую ладошку, которую Люк взял и пожал довольно неуклюже.
– А это Айса Уайлд, – продолжила Кейт.
Я тоже сказала «привет». Люк мне улыбнулся, и я заметила, что глаза у него золотистые, совсем кошачьи.
– А это, девочки, Люк Рокфор, мой… – Кейт сделала паузу, переглянулась с Люком, и он кривовато улыбнулся. – Мой сводный брат. Так, кажется, это называется? В общем, ура, мы дома. Люк! Так и будешь столбом стоять?
Люк снова улыбнулся уголком рта, нагнул голову и попятился, освобождая для нас пространство.
– Выпьете чего-нибудь? – вдруг спросил он.
Мы с Фатимой еще осмысливали эту встречу; языки нас едва слушались, и неудивительно – мы, столько недель проведшие в чисто девчачьем обществе, никак не ожидали увидеть незнакомца, тем более – ровесника.
– А что есть? – выдавила я.
– Вино, – небрежно ответил Люк. – «Кот-дю-Рон».
Тут-то я и сообразила, что у него за акцент, и откуда такое непривычное имя. Люк – француз!
– Отлично, – сказала я. – Вино так вино.
И я взяла бокал из его рук и чокнулась с ним.
Была уже глубокая ночь. Мы изрядно набрались; опьяневшие, хихикали, танцуя под патефонные пластинки, когда щелкнул замок. Пять наших голов повернулись на звук. В дверном проеме стоял, тиская шляпу, Амброуз.
Мы с Фатимой окаменели, а Кейт нетвердой походкой пересекла комнату, цепляясь за коврики, и со смехом почти упала в отцовские объятия. Амброуз расцеловал ее в обе щеки.
– Папа, ты же нас не выдашь, правда? – шепнула Кейт.
– При одном условии, – ответил Амброуз.
Шляпа полетела на стол. Проходя к дивану, Амброуз потрепал Люка по вихрам и продолжил речь:
– Нальете и мне тоже – и я вас не видел.
Не видел, как же! Собственный набросок выдал бы Амброуза с головой. Он, этот набросок, и сейчас висит над крошечной площадкой винтовой лестницы, возле двери в прежнюю спальню Кейт. Изображены мы в самый первый вечер – все пятеро, на диване, скучившиеся, словно щенята. Этакий клубок длинных конечностей, переплетенных так, что и не разберешь, где моя плоть и где плоть Люка или Теи. На подлокотнике примостилась Фатима, на ее голые ноги спиной опирается Тея. Кейт сидит на полу, вжавшись в потертый диван, подтянув колени к подбородку, впитывая взглядом пламя печи. Она держит бокал с вином, а мои пальцы ерошат ей волосы.
Да, то была первая ночь, объединившая нас пятерых, нас – пьяных и смеющихся, разгоряченных живым теплом печи, и вином, и близостью друг друга. Первая – но далеко не последняя. Потому что мы возвращались. Мы снова и снова сбегали на мельницу, пробираясь по маршам – то хрустким от инея, то белым от множества только родившихся ягнят. Мы летели, как мотыльки на огонь, который светил нам через марши единственным окошком в темном силуэте одинокого дома. А потом возвращались в школу – то бледной весенней зарей, чтобы с трудом разлеплять глаза на уроке французского, то ясным летним утром, с белесыми от морской соленой воды волосами.
Мы не всегда нарушали школьный режим. В каждом семестре, через две недели после его начала, выходные были «открытыми». То есть позволялось уехать домой или к друзьям – конечно, с разрешения родителей. Нам с Фатимой ехать было некуда. Мой отец дневал и ночевал в больнице, возле мамы; родители Фатимы работали в Пакистане. А Тея… Если честно, я никогда не интересовалась насчет ее семьи. Одно было ясно: там дело плохо, очень плохо. Тея либо не могла, либо не хотела возвращаться к родителям.
Зато школьные правила не запрещали нам гостить у Кейт – что мы и делали. Упакуем вещички – и вперед, по маршам, в пятницу после занятий, и назад, тем же путем, в воскресенье под вечер, едва успевая на перекличку.
За первым таким уик-эндом последовал второй, а потом понеслось… Вскоре студия Амброуза была переполнена набросками нас четырех; вскоре я изучила мельницу досконально, не хуже, если не лучше, спальни, что делила с Фатимой; вскоре мои ноги сами выбирали безопасные тропинки, и я отыскивала путь почти так же уверенно, как Кейт.
– Мистер Эйтагон – практически святой, – высказалась однажды мисс Уэзерби, наша классная наставница. Было это в пятничный вечер, я просила отпустить меня вместе с Кейт. На слове «святой» мисс Уэзерби чуть поджала губы. – Подумать только – всю неделю учит девочек рисовать, а на выходные еще и предоставляет стол и кров. Ты уверена, Кейт, что твоему отцу это не надоело?
– Уверена, – твердо ответила Кейт. – Мой папа очень рад, что у меня снова появились подруги.
– А мой папа разрешил мне гостить у мистера Эйтагона, – вставила я.
Соответствующее разрешение отец дал сразу, дополнительных объяснений не понадобилось. С великим облегчением он понял, что я довольна жизнью в Солтене, что не нужно встречать меня по пятницам и отвозить в школу по воскресеньям. Да отец бы договор с дьяволом подписал – лишь бы от таких хлопот избавиться, так что стопка бланков с подписью директрисы показалась ему пустячным условием.
– Не сочти, Айса, что я не одобряю твоей дружбы с Кейт, – сказала мисс Уэзерби позднее, прихлебывая чай у себя в кабинете. Я поежилась под ее взглядом. – Очень хорошо, что ты нашла подруг. Но вот что тебе следует запомнить: дружеские контакты рафинированной молодой леди должны быть максимально многочисленны. Это – обязательное условие. Почему бы тебе не провести уик-энд с какой-нибудь другой девочкой? Или, для разнообразия, не остаться в стенах Солтен-Хауса? У нас многие остаются, скучать ты точно не будешь.
– А разве количество уик-эндов, которые я могу провести в гостях, как-то ограничено правилами? – уточнила я, сделав глоток чаю.
– Не то чтобы… В правилах конкретной цифры нет… – выдавила мисс Уэзерби.
Я кивнула, с улыбкой допила чай и нацарапала заявление об очередных выходных у Кейт. Этого школа мне запретить не могла. До поры до времени.
К Солтену я приближаюсь вся вспотевшая, ошалевшая от жары. Останавливаюсь в дубовой рощице у дороги. Пот струится между грудей, пропитывая бюстгальтер. Фрейя мирно спит, приоткрытый ротик подобен розовому бутону. Не выдержав, целую ее – осторожно, чтобы не разбудить. Ноги мои стерты, но выбора нет – надо войти в деревню.
Сзади сигналят. Не реагирую, но слышу: автомобиль снижает скорость. Оборачиваюсь. Водитель высунулся в окно. Я его знаю: это Джерри Аллен, владелец паба «Солтенский герб», едет в своем старом пикапе. Раньше напитки в нем возил из гипермаркета. Как этот пикап еще жив – непонятно; буквально насквозь проржавел. Почему Джерри до сих пор ездит в этой консервной банке? Правда, паб никогда не был золотым дном… Значит, настали совсем плохие времена.
Итак, Джерри высунулся в окно, гадает – что это за дура вздумала в самую жарищу гулять по шоссе? Вот пикап поравнялся со мной, Джерри меняется в лице, жмет на клаксон – от этого звука я вздрагиваю. Джерри давит на рычаг, пикап резко тормозит. Вздымается облако пыли.
– Слышь, а я тебя узнал, – объявляет Джерри, не дождавшись, пока мотор заглохнет.
В голосе – торжество разоблачителя. Молчу – то есть оставляю Джерри повод считать меня виноватой.
– Ты вечно болталась с Кейт Эйтагон; тебя и двух других ее папаша…
Слишком поздно Джерри соображает, куда может завести такая речь. Он издает неестественное «кхе», закрывает рот ладонью – пытается замаскировать неловкость кашлем заядлого курильщика.
– Да, – говорю я спокойно. Не дождется – не вскинусь в ответ на его слова. – Я – Айса. Айса Уайлд. Здравствуйте, Джерри.
– Эх, как время-то летит! – Глаза у Джерри увлажняются, взгляд оценивает мою фигуру. – У тебя теперь свой спиногрыз.
– Это девочка. Фрейя.
– Дела! – бормочет Джерри. Усмехается, являя щербины между зубов. Сверкает на солнце золотая коронка – от ее вида мне всегда становилось жутко, а почему – я не понимала и до сих пор не понимаю.
Джерри молча оглядывает меня – от пыльных сандалий до пятен пота на платье, – затем кивает в сторону Рича:
– Новости-хреновости, верно? Мик Уайт сказал, там половину пляжа оцепили. Правда, отсюда не видать. Полиция все рыщет: собак понавезли, белых палаток понаставили. А чего ищут? И какой прок, если найдут – теперь-то? Уоллес – ну, благоверный Джуди Уоллес – говорит: она, кость, столько лет под ветрами, под ливнями лежала – поди опознай! Пес их кость эту самую выкопал, да и хряпнул зубищами – она возьми да расколись надвое. Локоть это был, по слухам. Треснула, значит, косточка, будто сучок сухой. А что до остального – соль свое дело сделала; соль, да вода, да дюны.
Ну, и что мне отвечать? К горлу давно уже подступила тошнота, и я просто киваю. Наверное, Джерри угадывает мое состояние, предлагает:
– Ты же в деревню идешь? Давай в кузов – по пути нам.
Смотрю на его багровое лицо, на ржавый пикап. В кузове – простые скамьи, нет даже ремней безопасности, не говоря о детском кресле. Вспоминаю характерный запах виски, которым вечно – в том числе по утрам – разило от Джерри. Выдавливаю улыбку:
– Спасибо, я пешком. Погода, знаете ли…
– Не дури!
Джерри тычет пальцем в сторону кузова.
– Коляска легко поместится, а до Солтена еще больше мили. Спечешься!
На таком расстоянии запах перегара не учуять, но я снова улыбаюсь, качая головой:
– Еще раз спасибо, Джерри. Я действительно лучше пройдусь.
– Что ж, мое дело предложить. – Джерри ухмыляется, сверкая золотым зубом, и жмет на газ. – Как шопинг закончишь, в паб загляни. Пивка холодненького выпей по крайней мере.
Мое «спасибо» тонет в скрежете шин по песку. Джерри уезжает. Еще долго отряхиваюсь от пыли, а потом продолжаю путь.
В деревне Солтен мне всегда бывало жутковато. Раньше я не могла объяснить это ощущение, сейчас внезапно понимаю: все дело в рыболовных сетях. Деревня-то рыбацкая. По крайней мере, раньше таковой была. Сейчас здесь без проблем можно арендовать яхту, но порой причаливают и коммерческие рыболовецкие суда. Вокруг каждого коттеджа развешаны сети – не иначе, таким способом жители отдают дань славному прошлому. Кто-то утверждает, что в сети «попадается удача»; может, с этого поверья и началось, да только в последние годы сетями в основном приманивают туристов.
Их здесь немало, но все – проездом на побережье. Зависают на один день, восторгаются колоритом, фотографируют и валуны, и опутанные сетями коттеджи – каменные, с деревянными панелями. Покупают детям мороженое и цветные пластиковые ведерки. У некоторых сетей такой вид, будто они только что от лавочника, а в морскую воду и не окунались; другие выглядят потрепанными – тут вам и прорехи, которые чинить бесполезно, и клочья водорослей, и поплавки.
Помню, сети мне с первого взгляда не понравились – показались одновременно унылыми и хищными, вызвав ассоциации с паутиной, постепенно затягивающей жилища. А еще – с городами американского Юга: там тоже царит меланхолия, там испанский мох свисает толстыми плетями с деревьев, полощась на ветру.
Кое-кто из жителей держит сети строго на задворках; зато другие сельчане растянули их повсюду – на сараях, у порога, даже перед окнами. Полное впечатление, что гнилые веревки сплетаются с комнатными растениями, цепляются за оконные рамы, мешают пользоваться ставнями и щеколдами.
Вот ужас: открыть поздно вечером окно и услышать, как ветер швыряет на стекло толстую узловатую паутину; вот ужас – жить в доме, где сети закрывают солнце, и увязать в них пальцами, высвобождая оконный шпингалет. Будь моя воля, я бы все эти унылые экспонаты посрывала – как паутину во время весенней уборки. Выгнала бы, если это слово уместно, всех пауков.
Наверное, мне просто не нравится сама метафора. Ведь каково назначение сетей? Ловить живых существ.
Иду по узкой главной улице. Сети, похоже, разрослись за эти годы, а сама деревня, напротив, одряхлела и съежилась. Теперь каждый дом опутан сетями – десять лет назад таких домов было от силы половина. А еще кажется, что сети в Солтене маскируют упадок – облупленную краску, гниющую древесину. И пустых магазинчиков многовато. Ветер треплет линялые растяжки «Продается». Я потрясена упадком. Конечно, деревня никогда не была как с открытки и сильно контрастировала со школой. Похоже, туристы променяли ее на Францию и Испанию. С огорчением вижу, что магазин на углу, где продавалось мороженое, где глазам было больно от аляповатых пластиковых ведерок и совков, – закрылся. В пустой витрине, между рам, среди пыли, обосновались пауки.
Почта на прежнем месте; фасад украшает новая сеть – широченная, оранжевая, с зашитой прорехой прямо посередине. Пятясь в дверь и втаскивая за собой коляску, кошусь на эту сеть, мысленно заклиная: «Не падай, не падай на меня!» Воображение уже разыгралось, сеть рухнула, опутала нас с Фрейей и душит, душит…
О моем появлении возвещает громкий звон колокольчика, однако за прилавком никого. Иду к банкомату – раньше этот угол занимали автоматы со сладостями. Из подсобки никто не выходит. Я не собираюсь брать деньги Кейт, просто у меня только и было, что эти пять двадцаток да еще какая-то мелочь. А без наличных, как ни крути, не обойтись. Мало ли что…
Стоп. Мало ли что? Что конкретно? Почему-то отвечать на этот вопрос не хочется. Для чего могут понадобиться наличные? Для покупок в бакалейной лавке? Для возмещения стоимости билета на ужин? Да, разумеется. Но главное – наличные необходимы, чтобы, в случае чего, смыться.
Ввожу пин-код, и вдруг раздается резкий, скрипучий, похожий на мужской голос. Однако принадлежит он не мужчине – чтобы в этом удостовериться, даже оборачиваться не надо.
– Так-так-так. Кого это к нам принесло и каким ветром?
Забираю купюры из пасти банкомата, прячу кредитку в карман и оборачиваюсь. За прилавком материализовалась Мэри Рен – местный старожил, неофициальная глава деревни. На почте она работала еще в ту пору, когда я училась в школе, – так чего удивляться? И все же вид Мэри Рен почти сбивает меня с ног. Мне почему-то казалось, что она или на пенсии, или вовсе покинула этот мир. Ну да, как же. Не дождетесь.
– Здрасте.
Вымучиваю улыбку, одновременно пряча кошелек в сумочку.
– Вы совсем не изменились, Мэри.
Это и правда, и ложь. Лицо у Мэри такое, какое и было, – вроде каменной плиты, источенной непогодой. Черные глазки-буравчики смотрят с прежней проницательностью. А вот волосы… Раньше они темной рекой ниспадали до самой талии; теперь стали грязно-седыми. Мэри больше их не распускает, а заплетает в косицу вроде бечевки – такую тощую, что на кончике едва удерживается резинка.
– Айса Уайлд, – произносит Мэри.
Выходит из-за прилавка, останавливается, руки в боки – массивная, крупная. Этакая каменная тетка.
– Чтоб мне пропасть!.. Каким ветром, спрашиваю?
На миг я теряюсь, скольжу взглядом по вееру из местных газет, цепляюсь за броский заголовок: «В РИЧЕ НАЙДЕНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОСТАНКИ».
Наконец вспоминаю, что́ Кейт наврала таксисту.
– Я… я на вечер встречи приехала. Ну, в Солтен-Хаус.
– Да ладно.
Взгляд Мэри скользит по моему пропотевшему льняному платью, задерживается на коляске, на личике спящей Фрейи.
– Честно говоря, не ожидала. Не думала, что ты вернешься. Столько уже было вечеров встречи – а ты на них не появлялась. Да и никто из этой вашей клики.
Звук «и» она произносит отрывисто и коротко – как булавкой колет. Не сразу разбираю слово «клика». Затем понимаю: Мэри права. Мы и были кликой – Кейт, Тея, Фатима и я. Нам хватало общества друг друга. Все остальные требовались исключительно в качестве объектов наших розыгрышей. Казалось, пока мы вместе, мы все можем преодолеть, с любой бедой справиться. Самонадеянные, безбашенные – вот какими мы были. Теперь мне и без намеков Мэри стыдно за прошлое.
– Ну а Кейт вы ведь нередко видите? – уточняю я, чтобы перевести разговор.
Мэри кивает:
– Еще бы. Единственный банкомат – у нас на почте, так что твоя Кейт волей-неволей сюда захаживает. Она, видишь, не уехала, как многие; осталась верна Солтену. Люди ее за это уважают, несмотря на то, что Кейт себе на уме.
– Себе на уме? – эхом отзываюсь я. Получается резковато.
Мэри хохочет, сотрясаясь всем своим грузным телом.
– Ну да. Кейт – будто кошка, сама по себе гуляет. Делает, что в голову взбредет, никто ей не указ. Амброуз – тот нелюдимым-то не был, вечно-то он в деревне, в пабе, с народом. Мог бы обособиться на своей мельнице, но нет – нашей, деревенской жизнью жил. А дочка его… – Мэри снова буравит меня глазками, повторяет: – Кейт – себе на уме.
Сглатываю. Как бы сменить тему?
– Я слышала, ваш Марк теперь в полиции служит.
– Верно, – кивает Мэри. – Очень удобно, когда полицейский – из своих. Так-то Марк к Гемптон-Ли прикреплен, но, раз дом его тут, нам, солтенцам, и внимания, и заботы больше.
– Он по-прежнему живет с вами, Мэри?
– Куда ж ему деваться? Сама, наверное, видела: наши дома лондонцы под виллы покупают, вот цены и взлетели. При таких-то ценах молодым на собственное жилье не накопить.
Глазки-буравчики останавливаются на моем кошельке, на дорогущей сумке от «Марни» – ее подарил мне Оуэн. Минимум пятьсот фунтов, а то и больше.
– Да, наверное, это тяжело, – выдавливаю под пристальным взглядом. – Зато приезжие обеспечивают доход местным? Так ведь?
Мэри только фыркает.
– Держи карман шире! Они, прежде чем из Лондона выехать, едой багажники свои набивают. Чтобы в наши лавки не заглядывать даже. Вон, Болдок-то, мясник, закрылся!
Молча киваю. Мне почему-то стыдно за брезгливых лондонцев.
Мэри качает головой.
– И пекарня закрылась. Помнишь, была у нас такая – «Крофт и сыновья»?.. Почитай, нынче только и есть в Солтене, что почта да паб – остальное все позакрывали. Да и то, при тех делах, что на пивоварне творятся, паб долго не протянет. В убыток себе работает. Куда Джерри нашему деваться, а? Ни пенсии, ни сбережений…
Мэри делает шаг ко мне, приподнимает козырек коляски.
– Я гляжу, ты родила. Девочка?
– Да.
Заскорузлый палец касается щечки Фрейи, ползет к подбородочку. Под ногтями у Мэри – красноватая грязь. Вероятно, это почтовые красные чернила; но мне почему-то кажется, что кровь. Изо всех сил стараюсь не выдать отвращения и страха за моего ребенка.
– Ее зовут Фрейя.
– Выходит, ты больше не Уайлд? Сменила фамилию?
Качаю головой:
– Нет, не сменила. Брак – гражданский.
– Ну, красотка твоя Фрейя, – подытоживает Мэри. – Лет через десять мальчишки с ума по ней сходить будут.
Кривлю рот, сжимаю пальцы на прорезиненной колясочной ручке. Большого труда мне стоит проглотить ядовитый комментарий, не дать ему сорваться с губ. Мэри Рен – фигура в деревне влиятельная; была такой еще семнадцать лет назад. Едва ли с тех пор что-то изменилось – как-никак, теперь ее сын полицейский.
Очень долго я внушала себе, что сложноподчиненные связи деревенских жителей, больше похожие на взаимную вассальную зависимость, а также натянутые отношения между обитателями Солтен-Хауса и деревни меня, уже взрослую, не касаются. Наивная! И через семнадцать лет я не осмеливаюсь отбрить Мэри – велеть ей держать свои мысли при себе, гордо выкатить коляску с почты и хлопнуть дверью. И не потому, что думаю о дальнейшей жизни Кейт в этой деревне. Вовсе нет. Я боюсь за нас всех. Школа давно умыла руки в отношении нас; теперь нам светят проблемы с законом. Не хватало еще и деревенских против себя настроить!
Поеживаюсь, хотя в помещении духота.
– Что, за живое тебя задела, да?
Мотаю головой, пытаюсь улыбнуться. Мэри хохочет, демонстрируя желтые зубы.
– Молодец, что приехала, – наконец произносит она, опуская над Фрейей козырек коляски. – Подумать – вроде только вчера вы, девчонки, сладости покупали, шастали по деревне. Помнишь, какие небылицы плела эта твоя подружка, как там ее? Клео, что ли…
– Тея.
Получается невнятный шепот. Еще бы мне не помнить!
– Ага, Тея. Представь, навешала мне, будто отец у нее в розыске, и за что? За убийство своей жены, ее матери! А я-то, ворона, поверила!
Очередной приступ смеха сотрясает не только саму Мэри – нет, амплитуда толчков такова, что дрожит и коляска с Фрейей.
– Тогда-то я еще не знала, какие вы лживые сучки.
Лживые сучки. Сказано обыденным тоном, походя. Но с какой враждебностью! Или у меня воображение разыгралось?
– Мне… мне пора, – мямлю я.
Толкаю коляску – не резко, однако достаточно сильно для того, чтобы Мэри выпустила из пальцев край козырька.
– Я пойду, ладно? Малышка вот-вот проснется, есть запросит…
– Иди, иди. И впрямь, что-то я разболталась, – спокойно произносит Мэри.
Склоняю голову – получается, что выражаю покорность и раскаяние. Мэри отступает, и я везу коляску к двери.
Узкий проход среди полок преодолен мною наполовину, когда я соображаю – надо было двигаться задом наперед. Внезапно звонит дверной колокольчик.
Оборачиваюсь. Целое мгновение не могу узнать вошедшего; но вот он узнан, и сердце начинает биться, как птичка в клетке.
Одежда засаленная, мятая, будто он в ней не одни сутки провел; на скуле кровоподтек, костяшки пальцев ободраны. Но шокируют меня не эти детали. Степень изменений, в нем произошедших, – вот что бьет под дых. Ибо изменения слишком существенны – и в то же время ничтожны. Раньше он был высок и долговяз, а теперь заматерел. Плечистая фигура едва помещается в дверном проеме, и веет от нее недюжинной мощью.
И лицо – скуластое, тонкогубое; и – боже милосердный! – глаза…
Потрясенная, едва дыша, каменею. А он меня поначалу и не узнает – кивает Мэри и делает шаг в сторону, чтобы пропустить мамашу с коляской. И лишь при звуке имени, которое я не произношу – выдыхаю, – он вздрагивает, смотрит на меня пристально и меняется в лице.
– Айса?
Ключи из его руки со звоном падают на пол. Голос прежний – низкий, глубокий, и манера говорить прежняя. Он растягивает слова, словно добивая остатки французского акцента, но именно произношение и выдает национальность.
– Айса, ты ли это?
– Да.
Пытаюсь сглотнуть, улыбнуться.
– Я думала, ты… Ты же вроде во Францию уехал?
Он каменеет, золотистые глаза становятся непроницаемыми, голос звучит напряженно, будто за щекой – посторонний предмет.
– Я вернулся.
– Почему же… Не понимаю, зачем Кейт сказала…
– Вот у нее и спроси.
На сей раз холодность мне не мерещится – она определенно имеет место. А я и правда не понимаю. Что произошло? Ощущение, будто я в темной комнате, среди очень ценных и очень хрупких предметов, которые дрожат при каждом моем неверном шаге. Почему Кейт не сказала, что Люк вернулся? И почему он такой… Не могу подобрать название посылу, которым наполнено молчание Люка. Это не удивление, не шок – во всяком случае, не на сто процентов и не на пятой минуте разговора. Нет, эмоция сжалась, как пружина, и Люк удерживает ее из последних сил. А близка она к…
Слово находится, когда Люк загораживает выход.
Ненависть.
Наконец-то удается сглотнуть.
– Люк… ты… у тебя все хорошо?
– Хорошо? – Он готов расхохотаться. – Хорошо? У меня?
– Я просто…
– Как у тебя вообще язык поворачивается?.. – почти кричит Люк.
– Что?
Пячусь от него – но отступать некуда. За моей спиной Мэри Рен. Люк загородил выход, между нами коляска. Если он бросится на меня, пострадает Фрейя. Что, что его так сильно изменило?
– Уймись, Люк, – многозначительно произносит Мэри.
– Кейт знала… – начинает Люк. Голос у него дрожит. – И ты тоже. Вы все знали, куда я по ее милости попаду.
– Нет, Люк! Я не знала. Я не могла…
Мои пальцы впились в ручку коляски и побелели. Хоть бы выбраться с проклятой почты! В висках стучит. Нет, это не в висках. Это жирная мясная муха бьется в оконное стекло, и во всех подробностях передо мною возникает картина: растерзанная овца, мухи над вываленными кишками.
Люк произносит что-то по-французски, и я вижу на его лице отвращение.
– Люк, – уже громче повторяет Мэри, – пропусти ее. И возьми себя в руки, не то я Марка вызову!
Повисает напряженная тишина, нарушаемая только звоном мух. Еще крепче стискиваю ручку коляски. Затем Люк медленно, неохотно делает шаг в сторону и отвешивает издевательски-учтивый поклон.
– Je vous en prie![5]
Торопливо выкатываю коляску. Фрейя просыпается от толчка, заливается плачем, но я не останавливаюсь. Я иду напролом, спасая нас обеих. Дверь захлопывается за нами, и грохот еще долго отдается у меня в ушах. Почти бегу по улице. Скорее, скорее – оторваться от Люка, удалиться от почты на максимальное расстояние. Коттеджи давно остались позади; вокруг раскаленные дюны, слепящее знойное марево. Лишь теперь я решаюсь вынуть из коляски свою дочь.
– Все хорошо, – шепчу я Фрейе на ушко, едва узнавая собственный голос. Прижимаю к плечу. Свободной рукой продолжаю катить коляску. – Все хорошо, маленькая. Злой дядька нас не тронул, нет, не тронул. Как там говорится? Собака лает – моя деточка в колясочке едет. Тише, тише, солнышко. Тише, Фрейя. Не плачь, родная. Пожалуйста, не плачь.
Однако Фрейя безутешна. Ее плач подобен вою сирены – так заходятся все груднички, внезапно и резко пробужденные ото сна. Лишь когда капля падает Фрейе на лобик, до меня доходит: я и сама рыдаю, а почему – непонятно. Какова причина моих, взрослых, слез? Шок? Ярость? Облегчение?
– Тише, тише, успокойся. Успокойся, – бормочу я в такт собственным шагам и едва понимаю, к кому обращаюсь – к Фрейе или к себе самой. – Все будет хорошо. Мамочка обещает. Все будет хорошо. Слушай мамочку.
Впрочем, даже сейчас, когда я утыкаюсь лицом в макушку Фрейи, вдыхаю сладкий запах мокрых от пота завитков, запах здоровенького, ухоженного, обожаемого младенца, в ушах судебным обвинением звенят слова Мэри Рен.
«Лживые сучки».
Правило третье: не попадайся
Лживые сучки.
Два этих слова задают ритм моим шагам – ритм, который ускоряется по мере того, как надрывнее становится плач Фрейи. Я иду – нет, я уже бегу по солтенскому проселку.
Наконец примерно через полмили, я совершенно выдыхаюсь. Спина горит, ноет – Фрейя все-таки тяжелая. А ее всхлипывания, ее взвизгивания вонзаются в мозг, точно гвозди. «Лживые сучки. Лживые сучки».
Останавливаюсь, чуть живая, на обочине, ставлю коляску на тормоз. Почти падаю на бревно. Теперь можно расстегнуть специальный бюстгальтер для кормящих и приложить Фрейю к груди. С каким удовлетворением она кряхтит, как жадно тянет пухлые ручки. Но, прежде чем взять сосок, вдруг взглядывает на меня синими глазищами – и улыбается. Выражение на ее мордашке торжествующее: вот, я знала, что ты в конце концов догадаешься меня покормить! Непроизвольно улыбаюсь в ответ – хотя спину ломит, а горло дерет проглоченная ярость на Люка и страх перед ним.
«Лживые сучки».
Много лет назад эти слова я уже слышала. Закрываю глаза. Фрейя тянет молоко – а я вспоминаю, как все началось.
Был январь, мрачный и холодный. Я возвращалась с рождественских каникул. Прошли они безрадостно: мы с отцом и братом неловко молчали над пережаренной индейкой, а подарки выбирала явно не мама. На упаковках было написано «От мамы» – отцовским почерком.
Так вот, из Лондона мы ехали вместе с Теей. Опоздали на пригородный поезд и, соответственно, на школьный автобус. Я курила в дверях зала ожидания и вжималась в стену, спасаясь от ветра. Тея пошла звонить в школу, спрашивать, как нам быть.
– За нами приедут в половине шестого, – объявила Тея, повесив трубку. Мы уставились на вокзальные часы. – Черт! Еще и четырех нет!
– Может, пешком? – спросила я с сомнением.
Тея поежилась на ветру, внезапным порывом пронзившим пустой перрон.
– С чемоданом? Нет уж.
Пока мы маялись от неопределенности, пришел очередной поезд – местного сообщения, из Гемптон-Ли. В нем обычно ездили ребята, которые учились в Гемптонской гимназии. По привычке я искала глазами Люка, но его не было. Либо Люк остался ради какого-нибудь мероприятия, либо слинял с уроков раньше. И то, и другое было в его духе.
Зато из вагона вышел Марк Рен и побрел, по обыкновению, сутулясь, светя лиловыми прыщами.
– Привет, – обратилась к нему Тея. – Тебя ведь Марком зовут? Слушай, как ты в Солтен будешь добираться? За тобой приедет кто-нибудь?
Марк покачал головой:
– Нет, я на автобусе. Он солтенцев возле паба высаживает, а сам едет в Райдинг.
Мы с Теей переглянулись.
– А перед мостом он останавливается? – спросила Тея.
– Вообще-то, нет. Но вы скажите водителю – может, он вас там и высадит.
Тея вскинула бровь. Я ответила кивком. Отлично. Проедем лишнюю пару миль, а дальше можно и пройтись.
Короче, мы сели в автобус. Я осталась с вещами в хвосте, а Тея скользнула по проходу туда, где устроился Марк. Он сидел, водрузив на колени дорожную сумку, как щит, а кадык у него ходил, как поршень. Тея, помню, еще мне подмигнула, когда шла мимо.
– Ну, идем в следующие выходные к Кейт? – уточнила Тея тем же вечером. Мы были в общей гостиной, Тея собиралась в комнату для занятий.
Я кивнула. Лола Роналдо щелкнула телевизионным пультом, закатила глаза.
– Снова пойдешь к Кейт? Там что, медом намазано? Мы с Джесс Гамильтон едем в Гемптон-Ли, в кино. Ужинать будем во «Фритюрнице». Звали Фатиму – а она говорит: «Не могу, мы будем у Кейт». Слушай, Айса, зачем ты вечно таскаешься в этот Солтен? Там же скукотища смертная. Или ты глаз на кого положила?
Я вспыхнула, подумав о брате Кейт. Вспомнила купание на мельнице. Хотя уже стояла осень, было на удивление тепло. На воде полыхал закат, алые сполохи отражались в окнах мельницы. Скоро стало казаться, что и дом, и двор, и даже реку с заливом объяло пламя. Начиная с полудня, мы зависли на мостках. Нежились, напитывались наперед последним солнечным теплом. Кейт, на спор с Теей, разделась догола и нырнула в Рич. Не знаю, где в это время был Люк, но только он появился, когда Кейт доплыла на середины реки и повернула назад.
– Кейт, ты ничего не забыла?
С этими словами Люк помахал трусишками Кейт и усмехнулся. Кейт взвизгнула так, что вспугнула целую стаю чаек и даже как будто пустила рябь по тихой, огненно-алой воде.
– Ах ты придурок! Отдай! Отдай сейчас же!
Люк только головой качнул. Кейт отчаянно погребла в его сторону, быстро достигла мостков, а Люк принялся швырять в нее водоросли и щепки. Кейт в ответ плескала водой. Наконец она изловчилась, ухватила Люка за лодыжку и стащила в воду. Они сплелись руками и ногами и пошли ко дну, и лишь ряд пузырьков указывал место, где их поглотила пучина.
Вдруг Кейт вынырнула и рванулась к мосткам. Когда же она выбралась из воды, когда начала приплясывать на досках, я увидела: в руке у нее плавки Люка. Сам Люк, захлебываясь смехом и угрожая, барахтался на приличном расстоянии от мостков.
Я честно старалась отвести глаза, читать, прислушиваться к перешептываниям Фатимы с Теей – что угодно, только бы не увидеть обнаженного Люка. Только бы не заметить, не запомнить, как блестит в воде его долговязое тело. Увы. Мой взгляд проследил и скольжение этого тела по волнам, и прыжок на мостки. Облитый осенним светом, смугло-золотой, худощавый, гибкий, Люк в полный рост возник на мостках. Эту же картинку подкинула мне память в ответ на ехидный вопрос Лолы Роналдо, и меня охватило новое чувство – смесь стыда и вожделения.
– Это все ради Теи.
Мои слова прозвучали несвязной скороговоркой. Щеки под взглядом Лолы покраснели. И меня понесло.
– Наша Тея втюрилась. Из-за нее мы и торчим в деревне, болтаемся по улицам – вдруг да встретится ее возлюбленный.
Я лгала. Спасалась посредством лжи – но оговаривала одну из своих. Едва с моего языка слетело «Тея втюрилась», как стало ясно: вот она, граница дозволенного, – и я ее перешла. Впрочем, отступать было поздно. Лола посмотрела вслед Тее и перевела взгляд на меня. По ее лицу нельзя было определить, купилась она или нет. Мы к тому времени заработали репутацию лгуний, любительниц розыгрышей; однако речь шла о Тее. Тея считалась «себе на уме». Попробуй, примени к ней логику!
– Вранье, – заявила наконец Лола. – Не верю тебе.
– А вот и не вранье!
Сообразив, что Лола сбита со следа, я воодушевилась. И, повинуясь какому-то идиотскому порыву, добавила роковую подробность:
– Ты только самой Тее не проболтайся. По секрету говорю, Лола: Тея втрескалась в Марка Рена. Сегодня они в автобусе рядышком сидели.
Я понизила голос, подалась ближе к Лоле:
– Марк ей руку на бедро положил, представляешь?
– Марк Рен? Этот прыщавый, который над почтой живет?
– Любовь зла, – вздохнула я. – Тее, похоже, на внешность вообще наплевать.
Лола фыркнула и ушла.
Я благополучно забыла про этот эпизод, даже не рассказала о нем Кейт, чтобы заработать дополнительные баллы. Вспомнить пришлось скоро – на следующей неделе.
К этому времени наша игра получила новый виток. Мы уже не соревновались – ложь стала самоцелью. Теперь смысл был не в том, чтобы количеством баллов превзойти Фатиму, Тею или Кейт, а в том, чтобы обмануть остальных – «мы» против «них».
Итак, субботний вечер мы провели на мельнице, а в воскресенье днем пошли гулять по деревне. В магазине мы купили сэндвичей и зашли в паб, чтобы выпить горячего шоколада – в «мертвый сезон» паб служил еще и кафешкой, притом приличной – если, конечно, не обращать внимания на сальные шуточки Джерри.
Фатима и Кейт устроились за столиком у окна, мы с Теей подошли к барной стойке. Тея делала заказ, я ждала, чтобы помочь ей нести чашки.
– Четвертая порция должна быть без сливок, – прошипела Тея.
Я подняла взгляд. Бармен ставил на поднос четвертую чашку шоколада, украшенную целой шапкой сбитых сливок.
Он вздохнул и стал снимать топинг ложкой, но Тея заявила:
– Нет уж, сварите-ка мне свежего шоколада.
Никогда не слышала, чтобы Тея говорила таким тоном. Гласные она произносила отрывисто, и фраза в результате прозвучала как приказ.
Бармен пробурчал что-то нецензурное и пошел варить свежий шоколад. Одна женщина в очереди закатила глаза, подалась к подруге и зашептала ей на ухо. Слов не было слышно, зато колючий взгляд позволял понять, что она думает о нас с Теей. Я сложила руки на груди. Вот бы стать маленькой, незаметной! Какая досада, что я сегодня в платье-тунике на пуговицах – верхняя пуговица оторвалась, в слишком глубоком вырезе виднеется бретелька бюстгальтера. Сколько ее ни поправляй – все равно вылезает. Эта бретелька и рваные джинсы Теи, сквозь прорехи которых «светят» алые шелковые трусики! Понятно, почему все женщины в баре презрительно уставились на нас.
Тем временем позади меня возник Джерри с подносом, полным грязных стаканов. Поднос он держал на уровне плеч, лавировал между посетителей и внезапно прижался ширинкой к моим ягодицам. Это длилось одно мгновение. Меня передернуло. Народ в пабе был – но не в таком количестве, которое могло бы оправдать подобный контакт.
– Извини, кисуля, – усмехнулся Джерри.
Я покраснела до корней волос.
– Слушай, Тея, мне в туалет надо. Сама чашки отнесешь? – шепнула я.
– Конечно.
Тея была занята подсчетом сдачи и не смотрела на меня. Задыхаясь от отвращения, я метнулась к туалету.
Лишь выйдя из кабинки и взяв салфетку, чтобы высморкаться, я заметила надпись на перегородке. Написано было карандашом для век.
Марк Рен – грязный извращенец – вот что я прочла.
Обвинение показалось мне верхом нелепости. Марк Рен, этот тихоня – и вдруг извращенец? Тут я разглядела вторую надпись – над умывальником и в другом цвете.
Марк Рен лапает солтенских девчонок
Третья надпись была на внутренней стороне двери, ведущей из туалета в коридор.
Марк Рен – сексуальный маньяк!!!
К столику я вернулась с пылающими щеками.
– Пойдемте скорее отсюда, – сказала я подругам.
Тея вскинула удивленный взгляд.
– В чем дело? Ты к шоколаду даже не притронулась!
– Поговорить надо. Только не здесь.
– Надо так надо, – кивнула Кейт.
Прежде чем мы успели подняться, дверь с грохотом отворилась, и в паб вошла Мэри Рен.
Вошла – и направилась прямо к нам. Этого я никак не ожидала.
Мэри, конечно, знала Кейт и считалась приятельницей Амброуза, но чтобы опуститься до общения с нами – такого за ней не было.
И тем не менее Мэри Рен подошла к нашему столику, уставилась сначала на меня, затем на Тею и, наконец, на Фатиму. Ее широкий рот исказила гримаса.
– Которая из вас Айса Уайлд? – хрипло спросила Мэри.
Я сглотнула и пискнула:
– Я…
– Так-так-так.
Мэри уперла руки в бока и нависла над нами. Гул голосов мигом стих – посетители навострили уши и вытянули шеи, силясь разглядеть, какую сцену закрывает собой мощный торс Мэри Рен.
– Вот что, дорогуша. Не знаю, как принято себя вести в тех краях, откуда ты родом. А вот у нас сплетни не в чести. Еще раз наболтаешь гадостей про моего сына – все кости тебе переломаю, так и запомни. Поняла? Все кости, до единой. То-то хруст будет!
Как рыба, я ловила воздух открытым ртом, но не могла выдавить ни слова. Жгучее чувство стыда поднималось откуда-то снизу, вгоняя в ступор.
Кейт вытаращилась на Мэри, и стало понятно: она не в курсе.
– Послушайте, Мэри… – начала Кейт. – Не говорите так с моей…
– А ты не заступайся! – отрезала Мэри. – У каждой из вас рыльце в пушку. Я-то давно поняла, что вы за птицы.
Она сложила руки на груди и окинула нас взглядом. Я догадалась: Мэри испытывает чувство удовлетворения – извращенное, свойственное садистам.
– Все вы лживые сучки; моя бы воля, я бы вас как следует выпорола.
Кейт чуть не задохнулась. Встала, готовая биться за меня насмерть, но тяжеленная ладонь Мэри легла ей на плечо. Под этим давлением Кейт была вынуждена сесть.
– Сейчас в школах пороть перестали, а зря, – продолжала Мэри. – Твой отец тебя вконец избаловал, все тебе с рук спускает. Но я-то не такая. Еще раз против моего мальчика что-нибудь вытворите, – взгляд пронзительных, темных, как терновник, глаз снова устремился на меня, – пожалеете, что на свет родились!
С этими словами Мэри выпрямилась, развернулась и пошла к выходу.
Дверь за ней захлопнулась, и этот звук выстрелом прокатился в напряженной тишине паба. Секунду спустя кто-то хохотнул, затем помещение наполнили привычные шумы – звон бокалов, гул мужских голосов. А мне казалось – все смотрят на нас, гадают, что имела в виду Мэри. У меня было одно желание: провалиться сквозь дощатый пол.
– Какая муха ее укусила? – воскликнула Кейт, вся белая, с алыми пятнами гнева на скулах. – Вот я папе расскажу! Что она тогда запо…
– Не надо! – Я схватила Кейт за рукав пальто. – Пожалуйста, не надо. Я действительно виновата. Не говори Амброузу.
Мысль, что Амброуз узнает о моей глупой лжи, была невыносима. Ведь пришлось бы все повторить ему в лицо, пришлось бы увидеть на этом лице разочарование.
– Не скажешь, Кейт? – повторила я. Глаза защипало от слез стыда. – Я заслужила отповедь Мэри. Она права.
«Это ошибка! – хотелось крикнуть мне. – Дурацкая ошибка! Простите!» Но меня парализовал гнев Мэри Рен.
Я так и не извинилась. Когда я в следующий раз пришла на почту, Мэри обслужила меня как обычно. Ни слова не сказала. Теперь, семнадцать лет спустя, я кормлю грудью дочь, пытаюсь улыбнуться в ответ на ее беззубую, трогательную улыбку – а сама слышу слова Мэри и понимаю: она права. Обвинение я заслужила. Мы все заслужили.
«Лживые сучки».
Кейт, Тею и Фатиму застаю сидящими за ободранным столом, когда, разгоряченная, потная, со стертыми ступнями и пересохшим горлом, вваливаюсь наконец на мельницу.
Дверь я распахиваю так резко, что она ударяется о наличник и заставляет подпрыгнуть чашки. Картины, висящие на гвоздиках, отзываются упреждающими хлопками о стены. Верный коротко лает.
– Айса!
Фатима вздрагивает над тарелкой.
– Ты что, привидение увидела?
– Именно. Кейт, почему ты нам не сказала? Почему?
Всю дорогу вопрос вертелся у меня в голове. Озвученный, он кажется прямым обвинением.
– Что конкретно я не сказала?
Кейт поднимается, на лице у нее недоумение.
– Айса, ты что, за три часа пешком смоталась в деревню и обратно? Ну ты даешь. У тебя хоть вода была с собой?
– Какая, к черту, вода!
В моем голосе – ярость. Кейт набирает из-под крана воды и осторожно ставит стакан на стол. Приходится сначала сглотнуть – горло саднит, а иначе вода просто не польется в пищевод.
Делаю глоток, потом залпом выпиваю всю воду и падаю на диван.
– Что случилось, Айса?
Фатима, с тарелкой в руках, садится рядом. Она явно встревожена.
– О каком привидении ты говоришь?
– Это привидение… – поверх головы Фатимы смотрю прямо на Кейт, – это привидение зовут Люк Рокфор. Я наткнулась на него в деревне.
Кейт меняется в лице еще прежде, чем я успеваю договорить. Бессильно опускается на край дивана – будто не уверена, что ноги не подведут.
– Черт!
– Люк в деревне? – Фатима переводит глаза с Кейт на меня и обратно. – Я думала, он во Францию уехал, когда…
Кейт как-то неопределенно дергает головой – то ли кивает, то ли, наоборот, отрицает предположение Фатимы. А может, подтверждает обе версии.
– Кейт, почему Люк так изменился?
Прижимаю Фрейю к себе, вижу, словно наяву, искаженное лицо Люка, чувствую ярость, что заполнила тесную почту.
– Он был такой…
– Сердитый, – кивает Кейт. Сама она бледна, но руки не дрожат, когда тянутся к кисету. – Я угадала?
– Ты изрядно смягчила. Так что случилось с Люком?
Кейт принимается сворачивать самокрутку. Движения нарочито медлительные. Еще со школьных времен помню ее манеру тянуть с ответом. Чем труднее вопрос, тем, бывало, дольше выжидает Кейт, прежде чем заговорить.
Тея откладывает вилку, берет бокал с вином и сигареты и тоже подходит к дивану.
– Что же ты молчишь, Кейт? Отвечай.
Тея опускается на пол у наших ног – так, бывало, мы сидели перед камином по вечерам; смотрели за окно и в огонь, курили, смеялись, болтали…
Сейчас нам не до смеха. В тишине шуршит папиросная бумага – Кейт на коленке скатывает косяк, сильно прикусив губу. Наконец самокрутка готова. Кейт проводит языком по краю бумаги и лишь теперь начинает говорить:
– Люк и правда вернулся во Францию… только поневоле.
– В смысле? – перебивает Тея.
Сигаретной пачкой она постукивает по полу, а сама смотрит на Фрейю. Понятно: Тее хочется курить, но мешает присутствие моей дочери.
Кейт вздыхает. Босая, забирается с ногами на диван, устраивается рядом с Фатимой и убирает за ухо прядь волос.
– Не знаю, что вам известно о прошлом Люка. Наверное, вы в курсе, что давным-давно у папы… были отношения с его мамой. Ее звали Мирель. Вместе с Люком она жила здесь, на мельнице.
Да, мы в курсе. Кейт и Люк были тогда совсем маленькими; удивительно, как они вообще что-то помнят о том времени. Кейт, например, врезались в память частые вечеринки на берегу; однажды Люк свалился в воду, а плавать он еще не умел.
– Потом папа с этой Мирель расстался. Она вернулась во Францию, забрала Люка. Несколько лет мы его не видели. И вдруг звонит Мирель, говорит, что не может справиться с Люком, уже и соцслужбы им занялись… Короче, не возьмет ли папа его на каникулы к себе, чтобы она отдохнула? Папа, конечно, согласился – да и не мог не согласиться, вы же помните, какой он был. Ну и вот, Люк приехал – и выяснилось, что Мирель очень о многом умалчивала. Покоя с Люком и впрямь не было, а вот почему – другой вопрос. К тому же Мирель снова сорвалась. В смысле, начала колоться. И вообще, мать из нее была никуда не годная.
– А что отец Люка? – спрашивает Фатима. – Разве он не возражал, что его сын отправится в Англию, к чужим людям?
Кейт пожимает плечами:
– Сомневаюсь, что отец вообще был в природе. По словам Люка, Мирель, когда залетела, кололась и нюхала по-черному – вряд ли она вообще знала, от кого ребенок.
Кейт замолкает, переводит дыхание.
– Короче, Люку было лет тринадцать, когда он у нас поселился. Предполагалось, что только на каникулы; однако он остался на первую школьную четверть, на вторую, на целый год. Еще одни каникулы, новый учебный год – а Люк все у нас. Папа определил его в гимназию в Гемптон-Ли, но не на пансион. И, представьте, Люк стал делать успехи. Думаю, он был доволен.
Это нам тоже известно – но мы не перебиваем Кейт.
– А потом… потом, когда папа… – Кейт сглатывает комок, и мне ясно: сейчас она скажет нечто страшное. – Когда папа… пропал, Люку нельзя было оставаться здесь. Ему исполнилось только пятнадцать. Мне-то уже стукнуло шестнадцать, а Люк меня чуть младше. Вмешались социальные работники, и они…
Кейт снова сглатывает. На ее лицо легли тени – точно солнце над долиной за тучами скрылось.
– В общем, Люка вернули матери, – резко произносит Кейт. – Как он хотел остаться со мной! Но я ничего не могла сделать. – Кейт протягивает руки, будто умоляя о прощении. – Вы-то хоть понимаете? Мне самой только-только шестнадцать исполнилось. Кто бы это, интересно, назначил меня опекуншей мальчишки-француза?
– Кейт! – Фатима обнимает ее, в голосе – материнская нежность. – Перед нами оправдываться не нужно. Мы понимаем, тебе не оставили выбора. Амброуз Люку не отец и вообще не родственник. Что ты могла сделать? Ничего.
– Люка отправили обратно, – повторяет Кейт, словно не слышала Фатиму. – Он все писал мне из Франции, умолял забрать его. Повторял, что папа обещал о нем заботиться. Потом стал обвинять: почему я его предала? – Кейт пытается сморгнуть слезы. Лицо искажено, словно от боли. Верный, почуяв, что хозяйке плохо, и не понимая причин горя, подходит, ложится возле дивана, скулит. Кейт запускает пальцы в пышную белую шерсть. – А несколько лет назад Люк вернулся. Устроился садовником в Солтен-Хаус. Я-то думала, он теперь взрослый, понимает ситуацию. Я сама чудом в сиротский приют не попала, куда мне было за Люка заступаться!.. Понял он, как же! До сих пор меня не простил. Однажды вечером подстерег у реки… Господи! – Кейт закрывает лицо руками. – Фатима, Фатима! Чего только он ни рассказал! Ты вот врач, наверное, наслушалась подобных историй, а я-то была совсем не в курсе. Бедный Люк. Его и били, и насиловали. Он такого натерпелся, такого… – Голос Кейт срывается. – Я даже слушать не могла, а Люк… Люк все рассказывал, рассказывал, словно мстил мне – что́ мамашины сожители с ним вытворяли, когда он был маленьким и когда уже вернулся. Потом его определили в приют, и там один учитель…
Продолжать Кейт не может. Рыдания душат ее, она прячет лицо в ладонях. Фатима и Тея в полном шоке. Нужно что-нибудь сказать, как-то утешить Кейт, а на меня нашел ступор. Вижу Кейт, девчонку, с Люком – смеющихся, бултыхающихся в Риче или сосредоточенно молчащих над настольной игрой. Головы склонены друг к другу, и не надо никаких слов… Они были очень, очень близки – мне, например, такое взаимопонимание с Уиллом и не снилось. И вот что осталось от близости.
Наконец Фатима осторожно отставляет тарелку, встает, обнимает Кейт, покачивается с ней – молча, туда-сюда, туда-сюда.
И что-то шепчет. Слов не слышно, можно лишь прочесть по губам.
– Ты не виновата, – повторяет Фатима. – Ты ни в чем не виновата.
Я могла бы и сама догадаться. Вот о чем я думаю, сидя у кроватки и пытаясь убаюкать Фрейю. Петь колыбельную я не в состоянии – меня душат слезы.
Я могла бы и догадаться.
Ведь все разворачивалось у меня на глазах! Я не раз видела покрытую шрамами спину Люка, когда он нырял в Рич. И швы у него на плечах, и круглые отметины – я думала, они от прививок. Как-то спросила о них, а Люк изменился в лице и промолчал.
Сейчас я – взрослая, чего не навидалась, того начиталась. Я отлично понимаю: круглые отметины – это ожоги. От сигаретных бычков. Моя наивность буквально вызывает тошноту.
Теперь получили объяснение многие странности в поведении Люка – его молчаливость, например, и его собачья привязанность к Амброузу. Помню, мы пристали: расскажи да расскажи о Франции. Люк весь сжался, а Кейт стиснула ему ладонь и быстренько перевела разговор.
Понятен и еще один эпизод – в свое время я немало поломала над ним голову. Люк спускал деревенским мальчишками и насмешки, и издевки – до поры до времени. А однажды сорвался. В тот вечер, в пабе, ребята беззлобно, зато упорно доставали Люка: зачем он водится с «компашкой солтенских соплячек»? С положением Люка в обществе были сложности. Если Кейт деревенские поголовно считали «солтенской штучкой», а Амброуз умудрялся угодить «и нашим, и вашим», то Люку пришлось балансировать на границе двух миров: между государственной школой, в которой он учился с большинством деревенских детей, и семьей, обитающей на мельнице и связанной с Солтен-Хаусом.
Надо сказать, он неплохо справлялся. Не реагировал на провокации вроде «Что, наши, деревенские, для тебя рожей не вышли?»; пропускал мимо ушей комментарии насчет «пижонок», которые «на экзотику падки». Так вот, в тот вечер Люк лишь улыбался зубоскалам да качал головой. Но ближе к закрытию паба, когда заказы больше не принимались, один из парней, проходя мимо Люка, что-то шепнул ему.
Не знаю, что именно. Видела только, как вытянулось лицо Кейт. Люк поднялся так резко, что стул рухнул, и нанес мощный удар остряку между глаз. В Люке словно пружина лопнула. Парень упал, из носа хлынула кровь. Люк навис над ним и с невозмутимым видом стал наблюдать, как страдает его обидчик – словно это и не он свалил парня.
Кто-то подсуетился – позвонил Амброузу. Он ждал нас из паба, раскачиваясь в кресле-качалке; добродушное лицо застыло. Когда мы вошли, Амброуз встал.
– Папа… – начала Кейт, не дав Люку заговорить первым, – Люк не виноват. Он только…
Резким движением головы Амброуз прервал ее объяснения.
– Кейт, с Люком я сам поговорю. Один на один. Люк, идем в комнату.
Дверь спальни Люка закрылась. Как ни старались, мы не могли разобрать слов – слышали только, что разговор идет на повышенных тонах. Амброуз явно упрекал, Люк – умолял. Вскоре в его голосе стали проскальзывать угрожающие ноты. Мы сидели в гостиной, у огня, тесно прижавшись друг к другу, хотя вечер выдался теплый, и ни в объятиях, ни в огне необходимости не было. Когда голоса стали громче, Кейт забила крупная дрожь.
– Вы не понимаете! – донеслось со второго этажа.
Голос принадлежал Люку. Что меня потрясло – так это недоверие, смешанное с яростью. Ответных слов Амброуза я не разобрала, но по тону было понятно: Амброуз терпеливо успокаивал Люка. А потом раздался грохот – Люк швырнул в стену что-то тяжелое.
Наконец Амброуз спустился в гостиную. Один. Весь всклокоченный, словно неоднократно запускал пальцы в свои жесткие, как проволока, волосы. Лицо у него было изможденное. Он сразу потянулся к бутылке без ярлыка, хранившейся под раковиной, налил и залпом осушил полный стакан, после чего почти повалился в кресло.
Кейт встала, но Амброуз лишь качнул головой, угадав, о чем она сейчас попросит.
– Лучше не надо. Он не в себе.
– А я все-таки поднимусь, – упрямо сказала Кейт.
Когда она проходила мимо, Амброуз свободной рукой поймал ее за запястье. Кейт остановилась, посмотрела на отца сверху вниз.
– Что? Что такое?
Я замерла, с ужасом ожидая, что сейчас Амброуз взорвется, закричит на Кейт, как мой отец, бывало, кричал на Уилла, сочтя, что тот дерзит: «Ах ты негодяй! Да твой дед меня палкой поколотил бы за такое поведение! Я говорю: слушайся – значит, ты должен слушаться!»
Амброуз не сорвался. Не накричал на Кейт. Вообще ни слова не проронил. Да, он сжимал ее запястье – но так нежно, так бережно, что я поняла: вовсе не этот жест удерживает Кейт от того, чтобы исполнить задуманное.
Кейт вгляделась в отцовское лицо. Ни она, ни Амброуз не шевелились, однако Кейт словно что-то прочла в его глазах – что-то нам недоступное – и вздохнула, освободив руку.
– Ладно.
Было ясно: все, что Амброуз пытался донести до дочери, она поняла без слов. Наверху Люк опять бросил в стену что-то тяжелое. От грохота мы подскочили.
– Мебель крушит… – выдохнула Кейт, сев на диван. – Папа, это невыносимо!
– Разве вы не можете остановить его? – пропищала Фатима, глядя на Амброуза огромными глазами, изумляясь: как это – Амброуз, и вдруг не может?
Амброуз покачал головой:
– В таких случаях лучше не вмешиваться. Впрочем, я бы все равно не сумел утихомирить Люка. Бывает, девочки, такая боль, которую не уймешь. Ее только выплеснуть можно. Вот пускай Люк и выплеснет. Хотя зря он…
Амброуз принялся тереть лоб, а когда отнял руку, ему легко можно было дать все его сорок пять, и ни днем меньше.
– Зря он свои вещи ломает. У него и так добра негусто. Хочет мне боль причинить – а мучает себя. Что в пабе случилось, а, девочки?
– Люк долго терпел, – заговорила Кейт, бледная, как полотно. – Очень долго. А деревенских ты сам знаешь как облупленных. Ну и вот, этот верзила, ну, черный такой, не то Райан, не то Роланд – он над Люком издевался. Люк держался, держался. Сколько мог – в шутку все обращал. Но сегодня этот Райан сказал что-то… новое. И Люк… в общем, его прорвало.
– Что именно он сказал? – уточнил Амброуз и весь напрягся, выпрямившись в кресле.
Тогда-то я впервые увидела, как Кейт умеет закрываться ото всех, каменеть. Она словно маску надела и ответила ровным, бесцветным, чужим голосом:
– Не знаю. Не разобрала.
Амброуз не стал наказывать Люка. Всю дорогу до Солтен-Хауса Фатима недоумевала по этому поводу; мы молчали, хотя вопрос «Как же так?» терзал каждую из нас. Кейт подобное с рук бы не сошло; Амброуз, хоть и демонстрировал спокойствие, уж конечно, прочел бы дочке нотацию и лишил бы ее карманных денег в счет возмещения ущерба. С Люком, напротив, Амброуз проявил терпение. И теперь мне ясна причина.
Фрейя спит, дышит легко-легко – кажется, и перышко от ее дыхания не затрепещет. Поднимаюсь, потягиваюсь. Смотрю на реку и дальше, на Солтен. Вспоминаю юного Люка и пытаюсь понять, почему была так шокирована его вспышкой ярости на почте.
В конце концов, о склонности к таким вспышкам мне давно известно. Порой Люк направлял свою ярость на окружающих, а порой – и на себя самого. И вдруг до меня доходит. Мой шок – не от ярости Люка как таковой. Мой шок – оттого, что Люк злился на нас.
Никогда раньше такого за ним не наблюдалось. Люк мог рвать и метать – но с нами, со всеми четырьмя, обращался, будто с драгоценным костяным фарфором, к которому и прикасаться-то рискованно. А уж как я этого хотела – прикосновения, в смысле, как жаждала! Помню, мы с Люком загорали на мостках. Солнце жарило наши спины. Я повернулась к Люку, смотрела на его закрытые веки и мысленно заклинала: «Открой глаза, открой! Посмотри на меня! Прикоснись ко мне!» Я тогда почти растворилась в тоске по его взгляду, по его прикосновению.
Но Люк так и лежал, не открывая глаз. Не в силах больше терпеть свою жажду, уверенная, что Люк не может не слышать грохота, с каким мое сердце колотится о ребра, я приблизилась к нему и прижалась губами к его губам.
Люк отреагировал совершенно неожиданно; впрочем, я и сама не знала, на что надеялась.
Его глаза мгновенно открылись. Он оттолкнул меня, выкрикнув по-французски: «Не прикасайся ко мне!», вскочил на ноги и стал пятиться к краю мостков, рискуя свалиться в воду. Грудная клетка ходила ходуном, взгляд был полубезумный – словно я разбудила его резким ударом.
Мое лицо вспыхнуло. Я тоже поднялась и попятилась.
– Прости, Люк. Люк…
Он ничего не ответил, лишь стал озираться, будто не соображая, ни где находится, ни что произошло. И я почти не сомневалась: Люк меня едва узнает, смотрит, как на чужую. Через несколько минут он опомнился – я это заметила по его глазам, – и ему стало стыдно. Люк бросился бежать, игнорируя мои крики: «Люк! Люк, прости, пожалуйста!»
Я осталась в полном недоумении. Что я такого сделала? Зачем так бурно реагировать? В конце концов, я сотни раз целовала Люка по-сестрински; этот поцелуй был почти столь же невинен – откуда такая вспышка бешенства?
Зато теперь… теперь я догадываюсь, что за эпизоды из прошлого вызвали столь яростную реакцию, – и сочувствие к Люку причинило мне физическую боль. Впрочем, сочувствие смешано с настороженностью – слишком много общего между тем, давним, случаем и сегодняшней сценой на почте.
Теперь я знаю, что значит быть врагом Люка Рокфора. Я видела, как легко он впадает в ярость.
Из головы не идет мертвая овца. С каким остервенением терзали бедное животное! Овечьи кишки словно выплескиваются в Рич, навсегда пачкая синюю воду.
И мне очень, очень страшно.
– Чем займешься?
Фатима передает мне треснутую чашку. Ланч окончен. Мы с Фатимой моем посуду, то есть она моет, а я вытираю. Фрейя копошится на прикаминном коврике.
Кейт и Тея вышли покурить, а заодно выгулять Верного. Я вижу их через окно. Они возвращаются берегом Рича. Головы склонены друг к другу, сигаретный дымок завис в солнечном луче. Странно, что Кейт с Теей выбрали это направление – к северу, к шоссе на Солтен. Я бы на их месте пошла на юг, по морскому берегу. И дорога лучше, и пейзаж приятнее.
– Пока не решила, – отвечаю Фатиме, ставя сухую чашку на стол. – А ты?
– Вообще-то, я тоже не представляю, как быть. Чутье говорит: сваливай домой, все равно твое присутствие ничего не изменит. В Лондоне, по крайней мере, не так высока вероятность, что за мной придут из полиции.
От ее слов пробирает дрожь. Невольно кошусь на дверь, представляю, как Марк Рен топает форменными ботинками по узким, полугнилым мосткам… Вот что бы я ему ответила, а? Вспоминается предупреждение Кейт, почти приказ: «Мы ничего не видели, ничего не знаем». Так Кейт наставляла нас в ту ночь. Ее наставлениям мы следовали семнадцать лет. Если мы, все вчетвером, будем стоять на своем, никто ничего не докажет, верно?
– Не пойми меня неправильно, – продолжает Фатима, откладывает мыльную губку и откидывает на плечи хиджаб, не замечая, что мазнула по щеке белой пеной. – В смысле, я хочу поддержать Кейт. Но подумай сама: мы ни на одном вечере встречи не были – и вдруг заявимся. Не вызовет ли это подозрений?
– По-моему, вызовет. – Я ставлю на стол очередную чашку. – Мне и самой идти не хочется. Но куда теперь денешься. Куда больше вопросов будет, если мы, согласившись, вдруг откажемся и не пойдем.
– Все так, Айса. Правило второе – стой на своем. Придется идти на чертов вечер встречи. Кейт купила билеты, разболтала по всей округе, что мы приедем. Чем все обернется – неизвестно. Но как вспомню про овцу…
Фатима качает головой и продолжает мытье посуды. Украдкой смотрю на ее профиль.
– Слушай, Фати, ты овцу лучше рассмотрела. Это и правда Верный ее загрыз?
– Не знаю. В моей практике было всего двое покусанных собаками. Покусанных, а не загрызенных насмерть. И все равно, даже такой скромный опыт подсказывает, что…
Подкатывает тошнота. Не знаю, ох, не знаю, удастся ли, в случае чего, выкрутиться. Если вмешается полиция, тогда лучше, чтобы Фатима была совсем не в курсе. Ей бы не пришлось ничего скрывать. Но мы когда-то поклялись не лгать друг другу – так не нарушаю ли я клятву, пусть и косвенно – посредством замалчивания?
– Там записка была, – решаюсь я. – Кейт ее прочитала и сразу сунула в карман. А я нашла, когда стала стирать ее жакет.
– Записка? – Глаза у Фатимы округлились, лицо перекосилось. Посудное полотенце падает из мокрых рук. – И ты до сих пор молчала?
– Не хотела вас пугать. Не хотела…
– Что было в записке, Айса?
Сглатываю. Язык не поворачивается произнести это вслух – но я все-таки произношу, и чудовищные слова обретают плоть.
– Там было написано: «Может, и ее в Рич кинешь, а?»
Раздается звон – это Фатима уронила чашку. Лицо у нее совершенно белое, застывшее, с него только маску ужаса для японского театра Но лепить. Белизну оттеняет темный хиджаб.
– Что-что?
Фатима еле шепчет. Но повторить я не в силах, да и Фатима, разумеется, отлично меня расслышала. Просто она слишком перепугана, чтобы признать очевидное: кто-то знает, кто-то твердо решил нас покарать.
Кладу на стол посудное полотенце, иду к Фрейе, сажусь с ней рядом и закрываю лицо ладонями.
– Это в корне меняет дело, – решительно говорит Фатима. – Айса, нам надо уезжать. Сейчас же. Немедленно.
Снаружи слышны шаги, клацанье собачьих когтей по деревянным мосткам. Оборачиваюсь к двери – той, что выходит на берег. В проеме Кейт с Теей – отряхивают сандалии от влажного песка. Кейт смеется. Напряжение, не отпускавшее ее последние сутки, наконец-то ослабило хватку. Впрочем, сто́ит Кейт взглянуть на нас с Фатимой, как ее лицо снова каменеет от тревоги.
– Девочки, вы чего? Что-нибудь случилось?
– Я уезжаю.
Фатима начинает собирать осколки. Зачем-то кладет их на сушилку для посуды, вытирает руки и делает шаг ко мне.
– Я еду в Лондон. Срочно. Вместе с Айсой.
– Никуда вы не едете.
Тон Кейт не допускает пререканий.
– Айса, что ты молчишь? – выкрикивает Фатима. – Тебе нельзя здесь оставаться! – Жестом она обводит гостиную. – Ты в опасности, сама знаешь! Скажи им! Скажи про записку!
– Про какую еще записку? – Лицо у Теи вытягивается. – Да что происходит, черт возьми?
– Кейт получила записку, – выдает Фатима. – Там сказано: «Может, и ее в Рич кинешь, а?». Кейт, кто-то все знает! Это Люк, да? Ты ему говорила? Поэтому он овцу убил?
Кейт молчит, только удрученно качает головой. Наверное, отрицает – но что именно? Тот факт, что открылась Люку? Предположение, что это Люк убил и подбросил овцу? Или ее движения – вообще не ответ?
– Кому-то все известно! – вновь повторяет Фатима, едва не переходя на визг. – Тебе надо уезжать отсюда!
Кейт закрывает глаза и придавливает веки пальцами. От очередного крика Фатимы «Ты меня слышишь вообще?» вздрагивает.
– Фати, я никуда не поеду. Сама знаешь почему.
– Ну и почему? Чего проще – упаковала чемодан и уехала!
– Сама подумай: ничего ведь не изменилось. Тот, кто написал записку, в полицию не обращался. Выходит, либо это провокация, пустые домыслы, либо шантажисту есть что терять. Мы по-прежнему в безопасности. А вот если я вдруг сорвусь, уеду – тогда всем станет ясно, что я что-то скрываю.
– Оставайся, если так, – упрямится Фатима. Она уже схватила свою сумку и тянется за солнцезащитными очками. – А я уеду. У меня нет причин здесь торчать.
– Есть у тебя причины, Фати.
В голосе Кейт слышится металл.
– Ты должна остаться, по крайней мере, до завтра. Должна пойти на вечер встречи. Неужели не понимаешь – если не пойдешь, вся наша версия превратится в пыль. Зачем в таком случае мы вообще собрались через целых семнадцать лет?
Кейт не озвучивает истинную причину. В этом нет нужды. У каждой из нас перед глазами – броский газетный заголовок.
– Твою мать! – выкрикивает Фатима. Швыряет сумку на пол, бежит к окну, приникает лбом к стеклу, которое держится в раме буквально на честном слове, и повторяет: – Твою мать!
Наконец с видом прокурора оборачивается.
– Скажи, Кейт, какого черта ты нас вообще собрала? Удостовериться, что мы тоже день и ночь трясемся?
– Что? – У Кейт такое выражение лица, будто Фатима отвесила ей пощечину. – Нет! Господи, конечно, не для этого! Как ты могла подумать?..
– Ну а для чего тогда? Для чего? – напирает Фатима.
– А как бы иначе я вам сообщила? – криком отвечает Кейт.
Смугло-оливковые щеки пошли красными пятнами – то ли от стыда, то ли от гнева. Чуть совладав с собой, Кейт продолжает, обращаясь к Верному – словно не в силах смотреть на нас троих.
– Как бы я иначе сообщила? По электронке? Ни вам, ни мне такая улика не нужна. По телефону звонить, выкладывать все? А вдруг ваши мужья подслушали бы, даже и случайно? Я позвала вас, потому что считаю: вы имеете право узнать об этом от меня, глядя мне в глаза. Потому, что это самый безопасный способ. И да, потому что я – эгоистичная сучка, и мне одной такое бремя не по плечу.
Кейт тяжело, очень тяжело дышит; с минуту мне кажется, что она готова разрыдаться. Зато Фатима несмело подходит к Кейт и заключает ее в объятия.
– Прости, – лепечет она. – Мне очень стыдно. Правда. Прости.
– И ты меня прости, – отвечает Кейт. Голос приглушен хиджабом Фатимы. – Я одна во всем виновата.
– Вот уж нет, – вмешивается Тея. Идет к ним и обнимает обеих. – Кейт, мы все повязаны. Если бы мы тогда не…
Тея не договаривает – да и зачем? Мы и сами знаем, что натворили; отлично помним, как ускользнуло сквозь пальцы солнечное лето, забрав с собой Амброуза.
– Я остаюсь. До завтра, – наконец объявляет Фатима. – Пусть мне и не хочется идти на вечер встречи. Вот как, как мы там появимся – после всего, что случилось? После того, что с нами сделали? О чем ты только думала, Кейт?
– У нас есть приглашения, – медленно произносит Тея. – По-моему, этого достаточно. Может, скажем, что в последнюю минуту решили не ходить? Что у Фатимы машина забарахлила? Да мало ли… Айса, твое мнение?
Ко мне обращены три дорогих лица, столь несхожие по типажу, но с одним и тем же выражением тревоги, страха, надежды.
– Я считаю, идти надо, – говорю я после долгих размышлений.
Мне и самой это претит, я бы лучше осталась на мельнице, в тепле и уюте. Да куда угодно отправилась бы – только не в Солтен-Хаус. Однако Кейт уже купила билеты, причем именные. Если мы не появимся, за столом наши четыре стула будут зиять пустотой, четыре бейджика останутся невостребованными на входе. Слишком многие ждут нашего появления – в населенных пунктах вроде Солтена сложно остаться незамеченным. Если мы не придем, неминуемо возникнут вопросы. Почему передумали? А главное – почему приехали к Кейт, если не собирались на вечер встречи? Мы таких вопросов допустить не можем.
– А как же быть с Фрейей? – вдруг спрашивает Фатима.
И правда – как? Я об этом не подумала. Наши взгляды устремляются к Фрейе, которая, очень довольная, чешет десны о кусок яркого пластика. Чувствуя, что все смотрят на нее, она поднимает глаза и смеется так звонко, что я бросаюсь к ней, хватаю на руки, прижимаю к сердцу и с сомнением спрашиваю:
– Разве нельзя взять Фрейю с собой?
Кейт в замешательстве.
– Черт, я совсем забыла о ней. Погодите, сейчас выясню.
Кейт находит школьный сайт, выбирает «Вечер встречи».
– Так, так. Ага, вот оно. Часто задаваемые вопросы. Билеты… Черт!
Заглядываю ей через плечо, читаю с экрана вслух:
– «Супруги и дети старшего возраста приветствуются, но, к сожалению, на наше официальное мероприятие запрещено приходить с младенцами и детьми младше десяти лет. По запросу школа предоставляет контакты нянь из местных жителей либо отелей типа «Кровать и завтрак»[6], где доступны услуги няни».
– Прекрасно!
– Извини, Айса. Главное, без паники: в деревне найдется с полдюжины девушек, которые не просто придут – прибегут посидеть с Фрейей.
Хочу возразить: не все так просто. Прикусываю язык. Фрейя до сих пор отказывается есть из бутылочки; а если бы даже не отказывалась, все равно у меня нет с собой ни детской посуды, ни молочной смеси. Да и не в них дело. Незачем лгать, упирая на отсутствие детских вещей. Не хочу я доверять Фрейю чужим, и все.
– Попытаюсь уложить ее до прихода няни, – сдаюсь я. – Потому что при няне Фрейя точно не уснет. Ее и Оуэн-то, отец, убаюкать не может. Во сколько начало, Кейт?
– В восемь.
Черт. Никаких гарантий, что Фрейя уснет к восьми. Порой она уже в семь дремлет, а иной раз и в девять ее не угомонишь. Однако делать нечего.
– Кейт, дай телефоны этих нянек. Буду звонить – а куда деваться? Сама с ними поговорю. Узнаю, насколько они адекватные.
Кейт кивает.
– Мне так неловко, Айса…
– Все будет в порядке, – утешает Фатима, нежно сжимая мое плечо. – В первый раз всегда очень трудно доверить малыша чужим. Но начинать когда-нибудь нужно.
Меня берет досада. Определенно, Фатима не собиралась хвастаться своим материнским опытом, а вышло наставительно до отвращения. Самое скверное, что у Фатимы чувство превосходства в крови. Она права, я понимаю; у нее двое подросших детей, она прошла с ними то, что мне еще только предстоит пройти с Фрейей. Но Фрейю-то она знает лишь вторые сутки! Фатиме только кажется, что воспоминания о первом расставании с ребенком у нее свежи. На самом деле острота тех ощущений давно сгладилась. А у меня, помимо волнения, еще и скверное предчувствие, от которого никак не избавишься. Потому что я несколько раз оставляла Фрейю с Оуэном – но никогда не отдавала ее в чужие руки. А если что-нибудь случится?
– Дай телефоны, Кейт, – повторяю я Кейт, стряхиваю с плеча ладонь Фатимы, подхватываю Фрейю и несу наверх. В моих пальцах зажат список местных нянь, и я стараюсь не дать воли слезам.
Уже поздно. Солнце садится, тени над Ричем удлиняются. Фрейя клюет носом у моей груди, но не разжимает пальчиков, вцепившихся в тонюсенькую витую серебряную цепочку (я редко ее ношу именно из опасения, что она порвется от хватки малышки).
Кейт, Фатима и Тея переговариваются внизу. Они давно готовы. Только я все никак не уложу Фрейю – моя нервозность передалась и ей. Фрейя морщится. Ее раздражают мои духи, хотя я ограничилась несколькими каплями за ушами. Ручонки сердито колотят по скользкой ткани одолженного у Кейт, слишком тесного платья-футляра. Все Фрейе не по нраву – и комната чужая, и колыбель, и свет сквозь прозрачные занавески падает не так, как дома.
Всякий раз, когда я пытаюсь положить дочку в колыбель, она вздрагивает, стряхивает полудрему и вцепляется в меня, заливаясь сердитым плачем, который, словно сирена, перекрывает шум прибоя вместе с голосами моих подруг.
Слава богу, наконец-то заснула. Ротик приоткрылся, молочная струйка тянется по подбородочку.
Подхватываю эту струйку салфеткой, пока она не заляпала чужое платье. Со всеми предосторожностями встаю, крадусь к колыбели, стоящей в углу.
Тише… тише… никаких резких движений… Я нависла над колыбелью, застыла. Спине больно. Опускаю Фрейю на матрасик, держу ладонь у нее на животике. Пусть этот миг – когда я еще рядом – плавно перетечет в тот миг, когда я покину Фрейю; пусть она ничего не заметит.
Разгибаюсь, не смея даже выдохнуть.
– Айса! – шепотом зовут меня снизу.
Стискиваю зубы, мысленно рычу: «Да тихо вы!» Не рискую сказать это вслух.
Фрейя, впрочем, не проснулась. На цыпочках выбираюсь в коридор, иду по скрипучей лестнице, прижимая палец к губам. Кейт, Фатима и Тея, готовые встретить меня приглушенными возгласами «Наконец-то!», замирают, увидев мое лицо.
Вот они, стоят в обнимку возле лестницы, смотрят вверх, на меня. Фатима в великолепных восточных шальварах из густо-красного шелка – каким-то чудом они попались ей сегодня в Гемптон-Ли, в магазине одежды для особых случаев. Тея игнорирует правила официальных приемов – на ней джинсы в облипку и топ на бретелях, золотистый внизу и иссиня-черный у выреза. В школе у Теи волосы были выкрашены так же – кончики обесцвеченные, корни черные. От схожести перехватывает дыхание. Кейт выбрала платье в нежных розах и с фантазийным подолом. Не поймешь, в секонд-хенде за гроши куплено или в бутике за несколько сотен фунтов. Недосушенные после мытья волосы распущены по плечам.
Почему-то хочется разрыдаться. Быть может, виной – внезапное осознание, до чего я люблю их, всех трех. Быть может, я лишь теперь заметила, насколько быстро они повзрослели. Или вечерний свет так играет на лицах, подчеркивая удивительное сходство этих женщин с прежними девчонками-школьницами, – они утонченные, настороженные, и глаза у них немного усталые, однако прекраснее они никогда не были, по крайней мере, я не видела. С нежной кожей, исполненные надежд, они, словно птицы, готовы отправиться в полет к неизвестному будущему.
И тут же я вспоминаю о Люке, о сцене, устроенной им на почте, о завуалированной угрозе – и страх сдавливает сердце. Не вынесу, если Люк обидит Кейт, Фатиму или Тею.
– Готова? – с улыбкой спрашивает Кейт.
Не успеваю ответить – из угла слышно покашливание. Это Лиз, солтенская няня, жмется возле комода.
Юность Лиз не внушает доверия. Открыв дверь на ее стук, я сразу испугалась: какая юная! По телефону Лиз сказала, что ей шестнадцать, а на вид и того не дашь. Волосы у нее тускло-русые, лицо широкое, невыразительное. Застывшее какое-то – и при этом взволнованное.
Тея смотрит на экран телефона.
– Нам пора, девочки.
– Погодите.
В третий раз за день завожу пластинку:
– Молока я в чашку нацедила, чашка – в холодильнике. Одеяльце – Фрейя его не любит, но, я надеюсь, постепенно привыкнет – на комоде, подгузники – в шкафу.
Перечисляю способы успокоить Фрейю. Рефреном звучит: «Мой телефон у тебя есть».
Фатима переминается с ноги на ногу, Тея вздыхает.
– Ты номер мой не потеряла, Лиз?
– Не. Вот он. – Лиз хлопает ладошкой по комоду. Там же лежит стопка десятифунтовых купюр – ее заработок.
– Молоко в холодильнике, – повторяю я. – Может, Фрейя и не станет пить – она к бутылочке не привыкла. Но, если проснется, все-таки попробуй дать ей бутылочку.
– Не волнуйтесь, мисс.
Голубенькие глазки излучают простодушие.
– Мама говорит, никто лучше меня с братишкой не управляется. Братишку, мисс, всегда на меня оставляют – и всегда все хорошо.
Звучит не слишком убедительно, однако я киваю.
– Пойдем уже, Айса, – не выдерживает Тея.
Ее ладонь – на дверной задвижке.
– Правда, надо идти. Опоздаем.
– Да-да, сейчас.
Господи, что я делаю? Чутье не просто подсказывает – оно вопиет о том, насколько неправильно мое решение. Но выбора нет. Между мной и Фрейей словно натянут резиновый жгут, который душит меня по мере того, как я удаляюсь от моей девочки.
– Попробую слинять оттуда пораньше, Лиз. Но ты мне звони, слышишь? Если что-нибудь произойдет – любая мелочь, – звони!
Лиз кивает. Отлипаю от нее, ухожу от Фрейи, и каждый шаг отдается в груди гулкой, болезненной пустотой.
Впрочем, стоит пройти по шатким мосткам и ощутить на лопатках тепло предзакатного солнца, как противная пустота чуть отпускает.
– На моей машине поедем? – уточняет Фатима, достав ключи из сумочки.
Кейт косится на часы.
– Не знаю. По дороге будет десять миль, но не в этом дело. Сейчас как раз тракторы с полей возвращаются – они дотемна работают. Если какой-нибудь трактор выедет с поля прямо перед нами, нам его не объехать. Придется тащиться за ним, а тракторы не быстрые. Опоздаем.
– Что делать? – Вид у Фатимы настолько перепуганный, что становится смешно. – Пешком надо идти?
– Пешком определенно получится быстрее. Через марш всего-то пара миль.
– Я же на каблуках!
– Ну так возьми сандалии!
Кейт указывает на пару крохотных сандалий марки «Биркеншторк», которые Фатима оставила на крыльце.
– Спокойно пройдем по маршу, – продолжает Кейт. – Не увязнем – дождей давно не было.
– Решайтесь, девчонки! – Тея прямо загорелась этой идеей. – Прогуляемся, как в старые добрые времена. Вдобавок, Фати, сама прикинь, что будет твориться на школьной парковке. Фиг найдешь место, а потом фиг выберешься, пока остальные не разъедутся.
Этот довод – решающий. По глазам Фатимы ясно: ей, как и нам всем, вовсе не хочется застрять в Солтен-Хаусе. Скроив для порядка не слишком довольную мину, Фатима переобувается. Следую ее примеру. Правда, сандалии у меня те же, в которых я днем ходила в деревню; морщусь от прикосновения ремешков к свежим мозолям. Кейт с самого начала надела босоножки на плоской подошве. Тея тоже; кому-кому, а ей лишние дюймы роста без надобности.
Бросаю последний взгляд на окно спальни, где оставила Фрейю. В груди снова щемит. Отворачиваюсь. Передо мной – дорога на юг, к морскому побережью. Глубоко вдыхаю.
И мы уходим.
Точно – как в старые добрые времена; эта мысль мне приходит, едва мы ступаем на тропу, по которой когда-то возвращались в Солтен-Хаус. Вечер дивный, воздух прозрачный и искрит, небо располосовали подсвеченные закатом облачка, песок под ногами еще не остыл.
Мы не проходим и мили по берегу, когда Кейт внезапно останавливается.
– Предлагаю срезать путь. Здесь.
С минуту не могу понять, какое «здесь» она имеет в виду. Потом соображаю: Кейт указывала на сломанную лесенку возле изгороди, едва видную сквозь крапиву и ежевичник.
– Ну и шуточки у тебя, – прыскает Тея.
– Я просто… я подумала… так короче… – мнется Кейт.
– Ничего не короче!
Фатима обескуражена. Слишком густо наложенные тени и темная подводка делают ее глаза еще более удивленными.
– Ты сама знаешь, что не короче. Наоборот, получится крюк. И вообще, я в эти дебри ни ногой. Не хочу одежду порвать. Вон там, дальше, есть нормальная лестница. Мы же по ней перелезали изгородь, когда в школу возвращались – разве нет?
Кейт делает глубокий вдох, будто собралась возражать, а потом послушно идет дальше по тропе, бросив:
– Как хотите.
Сказано еле слышно, может, мне вообще показалось.
– Что это с ней? – шепчу Фатиме.
– Странное поведение. Но, Айса, я ведь ничего особенного не потребовала, правда? В смысле – сама посмотри! – Фатима кивает на свой колоритный наряд – летящие шелка, длинное драгоценное ожерелье. – Как мне в этом лезть в кусты?
– Разумеется, – говорю я. Ускоряем шаг – мы уже отстали. – О чем только Кейт думала?
Я понимаю, о чем думала Кейт, едва мы достигаем привычной развилки. Как я могла забыть? Ясно теперь и другое: почему днем Кейт повела Тею вверх по течению Рича, на север – а не к югу, на морское побережье.
Мы-то сворачиваем вправо и перебираемся через изгородь, чтобы оказаться на марше – а тропа ведет к морю, и там, на берегу, еле видное за дюной, что-то маячит; там ветер полощет оградительную ленту, натянутую полицейскими.
Это – тент. Из тех, что раскидывают над местом преступления: здесь ведется идентификация останков.
Сердце екает, подступает тошнота. Как мы сразу об этом не подумали?
Тея и Фатима тоже все поняли. Их лица одновременно вытягиваются. Мы переглядываемся за спиной Кейт, которая шагает прямиком к лесенке, стараясь не смотреть на дивный морской пейзаж, на море – мерцающее под вечерними небесами, простертое до самого горизонта. Потому что гармония теперь нарушена, потому что в дюнах раскинут лагерь криминалистов.
– Прости, Кейт, – лепечу я.
Кейт уже ставит ногу на первую ступеньку, подол ее платья с принтом из розовых роз полощется на ветру.
– Кейт, мы не подумали…
– Ладно. Все нормально, – бросает Кейт чужим голосом.
Конечно, ничего не ладно и не нормально. Как мы посмели забыть? Мы же знали! Мы из-за этого и приехали!
– Кейт…
Фатима умоляет, но Кейт уже перебралась через изгородь и идет вперед, строго вперед. Ее лица не видно – нам остается только виновато переглядываться, а затем почти бегом догонять Кейт.
– Извини, пожалуйста, – снова говорю я.
– Забудь, – произносит Кейт.
Слово – как удар под дых. Кейт меня обвиняет, а мне и крыть нечем. Потому что я уже забыла.
– Хватит! – внезапно бросает Тея.
В голосе – командные нотки; давно я их не слышала. Раньше Тея любила пораспоряжаться, рявкнуть – как хлыстом щелкнуть. Умела заставить как минимум слушать себя, как максимум – повиноваться. «Перестань. Пей. Дай-ка мне. Иди сюда».
А потом оставила приказной тон, потому что начала бояться собственной авторитарности. Теперь толика этой авторитарности вернулась – и вынудила Кейт застыть на холмике, взрыхленном овечьими копытцами.
– Да? – говорит Кейт. В глазах у нее смирение.
– Слушай, Кейт…
Тея успела спохватиться, командирских ноток как не бывало. Тон примирительный, неуверенный, отражающий чувства нас троих – не представляющих, как произнести «Мы справимся», когда мы уверены в обратном.
– Кейт, мы вовсе…
– Прости нас, – перебивает Фатима. – Нам очень стыдно. Мы должны были сами догадаться. Но и ты… и ты себя неправильно ведешь. В конце концов, мы примчались по первому твоему зову.
– А я, видимо, должна рассыпаться в благодарностях? – Кейт пытается улыбнуться. – Почему-то не рассыпаюсь…
– Я же не в том смысле. – Фатима не дает ей досказать. – Сама знаешь: мы, все четверо, не знаем, что такое «благодарность»; мы всегда такими были. – Слово «благодарность» Фатима выплевывает как ругательство. – Кого и за что, блин, благодарить? Не смеши меня. Мы выше этого, верно? В этом наша сила. Я имела в виду вот что: тебе кажется, что ты совсем одна, что тебе одной придется все разруливать. Но это не так. Смотри – вот они мы. – Фатима широким жестом обводит и нас, и наши черные тени, удлиненные закатным солнцем. – Вот тебе доказательство, что ты не одна. Мы тебя любим, Кейт, мы к тебе примчались. Айса грудного ребенка притащила, Тея с работы отпросилась, я бросила Али, Надию, Самира – только бы быть с тобой в трудную минуту. Видишь, как ты нам дорога́? Мы тебя не оставим. Никогда. Понимаешь?
Кейт закрывает глаза, и мне кажется, что она сейчас заплачет – или накричит на нас. Но нет – она, по-прежнему с закрытыми глазами, находит наши ладони и притягивает нас к себе. В ее перепачканных красками пальцах – удивительная сила; кажется, Кейт удерживает на плаву меня, тонущую.
– Вы… – На этом слове голос Кейт срывается, а в следующее мгновение мы уже обнимаемся, словно четыре дерева, которые переплелись ветвями, чтобы выдерживать напор морских ветров. Словно четыре дерева, сросшиеся в одно, мы стоим, голова к голове, лоб ко лбу. Нам тепло рядом. У нас общее прошлое, нас нельзя разделить.
– Я люблю вас, – выдыхает Кейт, и я отвечаю той же фразой – то ли вслух, то ли мысленно, и слышу ее из уст Теи и Фатимы – или мне только кажется, что слышу. Мы слиты воедино, и в этом наша сила.
– Войдем вместе, – произносит Фатима. – Понимаете? Когда-то они нас разлучили, но во второй раз у них не получится.
Кейт кивает, выпрямляется и вытирает потекшую тушь.
– Точно.
– Значит, договорились. Единый фронт?
– Единый фронт, – откликается Тея. В голосе – жесткость.
Я молча киваю.
– Пока мы едины, нас не сломить.
Зря я так сказала. Частица «не» теряется, а слово «сломить», раз произнесенное, преследует меня зловещим эхом.
«Апомните…»
Этот рефрен сопровождает нас до самого Солтен-Хауса.
«А помните, как Тею застукали с водкой в бутылочке из-под минералки – ну, когда мы поехали в Роденскую школу играть в хоккей?»
«А помните, как Фатима наврала мисс Рурк, будто «фак» на урду значит «ручка»?»
«А помните, как мы сбежали ночью купаться, Кейт угодила в быстрину и чуть не утонула?»
«А помните… а помните… а помните…»
Мне казалось, я абсолютно все помню – но нет. Я накрыта воспоминаниями, как приливной волной, и сознаю: очень многие эпизоды стерлись из памяти. То есть я, разумеется, помню запах морской воды и, как сейчас, вижу дрожащие руки Кейт, такие белые в лунном свете; помню, как мы вели ее по пляжу. Я помню событие – но подзабыла детали, оттенки, упругость стадионной травы под ногами, тугой морской ветер, бьющий в лицо.
Мы пересекаем последнее поле, перебираемся через последнюю изгородь, перед нами встает Солтен-Хаус – и каждая деталь снова на своем месте. Мы вернулись. Мы действительно вернулись – не мысленно, а во плоти. Осознание этого факта нервирует. Меня начинает подташнивать. Разговоры внезапно стихают. Конечно, Фатима, Тея и Кейт тоже охвачены воспоминаниями – теми, от которых старались избавиться. Мне, например, так и не удалось стереть из памяти физиономию Марка Рена в тот день, когда на дороге к морю его подкараулили пятиклассницы. Под шепотки и хихиканье Марк начал краснеть – медленно, мучительно. Алая волна поднималась из-под ворота рубашки. А потом Марк бросил на Тею полный страдания взгляд. Еще помню, с каким ужасом вытаращилась на нас с Фатимой и мигом отвела глаза одна первоклашка – не иначе, наслушалась сплетен о наших злых языках, о нашем умении ловко лгать. И, конечно, я помню лицо мисс Уэзерби в тот, последний день…
Как хорошо, что Солтен-Хаус изменился – в отличие от деревни Солтен, которая словно законсервировалась, в отличие от совсем обветшалой мельницы. Да, нынешняя школа очень заметно отличается от прежней. В Солтен-Хаусе все новенькое, элегантное. Я помню его совсем другим. Тот, прежний Солтен-Хаус вовсе не являлся элитной школой, хотя и пытался произвести такое впечатление. Кейт называла его «салун “Последний шанс”» – и не напрасно. Сюда всегда можно было устроить ребенка в случае семейных неурядиц; здесь не спрашивали, почему новенькую исключили из трех школ подряд. Еще в первый день я заметила и облезлую штукатурку, и желтую газонную траву, и сорняки, которыми поросла подъездная дорожка; вдобавок на парковке, среди «Бентли» и «Даймлеров» так и мелькали «Фиаты» с «Ситроенами» и раздолбанными «Вольво».
Теперь здесь пахнет… деньгами. Иначе и не скажешь.
Само здание, отбрасывающее длинную тень на крокетные площадки и теннисные корты, осталось прежним. Однако дешевая побелка уступила место дорогой штукатурке кремового оттенка. Странным образом кремовый сглаживает острые углы, а корзины с цветами и плющ, высаженный по периметру, усиливают впечатление. Почти весь фасад затянут этим плющом.
Газоны тоже изменились к лучшему. Трава свежая, несмотря на засушливое лето. Едва мы ступаем на траву, раздается чуть слышный щелчок, и включаются разбрызгиватели воды. Раньше такую роскошь здесь и представить было нельзя. Между зданиями построили крытые переходы – девочкам не нужно мокнуть под дождем, перебегая с урока на урок. Крытый теннисный корт тоже обновлен – вместо бетонного пола, о который была разбита не одна коленка, теперь упругий прорезиненный настил позитивного зеленого цвета.
Не изменились только четыре башни: они по-прежнему – словно часовые, охраняющие главный корпус, – чернеют пожарными лестницами – этаким постиндустриальным плющом.
Интересно, а окошки в них и сейчас открываются достаточно широко, чтобы какая-нибудь пятнадцатилетняя пигалица могла выбраться на лестницу? И остались ли еще пигалицы, которым это не слабо́? Сомневаюсь.
Сейчас каникулы – неудивительно, что в школе тихо. То есть почти тихо. Одна за другой подъезжают машины, со стороны фасада доносятся голоса.
На миг замираю с мыслью: «Родители!» – так, наверное, кролик замирает с мыслью: «Ястреб!» Потом осознаю: не родители, а ученицы. Бывшие ученицы. Мы.
Нет, не так. Потому что семнадцать лет назад были «мы» – и были «они». Изрядное неудобство для членов «клики», как могла бы выразиться Мэри Рен. Будучи «кликой», мы сами себя отгораживали, отделяли от других. Незаметно для себя тех, других, за нерукотворной «стеной» мы начали именовать местоимением «они» – с особой, противопоставляющей интонацией. «Они» стали чужаками. Противниками. Врагами.
Первое время я этого не понимала, радовалась, что нашла подруг, вписалась в некую нишу. Мне было невдомек: каждый раз, когда я принимаю сторону Кейт, Теи и Фатимы, я выступаю против остальных. Мне и не снилось, что остальные ответят тем же.
Ведь что такое стены, каково их назначение? Не только охранять от чужаков, о нет – стены могут стать ловушкой для тех, кто в них прячется.
– Господи…
В вечернем воздухе голос кажется особенно звонким, даже пронзительным; мы вчетвером вздрагиваем.
К нам приближается какая-то женщина, хрустит каблуками по гравию.
– Тея Уэст? А ты… неужели Айса Уайлд? Я угадала?
Не сразу узнаю ее. Лишь через минуту имя всплывает в памяти. Джесс Гамильтон. Капитан хоккейной команды в пятом классе; ее еще прочили в старшие по классу на будущий год. Интересно, удостоилась ли она такой великой чести? Прежде чем я успеваю поздороваться, Джесс Гамильтон визжит:
– Фатима! Я тебя и не узнала – в платке! И Кейт с вами! Быть не может!
– Ну да. – Тея вскидывает бровь, делает жест в нашу сторону. – Как видишь, мы все здесь. Дожили до знаменательного дня. Конечно, тебе врезался в память постер с моей двери – «Живи быстро, умри молодым». Только зря ты так буквально его воспринимала.
– Да нет же! – Джесс смеется и дружески толкает Тею в плечо. – Не в этом дело. Просто…
Секунду она пребывает в замешательстве, и нам всем ясно, что у нее на уме. Впрочем, Джесс берет себя в руки и договаривает:
– Просто вы никогда на вечер встречи не приходили. Даже Кейт, хотя живет совсем рядом. Мы и не надеялись вас увидеть!
– Приятно, что нас кому-то не хватало, – выдает Тея с кривой улыбкой.
Повисает неловкое молчание. Кейт вдруг не выдерживает – направляется прямо к школе. Мы идем за ней.
– Погодите! – Джесс пытается не отстать. Мы заворачиваем за угол, движемся к главному входу. – Расскажите, как вы, что вы? Про Кейт я знаю. Неудивительно, что она стала художницей. А ты, Айса? Погоди, дай угадаю… Преподаешь?
– Нет. – Выдавливаю улыбку. – Я адвокат по гражданским делам. Но я действительно вела в одном министерстве основы юриспруденции. А ты чем занимаешься?
– Мне повезло. Алекс, мой муж, здорово раскрутился во время бума доткомов – и успел соскочить, не дожидаясь, пока пузырь[7] лопнет. Теперь мы с ним – вполне обеспеченные родители Алексы и Джо.
От такой откровенности брови Теи практически исчезают под челкой.
– А у тебя есть дети? – спрашивает Джесс.
Молчу – вроде она не ко мне обращается. Потом спохватываюсь, поспешно киваю:
– Да. У меня дочка, Фрейя. Скоро ей будет полгода.
– Дома с няней осталась?
– Нет. – Выдавливаю очередную улыбку. – Постоянной няни у нас нет. Фрейя сейчас у Кейт дома, я наняла девушку из деревни, чтобы посидела с ней.
– А ты как, Фатима? – продолжает Джесс. – Честно говоря, не знала, что ты у нас теперь… – Джесс кивает на хиджаб, – это… мусульманка.
Последнее слово Джесс произносит почти шепотом, будто непристойность. Фатима улыбается еще более натянуто, чем я.
– Мусульманкой я была всегда, – ледяным тоном произносит Фатима. – Просто в школе не использовала внешние атрибуты веры.
– А зачем… в смысле, почему… почему сейчас используешь?
Фатима пожимает плечами:
– Повзрослела. Сама стала матерью. Наверное, в этом причина.
Ясно, что Фатиме совсем не хочется обсуждать свою веру – тем более с Джесс.
– Значит, ты замужем? – не отстает Джесс.
– Да. Мой муж – врач, как и я. Семья будто с картинки: супруги – врачи, двое славных малышей – мальчик и девочка. Сейчас они дома с Али. А ты своих куда дела?
– Тоже дома оставила. Алексе скоро исполнится пять – подумать только, как время летит! Джо два годика. Мы с Алексом взяли помощницу по программе au pair[8]; она моими детьми сейчас и занимается. А сами слиняли. Хотим вместе побыть. Это в семейной жизни необходимо, верно?
Мы с Фатимой переглядываемся. Не знаю, что отвечать. У нас с Оуэном времени побыть наедине не было с тех пор, как родилась Фрейя. Слава богу, на аллее появляется высокая блондинка, фальшиво прижимает руку к сердцу и произносит:
– Джесс Гамильтон? Немыслимо! Нет, нет, Джесс гораздо старше!
– Тебе тоже твоих лет не дашь. – Джесс кивает, указывает на нас. – Надеюсь, ты помнишь…
Повисает молчание. Блондинка всматривается в наши лица и вспоминает наши имена. Вежливая улыбка исчезает. Блондинка помнит. Помнит слишком хорошо.
– Разумеется, – произносит она.
Тон – ледяной; у меня падает сердце. Блондинка подается к Джесс, берет ее под руку и разворачивает спиной к нам.
– Джесс, дорогая, пойдем, я тебя с мужем познакомлю, – говорит она заговорщицким тоном.
И уводит Джесс чуть ли не насильно. Мы снова вчетвером. Одни. Единый фронт.
Длится это недолго. Распахиваются двойные двери, выплескивается волна света – и толпа устремляется внутрь.
Кто-то берет меня за руку. Кейт. Пальцы словно ищут опоры, пожатие болезненно крепкое.
– Ты в порядке? – шепчу я.
Кейт кивает. Кого она хочет убедить – меня или себя, – непонятно.
– Доспехи надевать будешь? – Тея указывает на мой пакет с туфлями.
И правда, я до сих пор в сандалиях, запачканных глиной. Сбрасываю их, надеваю лодочки, держась за плечо Кейт. Фатима делает то же самое, повиснув на Тее. Платье Кейт трепещет на ветру, словно флаг – или, скорее, вымпел, сигнализирующий о бедствии. Метафора непрошено появляется в мыслях, и я гоню ее прочь.
Переглядываемся. Каждая из нас убеждается, что остальных терзают те же чувства – тревога, нервное возбуждение, страх.
– Готовы? – спрашивает Кейт.
Следуют четыре синхронных кивка. Мы ступаем на школьную лестницу, с которой семнадцать лет назад были сброшены столь болезненным пинком.
Господи, мы здесь и часа не провели, а я больше не могу.
Сижу на унитазе, уронив лицо в ладони, и пытаюсь собраться с силами. Я перебрала – из-за нервов; не помню, сколько бокалов осушила. Бывают такие сны: ты опять в школе, но все немного иное; словно черно-белый фильм раскрасили. Вот и мне кажется, что я сплю.
По законам ночного кошмара, нас четырех встретило целое сборище. Лица – от совершенно незнакомых до полузабытых, измененных временем; черты одних заострились, лишившись девичьей пухлости; другие, наоборот, оплыли, округлились либо обрюзгли, стали латексными масками самих себя. И голоса – слишком много голосов, вразнобой приветствующих, вразнобой изумляющихся. Пугающих.
А самое ужасное – все нас знают. Даже те, кто поступил в Солтен-Хаус, когда мы уже оттуда вылетели. Такого я не ожидала. Нас исключили летом, до начала учебного года; это событие не афишировали. Моему отцу так и было сказано: «Если заберете документы по доброй воле – не будем афишировать».
Пустоту, разумеется, пытались заполнить – слухами, сплетнями, домыслами, – пока не выстроили целое здание из полуправд, которое держалось исключительно на скудных фактах исчезновения Амброуза. Вдобавок, немало выпускниц живет в этой местности, а значит, читает «Солтенский обозреватель». Уж конечно, им бросился в глаза тот самый заголовок, а ума вполне хватило, чтобы сопоставить факты, сложить два и два. Иногда два и два равняется пяти.
Нет, в лицо нас не обвиняют, хотя разговоры какие-то натянутые. Может, я преувеличиваю; может, нагнетаю, и настороженная враждебность мне только мерещится. Но стоит отвернуться, как шелестят шепотки: «Это правда? Их ведь исключили, да? А ты в курсе, что?..»
Воспоминания не из категории приятных, не похожи на легкие хлопки по плечу. Нет, они словно пощечины – болезненные, унизительные. Можно скрыться от толпы, но от воспоминаний не скроешься. Вот на этом самом унитазе я рыдала из-за одной первоклашки, которая засекла, как мы с Фатимой среди ночи вернулись от Кейт. Я тогда отреагировала слишком бурно. Пригрозила девчушке: наябедничаешь – я тебе на всю школьную жизнь бойкот обеспечу. Я могу. Поймешь, почем фунт лиха.
Разумеется, я солгала, причем дважды. Никакого бойкота я устроить не могла, даже если бы и захотела. Мы сами были в изоляции. В столовой места, нами запримеченные, неизменно оказывались заняты; если одна из нас вслух предлагала посмотреть конкретный фильм, остальные девочки дружно выбирали другой телеканал. Вдобавок я бы никогда не стала травить первоклашку. Я хотела просто припугнуть ее, чтобы помалкивала.
Не знаю, что она сболтнула или сделала, да только мисс Уэзерби в тот же вечер вызвала меня к себе в кабинет. Разговор был долгим – о духе коллективизма, об ответственности перед младшими ученицами.
– Айса, я начинаю сомневаться, – скорбным тоном завела мисс Уэзерби, – что ты когда-либо впишешься в коллектив Солтен-Хауса. Тяжелая обстановка дома не дает тебе права запугивать девочек, особенно младших. Пожалуйста, избавь меня от необходимости говорить с твоим отцом. Уверена, у него и так проблем выше головы.
От стыда и ярости перехватило дыхание. Ярость была направлена на мисс Уэзерби – но не только. В большей степени я злилась на себя. До чего я докатилась? Кем стала? Я подумала о Тее – как в первый вечер она объяснила, откуда у зачета по вранью ноги растут: «Я не новеньких дурила, нет. Новенькие – они беззащитные. Я сразу занялась теми, за кем власть, – училками, привилежками и заводилами. Которые слишком выпендриваются».
А я чем занимаюсь? Третирую малявку одиннадцати лет?
Мигом я представила реакцию отца, который и так разрывался между работой и больницей, на звонок мисс Уэзерби. Представила, как его лицо, серое от постоянной тревоги, вытянется, ранние морщины проступают резче.
– Простите, – выдавила из себя я.
Говорить было трудно – не потому, что я не чувствовала себя виноватой, нет. Просто в горле ком стоял.
– Мне правда стыдно. Я вела себя неправильно. Я извинюсь перед этой девочкой. Обещаю, что постараюсь исправиться.
– Да уж, постарайся, – сказала мисс Уэзерби. В ее глазах появилось искреннее беспокойство. – И вот еще что, Айса. Я тебе об этом говорила, а сейчас повторю: не зацикливайся на одних и тех же подругах. Общайся с максимальным количеством девочек. Закадычные подруги – это, конечно, хорошо, но подобные отношения ограничивают личность. Ты упускаешь время, не заводишь связи, которые могут пригодиться в будущем. Потом, в зрелые годы, выяснится, что за тесную дружбу ты заплатила слишком дорого.
– Айса!
В туалетную кабинку стучат – тихо, но настойчиво. Вздрагиваю.
– Айса, ты здесь?
Поднимаюсь, спускаю для маскировки воду. Придется покинуть спасительные стены. Иду к умывальникам. Тея стоит возле сушилки, скрестив руки на груди.
– Мы уже начали беспокоиться, – сухо произносит Тея.
У меня лицо вытягивается. Сколько я здесь проторчала? Десять минут? Или все двадцать?
– Извини. Я просто… мне был нужен перерыв.
Вода приятно холодит пальцы, освежает запястья. Так и хочется плеснуть пару пригоршней на щеки, на веки…
– Я понимаю, – кивает Тея.
Лицо ее выглядит почти как череп, обтянутый кожей. Из-за своей худобы Тея кажется изможденной. Или, может, виноваты лампы дневного освещения. Школьная уборная тоже подверглась реновации, теперь здесь и мягкие бумажные полотенца, и ароматное жидкое мыло, но флуоресцентные лампы остались на месте, и свет их безжалостен.
– Я бы и сама с удовольствием смылась, – продолжает Тея. – И все же нельзя весь вечер отсиживаться в туалете. Столы накрыты. Тебя обязательно хватятся. Потерпи. Переживем ужин – и свалим.
– Ты права, – вздыхаю я.
Однако пойти за Теей – выше моих сил. Я даже вцепилась в край раковины, причем ногтями. Проклятье. Как там моя Фрейя? Не случилось ли чего? Бежать отсюда; бежать к моей мягонькой, теплой девочке, от которой так славно пахнет домом.
– Как только Кейт взбрело притащить нас в этот террариум?
– Слушай, Айса, – Тея косится на кабинки, понижает голос, хотя в уборной, кроме нас, никого, – ты сама настаивала, что надо пойти.
Мрачно киваю. Да, я настаивала. И да, я понимаю Кейт. Бедняжка, она в панике искала повод собрать нас всех после стольких лет. Огромная, немыслимая удача, что обнаружение мертвого тела и вечер встречи в Солтен-Хаусе совпали. Естественно, Кейт ухватилась за это совпадение. Но, боже, лучше бы его не было!
Отборные ругательства кипят во мне, словно адское зелье, того гляди выплеснутся. Так и вижу себя за обеденным столом. Хруст накрахмаленной скатерти, шелест перешептываний. Нет, я не сдержусь, я брошу им в физиономии: «Заткнитесь, сплетницы паршивые! Вы ничего не знаете, черт вас дери! Ни-че-го!»
Делаю медленный вдох. Спокойно, Айса, спокойно.
– Ну что, идем? – уже мягче говорит Тея.
Киваю:
– Да. Порядок. Я справлюсь. То есть мы справимся. Мы. В смысле, раз Кейт держится, то мне сам бог велел. А Кейт не сорвется?
– Надеюсь, нет. Но она на грани.
Тея открывает дверь. Выхожу в гулкий холл. Теперь здесь пусто. Лишь несколько запоздалых учительниц спешат в обеденный зал. У окна белеет щит с планом рассадки за ужином.
– Поторопитесь, дорогие! – произносит при нашем появлении какая-то учительница. Нас она знать не может – слишком молода. – А то к речам опоздаете. Какой у вас столик?
– Панкхерст[9]. По крайней мере, нам так сказали, – отвечает Тея.
Учительница смотрит в список, ведет пальцем по столбцу имен.
– Тея Уэст, – подсказывает Тея.
– Да, верно. Вот ваше имя. А вы…
Вид у нее извиняющийся.
– Простите, я тут новенькая. Никого из выпускниц не знаю…
– Айса Уайлд, – полушепотом выдыхаю я.
К моему облегчению, молодая учительница не меняется в лице. Значит, обо мне – о нас – не слышала. С сосредоточенным выражением она продолжает читать список.
– А, вот, нашла. Тоже Панкхерст. Там еще несколько ваших. Столик номер десять. Прямо рядом с окном раздачи. Вам лучше пройти в эту дверь, а потом – по галерее.
Могла бы и не объяснять. Без нее знаем. С закрытыми глазами нашли бы. Впрочем, мы киваем и послушно проходим в указанную дверь. Издали слышится плеск аплодисментов. Значит, сейчас начнется торжественная часть. На сцене какая-то женщина; милостиво ждет, пока восторженные гости позволят ей заговорить.
Я приготовилась увидеть мисс Армитейдж, нашу директрису, однако это не она. Да и что удивляться? Уже при нас мисс Армитейдж было за пятьдесят, наверняка она давно на пенсии.
Удивляюсь другому, скорее я шокирована. На сцене стоит мисс Уэзерби, наша бывшая классная наставница.
– Твою мать, – шипит Тея, пока мы пробираемся мимо столиков, занятых богатенькими сучками и их благоверными. По щекам Теи, резко побледневшим, ясно: она тоже потрясена.
Отрепетированные интонации мисс Уэзерби преследуют нас всю дорогу. Минуем стену почета, где имена капитанов хоккейных команд и выпускниц, погибших в войну, выбиты на золоченых пластинках; где на холстах неким художником, не ведавшим слова «лесть», увековечены бывшие директрисы. Голос мисс Уэзерби гулким эхом отзывается от деревянных стенных панелей. Слов не разобрать. Вместо приветственных банальностей мне слышится речь мисс Уэзерби в тот, последний день: «Айса, так будет лучше для всех. Я очень сожалею, что ты недолго училась в Солтен-Хаусе, но все мы, включая твоего отца, считаем, что тебе требуется начать сначала. В другом учебном заведении».
Начать сначала. В очередной раз.
Внезапно я стала как Тея; меня просили уйти из школы «по-хорошему» – под угрозой исключения, скандала.
Помню, как отец, мрачнее тучи, вез меня домой. Вопросов он не задавал, лжи в ответ не услышал. Но воздух в машине был пропитан его недовольством. Мы спешили в Лондон, к больничным запахам, к реву клаксонов. На отцовском лице пульсировала надпись: «Как ты могла? Как ты могла – зная, каково приходится мне?»
Родители Фатимы все еще были в Пакистане. За Фатимой из Лондона приехали дядя и тетя – среди ночи посадили ее в «Ауди» и увезли. Я стояла у окна, смотрела вслед задним фарам. Нам даже проститься не дали.
Страшнее всех был отец Теи. Громкоголосый, наглый, он смеялся, словно от его бравады скандал мог рассосаться сам собой. Закидывая в багажник вещи, мистер Уэст отпустил несколько скабрезностей. И от него разило бренди, хотя только-только пробил полдень.
Лишь за Кейт некому было приехать. Потому что Амброуз… Амброуз уже сгинул.
«Смылся прежде, чем его прищучили», – вот какими шепотками шелестели школьные коридоры.
Все это слишком свежо в моей памяти; подробности проступают по мере того, как мы, извиняясь, пробираемся к столику под названием «Панкхерст», где ждут Фатима и Кейт. На их лицах явное облегчение. Мы устраиваемся под бурные аплодисменты – мисс Уэзерби завершила-таки свою речь, из которой я ни слова не могу воспроизвести.
Достаю мобильник. Держа его под скатертью, пишу сообщение Лиз: «Все в порядке?»
– Вегетарианское блюдо или мясное, мэм?
Голос раздается за спиной. Вздрагиваю, оборачиваюсь, вижу официанта в белой рубашке.
– Что, простите?
– Ваш выбор, мэм, – вегетарианское блюдо или мясное? – повторяет официант.
– Не знаю…
Кошусь на Кейт – она занята разговором с Фатимой. Обе склонились над тарелками.
– Мясное, пожалуй.
Официант отвечает учтивым кивком и ставит передо мной тарелку. Предполагаемое мясо плавает в густом коричневом соусе с дольками картофеля, а также неким овощем, в котором я не без труда опознаю жареный артишок. Общее визуальное впечатление – пятьдесят оттенков бежевого.
Кейт с Фатимой выбрали вегетарианское блюдо, и, похоже, не прогадали. У каждой на тарелке лежит что-то вроде открытого пирога с козьим сыром – это неизбежно.
Прямо над ухом раздается мужской голос:
– Такое впечатление, что блюдо – дань малоизвестному Бежевому периоду в творчестве Пикассо.
Поднимаю взгляд – с кем это он разговаривает? К своей досаде, обнаруживаю: со мной. Насилу улыбаюсь.
– Не правда ли? – уточняет незнакомый мужчина.
Касаюсь вилкой артишока.
– Не знаете, что там за мясо?
– Я не выяснял, но почти уверен – курятина. Как показывает личный опыт, на таких мероприятиях всегда подают курятину, чтобы угодить всем гостям.
С опаской отрезаю ломтик от бесформенного куска, отправляю в рот. И впрямь курятина.
– Что вас сюда привело? – спрашиваю своего соседа. – На выпускницу вы не похожи.
Остро́та сомнительная и предсказуемая, но он вежливо смеется.
– Я и не выпускница. Меня зовут Марк. Марк Хопгуд. Я женат на вашей однокласснице, Люси Этеридж.
Имя мне ничего не говорит. Секунду колеблюсь – может, прикинуться, что помню эту Люси Этеридж? Соображаю: бесполезно. Парой вопросов он меня разоблачит.
– Мне ужасно неловко, – признаюсь я. – Только я вашу супругу совсем не помню. Я в Солтен-Хаусе недолго пробыла.
– Вот как?
Тут бы мне и замолчать, а я не могу. Я сказала слишком много и одновременно слишком мало, теперь нужно заполнить хоть несколько прорех.
– Да, всего один учебный год, да и то не полный. Пятый класс. Я забрала документы незадолго до летних каникул.
Марк Хопгуд слишком хорошо воспитан, чтобы спросить «почему?»; но неозвученный вопрос отражается в его глазах. Марк наполняет мой бокал – учтиво, молча, как и положено продукту престижной публичной школы, которым он, без сомнения, является.
Мобильник пищит. Смотрю на экран. Это от Лиз:
Полный порядок ☺ ☺ ☺
С другой стороны от меня раздается голос:
– Айса?
Марк чуть отодвигается на стуле, чтобы его жена могла подать мне руку.
– Айса Уайлд? Это ведь ты?
– Да, я.
Слава богу, Марк уже назвал ее имя. Торопливо прячу мобильник, пожимаю руку.
– А ты – Люси, верно?
– Верно!
Щеки у нее по-младенчески бело-розовые. Она явно наслаждается как обстановкой, так и тем обстоятельством, что пришла вместе с мужем.
– Чудесно здесь, правда? Столько приятных воспоминаний нахлынуло…
Киваю, но свои воспоминания не афиширую. Потому что к ним не применишь слово «приятные».
– Ну, рассказывай, – требует Люси, берясь за вилку и нож. – Где ты, как ты? Чем занималась после школы?
– Да так… то одним, то другим… Историю в Оксфорде изучала. Потом перешла на юридический. Сейчас – адвокат по гражданским делам.
– Правда? Представь – мой Марк тоже адвокат по гражданским делам! Ты в каком департаменте служишь?
– В данный момент – в Министерстве внутренних дел. Впрочем, сама знаешь, – чуть улыбаюсь Марку, – нас вечно с места на место перебрасывают. Я уже несколько министерств сменила.
– Только не пойми меня неправильно, – Люси с азартом поглощает курятину, – мне всегда казалось, ты будешь заниматься творчеством. Чтобы не нарушать семейную традицию.
С минуту таращу глаза. Мама была адвокатом; потом, когда мы родились, бросила работу. Отец всю жизнь в финансовой сфере. Ни маму, ни отца творческими личностями не назовешь. Может, Люси спутала меня с Кейт?
– Какую семейную традицию?
И вдруг, прежде чем Люси успевает открыть рот, я вспоминаю. Я пытаюсь опередить ее. Увы, слишком поздно.
– Представь, Марк: Айса в родстве с Оскаром Уайлдом, – гордо поясняет Люси. – Кем он тебе доводится, Айса? Прадедушкой?
– Люси, – выдавливаю я.
Стыд душит, щеки горят, а Марк уже вскинул бровь. Ясно, о чем он думает. Дети Оскара Уайлда сменили фамилию после суда над отцом. Никаких праправнучек у него не было, тем более по фамилии Уайлд. Это мне доподлинно известно. Я солгала. И теперь должна сознаваться в давнем вранье.
– Извини, Люси. – Я откладываю вилку. – Я тогда… просто пошутила. Это был розыгрыш. Я не родня Оскару Уайлду.
Хочется сквозь землю провалиться. Почему, ну почему мы были такими гадкими? Неужели не понимали, что творили, настраивая против себя всех этих милых, доверчивых, воспитанных девочек?
– Извини, – повторяю я.
Нет сил взглянуть в глаза Марку, поэтому я смотрю на Люси. Сама улавливаю умоляющие нотки в своем голосе.
– Это шутка была. Не понимаю, зачем мы так шутили.
– Шутка, значит.
Лицо Люси становится пунцовым. Трудно сказать, от досады на собственное легковерие она покраснела или от злости на меня, выставившую ее дурой.
– Могла бы и сама догадаться.
Люси продолжает орудовать ножом и вилкой, но кусочки в рот больше не отправляет.
– Очень глупо с моей стороны. Видишь ли, Марк, Айса и ее подружки вели такую особую игру. Как она называлась, Айса?
– Игра в ложь, – выдавливаю я.
В животе спазмы. Ловлю обеспокоенный взгляд Кейт, чуть качаю головой – все в порядке. Кейт снова поворачивается к своей соседке.
– Да, я могла бы и сама сообразить, – продолжает Люси, покачивая головой с удрученным видом. – Вашей шайке нельзя было верить. Как звали ту из вас, что наплела, будто отец ее в розыске – поэтому и не приезжает? Я тогда заглотила наживку, как последняя дура. То-то вы, наверное, потешались.
Пытаюсь улыбнуться и отрицательно покачать головой. Но улыбка – я это чувствую по напрягшейся коже щек – больше напоминает оскал. Люси демонстративно отворачивается и заводит разговор с другой одноклассницей. Мне ли ее винить?
Примерно через полтора часа ужин завершается. Мрачная Кейт съела все до крошки, словно от этого зависело, сможет она убраться отсюда или не сможет. Фатима клевала, как птичка. Несколько раз официанты пытались наполнить ее бокал, но Фатима упрямо качала головой: нет, вина не надо.
Тея вовсе не проглотила ни кусочка – от нее уносили нетронутые тарелки. Зато Тея наверстала спиртным.
Звучит прощальная речь. Слава богу! Мы вышли на финишную прямую. Подан прескверный кофе, мы его зачем-то пьем. Впечатление усугубляют разглагольствования Мэри Хардвик – я ее не помню, она выпустилась года на два раньше нас. Похоже, Мэри написала роман – тогда понятно, откуда взялась эта бесконечная, с бесчисленными отступлениями от темы, речь о человеческой жизни. Кейт не выдерживает, поднимается с места, шепчет, проходя мимо меня:
– Я в гардероб, заберу наши сумки и туфли. А то потом туда не пробьешься.
Киваю. Кейт крадется тем же путем, каким мы с Теей, опоздавшие, пробрались сюда два часа назад. Кейт почти у дверей, когда по звуку аплодисментов я понимаю: речь кончилась. Все встают, забирают сумки.
– До свидания, – произносит Марк Хопгуд, надевая пиджак и подавая жене сумочку. – Приятно было познакомиться.
– Взаимно, – отзываюсь я. – До свидания, Люси.
Но Люси Хопгуд идет к выходу с таким видом, словно заметила нечто крайне важное. Марк пожимает плечами, машет на прощание, следует за женой. Нащупываю в кармане мобильник, проверяю сообщения. Правда, их не должно быть – иначе я бы услышала.
Все еще смотрю на экран, когда кто-то касается моего плеча. Джесс Гамильтон, румяная от вина и духоты, оказывается, подкралась сзади.
– Уже уходишь, Айса? Слушай, мы остановились в одной гостинице с видом на море. Вот я и предлагаю: давайте продолжим в «Солтенском гербе». Пропустим по стаканчику на сон грядущий.
– Спасибо, я не могу.
Получается неубедительно, и я спешу объяснить:
– Это очень мило, что ты меня приглашаешь, только мне нужно обратно к Кейт, а в паб идти – это большущий крюк. И потом, я же Фрейю, дочку, оставила с няней. Мало ли что? В общем, не получится, извини.
На самом деле причина другая: скорее я собственную сандалию съем, нежели на лишний миг задержусь с этими оживленными, смеющимися женщинами, с их приятными воспоминаниями о счастливых школьных днях. Эти женщины непременно станут болтать, повторять «А помните?..» – причем речь пойдет о времени, когда Кейт, Тея, Фатима и я не были счастливы, а страдали.
– Жаль, – без особого огорчения произносит Джесс. – Слушай, ты, главное, еще на пятнадцать лет не пропадай, ладно? Ужин проводят почти ежегодно – разумеется, не такой пафосный, как на пятнадцатилетие выпуска. Думаю, двадцатилетний юбилей отметят с особым размахом. Не пропусти!
– Постараюсь.
Джесс хватает меня за плечо. Глаза у нее блестят, она покачивается. Только теперь понятно: здорово перебрала.
– Извини, что спрашиваю, – произносит Джесс. – Просто любопытно. А то еще исчезнешь, а я так и не узнаю. Мы весь вечер с девчонками про это говорили. Я лично надеюсь, что все было не так… В смысле, не обижайся, только… только, когда вы вчетвером одновременно покинули Солтен… Ответь, Айса: причина именно та, о которой шептались?
Сердце падает. Я словно выпотрошена. Съеденное и выпитое за ужином тает, в животе вязкая пустота.
– О какой причине ты говоришь? – Стараюсь, чтобы голос звучал как можно беззаботнее. – Я не в курсе.
– Ну как же! Ты разве не слышала сплетен? – Джесс понижает голос, оглядывается. Понятно: смотрит, далеко ли Кейт. – Ну, насчет Амброуза… Да знаешь ты все!
Ее уже несет. Сглатываю. Надо бы развернуться, якобы на оклик Фатимы – а я не могу. Да и не хочу. Пусть Джесс произнесет это, довольно ходить вокруг да около.
– Что конкретно насчет Амброуза? – Мне даже удается улыбнуться. – Ничего не понимаю.
Ложь, конечно.
– Господи! – Джесс буквально стонет.
Искреннее у нее сочувствие или поддельное, я понять не могу. Я слишком долго была пропитана ложью.
– Айса, нет, серьезно! Неужели ты и впрямь не знаешь?
– Чего я не знаю? Говори. Скажи это.
Теперь я даже не пытаюсь улыбаться.
– Черт.
Джесс совсем сникла и даже протрезвела от моего столь явного отвращения.
– Айса, извини, я совсем не хотела снова ворошить…
– Сама же говоришь: вы весь вечер это обсуждали. Ну так давай, скажи мне в лицо. Что за сплетня?
– Насчет Амброуза…
Джесс мучительно сглатывает. Смотрит поверх моего плеча, но в холле – никого. Никто из подружек не придет Джесс на выручку.
– Говорили, Амброуз… он… он вас рисовал. Вас четверых.
– Дело ведь не в факте рисования, так? – Тон моего голоса холоден. – Так, Джесс? Что конкретно болтают о рисунках?
– Что вы на них… г-г-голые, – еле слышно шепчет Джесс.
– Продолжай.
– И что об этом узнали в школе… и поэтому… поэтому Амброуз… совершил…
– Что совершил Амброуз?
Джесс умолкает. Стискиваю ей запястье. От боли и неожиданности она моргает. Какие у нее хрупкие косточки!
– Так что он совершил?
Эти слова я повторяю в полный голос. Холл отзывается эхом. Несколько замешкавшихся выпускниц, а также официанты поворачиваются в нашу сторону.
– Самоубийство, – шепчет Джесс. – Извини. Не следовало мне…
Она вырывается, поправляет сумку на плече и спотыкаясь уходит. А я – задыхающаяся как от удара под дых, чуть не плачущая – остаюсь в гулком холле.
Проходит несколько минут – и вот я готова выйти в холл, полный людей.
Кейт, Фатима и Тея, наверное, заждались.
Шарю взглядом по двум очередям – в гардероб и в туалет. Не вижу своих. Не могли же они уйти без меня?
Щеки еще пылают, сердце колотится – Джесс здорово выбила меня из колеи. Где же девчонки?
Пробираюсь к выходу, работая локтями. Кругом смеются выпускницы – демонстрируют старым подругам мужей и женихов. Кто-то хватает меня за руку. Слава богу! Оборачиваюсь, каждой черточкой выражая облегчение – и вижу мисс Уэзерби.
Внутри все сжимается. Слишком хорошо я помню наш последний разговор – и ее перекошенное от гнева лицо.
– Айса, – произносит мисс Уэзерби. – Узнаю тебя. Как и раньше, ты вечно куда-то бежишь. Я всегда говорила: тебе следовало заняться игрой в хоккей, чтобы не пропадала зря твоя буйная энергия!
– Извините, – бормочу я, стараясь дышать ровно и не слишком резко высвобождать руку из цепкой хватки мисс Уэзерби. – Мне нужно… нужно домой. Там няня, наверное…
– Няня? Значит, ты стала матерью? Сколько же твоему ребенку?
Понятно: мисс Уэзерби спрашивает просто из вежливости.
– Скоро шесть месяцев. У меня дочка. Послушайте, я должна…
Мисс Уэзерби кивает и разжимает пальцы.
– Что ж, приятно было увидеть тебя после стольких лет. Поздравляю с дочкой. Запиши ее в нашу школу!
Сказано полушутливым тоном, но я цепенею. Кое-как удается кивнуть и даже улыбнуться, однако по лицу мисс Уэзерби ясно: мои истинные чувства от нее не укрылись. Еще бы! Я и сама знаю: так, как я сейчас, разве что марионетки улыбаются своими намалеванными губами.
– Айса, не могу выразить своего огорчения по поводу событий, вызвавших твой отъезд, – выдает мисс Уэзерби. Вид у нее и впрямь кислый. – Должна признать, что это – один из немногих фактов в моей карьере, о которых я искренне сожалею. Школа тогда обошлась с тобой плохо – не стану отрицать. Наряду с другими преподавателями я несу за это ответственность. Но сейчас… сейчас в Солтене многое изменилось, поверь. Подобные ситуации мы решаем другими методами… да, совсем другими.
– Я… – Сглатываю, пытаясь продолжить: – Мисс Уэзерби, не надо извиняться… С тех пор столько воды утекло.
Это не так. Но обсуждать события семнадцатилетней давности сейчас, да к тому же здесь, в школьных стенах, выше моих сил. Господи, куда девчонки запропастились?
Мисс Уэзерби кивает. Лицо у нее напряженное, словно она сдерживает наплыв собственных воспоминаний.
– До свидания, – говорю я.
Ответом мне – натянутая улыбка, за которой мисс Уэзерби скрывает готовность расплакаться.
– Приезжай еще, Айса. Я думала, ты опасаешься, что будешь здесь персоной нон грата, но поверь – это не так. Надеюсь, отныне ты станешь посещать все вечера встречи. Ты ведь приедешь в следующем году, Айса?
– Конечно.
Заправляю прядь волос за ухо.
– Конечно, мисс Уэзерби, я приеду.
Наконец-то она меня отпускает. По пути к выходу, ища глазами Кейт и остальных, успеваю подумать: удивительно, до чего быстро вспоминаешь прежние навыки, до чего легко снова солгать.
Первой нахожу Фатиму. Она стоит в дверях, с тревогой глядя на подъездную аллею. Мы с ней замечаем друг друга одновременно. Фатима подпрыгивает и хватает меня за руку чуть выше кисти.
– Где тебя носит? Тея набралась, нам нужно домой. Ты что, туфли свои искала? Так они давно у Кейт!
– Извини, Фати.
Ковыляю к ней по подъездной аллее, увязая каблуками в гравии.
– Я не туфли искала, нет. Сначала меня приперла к стенке Джесс Гамильтон, а потом мисс Уэзерби. Еле вырвалась.
– Мисс Уэзерби? – У Фатимы лицо вытягивается. – Ей-то что нужно было?
– Ничего особенно. – Я не лгу – просто не говорю половину правды. – По-моему, ее… ее мучает совесть. Ну, за прошлое.
– Так ей и надо, – мрачно выдает Фатима и спускается с крыльца.
Вместе мы пересекаем границу света, который падает из школьных дверей. Фатима выбирает дорожку, ведущую к хоккейной площадке. В наше время здесь было бы темно – хоть глаз выколи, сейчас вдоль дорожки установлены фонари на солнечных батареях. Впрочем, они лишь отпугивают лунный свет, и промежутки между ними кажутся провалами, полными чернильного мрака.
Для нас тогдашних, пятнадцатилетних, марши были почти домом. Не помню, чтобы мы когда-либо испытывали страх, пробираясь к мельнице или обратно в Солтен-Хаус. Сейчас, едва успевая за Фатимой, я представляю себе кроличьи норы – в них так легко угодить и заработать перелом лодыжки. А еще можно забрести в топкое место. Так и вижу: меня затягивает трясина, соленая жижа залила рот, невозможно крикнуть, позвать на помощь. Подруги удаляются, не замечая меня. Бросают совсем одну. Нет, не совсем. На ум приходит тот, кто написал записку; тот, кто притащил к порогу Кейт окровавленную овцу…
Фатима здорово от меня оторвалась. Должно быть, ей тоже жутко и хочется поскорее догнать Кейт и Тею. Передо мной слабо маячит ее силуэт, шелка развеваются, переливаясь в темноту.
– Фатима, подожди! Нельзя ли помедленнее?
– Ой, прости.
Она останавливается возле лаза через изгородь, ожидая меня. По ту сторону изгороди Фатима идет медленнее, приноравливается к моему осторожному шагу – потому что мы теперь на марше и я увязаю каблуками в зыбкой почве. Мы молчим, слышно только наше тяжелое дыхание, да еще я время от времени спотыкаюсь. Где же Кейт с Теей?
Наконец я не выдерживаю – слишком жуткая тишина повисла над маршами.
– Представляешь, она мне предлагала Фрейю в Солтен записать!
Фатима даже приостанавливается – как я и рассчитывала. Можно чуть передохнуть. На лице Фатимы – смесь ужаса и недоверия.
– Ты про мисс Уэзерби? Не может быть!
– Может.
Мы продолжаем путь, только теперь еще медленнее.
– Вообрази, Фати, как я опешила. Не нашлась, что ответить.
– Надо было сказать: «Только через мой труп!»
– А я промолчала.
Снова пауза. Подумав, Фатима произносит:
– Я бы на пансион ни Самира, ни Надию никогда не отдала. А ты?
Трудный вопрос. Думаю о ситуации у нас дома, о том, через что пришлось пройти отцу. Отдать Фрейю в закрытую школу? Да я ведь на один вечер не в состоянии ее с чужими оставить – вон как сердце прыгает, точно кофейное зерно в кофемолке!
– Не знаю, Фати. Даже представить не могу.
Снова темнота. Под нашими ногами дрожит хлипкая дощечка, переброшенная через канаву.
– Да когда же они успели так далеко убежать, черт бы их побрал! – шипит Фатима.
Не успевают еще над маршем смолкнуть ее слова, как мы обе слышим звук. И в то же мгновение видим нечто живое, шевелящееся впереди нас. Это точно не идущий человек. Это бесформенная масса, и она издает омерзительные булькающие звуки.
– Господи, что это? – шепчу я.
Фатима стискивает мне руку. Резко останавливаемся.
Прислушаться мешает сердцебиение.
– Н-н-не знаю, – шепотом отвечает Фатима. – Может, зверь какой?
Память мигом подбрасывает картинку: вывороченные кишки, окровавленная шерсть, кто-то по-звериному скорчился над растерзанным трупом… Булькающий звук повторяется, что-то падает. Доносится нечто похожее на рыдания. Пальцы Фатимы впились мне в руку.
– Это… – Фатима еле выдавливает слова. – Это они… девочки…
– Тея! – кричу я. – Кейт!
– Мы здесь! – отзывается знакомый голос.
Бежим сквозь тьму и скоро видим: на четвереньках, свесившись над канавой, стоит Тея, а Кейт держит ее за плечи.
– Проклятье! – восклицает Фатима. В голосе и усталость, и отвращение. – Я знала, что этим кончится! Еще бы, вылакать две бутылки на пустой желудок!
– Заткнись, – рычит Тея. В следующий миг ее снова рвет.
Наконец она поднимается – бледно-зеленая, с размазанной косметикой.
– Идти можешь? – спрашивает Кейт.
Тея кивает:
– Я в порядке.
– Нет, ты далеко не в порядке, – фыркает Фатима. – Это я тебе как врач говорю.
– Заткнись, – повторяет Тея. – Я сказала, что могу идти, чего тебе еще надо?
– Чтобы ты хоть один день нормально питалась и воздерживалась от алкоголя.
С минуту я сомневаюсь – слышала Тея слова Фатимы или не слышала, и будет ли отвечать. Тея вытирает рот, сплевывает в траву. Наконец полушепотом она произносит:
– Скучаю по тем временам, когда ты была нормальной.
– Нормальной? – переспрашиваю с недоумением.
Фатима молчит – похоже, дар речи потеряла то ли от изумления, то ли от гнева.
– Надеюсь, Тея, ты не то имела в виду, о чем я подумала, – произносит Кейт.
– Да думай ты что хочешь!
Тея выпрямляется, шагает на тропу. Должна признать, не ожидала от нее такой твердости в ногах.
– Хиджабом обмоталась и воображает, что этого достаточно… Если Аллах тебя простил, Фатима, я за тебя рада. Только сомневаюсь, что полиция сочтет это смягчающим обстоятельством.
Последнюю фразу Тея бросает небрежно, едва обернувшись к Фатиме.
– Дура! – кричит Фатима, клокоча от ярости. – Какое тебе дело до моей веры, до моих поступков?
– То же самое я могу у тебя спросить, – парирует Тея. – Нашлась праведница! А ты знаешь, что я иначе вообще не засыпаю? У тебя свои способы справляться с этим – у меня свои.
– Я же о тебе забочусь! – почти визжит Фатима. – Неужели не понятно? Справляйся как-нибудь иначе. Уйдешь в буддистский монастырь, станешь практиковать трансцендентальную медитацию, устроишься работать в румынский сиротский приют – сло́ва тебе не скажу. Но не жди, что я стану молча наблюдать, как ты превращаешься в алкоголичку. Ты меня сказками о праве выбора не убаюкаешь, не рассчитывай!
Тея раскрывает рот. Кажется, она готова возразить, но снова склоняется над канавой в очередном приступе рвоты.
– Видишь, до чего ты докатилась!
Фатима укоряет, однако ярости в ее голосе больше не слышно. Когда Тея наконец выпрямляется, вытирая слезы, Фатима протягивает ей пачку влажных салфеток.
– Вот, возьми. Приведи себя в порядок.
– Спасибо, – бормочет Тея.
Ее покачивает, и Фатима подает ей руку. Они медленно идут по тропе, причем Тея склоняется над Фатимой и что-то ей шепчет. Нам с Кейт не слышно, что именно, мы только различаем ответ Фатимы:
– Забудь, Тея. Я понимаю. Я просто… просто беспокоюсь за тебя.
– Похоже, помирились, – шепчу я Кейт.
– Это только начало, Айса, – тихо произносит Кейт.
– Ты уверена?
Впрочем, я и сама понимаю: Кейт права.
– Почти пришли, – объявляет Кейт, когда позади остается очередная изгородь, а мы, отдуваясь, друг за другом спускаемся по лесенке.
Марш в темноте совсем не тот, что днем. Я-то думала, что помню дорогу – а ее затопили тени. Впереди мигают огоньки – наверное, это деревня; впрочем, овечьи тропы вкупе с шаткими мостиками изрядно дезориентируют. Поеживаюсь от мысли, что без Кейт мы бы точно заблудились.
Фатима ведет за руку Тею, шагающую со свойственной пьяным сосредоточенностью. Тея то и дело спотыкается о кочки, буксует в песке. Она хочет что-то сказать, но в этот миг я замираю, приложив палец к губам. Тея прикусывает язык. Мы останавливаемся.
– Что такое? – слишком громко спрашивает Тея, ее язык заплетается.
– Слышали?
– Что конкретно? – уточняет Кейт.
Вот оно, опять. Издали доносится плач. Точно так же плачет Фрейя, когда ее терпение на пределе. Мои груди напрягаются, бюстгальтер сыреет от прихлынувшего молока. На периферии сознания мелькает: вот я бестолочь, надо было подложить в бюстгальтер специальные подушечки. Но мозг занят другим: откуда этот плач? Ведь не может быть, чтобы Фрейя плакала среди маршей?
– Ах, это? – произносит Кейт. – Это чайка.
– Ты уверена? Очень похоже… похоже на…
Тут я замолкаю. Нет сил озвучить мои страхи. Меня сумасшедшей сочтут.
– На детский плач, да? – угадывает Кейт. – Есть такое. Поэтому и жутко.
Звук повторяется, на сей раз громче. Кто-то заходится криком – истерическим, булькающим. Конечно, это не чайка.
Срываюсь с места, бегу в темноту, не обращая внимания на крики Кейт: «Айса! Ты куда? Подожди!»
Не могу ждать. Плач Фрейи – словно рыболовный крючок, вонзившийся в мою плоть, невидимая леска тянет меня сквозь густую тьму маршей. Сознание отключилось, но ноги, оказывается, сами помнят дорогу. И вот я на противоположной стороне трясины, а как перебралась – и сама не поняла. Я вообще забыла про эту трясину. Бегу высоким берегом, перепрыгивая через канавы, полные глинистой жижи, бегу и все время слышу захлебывающийся крик Фрейи. Он доносится откуда-то сверху, он способен заманить меня в трясину, словно болотный огонек или сказочный колокольчик, звуков которого следует опасаться одиноким путникам.
Фрейя уже близко. Различаю и визг, подобный вою сирены, когда она вне себя от недовольства, и жалобные всхлипывания, и вздохи, которые Фрейя делает перед тем, как вновь залиться плачем.
– Фрейя! – кричу я. – Фрейя, мама уже здесь!
– Айса, постой! – слышится сзади.
Меня догоняет Кейт.
Я почти у цели. Преодолеваю последнюю изгородь, отделяющую марш от долины Рича. Цепляюсь за колючку, платье, одолженное у Кейт, рвется с треском – мне плевать. И вот, когда я уже за изгородью, бешеная скорость, с которой только что развивались события, уступает место вялой текучести ночного кошмара. Ушам и горлу все еще больно, сердце колотится. Там, впереди, не деревенская недотепа Лиз, там – мужчина. Он стоит у самого берега, силуэт темной массой выделяется на фоне воды, посеребренной луной. А в его руках – мой ребенок.
– Эй! – рычу я. – Эй, там!
Мужчина оборачивается, лунный свет падает ему на лицо. Сердце подскакивает к горлу. Потому что это он. Люк Рокфор держит моего ребенка как щит, прямо перед собой, а за ним мерцают воды Рича.
– Дай ее сюда, – выдавливаю я.
Голос не мой. Это вообще не голос – это рычание, заставляющее Люка попятиться, крепче стиснуть Фрейю. Она, впрочем, уже увидела меня, тянет пухлые ручки, пунцовое зареванное личико настолько сердито, что Фрейя даже плакать толком не может, лишь издает несколько всхлипов, как бы готовясь напоследок зайтись диким воплем.
– Дай ее сюда! – кричу я, делаю рывок и выхватываю Фрейю из рук Люка.
Моя девочка тотчас приникает ко мне, точно детеныш сумчатых, вцепляется пальчиками в шею, в волосы. Пахнет от нее сигаретным дымом и алкоголем – скорее всего, коньяком. Фрейя насквозь пропиталась запахом Люка Рокфора.
– Как ты посмел ее тронуть?!
– Айса… – начинает Люк.
Протягивает руки с мольбой, но мне в ноздри бьет запах перегара.
– Айса, это совсем не то, что ты подумала…
– А что я должна была подумать? – рычу я.
Фрейя жмется ко мне своим маленьким, тугим, теплым тельцем.
– Что происходит?
Наконец меня догнала Кейт. Она задыхается от бега, щеки у нее горят.
– Люк? – Кейт будто глазам не верит.
– Он забрал Фрейю! – кричу я. – Забрал Фрейю!
– Никуда я ее не забирал! – возражает Люк.
Отступает на шаг, и я едва подавляю желание броситься бежать. Нет, я не покажу этому человеку своего страха.
– Люк, о чем ты только думал? – возмущается Кейт.
– Да все не так было! – Люк теперь почти кричит. Однако берет себя в руки, сбавляет тон, чтобы все успокоились. – Я просто шел на мельницу, поговорить с тобой хотел, перед Айсой извиниться…
Он замолкает, делает вдох. Поворачивается ко мне. Теперь в его голосе звучит мольба:
– На почте я вел себя как идиот. И решил попросить прощения. Чтобы ты не думала… В общем, прихожу – а дочка твоя кричит…
Люк указывает на Фрейю, на ее пунцовое личико. Фрейя еще всхлипывает – но тише и реже, ведь она теперь у моей груди, она чувствует родной запах. Кроме того, Фрейя устала. Она, когда устает, всегда ерзает, возится на руках.
– Эта, как ее, Лиз… она просто в панике была. Говорит, хотела позвонить тебе, Айса, да деньги кончились. Ну я и подумал: вынесу малышку на воздух, пройдусь с ней – вдруг успокоится?
– Как ты посмел? – Прихлынула новая волна гнева, я себя почти не контролирую. – Откуда я знаю – может, ты хотел мою дочь на марш затащить!
– Зачем мне это? – На лице Люка сердитое недоумение. – И никуда я ее не затащил – вот она, мельница, в двух шагах. Я ее успокоить пытался. Подумал, тут звезды, луна, воздух чистый…
– Люк, да разве мы об этом? – перебивает Кейт. – Айса оставила дочку с няней. Ты не должен был вмешиваться, а раз вмешался…
– Что? Что, если я вмешался? – В голосе Люка сарказм. – Полицию вызовешь? Едва ли.
– Люк… – Тон Кейт не сулит ничего хорошего.
– Господи! – бросает Люк. – Пришел извиниться, пытался помочь… Думал – на минуту допустил такую мысль, – что ты поймешь: я на своих ошибках учусь. Но нет. Ты не изменилась. Ни одна из вас не изменилась. Стоит Кейт свистнуть – и вы примчались, как собачонки.
– Что происходит?
За нашими спинами запыхавшаяся Фатима и Тея, которая опирается на ее плечо.
– Это… это Люк?
– Да, это я, – отвечает Люк и пытается улыбнуться, но лицо искажает странная гримаса – нечто среднее между ухмылкой и попыткой не заплакать. – Помнишь меня, Фатима?
– Конечно, помню, – шепчет Фатима.
– А ты, Тея, помнишь?
– Люк, ты пьян, – бурчит Тея и, качнувшись, хватается за перила.
– На себя посмотри, – парирует Люк, скользя взглядом по испачканной одежде и размазанной косметике Теи. Она просто кивает – даже без скрытого недовольства.
– Ты прав. Я бывала на грани достаточно часто, чтобы понимать: сейчас на грани ты.
– Иди домой, Люк, – приказывает Кейт. – Проспись. Утром поговорим, если, конечно, тебе и правда есть что сказать.
– Если мне есть что сказать? – Люк заливается истерическим смехом. Теребит свою темную шевелюру. Успеваю заметить, как дрожат его пальцы. – Если? Ну и шуточки! А самой тебе о чем хочется поговорить, а, Кейт? Может, о папе? А что? Душевный разговор получился бы…
– Люк, заткнись, – шипит Кейт.
Оглядывается. Вдруг понимаю: отнюдь не исключено, что нас могут подслушать. Кто? Да мало ли – собачник с питомцем на прогулке, подпившие выпускницы, которым взбрело идти через марш, рыбаки, в конце концов…
– Тише, Люк, прошу тебя, – продолжает Кейт. – Приходи завтра. Тогда все обсудим.
– Ты разве не хочешь, чтобы весь свет об этом узнал? – ерничает Люк. Складывает ладони рупором, выкрикивает в ночь: – А вот кому новость? Откуда в Риче взялось мертвое тело?
– Он что, в курсе? – выдыхает Фатима.
Лицо у нее землистого оттенка. Меня тошнит. Еще минута – и буду выглядеть не лучше Теи. Люк в курсе. Люк знал с самого начала. Вот чем объясняется его ярость.
– Люк! – Кейт вроде и шепчет, а получается сдавленный вопль. – Люк, ради бога, замолчи. Подумай, что ты делаешь! Вдруг тебя услышат?
– А мне плевать! – рявкает Люк.
Кейт сжимает кулаки, вот-вот набросится на него. Но она только цедит слова, и каждое подобно плевку:
– Я твоими угрозами сыта по горло. Держись подальше от меня и моих подруг. Не смей околачиваться возле мельницы. Видеть тебя не хочу. Никогда.
Тьма скрывает лицо Люка. Видно только лицо Кейт – искаженное страхом и яростью, застывшее. Люк не отвечает. Долго-долго смотрит на Кейт. Молчаливая связь между ними, прочная, как узы крови, прямо на наших глазах преобразуется в ненависть. Наконец Люк разворачивается и торопливо уходит в сторону маршей. Его силуэт тает в ночи.
– Если что, Айса, обращайся! – бросает Люк уже из темноты, совсем невидимый. – Я не сказал: присматривать за ребенком… было легко. С удовольствием бы снова ее взял.
Шорох его шагов постепенно стихает, поглощенный тьмой. Мы совсем одни.
До мельницы остается совсем немного. Мой мозг против воли прокручивает слова Люка. Каждый шаг эхом отдается в ночи – совсем как семнадцать лет назад. Порой мне кажется, что те события произошли в совершенно другом месте и даже в другую эпоху, а главное – не со мной. Но сейчас, спотыкаясь о глинистые холмики, увязая в песке, я отчетливо осознаю: нет, все было здесь, я в этом участвовала. Потому что мои ноги помнят, куда ступать; потому что кожа покрыта мурашками, несмотря на удушающий летний зной.
Тогда было так же душно, и так же роились мошки над торфяниками. Казалось, луна вместе со светом изливала прохладу на нас троих, почти бежавших по маршу, перемахивавших через изгороди, перепрыгивавших через канавы.
Экраны наших телефонов пятнали ночь, дезориентировали – потому что мы то и дело проверяли, нет ли сообщений от Кейт. Новых сообщений – объясняющих, что же все-таки происходит. Их не было. Раз за разом наши глаза видели только первое сообщение, читали три слова: «Вы мне нужны».
В тот вечер я уже разделась и умылась, приготовилась ко сну. Оставалось только расчесать волосы. Фатима при свете настольной лампы доделывала домашнее задание по тригонометрии.
Тогда-то и зажужжал мобильник, пошатнув тишину нашей спальни.
– Это у тебя, Айса? Или у меня?
– Не знаю.
Я взяла мобильник в руки.
– У меня. Сообщение от Кейт.
– Ой, она и мне написала.
С недоумением на лице Фатима открыла сообщение. Я сделала то же самое. Одновременно мы прочли текст, одновременно у нас перехватило дыхание.
– Что это значит, Фати?
Но мы обе уже поняли. Точно такой же текст я отправила Кейт, Тее и Фатиме, когда отец позвонил и сказал, что у мамы метастазы, и теперь вопрос «если?» отпадает. Остается только вопрос «когда?».
Тот же текст отправила нам Тея, порезавшись, не в силах остановить кровь.
Случилось такое писать и Фатиме, когда ее мама попала в аварию на какой-то богом забытой пакистанской дороге. И сама Кейт, наступив однажды во время ночной «прогулки» на ржавый гвоздь, прислала нам те же слова. Всякий раз, получив это сообщение, этот своеобразный пароль, три девчонки мчались к четвертой, чтобы утешить, помочь по мере сил. И всякий раз кончалось хорошо – мама Фатимы нашлась на следующий день, живая и невредимая. Тея отправилась в травматологию, вооруженная правдоподобной легендой о происхождении пореза. Кейт, опираясь на наши плечи, кое-как дохромала до спальни, где мы промыли и заклеили пластырем ее рану.
Вместе мы все могли преодолеть. И казались себе непобедимыми. Только моя мама, медленно умиравшая в лондонской больнице, была как напоминание: нет, девочки, не всегда вы будете вот так легко справляться с проблемами.
«Ты где?» – написала я Кейт.
Ответ еще не пришел, когда мы с Фатимой услышали торопливые шаги. Кто-то спускался по винтовой лестнице. В следующий миг в спальню ворвалась Тея и выдохнула:
– Она вам тоже написала, да?
Я кивнула.
– Где она? – спросила Фатима.
– На мельнице. Что-то случилось. Она не говорит, что именно.
Я поспешно оделась, мы вылезли в окно и пустились бежать через марш.
Кейт ждала нас. Стояла на мостках, над водой, обхватив себя руками за плечи. Безо всяких расспросов, по выражению ее лица мы поняли: на сей раз случилась настоящая беда. Лицо Кейт было изжелта-белое, костяного оттенка. Глаза – красные от слез, которые она, похоже, не трудилась вытирать, – соль застыла тонкими дорожками на щеках.
Едва заметив Кейт, Тея бросилась бежать к ней. Мы с Фатимой едва успевали следом. Кейт сделала несколько нетвердых шагов по мосткам, попыталась заговорить, но голос сорвался, и она только выдохнула:
– Папа… он…
Кейт обнаружила его сама. В те выходные она нас не пригласила, придумала какую-то отговорку, а Люк завис где-то со школьными приятелями. Кейт показалось сначала, что и отца нет дома; но это было не так. Амброуз сидел на мостках в плетеном кресле, с бутылкой вина на коленях, с запиской в руке – и выглядел вполне живым. Кейт втащила его в дом и пыталась делать искусственное дыхание. Она не оставляла надежды, нет. Бог знает, сколько времени она провела над телом, сколько молитв послала к Небесам, сколько раз произнесла: «Папа, не умирай!», прежде чем сдалась, осознав весь ужас случившегося.
«Я ухожу добровольно и с миром, – было написано в записке; и Амброуз действительно выглядел удовлетворенным своим решением. Лицо было спокойное, открытое – словно он просто заснул после обеда. – Я принял это решение из любви к тебе…»
К концу записки почерк стал нетвердым, последние слова мы скорее угадали, чем прочли.
– Но… но почему? И как?.. – беспрестанно спрашивала Фатима.
Кейт молчала. Скорчилась на полу над телом Амброуза и смотрела на него неотрывно, будто надеялась: если не сводить глаз с тела, кошмарная загадка разрешится. Фатима бегала по комнате из стороны в сторону. Я сидела на диване, поглаживая Кейт по спине и пытаясь этой лаской выразить сочувствие, ведь слов подобрать не могла.
Кейт не шевелилась. Они с Амброузом стали ядром композиции под названием «Отчаяние». Впрочем, я догадалась: Кейт выплакала все слезы еще до нашего прихода. А предмет, лежавший на столе, первой заметила Тея.
– А это еще что? Откуда оно здесь?
Кейт не ответила. Я подняла взгляд. Тея держала в руках нечто похожее на жестяную коробку из-под печенья; мне в память врезался тонкий цветочный узор. Коробку эту я уже где-то видела. Точно: она всегда стояла на верхней полке серванта, загороженная банками.
На крышке был миниатюрный замочек, но кто-то сломал его, очевидно, не имея терпения возиться с ключами. Тея без труда открыла коробку. Внутри оказалась домашняя аптечка: лекарства и средства первой помощи, сложенные в кожаный футляр, увенчивал кусок пищевой пленки с остатками какого-то белого порошка. Тея случайно коснулась его, и порошок мигом пристал к ее пальцам.
– Осторожно! – взвизгнула Фатима. – А вдруг это яд? Скорее вымой руки!
Только теперь Кейт заговорила. Не поднимая головы, по-прежнему скорчившаяся, она произнесла – словно обращалась к отцу, распростертому на полу:
– Это не яд. Это героин.
– Героин? – с недоумением повторила Фатима. – Неужели Амброуз… был наркоманом?
Это казалось немыслимым. Наркоманы обычно валяются в загаженных переулках; наркоманы – это персонажи фильма «На игле». Но чтобы Амброуз… Амброуз, с его добродушным смехом, с красным вином, с неуемной жаждой творить?..
И все же мне слова Кейт не показались полным бредом. Потому что я вспомнила клочок бумаги, прикрепленный над рабочим столом Амброуза в мастерской на самом верхнем этаже. Я не раз читала написанное на этом клочке, хотя и не пыталась уловить смысл: «Завязавших наркоманов не бывает; бывают наркоманы, которые достаточно долго не развязываются».
Внезапно я поняла и смысл фразы, и причину, по которой Амброуз держал ее в поле зрения.
Почему, почему я не спросила его об этом раньше? Потому что была еще девчонкой – эгоистичной, зацикленной на себе, не вышедшей из того возраста, когда значение имеют только собственные проблемы?
– Он ведь больше не принимал, правда, Кейт? – еле выдавила я.
Кейт кивнула. Взгляд ее по-прежнему был устремлен на спокойное, будто спящее лицо Амброуза. Я приблизилась, села рядом. Кейт нашарила мою руку и заговорила едва слышным шепотом:
– Он употреблял, когда в университете учился; а вот когда мама умерла – тогда это у него вышло из-под контроля. Но он быстро взял себя в руки – еще прежде, чем я начала что-то соображать. По крайней мере, я его под кайфом не видела. Ни разу.
– Тогда почему… – начала Фатима.
Взгляд ее зафиксировался на жестяной коробке, и продолжение фразы Кейт не понадобилось.
– Я думаю… – Кейт заговорила медленно, как человек, который пытается объяснить нечто себе самому. – Я думаю, это было что-то вроде испытания… Один раз папа мне объяснял… Правда, я тогда не поняла. Он сказал, недостаточно не держать наркотиков дома. Нужно каждое утро, проснувшись, делать выбор, требовать от себя: нет, не стану. Он так делал. Оставался чистым… ради м-меня.
Ее голос дрогнул, сорвался на последнем слове, и я порывисто обняла ее, повернула к себе – лишь бы она не смотрела на Амброуза, бледного, словно воскового; на Амброуза, мирно лежавшего возле камина.
Мне хотелось спросить: «Почему?»
Но язык не поворачивался.
– Господи боже мой, – выдохнула Фатима.
Опустилась на диванный подлокотник, вся серая. Наверное, вспомнила, как всего неделю назад Амброуз, расположившись за кухонным столом, у окна, вытянув свои длинные ноги, с улыбкой зарисовывал нас, резвившихся в воде. Всего неделю назад ничто не предвещало трагедии. Вообще.
– Он умер, – медленно произнесла Фатима, как бы стараясь убедить в этом себя. – Он и правда умер.
Слова Фатимы заставили и нас с Теей проникнуться осознанием: все происходит на самом деле. От шеи вниз побежали мурашки, спину пощипывало, покалывало – наверное, мое тело таким способом пыталось удержать на плаву мой разум.
Фатима закрыла лицо руками, покачнулась. Я решила, сейчас она лишится чувств.
– Почему? – снова спросила Фатима. – Почему он это сделал?
Кейт вздрагивала в моих объятиях – наверное, каждое слово Фатимы было для нее как удар.
– Да не знает она! – сердито сказала я. – Никто из нас не знает. Хватит повторять одно и то же!
– По-моему, нам надо выпить, – вдруг вмешалась Тея и открыла бутылку виски, которую Амброуз держал на кухонном столе. Тея налила себе полный стакан, осушила его залпом и спросила:
– Кейт, выпьешь?
Поколебавшись, Кейт кивнула, и Тея наполнила еще три стакана, а себе налила вторую порцию. Я не хотела виски, я бы лучше взяла сигарету – но сама не заметила, как стакан оказался в моих руках, у моих губ. В следующее мгновение я уже глотала обжигающую жидкость. И, надо сказать, мне стало легче. Реальность – мертвый Амброуз на прикаминном коврике – как-то расплылась, отдалилась.
– Что будем делать? – спросила Фатима, когда все стаканы опустели. На ее серые щеки вернулось подобие румянца. Нетвердой рукой Фатима поставила стакан на стол. – Полицию вызовем? Или «Скорую»?
– Никакой полиции. Никакой «Скорой», – отрезала Кейт.
Ошарашенные, мы не нашлись, что возразить. В лицах Теи и Фатимы отражалось, наверное, мое собственное недоумение.
– В смысле? – переспросила Тея.
– Никто не должен знать, – убежденно заговорила Кейт. Налила себе еще виски – целый стакан – и выпила залпом. – Вы что, не понимаете? Я, как нашла его, все думала, думала: что делать? Если узнают, что мой отец умер…
Кейт замолчала и прижала руки к животу, словно она ранена и пытается остановить кровь. Заговорила она лишь через несколько минут, с большим усилием:
– Нельзя допустить, чтобы кто-нибудь пронюхал.
Голос звучал как чужой; казалось, Кейт заранее отрепетировала свою речь путем многократных повторений.
– Мне еще нет шестнадцати. Если узнают о смерти папы – меня заберут в приемную семью или отправят в приют. Тогда я потеряю дом – будто мало мне… вот этого…
Кейт, не в силах закончить, смолкла. Но она сказала достаточно. Мы все поняли. Кейт не могла в довершение к смерти отца – единственного родного человека – потерять еще и мельницу.
– Это же просто дом… – начала Фатима, но осеклась.
Кейт покачала головой.
Мельница никогда не была просто домом. Здесь царил дух Амброуза; все говорило о нем – от картин и рисунков в мастерской до застарелых винных пятен на столешнице. Вдобавок наша связь с Кейт зиждилась на мельнице. Если бы Кейт отправили в приемную семью, она разом лишилась бы и нас, и Люка. Она бы потеряла абсолютно все. Все и всех.
Сейчас наш выбор кажется нелепым. Мы не сглупили – мы совершили преступление. О чем мы только думали? Ответ прост: мы думали о Кейт.
Мы не могли вернуть к жизни ее отца; но даже сейчас, когда я, повзрослев, взвешиваю альтернативы – приемная семья для Кейт, мельница отходит к какому-нибудь банку – даже сейчас наше решение сохраняет смысл. Отнимать у Кейт родной дом – несправедливо. Амброуз мертв – это непоправимо, а Кейт жива, и в наших силах выручить ее.
– Никому не говорите, что папа умер, – попросила Кейт срывающимся голосом. – Пожалуйста. Поклянитесь, что не скажете.
Мы поклялись по очереди, все три. Но Фатима продолжала хмуриться.
– И все-таки… что нам делать? Нельзя же… нельзя же его так оставить?
– Мы его похороним, – произнесла Кейт.
Повисло молчание. Шокированные, мы медленно, очень медленно осознавали смысл ее слов. Помню, как похолодели мои руки, несмотря на удушающую жару. Помню, как всматривалась в бледное, искаженное лицо Кейт и думала: «Кто ты? Кто?»
Ее слова, однако, странным образом обозначили единственно правильный выбор. Действительно, что еще нам оставалось делать? Сейчас мне хочется хорошенько встряхнуть ту девчонку – пьяную, ошарашенную, согласившуюся на безумный поступок. Но тогда… Была ли у нас альтернатива?
Да сотня альтернатив, и каждая – лучше, чем сокрытие мертвого тела и погружение во вранье длиною в жизнь.
Ни одна альтернатива, впрочем, не казалась нам подходящей, когда мы слушали Кейт, стоя над мертвым Амброузом и глядя друг другу в глаза.
– Тея, что скажешь? – спросила Кейт, и Тея кивнула – правда, не слишком уверенно, и вскинула руки к лицу.
– По-моему, больше ничего не остается.
– Нет, невозможно, – произнесла Фатима, явно не веря собственному утверждению. Так говорят люди, которые только пытаются сжиться с реальностью. – Должен быть другой выход. Неужели ничего нельзя сделать? Давайте деньги соберем, а?
– Дело не только в деньгах, – сказала Тея и запустила пальцы в свои длинные волосы. – Кейт всего пятнадцать. Ей не позволят жить одной.
– Но это же безумие, – с отчаянием в голосе упиралась Фатима, глядя на нас по очереди. – Кейт, пожалуйста, дай мне позвонить в полицию.
– Даже не думай, – резко сказала Кейт. В ее лице смешались отчаянная мольба и упрямство.
– Я ведь не прошу вас хоронить его. Не можете – не надо, сама справлюсь. Вы, главное, в полицию не звоните. Я сама позвоню, клянусь. Позвоню и скажу, что папа пропал. Только не сейчас.
– Но он же умер! – всхлипнула Фатима.
И тут в Кейт будто пружина лопнула. Схватив Фатиму за руку, Кейт закричала:
– А я, по-твоему, слепая, да?! Сама не вижу?! – В голосе было столько отчаяния, что я невольно подумала: хоть бы никогда больше мне не видеть таких несчастных людей! – Именно поэтому выход только один…
На миг мне показалось, что Кейт сейчас окончательно потеряет контроль над собой. Возможно, это принесло бы облегчение всем нам. Если бы Кейт начала рыдать, истерически звать отца – словом, сопротивляться молоту судьбы, который на нее обрушился… Но Кейт сдержалась. Больших усилий ей стоило обуздать эмоции. Кейт выпустила руку Фатимы. Лицо ее приняло спокойное выражение.
– Поможете мне, девочки? – спросила Кейт.
И мы, одна за другой – сначала Фатима, затем Тея, наконец, я, – согласно кивнули.
О, мы проявили максимум почтения. Мы завернули мертвого Амброуза в клеенку, понесли на его любимое место – на мыс в нескольких сотнях ярдов вниз по течению Рича. Оттуда открывался лучший вид; там Амброуз, бывало, часами рисовал. А главное – шоссе кончалось, не доходя до мыса, и машины туда не ездили, да и люди редко ходили – разве что появится собачник со своим питомцем или приплывет рыбацкая лодка.
Там, среди тростников, мы вырыли могилу. Мы копали по очереди одной-единственной лопатой, каждая из нас сменялась, лишь когда начинало ломить руки и спину. И мы опустили в эту могилу Амброуза.
Кровь стынет, как вспомню. Никакой скорбной торжественности, как на обычном кладбище во время обычных похорон. Амброуз оказался ужасно тяжелым, а могилу мы вырыли слишком узкую и слишком глубокую. На дне была глинистая жижа, тело шлепнулось в нее, издав звук, похожий на пощечину. До сих пор я слышу его в ночных кошмарах.
Амброуз упал лицом вниз. Позади меня Кейт всхлипнула, сглотнула, подавляя рвоту, и опустилась на колени, спрятав лицо.
– Давайте зарывать, – резко сказала Тея. – Где лопата?
Шлеп. Полная лопата мокрого песка обрушилась на мертвое тело. И снова: шлеп, шлеп.
Фоном служили шорох морских волн и всхлипывания Кейт. Она плакала без слез. Лишь эти звуки говорили нам, что все происходит на самом деле.
Наконец могила была засыпана. Прилив затопил наши следы, зализал рану, нанесенную нами дюнам. С изорванной клеенкой, не давая Кейт отстать, спотыкаясь и поддерживая друг друга, мы двинулись домой. Отныне нам предстояло жить с тем, что мы только что совершили.
До сих пор во сне я слышу характерные звуки и просыпаюсь словно от шороха лопаты по песку; до сих пор в голове не укладывается наш поступок. Я так отчаянно пыталась убежать от воспоминаний, я их отталкивала, топила в алкоголе, забивала ежедневными мелкими хлопотами.
Как? Это слово звенит в ушах. Как мы до этого додумались? С чего взяли, будто это правильно? Почему решили, что нашли выход для Кейт?
И главное: как жить дальше – с этими воспоминаниями, с мыслью о выборе, сделанном в панике и на глупую, пьяную голову?
Но тогда, семнадцать лет назад, в моей глупой и пьяной голове крутилось другое слово. Всю ночь мы курили, пили и плакали на диване в гостиной Кейт; мы обнимали Кейт, мы вместе с ней дождались восхода луны, приведшей прилив, который смыл все улики.
Почему?
Почему Амброуз это сделал?
Ответ мы нашли на следующее утро.
Мы планировали пробыть на мельнице до понедельника – поддержать Кейт, утешить в горе; но, едва часы, висевшие между высоких окон, пробили четыре утра, Кейт затушила сигарету и вытерла слезы.
– Возвращайтесь в школу, девочки.
– А как же ты? Кейт, мы останемся, – возразила Фатима.
– Вам нужно идти. Вы ведь не отпрашивались. И вообще, на случай, если… если…
Кейт замолчала.
Мы поняли ее без слов. Она была права, поэтому, едва забрезжил рассвет, мы, чуть живые от похмелья покинули мельницу. Наши спины и руки ныли от работы лопатой, но еще сильнее ныли сердца при взгляде на Кейт. Мы оставили ее, скорчившуюся в уголке дивана, бледную, без надежды уснуть.
Была суббота, а значит, забравшись под одеяло и отгородившись шторами от яркого утреннего света, я имела полное право не заводить будильник. По субботам к завтраку не созывали кошмарным звонком, не проверяли, в комнатах мы, на корте или где-нибудь еще. Вполне можно было не выходить из спальни до ланча, а то и вовсе самим приготовить тосты в общей гостиной – пользоваться тостером нам разрешалось, ведь мы закончили пятый класс.
Но в ту субботу поспать не вышло. Рано утром в дверь постучали, и почти сразу же послышался скрежет – это мисс Уэзерби решила воспользоваться запасным ключом. Когда она ворвалась в спальню, когда рывком отдернула шторы, мы с Фатимой под красными войлочными одеялами зажмурились, недоуменно заморгали.
Мисс Уэзерби ничего не сказала. Но ничего и не укрылось от ее зоркого глаза – ни джинсы, все в сыром песке, брошенные мною на стул, ни сандалии с пластами глины, ни наши «усы» от красного вина, ни запах перезрелой вишни, выдававший жестокое похмелье двух девчонок, сочившийся, казалось, даже из их пор…
Фатима, щурясь от яркого света, попыталась сесть в постели, собрать волосы. Я переводила взгляд с нее на мисс Уэзерби. Чутье говорило: «Все очень плохо» – и сердце поднималось прямо к горлу.
– Что случилось? – спросила Фатима.
Голос на последнем слоге дрогнул. Осознание ситуации пришло к Фатиме в тот же миг, что и ко мне. Мисс Уэзерби покачала головой и бросила:
– Жду вас в кабинете через десять минут.
Развернулась по-военному и вышла из спальни, оставив нас с Фатимой одних – перепуганных, не смеющих озвучить свои страхи.
Оделись мы за рекордное время, хотя пальцы, застегивая блузку, дрожали от страха и похмелья. На душ не было ни минуты, но мы успели умыться и почистить зубы. Я вдобавок пыталась замаскировать гнусный сигаретный запах – остервенело орудовала зубной щеткой, сдерживая позывы на рвоту.
Наконец мы закрыли за собой дверь спальни. Казалось, на сборы ушла целая вечность. Сердце у меня так сильно колотилось, что я не расслышала шагов по винтовой лестнице. А это спешила вниз Тея – бледная, с обгрызенными до мяса ногтями.
– Уэзерби, да? – спросила она.
Фатима кивнула. Ее глаза наполнились слезами.
– Что будем го… – начала Тея.
Но мы успели спуститься, и на нас таращились на ходу первоклашки, которые шли куда-то парами. Наверное, недоумевали, почему мы такие бледные, почему у нас трясутся руки.
Фатима покачала головой – дескать, тише – и мы поспешили в главный холл, и с последним ударом часов достигли кабинета мисс Уэзерби. Часы показывали ровно девять.
«Нужно придумать легенду», – мелькнуло у меня. Увы, было поздно. Мы не успели постучаться в кабинет, но прошло как раз десять минут, отведенных нам мисс Уэзерби. Из-за двери слышался шум – мисс Уэзерби складывала канцелярские принадлежности, двигала стул…
Мои руки совсем заледенели, меня сильно трясло. Покосившись на Фатиму, я поняла: ее вот-вот вывернет. Или она лишится чувств.
У Теи, наоборот, вид был воинственный – как перед битвой.
– Отвечайте односложно, – зашептала Тея.
Изнутри взялись за дверную ручку.
– Только «да» или «нет». Никаких подробностей. Мы ничего не знаем про Ам…
Тут дверь распахнулась, и нас загнали в кабинет.
– Ну?
Одно-единственное слово, а какой подтекст! Мы втроем сидели напротив мисс Уэзерби, я краснела – не от стыда, но от чувства, похожего на стыд. Справа от меня Тея, мертвенно бледная, смотрела в окно со скучающим видом, словно ее вызвали для обсуждения утерянных хоккейных клюшек и новых бейджиков. Но пальцы Теи, прикрытые длинными рукавами рубашки, нещадно терзали сухую кутикулу.
Фатима даже не пыталась изобразить спокойствие. Взгляд у нее был затравленный, она сидела на самом краешке стула, словно пыталась сжаться до микроскопических размеров. Словом, Фатима являла собой яркую иллюстрацию моего внутреннего состояния. Волосы все время падали ей на лицо – казалось, Фатима за этой завесой прячет страх. Она их вовсе не поднимала, смотрела строго на свои коленки.
– Ну? – повторила мисс Уэзерби, и на сей раз в голосе послышался гнев. Рука мисс Уэзерби застыла над стопкой каких-то бумаг, словно брезгуя к ним прикоснуться.
Я покосилась на Тею, потом на Фатиму. Обе молчали, поэтому я сглотнула и начала:
– Мы… мы не сделали ничего такого…
На последнем слове голос меня подвел – потому что это была ложь. Мы сделали, только, кажется, мисс Уэзерби обнаружила за нами совсем другую провинность.
Бумаги, на которые она указывала, были рисунками. Набросками. Портретами. С них смотрели мы – я, Фатима, Тея, Кейт. Я всегда позировала Амброузу совершенно спокойно. Однако мисс Уэзерби так разложила рисунки, что я почувствовала: мы не просто голые, мы выставлены на торги.
Вот Тея зависла посреди Рича – легла на спину, закинула за голову руки, расслабилась. Вот Кейт готовится нырнуть с мостков – тоненькая, долговязая, этакий луч нежной плоти, бледный на акварельном фоне моря. Вот Люк, обнаженный, загорает на мостках – глаза закрыты, хитрая улыбка чуть тронула губы. Вот мы, впятером, затеяли ночное купание; лунный свет пятнает обнаженные тела, еще сильнее сплетая наши длинные руки и ноги, и кажется, даже слышен смех, и легкие карандашные тени скользят по лунной дорожке…
Я переводила взгляд с одного рисунка на другой – и сцены, на них запечатленные, оживали. Я физически ощущала и прохладу воды, и солнечное тепло…
На последнем рисунке, на том, что лежал ближе всех к руке мисс Уэзерби, была изображена я. Дыхание перехватило, щеки запылали.
– Ну? – в третий раз произнесла мисс Уэзерби, и голос ее дрогнул.
Рисунки кто-то отбирал намеренно – это, во всяком случае, было очевидно. Амброуз оставил сотни наших портретов, изображал нас на диване – в пижамах, за завтраком – в банных халатах, на зимней прогулке по заиндевевшим маршам – в сапогах и перчатках. Но здесь, на столе мисс Уэзерби, находились только самые компрометирующие рисунки – те, где мы были запечатлены обнаженными или казались таковыми.
На этом, последнем, я наклонилась вперед – красила ногти на ногах. Амброуз сумел ухватить каждую трогательную деталь, например, изгиб спины с клавишами позвонков – столь четко прорисованных, что хотелось их погладить. В тот день я была в сарафане на лямках, завязанных узлом; я помню, как солнце жарило между лопаток, как врезался узел в шею, как бил в ноздри химический запах розового лака для ногтей. Но Амброуз изобразил меня сидящей спиной к зрителю, с распущенными, скрывающими лямки сарафана волосами. Значит, этот конкретный рисунок выбрали за производимую им иллюзию моей наготы, а не за самую наготу; значит, выбиравший торопился.
Кто мог это сделать? Кто желал очернить Амброуза, довести до самоубийства, а вместе с ним уничтожить и нас?
«Ничего вы не понимаете!» – вот что мне хотелось крикнуть. Ясно, о чем подумала мисс Уэзерби – любой бы об этом подумал при взгляде на рисунки. Но она ошиблась. Чудовищно ошиблась.
Я едва сдержалась, чтобы не прорыдать: «Все было не так!»
Мы ничего не сказали. Мисс Уэзерби долго распространялась о личной ответственности и о солтенских правилах поведения; снова и снова требовала назвать имя.
Мы молчали.
Она знала это имя и без нас. Никто так рисовать не умел – кроме, разве что, Кейт. Просто Амброуз редко когда подписывал наброски; возможно, мисс Уэзерби казалось – если она вынудит нас произнести вслух его имя, то…
– Запираемся, значит? Так-так-так. Может, сообщите, где были сегодня ночью? – наконец процедила мисс Уэзерби.
Мы молчали.
– У вас не было разрешения покидать стены школы, но вы это сделали. Имеется свидетель.
Мы молчали. Сидели плечом к плечу, надеялись, что молчание спасет нас. Мисс Уэзерби сложила руки на груди. Мучительная пауза становилась невыносимой. Фатима с Теей тайком переглянулись: сколько мы еще продержимся?
Раздался стук в дверь, нарушив тишину. Мы дружно вздрогнули, одновременно повернули головы. Дверь открылась, и вошла мисс Рурк с большой коробкой в руках.
Кивнув мисс Уэзерби, она вывалила на стол содержимое коробки. Тогда-то Тея и сорвалась. Ее голос звенел от бешенства:
– Вы в наших вещах рылись? Как копы?
– Тея! – прикрикнула мисс Уэзерби.
Но было поздно. Они располагали вещдоками – и какими! Из коробки на стол выпали: плоская фляжка Теи, мои сигареты и зажигалка, пакет травки, принадлежавший Кейт, наполовину опорожненная бутылка виски, которую Фатима держала под матрацем, а еще упаковка презервативов, диск с эротическим фильмом «История О», ну и всякая мелочь. Иными словами, улик против нас было хоть отбавляй.
– Выбора нет, – произнесла мисс Уэзерби. – Все эти… вещи я вынуждена буду показать мисс Армитейдж. Учитывая, что большая часть этой мерзости была обнаружена у Кейт Эйтагон, я бы хотела знать: где она сама?
Молчание.
– Где Кейт Эйтагон? – завопила мисс Уэзерби. Это было так неожиданно, что мне на глаза навернулись слезы.
– Мы за ней не следим, – с презрением бросила Тея. Отвела взгляд от окна, уставилась на мисс Уэзерби. – А тот факт, что вам неизвестно местнонахождение одной из учениц, немало говорит о репутации школы. Не так ли, мисс Уэзерби?
Повисла долгая пауза.
– Вон отсюда, – наконец прошипела мисс Уэзерби. – Убирайтесь. Идите в свои комнаты и ждите там, пока я пришлю за вами. Обед вам принесут. Запрещаю вам говорить с другими девочками. Сейчас позвоню вашим родителям.
– Но… – начала было Фатима дрожащим голосом.
– Хватит! – снова крикнула мисс Уэзерби.
Внезапно я поняла: ее положение едва ли не хуже нашего. Все произошло во время ее дежурства; пусть пока толком неизвестно, что именно, но мисс Уэзерби рискует карьерой – то есть мы с ней в одной лодке.
– У вас еще будет возможность высказаться. Поскольку вы игнорировали мои вопросы, я не собираюсь выслушивать ваши возражения. Ступайте в спальни, думайте над своим поведением. Думайте, как станете объясняться с мисс Армитейдж – и с родителями, которых мисс Армитейдж, несомненно, вызовет.
Она прошла к двери, распахнула ее – выметайтесь. Ее пальцы на дверной ручке чуть заметно дрожали. Друг за другом, не нарушив молчания, мы вышли из кабинета и переглянулись лишь в коридоре.
Что случилось? Как рисунки попали к классной наставнице? Что мы натворили?
Одно было ясно. Наш мир рухнул, и Амброуз оказался погребен под обломками.
Уже поздно. Занавески – пусть почти прозрачные, но все-таки материальные – задернуты. Лиз, наверное, давным-давно дома – ее забрал отец. Кейт, впервые на моей памяти, закрыла за ними дверь на замок. А я рассказала о разговоре с Джесс Гамильтон.
– Откуда они узнали? – в отчаянии повторяет Фатима.
Мы сидим на диване в обнимку. Фрейю я не спускаю с рук. Тея смолит сигареты одну за другой, прикуривает от собственных бычков, дышит дымом на всех нас – но у меня язык не поворачивается сказать ей, чтобы шла курить на улицу.
– А откуда обычно узнают? – фыркает Тея. Ее длинная, холодная, как лед, нога прижата к моему бедру.
– Я думала, нас выгнали по-тихому именно для того, чтобы не афишировать произошедшее. Разве не так?
– Вроде так, – вздыхает Кейт. – Просто школьные сплетни мигом распространяются. Может, кто из преподов сболтнул за столом… или чьи-нибудь родители докопались.
– А где сейчас рисунки? – спрашивает Тея. – Ну, те, за которые нас… того? Думаю, их уничтожили. Наверняка мисс Армитейдж позаботилась, чтобы никто на них случайно не наткнулся. Это было и в наших интересах.
– Ну, с теми рисунками понятно, – говорю я. – А куда делись другие, которые были на мельнице?
– Я их сожгла, – твердо отвечает Кейт. Впрочем, ее глаза на долю секунды вспыхивают – возможно, она лжет.
Именно она тогда нас спасла – если, конечно, это можно назвать спасением; если нас вообще можно было спасти. Кейт появилась в школе воскресным утром – бледная, но уверенная в себе. Мисс Уэзерби ее поджидала. Кейт прошла прямо в директорский кабинет и пробыла там очень долго.
Едва она вышла, мы окружили ее, начали расспрашивать. Кейт мотала головой, словно наши вопросы были подобны назойливым чайкам. Кейт кивнула на башню – подождите. Все скажу, только не здесь.
Когда мы наконец остались вчетвером, Кейт, упаковывая чемодан, действительно все сказала.
Директрисе она соврала, что рисовала нас сама.
Не знаю, поверила ей мисс Армитейдж или подумала: «Врет, мерзавка, но лучше такая версия, чем никакой». То, что рисунки выполнены Амброузом, сомнений не было; всякий, кто не слеп, сразу бы это определил. У Кейт стиль совсем другой – свободные линии, размах, почти без внимания к деталям, свойственного стилю Амброуза.
Впрочем, при желании Кейт легко подделывает отцовский стиль; возможно, ей пришлось что-нибудь нарисовать прямо в директорском кабинете, для убедительности. Не знаю. Никогда не спрашивала. Директриса с классной наставницей поверили Кейт или сделали вид, что поверили, – этого было достаточно.
А нам все равно пришлось покинуть Солтен-Хаус. Вопрос иначе и не стоял. Самовольные отлучки, вдобавок – ночные; спиртное и сигареты, у нас обнаруженные, уже сами по себе тянули на эффект разорвавшейся бомбы. Рисунки – даже если допустить, что их выполнила Кейт, – произвели эффект ядерной бомбы.
Получалось, мы заключили с Солтен-Хаусом молчаливое соглашение. Наша задача была – убраться по-тихому и помалкивать о случившемся. Для нашей же пользы.
Так мы и поступили.
Экзамены были уже сданы, и, хотя до летних каникул оставались считаные недели, мисс Армитейдж нас выставила. В двадцать четыре часа, не дотерпев даже до выходных. Первой уехала Кейт – помню, как она укладывала вещи в багажник такси, помню бледное, застывшее лицо. Затем тетя и дядя увезли заплаканную Фатиму. Третьим приехал отец Теи – шумный, чересчур общительный. Последним был мой отец, почти до неузнаваемости посеревший от горя.
Он меня не упрекал. Но молчание во весь бесконечный путь до Лондона было тяжелее любых упреков, любых нотаций.
Итак, нас разлучили. Мы разлетелись, как птицы. Желание Фатимы исполнилось – она уехала в Пакистан, к родителям. Тею определили в одно швейцарское заведение, нечто среднее между институтом благородных девиц и изолятором для несовершеннолетних правонарушителей. Здание окружали высокие стены, на окнах были решетки, об индивидуальном подходе к воспитанницам и речи не шло. Меня же отправили в Шотландию, в школу-пансион – столь отдаленную, что при ней даже имелась отдельная железнодорожная станция, пока на нее не обрушился топор Бичинга[10].
Не уехала с побережья только Кейт; но, похоже, дом стал для нее тюрьмой в не меньшей степени, чем для Теи – швейцарский «институт». Разве что решетки на окнах были виртуальные – и самодельные.
Мы ей писали; я лично отправляла по письму в неделю. Отвечала Кейт от случая к случаю, кратко и чуть ли не раздраженно; из этих писем я узнавала об изнурительных попытках свести концы с концами, о тоске по нашей компании. Сначала Кейт жила продажей отцовских картин; когда же картины закончились – стала писать «под Амброуза». Я своими глазами видела в одной лондонской галерее эстамп, подписанный «А. Эйтагон». Могу поклясться, что Амброуз к нему отношения не имел.
О Люке я знала только, что он вернулся во Францию. Кейт жила одна, считая недели до шестнадцатилетия, выкручиваясь, придумывая ответы на вопросы: «А где папа?», «Куда делся Амброуз?». Она понимала: чем дольше остается неизвестно, что с Амброузом, тем сильнее уверенность в его преступлении, о вероятности которого и так уже давно шептались в деревне.
Конечно, мы написали Кейт в день ее рождения, заверили в своей преданности. И на этот раз Кейт ответила:
«Сегодня мне исполнилось шестнадцать, и знаешь, Айса, с какой мыслью я проснулась? Я подумала не о подарках, не об открытках – они мне не светили. Я подумала: наконец-то можно заявить в полицию, что он пропал».
Вчетвером мы собирались только раз – на маминых похоронах. Был тусклый весенний день восемнадцатого года моей жизни.
Я не ждала, что девочки приедут. Надеялась – да, не отрицаю. Отправила им письма по электронке, с датой и временем похорон, но безо всяких просьб. А они приехали. Я увидела их, едва наше такси свернуло к крематорию – три темных силуэта под дождем, сплетение рук-ветвей. Судорожно дернула дверцу автомобиля. Раздался визг тормозов, шины прошуршали по гравию, перепуганный таксист произнес:
– Извините, сэр. Откуда мне было знать, что ваша дочка… А то бы я остановился.
– Не волнуйтесь, – ответил отец. – Поезжайте дальше. Она сама доберется.
Мотор вернулся к жизни, такси растворилось в дожде.
Не помню, что мы говорили друг другу. В памяти остались объятия – и дождевые капли, что катились по моим щекам, мимикрируя под слезы. А еще – ощущение, будто лишь эти три девушки, единственные в мире, способны заполнить пространство, которое раньше занимала мама. Мне казалось, они – моя семья.
А потом мы расстались. На долгих пятнадцать лет…
– Так он знает?
Голос Теи, хриплый от сигаретного дыма, наконец-то раскалывает молчание. Слишком долгое – свечи успели превратиться в огарки, прилив достиг максимума и уже отступает.
Кейт поворачивает голову. Все это время она неотрывно смотрела на темные воды Рича.
– Кто знает и что знает?
– Люк. В смысле, я понимаю, ему что-то известно – но что? Ты рассказывала Люку о нашем… о нашем поступке?
Кейт вздыхает, давит окурок на блюдце, качает головой:
– Нет, не рассказывала. Я вообще никому не рассказывала о том, что мы… мы…
Кейт умолкает, не в силах договорить.
– Мы – что? Давай, скажи это вслух, – повышает голос Тея.
– Мы спрятали мертвое тело.
Фраза, произнесенная так грубо и обыденно, вызывает шок. Сколько лет мы ходили вокруг да около, не решаясь дать содеянному единственно верное название – и вот взглянули правде в глаза.
Мы ведь именно это сделали – утаили, спрятали мертвое тело; да только обвинение на суде будет звучать иначе. Вот так: «Препятствование подобающему захоронению мертвого тела». Мне прекрасно известны и формулировка, и вероятный приговор. Я неоднократно тайком, дрожащими пальцами, открывала Уголовный кодекс, маскируя его какой-нибудь книжкой, читала и перечитывала соответствующую статью. Пожалуй, обвинений будет несколько. Вот второе: «Незаконное перемещение мертвого тела с целью воспрепятствовать работе патологоанатома». Впервые наткнувшись на эту фразу, я горько усмехнулась: о вскрытии у нас тогда и мыслей не было. Кажется, я и слова такого не знала – «патологоанатом».
Не для того ли я пошла на юридический факультет, чтобы быть во всеоружии, если… если все всплывет? Заранее знать, что нам грозит?
– Так он в курсе? – повторяет Тея, каждое слово подкрепляя ударом кулака по столу, заставляя меня вздрогнуть три раза подряд.
– Нет, он не в курсе. Но подозрения у него есть, – сознается Кейт. – Причем уже очень давно. А теперь, после газетной статьи, они, конечно, усилились. Люк винит меня – точнее, всех нас – в том, что ему пришлось вынести, находясь во Франции. Это полная чушь, но…
Чушь? Неужели? Вот что известно Люку: его обожаемый приемный отец бесследно исчез, спустя семнадцать лет его тело обнаружили в дюнах, и мы четверо к этому каким-то образом причастны. По-моему, вовсе не чушь – винить и подозревать нас.
Я перевожу взгляд на Фрейю, которая ангельски умиротворенно спит на моих коленях. Вновь вижу пунцовое зареванное личико. Во мне поднимается ярость. Разве нормальный, адекватный человек потащил бы чужого плачущего младенца через марши?
Господи, не знаю. Я уже ничего не знаю. Понятие о рациональности я утратила давным-давно – пожалуй, в ту самую ночь, на мельнице, рядом с мертвым Амброузом.
– Может он… сообщить? – выдавливаю я.
Слова застревают в горле будто намазанные клеем.
– Он грозил это сделать. Говорил, что позвонит в полицию, – со вздохом сознается Кейт. В слабом свете лампы ее лицо кажется изможденным, тени слишком глубоки, слишком резки. – Кто его знает? Я лично не думаю, что Люк станет нас закладывать. Если бы хотел – давно бы заложил.
– А как же овца? – спрашиваю я. – Как же записка? Разве это не его рук дело?
– Не знаю. – Голос у Кейт ровный, но ясно: вот-вот он может сорваться, ведь слишком долго она несет это бремя. – Трудно сказать. Мне подобные «послания» уже приходили. – Сглотнув, Кейт уточняет: – Неоднократно.
– Как долго? – вскидывается Фатима. – Речь идет о неделях? О месяцах?
Кейт поджимает губы. Тонкие, дрожащие, они выдают ее прежде, чем она успевает заговорить.
– О месяцах. Точнее… о годах.
– Господи боже мой.
Тея закрывает глаза, ее ладонь взлетает к лицу.
– Почему ты нам не говорила?
– А зачем? Чтобы вместе бояться? Вы мне тогда помогли, а это уже мой крест.
– Кейт, Кейт, как же ты выдерживаешь? – шепчет Фатима.
Обеими руками она берет тонкую, перепачканную красками руку Кейт; в свете свечей вспыхивают два бриллианта в двух кольцах – помолвочном и обручальном.
– В смысле, как ты выдерживаешь все это… одна? Мы тогда уехали, а ты осталась. Как ты выжила?
– Тебе это отлично известно.
Нижняя челюсть напрягается, когда Кейт, сглотнув, произносит эти слова:
– Сначала продавала папины работы, затем, когда они кончились, стала рисовать в его стиле. В досье на меня Люк при желании мог бы включить сведения о фальсифицировании.
– Да я не об этом. Я хотела спросить – как ты сумела не тронуться рассудком? Совсем одна, дом на отшибе… Тебе, наверное, страшно было?
– Нет, – тихо возражает Кейт. – Страшно мне никогда не было… А что до остального… Не знаю, может, рассудок и не выдержал вовсе. Может, я все-таки рехнулась.
– Мы все рехнулись, – перебиваю я. Ко мне обращены три пары глаз. – Все. То, что мы сделали, нормальный человек делать не стал бы…
– У нас не было выбора, – возражает Тея. От напряжения кожа на ее скулах натянута.
– Нет, был! Был! – кричу я.
Я в ужасе, я словно впервые осознала содеянное. Приступ паники охватывает меня. Знакомое ощущение – с ним я неоднократно просыпалась среди ночи, выныривала из кошмара о мокром песке и лопате. С ним, наяву, прочитывала газетные заголовки о людях, утаивших трупы. Мое тело обмякает, руки как ватные.
– Господи, да вы что, не понимаете? Если все откроется – меня вышвырнут с работы. Это правонарушение, преследуемое по обвинительному акту. С таким багажом на карьере юриста можно поставить жирный крест. С Фатимой будет то же самое. Кому нужен врач, утаивший труп? Мы влипли, вот в чем правда. Нам светит тюрьма. И тогда… тогда у меня отберут мою… – Горло сдавливает спазм, словно кто-то уже накинул на меня обмыленную петлю. – У меня отнимут Ф-Фр…
Не могу произнести это имя. Поднимаюсь с дивана, с Фрейей на руках подхожу к окну. Кажется, сила моей любви такова, что ее заметят даже полицейские, заметят и проникнутся, и оставят Фрейю со мной.
– Айса, успокойся, – произносит Фатима, подходя ко мне. Но лицо у нее перекошено страхом, что вовсе не помогает успокоиться. – Мы были тогда почти детьми. Есть же разница, взрослый или подросток совершает преступление? Ты юрист – должна знать.
– А я вот не знаю. – Помимо моей воли пальцы впиваются в теплое тельце Фрейи. – Уголовная ответственность наступает с десяти лет. Нам было гораздо больше.
– А срок давности? – не сдается Фатима.
– Срок давности связан с административной ответственностью. Вряд ли он распространяется и на уголовные дела.
– Вряд ли? То есть наверняка ты не знаешь?
– Не знаю! – В моем голосе звучит отчаяние. – Я, Фатима, адвокат по гражданским делам. Мы подобные дела не рассматриваем.
Фрейя хнычет во сне. Еще бы – я так сильно ее стиснула. Спохватываюсь, ослабляю хватку.
– Это серьезно? – уточняет Тея.
Она терзала свою несчастную кутикулу, и теперь вокруг ногтей выступила кровь. Тея сует палец в рот, посасывает.
– В смысле, если все откроется – мы пропали, да? Не в суде даже дело – нас добьют таблоиды. Они такого случая не упустят.
– Проклятье! – На миг Фатима закрывает лицо руками, затем ее взгляд падает на часы. – Это что, уже два? Мне надо наверх.
– Так ты утром уезжаешь? – спрашивает Кейт.
Фатима кивает:
– Да. Никак не могу задержаться. На работу надо.
На работу. Неожиданно для себя издаю истерический смешок. Надо на работу. Надо к Оуэну. Странно – я даже лицо его забыла. Оуэн – лишний в нашем мирке; он никак не связан с нашим прошлым. Как я вернусь, как посмотрю в его глаза, если не в силах заставить себя даже сообщение ему написать?
– Конечно, – соглашается Кейт и делает попытку улыбнуться. – И спасибо, что навестила меня. Всем вам спасибо, девочки. Вечер встречи позади, и вам лучше разъехаться. Чтобы не вызвать подозрений. А вообще Фатима права – нам действительно пора спать.
Кейт встает с дивана, Фатима поднимается по скрипучей лестнице. Кейт задувает свечи, гасит лампу. Я стою между двух окон, слежу, как Кейт убирает бокалы. Крепко держу Фрейю. Мне совершенно не до сна. Однако поспать надо – иначе завтра не будет сил на заботы о Фрейе, на обратную дорогу.
– Спокойной ночи, – произносит Тея, поднимаясь. Под мышкой у нее зажата бутылка, словно это у нее в порядке вещей. Похоже, Тея всегда в постель с бутылкой ложится.
– Спокойной ночи, – отзывается Кейт и задувает последнюю свечу.
И вот мы – в полной темноте.
Кладу Фрейю, сонную и потому отяжелевшую, на середину большой двуспальной кровати (когда-то на ней спал Люк). Иду в ванную, чищу зубы. Рухнуть бы сейчас в постель – но на зубах и языке налет.
Затем начинаю стирать тушь ватными дисками. Тонкая кожа вокруг глаз разглаживается от механического воздействия – однако обвисает, едва я убираю руку. Былой эластичности нет. Неважно, о чем я думала, входя сегодня вечером в школьные стены; неважно, что чувствовала – я больше не та, не прежняя девчонка. То же самое можно сказать о Кейт, Фатиме, Тее. Мы стали старше почти на два десятилетия; слишком долго мы влачили тяжкое бремя.
Умывшись, возвращаюсь в спальню. Крадусь на цыпочках – Фрейя спит, остальные, наверное, тоже; не хочу их тревожить. Из-под двери, ведущей в комнату Фатимы, пробивается полоска света. Останавливаюсь, уловив невнятное бормотание.
Сначала мне кажется, что Фатима говорит по телефону с Али; сразу становится неловко перед Оуэном. В следующий миг я вижу через щель, как Фатима поднимается с колен и сворачивает небольшой коврик. Ну конечно! Она молилась.
Ощущение, будто я вторглась в чужую жизнь. Делаю шаг от двери. Поздно: Фатима либо расслышала шум, либо заметила тень. Шепотом она спрашивает:
– Это ты, Айса?
– Я.
На пару дюймов приоткрываю дверь ее спальни.
– Из ванной шла. Не подглядывала, не думай.
– Я и не думаю.
Фатима аккуратно кладет молитвенный коврик на кровать. На лице у нее нечто вроде умиротворения, которого не наблюдалось в гостиной.
– И вообще, я ничего предосудительного не делала, – добавляет Фатима.
– Ты каждый день молишься, Фати?
– Да, по пять раз. В смысле, когда я дома – то по пять. А в поездках – как получится.
– Пять раз? – Вдруг понимаю, как постыдно мало мне известно о ее вере. – Хотя да… Со мной работают несколько мусульман, и они…
Что-то мешает договорить. Фатима – моя подруга, одна из лучших, из самых давних и самых верных, – а я почти ничего не знаю о ее жизненных ценностях. Что же, заново искать к ней путь?
– Сегодня я припозднилась, – с сожалением объясняет Фатима. – Ишу, то есть ночной намаз, следовало совершить часов в одиннадцать. Совсем потеряла счет времени.
– А это принципиально? – спрашиваю я с видом полной невежды.
Фатима пожимает плечами:
– Желательно каждый намаз совершать в установленное время. Но считается, если забудешь по объективным причинам, Аллах простит.
– Фатима… – начинаю я и сама себя обрываю: – Ладно, забудь.
– Что конкретно забыть?
Делаю вдох. Нет уж, хватит нелепых вопросов, хватит грубых вторжений в жизнь Фатимы. Прижимаю ладони к глазам.
– Пустяки, Фати.
И вдруг неожиданно для себя с жаром спрашиваю:
– Фатима, как ты думаешь, – он нас простит? В смысле, тебя? Аллах?
– За то? – уточняет Фатима.
Киваю.
Она садится на кровать, начинает заплетать косу. Есть в привычных движениях ее ловких пальцев что-то успокаивающее.
– Очень на это надеюсь. Коран учит, что Аллах прощает все грехи, если грешник искренне раскаялся. Мне еще каяться и каяться; но, что касается моего соучастия, я очень стараюсь искупить тот грех.
– Что мы натворили, Фатима? – шепчу я.
Вопрос не иронический и не риторический: я действительно вдруг перестала понимать смысл наших действий. Если бы меня спросили семнадцать лет назад, я бы ответила: мы пытались спасти подругу. Десять лет назад сказала бы, что мы совершили непростительную глупость, из-за которой я ночами не сплю, все боюсь, что труп обнаружится, что меня вызовут в полицию и станут допрашивать.
Но сейчас… когда труп действительно обнаружен, а допрос в полиции сулит попасть в ловушки, о которых мы и не подозреваем, – сейчас я совсем запуталась.
В одном я уверена: мы совершили преступление. Но вдруг наша вина не только в сокрытии трупа? Что, если это из-за нас Люк изменился до неузнаваемости?
Быть может, мы совершили преступление не против Амброуза, а против его детей.
Об этом я думаю, пробираясь на ощупь в комнату Люка. Эта мысль не отпускает меня, лежащую в его постели, глядящую, поверх головки Фрейи, в темный потолок. Снова и снова я спрашиваю себя: «Неужели в том как изменился Люк, виноваты именно мы?»
Закрываю глаза – и присутствие Люка становится осязаемым, вот как простыни, что льнут к моему разгоряченному телу. Люк – здесь; он находится в спальне незримо – однако не менее реален, чем мы вчетвером. От этой мысли мне должно бы стать жутко, а не становится. Ведь мужчина, что сегодня околачивался у мельницы, в моем воображении неотделим от долговязого, смуглого, золотоглазого юноши с хрипловатым, робким смехом, от которого сердце заходилось. Этот юноша никуда не делся – я узнала его, заглянув в налитые кровью глаза, уловила робость за пьяной бравадой и высказанной обидой.
Обнимая Фрейю, я слышу его слова – они болью отдаются в висках:
«А вот кому новость? Откуда в Риче взялось мертвое тело?»
«Стоит Кейт свистнуть – и вы примчались, как собачонки».
Но засыпаю я с другой фразой, и она-то заставляет меня прижать к себе Фрейю так тесно, что та всплакивает во сне.
«Если что, Айса, обращайся. Присматривать за ребенком… это легко. С удовольствием бы снова ее взял».
– В последний раз спрашиваю, Айса: поедешь со мной?
Фатима стоит на пороге, в одной руке держит чемодан, в другой – солнцезащитные очки. Отрицательно качаю головой, продолжая пить чай.
– Нет. Мне еще Фрейю собирать, вещи укладывать. Ты из-за меня опоздаешь.
Время – шесть сорок пять. Мы с Фрейей устроились на диване, в пятне солнечного света. Мы играем: я делаю вид, что отщипываю носик малышки, а потом приставляю его обратно. Фрейя шлепает меня по руке, пытается царапнуть своими крохотными, но остренькими ноготками, щурится от бликов на водах Рича. Нежно, но крепко стискиваю пухлые ручки – не хватало, чтобы Фрейя обожглась моим чаем! Ставлю чашку на пол.
– Поезжай, Фатима, за меня не волнуйся.
Тея и Кейт еще спят, но Фатима собралась ехать ни свет ни заря – она торопится к Али и детям. Наконец она кивает, пусть и неодобрительно; надевает очки, поправляя дужки под хиджабом. Ощупывает карманы в поисках ключей от машины.
– Как ты до вокзала доберешься?
– Думаю, на такси. Не решила пока. Посоветуюсь с Кейт.
– Ладно, – произносит Фатима, подбрасывая ключи на ладони. – Попрощайся за меня с девочками. И вот еще что: уговори Кейт приехать в гости. Я вчера ее звала-звала, приглашала-приглашала – а она ни в какую…
– Почему?
Голос раздается из-за поворота винтовой лестницы. Пес с радостным повизгиванием встает с места – он нежился под окном, в луже теплого света. Вниз по ступеням идет Кейт. На ней старенький хлопчатобумажный халатик – когда-то он был густо-синим, но давно полинял, сохранив лишь намек на прежний оттенок.
Кейт трет глаза и старается не зевнуть.
– Ты что, уже уезжаешь?
– Да, к сожалению, – отвечает Фатима. – На работу надо. В полдень операция, а вечером Али дежурит, не сможет забрать детей. Кейт, мы с Айсой как раз говорили: может, ты бы все-таки приехала, а? Хотя бы на несколько дней? У нас и комната свободная есть.
– Сама знаешь: не могу, – сухо произносит Кейт.
Впрочем, кажется, в ее голосе уже меньше упрямства.
Кейт достает турку из шкафчика под раковиной. Чуть дрожащими руками наливает воду, засыпает кофе.
– Куда я Верного дену, по-твоему?
– С собой возьми, – предлагает Фатима; правда, тон у нее теперь не самый гостеприимный.
Кейт трясет головой, не дослушав.
– Сама знаешь – твой Али собак не жалует. А у Самира, если не ошибаюсь, аллергия на шерсть.
– Но ведь есть же люди, которые берутся ухаживать за собаками, пока хозяева в отъезде, – продолжает Фатима уже совсем ненавязчивым тоном.
Мы с ней знаем: Верный – причина, но не главная. Кейт просто не поедет, и все.
Повисает молчание, нарушаемое только бульканьем мокко в турке.
– Тебе опасно здесь находиться, – наконец выдает Фатима. – Айса, что же ты молчишь? Я даже не электропроводку имею в виду! Я говорю о Люке. Вспомни про окровавленную записку, вспомни про мертвую овцу! Ради бога!
– Нет никаких доказательств, что это дело его рук, – чуть слышно, не глядя на нас, произносит Кейт.
– Надо заявить на него в полицию, – сердится Фатима, хотя и ей, и мне ясно: Кейт этого не сделает.
– Ладно, умолкаю. Я все сказала, – говорит Фатима. – Кейт, ты в курсе: комната для гостей тебя ждет не дождется. Помни об этом.
Фатима подходит к Кейт, чтобы чмокнуть ее в щеку. Когда она тянется ко мне, в ноздри бьет запах ее духов, щека, прижатая к моей щеке, кажется очень теплой.
– Тее привет от меня, – произносит Фатима и добавляет шепотом: – Айса, поговори с Кейт, убеди ее приехать. Может, тебя она послушает.
Затем Фатима подхватывает чемодан, закрывает за собой дверь, и через несколько минут до нас доносятся звуки радио и шум двигателя. Фатима наконец уехала, ее машина становится все меньше на потрескавшемся от жары глинистом проселке. Мельница погружается в тишину.
– Что думаешь, Айса? – Кейт смотрит на меня поверх кофейной чашки, вскидывает бровь. – Фати-то наша того, паранойей страдает.
Кейт ждет от меня согласного кивка, комментария – но я не могу выдать ни то, ни другое. Правда, я не верю, что Люк способен обидеть Кейт или кого-нибудь из нас, но в одном я согласна с Фатимой: Кейт опасно жить на мельнице. Нервы у нее ни к черту; кажется, еще немного – и будет срыв. Пожалуй, Кейт сама не сознает, насколько она близка к срыву.
– Думаю, Фати права, – говорю я.
Кейт закатывает глаза, делает еще глоток. Нет, не дам ей уйти от ответа, буду настырной, как Тея, расковыривающая свою несчастную кутикулу.
– Фатима права и насчет твоей жизни на мельнице, и насчет происшествия с овцой. Это был гнусный поступок.
Кейт не отвечает, смотрит в свою чашку.
– Это ведь Люк овцу убил и подбросил, да, Кейт?
– Не знаю, – мрачно отвечает Кейт. Ставит чашку, запускает пальцы в волосы. – Я правда не знаю, Айса. Конечно, Люк озлоблен, только… только здесь и других недоброжелателей достаточно.
– Недоброжелателей? – Слово шокирует, ведь раньше я ни о каких недоброжелателях от Кейт не слышала. – Что ты имеешь в виду?
– Сплетни, Айса, не только наши бывшие одноклассницы распространяют. У папы было полно приятелей… Я… я не уверена…
– Хочешь сказать, у тебя есть враги среди деревенских?
– В общем, да.
В памяти всплывают слова таксиста Рика: «Ваш отец был хороший человек, что́ бы здесь о нем ни болтали; да и вы уже сколько лет среди сплетен живете и не пачкаетесь».
– Что конкретно болтают, Кейт? – выдавливаю я. В горле пересыхает.
Кейт пожимает плечами.
– А сама не догадываешься? Гадости всякие.
– Например?
Не знаю, кто меня за язык тянул. Вопрос сам собой сорвался.
– Например? Например, Айса, вот тебе самая безобидная версия: папа взялся за старое и сбежал с какой-то парижской наркоманкой.
– И это ты называешь безобидной версией? Черт возьми, какая же тогда самая скверная?
Вопрос был чисто риторический, но Кейт вопреки ожиданиям, кажется, собирается ответить. С горькой усмешкой она произносит:
– Нелегкий выбор. Пожалуй, вот на чем остановлюсь: папа вступил со мной в непозволительную связь, а Люк его за это убил.
– Что? – Все слова вылетели из головы, я повторяю только это дурацкое «Что?».
– То! – обрывает Кейт. Допивает кофе, ставит чашку на сушилку для посуды. – А ведь есть еще куча промежуточных версий. И они еще удивляются, почему я по субботам не хожу в «Солтенский герб», как папа! Ты не представляешь, Айса, какие вопросы задают деревенские старожилы, когда выпьют.
– Ты серьезно? Тебя и правда вот так, напрямую, спрашивали про сексуальные домогательства?
– Нет, эту версию не озвучивали. А зачем? Она давно принята за истину. – Лицо Кейт перекашивается. – Папа меня трахал; некоторые утверждают, что и вам с Фати и Теей перепадало. О чем же спрашивать?
– Кейт! Господи! Почему ты нам не говорила?
– Что я должна была сказать? Что семнадцать лет в Солтене мусолят ваши имена? Что вы стали персонажами отвратительной местной легенды? Что мнения деревенских жителей расходятся: кто-то считает меня убийцей, а кто-то уверен, что мой отец до сих пор в бегах, потому что стыдится возвращаться после содеянного со мной и моими подругами? По ряду причин, Айса, эта тема не самая моя любимая.
– Но разве… разве нельзя им заткнуть рты? Ты же можешь все отрицать…
– Что именно отрицать? В этом-то и проблема.
На лице Кейт – усталость и отчаяние.
– Папа пропал, я четыре недели не заявляла в полицию. Так или нет? Ну и разве удивительно, что поползли слухи? Они из зерна истины выросли.
– Но это ведь ложь! Грязная ложь! – с яростью восклицаю я. – Слушай, Кейт, плюнь на все. Поедем со мной в Лондон! Пожалуйста, поедем! Фатима права, тебе нельзя здесь оставаться.
– Что с того? Я должна, и точка.
Кейт встает, выходит из дома, направляется к мосткам. Прилив давно отхлынул, илистые берега Рича словно вздыхают, запекаясь под солнцем.
– Тем более – сейчас, – продолжает Кейт. – Сама подумай. Если я уеду, это будет выглядеть как бегство. Все сразу сообразят: мне есть, что скрывать.
Фрейя, притихшая было у меня на коленях, тянется к пустой чашке, еще теплой после чая; гулит от счастья, завладев чашкой с моего разрешения. Склоняюсь к моей девочке. Молчу. Возразить нечего.
Бесконечно много времени уходит на сборы, на переодевание Фрейи, на ее кормление и повторное переодевание. Наконец я готова ехать – и тут просыпается Тея, нетвердо идет по коридору, спускается в гостиную, потирая глаза.
– А Фати что, уехала?
– Как видишь, – бросает Кейт и ставит перед Теей немытую турку. – Самообслуживание.
– Поняла.
Тея выплескивает кофейную гущу в раковину. Она в джинсах и во вчерашнем топе, который отнюдь не скрывает того обстоятельства, что Тея не надела бюстгальтер. А еще топ не скрывает худобы и шрамов – побелевших и, что называется, замывшихся. Невольно отвожу взгляд.
– Мне тоже надо в Лондон, – произносит Тея, безразличная к моему смущению. Сует чашку под кран, споласкивает, ставит на сушилку. – Прихватишь меня, Айса?
– Конечно. Только я совсем скоро уезжаю. Успеешь?
– А то! У меня и багажа – кот наплакал. Через десять минут буду готова.
– Тогда я звоню в такси. Кейт, где телефон Рика?
– На комоде посмотри.
Кейт кивает на стопку потрепанных визиток, которые лежат в пыльной масленке. Быстро нахожу визитку «Поездки с Риком», набираю номер. Рик отвечает сразу, говорит, что будет у мельницы через двадцать минут, причем с детским креслом для Фрейи.
– Слышала, Тея, – через двадцать минут! Не тяни резину.
Тея потягивает кофе.
– Да кто тянет? Мне собраться минуту. Вот допью, шмотки в сумку покидаю – и поедем.
– Мне нужно выгулять Верного, – внезапно объявляет Кейт.
– Что? Прямо сейчас? – переспрашиваю я.
– Ты разве нас не проводишь?
В голосе Теи легкое возмущение. Кейт пожимает плечами.
– Проводы не люблю, прощаться не умею.
Кейт встает, за ней поднимается Тея. Присоединяюсь через несколько мгновений – нужно снять с колен и положить на диван Фрейю, а затем подхватить ее на руки. Замираем в нерешительности – и в луче света, полном пылинок, вихрящихся вокруг нас, словно микроторнадо.
– Ну, девочки, давайте, – наконец произносит Кейт и обнимает меня так крепко, что дыхание перехватывает. Я вынуждена отстраниться, извернуться, чтобы мы с Кейт не раздавили Фрейю.
– Кейт, пожалуйста, приезжай, – шепчу я без особой надежды.
Кейт встряхивает головой и просит:
– Айса, не говори больше об этом. Я все равно не поеду.
– Знаешь, как тяжело оставлять тебя здесь одну?
– Ну так не оставляй, – смеется Кейт, а в глазах столько грусти, что нет сил смотреть. – Не оставляй, – повторяет Кейт. – Лучше сама оставайся.
– Не могу.
Я улыбаюсь, игнорируя тоску в сердце.
– Ты же знаешь. Мне к Оуэну надо.
– Господи! – Кейт снова обнимает меня, притягивает к себе Тею. Наши лбы соприкасаются. – Какие вы молодцы, что приехали. Если что-нибудь случится…
– В смысле? – Тея напрягается и лицом, и телом. – Ты что, типа, предупреждаешь?..
– Нет. – Кейт смахивает слезинки, издает вымученный смешок. – Нет, честно. Это просто выражение такое. Не верится, что мы столько лет вместе не собирались. И здорово, что наконец-то собрались. Вроде как только вчера все было, правда?
Истинная правда.
– Мы будем приезжать, Кейт, – обещаю я. Касаюсь ее щеки, замечаю, что ресницы стали влажными. – Честное слово. Да, Тея? Мы теперь так надолго не пропадем. Клянусь.
Сама чувствую: сказала пошлость. Фраза дежурная, тысячу раз я повторяла ее, прощаясь, не собираясь выполнять обещание. На этот раз я говорила, искренне веря, что вернусь. И только при виде замешательства Теи я осознаю: пожалуй, нам придется вернуться скорее, чем мы того пожелаем, и при иных обстоятельствах. Нам придется вернуться, если дело примет дурной оборот. Улыбка застывает на моем лице.
– Да, – наконец-то произносит Тея.
Больше мы ничего сказать не успеваем. Верный заливается отрывистым лаем, наши головы поворачиваются к окну. Точно: такси уже подпрыгивает на камнях.
– Черт, принесло же его так рано, – шипит Тея и срывается с места. Бежит по лестнице в свою комнату, судорожно забрасывает в сумку вещи.
– Ну вот, – произносит Кейт. – Мы с Верным пойдем прогуляемся, не будем у вас под ногами путаться.
Она пристегивает поводок к ошейнику, открывает дверь, выходящую на берег.
– Не попадите в беду, девочки.
Только потом, когда мы трясемся в такси по проселку, а силуэты Кейт и Верного уменьшаются до точек на зелени марша, до меня доходит: грустно и странно, что Кейт сказала на прощание именно эти слова: «Не попадите в беду».
Грустно, потому что такое на прощание не говорят. Не озвучивают слово «беда».
А странно, потому что логичнее было бы нам сказать это Кейт, а не наоборот.
Машина подпрыгивает на каменистой дороге, удаляется от двух силуэтов – пса и женщины. Эти двое бесстрашно идут по изменчивому маршу, с его канавами и топями; идут, не считая миль. И я заклинаю, глядя в окно: «Не попади в беду, Кейт; пожалуйста, постарайся не попасть в беду».
Такси приближается к съезду на шоссе, Рик уже включил левый поворотник, и вдруг Тея, рывшаяся в сумочке, поднимает глаза.
– Мне нужно наличные снять. Есть на вокзале банкомат?
Рик выключает поворотник, я вздыхаю. Купюры, снятые в банкомате на почте, я свернула трубочкой и оставила в чашке на комоде у Кейт – пусть обнаружит их, когда я уже буду далеко. Это – плата за билет на ужин; Кейт никак не хотела их брать, но совесть просто не позволяет вгонять ее в такие расходы. Себе я оставила только двадцать фунтов наличными – как раз чтобы расплатиться за такси, и даже с небольшим запасом.
– Сама знаешь, что нет, – отвечаю я. – И никогда не было. Придется заезжать на почту. Зачем тебе наличные? За такси я заплачу.
– На дорогу надо, – упрямо говорит Тея. – Пожалуйста, Рик, давайте заедем на почту.
Рик поворачивает направо. Скрещиваю руки на груди, подавляя вздох.
– До поезда времени полно! – Тея закрывает сумочку и смотрит на меня. – И нечего дуться.
– Я не дуюсь, – сердито отвечаю я.
Это неправда. Еще как дуюсь. Причина становится мне ясна, когда Рик выезжает на мост, ведущий к деревне Солтен. Я не хочу туда возвращаться. Никогда.
– Что, уже обратно?
Голос раздается за нашими спинами. От неожиданности вздрагиваю. Тея занята – вводит пин-код, – значит, мне придется отдуваться за двоих. Оборачиваюсь. Передо мной – Мэри Рен. Подкралась бесшумно, вылезла из какой-то невидимой подсобки.
– Мэри! – Моя рука невольно взлетает к груди. – Боже, вы меня напугали. Ну да. В Лондон возвращаемся. Мы ведь только ради вечера встречи приезжали.
– Именно это ты и говорила, – с расстановкой произносит Мэри.
Оглядывает меня с ног до головы. На миг появляется ощущение: Мэри ни единому моему слову не верит, насквозь меня видит, да и моих подруг тоже. Лгать ей бессмысленно, она все наши тайны давно разгадала. С Мэри, как ни с кем в деревне, был близок Амброуз. Впервые за все годы я задаюсь вопросом: что он ей рассказывал?
Раздумываю над словами Кейт о деревенских сплетнях, о причастности к ним Мэри Рен. И впрямь: когда ни зайдешь в «Солтенский герб» – Мэри непременно восседает у барной стойки, а от ее утробного хохота стаканы позвякивают. Судя по всему, Мэри в курсе всех солтенских дел. Пожелай она защитить Кейт – мигом бы сплетникам рты заткнула, выгнала бы из паба поганой метлой. Но Мэри этого не сделала. Даже ради дочери человека, которого называла своим другом.
Почему? Вот вопрос. Неужели и она подозревает Кейт?
– Чудно́е время вы для приезда выбрали, – продолжает Мэри Рен. Следует кивок в сторону кипы еженедельных газет, пестрящих фотографиями.
– В каком смысле чудно́е? – Голос мой чуть дрожит. – Вы о чем?
– О том, чего это вас в школу понесло? – Лицо у Мэри непроницаемое. – О них тут, понимаешь, говорят, а они на вечер встречи приперлись. Кейт-то наверняка не сильно приятно, когда вокруг шепчутся…
Сглатываю. Не представляю, что сказать.
– Шепчутся? О чем?
– Все о том же. Да и кто людей-то осудит? Я и сама, хоть режь, не верю.
– Во что это вы не верите? – Тея отвлекается от банкомата, сует кошелек в карман джинсов. – Что за намеки?
Тея готова к обороне, это видно по лицу. Хочется дать ей знак: тише, успокойся, с Мэри так нельзя. С ней надо поосторожней.
– Не верю, что Амброуз просто так взял да и свалил, – выдает Мэри.
Она в упор смотрит на Тею – на ее джинсы в облипку, на соски, что так явно выделяются под откровенным топом.
– Он, конечно, был не без греха, – продолжает Мэри, – но в дочке души не чаял. В огонь и в воду за нее пошел бы. Никогда не поверю, что Амброуз сбежал, оставил Кейт кашу расхлебывать.
– Обратное не доказано, – произносит Тея.
Ростом она не уступает громиле Мэри; стоит, руки на бедрах – отзеркаливает Мэри, будто силами с ней меряется.
– А раз доказательств нет, то, по-моему, нет и смысла гадать. Вам так не кажется?
Мэри морщится – не то ярость подавить старается, не то отвращение выражает.
– Мне кажется, – с расстановкой произносит Мэри, – гадать осталось очень недолго.
– Что вы имеете в виду? – спрашиваю я.
Сердце колотится. Оглядываюсь на такси, где Фрейя, надежно пристегнутая в детском кресле, посасывает пальчики.
– Почему недолго, Мэри?
– Вообще-то, это тайна следствия… Мой Марк сказал, тело откопали…
Мэри манит меня пальцем. Сама того не желая, вся подаюсь к ней, ощущаю щекой ее горячее дыхание.
– Ну и вот: если кому доказательств и не хватает, так, помяните мое слово, этому трупу безымянным быть не век.
«Яне отдам Фрейю. Я не отдам Фрейю».
Фраза крутится в моей голове, как мантра. Поезд мчит нас на север, в Лондон.
«Я не отдам Фрейю».
Слова попадают в такт колесам поезда.
«Я не отдам Фрейю».
Тея, в солнцезащитных очках, поднятых на темя, сидит напротив. Голова ее мерно ударяется об оконное стекло, глаза закрыты. На крутом повороте удар по стеклу слишком силен, голова резко откидывается, что-то в позвоночнике щелкает. Тея открывает глаза, трет место ушиба.
– Ой! Я что – уснула?
– Да.
Отвечаю кратко, чтобы не выдать досады. Вроде поводов для этой досады нет, разве только вот какой: я сама измотана и рада бы отключиться, подобно Тее – а не могу. Вчера – то есть уже сегодня – мы пошли спать около трех, а в половине седьмого меня разбудила Фрейя. С самого ее рождения мне ни единой ночи не удалось поспать нормально, без пробуждений. Даже в поезде расслабиться не могу – Фрейя у меня на груди, в слинге. Вдруг поезд дернется, или я сама, задремав, наклонюсь вперед и раздавлю ее? Хотя… дело не только в этом страхе. Дело в страхе вообще – поэтому заспанное лицо Теи вызывает такое раздражение. Как можно спать, когда наше будущее висит на волоске?
– Извини.
Тея потирает глаза.
– Сегодня ночью вообще не спала. Не могла. Мысли… – Она косится на соседние сиденья и договаривает: – Сама знаешь, о чем.
Еще бы не знать. И от этого совсем тяжко.
Почему-то насчет Теи я вечно ошибаюсь. В душу ей заглянуть труднее, чем Кейт или Фатиме, – она очень скрытная. Но под уверенностью в себе и напускным пофигизмом скрывается страх – тот же, что у нас, если не сильнее. Я могла бы это уже и усвоить.
– Это ты извини, Тея. Мне сегодня тоже не спалось. Тоже мысли.
Мысли, озвучить которые я не в силах. Что, если меня привлекут к уголовной ответственности? Что, если я потеряю работу? А Фрейя – вдруг ее отнимут?
Нет, нельзя такое произносить вслух – тогда точно накликаешь беду.
– Если, допустим, они выяснят… – Тея замолкает, снова оглядывает вагон, подается ко мне ближе, говорит едва слышным шепотом: – Если, допустим, они выяснят, что это – он, мы ведь все равно не при делах? Мог же он свалиться в канаву – после передозировки?
– Ну да, свалился и сам же закопался! – шепотом возражаю я. – Не прокатит.
– Сама знаешь: канавы смещаются. Там же зыбучий песок! Что говорить о дельте Рича. Рельеф давным-давно изменился под наступлением дюн. А мы…
Тея в третий раз оглядывается и произносит явно не ту фразу, которую собиралась произнести изначально:
– Я совершенно уверена, что это место было тогда в десяти, если не в двадцати ярдах от берега.
Пытаюсь припомнить, так ли это. Да, пожалуй. Дорога была длиннее, между тем местом и рекой росли деревья и кусты. Тея права.
– А сейчас? Сейчас палатка прямо у воды! Все изменилось, Айса. Одно только место им практически никаких улик не даст, я уверена.
Не отвечаю. Потому что к горлу подступила тошнота.
Звучит убедительно и даже убаюкивающе; хотелось бы разделить уверенность Теи – а я не могу. Давно уже я не занималась криминалистикой, а из сериала «Детектив Раш» почерпнула больше, чем из университетских лекций, но даже мне ясно: любой криминалист-профессионал сумеет определить, что именно перемещало труп – наступление дюн, приливы-отливы или человеческие механические усилия.
– Слушай, Тея, давай сменим тему.
Тея кивает, с усилием улыбается.
– Расскажи лучше о своей работе, – прошу я.
Тея пожимает плечами:
– Рассказывать особо нечего. Хорошая работа, и точка.
– Ты теперь снова в Лондоне?
– Да. В прошлом году отлично развлеклась на круизном лайнере. В Монте-Карло было супер. Но мне бы хотелось… – Тея умолкает, смотрит в окно. – Как бы это сказать… Я всю жизнь в дороге. Вечно куда-то переезжаю. Школы столько раз меняла, в Солтене дольше всего пробыла. Мне кажется, пора уже где-нибудь осесть.
Качаю головой. Думаю о собственном упорстве, благодаря которому окончила школу, затем университет, сдала экзамены на право заниматься адвокатской практикой, поступила на работу в Министерство внутренних дел, где встретилась с Оуэном. Думаю о своей жизни в Лондоне. Я и Тея – полные противоположности. У меня хватка не хуже, чем у моллюска-блюдечко. Нашла работу – держусь за нее. Встретила Оуэна – вцепилась в него. Солтен-Хаус в моей жизни был каким-то нелепым эпизодом, головокружительно короткой интерлюдией. И все-таки мы – я и Тея – одинаково заклеймлены событиями семнадцатилетней давности. Разница лишь в способах, которые помогают нам с этим жить. Тея без устали бежит от тени прошлого. Я успешно обрастаю подробностями, удерживающими меня подобно якорям.
Смотрю на Тею. До чего она худая, лицо – буквально кожа и кости. Перевожу взгляд на Фрейю – не просто так ведь я таскаю ее в слинге на груди; не служит ли Фрейя мне щитом? И вот еще что: правда ли я успешнее Теи справляюсь с прошлым – или просто прилагаю для этого неизмеримо больше усилий?
Мои размышления прерваны кряхтеньем, возней и хныканьем. Фрейя проснулась.
– Ш-ш-ш-ш…
Фрейя прибавляет децибелов, расширяет звуковой диапазон, пока я распутываю длинный слинг. Щечки пунцовеют, Фрейя от раздражения переходит к полноценному недовольству.
– Тише, тише, солнышко… Сейчас…
Расстегиваю блузку, достаю грудь, прикладываю Фрейю к соску. На минуту воцаряется благословенная тишина. А потом поезд въезжает в тоннель, взрывая непроглядную тьму. Фрейя откидывает головку. Глаза у нее темные, почти круглые; мой сосок обнажился. Лишь через несколько мгновений успеваю прикрыться салфеткой.
– Извини, Тея.
Мы обе жмуримся. Поезд выкатился из тоннеля, вагон снова залит ярким светом. Снова прикладываю Фрейю к груди.
– Из-за тоннелей моими сосками успела налюбоваться добрая половина жителей северного Лондона, но того, что ты видела за эти дни, с лихвой хватит на четверых.
– Думаешь, меня это напрягает? Подумаешь, сосок! Ничего принципиально нового.
Не могу сдержаться – смеюсь, откинувшись на спинку сиденья с теплой, увесистой Фрейей на руках. Следует еще тоннель, новое выныривание на свет – а я думаю о дне нашей первой встречи, о том, как Тея, не стесняясь, расправляла чулок на своей бесконечной ноге, о том, как при виде ее бедра я покраснела. Кажется, с тех пор прошла целая жизнь. И все же… все же, когда Тея вытягивает ноги в проход между сиденьями, подмигивает мне и закрывает глаза – мне кажется, с тех пор не прошло и суток.
Правило четвертое: не лги своим
– Айса, ты дома?
Оуэн, открывая дверь своим ключом, говорит тихо, с опаской. В первую секунду я не отвечаю. Я склонилась над кроваткой Фрейи, боясь издать лишний звук. Убаюкивание как раз на том этапе, когда Фрейя может заснуть – а может и разгуляться, и тогда еще минимум час будет хныкать, возиться, требовать грудь. Сегодня Фрейю особенно трудно уложить – очередная смена обстановки вывела ее из равновесия.
– Айса? – снова зовет Оуэн.
Теперь он в дверях спальни. Увидев, что я дома, Оуэн расплывается в улыбке, снимает туфли и на цыпочках крадется ко мне, то есть я могла бы и не строить гримасу, и не прикладывать палец к губам, требуя полнейшей тишины.
Оуэн обнимает меня сзади за талию. Смотрим на существо, которое совместно произвели на свет.
– Здравствуй, моя радость, – шепчет Оуэн – не мне, а Фрейе. – Здравствуй, милая. Папа по тебе скучал.
– Мы тоже скучали по папочке, – шепчу я.
Оуэн целует меня в щеку и увлекает в холл, прикрывая на ходу дверь спальни.
– Не ждал тебя так скоро, – признается Оуэн по пути на кухню, где в духовке печется картошка. – По твоему тону я решил, что тебя долго не будет. Только среда. Что случилось? С Кейт не поладила?
– Что ты! С Кейт все было отлично.
Отворачиваюсь к духовке – якобы вынуть картошку, на самом деле – чтобы не видеть Оуэна. Не могу врать, глядя ему в лицо.
– Все прошло на ура. Фатима с Теей тоже приезжали.
– Почему тогда ты не задержалась у Кейт? Причин для спешки у тебя ведь не было. В смысле, не подумай ничего такого. Я по тебе скучал, но я еще и половины дел не переделал. Вон, в детской все по-прежнему.
– Пустяки, – отвечаю я, выпрямляясь.
Щеки пылают – конечно, я ведь склонялась к духовке. Черт меня дернул в такую жару картошку печь; я бы и не пекла, но в холодильнике ничего, кроме картошки, не нашлось. Ставлю блюдо на столешницу, надрезаю готовые картофелины. Наблюдаю, как из крахмалистой мякоти поднимается белый пар.
– Сам знаешь – бардак для меня ничего не значит.
– А для меня значит.
Оуэн обнимает меня, колет щеку суточной щетиной, целует ухо, скользит губами по шее.
– Я хочу тебя всю. Всю. Чтобы ты снова была вся моя…
Позволяю ему поцелуи, свои мысли не озвучиваю. А мысли такие: если он действительно этого хочет, то счастливым ему не бывать. Меня целиком он не получит. Девятью десятыми навечно завладела Фрейя, а оставшаяся часть нужна мне для себя, Фатимы, Теи и Кейт. Сама же я говорю:
– Я соскучилась. И Фрейя тоже. Мы обе по тебе скучали.
– А я-то как скучал, – мурлычет Оуэн. – Хотел позвонить, а потом думаю: Айсе весело, незачем вмешиваться…
Ощущаю укол совести. Самой-то мне и в голову не пришло позвонить Оуэну. Я ограничилась сообщением, что мы благополучно добрались. Слава богу, Оуэн не позвонил. Вот что бы я стала делать, застань меня его звонок… Где? За каким занятием? Во время бесконечного кошмарного ужина? В момент стычки с Люком? В первый вечер, когда мы, объятые страхом, гадали, что именно нам придется выслушать назавтра?
Только звонка мне и не хватало.
– Извини, что я сама не позвонила, – выдавливаю я, но не прежде, чем высвобождаюсь из объятий и отворачиваюсь к духовке. – Я собиралась, но… ты же знаешь, каково бывает с Фрейей по вечерам. Никак ее не уложить. А еще и обстановка новая…
– Кстати, по какому поводу вы собирались?
Оуэн открывает холодильник и достает кочан салата. Верхние листья завяли, он отщипывает их.
– В смысле, середина недели – странное время для гостей. Тебе, конечно, все равно, и Кейт тоже, но у Фатимы работа…
– В Солтен-Хаусе был вечер встречи. Назначили на вторник, а почему – не знаю. Наверное, потому, что сейчас каникулы, в школе все равно нет учениц.
– А ты не говорила, что на вечер встречи едешь.
Он принимается резать помидоры. Бледный помидорный сок брызжет на столешницу.
Пожимаю плечами:
– Я и сама не знала. Кейт купила билеты. Устроила сюрприз.
– Вон оно что… Должен сказать, это и для меня сюрприз, – произносит Оуэн, выдержав паузу.
– Почему?
– А кто говорил: ноги моей в Солтенской школе не будет? Не ты разве? Так что сейчас изменилось?
Что сейчас изменилось. Что сейчас изменилось. Черт возьми! Что изменилось?
Вопрос резонный. Ответ требует обдумывания.
– Не знаю, – наконец произношу я.
Прокатит или нет?
Подвигаю Оуэну тарелку.
– Не знаю, и все. Это Кейт придумала. Что же мне – спорить с ней? Может, обойдемся без допроса с пристрастием? Я устала, плохо спала ночью…
– Ладно, понял!
Оуэн смотрит широко раскрытыми глазами, поднимает руки – хватит. Старается не показать, что ему неприятно от моих слов. Я готова съесть собственный язык.
– Извини, Айса. Я просто пытался вести беседу. Виноват.
Вместе с тарелкой он уходит в гостиную, не сказав больше ни слова.
Внутри все перевернулось. Больно, как при коликах. Хочу побежать за Оуэном, выложить ему все. Рассказать, что мы натворили, и какой груз я тащу все эти годы, и как боюсь увязнуть вместе с этим грузом…
Но я не имею права. Тайна не только моя. Нельзя предать моих девочек.
Проглатываю фразы признания, что уже подступили к горлу. Исповедь отменяется.
Беру свою тарелку, иду к Оуэну. Мы ужинаем рядом – но в полном молчании.
В последующие дни я усваиваю: время все перемалывает. Мне бы следовало зазубрить этот урок еще раньше – когда я отчаянно пыталась справиться с совершенным нами.
Тогда мне было некогда бояться, и вскоре произошедшее стало вроде мутного ночного кошмара. Я воспринимала его как случившееся с кем-то другим, в другое время.
Мне хватало забот; я приноравливалась к новой школе, свыкалась с мыслью о мамином безнадежном состоянии. Читать газеты не успевала, а погуглить информацию мне и в голову не приходило.
Зато сейчас времени достаточно. Едва за Оуэном закрывается дверь, я свободна. Я не рискую задать в поисковике «Солтен Труп Рич Идентификация». Даже личное окно в браузере не маскирует запросов, это я прекрасно знаю.
Нет, я хожу вокруг да около, я фильтрую слова, тщательно избегаю тех, что, так или иначе, связаны с преступлением. «Новости Солтен Рич», «Кейт Эйтагон Солтен» – вот мои запросы. Рано или поздно выскочит искомый газетный заголовок, зато я не оставлю кровавых следов.
И все равно на всякий случай я еще и историю браузера очищаю. Я даже думала пойти в интернет-кафе, но отмела эту мысль. Мы с Фрейей слишком выделялись бы среди молодняка. Нет. Ни при каких обстоятельствах нельзя привлекать к себе внимание.
Новость появляется через неделю после моего возвращения, причем мне даже искать особо не приходится. Я просто открываю сайт «Солтенского обозревателя» – и вот она, статья, сразу выскакивает. Она же есть в «Гардиан» и в новостях Би-би-си, правда, проходит под шапкой «местные новости».
Останки выдающегося солтенского художника, Амброуза Эйтагона, которого прославили морские пейзажи, обнаружены на берегу реки Рич, в живописном месте неподалеку от его жилища. Амброуз Эйтагон пропал без вести более пятнадцати лет назад. Его дочь, Кейт Эйтагон, не отвечает на звонки, однако местная жительница Мэри Рен, называющая себя другом покойного, заявила, что после стольких лет неизвестности пора расставить все точки над i.
Потрясенная, снова и снова перечитываю заметку. Приходится держаться за край стола – меня шатает. Это произошло. То, чего я боялась столько лет, все-таки произошло.
Впрочем, ситуация не фатальная. Могло быть и хуже. Ничего не сказано о подозрениях на насильственную смерть, о судмедэкспертизе, о начале расследования. Дни идут, а мой телефон молчит, в дверь не стучат, и я внушаю себе: «Расслабься, Айса. Теперь можно расслабиться… хотя бы чуть-чуть». Не получается. Я напряжена, подскакиваю от любого шороха, не могу сконцентрироваться ни на чтении, ни на телепередачах, которые смотрю вместе с Оуэном. Каждый его вопрос заставляет меня вздрогнуть. Я постоянно повторяю: «Что? Прости, не расслышала» и тому подобное. Процент извинений в моей речи зашкаливает.
Боже, как хочется курить. Даже зуд в пальцах появился.
В какой-то момент я срываюсь – после чего ненавижу саму себя. На углу нашей улицы есть супермаркет, где продают и алкоголь, и сигареты; сгорая от стыда, убеждая себя, что собираюсь купить молока, заскакиваю туда и на кассе, как бы внезапно вспомнив, писклявым, не своим голосом прошу пачку «Мальборо-лайтс». Одну сигарету выкуриваю сразу же, во дворике; давлю окурок, а потом долго моюсь в душе, выскребаю из кожи табачный дух, растираюсь до красноты, почти до ссадин. Фрейя тут же, в ванной, в своем виброкреслице, сердится, покряхтывает, собирается удариться в рев – но я игнорирую ее угрозы.
Ни за что не приложу своего ребенка к груди, пока эта грудь воняет дымом.
Возвращается с работы Оуэн. Я раздавлена чувством вины, нервы на пределе. Наконец, уронив бокал, я разражаюсь плачем. Оуэн не выдерживает:
– Айса, да что с тобой? Ты сама не своя с тех пор, как вернулась из Солтена. Что-нибудь произошло?
Первые несколько минут я только головой трясу да икаю от слез, потом выдавливаю:
– Прости. Мне так стыдно… Я… я сигарету выкурила.
– Что?
Ясно, Оуэн не такого признания ожидал.
– Господи… как ты могла?
– Прости.
Я чуть успокоилась, только говорить все еще трудно.
– Видишь ли, там, у Кейт, я сделала пару затяжек. И вот сегодня… Сама не знаю, как это вышло… Не смогла удержаться.
– Понятно.
Оуэн обнимает меня, упирается подбородком в мое темечко. Прямо-таки слышу, как он обдумывает ответ.
– Что ж… Не могу сказать, что я в восторге. Сама знаешь, как я отношусь к курению.
– Ох, я ругаю себя сильнее, чем ты можешь представить. Сама себе противна. Я даже Фрейю не решалась на руки взять, пока не приняла душ.
– А куда ты дела остальные сигареты из пачки?
– Я их выбросила, – отвечаю, сделав паузу.
Пауза – признак того, что я лгу. Я не выбросила остальные сигареты. Не знаю, почему. Хотела, собиралась – и поймала себя на том, что запихиваю их в сумочку. Спрятала и пошла мыться. Я ведь все равно не буду больше курить – так какая разница, где сигареты? Выброшу их завтра – и получится, что Оуэну я сказала правду. Но сейчас… сейчас, пока ложь не стала правдой, я каменею от стыда в его объятиях.
– Я тебя люблю, – говорит Оуэн. Его дыхание обдает теплом мою макушку, путается в волосах. – Ты же понимаешь – я не хочу, чтобы ты курила, именно потому, что люблю тебя?
– Да, да, – лепечу я в ответ. Голос хриплый от слез.
Внезапно слышится крик Фрейи, и я почти отталкиваю Оуэна, чтобы взять ее на руки. Оуэн отнюдь не успокоен. Он чувствует: что-то не так. Только не знает, что именно.
Мало-помалу жизнь возвращается в привычное русло. По крайней мере, такова видимость; я-то знаю – пресловутое русло изрядно искривлено. Во-первых, у меня ни с того ни с сего заболела челюсть. В ответ на мою жалобу Оуэн сообщил, что ночью, во сне, я скрипела зубами. Во-вторых, ночные кошмары сменили тематику. Раньше мне снилось, как лопата с шорохом втыкается в мокрый песок и как скрипит клеенка, которую волокут по проселку. Теперь снятся люди в форме, вырывающие Фрейю из моих рук, а я даже крикнуть не могу – рот открыт, это да, но губы и язык не слушаются, словно замороженные.
Как и прежде, я в условленные дни пью кофе в компании женщин, с которыми вместе рожала. Как и прежде, хожу в библиотеку. Но Фрейя чувствует мою напряженность, мой страх. Просыпается по ночам, хнычет. Сонная, на ощупь пробираюсь к кроватке, беру Фрейю, пока она не разбудила Оуэна. Днем Фрейя капризничает, все не по ней, она без конца просится на руки, так что к вечеру я не чувствую спины.
– Наверное, у нее зубки режутся, – предполагает Оуэн.
Я знаю: дело не в зубках, по крайней мере, не только в них. Дело во мне. От постоянного страха адреналин повышен, Фрейя всасывает его с молоком, улавливает при каждом моем прикосновении. Я на грани, я не могу расслабить мышцы шеи. Я каждый миг готова к удару, к грому среди ясного неба, к буре, которая разрушит и без того хрупкое равновесие моей жизни. И тем не менее я оказываюсь совершенно не готова к удару – а все потому, что получаю его с неожиданной стороны.
Дверь открывает Оуэн. Суббота, я еще в постели, Фрейя рядом – лежит на пуховом одеяле, по-лягушачьи раскинув ножки, открыв влажный алый ротик. Лиловатые веки сомкнуты, но глазные яблоки под ними движутся – Фрейя видит сны.
Проснувшись, обнаруживаю на прикроватном столике чашку чая – и кое-что еще. На столике стоит ваза. В вазе – розы. Сон как рукой снимает, но я не встаю. Лежа пытаюсь сообразить, какую дату пропустила. Годовщину встречи с Оуэном? Нет – это будет в январе. День рождения у меня в июле. Черт. Откуда, по какому случаю букет? Наконец я сдаюсь. Придется признаться в забывчивости. Придется задать вопрос.
– Оуэн? – тихо зову я, и вот он, тут как тут, берет просыпающуюся Фрейю, устраивает у себя на плече, гладит по спинке. Фрейя зевает – деликатно, словно кошечка.
– Доброе утро, соня. Я чай тебе принес. Видела?
– Да. Спасибо. А цветы по какому поводу? Мы что-то отмечаем?
– Об этом я тебя хотел спросить.
– В смысле, это не ты их купил?
Делаю глоток чая, морщусь. Чай чуть теплый. Зато это жидкость, так мне сейчас необходимая.
– Нет, конечно. В карточку загляни.
Белый неподписанный конверт с карточкой пристроен среди стеблей. Какой-то неизвестный мне цветочный бутик. Вместе с карточкой из конверта выпадает записка. Почерк я не могу узнать. «Айса, прими, пожалуйста, эти розы в знак моего раскаяния. Всегда твой Люк».
Боже.
– Ну и кто такой Люк?
Оуэн, глядя на меня поверх чашки, делает глоток чая и добавляет:
– Мне пора напрячься, да?
Он пытается говорить шутливо, но не выходит. Вообще-то Оуэн не ревнив, но взгляд у него характерный. В глазах подозрение, вполне объяснимое, вполне оправданное. Если бы Оуэн получил букет алых роз от посторонней женщины, я бы тоже, наверное, напряглась.
– Ты что, записку читал?
Слова еще не отзвучали, а я понимаю: не это, не это надо было сказать.
– В смысле, Оуэн, я не… я не то имела в виду…
– Сам конверт, как видишь, не подписан, – сухо, обиженно поясняет Оуэн. – Надо же было мне узнать, кому цветы. Я за тобой не шпионил, если ты об этом.
– Нет, что ты! Конечно, я совсем не об этом. Я только…
Что – только? Прикусываю язык. Все идет не так. Нельзя было этой темы касаться. Совсем. Может, еще не поздно пойти на попятный?
– Люк – это брат Кейт.
– Брат Кейт? – Брови Оуэна взлетают. – Я думал, она единственный ребенок.
– Сводный брат.
Кручу карточку в пальцах. Как Люк узнал мой адрес? Оуэн, должно быть, недоумевает, за что Люк извиняется – а мне и сказать нечего. Нельзя же открыть Оуэну правду.
– Просто… просто Люк… в общем, у нас возникло недопонимание… Дурацкая ситуация.
– Так-так-так, – пытается острить Люк. – Если всякий раз, как мы поругаемся, я стану покупать такие розы, я вылечу в трубу.
– Недопонимание возникло из-за Фрейи, – выдавливаю я.
Еще бы умудриться – рассказать все Оуэну так, чтобы он не счел Люка психопатом. Если, допустим, я признаюсь, что Люк забрал моего ребенка – то есть нашего ребенка – у неопытной несовершеннолетней няньки, Оуэн, чего доброго, заставит меня в полицию заявить. А разве я могу? Значит, надо говорить правду – только не всю правду.
– Видишь ли, мне пришлось… воспользоваться услугами няни. Кейт сказала, няня опытная, а явилась совсем девчонка, и, конечно, она не сумела справиться с Фрейей. Я сама виновата: нельзя было оставлять Фрейю с чужим человеком. Просто Кейт… она уверяла… А Люк… Люк как раз оказался поблизости, и он решил помочь незадачливой няньке. Короче, он вынес Фрейю на воздух, думал, она утихомирится. Только он ведь моего разрешения не спросил. Поэтому я вспылила.
Брови Оуэна ползут вверх.
– Парень хотел помочь, но ты ему скандал устроила – и он же розы шлет? Айса, тебе не кажется, что здесь какая-то нестыковка?
Боже. Я только усугубила ситуацию.
– Тогда все предстало в несколько ином свете, – выдавливаю я – и сама чувствую, что заняла оборонительную позицию. – Так сразу и не объяснишь. Давай я сначала душ приму, а потом поговорим?
– Ладно. – Оуэн поднимает руки – сдаюсь. – Я подожду.
Снимая с батареи полотенце и набрасывая пеньюар, я краем глаза вижу: Оуэн уставился на розы, Оуэн решает задачу – и ответ ему не нравится.
В тот же день, когда Оуэн, взяв Фрейю, отправляется за хлебом и молоком, я, игнорируя шипы, игнорируя глубокую царапину, которую они оставляют на руке, хватаю букет. Я не ленюсь выйти из дома, чтобы запихнуть розы в мусорный ящик. Прямо на них швыряю мешок с недельным мусором – пусть розы затеряются среди общих отбросов, пусть станет непонятно, кому они были адресованы. Надвигаю крышку, возвращаюсь домой.
Тщательно смываю кровь. Руки под струей воды трясутся. Позвонить бы Кейт, или Фатиме, или Тее; рассказать о поступке Люка, обсудить его мотивы. Он что – и правда пытался извиниться? Или красные розы с шипами – это намек?..
Я даже беру телефон, нахожу номер Кейт – но что-то меня останавливает. У девочек и так хватает проблем, нельзя их зря тревожить. Розы – не более чем извинение; тут и заморачиваться нечего.
Другое дело – где Люк нашел мой адрес? У Кейт спросил? Или в школьной канцелярии? Внезапно до меня доходит: мое имя есть в телефонном справочнике. Айса Уайлд. Едва ли северная часть Лондона переполнена Айсами Уайлд. Осознание потрясает. Меня, оказывается, вычислить – раз плюнуть.
Словно тигрица в клетке, бегаю по квартире. Соображаю: если немедленно не отвлекусь – рехнусь. Иду в спальню, достаю из комода одежду Фрейи. Из многой она уже выросла – надо отсортировать. Занятие помогает отвлечься; через некоторое время ловлю себя на том, что напеваю дурацкий попсовый мотивчик (у Кейт радио не умолкало, эта композиция сейчас на пике, вот ее и крутили). Но зато сердцебиение унялось, руки перестали дрожать.
Сейчас отутюжу крохотные ползунки и сложу в пакет. Пригодятся, когда – точнее, если – у Фрейи появится братик или сестричка.
Я ничего не замечаю до тех пор, пока не собирается целая стопка одежды, пока я не подхватываю ее, чтобы отнести на первый этаж, к гладильной доске. И тут выясняется: чудесные вещички заляпаны кровью из царапины.
Разумеется, их можно постирать. Но ткань так нежна, так бела, что кровь едва ли отстирается. Сижу, уставившись на алые пятна, медленно приобретающие оттенок ржавчины. Нет, стирка не поможет. Младенческие одежки испорчены, отравлены, им не вернуть безупречность. Они всегда будут ассоциироваться у меня с проклятыми розами.
Ночью лежу без сна. Фрейя посапывает в кроватке, Оуэн похрапывает под боком – а мне не спится.
Я устала. Вымоталась за эти дни. С самого рождения Фрейи я ни единой ночи толком не спала, но теперь ситуация усугубилась. Похоже, я просто не в состоянии отключиться. Когда Фрейя родилась, все, кто приходил меня навестить, в один голос повторяли, точно мантру: «Спи, когда спит ребенок!» Хотелось расхохотаться в лицо каждому такому умнику. Хотелось крикнуть: «Вы что, не понимаете? Я больше никогда, НИ-КО-ГДА не смогу спокойно спать!» Оуэн спит, проваливается в сон; я тоже так умела, а теперь разучилась.
Потому что теперь у меня есть Фрейя. Мой ребенок, за которого я несу ответственность. Опасности повсюду! Фрейя может задохнуться во сне, в доме может начаться пожар, лисица может проникнуть в открытое окно ванной и загрызть мою девочку. Вот почему я не сплю, вот почему сердце колотится, вот откуда моя готовность вскочить с постели при малейшем намеке: что-то не так.
А сейчас все не так. И я не сплю вовсе.
Из головы не идет Люк. Одновременно я вижу и озлобленного мужчину на почте, и юношу, которого знала много лет назад. Но связи между ними нет.
До чего он был хорош собой! Память неизменно подсовывает одну и ту же картинку: звездная летняя ночь, до невозможности красивый юноша растянулся на мостках. Глаза закрыты, рука опущена в соленую воду. Юноша едва шевелит длинными пальцами. А рядом с ним, изнывая от тоски по прикосновениям этих пальцев, от желания поцеловать эти миндалевидные веки, еле дышит девчонка по имени Айса.
Люк, моя первая любовь… Впрочем, нет, слово слабовато и моих чувств не выражает. С мальчиками я и до Люка дружила – это были приятели Уилла, братья одноклассниц. Но никогда я не лежала ночью на мостках рядом с юношей, прекрасным, словно сказочный принц. В ту ночь я протянула к нему руку, я коснулась плеча – разгоряченного, загорелого, серебряного в звездном свете.
Сейчас возле меня мой ребенок и отец моего ребенка – но все мысли о Люке. Вот я касаюсь его плеча, вот он поворачивается, открывает свои невероятные глаза, гладит меня по щеке. Я целую его – точь-в-точь так, как тогда, много лет назад. А он на сей раз не убегает, нет – он отвечает на мой поцелуй. Желание охватывает меня всю, в страсти можно захлебнуться. И семнадцати лет как не бывало.
Закрываю глаза, пытаюсь отделаться от видения. Щеки пылают. Хороша, нечего сказать! В одной постели с мужем предаюсь фантазиям о мальчишке, по которому когда-то сходила с ума! Почти два десятилетия прошло, я уже не девчонка. Я взрослая женщина, я мать. А Люк… Люк тоже давно не золотоглазый юноша. Люк – мужчина, притом озлобленный. И я – в числе тех, на кого он злится.
До вечера встречи я месяцами и даже годами как-то обходилась без моих девочек. Но сейчас потребность в общении сравнима с потребностью в никотине – единожды развязавшись, я не могу ей противиться.
Первая утренняя мысль у меня – о пачке сигарет, что так и лежит в сумке; а вторая мысль – о мобильнике, в памяти которого сохранены номера Кейт, Фатимы и Теи. Что плохого, если мы пообщаемся?
Конечно, я испытываю судьбу; но с течением времени потребность никуда не девается, наоборот – возрастает, и вот я начинаю убеждать себя, что встреча необходима. Во-первых, надо обсудить неуместный подарок Люка – мне сразу полегчает, но это не все. Во-вторых, я должна убедиться, что девочки в порядке, что смогут, если понадобится, сопротивляться давлению. Ведь, пока мы стоим на своем («Ничего не знаем, ничего не видели») – против нас практически нет улик. Пусть попробуют доказать нашу вину! Не выйдет, если мы будем держаться. Ключевое слово «если» – я совсем не уверена в стойкости подруг, особенно – Теи. Тея ведь пьет. Достаточно ей одной расколоться – и мы все пропали. Останки Амброуза обнаружены – значит, рано или поздно за нами придут.
Я больше не могу ни о чем думать. Вздрагиваю от каждого телефонного звонка, смотрю, что за номер высвечивается, прежде чем ответить. Однажды звонок приходит со скрытого номера. Включаю автоответчик, но сообщение не поступает. Возможно, звонили из какого-нибудь банка, хотели предложить ненужные услуги. В этом я себя убеждаю – а сама жду повторного звонка. От страха меня постоянно мутит. Никто не перезванивает. Но звонок не идет у меня из головы. Мысленно я уже в полицейском участке; меня просят назвать точное время – когда я была там-то и там-то, делала то-то и то-то, а я путаюсь, и в итоге наша легенда летит в тартарары. Потому что я точно знаю, какой именно вопрос станет для нас роковым; потому что он безо всяких полицейских гложет и точит меня, будто крыса.
Амброуз покончил жизнь самоубийством потому, что появились свидетельства его неподобающего поведения.
Потому что либо в его этюдной папке, либо в студии, либо где-то еще были обнаружены компрометирующие рисунки. В эту версию мы все верили – до сих пор.
Но если все так и было, почему мисс Уэзерби вызвала нас на допрос только в субботу?
Вот где временна́я нестыковка. Бессонными ночами, под храп Оуэна, я пытаюсь разгадать эту загадку. Амброуз умер в пятницу вечером; весь день в школе все было нормально – обычные уроки, обычное общение. Мало того, на вечернем занятии мисс Уэзерби сохраняла полное спокойствие.
Когда же они обнаружили рисунки? Когда и где? Ответ на вопрос уже начал вырисовываться. И ответ такой, что в минуту, когда он полностью оформится, я не хочу быть одна.
Наконец дней через пять-шесть после заметки в «Гардиан» я не выдерживаю – пишу сообщение Фатиме и Тее.
Надо встретиться. Вы как, не против?
Фатима отвечает первой:
За кофе в эту субботу, часа в 3 в центре пойдет? Раньше не могу.
Отвечаю сразу:
Пойдет. Тея будет?
Тея пишет лишь через сутки, и она верна себе – сообщение больше похоже на шифровку:
П Кво Ю Кен?
Минут десять до меня не доходит, что имела в виду Тея; когда же я наконец соображаю, получаю сообщение от Фатимы. Фатиму вполне устраивают условия Теи:
ОК, в 3 субб Пан Квотидиен[11] Южный Кенсингтон. Жду встречи.
– Посидишь в субботу с Фрейей, Оуэн? – самым обыденным тоном спрашиваю в тот же вечер.
– Конечно.
Мы ужинаем. Оуэн набил рот спагетти болоньезе и сначала вынужден прожевать.
– Ты же в курсе. Я хочу принимать больше участия в ее воспитании. А ты куда собираешься?
– С девочками решили встретиться, – уклончиво отвечаю я.
Это правда, я просто скрываю от Оуэна, что эти девочки – Тея и Фатима. Я ведь с ними совсем недавно виделась.
– А я этих девочек знаю? – игриво спрашивает Оуэн.
Чувствую укол раздражения. Мало того, что я не хочу отвечать. Вторая, более серьезная причина еще неделю назад мне и не снилась. Эта причина – розы. Оуэн, вернувшись из супермаркета и не обнаружив роз, ничего не сказал, но я уверена: они у него не идут из головы.
– Ну да, – отвечаю я. И вдруг выдаю: – Эту встречу организует Фонд материнства.
– Здорово. А кто конкретно придет?
Вот я дура. Сама себя в угол загнала. На занятия для будущих родителей Оуэн ходил со мной, ни одного не пропустил. Он знаком со всеми. А я вдаюсь в подробности, хотя Кейт всегда говорила: ловят именно на подробностях.
– Ну… Рэйчел, – вру я. – Еще, наверное, Джо. Насчет остальных не знаю.
– Молоко сцеживать будешь? – спрашивает Оуэн и тянется к перечнице.
Качаю головой:
– Нет. Я ведь всего на пару часиков. Мы просто выпьем кофе.
– Иди, иди. Мы с Фрейей отлично справимся. Возьму ее в паб и накормлю шкварками.
Разумеется, Оуэн шутит – по крайней мере, насчет шкварок. Но я знаю и другое: Оуэн хочет меня подразнить. Поэтому я ему подыгрываю: притворно хмурюсь, потом якобы «отхожу». Мимика давно мною заучена. Интересно, все семейные пары так развлекаются, размышляю я, убирая со стола; все разыгрывают в определенных ситуациях определенные диалоги?
Ложимся спать. Рассчитываю, что Оуэн, как обычно, отключится, едва коснувшись подушки; чем дальше, тем больше завидую ему в этом плане. Однако он тянется ко мне, трогает мой все еще дряблый после родов живот, шарит между ног, и я к нему поворачиваюсь, глажу его лицо, плечи, темные волосы в районе солнечного сплетения.
– Я тебя люблю, – говорит Оуэн после, когда мы откидываемся на подушки с еще не унявшимся сердцебиением. – Надо бы почаще этим заниматься.
– Ты прав, – отзываюсь я. И, спохватившись, добавляю: – Я тоже тебя люблю.
Я не лгу: в этот конкретный момент я люблю Оуэна всем сердцем. Я даже начинаю погружаться в сон – и тут Оуэн вдруг шепчет:
– Айса, все в порядке?
Таращусь в темноту. Сердце так и скачет.
– Конечно, – стараюсь говорить сонно и спокойно. – А почему ты спрашиваешь?
Оуэн вздыхает.
– Сам не знаю. Просто… просто мне кажется, ты после возвращения от Кейт стала немного… немного другой.
«Пожалуйста». Закрываю глаза, сжимаю кулаки. «Пожалуйста, не делай этого, не заставляй меня снова тебе врать».
– Другой? Да просто я вымоталась, а так все в порядке. – Я специально не маскирую усталость в голосе. – Может, завтра поговорим?
– Конечно, – отзывается Оуэн.
Улавливаю недовольство. Он знает: я от него что-то скрываю.
– Я мог бы вставать по ночам к Фрейе вместо тебя. Отец я или не отец?
– Давай не будем. – Я нарочито зеваю. – Пока Фрейя на грудном вскармливании, твоя задача – меня будить.
– Слушай, а может, все-таки попробуем бутылочку? Я давно предлагал…
Такие разговоры выводят меня из себя. И я даже позволяю себе прервать Оуэна:
– Как человека тебя прошу: давай завтра поговорим! Я устала, хочу выспаться!
– Ладно.
В голосе явная обида.
– Извини. Спокойной ночи.
Хочется расплакаться. Хочется ударить Оуэна. Нет, это чересчур. Оуэн сейчас вроде якоря; наши отношения – единственное в моей жизни, что пока не отравлено паранойей и ложью.
– Прошу тебя, Оуэн, – голос срывается на жалкий писк, – прошу тебя, не будь таким.
Он не отвечает. Лежит молча, отвернувшись от меня. Вздыхаю и тоже отворачиваюсь.
– Пока! – кричу я уже из прихожей. – Позвони, если что-нибудь… в общем, сам знаешь.
– Мы с Фрейей не пропадем, – отзывается Оуэн.
По голосу ясно – он еще и глаза закатил. Через миг Оуэн возникает в дверном проеме. Фрейю он держит на руках.
– Иди проветрись. Перестань волноваться. Я в состоянии присмотреть за собственной дочерью.
Да, я знаю.
Знаю. Знаю – и все же, когда захлопывается дверь нашей квартиры, когда я остаюсь одна, пресловутая виртуальная пуповина натягивается и отдается болью в груди, в животе, во всем теле…
Лезу в сумочку, проверяю. Мобильник – на месте. Ключи – на месте. Кошелек… Где кошелек?
Я роюсь в сумке, в то время как замечаю на полочке конверт на мое имя.
Беру его. Отнесу домой – все равно придется возвращаться, я ведь забыла кошелек. В следующую секунду происходят сразу два события.
Во-первых, я нащупываю кошелек в кармане джинсов. Во-вторых… во-вторых, мне в глаза бросается штемпель на конверте. Солтенский штемпель.
Сердцебиение усиливается, но я говорю себе: нет причин паниковать. Письмо из полиции было бы франкировано, и общий вид был бы официальный – например, адрес набрали бы на компьютере и распечатали на принтере. Вдобавок в конвертах с такими письмами всегда есть пластиковое «окошко». А на этом конверте – обычная марка, да и адрес от руки написан.
Но вот в чем дело: конверт формата А5 склеен из коричневой бумаги – и внутри прощупывается несколько плотных листков.
Адрес писала явно не Кейт. Все буквы заглавные; наверное, для анонимности. А у Кейт почерк небрежный, с наклоном и петлями.
Может, это из школы? Может, мне прислали фотографии с вечера встречи?
Несколько мгновений я раздумываю, как поступить – сунуть конверт обратно на полку и заняться им по возвращении? Нет, слишком он странный. Вскрою прямо сейчас.
Внутри – листы бумаги. Но это не письма – это рисунки. Точнее, ксерокопии рисунков, четыре штуки. Вытряхиваю их, они веером ложатся на пол. Смотрю на самый верхний рисунок. И словно некая рука хватает меня за сердце и принимается давить и сжимать, так сильно, что боль распространяется по всей грудной клетке. От лица отливает кровь, пальцы немеют и холодеют. Может, это инфаркт? Я ведь не знаю, что чувствуешь при инфаркте. Затем сердце, словно высвободившись, начинает бешено колотиться, а дыхание становится отрывистым и мучительным.
На верхнем этаже хлопает дверь, и инстинкт самосохранения заставляет меня упасть на колени. Отчаянно, трясущимися руками я сгребаю рисунки в кучу.
Наконец они кое-как засунуты обратно в конверт. Только теперь я начинаю осознавать смысл произошедшего. То, что я видела, заставляет меня закрыть ладонями пылающие щеки. Сердце бухает где-то внизу живота. Кто это прислал? Откуда информация?
Сейчас же, срочно бежать к Фатиме и Тее; как хорошо, что встречу мы назначили именно на сегодня! Дрожь пальцев мешает сразу убрать конверт в сумку, не дает совладать с замком парадной двери.
Едва ступив на тротуар, слышу голос сверху. Поднимаю голову. У открытого окна, с Фрейей на руках, стоит Оуэн. Держа пухлую ручку Фрейи, он машет ею, словно дочка сама говорит мне: «Пока-пока!»
– Ну слава богу! – восклицает Оуэн. Смеется, пытается удержать Фрейю, которая так и норовит выскользнуть из его объятий. – А я уж думал, ваша встреча в подъезде назначена!
– Извини, – выдавливаю я. Щеки горят, я это знаю и без зеркала. Руки трясутся. – Я с расписанием электричек сверялась.
– Пока-пока, мамочка! – пищит за Фрейю Оуэн.
Но Фрейя сучит своими толстенькими ножками, требует, чтобы ее опустили на пол. Оуэну приходится наклониться, на миг исчезнуть из поля зрения.
– Пока, милая, – произносит он, выпрямившись.
– Пока. – Я превозмогаю боль в пересохшем горле. Что-то словно застряло в нем, мешает говорить, мешает глотать. – Скоро вернусь.
С этими словами я убегаю – потому что больше нет сил смотреть Оуэну в глаза.
Фатима меня опередила. Врываюсь в кафе – а она уже там, вся напряженная, барабанит пальцами по столу. По ее позе все понятно.
– Ты тоже получила коричневый конверт, Фати?
Она кивает. Лицо бледно-серое, как камень.
– Ты знала?
– Что знала?
– Что конверты придут, – шипит Фатима.
– Я? Откуда? Нет, конечно!
– А что же ты тогда встречу назначила на этот день?
– Фатима, да как ты можешь?
Господи, это тяжелее, чем я думала. Если уж Фатима меня подозревает, то…
– Не знала я ничего!
Хочется плакать. Да если бы я знала, если бы подозревала – неужели не попыталась бы предупредить Фатиму?
– Это совпадение, Фати. Откуда мне было знать? Мне тоже их прислали.
Вытаскиваю конверт из сумки, чтобы Фатима увидела краешек. Она долго смотрит на него, наконец закрывает лицо руками, осознав свою ошибку.
– Прости, Айса! Не понимаю, что на меня нашло. Просто…
Появляется официант. Фатима вынуждена замолчать.
– Что желаете, леди? Кофе? Пирожные?
Фатима трет лицо ладонью. Видно, что она пытается совладать с собой. Ее потрясение равносильно моему.
– Мятный чай у вас есть? – спрашивает Фатима после долгой паузы.
Официант кивает, переводит взгляд на меня, выжидательно улыбаясь.
Чувствую: лицо застыло и представляет собой жизнерадостную маску, под которой скрыта бездна ужаса. Непостижимым образом мне удается сглотнуть ком в горле и выдать:
– Капучино, пожалуйста.
– А сладкое?
– Воздержимся, – отвечает Фатима, а я только киваю в знак согласия.
Мне сейчас кусок в горло не полезет. Чем угодно подавлюсь. Официант исчезает, и в тот же миг звякает колокольчик над входной дверью. В проеме стоит Тея. На ней темные очки, губы тронуты алой помадой. Тея озирается с диким видом. Наконец замечает нас и стремительно идет к нашему столику.
– Откуда ты узнала?
Тея сует мне под нос проклятый конверт, нависает надо мной.
– Откуда ты узнала, черт возьми?
Она почти срывается на крик. Коричневая бумага в ее пальцах дрожит и похрустывает.
– Тея… я ничего не…
Слова застревают в горле. Не могу говорить, и все.
– Успокойся, Тея!
Фатима резко поднимается, инстинктивно протягивает к Тее раскрытые ладони.
– Я тоже с этого начала, Тея. Поверь, это простое совпадение.
– Простое? Черта с два! – цедит Тея, но в следующую секунду до нее доходит. – Погоди – я что, не одна такая?
– В том-то и дело. Мы с Айсой тоже это получили.
Фатима кивает на мою сумку, из которой по-прежнему торчит коричневый уголок.
– Айсе известно не больше нашего.
Тея переводит взгляд с Фатимы на меня. Затем медленно прячет свой конверт и садится.
– То есть… мы не знаем, кто это прислал?
Фатима качает головой.
– Зато мы знаем, откуда письма счастья.
– В смысле? – не понимает Тея.
– Сама подумай: Кейт сказала, что уничтожила все рисунки… этого рода. Что же получается? Либо она солгала, либо рисунки прислали из школы.
– Вот суки, – цедит Тея и спугивает своим ругательством официанта. Тот решает, что лучше выждать, прежде чем приставать с заказом. – Гребаные жабы. Уроды. Суки. Суки. Суки, мать их!
Тея роняет голову в ладони. Видно, что она снова грызла ногти – на кутикуле запекшаяся кровь.
– Может, спросим ее напрямую? Кейт, в смысле? – наконец предлагает Тея.
– Не стоит, по-моему, – мрачно отвечает Фатима. – Если это она так нас шантажирует, значит, она уже немало усилий предприняла. Почерк изменила, например. Ну и зачем спрашивать? Снова соврет.
– Быть не может, что это сделала Кейт, – не выдерживаю я.
Официант, появившись с нашими напитками, наверное, недоумевает. Молча ждет, пока Тея сделает выбор; записывает: «Двойной эспрессо», и удаляется.
Уже спокойнее я развиваю мысль:
– Это точно не Кейт. Потому что Кейт не стала бы – да и зачем ей? Мотива нет, девочки.
– Мне тоже не хочется думать на Кейт, – соглашается Фатима. – Но кто тогда? Черт, ситуация – хуже не бывает. Если это не Кейт, то, выходит, школа? А у них какой мотив? Времена изменились. Школьниц больше никто ангелами не считает – а значит, и не осуждает за отсутствие крылышек. И что получается? Скандал с домогательствами, вот что! Это же яснее ясного. Школе оно надо? По-моему, нет. С нами тогда ужасно поступили, но ведь администрация школы тоже пострадала. Едва ли меньше нашего.
– Домогательствам мы не подвергались, – возражает Тея, снимая очки. Теперь видно, какие у нее темные круги под глазами. – Амброуз был далеко не святой, но чтобы несовершеннолетних домогаться – это не про него.
– Да не в этом же дело! – горячится Фатима. – Кого волнуют мотивы Амброуза? Он злоупотреблял своим положением учителя и отца нашей подруги – иначе это не расценишь, сами понимаете. О чем он только думал, растлитель!
– Не растлитель, а художник, – возражает Тея. – Ни одну из нас он пальцем не тронул. Или мы чего-то о тебе не знаем, Фати?
– В прессе все именно под этим соусом подадут, можешь не сомневаться! – шипит Фатима. – Очнись, Тея, разуй глаза. Это – мотив, самый настоящий!
– Для чего мотив? Для суицида?
Тея в недоумении, но тут вступаю я. Озвучиваю то, о чем думает Фатима:
– Это наш мотив, верно, Фати? Мотив, чтобы убить Амброуза. Я тебя правильно поняла?
Фатима кивает. Хиджаб винно-красного оттенка только подчеркивает ее бледность. У меня в горле снова появляется ком и душит меня. Память подбрасывает картинки: Амброуз за мольбертом, еле слышно шуршит по бумаге его карандаш. Как он умел одним невесомым штрихом передать черты модели – те черты, над которыми не властно время! Тело, запечатленное Амброузом, давно изменилось – но лицо-то прежнее, мое. Обознаться невозможно. С листа шершавой бумаги смотрит сквозь годы Айса Уайлд, доверчивая, аппетитная, беззащитная, – бери и пользуйся…
– Что? – Тея издает нервный смешок. – Жуть какая-то. Да кто в это поверит? Где логика, девочки?
– Сейчас объясню, – с досадой начинает Фатима. – Семнадцать лет назад мы не о себе думали. Обнаружение рисунков мы рассматривали с одной точки зрения – с точки зрения Амброуза. Для него это было бы катастрофой, и тут все понятно. Но, Тея! Взгляни на рисунки с высоты прожитых лет; подумай, в каком свете предстанет ситуация сейчас, как ее подаст пресса. Что мы имеем? Четверку девчонок-пансионерок, которых буквально пасет их учитель; причем одна девчонка – его родная дочь. Вспомни, что говорила Кейт: деревенские давно сплетничают, будто Амброуз ее растлил. Кейт пыталась уничтожить рисунки – и правильно. А если они всплывут? Да ведь тогда наши отношения с Амброузом будут рассматриваться совсем в другом ключе! Из учениц Амброуза мы превратимся в жертв его похоти. А жертвам, как известно, свойственно время от времени наносить ответный удар.
Эту тираду Фатима выдает шепотом, теряющимся в обычном для кафе гуле чужих голосов. Но мне хочется закрыть ей рот ладонью, велеть, ради всего святого, умолкнуть. Потому что Фатима права. Мы зарыли труп. Алиби на пятничный вечер и на ночь с пятницы на субботу у нас нет. Если даже дело не дойдет до суда – сплетен не избежать.
Приносят кофе для Теи. Молча мы принимаемся за напитки. Каждая из нас прикидывает, какими конкретно последствиями грозит ей шумиха в прессе, как отразится на карьере, семейных отношениях, детях… Сейчас мы разделены этими мыслями.
– Кто же все-таки это сделал? – не выдерживает Тея. – Может, Люк? Или кто-то из деревенских?
– Гадать нет смысла, – обрывает Фатима. – Я говорила, что это Кейт, не отрицаю. Но сейчас я уверена: Кейт ни при чем. Уверена, и все тут. Впрочем, факт остается фактом: Кейт нам солгала. Она не уничтожила рисунки. Вспомните, девочки, – тогда, в школе, этих конкретных рисунков нам не предъявили.
– Знаете, что странно, – я почти не помню тех рисунков, – выдает Тея. – А ты, Айса? Ты помнишь – хотя бы то, что к тебе относилось?
– Да как-то смутно.
Это правда. Я не могу, сколько ни пытаюсь, припомнить, какие конкретно рисунки лежали тогда на столе. Их было с полдюжины, и лишь один изображал меня в одиночестве. Память, наверное, заблокировала. Но в сегодняшнем конверте – строго мои портреты, и их – четыре, то есть вчетверо больше, чем предъявила мисс Уэзерби.
– Ты права, – наконец произношу я. – Уэзерби другими рисунками перед нами трясла. Конечно, может, она просто не все предъявила, что имела. То, что мне сегодня прислали, компрометирует куда сильнее. Но и Фатима права – у школы нет мотивов. Не хотят ведь они скандала?
– Тогда остается Люк? – почти утверждает Тея.
Беспомощно пожимаю плечами. Тея продолжает:
– Может, все-таки Мэри Рен? И вообще, к чему это? Вдруг нас пытаются предупредить? Или Кейт одумалась и прислала рисунки, чтобы в будущем никто не предъявил нам их в качестве улик?
– Едва ли, – говорю я.
Хотелось бы верить в эту версию. Вот и разгадка готова, и конец всему. Можно спокойно жить, не ждать каждый миг подвоха.
– Едва ли – потому, что это ксерокопии, а не оригиналы. Зачем бы Кейт стала высылать нам ксерокопии?
Впрочем, я отлично представляю себе Кейт, которая не в силах расстаться с оригиналами. Отцовское наследие и так распродано ею по частичкам – каждую частичку она, наверное, от сердца отрывала…
– А вдруг Кейт нас таким способом предостерегает? – неуверенно говорит Тея.
Качаю головой.
– Предостеречь нас, отдав рисунки, она и на мельнице могла. Какой смысл отправлять их по почте?
– Верно… – кивает Фатима. – Нелогично.
Ее слова неприятно отдаются в груди пугающим эхом. И внезапно я вспоминаю свои ночные размышления – тоже о несостыковке; размышления и сомнения, задвинутые сегодня на задний план коричневыми конвертами.
Допиваю капучино, ставлю чашку на блюдце – она звякает громче, чем положено, выдает мою нервозность. Вот бы мне ошибиться. Вот бы Фатима с Теей развеяли, в пух и прах разнесли мои соображения! Увы, едва ли это возможно.
– Кстати, о несостыковках, – с усилием произношу я, и Фатима с Теей одновременно поднимают взгляды.
Сглатываю. Черт меня дернул заказать кофе – от него в горле горечь.
– Я тут думала… о тех рисунках, что нам в школе предъявили. Тоже ведь несостыковка по времени.
Девочки смотрят удивленно, и я продолжаю:
– Да вы сами прикиньте.
– Что мы должны прикинуть? – хмурится Фатима.
– А вот что. Амброуз умер в пятницу, так? Вспомните – тот день ведь прошел совершенно нормально.
Обе кивают.
– Вот и подумайте: если рисунки уже были у администрации, если директриса или Уэзерби успела вызвать Амброуза на ковер, зачем было ждать целые сутки, прежде чем допрашивать нас? И почему с нами говорили так, будто не знали наверняка, кто автор рисунков?
– П-потому, что… – начинает и замолкает Тея, пытаясь привести мысли в порядок. – То есть мне тоже всегда казалось, что нас допрашивали раньше, чем Амброуза. Так ведь и было, да? Иначе они бы наверняка знали, что это он нарисовал. Амброуз не стал бы отпираться, верно?
В отличие от Теи, Фатима уже догадалась. Она теперь еще бледнее, чем была; она сверлит меня огромными темными глазищами. В них – страх, который словно переливается в мои глаза, примешивается к моему страху.
– Айса, я поняла! Если Амброуза не вызывали, как он мог вообще узнать об опасности?
Киваю: да, я это и имела в виду. Ах, как я надеялась, что Фатима – с ее здравомыслием, железной логикой и развитой дедукцией – обнаружит слабину в моих рассуждениях! Теперь понятно: рассуждения мои верны, прискорбно верны.
– Подозреваю, – осторожно начинаю я, – то есть не подозреваю, а думаю, что так оно и было – в общем, ни Уэзерби, ни остальные преподы не видели рисунков до смерти Амброуза.
Повисает пауза. Долгая, исполненная ужаса пауза.
– Ты хочешь сказать… – наконец выдыхает Тея.
Видно, как старательно она думает над формулировкой, как пытается убедить себя, что я имела в виду совсем другое – только бы еще немного продержаться в мнимом неведении.
– Ты хочешь сказать, что…
Тея замолкает. Тишина осязаема, привычные звуки популярного кафе отдаляются, заглушенные фразой, которая со скрипом ворочается в моей голове. Неужели сейчас, вот прямо сейчас я это озвучу? Но ведь кто-то должен озвучить. Глубоко вдыхаю, делаю над собой усилие.
– Я хочу сказать, что Амброуза кто-то шантажировал. Что Амброуз знал: рисунки будут отправлены школьной администрации. Своим самоубийством он пытался избежать позора… Или…
Тут я останавливаюсь, подобно Тее. Потому что не в состоянии озвучить последнее соображение. Слишком оно ужасно. Если это правда, если моя догадка верна – вся ситуация предстанет в принципиально ином свете. Случившееся, содеянное нами, последствия содеянного – все обретет иной смысл.
Договорить берется Фатима. Она – врач; ей уже случалось, и не раз, выносить вердикт – жизнь или смерть. Она озвучивает диагнозы, что меняют существование целых семей; она выдает роковые результаты анализов.
Итак, Фатима залпом допивает мятный чай и ровным голосом заканчивает мою фразу:
– Или кто-то его убил.
На обратном пути факты роятся в черепной коробке, толкаются, меняются местами, создают иллюзию, будто в моих силах докопаться до истины, главное – грамотно перетасовать колоду.
Соучастие в убийстве. Или, если Фатима права – я могу стать одной из подозреваемых.
Это в корне меняет дело; меня лихорадит от одного только осознания, во что мы вляпались. Я злюсь. Нет, «злюсь» – неподходящее слово. Слишком слабое. Я в ярости. В бешенстве. На Фатиму и на Тею – за то, что не сумели переубедить меня. На себя – за то, что раньше не сообразила. Семнадцать лет я гнала мысли о совершенном в ту ночь. Семнадцать лет не думала, что же в действительности случилось; пыталась похоронить воспоминания под плитой ежедневных забот, тревог и планов; под плитой, которая весит целый центнер.
Нельзя было отвлекаться.
Надо было думать каждый день, рассматривать ситуацию под всеми углами. А что теперь? Я потеряла одну-единственную ниточку – и весь гобелен начал распускаться, вся картинка прошлого распалась.
Чем больше я углубляюсь в воспоминания, тем сильнее моя уверенность: рисунки всплыли только утром в субботу, когда Амброуз был уже мертв и даже зарыт. Я ведь говорила с мисс Уэзерби в пятницу перед ужином; она спрашивала про маму, про мои планы на выходные. Она была абсолютно спокойна. Ужас, шок и ярость ее лицо выражало в субботу утром – а накануне никто не разглядел бы и намека на эти эмоции. Конечно, может, мисс Уэзерби на диво умело притворялась, но для чего? С какой целью? У нее не было ни малейшего повода выжидать полсуток, чтобы предъявить нам доказательства. Если бы мисс Уэзерби получила рисунки в пятницу, уж она не замедлила бы вызвать нас в тот же день.
В общем, как ни крути, а вывод очевиден: рисунки всплыли после смерти Амброуза.
Но кто их подбросил? И зачем?
Вопросы почти равноценны, тут не поспоришь.
Кто-то шантажировал Амброуза – и в конце концов привел угрозу в исполнение.
Или, может, кто-то сначала убил Амброуза, а потом подбросил рисунки – как мотив для мнимого суицида?
Или… или Амброуз сам их отправил мисс Уэзерби перед тем, как принять смертельную дозу – скажем, это был жест раскаяния?
Нет, только не это. Версию отметаю практически сразу. Амброузу не следовало нас рисовать, это было неправильно и в плане этики, и с точки зрения Уголовного кодекса. По выражению Фатимы, Амброуз злоупотреблял своим положением учителя. Пожалуй, с течением лет он и сам раскаялся бы.
Но, что бы он ни чувствовал, в школу он бы рисунки не отправил. Не потому даже, что боялся за себя. Амроуз не стал бы подвергать нас подобному унижению; и уж тем более не стал бы подвергать унижению свою обожаемую дочь. Он любил нас всех, любил слишком сильно. В этом я не сомневаюсь, это «любил» повторяю в такт ударом колес электрички о рельсы, что мчит меня под землей. Глотаю пыльный теплый туннельный ветер и твержу: «Он нас любил, потому что любил Кейт, а мы были ее подругами».
Тогда чья это работа?
Может, кто из деревенских случайно заглянул на мельницу, заметил что-то и прикинул: тут есть чем поживиться? Хорошо бы так.
Потому что, если не так, если шантажист – не из деревни, то… Об этом и подумать нельзя.
Это значит, что имело место убийство.
И круг подозреваемых чудовищно узок.
Люк отпадает сразу. Со смертью Амброуза никто столько не потерял, сколько он. И дома, и сестры, и приемного отца лишился. Амброуз ведь был Люку еще и защитником.
Дальше деревенские. Ума не приложу, кто мог желать смерти Амброуза. Одно дело – шантаж и материальная выгода, тут все понятно. Но чтобы убивать своего же?
Ну и кто остается? У кого был доступ и к рисункам, и к героиновой заначке? Кто находился в доме перед самой смертью Амброуза?
Тру пальцами виски. Только бы не думать об этом; только бы забыть разговор с Фатимой и Теей – уже после кафе, по пути к станции подземки «Южный Кенсингтон», навстречу предвечернему солнцу, что било в глаза сквозь темные очки.
– Знаете, а ведь тут еще один момент, – вдруг заговорила Тея.
Она резко остановилась – прямо под аркой входа – и поднесла пальцы ко рту.
– Хорош уже ногти грызть, – сказала Фатима, но без осуждения в голосе, с одной только заботой. – Ну, что еще?
– Насчет Кейт. Насчет Амброуза. Ох, черт!
Тея взъерошила волосы, застыла с окаменевшим от страха лицом.
– Ладно, проехали. Забудьте.
– Нет уж, Тея. Сказавши «А», давай говори и «Б».
Я взяла ее за руку и добавила:
– Поделись с нами – тебе сразу станет легче. Ты ведь вся извелась. Озвучь свои подозрения. Сама знаешь: одна голова – хорошо, а две – лучше. А тут – целых три головы. Ну?
– Лучше? Как бы не так! – почти выплюнула Тея. – Мы тогда на четыре головы соображали – и вот результат.
Изменившаяся в лице, перекошенном от страха, Тея продолжила:
– Только не подумайте, что я сама в это верю… в то, что сейчас расскажу…
Она терла переносицу, не снимая очков. Мы с Фатимой ждали. Мы не торопили Тею, потому что обе чувствовали: только наше терпение способно разговорить ее.
И Тея наконец раскололась.
Оказывается, Амброуз хотел отослать Кейт. Из дома. В другую школу-пансион.
Так он сказал Тее буквально за неделю до своей смерти, тоже в выходные. Будучи сильно, очень сильно пьяным. Мы с Кейт и Фатимой в это время бултыхались в Риче, а Тея осталась на мельнице с Амброузом. Он выпил своего кислющего красного вина, уставился в потолок, словно пытаясь смириться с решением, которое ему явно очень нелегко давалось.
– Сначала он меня о школах расспрашивал. О других школах, где я до Солтена училась, – каковы они по сравнению с Солтеном. Допытывался, тяжело это или не очень – так часто менять школы. Он уже здорово набрался, местами нес околесицу – и вдруг упомянул связь между отцом и ребенком. Тут-то мне и поплохело. Потому что Амброуз имел в виду Кейт.
Тея перевела дух, словно лишь сейчас осознала смысл того разговора.
– Я ему говорю: Амброуз, не делайте этого. Вы разобьете ей сердце. Он не сразу ответил, долго молчал, а потом выдал: «Знаю. А куда деваться? То, что происходит, – неправильно. Я несу ответственность».
Дальше было примерно так: Тея стала расспрашивать, что именно неправильно, но тут послышался наш гомон, и Амброуз только тряхнул головой, взял бутылку, пошел наверх, в студию, и закрыл за собой дверь. Спрятался прежде, чем ввалились мы, мокрые, резвящиеся. Весь тот вечер и всю неделю Тея наблюдала за Кейт, пыталась понять – знает она о планах отца или не знает?
А в следующую пятницу Амброуз умер. И все рухнуло.
«То, что происходит, – неправильно. Я несу ответственность». Голос Теи, эхом повторяющий слова Амброуза, звенит в висках по дороге от метро к дому. Солнце печет затылок, но я едва замечаю жар – настолько я поглощена своими мыслями.
«То, что происходит, – неправильно». Что он имел в виду? Неужели Кейт вытворила нечто такое, что Амброуз решился отослать ее? Нет, невозможно. Весь учебный год Амброуз наблюдал, как Кейт и мы вместе с ней ошибались, принимали сомнительные решения, пробовали алкоголь и травку, оттачивали свои женские штучки. Наблюдал – не мешая нам, не упрекая, не воспитывая. С одной стороны, что удивительного? Амброуз и сам в юности отрывался – ему ли было в нас камни бросать? Поэтому он просто наблюдал – с любовью и терпением; пытался, без нотаций и угроз, донести до нас: мы подвергаем себя опасности. Один-единственный раз он действительно рассердился – когда Кейт на дискотеку взяла «колесо».
«Ты рехнулась? – кричал он, запустив пальцы в свою жидкую шевелюру, взъерошив ее так, будто это не волосы, а крысиные гнезда. – Не понимаешь, какой урон наносишь организму?! Травы тебе мало – надо себя с юности убивать?!»
Но даже тогда Амброуз не наказал Кейт, не посадил под домашний арест. Он только выразил огорчение и озабоченность. Потому что беспокоился за дочь. И за нас. Потому что хотел нам добра. Когда мы курили, он качал головой; когда замечал у Теи повязки на свежих порезах и ожогах – изменялся в лице от сострадания. Когда мы просили совета – советовал. И все. Никакого осуждения, никаких оскорблений. С Амброузом мы не чувствовали себя ни виноватыми, ни униженными.
Он нас любил. Всех. А в Кейт и вовсе души не чаял. Обожал ее до такой степени, что у меня, помню, дыхание перехватывало. Может, потому, что после смерти матери Кейт их осталось двое – она и Амброуз. Но дело не только в этом. Амброуз так смотрел на дочь, с такой бережной нежностью убирал, бывало, ей за ушко выбившуюся прядь волос, будто… будто пытался не то чтобы владеть ею пожизненно, а скорее запечатлеть самую суть Кейт, которая осталась бы с ним навсегда. Поэтому на каждом рисунке Кейт – абсолютно живая; каждый рисунок – гимн отцовской любви. Нечто похожее мне удавалось улавливать в отношениях моих родителей – но то была бледная тень чувств Амброуза, словно я смотрела сквозь затуманенное стекло или с очень большого расстояния. А в Амброузе любовь пылала ярко, если не страстно.
Нас он любил – с Кейт отождествлял себя. Представить невозможно, чтобы ему взбрело отослать ее из дома.
Что же случилось? Почему Амброуз решился расстаться с собственным сердцем?
– Ты уверена? – спросила я Тею. Вся жизнь показалась мне снежным комом, который балансирует на уступе, готовый сорваться. – Ты точно его слова запомнила?
Тея кивнула – молча, и поэтому я повторила вопрос. Тогда Тея взорвалась.
– Я дура, по-твоему? Могла в такой ситуации перепутать? Конечно, я уверена!
«Я несу ответственность».
За что, Амброуз? Какую именно ответственность? Что натворила Кейт? Или… от этой мысли все внутри переворачивается… или была другая причина? Может, Амброуз пытался защитить Кейт? От чего? Или от кого? Может, он сам что-то натворил?
Вопросы остаются без ответов, мозги кипят, ноги сами несут меня к дому. Осталось недалеко; скоро придется отмести все мысли, вновь стать женой Оуэна, матерью Фрейи.
Но вопросы продолжают меня мучить, превращаются в моем воображении в крылатых, когтистых существ – и я невольно шарахаюсь от них. Но бежать некуда, скрыться негде – и они бьют и терзают меня.
Что сделала Кейт? Что она сделала такого, что Амброуз решил отослать ее? И что она могла предпринять для своего спасения?
Соучастие в убийстве.
Соучастие в убийстве.
Столько раз мысленно повторила эти слова – а все никак не доходит. Сознание блокирует их, и точка. Соучастие в убийстве. За это сажают. Я устроила блэкаут в спальне, задернула темные шторы, чтобы не проник ни единый луч вечернего солнца. Фрейя у меня на руках, название уголовной статьи кажется ледяным душем, что каждую минуту обрушивается на мою голову. «Соучастие в убийстве».
Внезапно мрак раскалывается мыслью о предсмертной записке. И я иду на свет, который сочится сквозь эту трещину. Я кормлю Фрейю, рассчитывая, что она уснет. Она действительно почти отключилась, но когда я пытаюсь положить ее в кроватку, она задействует свои крохотные, но по-обезьяньи цепкие пальчики, принимается сосать молоко с новой силой, зарывается головкой в мою грудь, словно хочет вернуться в утробу, где было так безопасно.
Через минуту понимаю: Фрейя без борьбы не сдастся. Вздыхаю, сажусь обратно в кресло для кормления. Мысли возвращаются к Амброузу.
Записка. Он оставил записку, как классический самоубийца. Если бы он подвергся насилию, как бы он смог писать?
Я эту записку видела собственными глазами. Но вспомнить могу только короткие, какие-то усеченные фразы, да еще, пожалуй, характер почерка – словно писавший в конце уже еле владел рукой и сознанием.
«Я ухожу добровольно и с миром. Помни, моя дорогая Кейт, что я принял это решение из любви к тебе… Я совершаю то единственное, что способно защитить тебя… других способов все исправить я не знаю. Я тебя люблю, и вот моя последняя просьба: живи, люби, будь счастлива. А главное – поступай так, чтобы случившееся не было напрасным».
Любовь. Попытка защитить. Жертва. Эти слова я запомнила, с ними жила. Они казались исполненными смысла – в контексте версии, которую я считала верной. Если бы Амброуз не умер, какой скандал разразился бы из-за рисунков! Имя Амброуза было бы очернено, а с ним вместе – и имя Кейт. Все ее будущее втоптали бы в грязь.
В то субботнее утро, когда нас вызвали в кабинет мисс Уэзерби, у меня было ощущение, что детали головоломки стоят на своих местах. Амброуз предвидел катастрофу и сделал то единственное, что мог сделать ради спасения Кейт, – пожертвовал собственной жизнью.
Но сейчас… сейчас эта версия больше не кажется убедительной.
Потому что на моих коленях – моя дочь; потому что немыслимо по доброй воле оставить ее на произвол судьбы. Нет, конечно, я в курсе – родители иногда совершают суицид. Статус отца или матери не дает иммунитета к депрессии и стрессу – скорее наоборот.
Но Амброуз не страдал депрессией. В этом я совершенно уверена. Вдобавок не много найдется людей, столь же равнодушных к собственной репутации. Средства у Амброуза были. Друзья за границей имелись в достаточном количестве. А еще он любил обоих детей. Неужели он мог оставить их расхлебывать кашу, к которой боялся притронуться сам? Нет. Амброуз, которого я знала, сгреб бы сына и дочь в охапку и дернул с ними в Прагу, в Таиланд, в Кению – и он бы плевать хотел на скандал, потому что и талант, и дети остались бы при нем, а для него только это и имело значение.
Кажется, я всегда это понимала – подспудно. Понадобилось самой стать матерью, чтобы пришло ясное осознание.
Наконец Фрейя засыпает. Ротик разжимает хватку, головка клонится набок. Осторожно кладу ее на белую простынку, на цыпочках крадусь из спальни. Я иду вниз, в гостиную, где Оуэн смотрит что-то спасительно-отупляющее производства компании «Нетфликс».
При моем появлении он отрывается от экрана.
– Уложила?
– Да. Сегодня она долго не засыпала. Кажется, недовольна, что я ее на полдня оставила.
– Иногда полезно от мамочкиной юбки отцепиться, – поддразнивает Оуэн.
Знаю, он пытается меня развеселить. Но я устала, я совершенно вымотана и выбита из колеи. Конверт с ксерокопиями рисунков из головы не идет, да еще откровение Теи… Сама того не желая, огрызаюсь:
– Господи, Оуэн! Ей же всего шесть месяцев!
– Да в курсе я, в курсе! – Оуэн делает глоток пива, бутылка которого стоит на подлокотнике дивана. – Возраст Фрейи мне известен не хуже, чем тебе. Она ведь и моя дочь – по крайней мере, мне это внушают.
– Тебе это внушают? – Чувствую, как вспыхивают щеки, как звенит от возмущения голос: – Тебе это внушают? Ты что имеешь в виду?
– Айса! – Оуэн с грохотом ставит на подлокотник бутылку. – Держи себя в руках! Какая тебя муха укусила?
– Муха? – От ярости даже говорить не могу. – Ты намекаешь, что Фрейя – не твоя дочь, а меня про муху спрашиваешь?
– Фрейя – не моя дочь? Черт возьми!
Оуэн обескуражен – видно, что он прокручивает последние фразы нашего разговора. Наконец до него доходит.
– Да нет же! Ты с ума сошла! Ты и правда подумала, что я сомневаюсь?.. Я только имел в виду, что тебе надо меньше суетиться. Я – отец Фрейи, но как я могу себя проявлять? Ты меня совсем отстранила от забот о собственном ребенке. С чего ты взяла, будто я намекаю, что Фрейя…
Тут он замолкает – наверное, нечего ответить. Чувствую, как вспыхивают щеки – я только что поняла, что Оуэн имел в виду. Однако досада и не думает спадать. Наоборот, теперь она переросла в полноценный гнев. Как известно, лучший способ защиты – нападение. Особенно когда защищающийся – не прав.
– Вот, значит, как. Отлично, – цежу я. – Ты, оказывается, просто-напросто имел в виду, что я – психованная наседка, которая не доверяет мужу подгузник сменить. Что ж, это совсем другое дело. Разумеется, за такую ерунду я не сержусь.
– Господи, Айса! Перестанешь ты уже за меня говорить?! – кричит Оуэн.
– Как мне перестать? Ты ведь ходишь вокруг да около, намеками бросаешься! – Мой голос дрожит. – Знаешь, я сыта по горло. Меня твои придирки, которые ты маскируешь под шутки, уже достали. Что ты ко всему цепляешься? То тебя к купанию допусти, то это вечное «Давай на искусственное вскармливание перейдем», то ты недоволен, что я Фрейю к себе в постель беру. Ты меня каждый раз унижаешь…
– Это не придирки и не шутки. Это предложения, – жалобно перебивает Оуэн. – Да, ты права – это все меня с некоторых пор раздражает. Фрейе уже полгода. Пора начать прикорм. Честное слово, странно давать ей грудь, когда у нее зубки режутся.
– Да при чем здесь это? Фрейя еще младенец. Прикорм! Давай, прикармливай, кто тебе мешает?
– Да ты мешаешь! Ты! Каждую ночь одно и то же. Фрейя меня вообще не воспринимает, а почему? Потому, что ты, чуть она захнычет, прикладываешь ее к груди!
Теперь меня трясет. Ни минуты не хочу говорить с Оуэном.
– Спокойной ночи, – выдавливаю я и делаю шаг к дверям.
– Погоди! – Оуэн вскакивает с дивана. – Не надо демонстрировать свою власть. Я вообще не хотел ссориться. Не собирался даже! Это ты спровоцировала!
Не отвечаю. Иду к лестнице.
– Айса, – зовет Оуэн – полушепотом, чтобы не разбудить Фрейю, но очень настойчиво. – Айса! Почему ты так себя ведешь?
Я молчу. Я даже не оборачиваюсь. Если открою рот – непременно выдам нечто, способное оставить от наших отношений одни руины.
То есть правду.
Просыпаюсь. Фрейя под боком. Оуэна нет. Не могу понять, откуда эти тоска и стыд. Потом – вспоминаю.
Черт. Оуэн что, в гостиной спал? Или лег очень поздно, а поднялся ни свет ни заря?
Осторожно встаю, стягиваю пуховое одеяло, расстилаю на полу – вдруг Фрейя неловко повернется и свалится с кровати? Набрасываю пеньюар, на цыпочках спускаюсь по лестнице.
Оуэн сидит в кухне, пьет кофе и смотрит в окно. При моем появлении поднимает взгляд.
– Прости за вчерашнее, Оуэн.
Лучше прямо с этого начать. Оуэн меняется в лице. Непонятно, что он чувствует – что гора с плеч свалилась или что все скверно, сквернее некуда.
– И ты меня прости. Я вел себя как последний придурок. Наговорил всякого…
– Да нет, ты прав. То есть не во всем. Не насчет грудного кормления, конечно. В целом прав. Постараюсь активнее тебя задействовать. Все равно никуда не денешься. Фрейя растет, скоро у нее не будет такой необходимости во мне. И потом, я ведь хочу выйти на работу.
Оуэн поднимается, обнимает меня, устраивает подбородок на моей макушке. Под моей щекой бугрятся теплые мускулы его груди. Делаю долгий вдох, сама чувствую, как дрожит гортань. Выдыхаю.
– Как с тобой хорошо, – удается выдать мне.
Оуэн кивает. Мы стоим обнявшись долго, очень долго. Теряем счет времени. Наконец сверху слышатся звуки – вроде чириканья. Вздрагиваю.
– Ой, я же Фрейю на кровати оставила. Она скатиться может.
Хочу бежать в спальню, но Оуэн меня удерживает.
– Мы же договорились – или забыла? К Фрейе подойду я.
С улыбкой киваю. Оуэн бежит вверх по лестнице. Закипает чайник. Слышу, как Оуэн воркует над Фрейей. Наверное, взял ее на руки. Она смеется чуть сдавленно – как всегда, когда Оуэн прикрывает ее лицо одеяльцем, а потом выглядывает. Игра называется «А где у нас папочка?».
Пью чай. Над головой слышны шаги Оуэна, шорох пластикового пакета – Оуэн вскрыл упаковку с подгузниками, переодевает Фрейю. Затем раздается легкий скрип – это он выдвинул ящик комода, чтобы достать распашонку. Как долго он возится! Я бы уже десять раз справилась. Подавляю желание подняться, сделать все вместо него.
Наконец в дверном проеме появляется Оуэн с Фрейей на руках. До чего они похожи, просто сердце тает. И мало внешнего сходства – оба со сна взъерошенные, оба расплываются в улыбках. Каждый доволен и собой, и другим, а еще они радуются солнечному утру.
Фрейя тянет ко мне ручки. Хочется броситься к ней, но я помню слова мужа – и только улыбаюсь, продолжая сидеть за столом.
– Привет, мамочка, – серьезно говорит Оуэн, переводя взгляд с меня на Фрейю и обратно. – Мы тут посовещались и решили, что тебе нужен выходной.
– Выходной?
Почему-то слово вызывает тревогу.
– Что еще за выходной?
– Ты должна побаловать себя и полностью расслабиться. Ключевое слово «полностью». Вид у тебя измотанный, и мы с Фрейей считаем, ты заслужила отдых. От нас.
Я вовсе не хочу отдыхать от Фрейи. На самом деле только благодаря ей я пока не свихнулась. Но нельзя же об этом заявить.
– Возражения не принимаются, – поспешно говорит Оуэн. – Придется отдыхать. Через «не могу». Потому что я уже оплатил тебе целый день в спа-центре. Если не хочешь, чтобы деньги ушли впустую, поторопись. Тридцать три удовольствия начинаются ровно в одиннадцать утра. Мы с Фрейей отлично справимся и без мамочки. Учти, – Оуэн смотрит на часы, – тебе запрещено появляться дома до четырех пополудни.
– А что она будет есть?
– Молочную смесь. – Оуэн щекочет Фрейю под подбородочком. – А может, мы расхрабримся и отведаем пюре из брокколи! Ты как на это смотришь, мордашка?
Не нужен мне никакой спа-центр. Целый день безделья – это даже неприлично. Нет, я должна двигаться, чем-то заниматься, гнать всякие «а если», противостоять страхам. Открываю рот… но сказать ничего не могу. Ничего, кроме «ладно».
Выйдя из дома, машу рукой – а у самой живот скрутило от перспективы остаться один на один с мыслями о солтенских событиях. Впрочем, оборачивается все совсем неплохо. В подземке я, вся напряженная, будто палку проглотила, скриплю зубами от мигрени, что из зоны мозжечка ползет вверх, к вискам. Но зато в салоне опытная массажистка буквально выбивает из моего тела дурные мысли. Целых два часа я думаю только о боли в мышцах, о зажатости воротниковой зоны и плечевого пояса, от которых меня стараются избавить.
– Вы очень напряжены, – говорит массажистка. – В позвоночнике, особенно в верхней части, сплошные узлы. У вас, наверное, стресс на работе?
Неопределенно качаю головой. Молчу. Рот открыт. Чувствую, как из сосков сочится молоко, пачкая полотенце с логотипом спа-центра. Ну и пусть пачкает.
Хорошо бы здесь поселиться, твердит тело, которое наконец-то расслабилось. Нельзя, отвечает разум. Надо возвращаться. К Кейт, Фатиме и Тее. К Оуэну. К Фрейе.
С опустевшей головой, сонная, умиротворенная, выхожу из салона часа через четыре. Волосы непривычно легки – их подстригли до середины шеи; мышцы расслаблены и разогреты, я даже словно чуточку пьяна. А это потому, что мое тело вновь принадлежит мне. И никому другому. Ничто не угнетает меня. Даже сумка плечо не оттягивает. С рождения Фрейи я таскаю объемную сумку-шопер от «Марни» – там есть место и для подгузника, и для салфеток, и для сменной одежки. Но сегодня я оставила ее дома. Кошелек и ключи лежат сейчас в плоской сумочке-клатче размером с конверт, с декором из нефункциональных «молний», которые, уж конечно, как магниты притянут любого любознательного младенца. С этой сумочкой, что целых шесть месяцев провела в забвении, в которую еле вмещаются кошелек, мобильник, ключи и бальзам для губ, я вновь чувствую себя юной, беззаботной – прежней.
На выходе из метро меня захлестывает волна любви к Оуэну и Фрейе. Словно я их обоих сто лет не видела, словно на другом конце света была.
Все уладится. Почему-то сейчас я в этом уверена. Все обязательно уладится. Мы, конечно, совершили ужасную глупость – но мы ведь не убивали Амброуза, и не провоцировали на самоубийство, и вообще ничего такого не делали. В полиции это поймут – если вообще нас вычислят.
Поднимаясь по лестнице в квартиру, навостряю уши: не плачет ли Фрейя? Нет, все тихо. Может, они погулять пошли?
Поворачиваю ключ в скважине – осторожно, почти бесшумно. Вдруг Фрейя спит? Вхожу. Шепотом зову Оуэна. Молчание. В кухне пусто, ею владеет послеполуденный солнечный свет. Ставлю турку на плиту, варю себе кофе. Выпью его в спальне.
Нет, не судьба.
Потому что путь к лестнице лежит мимо гостиной. И от того, что там происходит, у меня перехватывает дыхание.
Оуэн сидит на диване, уронив лицо в ладони. Перед ним, на журнальном столике, два предмета – как два вещдока. Первый – пачка сигарет из моей сумки – той самой, от «Марни», которая сегодня осталась дома.
Второй – конверт с солтенским штемпелем.
Застываю в дверях. Сердце скачет, не могу говорить. Оуэн берет один из рисунков – со мной, обнаженной.
– Может, объяснишь, что это все значит?
Сглатываю. Во рту пересохло, в горле ком – колючий, огромный.
– То же самое я хочу у тебя спросить, – цежу я. – Почему ты рылся в моих вещах?
– Как ты могла?
Оуэн говорит тихо – ясно, что Фрейя недавно заснула.
– Как ты могла? Ты оставила дома чертову сумку, и Фрейя в нее залезла. Она… она потянула в рот и стала жевать… вот это. Вот эту дрянь!
Мне в лицо летит пачка сигарет. Падает у моих ног. Сигареты рассыпаются по полу.
– Я застал свою дочь мусолящей сигарету! Как ты смела мне лгать?
– Я… я…
Что скажешь, если крыть нечем? Гортань ноет от усилия не выдать правду.
– А что касается вот этого… – Оуэн трясет рисунком, – у меня даже нет версий. Айса, ты что… у тебя кто-то есть?
– Я? Ты с ума сошел!
Слова оправдания вылетают прежде, чем я успеваю подумать.
– Конечно, нет! Это не я нарисована. Не я!
Глупо, очень глупо. Потому что сходства только слепой не заметит. Амброуз был настоящим художником, все черты переданы с неумолимой точностью. Я имела в виду, что изображена не я сейчас. Разве я сейчас такая? Тело никак не придет в норму после беременности; живот обвис, и далее по списку. Стройной, как на рисунке, я была давным-давно.
По лицу Оуэна ясно: он поймал меня на лжи. Может, еще выкручусь?
– В смысле, Оуэн, это я, да, но это совсем не то, что ты ду…
– Не лги мне! – бросает Оуэн. И вдруг отворачивается, словно не в силах больше смотреть на змею вроде меня. Отходит к окну и продолжает: – Я звонил Джо. Она сказала, что вчера не было никакой гребаной встречи. Это ты с ним спишь, да? С этим, чтоб его побрал, братом Кейт, или кем он там ей приходится? Потому он и розы прислал?
– Ты про Люка? Нет! Как тебе только в голову пришло!
– Ну а с кем? С кем? Конвертик из Солтена! Я не дурак и не слепой – я на штемпель посмотрел. Ты для того к Кейт ездила? Дом свиданий у нее, да?
– Люк этого не рисовал! – кричу я.
– Тогда кто это рисовал? Кто?
Оуэн кричит, снова поворачиваясь ко мне. Лицо перекошено от ярости и боли, щеки пошли красными пятнами, рот – квадратный, как у ребенка, собирающегося разразиться ревом.
– Кто?!
Я колеблюсь, и пауза предоставляет Оуэну что-то вроде права с презрением фыркнуть. В следующий миг он резко рвет рисунок пополам, вдоль. Линия проходит по моему лицу, разделяет мои груди, мои ноги. Два клочка падают на пол, Оуэн разворачивается, словно собираясь уйти.
– Оуэн, подожди, – выдавливаю я. – Это не Люк рисовал. Это…
Тут я умолкаю. Нельзя открывать ему правду. Нельзя называть имя Амброуза, потому что оно потянет за собой все дальнейшие события. Как же объясниться? Только одним способом.
– Это… это рисовала Кейт, – наконец произношу я. – Давно. Когда мы еще в школе учились.
Он подходит очень близко, почти вплотную. Берет меня за подбородок, всматривается в глаза, не дает отвести взгляд – словно хочет проникнуть внутрь, прямо в душу. Стараюсь держаться дерзко и независимо, смотреть честно не получается. Глаза бегают, потому что меня пугают неприкрытая боль и ярость Оуэна.
Он морщится, опускает руку, цедит:
– Лгунья. – И идет к дверям.
– Оуэн, постой…
Бросаюсь вперед, перекрывая ему выход.
– Пусти, Айса.
Оттолкнув меня, он идет в холл.
– Ты куда?
– Не твое дело. В паб. Или к Майклу. Не знаю. Только…
Говорить он не может, иначе сорвется. Все его силы – и это видно – направлены на то, чтобы не выпустить отчаяние наружу.
– Оуэн!
Я кричу ему вслед, но он уже у входной двери. Оуэн останавливается. Руку держит на дверной ручке, ждет: что я еще навру? И в это время сверху доносится крик – пронзительный, с каждой долей секунды прибавляющий децибел. Мы разбудили Фрейю.
– Оуэн, я… я…
Сконцентрироваться мешают крики дочери – словно булькающая струя, они вымывают из головы все мысли.
– Оуэн, прошу тебя…
– Иди к ней, – говорит он почти нежно.
В следующую секунду дверь за ним захлопывается, а я, почти на ощупь, поднимаюсь в спальню – подавляя собственные всхлипы, ведо́мая требовательным криком Фрейи.
Оуэн не возвращается. Впервые за все время нашей совместной жизни он себе такое позволил – уйти на целую ночь, пропасть, не сообщив, куда направился и когда явится.
Ужинаю одна – то есть с Фрейей. Укладываю ее, меряю квартиру шагами, не зажигая света, пытаюсь разобраться в ситуации, выработать план действий.
Самое скверное – Оуэна винить нельзя. Он понял, что я ему лгу, и дело не только в моей глупой версии насчет кофе с подругами по курсам для молодых родителей. Оуэн что-то подозревает с того самого дня, как я уехала к Кейт. И он прав. Я ему все время лгала. И не знаю, как остановиться.
Отправляю ему сообщение – всего одно, потому что не хочу унижаться. «Пожалуйста, возвращайся. Или, по крайней мере, дай знать, что с тобой все в порядке».
Оуэн не отвечает. Ну и что мне думать?
Около полуночи приходит сообщение от Эллы, подруги Майкла. «Не знаю, что вы там не поделили. Оуэн у нас. Останется на ночь. Пожалуйста, не говори ему про это сообщение, а то подумает, что я лезу не в свое дело. Просто, как представила, что ты там сейчас одна и места себе не находишь от тревоги…»
Волна облегчения осязаема – я словно шагнула под горячий душ. «ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!» – пишу в ответ Элле. Спохватившись, пишу снова: «Не волнуйся, я ему не скажу. Еще раз спасибо».
Половина третьего ночи. Лишь теперь я ложусь в постель. Проходит немало времени, прежде чем мне удается уснуть на мокрой от слез подушке.
Просыпаюсь в совершенно другом настроении. Отчаяния больше нет. Оно уступило место злости. Я зла на себя, на свое прошлое, на свою недальновидность.
А еще я зла на Оуэна.
Мысленно меняюсь с ним ролями. Допустим, Оуэн получил алые розы от старой подруги, затем – анонимный конверт с рисунками. Очень может быть, что я бы тоже вышла из себя. Очень может быть, что стала бы бросаться обвинениями. Но я никогда не ушла бы от мужа и ребенка, не сказав, куда направляюсь. И я бы постаралась поверить в ту версию, которую изложил бы мне Оуэн.
Сегодня понедельник, значит, до вечера его можно не ждать. Запасной костюм Оуэн держит в офисе, так что домой ему заскакивать незачем. Разве только побриться. Но времена, когда департамент по гражданским делам требовал от своих сотрудников-мужчин младенчески гладких щек, канули в прошлое. И вообще, Оуэн может позаимствовать бритву и прочее у Майкла.
Несу Фрейю в слинге в парк. Прикидываюсь, что ничего не случилось. Гоню мысли, всякие «что, если».
Семь вечера. Оуэна нет. Давлюсь ужином в одиночестве. Укладываю Фрейю. Ложусь сама – не в нашу постель, нет. На диван в гостиной. Укрываюсь пледом, несмотря на летнюю жару. Тут-то я и слышу этот звук – поворот ключа. Сердце колотится где-то в горле. Резко сажусь, кутаюсь в плед – он мне вроде щита. Только закутавшись, поворачиваю голову.
В дверях стоит Оуэн. Костюм жеваный, лицо помятое. Пьян?
Молчим. Не знаю, чего ждет каждый из нас. Может, извинений другого.
– Ризотто на плите, – наконец с усилием произношу я. – Если ты голоден.
– Не голоден, – бросает Оуэн, однако идет в кухню и гремит посудой. По тому, как он ставит на стол тарелку, как роняет нож с вилкой и как неловко лезет за ними, поднимает и снова умудряется уронить, мне понятно: пьян. Черт, придется идти к нему. Еще обожжется или галстук свой подожжет.
Оуэн сидит за столом, лицо в ладонях, тарелка с холодным ризотто под носом. Не ест. Смотрит в тарелку с пьяным отчаянием.
– Давай я, Оуэн.
Забираю тарелку, ставлю в микроволновку. Через несколько секунд возвращаю ему, дымящуюся, и он начинает механически есть, кажется, не чувствуя, что ризотто сильно перегрето.
– Оуэн… Насчет вчерашнего…
Он поворачивается. В глазах его столько мольбы и боли, что я понимаю: он тоже устал. Он хочет мне верить, примет сейчас любое объяснение, потому что его главное желание – чтобы ссора кончилась, чтобы его вчерашние выпады оказались глупыми, напрасными. Делаю глубокий вдох. Только бы слова подобрать…
Как только я собираюсь заговорить, звонит мобильник. Мы оба вздрагиваем.
На экране высветилось «Кейт». Может, не отвечать? Но я отвечаю – то ли по привычке, то ли из страха.
– Алло.
– Айса?
В голосе паника. Ясно: все плохо.
– Айса, это я.
– Слушаю. Что случилось?
– Насчет папы. – Кейт сдерживает рыдания. – Насчет его… тела. Они спрашивали… они мне сказали…
Кейт умолкает. Слышно ее учащенное дыхание. Она явно сдерживается, чтобы не разрыдаться.
– Кейт, Кейт, тише! Сделай вдох. Теперь выдох. Вот так. Что они тебе сказали?
– Что смерть подозрительная. Меня вызывают на допрос.
Все мое тело холодеет, ноги словно ватные. Сползаю на стул рядом с Оуэном, как будто мышечный каркас вовсе отказал.
– Господи, Кейт.
– Можешь приехать? Нам… мне нужно с тобой поговорить.
Ну конечно. Кейт учла, что Оуэн может находиться рядом, и старается умалить страшный смысл своей просьбы. Мы должны встретиться, причем немедленно, до того, как полиция станет допрашивать Кейт – или всех нас. Мы должны сочинить общую легенду.
– Я приеду, Кейт. Сегодня же. Последним поездом. Он в половине десятого. Успею. Такси возьму до вокзала.
– Ты уверена? – Кейт уже рыдает в открытую. – Я знаю, что слишком многого прошу. Но Фатима не может приехать, у нее дежурство, а Тея вообще не отвечает.
– Уверена, конечно. Жди.
– Спасибо, Айса. Спасибо тебе. Это очень важно. Сейчас же позвоню Рику, чтобы он встретил тебя на вокзале.
– До скорого. Держись там. Люблю.
Лишь отложив мобильник, замечаю помятое лицо мужа, красные от усталости и алкоголя глаза. Понятно, какие выводы он сделал из разговора. Сердце падает.
– Ты в Солтен едешь? – цедит Оуэн. – Опять?
– У Кейт проблемы.
– К черту твою Кейт!
Он кричит, заставляя меня вздрогнуть. Схватив почти полную тарелку ризотто, он вываливает содержимое в раковину, забрызгав кафель. Лишь затем начинает говорить – мягче и тише, с дрожью в голосе:
– Подумай о нас, Айса. Подумай обо мне.
– Сейчас я должна думать о Кейт.
Трясущимися руками беру тарелку и включаю воду.
– Не о тебе, а о Кейт. Она во мне нуждается.
– Это я в тебе нуждаюсь!
– Обнаружено тело ее отца. Она совсем разбита. Как, по-твоему, я должна поступить?
– Тело отца? Это в смысле – труп? Да что ты несешь?
Тру виски пальцами. Нет, это невыносимо. Я не сумею внятно объяснить, запутаюсь между правдой и ложью. Оуэн мне не поверит. В таком состоянии он никому и ничему не поверит. Он провоцирует скандал, ищет доказательства, что им, бесценным, пренебрегает мать его ребенка.
– Слушай, все сложно. Я нужна Кейт, это главное. И я к ней поеду.
– Вранье! Вы с Кейт все нарочно подстроили. Она без тебя семнадцать лет прекрасно жила – как и ты без нее. Какого она тебе сейчас сдалась, а? Молчишь? Она пальцами щелкнула – и ты к ней готова мчаться на ночь глядя. Это вне моего понимания, Айса.
Почти то же самое говорил Люк. Я настолько ошарашена, что целую минуту не могу ответить. Стою, тяжело дыша, словно после пощечины. А потом мои ладони сами собой сжимаются в кулаки. Стараясь не сорваться, разворачиваюсь к двери.
– Прощай, Оуэн.
– Прощай? – Он шагает ко мне, поскальзываясь на ризотто. – Что значит «прощай»?
– Что тебе угодно.
– Мне угодно, – дрожащим голосом начинает Оуэн, – чтобы для тебя главную роль играли наши отношения. С рождения Фрейи я себя ощущаю последним в пресловутом гребаном списке. Мы больше не разговариваем. А теперь еще и это!
Не пойму, о чем он – о Солтене? О Люке? А может, о Фатиме, Тее и Кейт? Или… или даже о Фрейе?
– Меня это достало! Слышишь? Меня достало быть последним в списке!
При этих словах что-то щелкает в моем сознании. Мне больше не грустно. И не страшно. Я – взбешена.
– Так вот оно что! Люк, значит, ни при чем! И Кейт тоже, и даже дурацкая пачка сигарет! Дело в тебе, Оуэн. Ты не можешь пережить, что отныне не ты центр вселенной!
– Да как ты смеешь? – Язык у него заплетается. – Сама же мне врала – и на меня сваливаешь вину? Я с тобой поговорить пытался, Айса. Неужели тебе наплевать на наши отношения?
Нет, конечно. Не наплевать. Но сейчас, вот прямо сейчас, я на грани. Еще одно обвинение со стороны Оуэна – и я расколюсь. Все ему выложу. А этого допустить нельзя.
Стремительно иду к двери, почти бегом поднимаюсь в спальню. Начинаю собирать сумку. Запихиваю все подряд – подгузники, свое белье, распашонки. Несколько блузок. Какие-то штаны. Плевать, что не по погоде. Сейчас главное – уехать. Отсюда, из этого дома.
Вынимаю проснувшуюся, недовольную Фрейю из кроватки, заворачиваю в шерстяной кардиган – ночью прохладно и сыро. Вскидываю сумку на плечо.
– Айса!
Оуэн, багровый от ярости, караулит в прихожей.
– Айса, не делай этого!
– Оуэн, я…
Фрейя начинает вырываться, и одновременно жужжит телефон. От кого сообщение? От Теи? От Фатимы? Не знаю. Даже думать не могу.
– То есть ты к нему уезжаешь, да? – истерит Оуэн. – К брату Кейт? Так? И сообщение от него, верно?
Все, хватит. Это была последняя капля.
– Да пошел ты!
Отталкиваю его плечом, хлопаю дверью. Фрейя вздрагивает, ударяется в рев. Коляска стоит на первом этаже. Укладываю Фрейю, брыкающуюся изо всех сил, а у самой руки трясутся. Игнорирую вопли, подобные вою сирены; открываю дверь, выкатываю коляску на крыльцо и тащу вниз по ступеням.
Не успеваю дойти до калитки, когда дверь распахивается, и выскакивает разъяренный Оуэн.
– Айса! – вопит он.
Продолжаю путь.
– Айса! Ты не можешь вот так взять и уйти!
Очень даже могу. Слезы катятся по щекам, сердце того гляди разорвется.
Но я продолжаю идти.
Погода меняется, кажется, одновременно с отправлением поезда. По сельской местности мы едем уже под ливнем. Температура резко упала – в пригородах была еще предгрозовая духота, сейчас холодно и промозгло, почти как осенью.
Сижу, озябшая, прижав к груди Фрейю – этакую живую грелку. Пытаюсь и не могу осмыслить произошедшее. Я что – ушла от Оуэна? Мы и раньше ссорились, и даже по-крупному. Парам вообще свойственно пререкаться, цепляться к мелочам, грызться, и мы – не исключение. Сегодняшняя ссора серьезнее всех предыдущих. Мало того, она – первая с появления Фрейи. Когда Фрейя родилась, в наших отношениях произошла перемена. Ставки, что ли, поднялись. Словом, мы пустили корни, стали терпимее друг к другу; осознали – нельзя раскачивать лодку так сильно и так часто, ведь теперь мы в этой лодке не одни, с нами – наш ребенок.
А сейчас… сейчас лодка дала такой крен, что спастись нам обоим вряд ли удастся.
Несправедливость обвинений Оуэна жжет мне горло как кислота. «У тебя кто-то есть». Ха! Да я, с тех пор как родила Фрейю, почти безвылазно сижу дома! Мой организм мне не принадлежит – Фрейя, прицепившись, словно репей, вытягивает, заодно с молоком, и мою энергию, и мое либидо. Я вымотана, я задергана Фрейей. Настроиться на близость с Оуэном, ответить на его желание – целая история. И Оуэн это знает. Он отлично знает, как я устала, как стесняюсь своего дряблого тела. Неужели он и правда решил, что я, сунув Фрейю под мышку, пускаюсь во все тяжкие с прежним пылом? Ерунда! Я бы расхохоталась, если бы не чудовищная нелогичность такого подозрения.
И все-таки… Все-таки, взбешенная донельзя, я вынуждена признать: в некотором смысле Оуэн угадал. Не насчет романа, нет. Просто, пока поезд катится к югу, остывает мой гнев и в душе зарождается зернышко вины. Оэун прав в главном – я ему лгу. Ложь ведь не всегда идентична измене с другим мужчиной. Изменять можно по-разному, и эффект будет не менее, если не более пагубным, чем от измены. Я не была искренна с самого знакомства с ним, но сейчас я перешла черту. Я лгу напропалую. Оуэн догадался: случилось что-то плохое, и я пытаюсь это скрыть. Он просто не знает, в чем конкретно проблема. Жаль, что нельзя ему рассказать.
От желания поделиться сосет под ложечкой. И в то же время… я отчасти рада, что не имею на это права. Тайна не моя, не мне и решение принимать. Ну а если бы задействована была только я одна? Как тогда? Не знаю.
С одной стороны, я не хочу лгать Оуэну, с другой – не хочу, чтобы он узнал правду. Чтобы видел во мне ту, кем я была, кем являюсь, – лгунью. Не такую, которая солгала один раз, но такую, которая лжет постоянно. Ведь я участвовала в сокрытии трупа, разрабатывала и продолжаю разрабатывать легенды со своими подельницами. А возможно, на мне и другое преступление, похуже – содействие в сокрытии убийства.
Если все это всплывет – будет ли Оуэн любить меня?
Не уверена. Потому мне и плохо.
Если бы речь шла только о любви Оуэна, я, пожалуй, и рискнула бы. По крайней мере, в этом я себя убеждаю. Но на кону – еще и его карьера. Потому что анкеты, которые требуется заполнять при поступлении на работу в министерство… эти анкеты дьявольски подробны.
Соискателя спрашивают, не играет ли он в азартные игры, не употреблял ли наркотики… и да, не привлекался ли он к уголовной ответственности. Зачем? Чтобы найти рычаги давления, которые могут использовать злоумышленники в попытке получить информацию, принудить его к мошенничеству. А еще в этих анкетах есть вопросы о партнере, о семье, о друзьях, и, чем выше метит соискатель, тем дотошнее будут его расспрашивать и тем тщательнее взвешивать ответы.
А знаете, какой вопрос – последний? Вот какой: «Есть ли в вашей биографии событие, которым вас можно шантажировать? Если да, заявите о нем сейчас».
И я, и Оуэн заполняли эти анкеты, причем неоднократно. Мне приходилось это делать каждый раз при переводе на новое место службы, Оуэну – каждый раз, когда ему повышали категорию допуска к секретной информации в Министерстве внутренних дел. И я все время лгала. Все время.
Одного факта лжи достаточно, чтобы я вылетела с треском. Но, открыв правду Оуэну, я сделаю его сообщником. Суну в петлю и его голову тоже. Даже сокрытие трупа – ужасное дело. А соучастие в убийстве…
Закрываю глаза, отгораживаясь от тьмы, от дождя, что стучит в окно вагона. Ощущение, будто, сойдя с тропы, я пустилась напрямик по соляному маршу. Почва дрожит, в следах мигом собирается жижа, ноги вязнут. Каждый шаг приближает меня к сердцу топей, скоро станет невозможно пойти на попятную…
– Дорогая, ты вроде говорила – до Солтена едешь?
Надтреснутый ласковый голос заставляет меня вздрогнуть. Фрейя просыпается от толчка, сердито вскрикивает.
– Что?
В уголке рта скопилась слюна. Поспешно утираюсь салфеткой, таращусь на старушку, что сидит напротив.
– Что, простите?
– К Солтену подъезжаем, милая. Ты вроде кондуктору говорила, что в Солтене выходишь?
– Боже! Да, спасибо!
Темнота такая, что я вынуждена прикрыть глаза ладонями. Приникаю к мокрому окну, щурюсь. За окном – перрон и слабо подсвеченное название станции.
Действительно, Солтен. Вскакиваю, сгребаю сумки, набрасываю пальто. Фрейя в полусне сучит ножками. Игнорирую ее недовольство, почти бегу к дверям.
– Дай-ка, дорогая, я тебе дверь придержу, – предлагает старушка, наблюдая, как я укладываю сопротивляющуюся Фрейю в коляску, как застегиваю над ней капор.
В свистке дежурного – какая-то категоричность. Толкаю перед собой коляску. Мокрый перрон поблескивает, пальто уже исполосовано дождем. Фрейя проснулась, глазищи огромные. От страха она, кажется, даже зареветь не может – только слабо попискивает. Хлопая полами пальто, бегу по перрону. Хоть бы Кейт приехала с Риком. Хоть бы Кейт приехала с Риком.
Слава богу, Кейт сидит в такси. Ее силуэт угадывается за запотевшими стеклами, мотор работает. На сей раз я не забыла упаковать адаптер для детского кресла. Пристегиваю Фрейю, и такси трогается, подскакивая на проселочных ухабах.
Разговаривать нельзя – Фрейя хнычет, безутешная, не понимающая, зачем ее выдернули из уютного вагонного тепла и куда тащат сквозь промозглую ночь. Каждый всхлип царапает мою плоть, но, по крайней мере, есть причина не вести с Риком светский разговор. Потому что мои мысли заняты рисунками, предсмертной запиской Амброуза, розами, кровавыми царапинами от шипов.
На мельнице потоп. Целые лужи в гостиной, почти болота – в дверных проемах. Трухлявые оконные рамы не спасают от косого дождя, расшатанные половицы образуют углубления для скопления воды.
– Кейт, – начинаю я, перекрывая всхлипы дочери и грохот волн о мостки.
Кейт качает головой, указывая на часы. Почти полночь.
– Иди спать. Утром поговорим.
Делать нечего. Киваю, несу своего плачущего ребенка по ступеням в спальню – ту самую, где мы жили несколько недель назад, где после нас не сменено постельное белье на кровати Люка. Ложусь на бок. Всхлипы Фрейи становятся реже, переходят в икоту… а я погружаюсь в сон.
Просыпаюсь рано. Не встаю – привыкаю к освещению. Хотя еще и солнце не встало толком, комната ослепительно светла. Но свет холодный, рассеянный и какой-то зябкий. Перевожу взгляд на окно. Морской туман поднялся над устьем Рича, завесил мельницу вместе с окрестностями бледно-серым небесным тряпьем. Угол окна затянут паутиной, инкрустированной капельками влаги. Сразу возникают ассоциации с солтенскими рыболовными сетями.
Предплечья покрылись гусиной кожей. Закутываюсь в одеяло, поворачиваюсь на другой бок. Что-то Фрейя подозрительно тихо себя ведет.
От увиденного сердце останавливается – и запускается вновь, скачет со скоростью сто миль в час.
Колыбель Фрейи пуста.
Колыбель пуста.
Подрываюсь с постели, дрожу, как от электрического разряда. Шарю под одеялом. Сама знаю – это глупо, я ведь уложила Фрейю в колыбель, а Фрейя еще даже ползать не умеет, не могла она перелезть через резной деревянный бортик и забраться ко мне в кровать.
Фрейя. Господи, где Фрейя?
Почти рыдая, не веря собственным глазам и рукам, выскакиваю из спальни в коридор, зову:
– Кейт!
Мне казалось, получится вопль. Но от ужаса в горле пересохло. Ощущение, что я произношу ее имя с петлей на шее.
– Кейт!
– Здесь я, внизу!
Почти скатываюсь с лестницы, занозя босые пятки, забыв про отсутствующую ступеньку. Врываюсь в кухню. Кейт стоит возле раковины. Удивление на ее лице трансформируется в немой вопрос. Застываю на пороге. Сама чувствую: взгляд у меня безумный – потому что руки никем не отягощены.
– Кейт, – выдавливаю я. – Фрейя… пропала!
Кейт отставляет турку – она ее споласкивала. Прямо на глазах выражение ее лица меняется на… виноватое?
– Ой, прости!
Кейт указывает за мою спину. Оборачиваюсь. Фрейя здесь, в кухне. Сидит на коврике, в кулачке зажат ломоть хлеба, мордашка довольная. Увидев меня, Фрейя от счастья повизгивает, бросает обмусоленный хлеб, тянется ко мне – на ручки просится.
Подхватываю ее, прижимаю к колотящемуся сердцу. Говорить я не в силах. Да и что тут скажешь?
– Прости, – виновато повторяет Кейт. – Я не подумала, что ты станешь переживать. Рано утром я мылась и, наверное, разбудила Фрейю. Иду по коридору, слышу – она хнычет. Ты еще спала, и я решила… – Кейт хрустит пальцами, – ты такая уставшая все время, Айса. Я решила, тебе надо выспаться.
Не отвечаю. Пусть сначала утихнет сердцебиение. Розовенькие пальчики Фрейи путают мои волосы, я вдыхаю сладкий младенческий запах ее темечка. Тяжеленькая, она уже оттянула мне руки. Боже. Все в порядке. Все обошлось.
В ногах внезапная слабость. Почти сползаю на диван.
– Прости, – в третий раз извиняется Кейт и трет заспанные глаза. – Я должна была сообразить, что ты ее потеряешь.
– Ничего страшного, – выдавливаю я.
Фрейя шлепает меня по щеке – да посмотри же, мама! Определенно, она чувствует неладное, только сказать пока не может. Натягиваю улыбку, поворачиваюсь к Фрейе. Господи, во что я превратилась? Почему, не обнаружив ребенка в колыбели, я сразу думаю о похищении?
– Это ты меня прости, Кейт. – Голос чуть дрожит, но я делаю глубокий вдох и продолжаю: – Сама не пойму, с чего так разволновалась. Просто я… я сейчас… на грани.
В глазах Кейт – скорбь и понимание.
– Я тоже.
Она отворачивается к раковине и спрашивает:
– Кофе будешь?
– Буду.
Кейт ставит турку на плиту. Ждем, пока закипит кофе. Молчим. Наконец под бульканье черной жижи Кейт произносит:
– Спасибо тебе.
– За что? Вроде это я должна благодарить.
– За то, что примчалась по первому зову. Сама знаю: я слишком многого просила.
– Пустяки, – вру я.
Может, не позвони Кейт вчера – мы с Оуэном все уладили бы. Может, приезд к ней стал той самой соломинкой, что доломала хребет наших отношений.
– Что в полиции сказали, Кейт? – спрашиваю я, отгоняя мысли о развале моей семьи, совершенном моими руками.
Кейт отвечает не сразу. Сначала она отворачивается к плите, где перекипел наш кофе, снимает турку с огня, разливает кофе по двум крошечным чашечками, одну передает мне. Сажаю Фрейю обратно на коврик – не хватало, чтобы она обожглась.
– Марк Рен, урод этот, – начинает Кейт, устроившись с ногами в кресле, – весь такой соболезнующий, сюда притащился на разведку. Не знаю, что ему Мэри наболтала, да только он что-то подозревает.
– Ну а тело… выходит, его идентифицировали? – Этот вопрос я могла бы и не задавать – я же в курсе, в газетах читала.
Но мне почему-то важно услышать подтверждение от Кейт. Мне важно видеть ее лицо, ее реакцию на мои слова.
Впрочем, по лицу-то как раз немного поймешь. Почти окаменевшая, Кейт неохотно кивает:
– В общем, да. У меня взяли образец ДНК – но чисто для проформы. И так все понятно. Говорят, по зубным пломбам опознали, ну и еще кольцо его мне предъявили.
– Тебя просили подтвердить, что кольцо принадлежало отцу?
– Да. Я подтвердила. Зачем отпираться?
Киваю. Кейт права. Отчасти смысл игры в ложь в том, чтобы вовремя соскочить. Правило пятое – умей остановиться. «Отдерни руку прежде, чем на нее птичка нагадит», – говорила Тея. Фишка в том, чтобы четко представить: все, черта, дальше нельзя. Не уверена, что на сей раз мы эту черту разглядели. Мало того, похоже, проблемы на нас повалятся независимо от нашей смекалки и наших действий.
– А потом, Кейт?
– Я должна буду явиться в полицию и дать отчет о ночи, когда папа… пропал. А я не знаю, говорить или не говорить, что вы все были тогда со мной.
Кейт трет лицо. Круги под глазами на фоне оливковой кожи кажутся коричневыми.
– Не знаю, как будет лучше. Можно им сказать, что я позвонила и позвала вас, обнаружив, что папа пропал. Тогда у нас не будет расхождений в показаниях. Мы все здесь были, ждали папу, он не появился, и тогда вы втроем ушли. Но в таком случае вас тоже станут допрашивать. Чтобы вы подтвердили сказанное мной. Мы не знаем, что известно в школе – а от этого многое зависит.
– Что известно в школе? – эхом повторяю я.
– Ну да. О той ночи. Кто-нибудь видел, как вы уходили? Если я скажу, что вас тут не было, а кто-то вас видел сбегающими из школы… Сама понимаешь.
Еще бы не понимать. Прокручиваю ситуацию. Мисс Уэзерби застала нас в спальнях – но видела нашу одежду со свежей грязью. И в кабинете у себя она говорила ведь о нарушении правил школьного распорядка, о свидетеле…
– Думаю, нас все-таки засекли, – с неохотой произношу я. – По крайней мере, Уэзерби утверждала, что есть свидетель. Кто – она не говорила. Мы ни в чем не сознались. В смысле, я не созналась. Насчет Фатимы и Теи не в курсе.
– Черт. Получается, придется сказать в полиции, что я была не одна, а с вами. А это значит, вас тоже, скорее всего, будут допрашивать.
Кейт бледнеет. Понятно, о чем она подумала. Дело не только в проблемах, которые получим мы втроем. Нет, здесь имеет место быть вполне эгоистическое соображение. Четыре варианта показаний – это много. Совпадут ли они в деталях? А если кто-то расколется…
Сразу приходит на ум Тея – пьющая, со шрамами на руках. Уж конечно, Тея нестабильна. А Фатима что – стабильнее? Как бы не так. Фатима нашла себя в исламе. Что она там говорила про искреннее раскаяние? Про исповедь, без которой путь к новой жизни закрыт? Едва ли Аллах простит грешника, который продолжает лгать и отпираться.
Ну а рисунки? Чертовы рисунки в чертовом конверте? Выходит, о нас кому-то известно.
– Кейт… – начинаю я. Сглатываю. Умолкаю.
Кейт поднимает взгляд, и я заставляю себя продолжить:
– Тут еще новость. Фатима, Тея и я… мы получили по почте рисунки. То есть ксерокопии рисунков.
Кейт меняется в лице, и по характеру этой перемены мне ясно: Кейт знает, что́ я сейчас скажу. Не пойму, легче мне от ее знания или нет; как бы то ни было, выпаливаю остальное, боясь, что, если буду тянуть резину, уже не решусь.
– Кейт, ты действительно уничтожила наши портреты?
– Да, – отвечает Кейт. Лицо перекошено от боли. – Клянусь. Только…
Она замолкает. Не слышать бы, никогда не слышать ее следующих слов. Однако они звучат. Кейт поджимает белые, бескровные губы и сознается:
– Уничтожила, только не сразу.
– А поподробнее?
– Тогда – прямо тогда – у меня рука не поднялась их сжечь. Я хотела, честно. Но не смогла. Все думала: вот соберусь с духом и сожгу, соберусь и сожгу. А потом как-то пошла в папину мастерскую – а там кто-то успел побывать.
– Что? – Не могу скрыть ужаса. – Когда это случилось?
– Давно. Вскоре после папиной смерти. Я недосчиталась нескольких картин и рисунков и поняла, что их украли. Что кто-то за нами следит. Все, что осталось, я сожгла, клянусь. Но тут мне стали приходить письма.
Чувствую, как цепенеет все тело, словно в кровь впрыснули яд.
– Письма?
– Ну да. Первое пришло, когда я продала папину картину. Об аукционе написали в местных газетах, причем указали и сумму, которую я выручила. А через несколько недель я получила письмо. Аноним хотел денег. Не угрожал, просто требовал: положи сто фунтов в конверт, а конверт сунь за панель в «Солтенском гербе». Я этого не сделала, и еще через несколько недель пришло второе письмо. Только теперь у меня вымогали не сто, а двести фунтов. И рисунок прилагался.
– Один из тех, где мы… – выдавливаю, превозмогая тошноту.
– А сама как думаешь? В общем, я заплатила. И письма стали приходить регулярно, где-то раз в полгода. Я платила, платила – а потом взяла да и написала сама. Что деньги кончились, мельница медленно тонет, все картины проданы. В смысле, шантажируй не шантажируй – а фунтовые купюры от этого не материализуются. И писем больше не было.
– Когда это случилось?
– Года два назад. Может, три. Шантажист притих, я думала, все кончилось. А этим летом все началось опять. Сначала – овца, потом… – Кейт сглатывает. – Потом, после вашего отъезда, я получила письмо: «Раз сама на мели, почему бы подружек на денежку не раскрутить?» Но мне и в страшном сне не снилось…
– Господи! Кейт!
Вскакиваю, потому что слишком взвинченна, чтобы сохранять неподвижность. Но бежать некуда, и я снова сажусь на диван, впиваюсь ногтями в ветхую обивку. «Почему ты нам не сказала?» – вот какой вопрос вертится на языке. Впрочем, ответ мне известен. Кейт пыталась нас оградить. Все эти годы она проявляла о нас удивительную заботу. Второй вопрос: «Почему ты не заявила в полицию?» – кажется совсем идиотским. Просто рисунки, да? Черта с два! Рисунки – пустяк; дело в записке, которая сопровождала мертвую овцу. Записка все открывает.
– Вот я и думаю… – еле слышно шепчет Кейт – и вдруг умолкает.
– Продолжай, – прошу я.
Она принимается хрустеть пальцами, затем встает, идет к комоду. В ящике у нее хранятся, перевязанные красной бечевкой, бумаги, среди которых вроде как затерялся конверт с запиской. Старый, потертый, пожелтевший конверт, и записка такая же. У меня сердце обрывается.
– Это… это… – запинаюсь я.
Кейт кивает.
– Я ее сохранила. А что еще оставалось?
Не сразу решаюсь прикоснуться к листку бумаги, что подрагивает в пальцах Кейт. Мысли об отпечатках неотвязны – но соображать надо было раньше. Мы эту записку все перетрогали, мы ее из рук в руки передавали тогда, семнадцать лет назад. И вот я беру ее – осторожно, за краешки, словно от этого труднее будет меня вычислить. Беру – но не разворачиваю. Зачем? Теперь, когда записка у меня, содержание само всплывает из глубин памяти: «… прости… не вини никого, моя радость… других способов все исправить я не знаю…».
– Может, предъявить это Марку Рену? – хрипло спрашивает Кейт. – Тогда бы все кончилось. Записка отвечает на многие вопросы…
С этим не поспоришь. Но поднимает-то она еще больше вопросов. Например: почему Кейт семнадцать лет назад не отнесла ее в полицию?
– Что конкретно ты скажешь? – наконец спрашиваю я. – Где ты ее нашла? Как будешь объясняться?
– Не знаю. Могу сказать, что нашла записку еще в ту ночь, но утаила ее. Могу и правду открыть: папа пропал, я боялась лишиться дома. Тогда вас не придется впутывать. Не придется сообщать, как мы его хоронили и прочее. Или нет. Могла ведь я найти записку через несколько месяцев после папиной смерти? Ведь могла?
– Кейт, Кейт! Не знаю! – Тру глаза. Они словно затуманены, и это мешает соображать. Под веками скачут яркие разноцветные точки, распускаются хищные цветы. – Какую версию ни возьми – вопросов больше, чем ответов, вдобавок…
Тут я умолкаю.
– Что вдобавок? – торопит Кейт. В голосе какая-то новая нота. Попытка оправдаться? Страх?
Черт. В мои планы совсем не входило сворачивать на эту дорожку. Просто больше ни о чем думать не могу. Никто не отменял правило четвертое: не лги своим.
– Вдобавок, если ты им эту записку предъявишь, они ведь захотят установить авторство.
– Ты к чему клонишь?
– Кейт, извини, но я вынуждена об этом спросить. – С трудом сглатываю, подбирая наименее обидные слова. – Пожалуйста, пойми меня правильно. Что бы ты сейчас ни сказала, что бы тогда ни случилось – я не стану тебя осуждать. Я просто должна знать – у меня ведь есть такое право?
– Айса, не томи, – сухо произносит Кейт.
По глазам видно – она напугана. Или размышляет, как бы выкрутиться?
– Записка выпадает из общей картины. Сама ведь понимаешь. Амброуз покончил самоубийством из-за рисунков – по крайней мере, мы привыкли так думать.
Кейт кивает – очень медленно, с опаской.
– Только по времени получаются нестыковки, Кейт! Рисунки попали в школу уже после смерти Амброуза.
Снова сглатываю. Кейт отлично умеет подделывать руку отца. Столько лет рисовала в его стиле и подписывала картины его именем, чтобы выгоднее продать, чтобы свести концы с концами. И потом – анонимные письма. Кейт платила вымогателю целых пятнадцать лет, а в полицию не обращалась и даже нам ничего не говорила – хотя мы имели право знать.
– Кейт, ответь, пожалуйста: Амброуз действительно написал эту записку?
– Да, он ее написал. Сам, – твердо отвечает Кейт. Лицо у нее непроницаемое.
– Но это ведь нелогично. Опять же, подумай: он принял смертельную дозу героина – во всяком случае, мы так всегда считали. Тогда почему его рисунки были аккуратно упакованы, а? Может, естественнее выглядело бы, если бы он отключился, разбросав их по полу?
– Мой отец сам написал эту записку, – упрямо повторяет Кейт. – Уж я-то знаю.
– Просто…
Продолжать язык не поворачивается. Кейт ссутулилась, кутается в старый халат.
– На что ты намекаешь, Айса? Не на то ли, что я убила родного отца?
Повисает молчание. Озвученное подозрение, прежде аморфное, обретает плоть, и в этой плоти – рана, которую так просто не залижешь.
– Не знаю.
Голос у меня хриплый, слова приходится выдавливать силой:
– Просто… вдруг есть что-то еще, что нам нужно знать перед допросом?
– Больше ничего, – ледяным тоном отвечает Кейт.
– Больше ничего нет, и точка – или нам больше ничего не нужно знать?
– Вам больше ничего не нужно знать.
– Получается, что-то все-таки есть. Просто ты не хочешь говорить, да?
– Айса, черт возьми, хватит уже! Хоть ты меня не допрашивай! – На лице Кейт страдание, она бежит к окну, и Верный, почуяв, что ей плохо, мигом возникает рядом. – Больше я тебе ничего сказать не могу. Поверь мне, пожалуйста.
– Тея говорила… – начинаю я – и прикусываю язык. Мужество меня оставило. Но узнать нужно, и я беру себя в руки. – Кейт, Тея говорила, Амброуз собирался перевести тебя в другую школу. Это правда? Почему? Почему он так решил?
С минуту Кейт, белая, как полотно, молча смотрит на меня.
Затем, придушив рыдание, отворачивается, срывает с вешалки пальто, натягивает прямо на халат, влезает в грязные резиновые сапоги и хватает собачий поводок. Верный послушен. С недоумением он смотрит на хозяйку, силится понять, в чем причина ее боли. Еще мгновение – и за Кейт и Верным захлопывается дверь.
Звук подобен выстрелу, эхо отскакивает от потолочных балок, заставляя дребезжать чашки и блюдца. Фрейя, до этого спокойно игравшая у моих ног, вздрагивает. Маленькое личико застыло в гримасе ужаса. Еще через мгновение дом оглашается ревом.
Догнать бы Кейт, прижать к стенке, вытянуть из нее ответы на все вопросы. Но я не могу – я должна успокоить свою дочь.
Целую минуту нахожусь в замешательстве. Фрейя надрывается у ног, Кейт, громко топая сапогами, почти бежит по мосткам. Наконец со стоном раздражения подхватываю Фрейю и спешу с ней к окну.
Фрейя уже пунцовая, она брыкается, ее реакция непропорциональна хлопку двери, пусть и неожиданному; укачиваю ее, а между тем силуэт Кейт удаляется, тает в тумане.
Прокручиваю ее ответ.
Вам больше ничего не нужно знать.
Кейт не болтлива. Каждое слово взвешивает. Всегда такой была.
Следовательно, в выборе этих конкретных слов есть резон. Кейт могла бы сказать: «Больше ничего нет».
Туман поглощает ее, переваривает, а я размышляю о том, что сделала, и укрепляюсь во мнении: приехав сюда, я совершила огромную ошибку.
Без Кейт и Верного у меня ощущение, что я забралась в чужой дом. Тишина давит, от морского тумана окна кажутся заплаканными, на мостках никак не высыхают лужицы, оставленные приливом.
Туман словно приблизил мельницу к морю. Теперь она больше похожа на прохудившуюся, начерпавшую воды лодку, которая болтается в полосе прибоя, чем на береговую постройку, предназначенную для жилья. Ночью туман проник в каждую из бесчисленных щелей, обосновался на потолочных балках; в доме холодно, половицы сырые, скользкие.
Кормлю Фрейю, усаживаю ее на коврик, даю для развлечения пресс-папье. Открываю дверцу дровяной плиты, подношу спичку. Пла́вник, сырой от соленой воды, горит синевато-зеленым огнем. Устраиваюсь на диване, пытаюсь обдумать свои дальнейшие действия.
Мысли вертятся вокруг Люка. Он бросался намеками – но что ему на самом деле известно? Что конкретно? Они с Кейт были очень близки – но его любовь к ней превратилась в ненависть. Почему?
Тру ладонью лоб. Память – тут как тут: жар кожи Люка, тяжесть длинных, оплетающих рук… И я тону, тону…
Кейт возвращается ближе к полудню. Отрицательно качает головой, когда я протягиваю ей сэндвич, и тащит Верного к себе в спальню. Вздыхаю с облегчением. Сказанное мною, мои озвученные подозрения, уж конечно, нельзя простить; не знаю, как бы я смотрела Кейт в глаза, останься она перекусывать моими сэндвичами.
Укладываю Фрейю. Кейт прямо надо мной, слышно, как она шагает из угла в угол. Время от времени свет, что сочится из широких потолочных щелей, чуть меркнет – значит, Кейт приблизилась к окну, заслонила его, преградила путь серым лучам.
Фрейя долго капризничает; когда же наконец засыпает, я спускаюсь в гостиную и сажусь у окна. Передо мной – неспокойный Рич. Еще нет четырех часов пополудни, а прилив уже набрал обороты. Пожалуй, сегодня он – самый мощный за все время моих наблюдений. Мостки полностью скрыты под водой, промозглый ветер подгоняет волны прямо к дверям мельницы, что выходят на море. Туман чуть рассеялся, но небо все еще в тучах. Глядя, как свинцово-серая вода бьется почти под самыми окнами, не верится, что всего несколько недель назад здесь все плавилось от жары. Неужели месяца не прошло с ночного купания в этой реке? Нет, невозможно. Это было в другом месте, и, пожалуй, вовсе не наши тела обволакивала теплая, маслянистая вода, и не мы смеялись, резвясь, как девчонки. Все, все изменилось.
Меня знобит. Надеваю джемпер. Эх, не тех вещей набрала. Уезжала в спешке, совала в сумку что придется. Джинсов – несколько пар, полно легкомысленных маек и блузок. Я не учла, что похолодает, но не решаюсь попросить у Кейт что-нибудь теплое. Нет, только не сегодня. Может, завтра, когда развеется взаимная обида.
На полу, возле окна, стопка книг, покоробившихся от сырости. Беру одну, наугад. Билл Брайсон «Записки с маленького острова». Обложка в кислотных тонах – нелепая, непростительно позитивная в общем приглушенном колорите мельницы, где доминируют оттенки сырой древесины и небеленого хлопка. Щелкаю выключателем – очень уж здесь мрачно, надо бы добавить света. Пальцы прошибает электрическим разрядом. Позади слышится что-то вроде взрыва, лампочка вспыхивает неестественно ярко – и через мгновение гаснет.
Холодильник сотрясается в конвульсиях, прежде чем прекратить свое жужжание. Черт.
– Кейт, – зову я вполголоса – не хватало разбудить Фрейю. Кейт не откликается. Правда, шаги на секунду стихают – значит, она меня услышала. – Кейт, с проводкой проблемы.
Молчание.
Под лестницей стоит шкаф. Открываю дверцу – внутри темно. Еле виднеется что-то, похожее на распределительную коробку – но это точно не новая модель, о которой говорила Кейт. Это что-то бакелитовое на деревянной основе, снабженное мотком просмоленных проводов. С другой стороны от коробки вьется совсем уже допотопного вида проволока. Нет, такую конструкцию лучше не трогать.
Черт.
Беру смартфон, собираюсь уже задать в поисковике «распределительная коробка как наладить» – и вздрагиваю. Письмо от Оуэна.
С колотящимся сердцем жму «Открыть».
Господи, пусть это будут извинения. В любой форме. Пусть Оуэн сделает даже самый несмелый шаг – главное, чтобы этот шаг он предпринял раньше меня. Я откликнусь, я брошусь ему навстречу. Должен же он, проспавшись, обдумав все на свежую голову, понять: он превратил муху в слона, из букета роз и поездки к школьной подруге додумал целую любовную интригу. Только параноик на такое способен, и наверняка Оуэн уже осознал степень своего заблуждения.
Нет, письмо не извинительное. Это даже и не письмо; в первый момент я вообще не понимаю, что мне открылось в почте.
Никаких «Привет, милая», даже никаких «Здравствуй, Айса». Ни намека на осознание своих ошибок и тем более – на униженные мольбы о прощении. Вообще никакого текста лично от Оуэна. Целую минуту я уверена: Оуэн ошибочно отправил мне письмо, предназначенное другому адресату.
Передо мной – список правонарушений, с датами и местами, но без единой фамилии, без единого пояснения. Магазинная кража в Париже. Угон машины в каком-то французском провинциальном пригороде – я даже названия этого не слышала; нападение с применением насилия на морском курорте в Нормандии. Первые правонарушения совершены двадцать лет назад; но некто на них не остановился, он продолжает буянить. Бывает, сдерживается – и год, и два, и три, – а потом все сначала. Последние несколько проступков совершены на юге Англии. Вождение в нетрезвом состоянии в пригороде Гастингса, строгое предупреждение за хранение наркотических препаратов в Брайтоне. Далее, взят под стражу после пьяного скандала где-то в графстве Кент, но отпущен без предъявления обвинений; еще несколько строгих предупреждений. Последний инцидент имел место пару недель назад – пьяная драка в Сассексе, в городке под названием Рай. Задержан до утра, отпущен без предъявления обвинений. Ну и к чему мне все это?
Внезапно до меня доходит.
Оуэн прислал полицейское досье на Люка.
Подкатывает тошнота. Даже знать не хочу, как Оуэну в такой короткий срок удалось собрать столько материалов. В конце концов, у него – связи. В полиции, в Службе безопасности; да и серьезный пост в Министерстве внутренних дел, предполагающий высокий уровень доступа, тоже кое-что значит. Ясно одно: с какой стороны ни взгляни – Оуэн грубо нарушил профессиональную этику.
Но дело не только в этике. Досье вопиющее: Оуэн по-прежнему считает, что я поехала в Солтен ради Люка. Оуэн по-прежнему уверен, что я ему изменяю.
От ярости даже мурашки по спине побежали. И в пальцах дрожь.
Выть хочется. Вот сейчас взять и позвонить Оуэну, сказать ему, что он подонок и сукин сын и что после такого, хоть он из кожи вон вылезет, а доверия моего не восстановит.
Но я не звоню.
Отчасти потому, что меня трясет, и я опасаюсь наговорить лишнего. Отчасти потому, что в глубине души понимаю: нельзя всю вину валить на Оуэна.
Конечно, он виноват, очень сильно виноват. Мы вместе почти десять лет, и все это время я была ему верна. Я не заслужила такой ревности.
С другой стороны, Оуэн не идиот. Он знает: я ему лгу. И тут он прав.
Он просто не знает причину лжи.
Сжимаю смартфон, пока, по занудному писклявому звуку, не понимаю, что надо ослабить хватку.
Черт. Черт.
Обида нестерпима. Это додуматься – решить, что я прямо из супружеской постели прыгнула в объятия Люка! Не будь Оуэн отцом Фрейи, прямо сейчас бы с ним порвала. Мне случалось иметь дело с ревнивцами. Ревность – словно яд, отравляющий отношения, убивающий самооценку женщины. С ревнивым парнем до того доходишь, что сама у себя начинаешь искать скрытые мотивы. Задаешься вопросами: а может, я кокетничала с тем-то и с тем-то? А вдруг смотрела на его приятеля с вожделением? А не слишком ли оголила плечи, не слишком ли короткую юбку надела, не слишком ли сладко улыбалась?
Иными словами, начинаешь сомневаться в себе самой, и эти сомнения постепенно вытесняют и любовь, и доверие, и взаимоуважение.
Позвонить бы Оуэну, сказать: раз ты мне не веришь – свободен. Я не потерплю подозрений и тем более обвинений в том, чего не совершала; не стану оправдываться, отрицать отношения, которые существует только в твоем воображении.
Это было бы правильно. Ну а если отбросить мои чувства и подумать о Фрейе? Отлично знаю, каково жить только с одним из родителей. И не хочу такого опыта для своей дочери.
Небо словно под пухлой серой периной, на мельнице темно и сыро, от печки больше чада, чем тепла. Сверху доносятся всхлипы Фрейи, просачиваются сквозь пол. Фрейя проснулась. Внезапно чувствую: не могу больше здесь оставаться. Нужно пойти в деревню, в паб, и поесть как следует. Может, я даже что-нибудь выясню. Закину, например, удочку насчет расследования. Наверняка Мэри Рен в курсе и не откажется меня просветить. В любом случае Кейт в ближайшее время не спустится. А если даже и спустится – как мне сидеть с ней за одним столом и поддерживать разговор, когда между нами – призрак Амброуза, а в моем смартфоне, словно вирус, присланное Оуэном досье?
Бегу наверх, укутываю Фрейю. Проверяю, надежно ли закреплен капор коляски, и выруливаю на песчаный, пронизанный ветром берег. Мы направляемся в деревню.
Путь неблизкий – есть время на размышления. Сопротивляясь ветру, медленно иду вперед, все вперед. Зябко. Ноги в сандалиях замерзли. В голове сумятица. Обвиняю Оуэна – оказался плохим мужем; обвиняю себя – не была с ним откровенна, любила недостаточно. Перебираю в уме его пороки: вспыльчивость, собственнические замашки, привычки все решать, не спросив моего мнения.
В этот список вторгаются другие воспоминания. Оуэн склоняется над детской ванночкой, льет теплую воду на темечко нашей дочки. Оуэн – добрый, Оуэн – умный. Оуэн любит меня. И Фрейю.
Фоном звучит тема моей вины. Я – лгала. Лгала Оуэну, изворачивалась, недоговаривала, юлила. Очень многое следовало открыть ему еще после знакомства, ну да это ладно. А вот ложь в последние несколько недель уже совсем из другой категории. Оуэн всегда был собственником – с этим не поспоришь, но сцен ревности не устраивал. Я сама его спровоцировала. Я сделала его ревнивцем. То есть не я одна – еще Фатима, Тея и Кейт. Мы вчетвером.
Так, погрузившись в себя, шагаю к деревне. Теряю счет ярдам. Наконец за клочьями тумана проглядывают стены, крыши и неизбежные сети – а я не ближе к принятию решения, чем была, покидая мельницу.
Заворачиваю за угол, к «Солтенскому гербу». Пальцы на ручке коляски окоченели. Разминаю их, смахивая с капора дождевые капли. Из паба слышна музыка. Это не радио, это что-то совсем допотопное – одышливый аккордеон, гнусавое банджо, жизнерадостные визгливые скрипки.
Распахиваю дверь – и музыка бьет в лицо почти осязаемо, заодно с запахом дыма, пива и тепло одетых, разгоряченных людей. Средний возраст посетителей – шестьдесят плюс, почти все – мужчины.
Они оборачиваются, но музыка не смолкает. Качу коляску сквозь дым и чад. Мэри Рен примостилась на барном табурете, смотрит на музыкантов, притопывает в такт джиге. Вот она меня увидела, кивает приветливо, подмигивает. Улыбаюсь, останавливаюсь – может, она что-нибудь скажет? Внезапно, словно впервые, замечаю: стены в пабе отделаны панелями. Сердце падает, потому что на ум приходят анонимные письма к Кейт. Да ведь любой из посетителей мог все эти годы усаживаться, как бы случайно, именно возле болтающейся панели; или, если эта панель – в коридоре, шантажист мог прощупывать ее по дороге в туалет. А проще всего это для владельца заведения.
Вспоминается ремарка Мэри насчет намерений пивоварни: продать эту землю, чтобы паб снесли, а на его месте выстроили таунхаус, где лондонцы станут покупать квартиры. Осматриваюсь. Краска на стенах облупилась, ковры и обивка вытерлись. Куда при таком повороте событий денется Джерри? Он здесь всю жизнь проработал; паб для него – единственный источник дохода. Джерри ассоциируется с этим пабом, а у него самого паб ассоциируется с планами на будущее. Джерри ведь больше ничего делать не умеет. Не знаю, в чем причина – в том ли, что на меня все пялятся, или в духоте и шуме, или во внезапном осознании, что шантажистом может быть тот, кто стоит по ту сторону барной стойки, но я лишь ощущаю приступ клаустрофобии. И даже паранойи. Все эти местные, эти сально ухмыляющиеся старики, эта барменша – вон, руки сложила, губы поджала – все они знают, кто я такая.
Пробираюсь к туалету, втаскиваю коляску. Дверь на тугом доводчике громко хлопает. Прислоняюсь к ней спиной. Прохлада и тишина охватывают меня. Закрываю глаза, мысленно внушаю себе: ты сможешь, ты выдержишь. Главное – не поддаваться на провокации. В следующий миг мои глаза открываются. Прямо передо мной – мутное зеркало, и в нем отражена туалетная дверь. На двери маркером написано:
Марк Рен – сексуальный маньяк!!!
Кровь приливает к щекам. Мне стыдно. Господи, как мне стыдно. Надпись старая, полустертая – но все еще читабельная. Мало того, кто-то зачеркнул имя «Марк» и ручкой нацарапал сверху звание – «сержант».
Почему я была так глупа? Почему раньше не понимала – ложь способна пережить любую правду, а уж в деревнях вроде Солтена люди вообще ничего не забывают. Это не Лондон, где прошлое без конца замарывают более свежими записями, пока исходник не исчезает вовсе. В Солтене помнят каждую мелочь; призрак моей ошибки будет преследовать Марка Рена пожизненно. Да и меня тоже.
Подхожу к умывальнику, плещу водой на лицо. Фрейя с интересом наблюдает. Наконец выпрямляюсь, смотрюсь в зеркало. Знаю, это моя вина. Но не только моя. И раз я могу принять эту вину – стало быть, могу и смотреть в глаза местным.
Открываю дверь, выхожу. Толкаю коляску прямо к бару.
– Айса Уайлд!
Сказано заплетающимся языком.
– А я-то, грешным делом, думал, ты еще на десять лет уехала. Ну и чего тебя снова к нам принесло?
Оборачиваюсь. Джерри улыбается из-за барной стойки, посверкивая золотым зубом. Впечатление, будто на этот зуб падают отблески огня в камине. Джерри натирает стакан – не чистым полотенцем, а какой-то ветошью.
– Здрасте, – выдыхаю я.
Фрейя лягается, вертится – после прохлады туалетной комнаты ей жарко. Сердитая, она умудряется сбить пухлой ножкой край капора коляски и издает торжествующий писк. Подхватываю ее, прижимаю к плечу, стараясь успокоить.
– Вы ведь не против младенцев в пабе, Джерри?
– Я только за, – ухмыляется Джерри, светя проемом меж передних зубов, дыша перегаром. – Если только младенцы пиво пьют. Ну, чего изволишь?
– У вас тут кормят? Или только поят?
– Как же, мы кормим. После шести. Хотя… – Джерри косится на часы. – Хотя уже пора. Держи меню.
Он шлепает на барную стойку засаленный лист бумаги с загнутыми уголками. Читаю: «Сэндвичи… рыбный пирог… краб в кляре… бургер с жареным картофелем…»
– Мне, пожалуйста, рыбный пирог, – наконец говорю я. – И еще… еще бокал белого вина.
А что такого? Уже почти шесть.
– Счет открываешь?
– Вроде того. Кредитка нужна?
Шарю в сумочке. Джерри смеется и трясет головой.
– Если что – из-под земли тебя достану.
Не знаю, как ему удалось придать затасканной фразе столь зловещее звучание. Улыбаюсь, киваю на второй зал, где есть пара свободных столиков.
– Я бы там села, если можно.
– Можно. Располагайся. Напиток сам принесу, а то как ты его потащишь с дитем на руках?
Киваю. Иду в дальний зал. Один из свободных столиков, тот, что ближе к двери, уставлен батареей грязных пинтовых кружек. А еще кто-то выбивал курительную трубку прямо на столешнице. Другой столик, в углу, не намного чище. В лужице пролитого пива, пойманная пустым стаканом, трепыхается захмелевшая оса; сиденье в собачьей шерсти. Зато здесь есть место для коляски. Переставляю посуду на соседний столик, промокаю лужицу салфеткой, устраиваюсь на сиденье вместе с Фрейей. Она мигом припадает к моей груди, бодается. Понятно: отложить кормление, как я рассчитывала, не получится. Фрейя решила: пора кушать. Не дашь ей грудь – поднимет рев. «Солтенский герб» – место неподходящее; правда, я неоднократно кормила в пабах, но это были лондонские пабы, в которых, хоть котенка к груди приложи, – всем параллельно. Вдобавок рядом был Оуэн. Здесь не Лондон, и я одна, и еще неизвестно, как посмотрят на дело Джерри и его завсегдатаи. Но выбора нет – Фрейя на грани. Расстегиваю кардиган, вожусь с бюстгальтером для кормящих, стараюсь обнажиться по минимуму. Наконец прикладываю Фрейю к груди и прикрываю и ее, и грудь полой кардигана.
Фрейя тотчас начинает причмокивать – и на нас оборачиваются. Один старик, с седой бородой, пялится с неподдельным интересом. Кейт, похоже, не сгущала краски, говоря о похотливых старикашках, что сплетничают в пабе. Приближается Джерри, несет на подносе бокал белого вина и нож с вилкой, завернутые в полотняную салфетку.
– Надо бы это откупоривание на твой счет записать[12], – ухмыляется Джерри, кивая на мою грудь.
Густо краснею, но умудряюсь хихикнуть.
– Извините. Она проголодалась. Вы ведь не против?
– Я? Ни боже мой! Да и остальные только рады лишний раз поглазеть.
Джерри издает плотоядный смешок, подхватываемый старичьем у барной стойки. Мои щеки, наверное, уже свекольного оттенка. Теперь, кажется, на меня пялятся все присутствующие. Один старик подмигивает, смеется, чешет промежность и шепчет что-то соседу, поводя головой в мою сторону.
Не лучше ли отменить заказ и убраться отсюда? Я почти готова это сделать, но Джерри ставит мое вино на стол и говорит:
– Кстати, напиток – за счет твоего приятеля.
Какого еще приятеля? Прослеживаю жест Джерри. У барной стойки сидит Люк Рокфор.
Заметив, что я на него смотрю, он поднимает кружку – дескать, твое здоровье. А выражение лица у него несколько… печальное, что ли? Не уверена.
Думаю об Оуэне. О досье на Люка. Что бы сказал Оуэн, войди он сейчас в этот паб? Под ложечкой противно сосет. Но прежде чем я успеваю обратиться к Джерри, он испаряется, а Люк слезает с табурета и направляется ко мне.
Бежать некуда. Выход из-за стола заблокирован: слева – коляска, справа – шумная компания. Но главное препятствие – это Фрейя, прильнувшая к моей обнаженной, прикрытой только полой кардигана груди. И Люк уже слишком близко. Я не могу даже подняться ему навстречу, не вызвав бурного негодования Фрейи.
Перед мысленным взором – окровавленная овца.
Перед мысленным взором – Фрейя, заходящаяся в истерике на руках у Люка.
Перед мысленным взором – рисунки.
В ушах – обвинения Оуэна. Лицо вспыхивает, но невозможно понять, что тому причиной – ярость или другое чувство.
– Послушай, – мямлю я, когда приближается Люк с пинтовой кружкой. Никак не выходит говорить твердо, я вжимаюсь в спинку стула и сползаю чуть ли не под стол. – Послушай, Люк…
– Прости меня, – перебивает он, останавливаясь. – Я свалял дурака. Нельзя было прикасаться к твоей дочке.
Лицо у него решительное, глаза в полумраке кажутся совсем темными.
– Я пытался помочь, но делал все неправильно. Сейчас я это понимаю.
Не таких слов я ожидала от Люка; мой гнев сдувается, как парус при штиле. Заготовленное «держись от меня подальше» теперь неуместно, а что еще сказать, я не представляю.
– Пожалуйста, прими от меня этот пустяк – вино. Мелочь, разумеется; просто я таким способом хочу помириться. Мне очень стыдно. Больше я тебя не потревожу.
Он разворачивается, но во мне поднимается волна некоего чувства – быть может, отчаяния, – и, к собственному изумлению, я выпаливаю:
– Подожди.
Теперь в лице Люка – настороженность. Он избегает моего взгляда, но мне в этом мерещится намек на надежду.
– Ты… ты тогда напрасно забрал Фрейю, – вымучиваю я. – Но твои извинения принимаются.
Люк – высокий, сутулый – навис над столом и молчит. В следующее мгновение он неловко склоняет голову – еще раз извиняется, – и тут наши взгляды встречаются. Может, виной всему – его неуверенность, его нескладная осанка: Люк напоминает мальчика-переростка, стесняющегося собственного вытянувшегося тела. Может, все из-за его глаз – в них пронзительная ранимость. Не знаю. Только Люк кажется мне прежним, пятнадцатилетним. И от этого сердце то пускается вскачь, то замирает.
Сглатываю болезненный ком – я почти привыкла к боли в гортани, наверняка это один из симптомов стресса.
Вспоминаю обвинения, брошенные мне в лицо Оуэном. Оуэн считает, я ему изменила. Что ж… Чувствую, как мной овладевает безрассудство.
– Люк, я… Может, присядешь?
Он не отвечает. Наверное, сейчас притворится, что не расслышал. И уйдет.
Но Люк сглатывает, задействует все шейные мускулы – совсем как я. И уточняет:
– Хочешь, чтобы я с тобой посидел?
Киваю. Он подвигает стул, садится, но кружку продолжает держать в руке. Взгляд устремлен на янтарную жидкость.
Повисает долгая пауза. На нас оглядываются, но присутствие Люка – словно щит, ограждающий от навязчивого любопытства. Фрейя сосет с несвойственным ей усердием, пихается кулачками. Люк прячет глаза.
– Новость слышала? – наконец спрашивает он.
– Новость о…
Дальше говорить я не в силах. Слова «труп», «останки» и тому подобные – непроизносимы. Люк кивает.
– Опознание завершено. Это Амброуз.
– Да, я об этом читала. – Снова сглатываю. – Люк, прими мои соболезнования.
– Спасибо.
Французский акцент сейчас особенно силен – так и раньше бывало в тяжелые моменты. Люк качает головой, словно вытряхивая непрошеную мысль.
– Не думал, что будет так… так больно.
У меня перехватывает дыхание. Совершенное чудовищно свежо в памяти. Вот он, наш приговор – пожизненно мучиться от воспоминаний. И знать, что Люк тоже мучается.
– Ты сообщил… своей матери?
– Нет. А зачем? Ей плевать. И вообще, какая она мать?
Люк говорит тихо и почти спокойно.
Делаю глоток вина, чтобы унять сердцебиение. Кажется, если бы сердце так не заходилось, то и комка в горле не было бы.
– Она… она наркоманка, да?
– Героинистка. Вдобавок еще и на метадон подсела.
«Метадон» Люк произносит на французский манер – «май-тадон», и в первую секунду я не понимаю. Затем, поняв, прикусываю язык. Черт меня дернул поднять тему! Люк молчит, смотрит на свое пиво. Что сказать, как спасти ситуацию? Он хотел помириться, а я ему напомнила обо всем, что навек утрачено.
Меня выручает молоденькая официантка. На подносе у нее пирог с рыбой. Девушка ставит передо мной тарелку и деловито, лаконично спрашивает:
– Соус нужен?
– Нет, – выдавливаю я. – Нет, спасибо. Все в порядке.
Пробую пирог. Тесто хрустящее, начинка нежная, явно со сливками. На верхней корочке застыл, оплавившись, тертый сыр. Но по вкусу – опилки опилками. Хлопья слоеного теста во рту преобразуются в жесткие крошки, рыбья кость царапает нёбо, когда я с усилием проталкиваю кусок в гортань.
Люк по-прежнему молчит. Думает о чем-то. Его крупные руки лежат на столешнице, пальцы расслаблены. А в то утро, на почте? В то утро Люк сдерживал ярость, сжимал кулаки до побеления костяшек. Как я тогда испугалась! Снова лезет в голову мертвая овца, мерещится кровь на пальцах Люка. Неужели это все-таки Люк?
Он зол, я это знаю. Но знаю и другое: на месте Люка я бы тоже злилась.
Прошло несколько часов. Фрейя давно спит, прильнув к моей груди; мы с Люком, наговорившись, наконец умолкли. Теперь мы просто сидим рядом, смотрим на Фрейю, думаем каждый о своем.
Звонком Джерри дает знать, что настала пора последних заказов.
Неужели так поздно? Я вынуждена уточнить время, взглянув на экран телефона. Действительно, без десяти одиннадцать.
– Спасибо, Люк.
Он встает, потягивается. В глазах удивление.
– За что спасибо?
– За сегодняшний вечер. Мне было необходимо развеяться, забыть хоть на время обо всем.
Произнося эти слова, я вдруг понимаю: я несколько часов не думала ни об Оуэне, ни о Кейт. Тру лоб, разминаю пальцы.
– Не за что, Айса.
Люк склоняется, забирает у меня Фрейю – осторожно и бережно. С Фрейей на руках мне из-за стола не встать. Видя, как Люк неумело укачивает мое дитя, как Фрейя, сонно вздохнув, приникает к плечу чужого мужчины, я улыбаюсь.
– Из тебя получится отличный отец. Тебе хотелось бы иметь детей?
– Их у меня не будет, – говорит Люк – спокойно, как о давно решенном вопросе.
– Не будет? Почему? Ты их не любишь?
– Не в любви дело. Я в детстве настрадался. Пережил насилие. Это по наследству передается. Синдром жертвы.
– Чепуха.
Забираю у него Фрейю, укладываю в коляску. Она взмахивает ресницами, и тогда я кладу ладонь ей на грудь. Это действенное средство – Фрейя капитулирует, снова закрывает глазки.
– Нет никакого наследственного синдрома жертвы. Иначе бы никому нельзя было размножаться. Каждый тащит тот или иной «багаж».
Лучше думай о хороших качествах, которые передадутся твоим детям.
– Мои качества ни одному ребенку не нужны, – возражает Люк. Сначала мне кажется, он шутит. Но нет – лицо серьезное и печальное. – Вдруг мой ребенок попадет к «воспитателям» вроде моих? Нет, на такой риск я не пойду.
– Люк… Это все… очень печально. Только знаешь, в чем я уверена? Ты в воспитании детей будешь полной противоположностью своей матери.
– Откуда тебе знать?
– Ну, наверняка я не знаю. Никто даже про себя не знает, каким будет отцом или матерью. Конечно, и у плохих людей дети рождаются. Но плохим людям плевать. А тебе не плевать, ты уже заранее беспокоишься.
Люк передергивает плечами, надевает куртку, помогает мне с кардиганом.
– Это все слова. Детей у меня не будет, и точка. В мире – сплошное зло; получится, что я осознанно обрекаю своего ребенка на страдания.
Выходим на парковку. Люк прячет руки в карманы, предлагает:
– Давай провожу.
– Тебе придется делать крюк.
Вдруг соображаю: а ведь мне неизвестно, где живет Люк. В любом случае к мельнице никому не по пути – она сама по себе.
– Да какой крюк – крючок. К моему жилью надо берегом идти, той же дорогой, что к школе, только дальше. Быстрее всего – через марш.
Вот как! Что ж, это многое объясняет, в том числе – откуда взялся Люк возле мельницы в тот вечер. А я-то ему не поверила! Как стыдно…
Не знаю, что и сказать.
Доверяю ли я Люку? Ответ – нет. Но после утреннего разговора с Кейт, после ее слов я склонна подозревать всех и каждого.
Фонарик я не захватила, а ночь облачная – иными словами, ничего не видно. Идем медленно. Я качу коляску, Люк прокладывает путь. Переговариваемся. Мимо проезжает грузовик, наши длинные тени ложатся на проселок и через мгновение исчезают. Люк успевает поднять руку в знак приветствия – он знако́м с водителем.
Но вот и грузовик скрывается в темноте. Правда, на ходу водитель бросает:
– Доброй ночи, Люк.
Мне досадно: Люк наладил контакт с местными, а Кейт – не смогла. Люк здесь обжился, стал своим, в то время как Кейт, родившаяся в Солтене, до сих пор воспринимается как чужая. Тут Мэри права.
Мы уже на мосту через Рич. В сандалию мне попал камешек, приходится разуваться, долго возиться с застежками. Пока я балансирую на одной ноге, Люк стоит, облокотившись о перила, смотрит поверх устья реки на море. Туман рассеялся, но облака по-прежнему низкие и тяжелые. Рич погружен во мрак, ничего не разглядеть. Даже мельница не мигает огнями. Лицо у Люка застывшее. На ум приходит белая палатка, спрятанная где-то там, в темноте. Интересно, Люк тоже о ней думает?
Обувшись, встаю рядом с Люком. Мы не касаемся друг друга, но наши плечи так близко, что сквозь ткань верхней одежды я ощущаю его тепло.
– Люк, – начинаю я.
Внезапно Люк поворачивается. Губы у него теплые – такие теплые, что желание почти ослепляет меня. Внизу живота – тягостная истома.
Вся влажная, ничего не соображающая, стою, бессознательно скользя пальцами по его груди, и знаю только одно: он здесь, его рот горяч, мое сердце колотится, и это главное, главное. А потом возвращается чувство реальности, и оно – как ледяной душ.
– Люк, не надо!
– Прости. – На его лице искреннее раскаяние. – Прости, Айса. Не знаю, о чем я только думал…
Смотрим друг на друга, дышим часто, поверхностно. Наверняка смущение и отчаяние Люка отражены сейчас в моих глазах, на моем лице.
– Дерьмо, – шипит он по-французски, шарахает кулаком по перилам. – Почему я всегда все порчу?
– Люк, нет. Ты не… ты не портишь. – Мне снова трудно глотать, боль в гортани вернулась. – Просто… я замужем.
Формально это неправда, но по сути… по сути, только это и имеет значение. Что бы ни происходило между мной и Оуэном, он – отец моей дочери. Фрейя нас связывает. И я не собираюсь заводить романы на стороне.
– Знаю, – еле слышно произносит Люк. Отворачивается, идет через мост, к мельнице. Сделав несколько шагов, он останавливается и снова заговаривает, но тихо, очень тихо. Не уверена, что правильно его расслышала.
– Я такого дурака свалял… Надо было тебя выбрать… ну, тогда.
Надо было тебя выбрать…
Это он к чему? Хорошо бы развить тему, но Люк, шагающий берегом Рича, упорно молчит.
Что он имел в виду? Что произошло между ним и Кейт?
Спросить язык не поворачивается. А вдруг он тоже спросит? Да и мне ли, столько раз лгавшей, требовать правды?
С осторожностью качу коляску, объезжая лужи и канавы. Пока мы сидели в пабе, прошел сильный дождь, дорогу совсем развезло.
Близость Люка мучительна. Он идет рядом, приноравливается к моему шагу. Наконец я не выдерживаю – против своего желания предлагаю Люку свернуть.
– Ты не обязан провожать меня до самой мельницы. Слишком большой крюк получится. Вот как раз твой поворот…
Люк качает головой.
– Тебе понадобится моя помощь.
Лишь когда перед нами встает темный силуэт мельницы, я понимаю, что Люк имел в виду.
Прилив – очень высокий, самый высокий на моей памяти. Деревянные мостки скрыты под водой, мельница полностью отделена от суши – это и в темноте видно. Конечно, мостки затопило всего на несколько дюймов, но я не могу определить даже границу русла, не говоря о том, чтобы различить подгнившие доски мостков.
Будь я одна, я бы, может, и рискнула. Но соваться, не зная броду, с коляской? Коляска тяжелая; соскочи с мостков хотя бы одно колесо, я едва ли сумею выкатить ее на сушу.
Физически ощущаю, как вытянулось у меня лицо. Оборачиваюсь к Люку.
– Черт! Что же делать?
Он всматривается в темные окна.
– Похоже, Кейт нет дома. Могла бы, уходя, свет оставить.
В голосе Люка неприкрытая горечь.
– Сегодня пробки выбило, – объясняю я.
Люк пожимает плечами по-особенному, по-французски. Жест – нечто среднее между принятием и презрением. Похоже, я должна защитить Кейт, но ответить на его безмолвное неодобрение ничего не могу. Мешает, в том числе, и моя собственная, не оформленная в слова обида. Как смела Кейт уйти до моего возвращения? Не знала же она, что в деревне я встречу Люка, что он мне поможет!
– Возьми малышку из коляски, – велит Люк.
Повинуюсь.
Фрейя, совершенно сонная, мигом приникает к моему плечу, сворачивается колечком, как моллюск-аммонит, у которого раковина – из теплой и тяжелой плоти.
– Но как же мы…
Люк не слушает – он снимает ботинки, хватает коляску и идет вперед по мосткам, разбрызгивая темную воду, которая доходит ему до середины икры.
– Люк, осторожно! Ты ведь не знаешь, что там, под водой…
Нет, Люк знает. Пересекает бездну вполне уверенно, а я только успеваю выдыхать: правильный шаг, еще один, еще. Вот сейчас оступится – Господи, помоги! Нет, не оступился. Люк уже на другом берегу, под дверью. Вода подошла близко-близко, коляска с трудом умещается на клочке суши. Люк дергает дверь. Не заперто. В проеме зияет тьма. Люк вкатывает коляску в дом, кричит:
– Кейт!
Голос эхом отзывается в пустоте и мраке. Слышатся щелчки – это Люк пробует выключатель. Света нет.
– Кейт!
Люк выходит на порог, закатывает джинсы и идет обратно ко мне.
– Знаешь, бывают такие дурацкие загадки? – Я пытаюсь шутить. – На логику. Допустим, у вас есть лодка, утка и лисица…
Люк улыбается. Загорелая кожа морщинками собирается в уголках глаз и губ. При мысли, что не видела его улыбки с самого возвращения, чувствую дрожь.
– Как же нам быть? Доверишь мне Фрейю?
Я молчу, и улыбка Люка исчезает. Начинаю частить:
– Я тебе доверяю, дело не в этом. Ты для Фрейи чужой. Вдруг она проснется, начнет капризничать? Знаешь, какая она сильная, если что не по ней!
– Нет так нет, – произносит Люк. – Тогда что? Я мог бы тебя нести, но, боюсь, мостки нас обоих не выдержат.
Мне смешно, и я этого не скрываю.
– Нет, Люк, меня носить не надо. Ни по мосткам, ни вообще.
Люк пожимает плечами:
– Раньше ты была не против.
Действительно. Я совсем забыла этот эпизод, но сейчас, когда Люк его упомянул, картинка стала очень четкой. Мы тогда припозднились на пляже. Начался прилив. Мою сандалию унесло. Путь к отступлению лежал по камням, обросшим ракушками. Я сразу поранила пятку, минут пятнадцать ковыляла под охи и ахи девочек. Каждая предлагала мне свою обувь, но я, конечно, отказывалась; да и размеры у нас не совпадали. Наконец Люку это надоело. Он посадил меня на спину и благополучно доставил домой.
Все словно вчера случилось. Его ладони на моих бедрах, мышцы спины – под моими животом и грудью, от его шеи пахнет солнцем, свежим потом и мылом. Вспыхиваю.
– Мне тогда было пятнадцать. Сейчас я гораздо тяжелее.
– Разувайся, – командует Люк.
Удерживая Фрейю, пытаюсь одной рукой совладать с ремешками сандалий. Не получается. Внезапно Люк садится на корточки, и прежде, чем я успеваю сказать «Не надо», справляется с застежками. Совершенно пунцовая, мысленно благодарю ночной мрак за то, что скрывает мои щеки. Подставляю другую ногу. Наконец Люк встает и протягивает мне руку.
– Держись за меня, – говорит он, ступая на мостки. – Иди строго за мной. Будь как можно ближе ко мне.
Свободной рукой вцепляюсь в его ладонь. Делаю шаг. Вода – ледяная. Дыхание сразу перехватывает. Вдруг нащупываю под водой что-то теплое. Ну конечно. Я наступила Люку на ногу. Несколько секунд стоим, глядя друг на друга. Затем Люк произносит:
– Сейчас я шагну широко. Ты тоже постарайся. Тут доска сгнила, надо ее миновать.
Киваю. Я тоже помню, где на мостках доски сгнили. Уже перетаскивала коляску через эти дыры. Слава богу, Люк рядом. Разве сама я разглядела бы под водой, какие доски надежные, а какие – нет?
Люк делает огромный шаг. Повторяю за ним. Но я ниже ростом, и у меня – Фрейя, а доски скользкие. Наступаю на водоросли, нога скользит, равновесие теряется.
Невольно вскрикиваю. Над водой, в темноте, крик кажется в разы громче, чем на самом деле. Люк меня держит – крепко, так крепко, что руке больно.
– Все, успокойся, – строго говорит Люк. – Опасности нет.
Киваю. Дышу тяжело. Стараюсь восстановить равновесие, не потревожив Фрейю, стараюсь дышать реже и тише. На мой крик лаем отозвалась какая-то собака – но больше ее не слышно. Мог это быть Верный?
– Прости, – лепечу я. – Там, под водой, что-то скользкое.
– Все нормально, – произносит Люк, смягчая хватку, но не отпуская меня. – Ты вне опасности.
Киваю. Проходим последние доски. Люк по-прежнему держит меня за предплечье, но уже не больно – просто крепко. Наконец мы на суше. Я едва дышу, сердце колотится. Фрейя, как ни странно, продолжает спать.
– Сп-спасибо, – мямлю я. Голос дрожит, хотя под ногами – твердая почва. – Спасибо, Люк. Не представляю, что бы я без тебя делала.
И правда – что? Сунулась бы с коляской по затопленным мосткам? Или сидела бы под холодной моросью, дожидаясь, когда Кейт изволит вернуться? Обида вскипает с новой силой. Как она могла? Как посмела скрыться в неизвестном направлении и даже сообщение не сбросить?
– Не знаешь, где у нее свечи? – спрашивает Люк.
Откуда мне знать? Он прищелкивает языком – то ли от возмущения, то ли еще от чего. Проходит мимо меня в дом, который кажется темной пещерой. Иду за ним, останавливаюсь в нерешительности посреди прихожей. Подол платья промок, липнет к ногам. Наверное, с меня уже целая лужа натекла. С досадой вспоминаю: сандалии-то на другом берегу остались! Ладно, бог с ними. Едва ли прилив еще выше поднимется – иначе ему придется поглотить всю мельницу. А раз так – заберу сандалии утром, после отлива.
Меня трясет. Из открытой двери тянет сквозняком, мокрое платье холодит колени. Люк занят – шарит по шкафам в поисках свечей и спичек. Слышится характерный шорох. Пахнет парафином. Возле раковины появляется пятно мутного света. Люк нашел масляную лампу, возится с фитилем. Наконец фитиль налажен, лампа горит ровно, и Люк ставит на фитиль колбу из матового стекла. Фитиля больше не видно. Есть Люк – и есть золотой шар в его руках.
Люк закрывает дверь. Смотрим друг на друга. Кружок света сближает сильнее, чем самая густая темнота. Мы – в этом кружке, нас разделяют считаные дюймы. Кто мы друг другу? Сейчас это совсем непонятно. Света достаточно, чтобы показать мне жилу на его шее – она напряжена, пульсирует, кажется, в такт биению моего сердца. Меня охватывает дрожь. По лицу Люка о его чувствах не догадаешься; кажется, он – как кремень. Но теперь-то я знаю – это видимость. Люк нервный, импульсивный, вроде меня; как и я, он на грани. Не могу выдержать его взгляд, да и незачем ему читать по моим глазам. Люк откашливается – в пустом доме его кашель звучит громко, слишком громко. Заговариваем мы одновременно.
– Пожалуй, мне…
– Думаю, что…
Замолкаем. Нервно хихикаем.
– Давай сначала ты, – предлагаю я.
Люк качает головой.
– Нет, ты. Что ты хотела сказать?
– Так, ничего. Насчет Фрейи. Надо ее уложить.
– А где она спит?
– Она спит… – делаю паузу, чтобы сглотнуть, – в твоей бывшей комнате.
Люк расширяет глаза – от удивления, или от потрясения, или по другой причине. Странно, конечно, что Кейт предоставила мне его комнату. В очередной раз меня шокирует несправедливость произошедшего.
– Понятно.
Свет лампы дрожит, ведь дрожит и рука, держащая лампу. А может, всему виной сквозняк.
– Давай я тебе на лестнице посвечу – одна ты и с малышкой, и с лампой не справишься, – предлагает Люк.
Действительно, темная спираль лестницы выглядит пугающе.
– Если здесь свечку уронить, нескольких минут хватит, чтобы запылал весь дом, – продолжает Люк.
– Спасибо, – говорю я.
Без лишних слов он начинает подъем по лестнице. Иду за ним следом. Золотой круг света исчезает за стропилами.
У дверей Люк останавливается. Слышно, как он тяжело, прерывисто дышит – но, приблизившись, я натыкаюсь всю на ту же непроницаемость лица. Люк с удивительным равнодушием смотрит на свою бывшую кровать, заваленную моей одеждой, и на колыбель с одеяльцем Фрейи и плюшевым слоником. Зато мое лицо буквально горит. Сумки разбросаны по всей комнате Люка, его стол уставлен целым взводом моих флаконов.
– Люк, прости, – выдыхаю я.
– За что простить?
Голос ровный, лицо бесстрастное – но на шее пульсирует все та же тугая жила. Люк ставит лампу на прикроватный столик, без единого слова разворачивается и растворяется во мраке.
Наконец Фрейя уснула. Я – на лестнице, с лампой в руке. Свободная рука вцепилась в перила. Медленно, контролируя каждый шаг, спускаюсь в гостиную. Вокруг меня – ореол золотого света, но вообще лампа не столько рассеивает мрак, сколько сгущает тени.
Я была практически уверена, что Люк ушел. Достигнув нижней ступени, различаю темный силуэт, встающий с дивана мне навстречу. Поднимаю лампу. Люк.
Лампа – на журнальном столике. Мое лицо – у Люка в ладонях. Это как будто само собой разумелось, мы словно договорились заранее. Люк целует меня – и я не противлюсь. Я отвечаю на поцелуи. Мои пальцы шарят у него под рубашкой. Есть только гладкость его кожи, бугристость ребер, мышц и шрамов; есть только жар его рта.
Тогда, на мосту, мне казалось, я предаю Оуэна – хотя я и не ответила на поцелуй. Но здесь, на мельнице, чувство вины меня не мучает. Мгновения настоящего времени влились в дни и ночи далекого прошлого, без остатка растворились в бесконечных часах, которые пропитала тоска по Люку, жажда его поцелуев, его прикосновений. Это была целая эпоха – задолго до Оуэна и до Фрейи; задолго до компрометирующих рисунков; задолго до передозировки и до всего, что за ней последовало.
Я могла бы думать, что действую назло Оуэну – а зачем он меня ревновал, зачем обвинял в измене, зачем в качестве последнего унижения прислал досье на Люка? Да меня никакое досье не остановит – теперь, когда я с мужчиной, которого желала – и в этом не стыдно признаться – с пятнадцати лет; которого желаю до сих пор.
Но я не лгу сама себе, не оправдываю поцелуи. Я просто растворяюсь в настоящем. Отдаюсь давним эмоциям, плыву по течению туда, в прошлое, тону в своей полудетской любви, как в темном омуте. Вода уже сомкнулась надо мной, течение тянет ко дну. Пусть. Пусть тянет.
Мы опрокидываемся на диван, я помогаю Люку стянуть футболку. Потому что желание пропитаться Люком слишком сильно, всепоглощающе. И мне уже плевать на послеродовую бледную рыхлость, на синие вены и растяжки на теле, некогда загорелом, ловком, подтянутом.
Знаю, знаю: нужно хотя бы пытаться сказать себе «стоп»; но правда в том, что я совсем не чувствую вины. Все отодвинулось на задний план, ничего больше не имеет значения – ничего, кроме пальцев Люка, расстегивающих, одну за другой, пуговицы на моем платье.
Я пытаюсь расстегнуть пряжку его ремня. Внезапно Люк подскакивает. Сердце падает. С застывшей гримасой стыда сажусь на диване, прикрываюсь руками, платьем, что-то мямлю.
Люк бежит к двери, запирает ее на замок – и меня бросает в жар, и потерянная голова кружится от осознания: сейчас свершится, сейчас наконец-то свершится.
Люк улыбается. Лицо его, вечно серьезное, хмурое, становится как у пятнадцатилетнего юноши. Мое сердце, замершее, подпрыгивает, пускаясь галопом. Дышать трудно, зато боль, что преследовала меня с момента обнаружения рисунков, боль, усугубленная обвинениями Оуэна, отступает.
Продавленный диван тяжко вздыхает и скрипит. Откидываюсь на спину, оказываюсь в объятиях Люка. Тело у него тяжелое, кадык – неожиданно гладкий. Губам чуть солоно от его пота, кожа так нежна, что приходится сдерживать свой пыл, покусывая его шею. И вдруг, когда блаженство становится почти невыносимым, я цепенею.
Потому что на лестнице что-то – кто-то – движется. Темный силуэт застывает среди темных теней.
Люк приподнимается, почувствовав мое напряжение.
– Айса, ты что? Я тебе сделал больно?
Говорить я не в силах. Мой взгляд устремлен на темную лестницу, на сгущенный мрак верхней площадки. Там, во мраке, кто-то есть.
Жуткий калейдоскоп перед глазами: вывороченные овечьи кишки, окровавленная записка, конверт, набитый рисунками из прошлого…
Люк резко оборачивается, прослеживает за моим взглядом.
Его движение провоцирует сквозняк, лампа вспыхивает – всего на долю секунды, но этой доли достаточно, чтобы разглядеть лицо молчаливого наблюдателя.
Это – Кейт.
С моих губ срывается сдавленный крик, и Кейт устремляется на верхний этаж.
Люк спешно натягивает футболку, застегивает джинсы, позабыв о ремне. Перескакивая через две ступени, он мчится наверх, но у Кейт преимущество и в расстоянии, и в проворстве. Хлопает дверь мастерской, поворачивается ключ в замке. В следующее мгновение я слышу, как Люк колотит в дверь и кричит:
– Кейт! Кейт! Впусти меня!
Ответа нет. Дрожащими пальцами начинаю застегивать платье, кое-как встаю с дивана.
Шорох шагов на лестнице, и, судя по всему, Люк совершенно раздавлен. Наконец он вступает в круг золотого света.
– Черт.
– Она что – с самого начала следила? – шепчу я. – Мы же ее звали – почему она сразу не вышла?
– Черт ее разберет.
Он закрывает лицо ладонями, словно таким способом можно стереть картинку: Кейт, белая, оцепеневшая, на лестничной площадке.
– Сколько она так простояла?
– Не знаю.
Мои щеки вспыхивают.
Сидим на диване плечом к плечу. Молчим. У Люка окаменело лицо. Не знаю, как выгляжу сама – но мысли путаются, мечутся от подозрений к отчаянию, от вожделения к страху. Зачем Кейт следила за нами? С какой целью?
Неотвязнее всего эта вспышка лампы, выхватившая из мрака ее лицо – белое, как маска, с провалами огромных глаз, с застывшим в попытке не вскрикнуть ртом. Чужое, совсем чужое лицо. Что стало с моей подругой? Кто эта женщина – скрытная, желчная?
– Мне лучше уйти, – наконец произносит Люк. Он даже встает, но к двери не делает ни шагу. Стоит, смотрит на меня, хмурит темные брови. В свете лампы скулы вырисовываются с особой отчетливостью, и лицо кажется затравленным.
Сверху слышится хныканье Фрейи. Я колеблюсь. Метнуться в спальню? Остаться с Люком? Люк заговаривает прежде, чем я успеваю сделать выбор.
– Айса, тебе здесь опасно находиться.
– Что? – Даже не стараюсь скрыть шок. – Ты о чем?
– О мельнице.
Люк делает широкий жест, охватывает и дом, и подступившую к нему воду, и бесполезные электрические розетки, и шаткую лестницу.
– То есть дело не только в самом доме…
Он умолкает, трет глаза, делает глубокий вдох и выпаливает:
– Тебе нельзя оставаться наедине с Кейт.
– Она же твоя сестра, Люк.
– Ничего подобного. Она мне не сестра, а тебе – не подруга. Нельзя ей доверять, Айса.
Люк понизил голос до шепота, хотя Кейт ну никак не может нас слышать. Между Кейт и нами – три этажа, да еще запертая дверь.
Качаю головой. Быть не может. Что бы Кейт ни сделала, какая бы угроза сейчас над ней ни нависала – она моя подруга. Мы дружим почти двадцать лет. И я не стану слушать Люка. Потому что он заблуждается.
– Можешь мне не верить, – продолжает Люк.
Он говорит торопливо, в то время как крики Фрейи становятся все громче. Хочу бежать к ней. Люк удерживает меня за запястье – нежно, но крепко.
– Можешь мне не верить, Айса, но, пожалуйста, будь осторожна. Тебе нельзя здесь оставаться. Ни минуты.
– Я уеду завтра же, – обещаю с усилием, с мыслью об Оуэне и обо всем, что ждет меня в Лондоне.
Люк качает головой.
– Завтра будет поздно. Ты должна ехать немедленно.
– На чем? До утра поездов не будет.
– Пойдем ночевать ко мне. Я лягу на диване, – поспешно говорит Люк, – если тебя этот момент смущает. Но здесь одну я тебя оставить не могу.
«Я не одна. Я с Кейт», – думаю я. Впрочем, Люк явно не это имеет в виду.
Фрейя уже заходится криком. И я решаюсь.
– Сегодня я никуда с места не сдвинусь. Не потащусь с Фрейей и всем багажом через марш среди ночи…
– Зачем тащиться? Вызови такси… – перебивает Люк.
Не слушаю, продолжаю говорить:
– Я уеду завтра утром. Первым же поездом. В восемь часов. Так что не волнуйся. И потом, со стороны Кейт мне ничего не угрожает. Что это ты выдумал? Мы семнадцать лет дружим, Люк. Не может Кейт представлять опасность. Я ей доверяю. Полностью.
– Я знаю ее дольше тебя, – выдыхает Люк так быстро, что я едва успеваю расслышать его слова в промежутке между криками Фрейи. – И у меня есть причины не доверять ей.
Фрейя плачет в полный голос. Нельзя больше игнорировать ее, и я осторожно высвобождаю запястье.
– Спокойной ночи, Люк.
– Спокойной ночи, Айса.
Он смотрит мне вслед. Лампу я уношу с собой, оставляя его в темноте. Беру на руки Фрейю – горячую, сотрясающуюся в гневных рыданиях. Она сразу успокаивается, и в наступившей тишине я слышу, как щелкает замок, как шаги Люка с шорохом удаляются от мельницы, как их поглощает ночь.
Не могу уснуть. Лежу, таращусь в темноту, прокручиваю сказанное и услышанное за эти сутки. Кейт утверждала, что уничтожила рисунки. Лгала. В этом – а может, и в чем-нибудь другом. В памяти всплывает перекошенное лицо Оуэна в миг расставания. И напряженное лицо Люка, обнимающего меня в круге света.
Нестыковки и несообразности накладываются одна на другую, и не собрать осколков разбитого сердца. А на периферии сознания, словно танцовщицы вокруг майского шеста, мельтешат призраки девчонок – нас прежних. Они, эти девчонки, переплетают цветные ленты, свивают правду с ложью, путают подозрения с воспоминаниями. Ближе к рассвету от всей этой неразберихи остается одна-единственная фраза, и она такая отчетливая, словно кто-то шепчет ее мне на ухо.
Надо было тебя выбрать… ну, тогда.
Что имел в виду Люк? Что он имел в виду?
Фрейя просыпается в половине седьмого. Кормлю ее, лежа в постели, и прикидываю, как поступить. Знаю: надо возвращаться в Лондон, мириться с Оуэном. Чем дольше я тяну, тем труднее будет спасти то, что осталось от наших отношений.
Но при одной только мысли мне становится физически плохо. Фрейя, сосредоточенная, серьезная, тянет молоко, щурится от утреннего света. Почему мне так не хочется возвращаться к Оуэну? Уж точно не из-за происшествия с Люком; по крайней мере, Люк – не единственная причина. И дело не в обиде на Оуэна – обида прошла. Сегодняшняя ночь выявила причины ярости, открыла мне глаза на мои измены Оуэну, длившиеся на протяжении почти десяти лет.
Причина вот в чем: теперь все, что я стану говорить Оуэну, будет только множить мою ложь. Правду я открыть не могу – во всяком случае, сейчас. И не потому, что боюсь за его карьеру и/или не хочу предавать девочек. Правда станет подтверждением: наши отношения до сих пор строились на лжи, которой я пичкала себя последние семнадцать лет. Я поняла и приняла это – но не хочу признаваться Оуэну.
Мне нужно время. Пусть все перемелется, пусть выкристаллизуется мое истинное чувство к нему. И еще: я должна достичь гармонии с собой.
Но где мне ее достичь? Подруг у меня полно, это да; но ни к одной я не могу ввалиться с младенцем, сумками и сроком проживания, который определяется емким словом «пока».
Фатима, разумеется, сразу скажет: «Живи сколько нужно» – но при напряженном графике, по которому работают она и ее муж, да при двух детях я не смогу задержаться дольше чем на неделю.
Съемная квартира-студия Теи вообще не вариант.
Все остальные подруги замужем и с детьми, а свободные комнаты в их квартирах (если таковые вообще имеются) нужны для бабушек и дедушек, для приходящих или постоянно живущих с ними нянь.
Может, поехать к брату? Уилл живет в Манчестере, в квартире всего с двумя спальнями. С женой и мальчишками-близнецами.
Не годится. Кроме собственной квартиры, я могу отправиться лишь в один дом. Сотовый телефон лежит у подушки. Беру его, листаю список контактов, застываю на слове «Папа».
У папы места сколько угодно. Он живет в Шотландии, неподалеку от Авимора, в доме с шестью спальнями. Один. В прошлый раз, вернувшись от папы, Уилл сказал мне: «Он тоскует, Айса. Собрались бы вы с Оуэном, навестили бы его. Знаешь, как он был бы рад?»
А мы все не могли вырваться. На выходные ехать – слишком далеко, целых девять часов придется провести в дороге. До рождения Фрейи времени совсем не было – то работа, то отпуск (святое дело), то ремонт в квартире. Потом – беременность, когда поездки вообще не рекомендованы. Ну и с новорожденным младенцем, или просто с младенцем, путешествовать – себе дороже.
Разумеется, когда Фрейя родилась, папа приезжал на нее посмотреть. Но сама я к нему не ездила целых… шесть лет? Невозможно. Наверное, я неправильно посчитала. Нет, все точно. А самое ужасное – даже и визит шестилетней давности случился исключительно потому, что нас пригласили на свадьбу в Инвернесс, и неприлично было не заскочить к папе, раз уж мы оказались так близко от его дома.
Дело не в самом папе – вот что надо ему внушить. Дело не в нем, я его люблю, и все такое. Проблема – в его горе. Оно словно провал между нами, возникший после маминой смерти. Год за годом видеть это горе значило растравлять собственную рану. Наши отношения, наша любовь держались на маме, а с ее уходом остались только двое безутешных, неспособных помочь друг другу людей.
Но папа меня примет. Пустит на неопределенный срок. Мало того – он, единственный из всех, будет рад это сделать.
Еле-еле успеваю к семи одеться и с Фрейей на руках спуститься в кухню. Из высоких окон открывается вид на Рич. Начался отлив. Поток пресной воды выделяется на фоне морской, кажется узким, не шире ручья. Берег обнажается. Почти слышно, как поскрипывает песок. Мелкая живность – моллюски, устрицы, черви-пескожилы – ретируется в свои убежища в ожидании прилива.
Кейт еще в постели – по крайней мере, в кухню явно не спускалась. Не могу сдержать вздох облегчения. Мы с Фрейей – одни. Беру турку – она холодная, ею не пользовались со вчерашнего дня. То и дело поднимаю взгляд на лестницу, смотрю туда, где ночью маячило призрачно-белое лицо Кейт. Удастся ли мне забыть это лицо? Что оно выражало? Гнев? Ужас? Или другое чувство?
Тереблю волосы, словно это поможет понять поведение Кейт. Люка она не любит, доверия к нему не испытывает. Это у них взаимно, тут вроде я разобралась. Но зачем было прятаться в темноте и следить за нами? Почему Кейт не окликнула меня, не предостерегла от ошибки – ведь, по ее мнению, я совершала ошибку? Почему Кейт предпочла остаться в тени – уж не потому ли, что и у нее есть тайна?
Одно не вызывает сомнений – отсюда надо уезжать. После случившегося ночью я просто не могу задерживаться. Дело не в предупреждениях Люка; дело в том, что между мной и Кейт больше нет доверия. Неважно, кто это доверие уничтожил: я – своими действиями или Кейт – своей ложью. Оно пропало, и точка.
Фундамент, на котором я выстраивала свою жизнь, дал трещину, частично раскрошился и грозит полностью обрушиться. Отныне я не знаю, кому можно верить, а кому нельзя. Не представляю, что говорить на допросе в полиции, если он случится. Давняя отрепетированная легенда оказалась никуда не годной – а заменить ее нечем. Остались только сомнения, только подозрения.
Сегодня среда. Вернусь в Лондон первым же поездом, на который успею; соберу вещи, пока Оуэн на работе, и уеду к папе в Шотландию. Оттуда и Фатиме с Теей позвоню. Что-то щекочет переносицу, и вдруг Фрейе на темечко шлепается крупная капля. Оказывается, я плачу.
Служба такси не отвечает. Отчаявшись дозвониться, складываю вещи в корзинку коляски и выхожу под холодный утренний свет. Босиком перебираюсь через мостки. Мои сандалии лежат на песке, словно вынесенные морем после кораблекрушения. Крупные следы, не иначе, Люка, идут вдоль берега, теряясь на раскисшем проселке.
Выхожу за ворота, начинаю долгий путь на вокзал. Воркую с Фрейей – в качестве собеседника сойдет и полугодовалое дитя. Все лучше, чем переваривать события нынешней ночи и гадать, что ждет меня в Лондоне.
Мы с Фрейей как раз выруливаем на шоссе, когда позади слышатся шорох шин и надрывный писк клаксона. От неожиданности подпрыгиваю. Оборачиваюсь. К нам приближается древний черный «Рено», съезжает на обочину и тормозит.
Стекло со стороны водителя медленно ползет вниз. Видна голова – грязно-седые волосы, лицо без улыбки.
– Мэри!
– Что, напугала? Ну извини.
Мощные, голые по локоть руки; кожа бледная, вся в темных волосках. Ногти, нечистые, кое-как обкромсанные, постукивают по дверце.
– На вокзал собралась?
Киваю. Безапелляционным тоном Мэри заявляет:
– Со мной поедешь.
– Спасибо, только… – бормочу я.
Хорошо бы отговориться отсутствием детского кресла. Но взгляд сам собой перемещается на коляску, где Фрейя вполне надежно пристегнута адаптером. Мэри вскидывает бровь.
– Что – только?
– Н-не… не хочу доставлять вам хлопоты, – выдавливаю я.
– Не дури, – бросает Мэри и открывает заднюю дверь. – Лезь давай.
Другие отговорки в голову не приходят. Делать нечего. Пристегиваю Фрейю на заднем сиденье, сама, без единого слова, усаживаюсь впереди. Мэри давит на газ, «Рено» чихает, но скорость набирает.
С четверть мили едем молча. Заворачиваем к железнодорожному переезду – и тут шлагбаум опускается, вспыхивают огни семафора. Придется ждать, пока пройдет поезд.
– Твою мать! – бубнит Мэри. На тормоз она жмет, когда до шлагбаума остаются считаные дюймы.
– Ох, только не это! Я на вокзал теперь опоздаю?
– Они для лондонского поезда закрылись. Вон он, огнями мигает. Приедем как раз к отправлению. Но, может, тебе повезет. Случается, этот поезд задерживают на солтенском вокзале – если он опережает расписание.
Кусаю губы. На самом деле мне торопиться особо некуда, а поездов в Лондон ходит немало. Но мысль о получасе ожидания на вокзале в компании Мэри – не из приятных.
Тишину нарушает только сопение Фрейи. Вдруг, ни с того ни с сего, Мэри выдает:
– Жуткая новость – насчет трупа.
Дергаюсь так, что ремень врезается в горло.
– В смысле? Вы про идентификацию?
– Про что ж еще? Жуткая, говорю, новость – хотя мы примерно этого и ждали. Амброуз никогда бы добровольно не ушел, детей бы не бросил. Он за них и в огонь и в воду был готов. А на сплетни всегда с высокой вышки плевал, уж я-то знаю. Чтобы Амброуз такое с собой вытворил из-за скандала, детей расхлебывать оставил – да никогда.
Мэри барабанит пальцами по изношенной резине руля, нетерпеливо отбрасывая прядь седых волос, выбившуюся из жидкой косы.
– Только я сейчас не про опознание. Я про другое.
– Про что?
– А ты не слышала? – Мэри быстро взглядывает на меня, передергивает плечами. – Хотя… в газетах-то и впрямь еще не писали. Я-то раньше всех узнаю – мой Марк следствие ведет. Нет, не буду говорить. Мало ли что.
Она выдерживает паузу, наслаждается возможностью продемонстрировать силу и власть надо мной. Скриплю зубами. Понятно: Мэри хочется, чтобы я умоляла ее, особу, приближенную к следствию, выложить подробности. Не хочется доставлять ей такое удовольствие – а делать нечего. Я должна быть в курсе.
– Мэри, ну нельзя же так! Раз начали говорить…
Изо всех сил стараюсь, чтобы мой голос звучал беззаботно, выражал простое любопытство и ничего, кроме любопытства.
– В смысле, Мэри, я совсем не хочу из вас инсайдерскую информацию тянуть, но если Марк особо не подчеркнул, что сведения секретные, то…
– Эх, ну что с тобой поделаешь? Марк ведь и впрямь мне говорит, что скоро все и так узнают… – нагнетает Мэри. Начинает грызть ноготь, выплевывает кусочек, будто решается – или будто ей надоело меня дразнить. – Ладно, слушай. В винной бутылке, что была при Амброузе, найдены следы героина. Установлено, что смерть наступила от оральной передозировки.
Морщу лоб.
– Оральная передозировка? Бред какой-то.
– То-то и оно, что бред, – поддакивает Мэри. Через открытое окно слышно: поезд все ближе. – Это чтобы бывший наркоман да вовнутрь принимал? Если уж ему взбрело самоубийством кончать, впорол бы просто в вену. Хотя, как я уже говорила, это тоже чушь. Амброуз детей не оставил бы. Никаким способом – не сбежал бы и не покончил с собой. Это примерно одно и то же, верно? Я не сплетница, – продолжает Мэри, даже не покраснев от такой явной лжи, – потому и помалкиваю. Да только тут другого ничего и быть не может. Тут дело ясное.
– Ясное? Вы о чем? – Голос не повинуется мне, становится чужим, хриплым.
Мэри склабится, обнажая крупные желтые зубы, которые вызывают ассоциации с могильными плитами, подается ко мне всем своим костистым телом и шепчет, обдавая запахом сигарет:
– Дело ясное, что его убили.
Мэри развалилась на сиденье, наблюдая за моей реакцией. Похоже, ей приятно видеть, как я в растерянности подбираю и не могу подобрать слова. А что, если Мэри с самого начала знала правду? Очень уж у нее физиономия довольная.
– Я… мне…
Мэри кривит губы в своей фирменной хищной улыбке и отворачивается. Поезд приближается с характерным свистом, ритмичное мигание семафоров сводит с ума.
Стараюсь не выдать своих эмоций и умудряюсь произнести сравнительно спокойно:
– Мне кажется… мне кажется, это маловероятно. Сами подумайте: кто мог желать смерти Амброуза?
Мэри пожимает своими мощными плечами.
– Да я уже подумала. И вот что я тебе скажу: в убийство легче поверить, чем в самоубийство. За детей он бы в огонь и в воду вошел, я это всегда говорила и еще сто раз могу повторить. Он бы их не бросил. Особенно – Кейт. Хотя она такой любви не заслужила, маленькая дрянь.
Рот у меня сам собой открывается.
– Что вы сказали?
– Я сказала, Амброуз за детей в огонь и в воду пошел бы, – повторяет Мэри и смеется мне в лицо. – А тебе что послышалось?
Во мне вскипает гнев. Подозрения насчет Кейт, терзавшие меня последние сутки, кажутся теперь результатом злобных сплетен – не более. Эта ведьма Мэри пытается настроить меня против одной из лучших подруг – неужели я такое допущу?
– Кейт вам никогда не нравилась, так ведь? – сухо замечаю я и складываю руки на груди. – Вы только и мечтаете, чтобы она в полицию на допрос угодила.
– Правду хочешь? На, получи. Да, я об этом мечтаю.
– Почему? – Издаю жалобный, какой-то девчачий крик, повторяю с детской непонятливостью: – Почему вы ее так ненавидите?
– Было бы кого ненавидеть – потаскушек всяких! Ну, чего уставилась? Я про вас четырех говорю.
Потаскушек? Целое мгновение мне кажется, я ослышалась. Но по лицу Мэри ясно: нет, слух меня не подвел. Дрожащим от ярости голосом переспрашиваю:
– Что вы сказали?
– Ты же не глухая.
– Если вы про грязные сплетни насчет Кейт и ее отца, то ваш выпад не по адресу. Потому что я не верю ни в какой инцест. И как вы можете верить, как? Ведь Амброуз был вашим другом!
– Я не про то. – Мэри вскидывает бровь, морщится. – Амброуз-то как раз хотел эту лавочку прикрыть. Друг от друга оттащить по мере сил.
Цепенею, словно меня облили ледяной водой. Так, значит, это правда. Тея не ошиблась. Амброуз действительно собирался перевести Кейт.
– О чем вы? Кого оттащить и куда?
– Да ты и впрямь не знаешь!
И Мэри хохочет – будто лает.
– Твоя драгоценная подружка спала с собственным братом. Амброуз узнал и решил их разлучить. А я как раз в тот вечер, когда он Кейт сказал, к нему зашла. Не успела еще постучаться, слышу: Кейт скандалит. Вопит. Вещами швыряется. Таким словами отца обзывает – уши вянут. Откуда только она их понабралась в таком юном возрасте? И ублюдок он, и сукин сын, и… Ладно, не буду повторять. Потом, видно, поняла, что ругань не действует, и говорит: «Ты еще пожалеешь». Угрожала родному отцу напрямую! Ну, я ноги в руки – и деру оттуда. Не знаю, что там у них дальше было, да только я достаточно слышала. А на другой вечер Амброуз как в воду канул. Ну и что мне думать прикажешь, мисс Невинная Овечка? Что мне думать, когда мой друг исчезает, а его доченька разлюбезная несколько недель не заявляет в полицию? Что мне думать, когда его кости море вымыло из песка? Молчишь?
Да, молчу. Говорить я не в силах – я едва дышу. Внезапно кровь устремляется к моим онемевшим пальцам, и в следующее мгновение я рывком расстегиваю ремень безопасности, распахиваю дверь, выскакиваю, хватаю Фрейю – а поезд как раз несется мимо, обдавая нас жаром, оглушая грохотом колес.
Дрожащей рукой захлопываю дверь. Мэри высовывается в окно и без труда, даже не напрягая связки, произносит своим хриплым голосом:
– У этой девчонки руки в кровище, и кровища не только овечья.
– Откуда вы… – начинаю я, но к горлу подступает ком, и договорить не удается.
Мэри, впрочем, и не ждет. Поезд проехал, шлагбаум поднят, огни семафора больше не мигают. Мэри нажимает на газ и резко трогается с места, оставив меня в облаке бензинных паров.
То, что происходит, – неправильно. Я несу ответственность.
Продолжаю стоять на переезде, переваривать услышанное от Мэри. Снова мигают семафоры – приближается другой поезд, тот, что следует на юг.
Выбор у меня все еще есть. Можно вызвать такси, догнать Мэри на вокзале, прижать к стенке и выяснить, что она имела в виду.
Только, кажется, я и так знаю.
То, что происходит, – неправильно.
Второй вариант – сесть в поезд и уехать в Лондон. Через два часа мы с Фрейей будем дома. Через два часа я смогу забыть об этом кошмаре.
У этой девчонки руки в кровище.
Разворачиваю коляску, иду обратно – на мельницу.
Кейт нет дома. На сей раз в этом можно не сомневаться – поводок Верного на вешалке отсутствует. На всякий случай обхожу всю мельницу, заглядываю в каждую комнату, поднимаюсь в мансарду. Теперь здесь спит Кейт. Здесь, в бывшей мастерской Амброуза.
Дверь не заперта. Распахиваю ее – и сердце замирает. Все здесь точь-в-точь так же, как было при Амброузе, даже кисточки лежат на тех же местах. Кажется, сам хозяин войдет с минуты на минуту. Даже запах прежний – смесь скипидара, сигарет и масляных красок. И покрывало на продавленном диване – то самое, синее с белым узором – словно на китайской вазе. Только оно еще больше полиняло и обтрепалось по краям. С покрывала мой взгляд скользит к рабочему столу – а над столом, на стене, как и семнадцать лет назад, приколота бумажка.
Завязавших наркоманов не бывает; бывают наркоманы, которые достаточно долго не развязываются.
Ох, Амброуз.
Словно чья-то костлявая рука схватила меня за горло. В сердце вскипает яростная решимость. Нет уж, я докопаюсь до истины! Не ради собственного спокойствия; по крайней мере, не только ради него. Я вызнаю правду ради человека, которого любила, который дал мне приют, и утешение, и сочувствие как раз в тот период, когда я больше всего в этом нуждалась.
Не могу, подобно Люку, назвать Амброуза отцом. У меня был и есть родной отец. Тогда он был раздавлен горем, черств ко мне, занят маминой болезнью и попытками с ней свыкнуться – но все-таки. Что касается Амброуза, он заменил мне отца на время, на год. Стал тем, у кого можно искать любви и понимания, тем, кто принял меня, кто проявлял безграничное терпение – и находился в шаговой доступности. Во всех смыслах.
За это я всегда буду любить Амброуза. Мысль о его смерти – и о моей роли в этой трагедии – вселяет в меня непривычную ярость. Ярость так сильна, что заглушает голос разума, велящий немедленно бежать прочь из этого дома, возвращаться в Лондон. Ярость заставляет игнорировать ответственность за Фрейю, которая, уж конечно, подвергается здесь опасности. Ярость вытеснила все прежние страхи, перекроила поведенческие клише.
В своей ярости я уподобилась Люку.
Обшарив все комнаты, бегу вниз по шаткой лестнице, к шкафу. Хоть бы Кейт не перепрятала записку, пока меня не было.
Записка на месте. Там же, откуда Кейт достала ее только вчера; среди других бумаг, перетянутых красной бечевкой.
Мои дрожащие пальцы перебирают листки, пока наконец не натыкаются на коричневый конверт с надписью «Кейт».
Я открываю этот конверт. Я – впервые за семнадцать лет – прочитываю предсмертную записку Амброуза.
Почерк размашистый, с характерными петлями.
Моя дорогая доченька!
Как больно, как не хочется оставлять тебя одну. Я мечтал дожить до того, как ты станешь взрослой, увидеть тебя сильной, любящей, ответственной, самоотверженной. Не сомневаюсь, что ты именно такой и станешь – только уже без меня. Я мечтал качать на коленях твое дитя, как когда-то качал тебя. Этого не будет – прости. Я был безрассуден, не думал о последствиях своих действий – и вот теперь исполняю то, что должен исполнить. Других способов все исправить я не знаю. Я поступаю так, чтобы больше никто не страдал.
Не вини никого, моя радость. Я ухожу добровольно и с миром. Помни, моя дорогая Кейт, что я принял это решение из любви к тебе. Долг отца – защищать своих детей, и я совершаю то, что одно способно защитить тебя. Я не хочу, чтобы ты жила с чувством вины – оно подобно тюрьме. Я тебя люблю, и вот моя последняя просьба: живи, люби, будь счастлива. А главное – поступай так, чтобы случившееся не было напрасным.
Твой любящий папа.
В горле ком, боль так сильна и остра, что слезы грозят хлынуть на бумагу, смыть написанное.
Наконец-то – через семнадцать лет – до меня дошло.
Теперь я, кажется, понимаю, что Амброуз пытался сказать Кейт, какую жертву он принес. …не хочу, чтобы ты жила с чувством вины… совершаю то, что одно способно защитить тебя… я тебя люблю, и вот моя последняя просьба… поступай так, чтобы случившееся не было напрасным…
Господи, где логика?
Что вы наделали, Амброуз?
Что вы наделали?
Трясущимися пальцами достаю телефон, печатаю сообщение Фатиме и Тее:
Вы мне нужны. Пожалуйста, приезжайте. Гемптон-Ли, в шесть вечера.
Письмо прячу в карман, коляску с Фрейей выкатываю за порог. Почти бегу от мельницы – и не оглядываюсь.
Уже без двадцати двух семь. Крохотная кофейня на перроне, с которого поезда отправляются в Лондон, закрылась. Шторы опущены, на двери соответствующая табличка. Фрейю от сырости защищают капор коляски и флисовое одеяльце, предусмотрительно подложенное мною под сиденье. Но Фрейя устала, хнычет, я же совсем озябла. Руки в гусиной коже. Пытаюсь растереть их, чтобы кровь побежала быстрее.
Приедут или нет? До четырех часов сообщений не было, а потом мой мобильник разрядился. Неудивительно – я ведь, сидя в кафе с видом на море, каждую минуту проверяла, нет ли нового сообщения, не пришло ли письмо по почте. Ждала ответа.
Отсылая отчаянное «Вы мне нужны», я не сомневалась: девочки тотчас примчатся на мой зов. А сейчас… сейчас сомневаюсь. Но и уйти не могу. Без телефона нельзя же назначить им новое место встречи. Что, если они все-таки приедут, а меня нет?
Я дохожу до конца перрона, разворачиваюсь, иду назад. Теперь меня уже просто трясет. Ужасно холодно. Стараюсь игнорировать нарастающее недовольство Фрейи. На часах – 18.44. Может, напрасно я жду?
Перрон пуст. Но вот издали доносится, все усиливаясь, глухой гул. Вздрагиваю, прислушиваюсь. Да, точно. Это поезд. Из Лондона. Хрипит громкоговоритель, слышится металлический голос:
– На платформу номер два прибывает поезд, с опозданием ушедший с вокзала Виктория. До Уэст-Бей-Сэндз, с остановками в Уэстридже, Солтене, Райдинге и Уэст-Бей-Сэндз, проследуют лишь первые семь вагонов. Уважаемые пассажиры, направляющиеся в Уэстридж, Солтен, Райдинг и Уэст-Бей-Сэндз, пожалуйста, занимайте места только в первых семи вагонах.
Решение появляется внезапно. Если девочки не приедут этим поездом, я сама сяду в один из первых семи вагонов, доберусь до Солтена и позвоню им оттуда.
Пальцы теребят конверт, лежащий в кармане. Кейт, Кейт! Как ты могла нам лгать?
Поезд приближается. Наконец, с шипением и скрежетом, пыхтя и отдуваясь, останавливается у платформы. Двери открываются, выпускают пассажиров. Шарю глазами в толпе. Фатима с Теей – парочка колоритная. Одна – крошечная, вторая – жердь; их сразу заметишь. Но где же они?
Слышится предупреждающий писк. Сейчас двери закроются. Сердце бьется с бешеной скоростью. Если я еду в Солтен, прыгать в вагон надо немедленно. Следующий поезд только через час. Где Фатима с Теей? Где?
Тяну время, колеблюсь. Наконец делаю шаг, жму на кнопку «Открыть» ровно в ту секунду, когда дежурная по вокзалу свистит в свисток.
Двери не открываются. Жму сильнее, бью по кнопке кулаком. Бесполезно. Двери закрылись.
– Отойдите от края платформы! – рявкает дежурная, стараясь заглушить рев трогающегося поезда.
Черт. Я два часа мерзла на гребаном вокзале, а они не изволили приехать. И теперь мне торчать здесь еще целый час.
Грохот становится оглушительным. Махина, тяжко вздохнув, отползает от платформы. И очень удобно и безопасно сейчас сообщить дежурной, что она – сука и сукина дочь; характеристики тонут в шуме и свисте.
Щекам горячо от едких слез, обратная тяга обдает сырым холодом. Внезапно над ухом раздается:
– Сама сукина дочь!
Резко разворачиваюсь, роняю челюсть, в следующий миг захожусь хохотом. У меня истерика, и слезы – слезы облегчения – так и брызжут из глаз. Потому что передо мной стоит Тея.
С минуту не могу говорить. Повисаю на Тее. От нее пахнет сигаретным дымом – и джином. Что ничуть меня не удивляет. В кармане Теи похрустывает жестяная банка – не иначе, с джин-тоником из «Маркс-энд-Спенсер».
– А где Фатима?
– Ты разве от нее сообщение не получила?
– У меня мобильник разрядился.
– Фати занята на работе до полшестого. Должна приехать следующим поездом. Я ей написала, что мы в каком-нибудь заведении зависнем. Осталось зависнуть – и сообщить Фати название.
– Отличный план. – Растираю руки, постукивая зубами. – Тея, как же я тебе рада. Куда пойдем?
– Лучше всего в паб. – Тея чуть старательнее, чем обычно, выговаривает слова. Ясно, почему.
– Может, не надо в паб? Нечестно будет по отношению к Фатиме.
Мне претит прикрываться верой Фатимы – но это ведь правда.
– Черт возьми! – Тея закатывает глаза. – Так и быть, пойдем есть фиш-энд-чипс. Надеюсь, «Фритюрница» еще не закрылась.
«Фритюрница» не закрылась, наоборот, процветает. Все здесь как прежде – от ядовито-зеленой меламиновой стойки до полочек из нержавеющей стали, с которых соблазняют посетителей треска в панировке и сосиски в кляре.
Наклейка на двери, изрядно поблекшая за семнадцать лет, по-прежнему взывает: «Покупай пукка-пай»[13]. Вот не думала, что эта компания до сих пор существует.
Толкаем дверь. Волна теплого, пропахшего уксусом воздуха накрывает меня с головой. Усиленно дышу, чувствуя, как отступает озноб. Фрейя уснула еще по дороге сюда. Оставляю коляску возле пластикового столика, вместе с Теей иду к стойке.
– Порцию картошки, пожалуйста, – говорит Тея краснолицему, распаренному мужчине за стойкой.
– С собой или здесь?
– Здесь.
– Соль, уксус?
Тея кивает. Краснолицый встряхивает солонку, целая соляная метель припорашивает меламиновую стойку, несколько кристаллов падает на две фунтовые монеты, положенные Теей на блюдечко.
– Тея, одна картошка – это не еда! – Сама чувствую, что говорю как заботливая мамаша, но ничего с этим не поделаешь. – Возьми что-нибудь еще.
– Уже взяла, – дерзко отвечает Тея и достает из кармана непочатую банку джин-тоника. – Как видишь, тут у меня представлены две из четырех основных пищевых групп.
– Уберите, – напрягается краснолицый, указывая на табличку «В нашем ресторане запрещается употреблять принесенные с собой продукты и напитки».
Тея со вздохом прячет банку в карман.
– Ладно. Воды дайте. Заплатишь, Айса? Я потом верну.
– Уж на воду как-нибудь наскребу. Мне, пожалуйста… пикшу в кляре. И порцию картошки. Маленькую. И гороховое пюре. И бутылку воды без газа для моей подруги. Да, еще кока-колу.
– Супер, – бросает Тея, когда я сажусь с ней рядом и открываю кокотницу с гороховым пюре. – Ни дать ни взять коробочка соплей.
Картошка бесподобна. Каждый ломтик слегка смягчен уксусом, надкусишь – поскрипывает от соли. Обмакиваю ломтики в гороховое пюре. Кремовая кашица тает во рту.
– Боже, как вкусно. В смысле, картошку по-блюмментальски все любят, я – не исключение. Сложный трехстадийный процесс, строгая пропорция масла и говяжьего жира для обжарки… Но на побережье картошку совсем иначе готовят, и это классно.
Тея кивает, но толком не ест. Балуется с картофельными ломтиками, гоняя их на тарелке, возит по оберточной бумаге, оставляя на ней пятна.
– Тея, ты что, жир отжать пытаешься? Это же картошка. Жареная! Она должна быть жирной – в этом суть блюда.
– Да мне как-то есть не хочется, – цедит Тея, избегая смотреть на меня.
Прикусываю язык. Мысленно возвращаюсь в школу. Еженедельно школьная медсестра вызывала Тею взвешиваться. Тея возвращалась злая, рассказывала, что медсестра грозилась позвонить отцу, если Тея и дальше будет худеть. Жаль, ох как жаль, что здесь нет Фатимы. Фатима бы нашла аргументы.
– Тея, – бормочу я. – Тебе нужно больше есть…
– Я не голодна, – повторяет Тея. Отбрасывает замасленную бумагу, смотрит на меня почти зло. – Меня с работы выперли.
Что? Не уверена, что произнесла это вслух; впрочем, Тея отвечает так, словно вопрос был озвучен.
– Работу я потеряла, вот что. Меня выгнали.
– Это из-за…?
Тея поводит плечами и морщится.
– Я сконцентрироваться не могла – наверное, поэтому. Да пошли они все!
Соображаю, что следует сказать (и что я в состоянии выдать), но тут Фрейя вздрагивает и просыпается. Она тянется ко мне – мол, мама, возьми же меня на коленки. Беззубо улыбается нам с Теей, переводит взгляд с нее на меня и обратно. Прямо видна работа мысли в этой маленькой головке: «Мама – чужая тетя; мама – чужая тетя».
Глазенки горят, Фрейя заворожена всем вокруг – ярким цветом стойки, огромными серьгами-обручами Теи, которые мерцают в свете флуоресцентных ламп. Тея тянется к ней, несмело касается пухлой щечки – и тут звякает колокольчик над дверью, и входит, точнее, почти вбегает Фатима, за улыбкой скрывающая усталость и страх.
– Фатима!
Подскакиваю ей навстречу и бросаюсь обниматься. Чувство облегчения неописуемо. Фатима тоже меня обнимает, тянется к Тее, усаживается рядом с ней.
– Съешь картошечки, – предлагает Тея, подвигая к Фатиме бумажный пакет.
Фатима качает головой, и в этом движении чувствуется досада.
– Нельзя. Рамадан на прошлой неделе начался.
– Ты что, будешь сидеть и смотреть, как мы едим? – недоверчиво уточняет Тея.
Следует утвердительный кивок. Тея закатывает глаза. Сдерживаю желание бросить «Кто бы возмущался!».
– Ничего, я привыкла, – спокойно объясняет Фатима. – И вообще, мне надо вернуться к вечерней молитве и разговению. – Она смотрит на часы. – Времени – до следующего поезда. Так что давайте без прелюдий.
– Ага. Валяй, Айса, выкладывай, что ты узнала.
Тея отпивает воды, смотрит на меня поверх бутылки.
– Надеюсь, информация достаточно… гм… специфическая, и вы не зря сюда тащились. – Сглатываю и продолжаю: – Может, «специфическая» – неподходящее слово. В любом случае это важно.
«Вы мне нужны». Пароль, тайный шифр, которым мы пользовались только в самых крайних случаях. «Стоит Кейт свистнуть – и вы примчались, как собачонки».
– Дело вот в чем.
Перекладываю Фрейю с руки на руку, достаю из кармана конверт с предсмертной запиской.
Фатима первая решается взять его. На лице – недоумение.
– Это адресовано Кейт. Погоди…
Маленький смуглый пальчик проскальзывает в щель. Лицо бледнеет, глаза становятся огромными.
– Это она, да?
– Кто – она?
Тея выхватывает записку из рук Фатимы. Мгновение, когда она узнает почерк, фиксируется на ее лице. Они не просто разные, Фатима и Тея; они – полные противоположности. Быстрая на улыбку, по-птичьи позитивная миниатюрная Фатима с ее внимательными темными глазами – и Тея, этакий набор костей на каблучищах; Тея, сытая, кажется, одним сигаретным дымом. Тем страннее видеть на этих двух лицах одно и то же выражение – смесь ужаса, шока и дурных предчувствий.
В одинаковости лиц столько комизма, что, не будь ситуация такой кошмарной, я бы, наверное, расхохоталась.
– Читайте, только внимательно, – шепчу я.
И они читают, вдвоем удерживая истончившийся лист бумаги. А потом я начинаю рассказывать. О том, что узнала от Мэри Рен. О стычке с ней. Сгорая от смущения, я описываю даже несостоявшийся секс с Люком и миг, когда заметила Кейт на лестнице.
Объясняю, что Амброуз имел в виду, говоря: «То, что происходит, – неправильно». Открываю страшную тайну: Кейт спала с Люком.
Под занавес говорю о бутылке, найденной при Амброузе. О том, что Марк поведал своей матери. О следах героина в остатках вина.
– Оральная передозировка?
Фатима еле шепчет, хотя фоном к разговору идет бульканье фритюра для картошки.
– Нелепость какая-то. Идиотский способ свести счеты с жизнью. Дозу никогда точно не просчитаешь, да и смерть очень долго не наступает. Вдобавок всегда можно хватануть налоксону – это же противоядие. Если Амброуз хотел покончить с собой, мог бы ввести героин внутривенно. После такого не откачаешь. Умер бы через несколько минут.
– Прочтите записку еще раз, – шепчу я. – Прочтите ее под углом зрения человека, отравленного собственным ребенком. Ну? Понятно теперь?
Как я надеялась, что девочки назовут меня чокнутой, поставят мне диагноз «паранойя». Станут утверждать, что Кейт никогда не покусилась бы на жизнь отца. Что разлука с мальчишкой, в которого влюбилась, и перспектива отправиться в закрытую школу – недостаточный мотив, вообще не мотив.
Никто не пытается меня образумить. Фатима и Тея смотрят мне в лицо, обе бледные, перепуганные. Наконец Фатима выдавливает:
– Похоже, ты права. – Словом «права» она давится. – Господи. Что мы наделали?
– Заказывать будем или как?
Вздрагиваем одновременно, поднимаем глаза. Над нашим столиком навис, руки в боки, тип в засаленном переднике.
– Что, простите? – выдает Тея. Выговор аристократический – умеет Тея, когда хочет.
– Я говорю, – с неуместной четкостью, словно вынужден контактировать с троицей глухих, произносит официант, – что вы, леди, уже больше часа занимаете столик. А вот эта – он указывает на Фатиму, – даже чашки чаю не заказала.
– Больше часа? – вскидывается Фатима. На лице – неподдельный ужас. – Быть не может! Без четверти девять! Я на поезд опоздала. Простите.
Фатима выскакивает из-за стола, чуть не сбив официанта.
– Я сейчас. Мне нужно позвонить Али.
Видно, как она бегает туда-сюда за ресторанной застекленной дверью. Когда кто-нибудь входит или выходит, до нас долетают даже обрывки разговора: «Прости… Непредвиденные обстоятельства… Не думала, что уйдет столько времени…»
Мы с Теей собираем сумки. Усаживаю Фрейю в коляску, пристегиваю. Тея хватает сумку Фатимы, я отбираю у Фрейи картофельный ломтик – она чесала об него десны, довела до состояния пюре и уже собиралась швырнуть на пол.
Фатима все еще говорит по телефону:
– Знаю, знаю. Прости, милый. Скажи маме, что я очень сожалею. Поцелуй детей. Люблю тебя.
Наконец Фатима нажимает «отбой». На лице у нее отчаяние.
– Какая же я идиотка!
– Все равно тебе домой поехать не светило, – резонно замечает Тея. Фатима вздыхает.
– Пожалуй. Значит, мы это сделаем, да?
– Что именно? – спрашиваю я. Впрочем, я знаю и без Фатимы.
– Поедем к Кейт, предъявим ей улики. В смысле, если мы ошиблись…
– Хорошо бы, – мрачно бросает Тея.
– Если мы ошиблись, – повторяет Фатима, – у Кейт есть возможность объясниться. В конце концов, записку можно было прочесть под сотней углов зрения.
Киваю, отнюдь не уверенная насчет сотни углов. В моей памяти свежи откровения Мэри; я лично вижу в записке только одно – попытку любящего отца спасти от тюрьмы своего ребенка. Амброуз понимал, что обречен; он сделал единственно возможное для защиты Кейт.
Я перечитывала эту записку бессчетное количество раз, а не два раза, как Фатима. Под конец Амброуз выводил слова с усилием; рука его не слушалась, потому что яд делал свое дело. Я перечитывала записку в поезде, когда ехала из Солтена; доставала ее и всматривалась в неровные строчки, пока ждала в Гемптон-Ли.
Я перечитывала записку, держа у груди собственного ребенка, краем глаза видя розовый, как бутончик, ротик Фрейи, ощущая кожей ее влажное, мягкое, как паутинка, дыхание. И для меня вариантов прочтения не существует. Отец спасал дочь, умолял жить дальше так, чтобы жертва не оказалась напрасной.
Почти десять. Мы постоянно делали остановки. И наконец-то добрались до мельницы. Пришлось долго ждать поезда, пришлось наблюдать, как разговляется Фатима, – зная, что ее душа рвется к родным.
Очередная задержка происходит в Солтене. Звоним Рику, ждем, пока он отвезет предыдущего клиента. Наконец садимся в такси. Фрейя посасывает свои пухлые пальчики, Тея грызет окровавленную кутикулу, Фатима села на переднее сиденье и с ненавистью смотрит в ночь.
Знаю, Фатима и Тея обе сейчас бредут тем же кругом ада, который целый день я полировала своими пятками. Если все правда насчет Кейт – что нам делать? Чем это нам грозит?
Разумеется, потерей работы. Скверно само по себе. Но этим не ограничится. Надо готовиться к тюремному сроку. У меня отнимут Фрейю, у Фатимы – Надию и Самира. Если Кейт действительно убила отца, кто в здравом уме поверит, будто мы не понимали, что делаем?
Пытаюсь представить: вот я в тюремной комнате для свиданий. Оуэн, брезгливо поджавший губы. Испуганные, не узнающие меня глазенки Фрейи.
Тут воображение отказывает – сведения о тюремном распорядке я до сих пор черпала из сериала «Оранжевый – хит сезона». Не могу смириться с мыслью, что скоро у меня появится собственный опыт. Нет, со мной – с нами – такого не случится.
Рик проезжает по проселку, сколько может. Лишь когда колеса начинают пробуксовывать в мокром песке, мы вылезаем из такси, а Рик разворачивается и возвращается на шоссе. С усилием переставляя ноги, бредем к мельнице.
Учащенное сердцебиение стало для меня нормой. Окна мельницы темны – похоже, электричества до сих пор нет. Впрочем, в окне верхнего этажа что-то слабо мерцает. Явно не электрическая лампочка – от нее бы был целый поток света. Наверняка Кейт принесла к себе в комнату масляную лампу, и язычок пламени пляшет, волнуемый тем же сквозняком, который играет шторами.
Ловлю себя на том, что задержала дыхание, готовясь увидеть затопленные мостки. Но нет, прилив только через пару часов, по мосткам идти пока безопасно. Лица Фатимы и Теи выражают одно и то же: если не справимся до прилива, застрянем у Кейт на всю ночь.
Наконец мы у дверей, на уменьшающейся полоске грязного песка.
– Готовы? – шепчет Тея.
Поеживаюсь.
– Я, кажется, нет.
– Надо идти, – говорит Фатима.
Она вскидывает кулачок, стучит. Впервые на моей памяти мы втроем стоим под дверью и ждем, когда же Кейт нас впустит.
– Девочки? Что вы здесь делаете?
На лице Кейт – изумление, однако она сторонится, позволяя нам войти в дом. После серебристых сумерек гостиная кажется угольной ямой.
Источников света всего два. Первый – луна, силами которой поднимаются морские волны. Второй – лампа в руках Кейт. Лицо у нее бледное, совсем как накануне, когда Кейт следила за нами с лестницы. Меня бросает в дрожь.
– Проводку я так и не наладила, – чужим голосом поясняет Кейт. – Сейчас свечи зажгу.
Наблюдаю, как она роется в шкафу. Пальцы на ручке коляски дрожат, а я не сознаю этой дрожи. Неужели мы действительно это сделаем? Обвиним нашу лучшую подругу в убийстве родного отца?
– Можешь уложить Фрейю в спальне, – говорит Кейт.
Собираюсь возразить – мы ненадолго, но вдруг киваю.
Конечно, мы не останемся на ночь; только предъявим обвинение и уйдем, но в любом случае будет сцена, и Фрейе присутствовать незачем.
Убираю из коляски адаптор, шепчу Фатиме:
– Без меня не начинайте. Я быстро.
Фрейя дремлет, пока я несу ее вместе с коляской по скрипучей лестнице, продолжает спать, когда я вхожу в комнату Люка. Осторожно опускаю коляску на пол, оставляю дверь приоткрытой.
С сердцебиением, которое, кажется, способно расшатать всю мельницу, спускаюсь к девочкам.
В гостиной уже горят свечи, кое-как установленные на блюдцах. Сажусь на диван, рядом с Фатимой и Теей. Руки у обеих сцеплены на коленях. Кейт застыла, окаменела.
– Значит, группа поддержки все-таки нагрянула, – произносит Кейт.
Открываю рот – но как начать? Язык сухой, прилип к нёбу, щеки горят от стыда. Чего именно я стыжусь? Может быть, собственной трусости?
– Черт, надо выпить, – бросает Тея.
Несет из серванта бутылку виски, наливает полный стакан. При свете свечей виски кажется черным, как нефть. Тея выпивает его залпом, вытирает рот.
– Айса, будешь? Кейт, тебе налить?
– Буду, – отвечаю я.
Голос чуть дрожит. Может, от алкоголя прекратится дрожь; может, я сумею сделать то, что должна. Тея наполняет мой стакан, я пью, обжигая нёбо, язык, десны, гортань. У нас два варианта развития событий. Первый – мы жестоко заблуждаемся и предаем дружбу, которой без малого двадцать лет. Второй – мы правы. Не знаю, что хуже.
В итоге начинает разговор Фатима. Она встает с дивана, шагает к Кейт, берет ее руки в свои. У Фатимы внутренний стержень тверже стали, просто его за внешней кротостью не сразу разглядишь.
– Кейт, – произносит Фатима – очень тихо, очень осторожно. – Дорогая наша Кейт, мы пришли сюда, чтобы кое о чем тебя спросить. Может быть, ты уже догадалась, о чем именно?
– Нет, не догадалась, – с внезапной досадой отвечает Кейт.
Высвобождается, тянет к себе стул и садится напротив дивана. Теперь полное ощущение, что Кейт – на скамье подсудимых, а мы, три прокурорши, выносим ей приговор.
– Может, все-таки объясните, в чем дело?
– Кейт, – выдавливаю я. В конце концов, это я посеяла подозрения в Фатиме и Тее. Минимум, что я должна сделать, – озвучить их в лицо Кейт. – По дороге на вокзал я встретила Мэри Рен. И она… она рассказала мне о том, что удалось выяснить полиции. Раньше я этого не знала.
Сглатываю. В горле уже привычный колючий ком.
– Она… она сказала…
Очередное глотательное движение. Нет, так не пойдет, это все равно, что пластырь от раны по миллиметру отковыривать. Нужно дернуть сразу, резко. И я это делаю:
– Мэри сказала, что в бутылке, из которой пил Амброуз, были обнаружены следы героина. Сказала, что он умер от оральной передозировки. И что версия о самоубийстве отброшена. Теперь отрабатывают другую версию…
Договорить я не в силах.
С недомолвками расправляется Тея. Она резко поднимает взгляд. От неверного света на лицо ложатся тени – это уже не лицо, а череп – я вздрагиваю.
– Кейт, – Тея идет напролом, – ты убила своего отца, да?
– Почему вы так решили? – на удивление спокойно спрашивает Кейт.
Ее лицо в золотистом круге света отдает потусторонней бледностью. Фатима и Тея морщатся, словно им больно.
– Он умер от передозировки.
– От оральной передозировки?! – не выдерживаю я. – Кейт, ты сама-то в это веришь? Чушь. Таким способом с жизнью счеты не сводят. Тем более у Амброуза был выбор – он мог ввести героин внутривенно. Вот же… – Тут мужество меня подводит, уступает место чувству вины, которое сильнее, гораздо сильнее. И все-таки я заставляю себя продолжить: – Вот же записка.
Достаю конверт, кладу на стол.
– Мы ее читали, Кейт. Еще семнадцать лет назад. Но истинный смысл записки открылся мне лишь сегодня. Это ведь не письмо самоубийцы, правда? Это письмо человека, отравленного собственной дочерью и пытающегося спасти отравительницу от тюрьмы. Амброуз тебе целую инструкцию оставил – типа, продолжай жить, не оглядывайся, и пусть свершившееся будет ненапрасным. Как ты могла, Кейт? Это правда, что ты спала с Люком? Ты отравила отца, потому что он хотел вас разлучить?
Кейт вздыхает. Закрывает глаза, вскидывает свои длинные, тонкие руки, трет лоб. Через несколько мгновений являет нам бесконечно печальное лицо.
– Да, – с усилием произносит Кейт. – Это правда. Это все правда.
– Что? – взрывается Тея. Вскакивает, опрокидывает стакан. Он падает и разбивается, виски течет по полу, просачивается в щели.
– Что? – повторяет Тея. – Выходит, ты нас заставила скрыть убийство? Не верю!
– Во что не веришь? – уточняет Кейт, в упор глядя на Тею своими синими глазищами.
– Да ни во что! Ты спала с Люком? Амброуз хотел тебя отослать из дому? И ты его за это отравила? Бред!
– Все правда, – повторяет Кейт. Смотрит вбок, за окно. Даже при свечах заметно, как трудно ей сглатывать, как ходят ходуном мышцы ее тонкой шеи.
– Что касается Люка… Знаю, папа считал нас братом и сестрой – да только я об этом не помнила. Когда Люк приехал из Франции, мы… мы влюбились друг в друга. Казалось, иначе и быть не может, мы с ним две половинки, и совершенно непонятно было, почему папа не хочет этого понять. Люк меня любил, Люк во мне нуждался. А папа… папа… – Горло Кейт судорожно дергается, веки трепещут. – Он так себя повел, будто мы с Люком – родные брат и сестра. Видели бы вы, как он на меня смотрел, когда заявил, что…
Кейт отворачивается к окну, к серебряному под луной Ричу, к берегу, на котором вдалеке – отсюда не видно – стоит белая палатка и трепещет на ветру полицейская лента.
– Никогда раньше я не чувствовала себя такой грязной. Но в папином взгляде было столько отвращения…
– Что ты сделала, Кейт? – срывающимся шепотом спрашивает Фатима – словно не верит собственным ушам. – Расскажи, что конкретно ты сделала. Шаг за шагом.
Кейт распрямляется, вскидывает подбородок. Говорит с вызовом, словно решилась взглянуть в глаза неизбежному:
– В ту пятницу я слиняла с уроков, побежала домой. Папы не было, Люка – тоже. Я высыпала всю папину заначку в красное вино, в бутылку, которую папа держал возле раковины в кухне. Вина там оставалось не больше стакана. Я знала, что Люк к нему не притронется, и вообще на ночь не придет – в школе останется. А папа, когда возвращался по пятницам, – первым делом наливал себе стакан вина. Да вы, наверное, и сами помните. Наливал и залпом опрокидывал. – Кейт издает нервный смешок. – Ну и вот, я стала ждать.
– Ты нас соучастницами сделала, – шипит Тея. – По твоей милости мы столько лет покрывали убийство. И ты даже извиниться не хочешь?
– Извините! Простите! – кричит Кейт. Ее неестественное спокойствие дало трещину, теперь перед нами прежняя девчонка, перепуганная не меньше нас. – По-вашему, я не раскаиваюсь? Да меня за эти семнадцать лет чувство вины изъело уже!
– Как ты могла, Кейт? – шепчу я.
В горле пересохло, подступают слезы. Не понимаю, как мне удается сдерживаться.
– Как ты могла? Ладно мы, но Амброуз! Он же твой отец, и какой отец! Неужели ты отравила его только из страха, что он тебя отправит в другую школу? Как хочешь – а я не верю!
– Не веришь – не надо, – огрызается Кейт.
– Мы имеем право знать, – почти рычит маленькая Фатима. – Кейт, мы имеем право знать!
– Больше я вам ничего не могу сказать, – бросает Кейт. Но в ее голосе отчаяние. Грудная клетка ходит ходуном. Верный, не понимая горя хозяйки, подползает к Кейт на брюхе, толкает ее мохнатой головой.
– Нет, не могу. Не могу!.. – Кейт, похоже, давится фразой.
Вскакивает, почти бежит к окну, выходящему на Рич, открывает его и выскакивает, сопровождаемая Верным. Тея хочет выпрыгнуть следом, Фатима ее удерживает.
– Пусть Кейт побудет одна, – говорит Фатима. – Она на грани. Если вмешаемся, она может совершить любую глупость.
– В смысле? – шипит Тея. – Она что, и меня в Рич бросит, да? Черт! До чего ж мы были наивны! Понятно, что Люк ненавидит Кейт! Он знал, знал с самого начала! И молчал!
– Он ее любил, – поясняю я. Лицо Люка, заметившего Кейт на лестнице, стало моим наваждением. Торжество и боль в его глазах преследуют меня. Фатима с Теей смотрят непонимающе, словно забыли: я все видела, я лежала здесь, на этом диване. – Думаю, он до сих пор ее любит – несмотря ни на что. Но представьте, каково ему жилось все эти годы… – Умолкаю, закрыв лицо ладонями. – Кейт его убила, – говорю уже только себе, чтобы заставить себя в это поверить. – Убила родного отца. Она даже отрицать это не пытается.
Делать нечего – сидим, ждем. Проходит немало времени; наконец за окном раздается шум, и появляется Кейт. Ноги у нее промокли. Значит, начался прилив; значит, мостки затопило. Ветер поднимается, это слышно и в доме. Волосы Кейт усеяны мелкими жемчужинами дождевых капель. Понятно. Досиделись до шторма.
Впрочем, на лице Кейт неестественно спокойное выражение. Она закрывает окно, подкладывает под раму мешок с песком.
– Оставайтесь ночевать, – говорит Кейт как ни в чем не бывало. – Мостки затоплены, шторм будет нешуточный.
– Уж как-нибудь дойду, не утону на глубине два фута, – бросает Тея, но Фатима делает предупреждающий жест – кладет ладонь на ее плечо.
– Мы останемся, – произносит Фатима. – Только, Кейт, должны же мы…
Что еще ей непонятно? Вроде все обсудили. Что мы должны – поговорить?
– Не волнуйтесь, – перебивает Кейт. – Я приняла решение. Утром позвоню Марку Рену и во всем сознаюсь.
– Во всем? – выдавливаю я.
Кейт кривит губы в насмешливо-усталой улыбке.
– Не то чтобы во всем. Я скажу, что действовала одна. Вас впутывать не буду.
– Марк тебе не поверит, – задумчиво произносит Фатима. – Сама подумай – могла ли пятнадцатилетняя девчонка в одиночку тащить взрослого мужчину?
– Поверит, никуда не денется, – спокойно говорит Кейт.
На ум приходят рисунки. Сумела ведь Кейт убедить школьную администрацию в своем авторстве.
– Расстояние не такое уж и большое, – продолжает Кейт. – Если положить на клеенку т-те…
Кейт замолкает. Слово «тело» она произнести не в силах.
– Кейт, ты вовсе не обязана сознаваться! – выпаливаю я.
– Обязана.
Она подходит ко мне, гладит меня по щеке, заглядывает в глаза. На миг тонкие, нервные губы трогает печальная улыбка.
– Запомните, девочки: я вас люблю. Я вас всех очень сильно люблю. Простите меня. Выразить невозможно, как я сожалею, что впутала вас. А теперь я должна покончить с этой историей. Так будет лучше для всех. Мне пора сознаться.
– Кейт… – Тея, бледная, как полотно, способна вымучить только это слово.
Фатима встает, трет щеки ладонями, будто не верит, что наша дружба сейчас закончится – да еще вот так.
– Я тебя правильно поняла, Кейт?
– Правильно. Это – конец. Вам больше не надо бояться. Простите меня.
Кейт смотрит на Фатиму, переводит взгляд на меня, затем – на Тею.
– Хочу, чтобы вы знали: мне очень стыдно. Мне очень, очень жаль.
Да ведь Амброуз в предсмертной записке говорил практически то же самое! Других способов все исправить я не знаю… Не хочу, чтобы ты жила с чувством вины…
Кейт берет лампу и начинает подъем по лестнице. Верный белым, призрачным пятном маячит сзади. А по моим щекам, повторяя за дождем, стучащим в окна, бегут слезы. Потому что Кейт права. Это – конец. Конец, который я не могу и не хочу принять.
Уже глухая ночь. Поднимаюсь в спальню, даже не надеясь, что усну. В перспективе – лежание в темноте, прокручивание в голове бесчисленных вопросов. Да, еще я буду прислушиваться к дыханию Фрейи. Но я не просто устала – я вымоталась. Я словно выжатый лимон. Валюсь на кровать, не раздевшись, и отключаюсь, едва голова касается подушки. Сны мои тревожны и тяжелы.
Не представляю, сколько времени провожу в забытьи. Будят меня голоса из мастерской, точнее, из спальни Кейт. Там ссорятся, что-то в интонациях вызывает мороз по коже.
Несколько секунд уходит на то, чтобы вернуться в действительность, отбросить образы Кейт, Амброуза и Люка, которыми был полон мой сон, и сориентироваться во мраке. Сверху в потолочные щели сочится тусклый свет; мигает оттого, что кто-то бегает взад-вперед по комнате. Разговаривают на повышенных тонах. Голоса звенят, и звенит стакан с водой возле кровати, и сами стены, кажется, сотрясаются.
Нашариваю выключатель ночника. Щелкаю. Вспоминаю про неисправную проводку. Черт. Лампу забрала Кейт. В любом случае у меня нет спичек. Даже свечу зажечь нечем.
Продолжаю лежать и прислушиваться. Кто говорит и с кем? Кейт – сама с собой? Или Фатима и Тея подступили к ней с дальнейшими расспросами, не позвав меня?
– Не понимаю. Ты ведь этого всю жизнь хотел, разве нет?
Голос, хриплый от слез, принадлежит Кейт. Сажусь в постели, стараюсь дышать тише – чтобы расслышать каждое слово. Кейт что – по телефону говорит?
– Ты хотел, чтобы я понесла наказание, верно? – продолжает Кейт.
На сей раз она добивается ответа. Но отвечают ей не только словами. Сначала слышится что-то вроде долгого стона, затем – яростный рык. От него заходится сердце.
– Я думал, все будет по-другому.
Это голос Люка. И в нем – невыносимая боль.
На размышления времени нет. Вскакиваю, выскальзываю из комнаты, бегу к спальне Фатимы, дергаю дверную ручку, зову, прильнув к замочной скважине:
– Фати, Фати, проснись!
Несколько секунд – и дверь открывается. Фатима таращится во тьму, и глаза ее расширяются, когда я указываю вверх и она слышит скрип досок. Мы обе едва дышим.
– Тогда чего же ты хочешь? Чего?
Слов почти не разобрать из-за рыданий – но говорит явно Кейт.
– Чего тебе надо, если не этого?
Фатима вцепляется мне в руку, шепчет:
– Там что – Люк?
Молча киваю. Сейчас важно услышать ответ Люка.
– Я никогда не испытывал к тебе ненависти. Как ты можешь такое говорить? Я тебя люблю… Всю жизнь любил.
– Что там происходит? – в ужасе шепчет Фатима.
Качаю головой. Прокручиваю услышанное вечером от Кейт. Господи. Кейт, Кейт! Неужели она взяла вину на себя?
Люк произносит что-то неразборчивое. Голос Кейт больше похож на ультразвук. Слышится грохот. Кейт вскрикивает – от боли? От страха? Попробуй пойми. Снова вступает Люк. Эта фраза еще менее внятная, чем предыдущая. Одно не вызывает сомнений: Люк на грани срыва.
– Надо ее спасать, – шепчу Фатиме.
– Разбудим Тею. Вдвоем нам с Люком не справиться. Он, похоже, пьян.
Фатима права. Звуки сверху свидетельствуют о том, что Люк не в себе.
– Я всегда тебя одну любил, – доносится с третьего этажа. В голосе – боль и горечь. – Сам бы рад переключиться – а не мог и не могу. Я бы на что угодно пошел, лишь бы с тобой не разлучаться.
– Я бы тебя не оставила, – рыдает в ответ Кейт. – Надо было просто подождать. Я бы его убедила. Он бы вернул тебя. Почему ты ему не верил? Почему не верил мне?
– Я не мог… – Люк на мгновение умолкает и с усилием продолжает: – Не мог этого допустить. Чтобы он отправил меня обратно.
Тея спит на первом этаже. У нее не заперто. Вламываемся в спальню, Тея подскакивает, лицо перекошено от страха. Разглядев, что это всего-навсего мы с Фатимой, Тея ужасается. Теперь ее глаза выражают удивление.
– Девочки, вы чего?
– Здесь Люк, – выдыхаю я. – Нам кажется… нам кажется, что мы… сделали неправильные выводы.
– Что?
Тея вскакивает, натягивает футболку.
– Вот черт! Кейт цела?
– Мы не знаем. Люк сейчас у нее. Они ссорятся. Вещами бросаются.
Тея уже выскочила из спальни и бежит к лестнице.
Ее опережает новый звук, громче прежнего. Похоже, теперь швырнули стул или стол. На мгновение мы замираем. Затем раздается вопль. С грохотом раскрывается дверь, и две пары ног несутся по ступеням.
Тут-то он и достигает моих ноздрей – запах, от которого падает сердце. Парафин. Пахнет парафином. Еще мгновение – и доносятся странные звуки. Откуда они, что их производит, я пока не понимаю, но меня охватывает первобытный ужас.
Лишь когда на лестнице появляется Кейт, вся бледная, мне становится ясна природа странных звуков. Это трещит древесина, охваченная пламенем.
– Кейт, что происходит? – спрашивает Фатима.
– Вон из дома! – Кейт проскакивает мимо Фатимы, распахивает входную дверь. Видя, что мы не шевелимся, кричит: – Оглохли, что ли? Вон из дома! Горим! Лампа разбилась, парафин вытек!
Боже. Фрейя.
Бросаюсь вверх по ступеням. Кейт хватает меня за руку, тащит назад.
– Ты с ума сошла, Айса? Пожар! Парафин через пол просочился, там все в огне!
– Пусти! – рычу я, выкручивая запястье. Верный лает отрывисто, словно передает сигнал с помощью морзянки: «Тревога! Тревога!»
– Пусти! Там Фрейя!
Кейт бледнеет и разжимает пальцы.
Успеваю преодолеть половину пути. Закашливаюсь. Пылающие капли парафина просачиваются сквозь щелястые перекрытия, падая огненным дождем. Прикрываю голову ладонями. Жар почти неощутим – его пересиливают першение в горле и резь в глазах. Дым густой, ядовитый, дышать невозможно. Я не думаю о собственных легких, голове, руках. Все мои мысли занимает Фрейя.
Я почти у цели, еще несколько шагов – и ворвусь в спальню. Внезапно путь преграждает Люк.
Обожженные руки кровоточат, рубашка на груди разорвана – видимо, загорелась, и Люк пытался сбить пламя. Лицо искажено ужасом.
– Куда тебя несет? – рычит Люк и сразу же закашливается от дыма.
Сверху слышен звон стекла. Это лопаются бутылочки со скипидаром. Запах ползет по дому. Отлично помню, сколько этих бутылочек находится в мастерской; еще краски, и льняное масло, и растворитель. Сейчас все это лавой прольется сквозь пол прямо в спальню…
– С дороги! – выдыхаю я. – Там Фрейя!
Люк меняется в лице.
– Фрейя в доме?
– В твоей комнате. Пусти!
За его спиной, между мной и Фрейей – огненный туннель. Рыдаю, пытаясь сдвинуть Люка с места или проскочить мимо. Но Люк слишком силен.
– Люк, пусти! Люк! Пожалуйста, пусти!
И тут он отшвыривает меня – не просто отталкивает, а именно отшвыривает, и я падаю на ступени и сползаю вниз, безуспешно цепляясь, обдирая локти и коленки.
– Вниз, Айса! Прочь из дома! Встань под окном и жди!
Люк разворачивается, набрасывает на голову то, что осталось от рубашки, и бежит к спальне.
Кое-как поднимаюсь – сначала на четвереньки, затем – на ноги. Побегу за Люком; не смогу бежать – поползу. Но в этот миг обрушивается потолочная балка. Озираюсь в поисках какой-нибудь тряпки, которой можно обмотать руки и отбросить пылающее препятствие. Или попался бы стул, чтобы отодвинуть балку. Ничего нет. Зато из спальни слышится сдавленный плач Фрейи.
– Под окном встань, Айса, твою мать! – кричит Люк, перекрывая гул пожара.
И до меня наконец доходит.
Люк не потащит Фрейю сквозь этот огненный ад. Он бросит ее в Рич. Моя задача – раскинуть руки. Бегу вниз по лестнице. Надеюсь, что правильно поняла Люка.
Надеюсь, что успею.
Тея, Фатима и Верный уже на берегу, но я не следую за ними по затопленным мосткам – я прыгаю прямо в Рич. Вода доходит до бедер. Она так холодна, что дыхание перехватывает; зато от мельницы пышет жаром.
– Люк! – зову я, преодолевая сопротивление воды. Теперь я как раз под окном спальни, и вода леденит мою грудь. Течение подхватило подол платья, тащит на глубину. – Люк, я здесь!
За стеклом маячит его лицо. Люк пытается поднять оконный шпингалет, толкает разбухшую раму. Окно не открывается. Люк начинает бить по раме плечом.
– Да разбей ты его! – кричит Кейт.
Она тоже прыгнула в воду, она спешит ко мне. Тут окно поддается, распахивается со звоном, и Люк снова ныряет в дымную глубину спальни.
Сначала мне кажется, что он передумал, но вот я слышу захлебывающийся визг. Фрейя. Моя Фрейя. Она кричит, и брыкается, и кашляет, и давится дымом.
– Я готова! Бросай ее, Люк! Бросай же!
Его плечи слишком широки для этого окошка. Люк вытягивает одну руку, высовывает голову, каким-то чудом умудряется перехватить Фрейю и, почти зависнув над Ричем, тянется вперед, боясь промахнуться. Фрейя бьется на его предплечье, удерживаемая только сгибом локтя.
– Бросай! – надрываюсь я.
И Люк распрямляет руку.
Фрейя не кричит, потрясенная фактом полета.
Целый миг полы распашонки кажутся крылышками. Успеваю запечатлеть в памяти круглое, зареванное, застывшее в недоумении личико. Затем раздается мощный всплеск: я поймала Фрейю на руки, мы обе упали в воду.
Где она? Шарю под водой, нащупываю цепляющиеся ручонки, тяну… вытягиваю, но поскальзываюсь и падаю снова, и течение тянет нас в море.
На помощь приходит Кейт. Подхватывает меня под мышки (Фрейю я крепко прижала к груди), помогает устоять. Тонкий голосок Фрейи – словно шило, пронзающее ночь. Фрейя негодует, ей холодно, соленая вода саднит глазки и ротик – но ее негодование восхитительно. Фрейя – жива; она жива, жива, жива, и сейчас нет ничего важнее.
Увязая в иле, плетусь к берегу. Фатима хватает Фрейю, а мне помогает Тея. Мое платье тяжело от воды и ила, я захожусь смехом, а может, рыдаю – трудно определить.
– Она цела? – повторяю я. – Фати, Фрейя цела?
Фатима пытается осмотреть Фрейю, игнорируя по возможности крики и брыкания.
– Цела. Вроде цела. Тея, возьми мой телефон, позвони в службу спасения. Быстрее.
Фатима возвращает мне моего ребенка, близкого к истерике, и хочет помочь Кейт выбраться на берег. Но Кейт далеко. Кейт стоит под окном, простирая руки, и молит:
– Прыгай! Ну прыгай же!
Люк смотрит сверху – на Кейт, на глубокую, неспокойную воду. Кажется, сейчас прыгнет. Внезапно он качает головой. На лице – спокойная решимость.
– Прости меня, – произносит Люк. – Прости за все.
Он делает шаг назад – от спасительного окна, в глубину дымной спальни.
– Люк!
Вопль Кейт подобен набату. Кейт бегает вдоль берега, пытается заглянуть то в одно окно, то в другое, надеется увидеть Люка, рвущегося к ней сквозь пламя. Но Люка нет. Нет вообще никакого движения.
Почему-то я не сомневаюсь: Люк лег на свою старую кровать, свернулся калачиком, закрыл глаза. Наконец-то он дома…
– Люк! – зовет Кейт.
И прежде чем я угадываю ее намерение, прежде чем мы успеваем ее остановить, Кейт, преодолевая сопротивление воды, бросается к дверям отцовского дома.
– Да, да, на мельнице пожар, – плачет Тея в телефон. – Пожалуйста, поспешите. «Скорая» пусть тоже приедет.
– Кейт! – кричит Фатима. – Кейт, что ты де…
Но Кейт уже на крыльце. Она вытягивает мокрые рукава, хватается за раскаленную дверную ручку и исчезает в доме, закрыв за собой дверь.
Фатима делает рывок, и я, уверенная, что ей взбрело бежать за Кейт, хватаю ее за руку. Фатима замирает возле мостков, рядом со мной и Теей, рядом со скулящим Верным, в черном дыму, что валит от мельницы.
В окне мелькает Кейт – пригнувшись, она поднимается в спальню. Это занимает долю секунды, но вот Тея вскидывает руку – смотрите. И наши взгляды устремляются к окну прежней комнаты Люка.
– Видите? – Голос Теи дрожит от ужаса.
Да, мы видим. Два темных силуэта выхвачены из адской огненной массы внезапной, мгновенной вспышкой.
– Кейт! – зову я, охрипшая от дыма. Сама знаю, что бесполезно. Кейт меня не слышит и слышать не может. – Кейт, не надо!
Грохот подобен сходу лавины. Инстинктивно закрываемся руками, втягиваем головы в плечи. Из каждого окна вырывается целый ураган искр, битых стекол, пылающих щепок.
Вероятно, прогорела опорная балка, удерживавшая всю конструкцию, и гигантский костер обрушился под собственной тяжестью, усеяв берег обломками. Мне за шиворот попала щепка, жжет сквозь мокрое платье. Нависаю над Фрейей, как щит.
Шум улегся, и мы осмеливаемся поднять головы. Мельница – словно пустая ракушка; дымящиеся балки торчат, подобно ребрам. Нет больше ни крыши, ни полов, ни лестницы. Лишь языки пламени, долизывающие слепые оконные рамы, довершающие адское пиршество.
Ничего, совсем ничего не осталось от мельницы.
И ничего не осталось от Кейт.
Резко просыпаюсь. Долгую минуту не могу сообразить, где нахожусь. Освещение в комнате слабое, мигают какие-то приборы. Слышится гул голосов, пахнет дезинфекционным раствором. Запах дыма, кажется, надежно обосновался в моих ноздрях.
Вдруг я вспоминаю.
Я в больнице, в педиатрическом отделении. Фрейя – рядом; спит в кроватке, накрепко вцепившись в мою руку своими крохотными пальчиками.
Свободной рукой тру глаза. Веки саднит от слез и дыма. Восстанавливаю события последних двенадцати часов. Получаются какие-то обрывки. Тея, бросающаяся в воду в стремлении добраться до мельницы; Фатима, повисшая на ней, тянущая назад. Полицейские и пожарные; перекошенные лица толпы при сообщении, что в доме остались люди.
Фрейя, загипнотизированная дикой красотой пожара; пухлая мордашка вся в золе, огромные круглые глазищи отражают пламя.
Но главное – Кейт и Люк; два силуэта в огненной геенне.
Кейт побежала спасать Люка.
– Зачем? – в ожидании службы спасения хрипло повторяла Тея, обнимая дрожащего, ошеломленного Верного. – Зачем?
Я качала головой. Хотя могла бы и ответить. Потому что наконец-то поняла истинный смысл записки Амброуза.
Странно, что до последних дней я не сознавала: Амброуз всегда был для меня закрытой книгой. Я словно законсервировалась в пятнадцатилетнем возрасте; на все, связанное с Амброузом, смотрела глазами ребенка, неспособного к анализу. Но я давно взрослая; оглянуться не успею, как мне стукнет сорок пять – столько, сколько было Амброузу, когда мы с ним познакомились. Мы с ним на равных – он тогда, я сейчас. Теперь я вижу: Амброуз был далеко не святой. Его одолевали собственные демоны, его переполняли пороки. Я об этом не догадывалась, хотя история борьбы с демонами, история преодоления пороков была запечатлена на стенах мельницы – в буквальном смысле.
До сих пор я даже не задумывалась ни о наркозависимости, ни о пьянстве, ни о страхах Амброуза. Стыдно в этом признаться, но ничего не поделаешь. Тут я не одинока, тут ко мне присоединяются Тея с Фатимой. Исключение, пожалуй, составляет Кейт – да и то, не поручусь. Что до меня, я в упор не видела жертвенности Амброуза. Ради Кейт с Люком он отказался от блестящей карьеры, согласился на скромную должность учителя рисования, лишь бы Кейт училась в престижной школе. А противостояние наркозависимости? Каких усилий стоило Амброузу оставаться «чистым»! Но было ли мне дело до этого? Увы, нет.
Казалось бы, мы сами теперь взрослые – а что толку? Вот несколько дней назад мы с Фатимой узнали от Теи о планах Амброуза, повлекших трагедию; но разве мы изменили угол зрения? Нет. Мы по-прежнему смотрели на все с собственных колоколен. Хотели общаться как раньше, претендовали на мельницу как на место встреч. Семнадцать лет назад она нам требовалась для игр – ну и в чем разница? Удивительно ли, что в намерении Амброуза мы разглядели лишь угрозу нашему беззаботному существованию?
Вот и выходит, что Амброуза я совсем не знала. Наши пути пересеклись лишь на одно лето. В лице Амброуза я любила заботу о себе, собственную свободу, возможность спрятаться от кошмара, в который превратилась моя жизнь из-за маминой болезни. Эти блага я от него получала, не давая себе труда задуматься – а кто же он такой? Теперь я знаю. Теперь, кажется, я наконец поняла и душу Амброуза, и смысл его поступка.
По большому счету, я не ошиблась. Предсмертную записку действительно написал человек, отравленный собственным ребенком; написал для того, чтобы избавить ребенка от ужасных последствий. Только это сделала не Кейт. Амброуза убил Люк.
Ответ лежал на поверхности – не понимаю, как мы раньше не догадались. Дело не только в письме, полно и других улик. Вовсе не дочь собирался отослать из дому Амброуз – не дочь, а сына. «Почему ты ему не верил?» – спросила Кейт у Люка. Да потому, что Люка слишком часто обманывали! Видимо, он решил, что сбывается самый главный из его страхов – Амброуз пожалел, что принял в семью, окружил заботой и любовью чужого мальчика. Сколько раз Люк, отталкивая, обижая Амброуза, проверял, действительно ли этот человек любит его, действительно ли не предаст.
В тот вечер не одна Мэри слышала спор Кейт с отцом. По всей видимости, слышал их крики и Люк. В отличие от меня и Теи Люк понял: отсылают не Кейт, а его. Не знаю, куда – вероятно, в закрытую школу. По крайней мере, такой вывод я сделала из сказанного Теей. Но Люку, которого предавали множество раз, пришло в голову другое, страшное. Люк решил, что Амброуз намерен отправить его к матери.
И совершил ужасную, ужасную ошибку – на такое способен только пятнадцатилетний мальчишка, ослепленный первой, неистовой любовью, обуреваемый страхом возвращения в ад – из которого, казалось бы, он так счастливо вырвался.
Желал ли Люк смерти Амброуза? Не знаю. Сейчас, в больнице, рядом с Фрейей, которая во сне – сущий ангел, я готова принять оба сценария. Возможно, Люк действительно хотел убить своего приемного отца; намерение зародилось в момент гнева и быстро прошло – да помочь уже ничем было нельзя. Возможно, Люк стремился лишь отомстить Амброузу, опозорить его. Есть и третий вариант: Люк вообще не думал, действия диктовались бешеной яростью и отчаянием.
Хочется надеяться, что в планы Люка входило только унижение Амброуза – но не убийство. Амброуз должен был вызвать службу спасения и дожидаться медиков, валяясь в луже героиновой блевотины. Потом, конечно, его выгнали бы с работы. Словом, в представлении Люка он бы достаточно пострадал; Люк был бы отомщен. Следует учитывать еще вот какой момент: Люк, сын наркоманки, пожалуй, знал, что от оральных передозировок откачивают на раз и Амброуз успеет обратиться за медицинской помощью.
Впрочем, не уверена. Да и какая теперь разница?
Теперь только одно имеет значение – поступок Люка.
Он сделал все именно так, как пошагово описывала Кейт, беря вину на себя. Люк сбежал с уроков, вернулся на мельницу днем, когда и Кейт, и Амброуз были в Солтен-Хаусе. Нашел заначку Амброуза, высыпал весь героин в бутылку с вином, затем выбрал наиболее компрометирующие рисунки из тех, что сумел отыскать, запечатал их в конверт и отправил в школу.
Амброуз, Амброуз! Что-то он почувствовал, поняв, что отравлен Люком? И как он понял, по каким признакам? Насторожился, уловив странный привкус в вине? Догадался, когда его стало клонить в сон? Наверняка понимание пришло не сразу, в замедленном сознании все не складывались два и два – а героин тем временем проникал из желудка в кровеносную систему.
Спящая Фрейя по-прежнему держит меня за руку. Воображение крутит свое кино – черно-белое, тусклое, состаренное «под сепию». Вот Амброуз осматривает и обнюхивает винную бутылку; вот встает на нетвердые ноги, тащится к шкафу, достает жестянку, обнаруживает отсутствие заначки… понимает, что натворил Люк; осмысливает, какая доза им принята.
О чем он думал, что чувствовал, немеющей рукой выводя шаткие буквы, умоляя Кейт защитить брата?
Трудно сказать. Боль от осознания произошедшего, масштабы последствий ошибки не укладываются в голове; месть несопоставима с обидой. Лишь в одном я, глядящая на Фрейю, ощущающая цепкость ее пальчиков, сейчас уверена: впервые за все время я вполне поняла смысл действий Амброуза, и они наконец-то кажутся мне совершенно логичными.
Первая его мысль была не о собственном спасении, нет; Амброуз решил позаботиться о мальчике, которого приютил, которого любил, которого пытался – и не сумел оградить от беды.
Когда-то он отправил этого мальчика, совсем еще малыша, обратно в ад – хотя спас его, свалившегося в Рич, менял ему подгузники, любил его мать, пока она еще была адекватной.
Один раз Амброуз уже предал Люка; и вот, сидя с пустой бутылкой, чувствуя, как кровь разносит яд по организму, он понял: в глазах Люка он замыслил второе предательство.
Я был безрассуден, не думал о последствиях своих действий – и вот теперь исполняю то, что должен исполнить… Я поступаю так, чтобы больше никто не страдал…
Он написал это, чтобы быть уверенным: лишь одна жизнь будет принесена в жертву – его собственная. Он обращался к Кейт, зная: она поймет, угадает его мысль, его намерение. Она защитит брата, ведь именно об этом просит ее отец.
Не вини никого, моя радость. Я ухожу добровольно и с миром… А главное – поступай так, чтобы случившееся не было напрасным.
И Кейт послушалась. Сделала все, что могла. Защитила Люка, лгала ради него годами. Лишь одну отцовскую просьбу она не выполнила. Кейт винила Люка – и кто же ее осудит? Кейт так его и не простила.
Впрочем, и Люк был отчасти прав. Кейт могла дождаться не только своего, но и его шестнадцатилетия, прежде чем заявлять о пропаже отца. А Кейт не стала ждать. И Люка, уверенного, что самого страшного он счастливо избежал, отправили обратно к матери.
Из-за любви к сводной сестре убивший приемного отца, человека, который один о нем заботился, Люк понес чудовищное наказание. Кейт отвернулась от него. Во Франции он понял, по чьей милости возвращен в домашний ад. Лишь Кейт знала, кто убил Амброуза, – и Кейт отомстила.
Я всегда тебя одну любил. Я бы на что угодно пошел, лишь бы с тобой не разлучаться.
Слова Люка звенят в моем мозгу.
И я удивляюсь, как до сих пор не разорвалось сердце.
Правило пятое: умей остановиться
Отнюдь не Оуэн забирает из больницы меня и Фрейю. Оуэну я до сих пор не позвонила. Как это принято в службе здравоохранения, нас выписывают, а точнее, вышвыривают, уже на следующий день, в девять утра – коек, видите ли, не хватает.
Мобильник сгорел вместе с мельницей, мне разрешили позвонить с поста медсестер. Набираю номер Оуэна, и тут внутри что-то переклинивает. Нет сил с ним говорить, и точка. Можно сколько угодно оправдываться практическими соображениями – в Лондоне пробки, попробуй, вырвись из них. Однако правда в другом: вчера ночью, когда жизнь Фрейи висела на волоске, во мне что-то изменилось. Я уже не прежняя, хотя сама пока не разобралась в характере перемены.
В итоге звоню Фатиме. С Фрейей, завернутой в больничное одеяльце, ждем в вестибюле. К больнице подкатывает такси, за окнами маячат бледные Фатима и Тея.
Забираюсь в машину, усаживаю Фрейю в детское кресло – Фатима и об этом позаботилась. У ног Теи лежит Верный, ее тощая рука – на его ошейнике.
– Нас сегодня с утра пораньше уже в полиции поимели, – объясняет Фатима, обернувшись с переднего сиденья. Под глазами у нее залегли темные круги. – Я забронировала номер на троих. С завтраком. Тут, недалеко, на побережье. Наверняка Марк Рен нас так просто не отпустит. Придется снова давать показания.
Киваю. Касаюсь в кармане конверта с запиской Амброуза.
– В голове не укладывается, – произносит Тея. Лицо у нее бледное, пальцы нервно теребят шерсть Верного. – Неужели это он? Как вы думаете, девочки? Я про овцу…
Понятно: Тея подозревает Люка. Если он такое с приемным отцом сотворил, что ему стоило овечку выпотрошить? Тея с Фатимой, конечно, сегодня не спали. Гадали, прикидывали. Пытались отделить правду от лжи.
– Не знаю, – наконец произношу я, вскинув взгляд на Фатиму. – Вряд ли.
Тут я вынуждена умолкнуть. Нельзя озвучивать свои соображения при таксисте. За рулем не Рик – другой водитель, я его впервые вижу. Наверняка из местных. Я же считаю, зря мы подозревали Люка именно в этом преступлении. Тогда, прочтя окровавленную записку, я решила, что Люк написал ее из ненависти к Кейт, почти уверенный, что она скрыла тело отца.
Я думала, Люк пытался вытащить из нас признание. Хотел, чтобы правда вышла наружу.
А потом Кейт сообщила про шантаж – и я засомневалась. Почему-то шантаж никак не вязался с Люком. Мог ли Люк хладнокровно вымогать деньги у Кейт? По моим наблюдениям, он на деньги вообще плевал. Другое дело – месть; мне казалось, Люк не погнушался бы шантажом, чтобы причинить Кейт страдания.
Однако после сегодняшней ночи я так не думаю. Не верю, что Люк был еще и шантажистом. Это против всякой логики. Правду знали только Кейт и Люк; Люк лгал еще больше, чем мы все, вместе взятые. Участвовал в игре в ложь. Если бы правда всплыла, последствия для Люка были бы гораздо хуже, чем для нас. И вот еще что: этой ночью я вспомнила, в числе прочего, и длинный список правонарушений Люка, присланный Оуэном. В память врезалась одна конкретная дата.
Нет. Записку, приложенную к овце, писал не Люк.
Почта, стойка, тяжелые руки, сильные пальцы с запекшейся под ногтями кровью – вот что всплывает в памяти.
Насчет Люка такой уверенности не было, а насчет нее – есть. Она вполне способна на такое.
В номере сразу забираюсь в постель вместе с Фрейей. Мы проваливаемся в сон, тонем во сне, как два безжизненных тела могут тонуть в глубокой, тихой воде. Через несколько часов я выныриваю, но сориентироваться не получается довольно долго.
Гостиница находится всего в нескольких милях от школы, и вид из окна практически тот же, что из башни 2Б. Пытаясь привести в относительный порядок платье – измятое, жесткое от морской соли, убирая со щечки Фрейи потные прядки волос, я чувствую себя пятнадцатилетней.
Хотя рядом со мной дочь – мне снова пятнадцать, я снова школьница-пансионерка. Надрываются чайки, непривычный прозрачный свет плещет из-за рамы, а напротив – кровать подружки.
Закрываю глаза, прислушиваюсь к звукам из прошлого, представляю себя прежней девчонкой – той, которую окружают три подруги, той, у которой все ошибки еще впереди.
Как славно, как хорошо!
Фрейя просыпается, хнычет. Иллюзия разбита. Мне – тридцать два, я – юрист, я – мать. И страшная правда, на время спугнутая сном, возвращается, ложится на плечи, давит.
Кейт и Люк мертвы.
С Фрейей на руках иду вниз, отчаянно зевая. Фатима и Тея сидят на застекленной террасе, смотрят на море.
Июль, но день пасмурный и промозглый, тучи того же оттенка, что пятна на хребте Верного. Сам Верный лежит у ног Теи, уткнувшись черным носом ей в ладонь. Уловив мои шаги, Верный поднимает морду. На миг собачьи глаза вспыхивают надеждой – и снова гаснут. Понятно, кого он ждет. Кейт погибла безвременно и безвинно – но разве объяснишь это псу? Я и сама только-только приблизилась к грани понимания.
– Из полиции звонили, – сообщает Фатима.
Подтягивает колени к подбородку, обхватывает руками.
– Требуют, чтобы мы явились к четырем. Надо определиться с легендой.
– Конечно.
Вздыхаю, тру глаза. Усаживаю Фрейю на пол, среди старых журналов. Фрейя тотчас дергает обложку, страница, к ее неописуемому восторгу, рвется с хрустом. Надо бы отобрать журнал – но у меня нет сил. Пусть себе забавляется.
Долго, очень долго мы молчим, наблюдая за Фрейей. Без расспросов знаю: Фатима и Тея прошлой ночью тоже пытались понять случившееся, пытались свыкнуться с бедой. Ощущение, что еще вчера я была цела и невредима – а сегодня проснулась без одной руки.
– Она нарушила правила, – выдает Тея. Голос тихий, неуверенный. – Она лгала своим. Нам. Почему она не сказала правду? Не доверяла? Думала, мы ее заложим?
– Тайна принадлежала не ей одной, – объясняю я.
А сама думаю не столько о Кейт, сколько об Оуэне. О том, как лгала ему почти десять лет, нарушая наш неписаный закон. Правильного ответа не существует, так? Можно только менять одно предательство на другое. У Кейт был выбор – сохранить тайну Люка или лгать подругам. Она предпочла ложь. Предпочла нарушить правила. Предпочла… Тут я снова пытаюсь сглотнуть ком. Кейт защищала Люка, это бесспорно. Но заодно она защищала и нас.
– Хоть режь, не понимаю! – не выдерживает Фатима, стискивает кулачки, стучит по подлокотнику кресла, обитого ситцем. – Почему Амброуз не боролся за жизнь? Ведь у него было время! Ладно, допустим, он не сразу понял, что отравлен; но записку он писал, уже зная о передозировке! Мог бы в «Скорую» позвонить. Зачем он последние минуты потратил на внушение Кейт – спасай Люка? Не лучше ли было бы позаботиться о себе самом?
– Может, понял, что спасать его некому, – говорит Тея, ерзая в кресле, пряча пальцы с обгрызенными ногтями в рукава шерстяного свитера. – На мельнице ведь не было телефона. И я что-то не припомню, чтобы Амброуз пользовался мобильником. У Кейт мобильник был, а вот его я ни разу с трубкой не видела.
– А может… – начинаю я.
Перевожу взгляд на Фрейю, мирно играющую на коврике.
– Что? – торопит Тея.
– Может, для Амброуза выжить самому было делом десятым.
Девочки молчат. Фатима кусает губу, Тея смотрит в сторону, за окно, на неспокойное море. Что, если она думает о своем собственном отце и задается вопросом: а он бы такой выбор сделал? Что-то мне подсказывает: едва ли.
Сама я думаю о Мэри Рен. О том, что она сказала мне на железнодорожном переезде. «Он бы в огонь и в воду ради детей пошел…»
А потом память подбрасывает другую фразу – и в животе начинает ныть.
– Девочки, я должна вам кое-что сообщить.
Тея вскидывает взгляд. Продолжаю:
– В такси вы спрашивали насчет овцы. Тогда я не рискнула ответить, а сейчас…
Делаю паузу, упорядочиваю мысли, подбираю слова, способные растолковать Фатиме и Тее мою убежденность, которая после разговора у железнодорожного переезда тенью пролегла в сознании.
– Так вот, насчет овцы. Мы думали на Люка – а почему? Потому что в свете известной нам информации это казалось очевидным. Сейчас я считаю, мы ошибались. Если бы правда всплыла, Люк попал бы за решетку. Иными словами, он отнюдь не был заинтересован в разоблачении. И вообще, у меня есть все основания считать, что ту ночь Люк провел в полицейском участке города Рай.
Фатима с Теей не спрашивают, ни что это за основания, ни откуда они взялись – и слава богу, потому что объясняться мне не хочется.
– Кроме того, есть еще один момент. Кейт поделилась. В этот раз, когда я одна к ней приехала.
– Давай и ты теперь делись, – бросает Тея.
– Кейт шантажировали, – прямо говорю я. – Шантаж длился много лет. И овца, и рисунки – части шантажа. Таким способом шантажист пытался вынудить Кейт брать деньги у нас, раз свои кончились.
– С ума сойти! – восклицает Фатима. Лицо на фоне темного хиджаба кажется совершенно белым. – Почему Кейт нам не говорила?
– Волновать не хотела, – мямлю я. Объяснение неубедительное: молчание Кейт никому не помогло. Если бы она хоть намекнула! – В любом случае шантажировал ее не Люк. Во-первых, шантаж – не в его духе, а во-вторых, он начался давно, когда Люк еще жил во Франции.
– Не Люк – а кто тогда? – спрашивает Тея.
– Мэри Рен.
Повисает пауза. С минуту девочки таращатся на меня, наконец Фатима кивает:
– Похоже на правду. Мэри всю жизнь Кейт ненавидела.
– А когда ты догадалась, Айса? – спрашивает Тея. – В какой момент? – Ее пальцы треплют Верного по холке, гладят собачьи уши. Дымчато-серые шерстинки цепляются за обгрызенную кутикулу.
– Когда Мэри везла меня на вокзал.
Прижимаю пальцы ко лбу, напрягаю память. Нужно вспомнить сказанное Мэри слово в слово. Голова болит, а счастливый писк Фрейи, терзающей очередной журнал, только усугубляет боль.
– Мэри вызвалась меня подвезти и по дороге обронила одну фразу. Я тогда пропустила ее слова мимо ушей. Мэри ведь рассказала еще и о связи Кейт с Люком. Шокировала меня этим. А фраза была вот какая: «У этой девчонки руки в кровище, и кровища не только овечья». Откуда Мэри могла знать про овцу?
– Марк поделился, – предполагает Фатима, но Тея качает головой:
– Кейт в полицию не звонила, или не помнишь? Правда, позвонить мог фермер…
– Мог, но точно не стал этого делать. Кейт сунула ему двести фунтов – по-моему, неплохая плата за молчание. Притом дело не только в самой фразе – дело в интонации. Мэри говорила так, будто… – Снова умолкаю, стараюсь подобрать единственно подходящие слова. – Интонация была злорадная. Будто Мэри считала, что Кейт получает по заслугам. От Мэри разило ненавистью. А слова! Не просто «кровь», а «кровища», да еще дважды повторила! Не сомневаюсь: именно Мэри написала ту записку. И рисунки в конвертах тоже она нам отправила. Ну хотя бы потому, что больше никто наши адреса добыть не мог.
– Что же нам делать? – лепечет Фатима.
Тея пожимает плечами:
– Да что всегда. Молчать. Нельзя же заявить Марку, что его мамаша – шантажистка.
– Значит, пусть безнаказанной остается? Пусть теперь, когда Кейт больше нет, шантажирует нас?
– Продолжим нашу любимую игру, – мрачно говорит Тея. – Только на этот раз будем умней. Придумаем легенду и всем ее выдадим – полиции, родным, знакомым. Все должны поверить, что Амброуз покончил с собой – на минуточку, это его легенда и была. И Кейт хотела, чтобы все так думали. Жаль только, подтвердить особо нечем.
– Ну, не то чтобы нечем…
Достаю из кармана конверт, адресованный Кейт, – старый, истрепанный по краям, а теперь еще и покоробившийся от морской воды.
И все-таки записка читабельна. Чернила расплылись, но не смылись, и вполне можно разобрать напутствие Амброуза обожаемой дочери: «Живи, люби, будь счастлива. А главное, поступай так, чтобы случившееся не было напрасным».
Только теперь полное ощущение, что Амброуз обращается к каждой из нас.
Доезжаем до солтенского променада. Фатима расплачивается с таксистом, я вылезаю из машины, разминаю затекшие ноги, смотрю не в сторону полицейского участка, будто присевшего на корточки рядом с волнорезом, а на бухту, на море, что простирается до самого горизонта. Это море я видела из спальни Солтен-Хауса. С тех пор оно не изменилось. Оно все такое же – опасное, неумолимое, восхитительное. И эта мысль вселяет уверенность. Скольких оно повидало, для скольких стало последним приютом! Совсем скоро море долижет остатки пепла, растворит в себе прах мельницы, прах Кейт и Люка. Та же судьба ожидает и наши ошибки, и нашу ложь – они навеки сгинут в пучине.
Тея возникает рядом, смотрит на часы.
– Уже почти четыре. Ты готова, Айса?
Киваю, но с места не двигаюсь.
– Я тут думала, девочки…
– О чем? – спрашивает Фатима, выскочившая из такси.
Автомобиль отъезжает, и я продолжаю:
– Я думала… – Слово является непрошеным, я сама удивлена. Озвучиваю его: – Я думала о чувстве вины.
– О чувстве вины? – хмурится Фатима.
– Сегодня ночью до меня дошло. Семнадцать лет нам казалось, что мы виноваты в смерти Амброуза. Что он умер из-за рисунков. Понимаете? Если бы мы не околачивались на мельнице, он бы нас и не рисовал – со всеми вытекающими…
– А никто его не просил рисовать, – шепчет Фатима. – Никто его не просил!
Зато Тея, кажется, со мной согласна:
– Айса, я тебя понимаю. Логики в этом никакой, но я тоже чувствовала вину.
– Ну а теперь я думаю… – Опять трудности с подбором слов, ведь мысль еще даже не сформировалась в моей голове. – Я думаю, ни мы, ни рисунки тут ни при чем. Амброуз умер по другой причине. Мы не виноваты.
Тея кивает. А Фатима вдруг обнимает нас обеих.
– Нам нечего стыдиться, девочки. Никакой вины на нас нет и никогда не было.
Идем к полицейскому участку. Вдруг из узенького переулка, которыми пронизан Солтен, появляется знакомая массивная фигура. Она кутается в шаль, жидкую седую косицу треплет ветер.
Это Мэри Рен.
Увидев нас, Мэри останавливается, расплывается в крокодильей улыбке. Воображает, что у нее над нами власть. В следующую секунду Мэри ускоряет шаг. Она движется к нам.
Но мы, держась за руки, продолжаем путь. Мэри меняет траекторию, хочет пойти нам наперерез. Пальцы Фатимы крепче вцепляются в мою ладонь. Тея ускоряет шаг, рискует сломать каблуки на камнях мостовой.
Мэри осклабилась, демонстрируя желтые зубы, – вот-вот щелкнет смертоносными челюстями. Сердце в моей груди стучит неумолимо.
Но я смотрю Мэри прямо в глаза. Впервые после возвращения в Солтен я не чувствую за собой вины. И не чувствую страха. Потому что знаю правду.
И Мэри теряет уверенность. Она замедляет шаг, и мы трое проходим мимо, по-прежнему держась за руки. Ладонь Фатимы больше не дрожит, а Тея и вовсе улыбается. Внезапно сквозь тучи проглядывает солнце, золотит серое море.
Неразборчивое ругательство Мэри разбивается о наши выпрямленные спины.
Мы продолжаем путь.
И даже не думаем оглядываться.
Вот история, которую услышит от меня Фрейя, когда подрастет. Я расскажу ей о пожаре, возникшем из-за неисправной электропроводки, из-за разбившейся парафиновой лампы.
Расскажу о человеке, который спас мою девочку ценой собственной жизни. Расскажу о лучшей подруге, которая так сильно любила этого героя, что бросилась за ним в пылающий дом, понимая: спасения не будет.
Получится история об отваге, любви и самопожертвовании. История отца, покончившего с собой; история вечной скорби его детей.
Я объясню Фрейе, в чем посыл этой истории. Он – в надежде. Мы, выжившие, спасенные, просто обязаны продолжать путь, несмотря на ужас случившегося. Мы обязаны быть счастливыми, чтобы жертвенные поступки погибших за нас не оказались напрасными.
Эта история уже озвучена. Мы с Теей и Фатимой изложили ее сержанту Рену, и он нам поверил, потому что это была правда.
И в то же время – ложь.
Мы лгали почти двадцать лет. Но теперь наконец-то мы знаем, почему это делали. Наконец-то мы знаем правду.
Прошло две недели. Мы с Фрейей снова в поезде. Едем в Авимор. Дальше от Солтена просто нельзя уехать при условии, что не пересекаешь Северное море.
Под стук колес, уносящих нас на север, я думаю о лжи. Фрейя спит у меня на руках. Многолетняя ложь отравляла мое существование, мои отношения с хорошим человеком, любящим мужем и отцом. Я думаю о цене, заплаченной Кейт за эту ложь; о смертельной опасности, которой ложь подвергла Фрейю, – и я крепче стискиваю ее, и она пищит и сучит ножками.
Возможно, настало время закончить с ложью. Возможно, мы все должны открыть правду.
Но я не одна на свете – у меня есть Фрейя. И я понимаю со всей отчетливостью: Фрейя не должна повторить мой путь. Не допущу, чтобы она снова и снова прокручивала в уме легенду, проверяла, нет ли нестыковок, слабых мест; пыталась припомнить, что говорила в последний раз; гадала, не раскололись ли соучастники.
Не допущу, чтобы моя Фрейя жила с оглядкой на остальных, чтобы лгала ради их спокойствия.
Амброуз принес себя в жертву Кейт с Люком – но правды Фрейя не узнает. Открыть ей правду – значит переложить на ее плечи свое тяжкое бремя.
Я выдержу. Мы выдержим – я, Тея, Фатима. Мы умеем хранить тайны. В девочках я не сомневаюсь. Они будут повторять легенду, состряпанную нами в приморской гостинице. Мы все продумали, не оставили ни временны́х, ни прочих нестыковок, обеспечили друг другу алиби. В конце концов, так мы отдаем последний долг нашей Кейт.
Поезд приближается к Йорку. Мобильник жужжит, Фрейя вздрагивает – и снова погружается в сон. Сообщение от Оуэна:
Как дела? Едешь? Порядок?
Всю дорогу я думала об Оуэне. Мы простились на Кингз-Кросс, я уже махала из вагона, а Оуэн все смотрел, все вытягивал шею.
И другая картинка: Оуэн примчался за нами в Солтен, выскочил из машины, подхватил Фрейю на руки, словно не видел ее много месяцев, будто не из Лондона приехал, а целый океан вплавь пересек. Он поцеловал Фрейю в темечко и поднял взгляд, и я заметила слезы у него на ресницах.
Была и третья картинка: ночь рождения Фрейи, Оуэн, склонившийся над малышкой, переводит взгляд на меня, словно освященный потусторонним светом. Я тогда поняла – Оуэн ради Фрейи в огонь и в воду пойдет. Я это с самого начала знала.
Делаю вдох, задерживаю дыхание, глядя на спящую Фрейю. Набираю ответ:
Порядок. Папа нас встретит. Я тебя люблю.
Со всей отчетливостью понимаю: это – ложь. Я лгу и буду лгать ради Фрейи. Как знать, может, однажды слова про любовь к Оуэну станут правдой.
Выражение признательности
Прежде всего я должна поблагодарить моих выдающихся редакторов – Лиз, Джейд и обеих Элисон (одна из которых живет в Британии, а другая – в Штатах). Они выполнили блестящую редактуру, внесли немало вдохновляющих предложений; они задавали вопросы без счету, их усилиями каждая из моих книг стала лучше минимум наполовину. Одной бы мне такого результата не добиться.
Дорогие Бетан, Септембер и Хлоя! Вы не просто команда, вы – мечта писателя. Никакими словами не выразить признательность за ваш вклад в эту и предыдущие книги.
Спасибо сотрудникам издательства «Винтаж». Милые Фэй, Рейчел, Ричард, Крис, Рашель, Анна, Хелен, Том, Джейн, Пенни, Моник, Сэм, Кристина, Бет и Алекс, и все, чья бесценная работа осталась за кадром! Вы невероятно талантливы и остроумны, сотрудничать с вами – истинное наслаждение. Я горда, что являюсь одним из ваших авторов.
Мой агент Ив Уайт и вся ее команда были моим надежным тылом. Я бесконечно благодарна обширному сообществу авторов, подбадривавших меня как в онлайне, так и лично, предлагавших советы и техническую поддержку. Список имен сам по себе потянул бы на целую книгу, поэтому, дорогие мои, просто запомните: я вас люблю и ценю!
Впрочем, одно имя я все же назову. Это Аиша Малик. Работая над собственной книгой, она выкраивала время, чтобы давать мне советы! Все ляпы, конечно, целиком и полностью на моей совести – но без Аиши их было бы в разы больше…
Отдельное спасибо Марку Хопгуду за щедрые предложения на благотворительном аукционе, который проводился фондом «Рак и лейкемия в юном возрасте» («Cancer and Leukaemia in Childhood, CLIC»), а также за то, что позволил использовать его имя в романе. Гость на вечере встречи в Солтен-Хаусе – помните? Надеюсь, Марк, этот герой вас не разочаровал!
Мои дорогие друзья и родственники! Я вас люблю, без вас я бы не справилась – и это чистая правда! Поэтому – огромное спасибо!
Примечания
1
Разговорные названия небоскребов. «Огурец», он же «Корнишон» – сорокаэтажная башня «Мэри-Экс, 30» из зеленоватого стекла; «Осколок» – самое высокое здание в Европе (310 м), пирамида в 72 этажа с офисными и жилыми помещениями. – Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
Территория, прилегающая к соленому водоему, периодически затопляемая приливом.
(обратно)3
Общая спальня для учащихся в закрытых учебных заведениях.
(обратно)4
Американский гинеколог середины XX века.
(обратно)5
Прошу вас! (фр.)
(обратно)6
От англ. Bed and Breakfast – система предоставления услуг в гостинице.
(обратно)7
Экономический пузырь, существовавший с 1995 по 2001 г. Образовался в результате взлета акций интернет-компаний, а также переориентации старых компаний на интернет-бизнес на волне утверждений, что наступила «новая экономика». Новые бизнес-модели оказались неэффективными, глубинная же причина краха состоит в том, что произошла подмена понятий: ведение бизнеса через Интернет – это только инструмент бизнес-процесса, но не сам бизнес-процесс.
(обратно)8
Буквально – «обоюдный» (фр.). По этой программе молодые люди живут в семьях за пределами своей страны и присматривают за детьми. Вознаграждение – проживание, питание, карманные деньги и оплата курсов соответствующего языка.
(обратно)9
Речь об Эммелин Панкхерст (1858–1928) – лидере британского движения суфражисток, сыгравшей значительную роль в борьбе за избирательные права женщин.
(обратно)10
Народное название крайне непопулярной правительственной реформы 60-х годов ХХ века, в результате которой было закрыто немало «убыточных» сельских и «неэффективных» грузовых железнодорожных станций. Инициатором сокращения выступил Ричард Бичинг.
(обратно)11
Сеть кафе-пекарен «Хлеб насущный»; от фр. Pain Quotidien.
(обратно)12
Намек на дополнительную плату, которую может взимать заведение за то, что в нем откупоривают принесенные гостями напитки.
(обратно)13
От англ. Pukka-Pie – название компании, основанной в Лейстершире в 1963 г. Компания производит изделия из теста с начинкой.
(обратно)

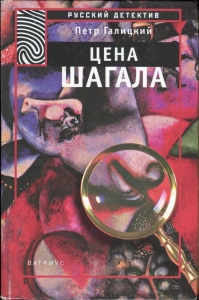




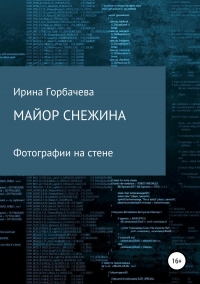



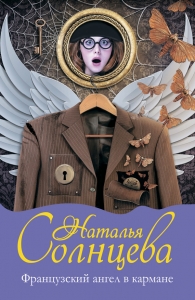

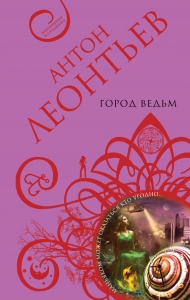
Комментарии к книге «Игра в ложь», Рут Уэйр
Всего 0 комментариев