Буало-Нарсежак Полное собрание сочинений. Том 7. Операция «Примула»
Пьер Буало и Тома Нарсежак впервые встретились, когда им было за сорок, к этому времени оба уже были известными писателями. Озабоченные поисками способа вывести из назревающего кризиса жанр «полицейского романа», они решили стать соавторами. Так появился на свет новый романист с двойной фамилией — Буало-Нарсежак, чьи книги буквально взорвали изнутри традиционный детектив, открыли новую страницу в истории жанра. Вместо привычной «игры ума» для разгадки преступления, соавторы показывают трепетную живую жизнь, раскрывают внутренний мир своих персонажей, очеловечивают повествование. Они вводят в детективный жанр несвойственный ему прежде психологический анализ, который органично переплетается с увлекательным сюжетом. По сути дела они создали новый тип литературного произведения — детективно-психологический роман, где психология помогает раскрыть тайну преступления, а детективный сюжет углубляет и обостряет изображение душевного состояния человека, находящегося в экстремальной кризисной ситуации.
Буало и Нарсежак очень скоро получили всемирное признание. Они опубликовали с 1952 по 1995 год свыше сорока романов. Почти все их произведения переведены на многие языки мира и опубликованы огромными тиражами. Их часто экранизируют в кино и на телевидении.
Буало и Нарсежак заняли достойное место в ряду классиков детективной литературы, таких как Конан Дойл, Агата Кристи и Жорж Сименон.
Буало и Нарсежак, дополняя друг друга, выработали совершенно оригинальную и хорошо отработанную манеру письма, о чем можно судить хотя бы по тому, что и после смерти Пьера Буало в 1989 году его соавтор продолжает подписывать свои произведения двойной фамилией, ставшей известной во всем мире.
Операция «Примула»
Opération Primevère (1973)
Перевод с французского Б. Скороходова
— Давай сюда, — сказал Морис. — При таком движении проскочим незаметно.
Клод съехал с шоссе. Заправочная станция была освещена, как вокзал, перед колонками выстроились машины. Малолитражка медленно притормозила. Морис посмотрел на часы: без четверти два.
— Нормально. На месте будем до трех часов. Теперь видишь, что Влади был прав. Машин на шоссе как в воскресенье.
Заправщик жестом пригласил их к колонке. Клод вышел из машины и вручную подкатил ее. Ночь была душной. В свете фонарей клубились мошки.
— Ну и работенка! — сказал заправщик. — Теперь вот августовские!.. И то же самое завтра и послезавтра!.. Сколько залить?
— Полный бак.
— Со вчерашнего дня без передышки. Люди как с ума посходили. То уезжают все сразу. То возвращаются все сразу. Вот-вот! Помяните мое слово, на дороге обязательно что-нибудь произойдет.
Клод посмотрел на Мориса и ухмыльнулся.
— Да, — сказал он. — Точно. Что-нибудь да произойдет.
Морис тоже улыбнулся, будто замечание содержало скрытый смысл.
— Пятнадцать франков, — объявил служащий. — Протру ветровое стекло. Его надо почистить. Вы тоже едете в Довиль? Будь у меня время, я бы поехал в Овернь. В Довиле слишком суматошно. Хотя в вашем возрасте как раз и развлекаться.
— Да, развлечься мы любим, — сказал Клод и прыснул со смеху.
— Счастливого пути, — пожелал заправщик. «Ситроен» тронулся с места. При выезде на шоссе Клод остановился. Машины проносились на полной скорости, воздушная волна качнула малолитражку.
— Осторожнее! — сказал Морис. — Не время нарываться на неприятности.
Они воспользовались просветом и мягко влились в поток.
В темноте пустынного здания свет поднимающегося лифта отбрасывал на лестничные площадки и стены таинственные причудливые тени. На пятом этаже Жерсен резко распахнул решетчатые двери и вышел, опередив жену. Одной рукой он развязал галстук, другой рылся в кармане.
— Идиоты! — продолжил он начатый разговор. — Да за такую глупость судить надо.
Флоранс пожала плечами.
— С тобой невозможно разговаривать.
Он наконец нашел английский ключ и стал нащупывать замочную скважину.
— Черт подери эту минутку.[1] Ничего не разберешь.
— Дай мне ключ.
Она открыла дверь и зажгла свет в прихожей.
— Они получают свою революцию, — не унимался он. — Я их предупреждал.
Флоранс скинула туфли и по привычке посмотрелась в высокое зеркало, обрамленное живой зеленью.
— Я с тобой больше никуда не пойду, — сказала она, поправляя прическу. — Довольно. Ты во всем видишь политику. Жеро не имел в виду тебя. Он говорил в общем.
Жерсен сдернул галстук.
— Они могли бы не приглашать его. Коммуняка какой-то!
Она села и стала массировать ноги.
— Бедняжка. Тебе повсюду мерещатся коммунисты.
— О! Мне много чего о нем известно.
Он направился на кухню, и оттуда послышался звон бокалов и бутылок.
— Ты слишком много обо всех знаешь, — устало пробормотала она.
— Что? Ты, может, мне не веришь? — крикнул он из коридора. — Этот тип начинал в желтой газетенке в Сент-Этьенне.
Голос его приблизился, и он появился с бокалом в руке.
— Он специализировался на стариках. Клянусь, он их просто охмурял. В конце концов стал секретарем Лиги в защиту интересов людей преклонного возраста.
— Я тоже хочу выпить, — сказала Флоранс. — Мог бы и мне принести.
— Потом он начал издавать газету. И естественно, с волками жить…
Флоранс встала так резко, что опрокинула стул.
— Хватит! Надоело!
Зажав уши руками, она бросилась в спальню. Жерсен последовал за ней.
— Подожди! Я должен рассказать о Жеро, раз он тебя интересует.
— Что? Он меня интересует?
Она упала на кровать.
— Ладно, — сказала она. — Если тебе так нравится, пусть. Жеро меня интересует.
Расставив ноги, слегка наклонив голову, он рассматривал ее с жестоким наслаждением.
— Да, шестьдесят восьмой год стал для него просто бесценным даром. Революции, демонстрации, митинги… Он везде успевал… Это привело его туда, где он есть: в депутаты. Разумеется, левого центра.
— Ну и что, разве это позорно?
— Конечно нет.
Он осушил бокал и поставил его на столик у изголовья своей кровати.
— Конечно нет, — продолжал он. — Это игра. Но как бы случайно он вскоре оказался замешанным в деле с вином, а вино это экспортируется на Восток. Признаться, любопытное совпадение.
Плечи его затряслись в беззвучном смехе, как у нашкодившего мальчишки.
— У меня есть список его поездок. Очень показательно. Конечно, он никогда не был в Москве. Не такой дурак.
Он снял пиджак и аккуратно выложил из карманов на каминную полку бумажник, чековую книжку, очки, пачку сигарет, зажигалку, носовой платок. Флоранс наблюдала за его движениями с холодным безразличием.
— И все это, — проговорила она, — только потому, что он любезно разговаривал со мной?
Он сел спиной к ней и принялся расшнуровывать ботинки.
— Напишу о нем статью… Небольшую заметку… Из тех, что привлекают внимание… «Французское шампанское охотно пьют на Востоке». Улавливаешь?
Он снял брюки, сложил их и с раздражением принялся расстегивать манжеты.
— Я подозревал, что Тавернье — того же поля ягода… Проклятая рубашка, надо ее выкинуть… Ноги бы моей у них не было, если бы меня не встретил Ганьер… В следующий раз, обещаю…
— Следующего раза не будет, — сказала Флоранс. — Ты пойдешь своим путем, я — своим.
Жерсен медленно обернулся. Не торопясь расстегнул рубашку.
— Не понимаю! Поясни.
— И так все ясно.
Она достала из сумочки сигарету и закурила.
— Вот это новость, — сказал он. — Ну и ну!
Он снял рубашку, смял ее, бросил на кресло и встал перед ней полуобнаженный, темные, бархатные грустные глаза его таили угрозу. Он походил на Генри Фонду.
— Я его знаю? — произнес он.
Она едва сдержалась, сделала глубокую затяжку и закашлялась.
— Прошу тебя, — сказала она. — Ты знаешь, который час?.. Два часа. Может, ляжем спать?
— Мне не к спеху. Хотелось бы, чтобы ты объяснила, что это значит: ты пойдешь своим путем, я — своим… Это же не случайное замечание, правда? Повторяю: кто он? Кто вбил тебе это в голову?
Он снял трусы. Нагота его нисколько не смущала. Он чувствовал себя как пациент на приеме у врача, правда, в данном случае он был одновременно и врачом и пациентом. Жерсен развернул пижаму.
— Мне не раз приходило в голову, — продолжал он, — что тебя могут использовать против меня. Для них все средства хороши. Оскорбления, суды, угрозы… А если еще разнести весть, что Жерсен — рогоносец, что ж, это произведет определенное впечатление.
— Мне тебя жаль, — пробормотала она.
Он затянул пояс пижамы и прошел в ванную.
— Для них, — крикнул он, — ты всего лишь бывшая манекенщица, у которой в жизни бывали приключения. Картотека есть не только у меня, у них тоже… Они навели о тебе справки…
На какое-то время его монолог прервался, было слышно только, как он чистит зубы.
— Что ж, — продолжал он с полным ртом, — если они наняли какого-то плейбоя для флирта с тобой, — он сплюнул, — это естественно. Мое слабое место — это ты.
Он вышел из ванной, вытирая рот полотенцем.
— Я прав?
— Не надо было жениться на мне, — ответила Флоранс.
— Возможно, но ты — моя, отказываться от тебя я не собираюсь и разделаюсь с любым, кто обхаживает тебя.
Флоранс загасила окурок в пепельнице. Встала, разгладила платье, взяла сумочку.
— Еще одно слово, и я ухожу в гостиницу.
— Ладно, не дури. Я предупреждаю тебя в твоих же интересах. Ложись. Поговорим об этом потом.
Он завел маленький походный будильник и поставил его рядом на столик.
— Я, конечно, сам проснусь, но на всякий случай. Бог знает, сколько времени придется добираться до Орли! Спокойной ночи.
Он выключил ночник. Флоранс начала раздеваться.
— Приехали, — сказал Морис. — Вилла в конце улицы… Ты и правда не хочешь, чтобы я пошел с тобой?
— Вот еще!
— Пройди сзади. Через ограду легче перелезть со стороны пляжа. Часовой механизм взрывателя установлен на четыре. У тебя в распоряжении целый час. Можешь не торопиться. Я развернусь и буду ждать тебя на перекрестке. Главное не беги, иди спокойно.
— А, черт! Я уже не ребенок.
Клод вышел из машины, и Морис передал ему сверток. До рассвета было еще далеко. Слышался шум прибоя. Теплый воздух пах скошенной травой.
Клод бесшумно удалился со свертком, прижатым к груди. Он не мог отделаться от мысли, что превратится в кровавое месиво, если бомба вдруг взорвется. Но наверняка где-то в эту минуту есть и другие парни, готовящие, подобно ему, взрыв дома, или полицейского участка, или дежурной части, или гостиницы, или самолета… Как и они, он делает это добровольно. Как и они, он пойдет до конца. Кажется, никогда раньше он не ощущал в себе столько жизни, легкости. Он даже забыл о том, что им двигало. Он вновь стал мальчишкой, отправившимся с дедом на охоту, в нем пробудился вкус к приключениям.
Он шел по песку, обходя виллу слева. Законопослушные граждане спят. Но скоро вылетят все стекла. Жизнь прекрасна. «Мы так одиноки», — говорил Влади. Ну уж нет! Не больше, чем кабаны, лисицы и другие преследуемые звери, но зато они острее чувствуют лес, тишину, радость жизни. Он осторожно шел под прикрытием темноты и наконец обнаружил нужное место. У дороги лежала сосна, сваленная недавней бурей. Поврежденная ограда не была еще заделана. Клод пролез через пролом. В куртке ему было жарко. Рукой откинул длинные волосы, спадающие на глаза, и близко поднес к лицу часы со светящимся циферблатом. Пять минут четвертого. Когда бомба взорвется, они будут далеко. На росистой траве ноги слегка разъезжались. Шутки в сторону!..
Он вышел на аллею и увидел виллу. Чертовски красива! Стоит многие миллионы! Сволочи! Построена, конечно, на ворованные деньги. Жаль, что нельзя это разрушить одним махом, чтобы все взлетело фонтаном пламени, камней и обломков. Он подошел к фасаду. Заложить бомбу надо здесь. Как сказал Влади, гостиная слева от двери. Разорвал веревки свертка и вынул пластиковую бомбу. Он хорошо помнил все указания: прикрепить бомбу в углу окна, вставить детонатор и подсоединить контакт. Больших разрушений взрыв не произведет, но речь идет лишь о предупреждении. А жаль! Он изо всей силы прижал бомбу. Теперь детонатор. Послушал часовой механизм. Тот работал нормально. Переключил контакт. В последний миг ему показалось, что из него изверглись грохот и пламя, что весь он — лишь боль и гром и что он растворяется в пространстве.
Взрывная волна пригнула кусты, сейчас же зазвенели выбитые стекла. Затем ненадолго мертвая тишина.
«Что он там наделал? — подумал Морис. — Лишь бы…»
Он выскочил из машины. За ставнями загорались огни. Послышался лай собак. Открылись окна. Выглянули люди. Запахло гарью, над садами вспухало облако дыма.
— Идиот! Идиот! — проклинал Морис, топая ногами.
Он выключил в машине габаритные огни и направился к перекрестку, поглядывая на дорогу, откуда мог появиться Клод. Но все уже было ясно. Послышались разговоры соседей. Голоса разносились далеко. Кто-то вскрикнул: «Это, наверное, газ». Морис прошел еще немного, раздираемый страхом и необходимостью узнать наверняка. Мимо него к вилле бежали люди. Он еле держался на ногах. Ему виделась кровь. Клод! Старина Клод! Что с нами происходит?
Внизу собирались люди. Небо за деревьями светлело. Со стороны города послышалась сирена полицейской машины. Или «скорой помощи»? К счастью, у Клода нет при себе никаких документов. Надо предупредить Влади. «Действуй, черт побери, быстрее!» — торопил себя Морис. Но вместо того, чтобы вернуться к машине, он медленно пошел к месту взрыва, чтобы побыть еще немного рядом с павшим товарищем.
Теперь там стояла толпа. Мужчины вышли в пижамах, женщины с ночным кремом на лицах завязывали пояса халатов. В конце аллеи, усыпанной обломками и опавшими ветками, виднелась вилла. Ее очертания расплывались в поднявшейся в воздух пыли. Чернела дыра пролома, на фоне более светлой стены. Снесенные и исковерканные взрывом ворота валялись на земле. Зеваки, не осмеливаясь войти в парк, с любопытством вытягивали шеи.
— С этим газом всегда одни неприятности, — сказала женщина рядом с Морисом.
Сквозь толпу подъехала полицейская машина. Установилась полная тишина. Морис дрожал с головы до ног, дрожь была необъяснимой, поскольку к нему вернулось хладнокровие. Пока полицейские, перед которыми маячили круги света от электрических фонарей, приближались к крыльцу виллы, он обдумывал ситуацию. Руки он сжал под мышками, пытаясь унять дрожь. Клод скорее всего погиб. В определенном смысле так было бы лучше. Если ранен… кто знает?.. Может заговорить… Его храбрость тут не поможет. Надо срочно предупредить Влади. Принять меры предосторожности. Но без суеты. Сейчас на дорогах тысячи отпускников, ими переполнены вокзалы, гостиницы, почтовые отделения, все общественные места, полиции не развернуться. Один из полицейских бегом вернулся к ограде, и сразу же его окружила толпа.
— Что там?
— Пропустите… Ну! Отойдите! Это бомба. Там раненый.
Полицейский залез в машину и взял телефонную трубку.
Дивизионного комиссара Маре разбудил телефонный звонок. Он посмотрел на часы и выругался.
— Алло!.. Маре слушает… Что? Вилла Жерсена? О, черт! Почему это свалилось именно на нас? И как раз сейчас!.. Разрушения большие?.. Что? Да, да… Я этим займусь… Заеду в больницу. И вот еще что. Наверняка на вас налетят журналисты… Никаких комментариев… Да, перекройте дорогу… Будем через полчаса.
Судебный исполнитель мэтр Серр заканчивал бриться. Жена в пеньюаре стояла на пороге ванной с чашкой кофе в руках.
— Ну и времена! — вздохнула она.
— Это займет все утро, — сказал он. — Насколько я понял, разрушения серьезные. Фасад дал трещины. Не говоря уж о комнатах на первом этаже, там полный разгром.
— Это должно было произойти.
— Так будет, пока всех их не пересажают. Правительство ничего не делает. В конце концов, Жерсен — честный человек. У него хватает мужества говорить вслух о том, о чем про себя думают все. И вот ему подкладывают бомбу.
— Согласись, иногда он перегибает палку.
— Возможно. Но у него такой темперамент. Достань-ка мне легкий костюм. Опять будет жара.
— А этот несчастный парень, что с ним?
— Не знаю. Меня не успели посвятить в детали… Думаю, у него оторвана рука. Не такая уж большая цена.
— Гастон!
— Что Гастон! Это же так! Надеюсь, его не скоро отпустят. Есть же законы, черт побери!
Малолитражка не тянула. Машина слишком старая, слишком часто переходила из рук в руки, ломаная-переломаная, лязгающая на ходу. Морис попадет в Париж не раньше восьми часов. Звонить Влади опасно. По телефону всего не объяснишь, не расскажешь подробностей. Мориса обогнали парни на мотоциклах, одетые как аквалангисты, кланяясь в издевательском приветствии. На спусках он пытался разогнаться, но на ровных участках терял скорость. По правде говоря, они слишком бедны, чтобы бороться с властью. Вот эта бомба, например. Кустарная самоделка с часовым механизмом за четыре су. И так во всем. Нет даже средств печатать листовки, плакаты. Все, что они могут, так это писать лозунги на стенах. Как дети, играющие в войну. Конечно, в какой-то мере эта вина Влади: он хочет вести борьбу сам, по своему разумению. Есть и другие группы, более солидные, с большими возможностями, с надежным прикрытием. Но они готовят себя для больших событий, а их так и нет. Влади говорит: «Конкретные дела — это для нас». Вот куда привело конкретное дело. Клод в больнице. Останется, наверное, без руки. И это в двадцать два года!.. И уж легавые поработают с ним! Даже если он будет молчать, все равно его вычислят: опросят соседей, восстановят шаг за шагом всю его жизнь, достаточно будет малейшей детали… Ладно, Влади разберется…
Он попытался обогнать здоровенный грузовик, не получилось. Подумал о том, как поведет себя Жерсен: конечно, не преминет написать в «Консьянс» передовую статью: «Новый удар левацкой гидры»… Если б не Клод, можно было бы посмеяться. Но Клод в полиции, а Жерсен использует все возможности своей газетенки, чтобы его засадить. Всем известно, что Жерсена в верхах ненавидят, но Клод все равно получит на всю катушку, им лишь бы избежать кампании в прессе. Не виллу нужно было взрывать, а Жерсена. Разговор о политическом убийстве заходил часто. Влади был не против. Жоэль — безусловно за. Остальные осторожничали. Их действия сковывала говорильня. Проспорив до утра, они расходились пьяные от слов и в полной уверенности, что мир у них в руках и можно немного поспать. И этот взрыв они достаточно обсуждали, обдумывали, рассматривали со всех сторон. В принципе все были согласны. Однако «анализ обстоятельств», как говорил Жорж, сразу же выявил разногласия. Лучше бы меньше заниматься теорией, а больше конкретными деталями. А то ведь слишком много импровизации. Морис дал себе слово на ближайшем собрании высказать все.
Из кармана брюк достал помятую пачку «Голуаз», отпустив руль, вытащил скрюченную сигарету и зажег ее от длинного пламени зажигалки. «Вот уже строю из себя ветерана», — подумал он. Посмотрев на себя в зеркало заднего вида, увидел лишь свои возбужденные глаза. Впереди, ослепляя его, поднималось солнце. Навстречу ему к морю мчались машины, нагруженные всевозможной поклажей. За Гайоном у остановившегося грузовика он увидел двух полицейских на мотоциклах. Отвернувшись, проехал мимо.
— Ну что? Тяжелый случай? — спросил комиссар.
Врач пригласил его в ближайший кабинет.
— Выкарабкается. Просто чудо. Правой кисти, можно сказать, нет. Осколки в ноге, ожоги по всему телу, но поверхностные. Кроме того, небольшой шок. Но он очень крепкий парень. Через две недели будет на ногах. Надеюсь, это послужит ему уроком.
— Вы их не знаете, — сказал комиссар. — Можно с ним поговорить?
— Лучше оставить его в покое.
— Я ненадолго. Впрочем, пойдемте вместе.
— Я поместил его в отдельную палату.
— Правильно сделали.
Они вышли из кабинета. В коридор через окно пробивались утренние лучи солнца. Комиссар вытер лицо.
— Придется вам поработать, — сказал он.
— Особенно завтра. С дюжину несчастных случаев уж точно привезут. Это что! В прошлом году тридцать первого июля было семнадцать… Сюда.
Он медленно открыл дверь, и комиссар увидел раненого, правая рука которого скрывалась под огромной повязкой. Клод, широко раскрыв глаза, смотрел в потолок. Комиссар подошел к кровати. Клод перевел взгляд на него.
— Вот и получил, что хотел, — сказал комиссар. — Здорово!.. Ты, конечно, приехал из Парижа. Как тебя зовут?
Клод закрыл глаза.
— Кто с тобой был?.. Ну! Кто с тобой был?
— Никого, — прошептал Клод.
— Ты приехал на машине?
— Нет… на поезде.
— На каком поезде?.. Тебе же ясно: ты не отвечаешь, но мы все равно узнаем. Мы всегда узнаем… Ты знаешь Жерсена лично?
— Нет.
— Это месть?
На губах Клода заиграла странная усталая улыбка.
— Клянусь, смеяться нечему. Ты в этом убедишься.
Врач схватил комиссара за руку.
— Вы мне обещали… Думаю, на сегодня хватит… Не такой уж он сильный.
— Передвигаться не может?
— Совсем не может. Уверяю вас.
— Все равно. Кого-нибудь пришлю. Лучше, чтобы он оставался под присмотром. Главное — не пускать журналистов. Никого! Полная изоляция! Обеспечить спокойную работу.
Он наклонился над больным.
— А ты, малыш, подумай. Оторванная рука тебя не спасет. Мне нужны твои сообщники, все до единого.
Сначала Жерсену показалось, что звонит будильник. Но звонил телефон. Он встал. Шесть часов. Над ним что, издеваются?! Флоранс спит или притворяется, что спит. Он быстро подошел к столу и резким движением снял трубку.
— Жерсен слушает… Говорите громче… Что?.. Моя вилла!.. Сволочи!.. Большие разрушения?! Уточнить не можете?.. Записываю, мэтр Серр… Нет, угрозы не получал… То есть ничего особенного… обычные угрозы, если хотите… анонимные письма приходят каждый день, я на них и внимания не обращаю… У вас о нем ничего нет? Левак, наверное… Видите ли, в девять тридцать я должен быть в Лондоне, вернусь завтра вечером, но могу отправить к вам жену. Она там сориентируется не хуже меня. Раз уж несчастье произошло — чуть раньше, чуть позже, не имеет значения… Что?.. Если пойдет дождь? Да, вы правы. Надо накрыть… Спасибо, комиссар. Рассчитываю на вас. Спасибо.
Он бросил трубку и вернулся в спальню.
— Флоранс… Проснись.
Зажег плафон.
— Не время спать. Знаешь, что с нами сделали?
Флоранс протерла глаза.
— Прошу тебя. Не кричи. Голова трещит.
— Взорвали виллу.
Жерсен сел на край кровати и медленно повторил, как бы стараясь осознать:
— Взорвали виллу.
Он вдруг вскочил, стукнул кулаком по ладони.
— Зачем стесняться. Прошу, господа! Жерсен в вашем распоряжении. Он ваш. Бейте сильнее! Он — враг. Других нет.
Флоранс села в кровати и откинулась на подушку.
— Вилла!.. Ее…
— Именно. Гостиная разворочена. Стенки разлетелись. Ущерб еще не подсчитан… Теперь понимаешь? К счастью, одного схватили.
Он рассмеялся и пнул ногой складку прикроватного коврика.
— Правительству достанется. Потому что этого типа придется теперь судить. За мной двести тысяч читателей. Эти двести тысяч потребуют справедливости. Будет шум… Оденься. Ты поедешь туда. У меня самолет… Позови Марию, пусть быстро приготовит кофе.
— Мария со вчерашнего дня в отпуске.
Вышагивавший по комнате Жерсен остановился и обескураженно уронил руки.
— Забыл… Конечно, отпуск — святое дело. Вот почему они выбрали именно этот момент. Где сейчас полиция?.. На дорогах, а в это время тем, кто продолжает работать, подкладывают бомбы. Ну ладно, обойдусь без кофе. Одевайся же. Тебе надо туда ехать.
— Нет. Послушай, Поль. Постарайся хоть раз меня понять. Это твоя вилла. Ты купил ее, не посоветовавшись со мной… Ты обставил ее по своему вкусу… Тебе известно, как я ненавижу Довиль. Но разве ты со мной считаешься? Теперь ты стал на тропу войны… А у меня нет желания во все это вмешиваться… Ясно, чем это может обернуться. Не хочу неприятностей.
— Но это же глупо!
— Возможно… Мне тебя жаль. Но чего ради я поеду в Довиль? Зачем?.. Разве я могу что-нибудь решить сама?.. И еще хочу сказать: я не считаю, что удар направлен против меня. И не хочу, чтобы нас ставили на одну доску. Я не твоя сторонница. И не подписываю твои статьи.
— Ты меня бросаешь?
— Нет, Поль.
— Да.
Она нырнула под одеяло, поправила удобнее подушку, делая вид, что хочет спать. Жерсен еще раз прошелся по спальне, осмотрелся, как будто выискивая свидетеля.
«Она меня бросает. Она заодно с ними».
Флоранс закрыла глаза и натянула одеяло на голову. Он же подождал с минуту, шевеля губами, сплетая и расплетая руки. На память вдруг пришли восторженные письма, отрывки из которых он регулярно печатал. «Ваша статья о налогах просто замечательна. Хорошо, что хотя бы „Консьянс“ защищает наши интересы… Да, Церковь забыла о своей миссии. Вы тысячу раз правы, изобличая вредоносный характер экуменизма…» Ежедневно поступали и другие одобрительные отклики, укрепляя его в своей вере. И вот теперь Флоранс… Им удалось добраться и до нее.
Жерсен молча оделся. Он мог простить все. Прежних любовников, которые у нее были до свадьбы. Хотя его и терзали адские муки при мысли, что она принадлежала не ему одному… Этот Мишель Мери, жалкий актеришка… Правда, ему удалось разрушить его карьеру. А этот Робер Водрей! Его он тоже прижал. Был, увы, еще один… но вовремя исчез… Жаль! Терпеливо, как ученый, который готовит диссертацию, он изучил всю прошлую жизнь Флоранс. Она об этом даже не подозревала, но он собрал на нее полное досье с вырезками из газет, фотографиями… Там были, конечно, фотографии тех времен, когда она работала манекенщицей. Но были и групповые снимки, сделанные во дворе лицея, когда она училась в предпоследнем и последнем классе… Она стояла справа от преподавателя. Прическу носила на косой пробор. Тогда она еще не красила волосы в каштановый цвет… Он мог простить двадцать восемь лет, которые Флоранс прожила без него. Но не это!.. Он не требовал, чтобы она занималась политикой. Он не очень-то любил женщин, вбивающих себе в голову какие-то идеи. Но думал, возможно наивно, что она была на его стороне, что она не подвергала сомнению его проницательность и смысл его борьбы.
Жерсен побрился, ополоснул лицо холодной водой. Боже мой, какие разногласия… Они есть у всех… Нельзя же из-за этого переходить на сторону противников. «Ведь я же прав. Без меня никто не осмелился бы поднять голос, не стал бы разоблачать скандальные истории. Я — это я и не ищу никаких личных выгод. Я наношу удары, но и получаю их. Вот именно!.. Моя жизнь проходит у нее на глазах. Она знает, что я не пью, не курю, у меня нет любовниц. Только газета! Ах да! Именно газета! И судебные процессы! И мнение всяких кретинов! И надписи на стенах: „Жерсен — убийца“. Ладно, тем хуже для нее. Если думает, что может меня бросить, увидит!»
Жерсен бросил в чемодан кое-что из вещей, прошел в свой кабинет, собрал бумаги, положил их в папку и посмотрел расписание. Из Довиля самолет в Лондон улетал в четырнадцать часов. Знать бы, есть ли свободные места. В любом случае надо изменить время встречи. Ну и пускай! Все его дела сдвинутся. Он вернулся в спальню.
— Я уезжаю. Вернусь завтра вечером, как и предполагалось. Обратный билет есть. Машина останется в Довиле, это по твоей милости. Надо будет кого-нибудь за ней послать… Ладно, ухожу.
Она не шевельнулась. Жерсен скомкал одеяло и отбросил его к краю кровати. Флоранс лежала в своей пижаме в цветочек, подобрав колени, а руки прижаты к подбородку.
— Ты слышишь, я уезжаю. Еду в Довиль заняться «своей» виллой, как ты говоришь. Но когда вернусь, моя милая, поговорим. Причем серьезно.
Жерсен вышел, хлопнув дверью. На лифте спустился прямо в гараж, слабо освещенный пыльными лампочками. Там было почти пусто. Отпускной период! «Идеальное место, чтобы меня пришить, — подумал Жерсен. — Войти может кто угодно. Стоит только нажать на кнопку, открывающую железную дверь. Можно даже подняться в квартиру, и никто не заметит. Потом звонок. Я открываю дверь. Выстрел, и спокойно уходят. Надо быть поосторожней».
Он уселся за руль «вольво», вынул из «бардачка» пистолет калибра 6,35, сунул в карман.
Флоранс встала. Отдернула штору и увидела, как «вольво» выехал на улицу. Наконец она могла быть спокойной. Она потянулась, зажгла сигарету. Боже, как хорошо, когда его нет. Нет служанки! Нет Поля! Нет соседей! Немного свободы!.. Вилла? Черт с ней. Если бы она была где-нибудь в другом месте, в Дордони, в Ардеше… там, где можно было бы скрыться от толпы… тогда потеря была бы болезненной. Но в Довиле! И потом, все равно заплатят по страховке.
Она прошла на кухню и приготовила себе кофе, настоящий кофе, свежемолотый, а не растворимый, который предпочитал Поль из-за постоянной спешки. Поль… Хоть его сейчас и не было, все дышало его присутствием. В квартире от него распространялось какое-то предгрозовое напряжение, какая-то нездоровая влажность. Муссон! Сезон дождей!.. Вот что это такое. Нет уж, увольте! Немного воздуха! Военные действия можно отложить до завтрашнего вечера. Ведь он вернется и начнет все сначала, с того же места. Он скажет: «Ну что ж, мне кажется, нам надо поговорить». И будет нескончаемо к ней приставать, доказывая свои взгляды, и, как обычно, восклицать: «Стоп, ты только что сама сказала…» Боже мой! Как хорошо быть одной! Сколько женщин живут в свое удовольствие! И как правы те, кто обходится без мужчин!
Флоранс зажгла еще одну сигарету. Она слишком много курит. Кухню обволакивал аромат кофе. Она налила кофе в чашку, посмотрела, как тают кусочки сахара, которые она положила один на другой. В свою бытность манекенщицей она никому не отдавала отчета в своих действиях. Конечно, это было утомительное занятие с бесконечными тяжелыми обязанностями… «Надо быть честной. Невозможное ремесло. Как зверь в клетке, шерстью которого приходят полюбоваться. Ходишь под пристальными взглядами, живешь как в кольце из взглядов…» Но разве было время, когда она не чувствовала себя узницей? Разве было время, когда, проснувшись, она ощущала грядущий день чистой страницей, на которой можно писать или рисовать что заблагорассудится? Никогда! Было несколько любовных связей. Приятели. Безответные эмоции. Но все же был… Рене… Она пила душистый, крепкий, густой, как ликер, кофе. Насыщенный. Вот точное слово. Оно применимо и к ее жизни. Ее жизнь не была насыщенной, устойчивой. Она снова вспомнила о Рене. Может быть, с ним… Бедный Рене! Он один был милым, нежным, скромным и ласковым. Она бросила его просто так, потому что считала, что мужчина должен быть завоевателем, способным все сокрушить… Точно как Поль! Зачаровывающий своей верой во что-то. Но ведь и так задыхаешься от всех этих судорожных, злобных верований, подобных острым, наточенным инструментам пытки. А ведь истина — в этой чашке кофе и в этой мухе, чистящей крылышки на углу стола под лучами солнца.
Что ж, с Рене, может быть… Он был художником по интерьеру. Вещи слушались его. Он умел несколькими штрихами объединить их неожиданно и удачно. Из каких-то каракулей вдруг возникало любовное гнездышко или столовая, в которой вот-вот раздадутся крики детей и щебетание птиц. Счастье было на конце его пера, а она выбрала Поля. А теперь, чтобы избавиться от Поля…
Ложечкой она собрала коричневую сладкую гущу, оставшуюся на дне чашки, высший дар кофейного аромата, и еще раз потянулась до боли в костях. Уйти от Поля! Но ведь он не признавал не только самой мысли, но даже упоминания о разводе. У кого спросить совета? Если обратиться к адвокату, разделяющему взгляды мужа, она заведомо обречена на неудачу. Если же обратиться к одному из его политических противников, это сразу раздуют в газетах. Поля тогда не остановить. Она его знает. Остается только сбежать. Но что значит: сбежать? Куда? Когда она была всего лишь Флоранс, она могла уехать куда угодно. Не было проблем. Но мадам Жерсен не свободна в своих поступках…
Не надо преувеличивать. Жерсен все же не всемирно известная личность. Это так. Но у него почти повсюду есть информаторы. Добровольные корреспонденты присылают ему фотокопии документов, дубликаты конфиденциальных бумаг… Он всегда превосходно осведомлен обо всем, у него есть вкус и способности к слежке. Ну и что?.. Оставаться всегда у него под колпаком?
Она пустила в ванну воду погорячее, как любила, и сняла пижаму. Обнаженной вернулась в спальню, поправила свою постель, в нерешительности постояла перед кроватью мужа. Он никогда не убирал постель. Никогда не чистил ванну. Никогда не подтирал воду, которую разбрызгивал вокруг себя. Это не его дело. «Для этого есть служанка», — говорил он. Он займется этим, когда вернется. Она вдруг решила ни в чем не уступать. Знала, что это будет бесконечная вражда: обеды друг против друга в безмолвии, непроницаемое прокурорское лицо, борьба на финише… Но где найти поддержку? Семьи нет. Детей нет. Нет даже красной рыбки за стеклом, которая смотрела бы на тебя своими золотыми глазами.
Флоранс остановилась перед зеркалом. Ну вот! Я никому не нужна. Женщина в расцвете лет, но он давно об этом забыл. Его интересуют интернированные чехи, узники Сибири, вьетнамские католики… И все же! Она медленно прошлась руками по груди, по бедрам. О! Вырвать мужчину из жизни, избавиться от него, не иметь больше женских прелестей! Стать свободным существом, змеей, вылезшей из своей старой кожи и ускользающей в теплую ложбинку, безраздельно наслаждаясь своей свободой. Боже мой! Ванна! Она кинулась закрыть краны.
Стоя посреди дороги, жандарм жестами руки направлял движение в один ряд. Рабочие в желтых комбинезонах расставляли разноцветные конические столбики, ограждающие ремонтную зону. Жерсен выругался. Надо же для ремонта асфальта выбрать именно это время, когда все куда-то едут! В этом вся Франция! Проклятие! Самая жалкая автомобильная сеть в Европе! И при этом половину времени непригодна для проезда. Естественно, люди жмут на газ на свободных участках дороги. От этого аварии. Правительство само, своей преступной небрежностью вызывает столкновения. А беспорядок порождает разложение. Начинают взрывать дома. Все взаимосвязано. На эту тему можно написать передовицу.
Перед Жерсеном открылся свободный путь, и он нажал на акселератор. В голове сами по себе складывались фразы. В гневе он становился талантлив. На холодную голову мысли у него путались. До того, как стать журналистом, он хотел быть писателем. Ничего не вышло. Приходилось вытягивать из себя слова. Как будто пашешь поле, покрытое камнями. Зато если уж представлялся случай выругать что-нибудь, тогда из него извергался целый поток красноречия. Какую тогда он испытывал радость! Какое чувство всемогущества! Ему ставили в упрек озлобленность. Но он не был озлобленным. Скорее одурманенным. Он нуждался в резких формах, как поэты прошлого в богатых рифмах. Он ждал удачной мысли, глубокой детали, поймав которые пребывал счастливым целый день.
Разумеется, у него были стойкие убеждения. Но от них ничего бы не осталось, если бы не его дар подогревать их своими грубыми замечаниями, ругательствами, проклятиями. Чтобы добиться положения писателя, ему нужно быть невыносимым. Об этом никто не знает. Даже Флоранс, а она видела, как тяжело ему приходится работать. Он порой вскакивал из-за стола и бежал в свой кабинет, чтобы побыстрее записать мысль, вдруг пришедшую ему на ум. Потом просил прощения. Поначалу он даже пытался объяснить Флоранс, почему именно эта фраза имеет такую точность и силу. Но она не понимала. Всегда говорила: «Ты преувеличиваешь!» Она не могла осознать, что ценность и своего рода красота именно в преувеличении.
Уже половина девятого. Он обогнал вереницу автомобилей, плетущихся за старым грузовиком. Как же все-таки решить проблему Флоранс? Да, теперь это стало проблемой. Причем исходные данные ясны: ему вообще не надо было жениться. Не так давно он понял, что естественное состояние занятого человека — безбрачие. Если ты подчинен машине, то именно с ней связан любовными отношениями. Для журналиста это печатные станки. Для хирурга — операционный стол, для шофера — грузовик, для пилота — самолет. Страсть хороша в прошлом, когда было время для разговоров, а ведь в конечном счете страсть — наиболее утонченная и изысканная форма общения. О чем Флоранс вздыхала вначале? «Поговори со мной о чем-нибудь!» И когда главное — страсть, надо говорить. Ну а у него больше нет на это времени. И потом, какие могут быть любовные дуэты, когда на дворе Апокалипсис!.. С каким бы уважением он начал относиться к Флоранс, если бы она почувствовала себя мобилизованной, встала бы в его ряды вместе с ним. Но ведь нет. Голова у нее забита только своими мелкими интересами, мстительными обидами вакантной самки. Действительно вакантной? Посмотрим. За ней нужно понаблюдать. По возможности надо будет поговорить с Блешем.
Он остановился у заправочной станции в Верноне.
— Двадцать литров.
Пока заливали бензин, он сходил в туалет. По дороге на столе рядом с парой очков и дымящейся в пепельнице сигаретой заметил газету с броским заголовком: «Мобилизовано 50 000 жандармов и полицейских. Пущено 500 дополнительных поездов. В Орли нарушен график».
Жерсен усмехнулся. Разве он едет в отпуск? И разве у тех, кто подкладывает бомбы, бывает отпуск? И если бы паче чаяния он захотел отдохнуть, куда бы он поехал?.. Виллы больше нет. В определенном смысле нет и жены. Наступит день, когда не будет и «Консьянс». Он снял пиджак — стало слишком жарко.
Стоя у окна, Рене Аллио смотрел на море. Из порта медленно выходил пароход. Море утром казалось плоским, голубым и совсем новым. Его воды как бы нехотя плескались о берег, словно еще не проснувшееся животное. Тишина. Умиротворение. Но не для него. Он набил первую за день трубку. Без четверти девять. Можно позвонить Мишелю. Сходил за телефоном и вернулся с ним к окну.
— Алло, Мишель!.. Не помешал?
— Нет. Я только что встал. Ночью принимал роды. Домой попал в два часа. А ведь для этого есть больницы! Так нет. Этим бабам страшно, хотят все делать дома. Невероятно, чего только не насмотришься!
— Можно зайти?
— А что, плохи дела?
— Могли бы быть и лучше. Я просто измотался.
— Это из-за Майяра? От него так и нет известий?
— Нет. Думаю, он смотался за границу.
— Но ведь тебя это не затрагивает?
— Впрямую нет. Во всяком случае, пока нет. Если не будет доказано, что он смылся. Конечно, если начнется следствие, у всех будут неприятности.
— Убытки велики?
— Еще бы! Несколько миллионов.
— Твои заботы понятны. Как ты себя чувствуешь?
— Очень устал, нет аппетита, бессонница.
— Постараюсь привести тебя в чувство. Можешь зайти к одиннадцати часам?
— Буду. Спасибо.
Аллио поставил аппарат на пол. Пароход шел быстрее и был уже у мыса Фера. Есть же счастливые люди. Порт, выстроившиеся бок о бок корабли — все это счастье. Начинавшее припекать солнце — тоже счастье. Он вздохнул, лег на кровать, подложив руки под голову, посасывая потухшую трубку. Посоветоваться с адвокатом? Наверное, не стоит. Пока еще до этого дело не дошло. У Майяра есть опора — он шурин депутата. Может, все восстановится, дело ведь стоящее. Не их же вина, что покупатели не проявляют интереса. Посмотрим!..
Жерсен остановился у виллы. На улице все еще толпились зеваки, под ногами слышался треск битого стекла. Перед виллой дежурил полицейский. Жерсен представился, и тот отдал честь. Объем разрушений Жерсен оценил с первого взгляда. Пролом в стене, серьезное повреждение козырька над входом, сорванные ставни, зияющие окна, разбросанные по саду обломки, короче, картина впечатляющая, но нет ничего непоправимого. Разрывное действие бомбы в основном было направлено наружу. Он двинулся по аллее к группе стоявших там людей, разом обернувшихся к нему.
— Господин Жерсен?
— Да.
— Дивизионный комиссар Маре.
Широкоплечий и плотный человек, похожий на бывшего регбиста, пожал Жерсену руку и кивнул головой в сторону виллы.
— Печально, — проговорил он. — Но такие нападения невозможно предотвратить. Вот мои сотрудники: старший инспектор Корнек, инспектор Мазюрье… и мэтр Серр, судебный исполнитель.
Снова обмен рукопожатиями. Все они стояли со скорбным выражением на лицах, как у ворот кладбища. Но что в душе? В душе они, наверное, потешались.
— Я думал, вы летите в Лондон, — продолжал комиссар.
— Я отправляюсь туда прямо отсюда, — ответил Жерсен. — Жена не смогла приехать.
— Ее это, должно быть, потрясло?
— Да. Очень.
— Посмотрите, вилла пострадала меньше, чем можно было бы предположить. Я вас излишне встревожил. Пройдемте.
Он перешагнул через кучу мусора и вошел туда, где раньше была гостиная. Все остальные последовали за ним.
— Не будем говорить о мебели. У вас было что-нибудь ценное?
— Нет, ничего особенного. Обычные вещи.
— Тем лучше. Дверь в столовую сорвана. Но остальные комнаты почти не пострадали. Кухня в целости. Правое крыло выдержало. Больше всего беспокоит трещина над крыльцом.
Они шли гуськом. Время от времени кто-то из них ощупывал стенку или подбирал осколок, осматривая его с видом археолога. Наконец они вышли и отошли подальше, дабы точнее оценить масштаб разрушений.
— Половина крыши требует ремонта, — сказал исполнитель. — Думаю, стену можно укрепить цементом, но это дело подрядчика. Рекомендую Менги. Он все сделает, зацементирует, покрасит, заменит трубы…
— Как вы думаете, во сколько это обойдется?
Исполнитель нерешительно покачал головой.
— Трудно так вот сразу сказать… Но продать дом будет нелегко. На нем теперь отметина, понимаете…
Все посмотрели на Жерсена с откровенным любопытством. Вот он, вдохновитель «Консьянс», этой скандальной, не гнушающейся шантажом газетенки. Однако выглядел он не так уж страшно. Мужчина полусреднего веса, но в нем угадывалось исключительное хладнокровие. Его, казалось, все это совсем не трогало, голос оставался спокойным. Сведения о Менги он записал в блокнот столь же непринужденно, как будто речь шла об адресе хорошего ресторана.
— Вы установили личность преступника? — спросил он.
— Пока нет, — ответил комиссар. — Но нам известно, что он был не один. На перекрестке вскоре после взрыва свидетели видели малолитражку — «ситроен».
— Наверняка из леваков. Когда вернусь, всем этим займется мой адвокат… Он сильно ранен?
— Похоже, ему придется ампутировать правую руку.
— Надо бы отрезать обе. Чтобы в следующий раз было неповадно. Благодаря увечью он, наверное, легко отделается. Сколько получит? Три? Четыре года?
— Он очень молод, — заметил комиссар осуждающе. — Кстати, мне бы хотелось, чтобы вы на него посмотрели. Это не очная ставка. Просто надо установить, знаком ли он вам.
— Это было бы странно, с такими людьми я не встречаюсь, могли бы догадаться… Много времени это займет?
— Туда и обратно. Больница в пяти минутах езды на машине.
Жерсен посмотрел на часы.
— Ладно. Поехали.
В машине он забился в угол, как бы отгородившись. Комиссар со своей стороны тоже не делал никаких попыток проявить любезность. Между ними стояли статьи в «Консьянс», обличающие полицию, ее попустительство и слабости. Они были противниками и четко осознавали это. Жерсен лишь однажды нарушил молчание.
— Надеюсь, вы проявите сдержанность, ведь…
И сразу пожалел о своих словах. Комиссар повернул к нему голову со слишком уж нарочитой улыбкой.
— Разумеется!
Никогда раньше Жерсен не чувствовал себя настолько униженным. Теперь, когда гнев прошел, он начинал понимать, что этот взрыв позабавит всю страну. Он уже представлял себе, какие инсинуации, намеки, карикатуры появятся в газетах его противников. «Бомба Жерсена»… «Жерсен в нокауте». Даже в глазах Флоранс он будет выглядеть заурядным типом, которому, когда надоело его слушать, просто заткнули рот. Ведь раньше она никогда не смела ему отказывать. Да, взорвана вилла, но прежде всего вдребезги разлетелось его самолюбие. И если теперь он выпустит желчную статью, публика уже не сможет удержаться от радости… Надо оставаться выше всего случившегося. Демонстрировать безразличие… «Взрыв?.. Какой взрыв?.. Ах да». Но не проявлять мягкотелости. Требовать наказания по всей строгости. Максимального наказания для этого погромщика и его подручных. Ведь у него наверняка есть сообщники. Жерсену были хорошо известны привычки леваков, как охотнику, досконально изучившему повадки дичи. Он знал, что они не любят действовать в одиночку, а работают «боевыми группами». И если полиция проявит некомпетентность, он сам сможет выйти на след задействованной группы. У него есть своя сеть осведомителей. Блеш весьма расторопен. Фанатик сыска. Как только он выйдет на эту банду, «Консьянс» заговорит во весь голос.
— Приехали, — сказал комиссар.
Приоткрывались и закрывались двери, за которыми мелькали лица. Всем хотелось посмотреть на хозяина разрушенной виллы. Жерсен следил за своей походкой, движениями рук, плеч, за своим взглядом. Он старался держаться как человек, у которого, при всех неприятностях, есть и другие дела. Их остановила медсестра.
— Мы не задержимся, — сказал комиссар. — Просто надо кое-что проверить. Как он?
— Еще не проснулся. В конце концов пришлось ампутировать руку. Жаль его.
Дура! Мир перевернулся с ног на голову. Жалеют только преступников, маргиналов, неудачников и всякие отбросы. А до жертв нет дела. Быть жертвой даже неприлично! Непристойно! Пошло! Вам подкладывают бомбу, и вы становитесь прокаженным.
— Пойдемте посмотрим, — сказал комиссар.
Он открыл дверь в палату. Жерсен увидел лежащее под простыней неподвижное тело.
— Подойдите.
Он подошел к кровати и увидел бледное лицо с закрытыми глазами и красным шрамом от подбородка до уха. Несмотря на кривившую рот гримасу боли, лицо казалось необычайно молодым и чистым.
— Вы его знаете?
Полицейский задал вопрос шепотом, но Жерсен вздрогнул.
— Нет… Никогда не видел.
— Спасибо. Мне надо было удостовериться.
Жерсен продолжал смотреть с какой-то злобной жадностью. Что вкладывает в руки двадцатилетних оружие и толкает их, как камикадзе, против старших? Пропаганда? Плохо усвоенные теории, как во времена банды Бонно? Нет. Все сложнее. Это какая-то таинственная болезнь. Животные иногда убивают себя целыми стадами. Когда не могут вынести огромных скоплений себе подобных. Быть может, эта болезнь порождается сутолокой больших городов. Жерсен вспомнил заголовок в газете: «На дорогах 50 000 жандармов и полицейских…» Видимо, есть скрытая взаимосвязь между массовыми миграциями и агрессивностью. Надо будет проанализировать в одной из передовых статей.
Комиссар дернул его за рукав.
— Пошли… Я вас отвезу.
Они вышли из палаты. Жерсен против воли двигался на цыпочках.
— Вам надо набраться терпения, господин Жерсен. Боюсь, что следствие затянется. Я сообщил в Париж. Вам не хуже моего известно, что происходит в таких случаях. К делу подключилось Управление по охране территории.
Жерсен посмотрел на часы.
— Поторопимся, черт возьми, мне надо успеть на самолет.
— Обратный билет у вас есть?
— Да.
— Похвальная предусмотрительность. У транспортных компаний работы сейчас выше головы. Погода прекрасная — все куда-то едут. Это, кстати, не облегчает нашу задачу.
«Понятно, — подумал Жерсен. — Ты пытаешься намекнуть, что следствие закончится ничем. Мол, существуют периоды, малоподходящие для проведения полицейских расследований. Постарайтесь, чтобы вам не подкладывали бомбу в конце июля, на Рождество, Пасху или на Троицу. Извините! Полиция занята».
Машина повернула на улицу, где произошел взрыв. Возле ограды стоял грузовик, и рабочие не спеша собирали обломки. В душе, наверное, веселились. Еще бы, в передрягу попал буржуй. Полицейские чины и судебный исполнитель были еще там, прохаживаясь, как туристы, по саду и дому. Выглядело все как грабеж со взломом. Невыносимо.
— Это надолго? — спросил Жерсен.
— Как получится, — сухо ответил комиссар. — От нас не зависит.
Жерсен едва сдерживал ярость. Он вылез из машины и через пролом вошел в виллу. Вокруг него посыпалась штукатурка. В гостиной на полу в беспорядке валялась перекореженная мебель, превращенная в груды досок и тряпок. Неповрежденным оставался только висящий на стене барометр. Он показывал «ясно».
Ударом ноги Жерсен отбросил висевшую на своем месте створку двери между гостиной и кабинетом, и ему на плечи с потолка посыпалась струйка крупной пыли. Стена между комнатами была в трещинах, но сам кабинет выглядел прилично. Убедившись, что его никто не услышит, Жерсен снял трубку телефона. Линия работала. Он набрал свой домашний номер.
— Алло!
Послышались долгие гудки.
— Алло!.. — Боже мой, чем она там занимается!.. Ей абсолютно нечего делать, и не может ответить, когда ей звонят. — Алло!
Наконец трубку сняли, и он присел на край стола.
— Алло… Это я… Да, говорю с виллы или с того, что от нее осталось… Что?.. Говори громче… Да, помехи, видно, отсюда… Здесь все как после землетрясения… Послушай, мне некогда описывать тебе, в каком это состоянии. Прошу тебя, приезжай. Здесь кто-то должен быть. Мне рекомендовали подрядчика… Алло?.. Конечно, это необходимо. Ты же знаешь, у меня встреча в Лондоне… Ладно, не говори только, что ты занята…
Он полез в карман за платком, рука наткнулась на пистолет. Все идет наперекосяк, все абсурдно, смехотворно. Он вытер потное лицо.
— Алло… Да, да, я у телефона… Понятно, это не каприз. Что-то другое… Не слышу!.. Но Боже мой, ты мне жена или нет?.. Ты думаешь, я звоню тебе развлечения ради?.. Посмотрела бы ты на это поле битвы. Пострадавший?.. Представь себе, мне на него наплевать… Меня волнует твое поведение. Мне оно кажется странным… Если я тебе надоел, скажи прямо. Насколько я понял, вслед за этим домом мне на голову рушится мой семейный очаг. Так или иначе… Значит, нет? Ты отказываешься. Ты хорошо подумала? Предупреждаю: ты сама ставишь между нами стену… Ладно. Как хочешь! Ты созрела для вступления в движение феминисток, бедняжка. Все это грустно… Вот что еще…
Она повесила трубку. Жерсен отодвинул аппарат, машинально стряхнул с себя пыль. Она была повсюду. Стояла в воздухе как туман. Жерсен сел в кресло, предварительно протерев его носовым платком. Флоранс! Что она имеет против него? Она всем обеспечена. Свободна так, как может быть свободной замужняя женщина. И он ее любит!.. Конечно любит. Возможно, по-своему, не слишком это афишируя и немного иронично, как будто любовь требует извинений. Нет, все-таки надо решиться и серьезно заняться ею. У нее мужчина. Произошло то, о чем он не мог и помыслить. Он снова взял трубку.
— Алло, Блеш?.. Это Жерсен. Звоню из Довиля. У меня взорвали виллу. Объясню потом… Сейчас меня волнует другое… Да, ущерб большой. Но повторяю, это не имеет значения… Вы сейчас свободны?.. Я думал, может, вы тоже уезжаете. Как все остальные. Ладно. Вы мне нужны, сам я через несколько часов улетаю в Лондон. Вернусь завтра вечером. Жена на это время остается одна в Париже… Во всяком случае, предположительно одна, но… Ну вот, вы угадали. Я хочу, чтобы она была под наблюдением… Да, как раньше… Записывайте посетителей, если она выйдет, следите за ней… Конечно, начинайте прямо сейчас. До часу я останусь здесь… Потом, с трех часов, буду в Лондоне, отель «Мажестик» на Стренде… Составьте мне отчет, как можно более подробный… Если будут новости, звоните. Спасибо.
Морис кое-как припарковал машину, двумя колесами заехав на узкий тротуар. Здесь она не очень помешает, в этом конце улицы, где стояли в основном грузовики, было мало прохожих. Бистро на первом этаже было закрыто. На табличке аккуратным почерком сообщалось, что откроется оно 22 августа, когда закончится отпускной период. Морис поднялся на второй этаж и постучался, как условлено. Влади был на месте, сидя за деревянным столом, читал газету. Когда Морис вошел, он приподнял очки на лоб.
— Ну как?
— Клод не вернулся… Все взорвалось вместе с ним.
— Погиб?
— Не знаю. Думаю, просто ранен… Слышал, как говорил легавый.
— Рассказывай.
Морис рассказал. Влади снял очки и начал медленно протирать стекла. Перед ним возле переполненной пепельницы лежала раскрошенная на мельчайшие крупинки таблетка аспирина, и время от времени он подбирал их одну за другой, посасывая, как карамельку. Взгляд его серых глаз сохранял звериную неподвижность. Густая масса вьющихся волос спадала на узкий гладкий лоб, на котором временами пульсировала жилка, как будто под действием громадного внутреннего напряжения. Когда Морис закончил рассказ, Влади вытащил из верхнего кармана кожаной куртки пачку «Голуаз» и бросил ее на стол.
— Паршиво, — сказал он. — А ведь детонатор был установлен правильно. Наверно, совершил какую-то глупость. Узнаем по радио.
Морис обещал себе выложить все начистоту, но теперь не решался выступать с упреками. Ведь Влади со своим узким лицом туберкулезника был как раз тем человеком, который видел далеко вперед, мог проанализировать и распутать ситуацию, ясно объяснить ее.
— Думаешь, нас не заметут?
— Конечно нет, — ответил Влади. — Клод не протреплется. А вот та сволочь поднимет шум. На такой случай у него всегда в запасе скандальчик. Дашь на дашь: я по такому-то делу промолчу, а вы пришьете террористу максимум. У него тысяча способов отравить жизнь властям. Если будем сидеть сложа руки, то не скоро увидим Клода.
Морис достал из пачки сигарету и принялся расхаживать по комнате, мебели в которой было не больше, чем в одиночной камере: несколько полок, книги, папки с вырезками, стул с кипой газет, небольшая печка на ржавых ножках и, как ни странно, прислоненный к стене велосипед.
— Что ты предлагаешь?
— Есть одна идея, — проговорил Влади, — но…
Он встал. Он был очень высоким и очень худым. Глядя на него, у всех складывалось впечатление, что они его уже видели в каких-то американских фильмах. Остановившись у окна, он посмотрел на улицу, где со скоростью пришвартовывающегося теплохода маневрировал пятнадцатитонный грузовик. К нему подошел Морис.
— Легавые уверены, что мы ляжем на дно, ведь так?
— Конечно, — ответил Морис.
— Для них само собой разумеется, что это одиночное покушение, возможно личная месть.
— Согласен.
— В этой стране тридцатого июля политических волнений не бывает. Революция тоже имеет право на отдых. Она в отпуске. Я вот думаю, не это ли как раз самый удобный момент…
В комнату проник черный дым от выхлопа грузовика. Они отошли от окна. Влади сел и начал раскачиваться на задних ножках стула. Он размышлял, уставившись в пустоту широко раскрытыми глазами, ни разу не моргнув. Морис в ожидании загасил окурок.
— Жерсен развернет свою кампанию как можно быстрее, да или нет?
— Думаю, да. Не вижу, как его можно остановить.
— А между тем способ есть. В обычное время такого не провернешь, но сейчас может получиться.
Он вернул стул в нормальное положение, облокотился на стол и застыл в размышлении, как шахматист.
— Мы это сделаем, — прошептал он наконец.
— Сделаем что?
— Похитим его.
— Смеешься?
— Я же сказал: похитим. Деталей я еще сам не знаю. Но заметь, я об этом уже думал раньше, просто так, не вдаваясь в подробности. Сегодня же у нас нет больше выбора. Жерсен против Клода… если Клод, конечно, выкарабкается, а это мы скоро узнаем.
— На нас же насядет целая свора легавых.
— Каких легавых? У них дел невпроворот. А у нас будут развязаны руки целых три дня.
— А уголовная полиция? Особое подразделение?
— Им надо наблюдать за границами, за иностранцами, отслеживать торговцев наркотиками… Сейчас все в движении. В этом наш шанс… Не утверждаю, что обязательно получится, ведь Жерсен настороже. Но можно попробовать… Почти каждый день похищают разных мерзавцев… Знаю, у нас не самая лучшая организация… Тем более. Мы можем импровизировать… И потом, Клод рассчитывает на нас, так или нет?
— Согласен, — сказал Морис.
Влади снял трубку, карандашом набрал номер.
— Алло, Валлес… Это Россель.
Они всегда называли друг друга именами времен Коммуны.
— Встречаемся через час… В обычном месте. Срочно… Нет, не все гладко… Делеклюз вышел из игры. Расскажу при встрече.
Повесив трубку, он бросил на Мориса взгляд хищника.
— Ложись спать. Остальным займусь я.
Свою первую записку Флоранс разорвала: слишком длинная, слишком много глупых обвинений, это недостойно. Теперь она трудилась над второй.
«Я бы поехала в Довиль, как покорная супруга. Но это невозможно! Да. Ты прав: дальше так продолжаться не может. Если хочешь, посмейся над этим, но я действительно переживаю кризис. Буду откровенна: мне надоел дом, моя никчемная жизнь, все остальное. Если бы я пошла к невропатологу, он бы мне наверняка посоветовал: „Смените обстановку… Отправляйтесь путешествовать…“ В браке тоже должны быть отпуска, как отпуск по болезни. Я уверена, что между супругами вырабатываются токсины. Так вот: я их получила вдоволь и прошу меня отпустить. И не задавать вопросов. Поверь мне хоть раз. Я еще сама не знаю, куда пойду…»
Она пососала ручку и на минуту задумалась. Раньше… а было ли раньше… всего лишь шесть лет… Боже мой! Шесть лет! Как это было давно! Она была счастливой… в Каннах, где представляла зимнюю коллекцию… Поль уже тогда настаивал на браке. Но там же был и Рене… Милый Рене, такой нежный! Такой страстный… И она ушла от него, как от собаки, которую привязали к дереву, чтобы не слышать, как она скулит… Флоранс порылась в ящиках секретера в поисках старой записной книжки. «Рене Аллио… Болье».
В Ницце они встречались каждый вечер в разных гостиницах. Что с ним стало? Может, женился. Может, умер… Легко проверить… Поддавшись глупому порыву, она взяла телефон и набрала номер. Услышав гудки, представила себе квартиру, где однажды была, холостяцкую квартиру, не очень ухоженную, но обставленную с истинным вкусом. Из кабинета открывался вид на порт с шикарными кораблями и ярко-синим морем между двумя мысами. В трубке слышались гудки, но никакого ответа. Она повторила попытку. Ей вдруг представилось очень важным переговорить с Рене. Разумеется, не для того, чтобы возобновить связь. Но ведь они так друг друга любили, что теперь могут стать друзьями. С определенной долей меланхолии, печали, снисходительности. Но она может на него положиться…
Телефон не отвечал. Она посмотрела на часы: половина одиннадцатого. Или его нет дома, или он там больше не живет, или… Глупо упорствовать. Она вернулась к записке, рассеянно перечитала ее. После слов «сама не знаю, куда пойду» добавила «Идти не к кому. У меня нет любовника. Просто ни от кого не хочу зависеть, во всяком случае какое-то время…». Потом, поддавшись удивившему ее саму порыву, разорвала записку на мелкие кусочки. К чему извинения? И почти оправдания? Ей хотелось просто уехать, бросить Поля, виллу, его заботы, приступы гнева, идиотские подозрения… ладно, надо это сделать немедленно, не испытывая угрызений совести. А раз ее привлекает Лазурный берег — с Рене или без него, — пусть будет Лазурный берег. В конце концов, Рене — просто предлог, удобный повод вычеркнуть из жизни шесть лет серого существования и вернуться на перекресток, где она сделала неправильный выбор. Дабы покончить с сомнениями, она начала листать справочник «Эр Франс», крестиком отметила колонку, где перечислялись рейсы на Ниццу. Затем, с едва сдерживаемым нетерпением, схватила телефонную трубку и продиктовала телеграмму:
— «Рене Аллио, Болье-сюр-Мер, улица генерала Леклерка, д. 6-а.
Необходимо встретиться прилетаю 18 часов целую Флоранс».
Жребий брошен. Встретит? Не встретит? Главное — снова увидеть пальмы, ослепительное море, ресторанчики старой Ниццы, где прохладно, как в пещере. Прежде всего ей хотелось встретиться с прежней Флоранс, для которой жизнь была праздником. И вот решение принято, вновь открылась дверь, которую она считала запертой навсегда.
Вырвав из блокнота новый листок, на одном дыхании написала:
«Я уезжаю. Ты сможешь прекрасно обойтись без меня. Не вздумай искать. Я тебе этого не прощу. Флоранс».
Аккуратно сложив листок, положила его в конверт, осторожно запечатала, как будто речь шла о подарке.
«Полю».
Оставила конверт на видном месте, прислонив его к часам на письменном столе. То, что она делает, не очень красиво. Она почти до боли ощущала это. Можно было бы подождать более спокойных дней. Она же пользуется моментом, когда Полю приходится защищаться, и незаметно скрывается, как иные трусливо отходят от места драки. Ну и что? За шесть лет она свою порцию тумаков получила. И потом, она намеревалась вернуться… позднее… если Поль в конце концов проявит понимание… Нет, она не вернется. Решение принято. Но она сознавала, что в этот самый, пожалуй, важный момент своей жизни ей ничего не хочется, она не может прийти ни к какому выбору и находится в полной растерянности. Просто в ней, как молоко на огне, поднималось желание.
Комнату за комнатой она обошла квартиру, пытаясь понять, испытывает ли чувство сожаления или ощущает себя здесь посторонней. Возможно, если бы Поль в который раз не оставил ее одну… В последний раз! «Мы созвонимся, — подумала она. — Я поставлю свои условия. На этот раз он меня выслушает». Вынула из шкафа чемодан, протерла его и положила на кровать. Что с собой взять? На сколько времени она уезжает? Надо принять решение… И вдруг до нее дошло, что все уже и так решено. Места на самолет все равно не достать. Она забыла, что сегодня тридцатое июля. Подбежала к телефону, набрала номер «Эр Франс»… раз… другой… Все время занято. Если не получится с самолетом, остается «Мистраль». Но надо торопиться.
Наконец полный безразличия голос сообщил ей, что все рейсы на Ниццу заполнены, мест нет. Позвонила в другие компании — «ТВА», «ЮТА», «Пан-Америкэн». Начала нервничать. Ей хотелось уехать прямо сейчас… не завтра… и не послезавтра. Ее не может остановить прихоть глупого случая. В конце концов она отказалась от попыток улететь самолетом и позвонила на Лионский вокзал. Естественно, занято. К тому же она вспомнила, что заказы на поезда того же дня не принимаются. Бросив телефон, нашла железнодорожное расписание. Поль всегда ездил на машине, но на всякий случай держал всякого рода расписания и справочники. «Мистраль» отходит в час двадцать. Он, конечно, тоже будет переполнен. Но увидев ее стоящей на ногах, кто-нибудь наверняка уступит место. Зачем же она так поспешно отправила телеграмму… Тем хуже. У нее больше нет времени. Но Рене будет ждать напрасно, если, конечно, получит телеграмму.
Она еще не утратила привычки быстро собирать в чемодан белье и одежду, необходимые для достаточно долгого отсутствия. Раньше она довольно часто уезжала в поездки и точно знала, что надо брать с собой. Она добавила только маленькую шкатулку самыми ценными украшениями. Взвесила чемодан. Это был первый шаг к отъезду. За ним последовали другие. Она быстро оделась, накрасилась, закрыла ставни. Было очень жарко, удастся ли поймать такси? Ключи? Куда она сунула ключи? И муслиновый шарфик?.. Подарок Поля. Взять его? Оставить?.. В конце концов она привязала его к ручке чемодана. Вышла. Шесть лет назад она пришла сюда с тем же багажом. И с запасом иллюзий. Ну что ж, моя девочка, не растравляй себя.
Аллио лежал на кушетке во врачебном кабинете. На руке натянута черная полотняная лента.
— 160, — сказал доктор. — 160 на 110. Для человека под сорок многовато. Знаю, у тебя всегда было слегка повышенное давление… Садись.
Прошелся стетоскопом по груди. Под мышками.
— Просто переутомился, — пробормотал Аллио.
— Я тоже так думаю. Одевайся. Ты куришь все так же много?
— Полпачки в день. Бывает больше, когда много работы. Чего ты опасаешься?
— Ничего. Просто надо принять меры предосторожности. И тебе не хуже меня известно, в чем они заключаются: ни табака, ни алкоголя, ни женщин… В этом-то хоть отношении умерен?
— Как монах… Вернее, скажу так: не более, чем другие, просто у меня нет времени бегать за юбками. Особенно с тех пор, как работаю с Майяром. Он вытягивает из меня все соки. С ним никогда не соскучишься.
Пока доктор снимал халат, он вынул трубку и кисет.
— Можно?
— Ты неисправим, — ответил его приятель. — Ладно. Разрешаю. Но только две до обеда. И потом ни одной до ужина. Кстати, о Майяре, я никак не могу взять в толк, какого черта ты попал к нему в лапы.
— Очень просто. Захотелось заработать денег. У меня был небольшой капитал, а его проект поначалу казался вполне разумным.
— А если он свернет шею?
— Рискую все потерять. Теперь ты понимаешь, почему мне не очень-то по себе.
Доктор выписывал рецепт, становившийся все более длинным.
— Зайди к Бекару, — проговорил он. — Электрокардиограмма никогда не помешает. А потом, старина, расслабься на две-три недели. Здесь не оставайся. Жара тебе ни к чему. И развейся. От того, что ты терзаешь себя, Майяр не вернется. Ну? Договорились? А теперь извини. Надо бежать. Уже и так опаздываю.
— Много больных?
— Нет. Но клиенты из гостиниц просто невыносимы. Врача вызывают, как посыльного. Хорошо хоть, что все поздно встают.
Они вышли вместе, и Аллио сел на скамейку перед заливом Фурми. Выбил о каблук трубку, хотел было машинально набить ее снова, но вспомнил советы Мишеля. День простирался перед ним, прямой, как пустая улица между глухими стенами.
Блеш, сидя за рулем своей машины, рассеянно слушал радио. Он следил за окнами квартиры. Мерзкая работа! Жерсен платил щедро, но никогда не был доволен. Сведений всегда было недостаточно. Чтобы постоянно идти по пятам его жены, быть всегда рядом, надо превратиться в человека-невидимку. Чем она сейчас занимается? В дом никто не входил, но ведь есть телефон. Нежные чувства можно выражать и по телефону. А если у мадам Жерсен нет любовника, если ей захочется просидеть весь день дома, ему придется торчать здесь до самой ночи. В машине, где уже сейчас хуже, чем в печке.
Блеш ощупал бумагу, в которую завернул бутерброды. Она была жирной и теплой. Чудная это болезнь — ревность. Человек отравляет жизнь себе и окружающим. И все ради чего. Он прислушался и прибавил звук. «…Мы только что получили сообщение из Довиля. Там рано утром произошел взрыв на вилле Поля Жерсена, главного редактора „Консьянс“. Причинен значительный ущерб. Бомбу подложил молодой человек лет двадцати, получивший при взрыве ранения. Ему ампутировали правую руку, но жизнь его вне опасности…» Это конечно же должно было случиться. Хотелось хоть немного свежего воздуха, и Блеш, приоткрыв дверцу, вытянул ногу наружу. На политику ему наплевать. Но Жерсена он в душе любил. Зануда, но щедрый. Способен оценить оказанные услуги. Не его вина, что он всегда как заживо ободранный. Несчастный тип. С виду вспыльчивый, но на деле не из тех, кто рвется в драку, настоящую, оставляющую раны. С пером в руке он, конечно, бросается вперед не глядя. Но в реальной схватке, мужчина против мужчины, он не многого бы стоил. Блеш скорее гордился своей ролью телохранителя. Но теперь вещи принимали дурной оборот. Однажды Жерсен окончательно себя погубит. И не поможет ему дурацкая пушка, которую он держит в машине, в отделении для перчаток. Он даже не сможет ею воспользоваться. Вместо того чтобы следить за этой несчастной женщиной, лучше было бы охранять его самого.
В дверях подъезда появился силуэт. Это она. Боже, хозяин оказался прав. Чертовски элегантна, изящна, хорошо сложена, привлекательна. С чемоданом в руке она конечно же отправляется не к матери. Блеш включил стартер. Остановившись на краю тротуара, она осматривала авеню Ош. Такси, разумеется, не видно. Неужели бедняжка рассчитывает поймать его в такой день? Она пошла в сторону предместья Сент-Оноре, то и дело оборачиваясь, а Блеш на приличном расстоянии двинулся вслед на первой скорости. Куда-то собралась. Может, к мужу в Довиль? Нет. В таком случае Жерсен его бы не вызвал…
Она подошла к стоянке, о чудо — рядом остановилось такси. Блеш приблизился. Следить за машиной нетрудно, а вот стоять у вокзала — не подарочек. Полицейские не позволят.
Предместье, улица Сент-Оноре… Набережная… Сомнений нет. Лионский или Аустерлицкий вокзал.
Площадь Маза… Бульвар Дидро…
Понятно! Лионский вокзал. Блеш обогнал такси. Если повезет, может, удастся припарковать машину не очень далеко. Хозяин рассчитывал на него. А Блеш был из породы тех, кто лучше убьет себя, чем не оправдает доверия.
Флоранс никогда не доводилось видеть то, что газеты называют «массовым отъездом». Она чуть не повернула назад. Зрелище напоминало всеобщую мобилизацию и демонстрацию. Глаза помимо воли искали людей в форме и плакаты. Это была толпа в чистом виде — человеческая материя, медленно текущая, как тесто, неся в себе детей, стариков, багаж. Перемещение массы людей сопровождалось неимоверным шумом, устойчивым, как голос моря. Людской поток донес Флоранс до кассы. Теперь она ненавидела Жерсена всеми фибрами души, как будто это он был виновником толкучки, в которую она попала. Она поклялась себе уехать во что бы то ни стало. Раз он принудил ее к этому испытанию, она через него пройдет. Флоранс встала в очередь, не без труда достала из сумочки сигарету. Стоявший рядом толстяк в шортах предложил ей огня и посмотрел на нее с тем интересом, который, она любила ловить на лицах и от которого всегда испытывала острое чувство собственной силы. Наконец получила билет. Теперь надо заказать комнату. До отхода «Мистраля» у нее оставалось больше часа. В зале, напоминавшем громадный шлюз, помимо основного течения, вскипали второстепенные потоки, водовороты и отливы, которыми можно воспользоваться. Она сориентировалась и без особого труда добралась до почтового отделения. Там тоже было много народу, но она подготовила себя к худшему. В телефонных кабинах двигались фигуры. Из приоткрытых из-за жары дверей порой доносились казавшиеся странными обрывки фраз… «Похороны завтра…», «Он посадил Мусташа в конуру», «Жди нас. Целую». Чтобы быть услышанной телеграфисткой, ей пришлось кричать:
— Номер 88-52-32 в Ницце.
— Подождите десять минут.
Она отошла в сторону и через плечо пожилого мужчины прочитала крупный заголовок в газете: «Операция „Примула“ началась. Уже отмечены многочисленные несчастные случаи». Ее охватило нетерпение. Она чувствовала себя муравьем в муравейнике, торопилась вновь слиться с массой и укрыться в поезде. «В гостинице нельзя оставлять свое имя и адрес… Как же назваться? Дюпон?.. Дюран?.. Глупо!» Вдруг ей припомнилось название городка, через который она когда-то проезжала в Бретани: Энбон… Вот! То, что надо! Мадам Энбон. Она подкрасилась, довольная почти что уже совершившимся перерождением.
Вон она, подкрашивается. Он видел, как она покупает билет, потом потерял из виду, наконец снова обнаружил. Блеш вытер лоб. Если бы упустил, какая его ждала разборка с Жерсеном! Слежка в таких условиях — просто мучение. Подошел ближе. Служащая прокричала: «88-52-32 в Ницце. Вторая кабина». Мадам Жерсен уже пробиралась к ней. Блеш доверял своей памяти и про себя повторил номер. Понятно! Значит, она собралась в Ниццу. Это становится серьезным. Поехать с ней нельзя. Он сделал вид, что ищет свободную кабину, и остановился возле соседней будки. К счастью, говорила она громко.
— Да, хорошо!.. С ванной… Беру… Мадам Энбон… О! Не раньше одиннадцати вечера… Спасибо…
Его затолкали и слегка оттеснили от кабин. Она вышла с чуть раскрасневшимся лицом, инстинктивным жестом неосознанного кокетства быстро провела пальцами по волосам, порылась в сумочке в поисках мелочи. Ее отделяли от него несколько человек. Он догадался, что, расплачиваясь, она заказывает еще один номер. Чтобы не слишком от нее удаляться, он сделал вид, что ищет кого-то в справочнике. Она явно нервничала, постоянно посматривала на часы. В своем светлом костюме она действительно смотрелась прекрасно и умела держаться с немного наигранным изяществом, опираясь то на одну ногу, то на другую, как будто ей нравилось стоять. Взгляд ее на секунду задержался на нем, и он срочно погрузился в изучение справочника. Она его не знала, но он опасался ее проницательных глаз, блеск которых подчеркивался макияжем. Классная баба у Жерсена. Но рассчитывать на выигрыш ему не приходится.
— Кто заказывал Болье? — крикнула телефонистка.
Флоранс подняла руку в перчатке и попыталась подойти поближе.
— Номер 01-06-11 не отвечает. Заказ аннулировать?
«Парень живет в Болье, — подумал Блеш. — 01-06-11. Запомним».
Он ожидал, что она уйдет. Флоранс же, напротив, подошла прямо к нему и взяла бланк телеграммы. Он ощущал запах ее духов, а она, согнув ладошку, жестом школьницы, оберегающей свою работу от посторонних глаз, прикрывала то, что пишет. При этом не колебалась ни секунды. Вероятно, обдумывала текст, пока ждала. «Пусть шеф меня обругает, — сказал себе Блеш, — но я не могу читать через плечо его жены».
Она направилась к одному из окошек. Блеш ретировался к двери и, когда она вышла, последовал за ней. Их скрыла толпа.
Флоранс повторял про себя текст телеграммы: «Самолетом невозможно. Встречай „Мистраль“. Фло». Она не знала времени прибытия, но он это выяснит, и они встретятся на вокзале. Так будет лучше. Меньше неловкости от встречи после столь долгого расставания… Если, конечно, встреча состоится. Если Рене все еще живет в Болье. Если захочет ее увидеть… Она подписалась «Фло», чтобы он почувствовал, что она едет к нему с доверием, а может быть, и с нежностью. Если же он уклонится, черт возьми, тем хуже. Она, конечно, будет сожалеть. А если встретит, надо будет сразу же внести полную ясность. Речь идет не о том, чтобы возобновить отжившую связь. А о чем, в сущности, идет речь? Она сама не очень себе это представляет. Ей хотелось просто отдыха, смены впечатлений, забытья, и было бы приятно пройтись с другом, почувствовать себя в безопасности рядом с внимательным мужчиной. Обращающимся к тебе с лаской. А если рядом никого не будет, что ж, одиночество ее не пугало. Она достаточно любила себя сама, чтобы без страха встретить часы безделья, которые рассчитывала провести в свое удовольствие. Она будет лежать на пляже среди наслаждающихся жизнью людей. Не будет никакой политики, газеты, речей, ссор.
Вагоны до Ниццы были в поезде головными. Ей уже доставляло удовольствие идти вдоль сверкающих чистотой вагонов, видеть в вагоне-ресторане белые куртки официантов, вдыхать запах кухни и горячего очага. Она вошла в первый вагон и без стеснения заняла место. Посмотрим! Ведь хорошо известно, что не все заказанные места бывают заняты. Но даже если ей придется ехать стоя, пусть. Она исполнилась решимости выдержать все. До свадьбы, когда в конце месяца концы с концами сводились туго, бывало и не такое. Час десять. Еще есть время купить газеты. Она вышла на платформу и натолкнулась на толстяка, вытирающего пот со лба, с пиджаком, перекинутым через руку.
Блеш удостоверился, что ее чемодан уложен в сетку и что она действительно уезжает. Оставалось самое неприятное: предупредить Жерсена.
— Разумеется, — сказал подрядчик. — Я всем займусь. Смету пришлю через два-три дня. Обещаю, вилла будет как новая. К счастью, погода стоит хорошая. В этом отношении можно не беспокоиться.
— Много времени все это займет?
— Видите ли, мастера сейчас в отпуске. Быстро не получится. Рассчитывайте на два месяца.
— Я иду с вами, — сказал Жерсен. — Забыл бумаги в машине.
Они вышли через пролом и остановились, чтобы еще раз оценить размах разрушений.
— Шайка негодяев, — проворчал подрядчик. — Кстати, господин Жерсен, вы обедали?
— Нет. Но я, поверьте, не очень проголодался. Немного поработаю, пока не вернется комиссар. Есть еще кое-какие формальности…
— Обычная волокита! До свидания, господин Жерсен. Все будет в порядке, увидите.
Он распростился, пожал по пути руку полицейскому и сел в свой «пежо».
«Мне он руки не пожал, — с горечью подумал Жерсен. — Для них всех я раздуваю бурю. Не хотят понять, что я их защищаю. А взрыва они не прощают как раз мне».
Он взял из «вольво» привезенное досье и вернулся в кабинет. В папке были вырезки из газет, письма читателей и предложения ответственного секретаря редакции Лосуарна о проведении журналистских расследований. Ничего особенно важного: записки о заводе, отравляющем реку, о генеральном советнике, обвиняемом в подлоге, о подозрительном деле с недвижимостью возле Канн… Пустячные дела… Жерсен принялся подчеркивать красным карандашом фразы, отдельные слова. Раздался телефонный звонок. Жерсен так резко протянул руку, что чуть не опрокинул аппарат.
— Алло… А! Это уже вы! Что нового?
Лицо его окаменело, как под действием анестезии. Пальцы левой руки постукивали по разбросанным листкам, а сам он время от времени повторял: «Так… так…»
— Алло! Знаете, в каком часу прибывает «Мистраль»?.. В двадцать два двадцать пять… У меня еще есть время… дайте подумать.
Но решение уже было принято. И исходило оно из более потаенных глубин, чем его разум.
— Блеш… Да… Выясните, что это за номера… С гостиницей будет легко… С Болье тоже как-нибудь выкрутитесь. Полагаюсь на вас. Сам я возвращаюсь в Париж… Сейчас начало второго… на дороге, конечно, пробки, но надеюсь, что буду дома к половине четвертого… Приезжайте ко мне… Допустим, уеду я спустя час, до Ниццы доберусь к утру… Что?.. Ни в коем случае! В этом деле мне никто не нужен… До скорого!
Жерсен повесил трубку, медленно, как человек, борющийся с надвигающимся опьянением, провел руками по щеке. Значит, это правда. Впрочем, интуиция его никогда не подводила… Ницца? Почему Ницца?.. Ее приятелями были парижане. Да, но парижане как раз сейчас все уезжают. Кто он? Господи, кто же?.. Нельзя терять ни минуты. Встреча в Лондоне… комиссар и его протокол… Лосуарн и его записи… все это может подождать. Он уложил бумаги в папку и бросился к машине.
Аллио, как обычно, обедал возле вокзала. Он позволил себе выкурить трубку. Рассеянно подумал о рекомендациях Мишеля. Взять отпуск? Зачем? Если Майяр не подает признаков жизни, бесполезно строить иллюзии: это крах. А может, и судебные преследования. Конечно, следовало следить за делами, а он проявлял небрежность, был слишком легкомысленным и доверчивым. Но не его вина, что он ничего не понимает в делах, что цифры вызывают у него отвращение. Вплоть до того, что приходится считать на пальцах, когда надо произвести более или менее сложное вычисление. Он становился самим собой только с кистью или карандашом в руке… Живопись! С тех пор, как он занялся ею, жизнь изменилась. Он продавал полотна. Его подпись приобрела известность. Все начинается так просто: однажды забавы ради мазками, линиями запечатлеваешь видение, мечту, все складывается само собой, ты только водишь рукой. За ней следует сердце. Приходит радость. А торговец полотнами говорит: «В этом что-то есть. У вас нет других картин?» Все начинаешь снова. И чудо повторяется. Окончив школу изящных искусств, человек думает, что просто приобрел кое-какие навыки, а оказывается, у него талант, исключительный талант, который таинственным образом год за годом подпитывается воспоминаниями, мечтами, горестями, всем, что есть в жизни. Но чтобы заниматься живописью, требуется время. А чтобы выкроить это время, человек начинает думать, куда вложить деньги, как обеспечить себе большие доходы. На Лазурном берегу ежедневно совершаются интересные сделки. Один друг знакомит тебя с другим, доходишь до Майяра. Ставишь свою подпись. И вот…
— Что-то не так, господин Аллио?
Аллио улыбнулся официантке.
— Извините, — сказал он, — не буду мешать вам работать. Ухожу.
Он вышел из ресторана, посмотрел на вокзальные часы: два часа… Ему ничего не хотелось: ни ходить, ни спать, и, главное, не хотелось рисовать. С живописью покончено. Придется начать работать, много работать. Аллио спустился к порту. Он и вправду устал. Рецепт Мишеля?.. Потом. Это не к спеху. И вообще, стоит ли лечиться?
Движение на улице было интенсивным. Он шел по краю узкого тротуара. Машины чуть не задевали его. Они стекались из Италии, Ментоны, Монте-Карло. Надо же, если бы не Майяр, он мог бы уехать отсюда, купить в стороне от дорог какой-нибудь старый домишко, окруженный оливковыми деревьями, и зажить по старинке, почти по-крестьянски, а не терпеть эту сутолоку. Аллио вошел в подъезд своего дома и на почтовом ящике увидел приклеенную наискосок бумажку: «Срочная телеграмма». Майяр! Проявился Майяр! Дрожащими руками он поискал ключ, открыл ящик. Телеграмма. Разорвал ее, поспешно прочитал, ничего не понимая:
«Необходимо встретиться, прилетаю 18 часов. Целую. Флоранс».
Флоранс?.. Ах да, Флоранс! Он направился к лифту, перечитывая телеграмму. Сам еще не понимая, счастлив он или разочарован. Она распоряжается им со своей обычной бесцеремонностью. «Ей вздумалось приехать, — подумал он, — и я должен быть на месте. А если я уехал? Если у меня нет желания встречаться с ней!..» Но в нем уже разгоралось нетерпение, все сильнее и сильнее… Лифт еле поднимался. Флоранс! Воспоминания о ней давно перестали причинять ему боль. Теперь же они вернулись к нему нетронутыми, не потеряв яркости и мучительной остроты. Глупо, как разволновалось сердце! Он вышел из лифта, приложив руку к груди, но боль была от радости. Флоранс! Как ты могла?.. Но сейчас не время для рассуждений. Сначала надо сообщить ей, что он ее ждет, что она будет дорогим гостем. Он подбежал к телефону, набрал номер почты и продиктовал телеграмму:
«Жду нетерпением. Безмерно счастлив. Рене».
Потом выпил стакан воды, набил трубку, сел и сразу же встал. Он не мог оставаться на месте. Сколько же времени до прилета самолета?.. Ждать еще четыре часа. Умереть можно за эти четыре часа. Ах, Флоранс! Как глупо! Забыл, что люблю тебя. Уже начал превращаться в маленького старикашку, в маленький мумифицированный сгусток привычек и установленного порядка. И вот ты приезжаешь! К черту Майяра! Во-первых, он вернется, Майяр. Кто мне сказал, что он убежал?.. Ну а если и убежал, начну все сначала. При условии, что ты останешься. Конечно, я все понимаю. Знаю, что ты замужем. Но можно же иногда встречаться, то здесь, то там. Как друзья, если хочешь. Фло! Помнишь, тебе нравилось, когда я называл тебя Фло?
Он открыл книжный шкаф, порылся в бумагах, сваленных на нижней полке. Фотографии лежали в конверте. Пять снимков, сделанных уличными фотографами на Променад дез англе. Какая она на них молодая, как нежно прижимается к нему! Из-за ветра волосы у обоих спадают на лицо. Значит, это все-таки было! Боже мой!.. Тогда он не понимал, что это были самые насыщенные, самые драгоценные дни жизни. Неделя за вечность!
К горлу подступил комок, и он подумал, стоит ли им обоим еще раз встречаться. Убрал фотографии, посмотрел в зеркало ванной, решил, что надо подстричься. Время еще есть. И сбрить баки, которых он раньше не носил. Было бы хорошо стать таким, как прежде, избавиться от морщин и забыть обиды. Ну а какая она? Узнает ли он ее? От этой мысли ему стало смешно. Шесть лет — разве срок? Что ему надеть? Открыл платяной шкаф. Серые брюки и чуть более светлый джемпер. Ботинки тоже серые. Полутраур какой-то! Это ее позабавит. Она чувствует нюансы, оттеняющие юмор и нежность. Аллио быстро оделся. Он уже был как бы с ней. В тот момент, когда он в последний раз критическим взглядом осматривал свое отражение, раздался звонок. Ну нет, не надо визитов! Только не сейчас! Приоткрыл дверь и увидел тощего парня, на голове у которого красовалась немыслимая фуражка с помпоном, а на животе висело нечто похожее на сумку для патронов.
— Господин Аллио?
— Да.
— Телеграмма.
От нее. Сообщает, что задерживается в Париже. Он развернул телеграмму и вновь обрел дыхание.
«Самолетом невозможно. Встречай „Мистраль“. Фло».
В этом она вся. Решила лететь самолетом, не узнав, есть ли места. Он приподнял манжету рукава. Два с четвертью. Она уже возле Жуаньи. Теперь мысленно он будет следить за ней по всему маршруту, хорошо ему известному. Никуда ей больше не деться. Быстро прикинул в уме. Жаль! Телеграмму его она не получила. Не знает, что он будет там, в первых рядах встречающих, родственников, друзей. А он — больше чем родственник или друг, он — человек, которого она отметила, как хозяин, ставящий клеймо на принадлежащую ему скотину. А если они проведут вместе ночь? Почему бы нет!..
Размечтался! Он сел, набил трубку и начал спокойно анализировать эту гипотезу. Перечитал обе телеграммы, пытаясь за обычными словами увидеть скрытые в них намерения и надеясь найти там хоть намек на обещание. Зря он горячится. Она проезжает через Ниццу и просто хочет по-дружески повидаться с ним. И все же! Лучше быть готовым ко всему.
С чувством некоторого смущения он уложил в «дипломат» пижаму и зубную щетку. В машине «дипломат» в глаза не бросается, он обычно ассоциируется с делами по работе. Теперь оставалось выдержать долгое ожидание. Лучше всего отправиться сразу же. Вдруг случится какая-нибудь поломка или он попадет в пробку и опоздает к поезду. Мысль была нелепой, но от внезапной тревоги перехватило дыхание. Он запер квартиру и спустился на стоянку. Машина была довольно грязной. Ничего, вымоет в Ницце. Запустил двигатель, подумал о «Мистрале», который через всю страну нес к нему Флоранс, прижался лбом к рулю. Почему счастье причиняет такую боль?
В комнате было накурено. Жорж и Влади опустошили целую пачку «Голуаз». Жоэль жевал резинку.
— Мы несколько связаны временем, — объяснил Влади. — Понимаете, что я хочу сказать? Если протянем, психологический эффект будет не тот! Подумают, что мы колебались…
— И главное, — перебил его Жорж, — Жерсен будет начеку.
— Не говоря о том, — продолжал Влади, — что его так или иначе будут охранять. Поэтому надо действовать быстрее, но со всеми предосторожностями.
Жоэль молчал. Время от времени он прекращал жевать резинку и проводил пальцами по усам, как актер, желающий убедиться, что грим у него держится хорошо. Он гордился своими усами, спускающимися к подбородку, и каждое утро тщательно подправлял их бритвой.
— В идеале, — продолжал Влади, — было бы хорошо похитить его прямо сейчас… тепленького… Но поймите! Сейчас — это не значит сегодня или даже завтра… Надо сначала понаблюдать за ним, проследить за его передвижениями… Вы согласны?.. Жоэль?
— Я бы напал сразу, — ответил Жоэль. — Явился бы к этому типу домой. Пистолет к животу. Выходи, малыш. Он бы и глазом не моргнул.
— А если он будет защищаться?.. Надо соблюдать осторожность, ни в коем случае не причинять ему вреда. Это отразится на Клоде. И он будет за нас расплачиваться… Поэтому повторяю: никакого насилия над Жерсеном. Похитим его и поставим условие: отпустите Клода, и мы вернем Жерсена.
— А если не выгорит? — спросил Жорж.
— Выгорит. Когда есть заложник, всегда получается. Клод для них — простой хулиган. Он больше не опасен. Вы ведь тоже слышали радио… У него нет руки, и он списан со счетов. Не будут же они рисковать жизнью Жерсена ради того, чтобы засадить Клода.
— А что думает Морей? — поинтересовался Жорж.
Влади ответил не сразу. Снял очки, поднял их к свету от окна и протер левое стекло. Усталыми, покрасневшими глазами посмотрел на Жоржа, который всегда всем противоречил, причем не на основании каких-то аргументов или объективных фактов, а просто по настроению, как ребенок, который иначе не может спорить со взрослыми.
— Морея нет, — ответил он. — Уехал в Ренн на демонстрацию.
— Думаешь, он был бы за?
— Нет, он против силовых действий, я знаю это не хуже тебя. Но речь идет не о Морее. Речь идет о Клоде и Жерсене, так или не так?
— Клод знал, что рискует.
— Неправда. В принципе риска не было. Еще раз спрашиваю: согласны ли вы похитить Жерсена?
— Я за, — ответил Жоэль.
— Я тоже, — сказал Жорж, — но видишь ли, меня учили избегать импровизаций.
«Мальчишка, — подумал Влади. — Книжки и теории… Левин и Морено… Хочет прочитать мне лекцию. У него-то рука цела».
— Мы как раз и собрались для того, — вслух проговорил он, — чтобы избежать импровизации, во всяком случае в определенной мере, ведь вам наверняка придется принимать решения самим без подготовки, прямо на месте…
— Проблема не в этом, — прервал его Жорж. — Вопрос вот в чем: что произойдет потом?.. Ты утверждаешь, что все пройдет гладко. А если они не уступят? Если не выйдет?.. Вот почему мне хотелось бы знать мнение Морея.
— Если не выйдет, — сказал Влади, — тем хуже. Тогда я сам пришью Жерсена.
Установилась тишина. Жоэль приоткрыл губы, надул из жвачки шар, который лопнул, издав довольно-таки неприятный звук.
Жорж закурил сигарету. Сжатые губы выдавали, что он чувствует себя припертым к стене и что ему это не нравится. Он встал и подошел к окну. В потертых джинсах, рубашке в разводах и с юношеской бородкой ему не удавалось придать себе угрожающий вид. Он обернулся.
— Ладно. Что ты предлагаешь?
— Прежде всего нужна машина.
— Уведу машину своего предка, — сказал Жорж. — Она всю неделю стоит на приколе. Для разъездов он берет «даф».
— Какая марка? — спросил Жоэль.
— «Пежо-504».
— Затем, — продолжал Влади, — вам надо разведать место действия. Это просто. Жерсен сейчас наверняка в Довиле. В общем, вы место знаете: засеките вход, посмотрите, что там за консьерж, есть ли кто в квартире, что сейчас маловероятно. Осмотритесь, где можно спрятаться… А потом за дело. Думаю, лучше всего действовать так, как предлагал Жоэль. Взять его неожиданно, скажем, когда он ждет лифта. Кто-нибудь из вас накинет на руку плащ и спрячет под ним пистолет. Вдвоем вы доведете его до машины.
Он умолк, выдвинул ящик стола и вынул пистолет с глушителем. Жоэль протянул руку, взял оружие и осмотрел его блестящими от вожделения глазами. Вынул обойму, резким щелчком вставил ее на место, восхищенно взвесил пистолет на руке.
— Что надо! — сказал он и благоговейно положил его перед Влади.
— А вот наручники, — продолжал Влади. — Наденьте их на него в машине. Отвезете его в Обервиль, — бросил на стол ключ, — и посадите на чердак над гаражом. Дальше им займется Пьеро. Там есть веревки, клейкая лента, словом, все, чтобы он не мог двигаться и шуметь, если ему вдруг захочется валять дурака. Но еще раз подчеркиваю: никакого насилия.
Жорж медленно вернулся в центр комнаты.
— Допустим, — проговорил он, — все пойдет, как задумано. Клод на свободе. Мы отпускаем Жерсена. Но он сразу же даст наши приметы легавым.
— Какие приметы? Таких, как вы, десятки тысяч. Это все равно что найти двух солдат в армии. Если Жерсен попытается обрисовать твой портрет, что он скажет?.. Молодой человек, лет двадцати, с бородкой. Шатен. Довольно высокий. Довольно худой. Больше ничего. И потом, смотри! Жерсен на свободе. Вы что думаете, полиция перевернет все вверх дном, чтобы вас найти?.. Конечно, для вида они что-то будут делать, но фактически спустят дело на тормозах. Вернувшись на свободу, Жерсен будет конченым человеком. Над ним все будут смеяться. Нет, поверьте, я анализирую это дело с самого утра, сорваться не должно. Могу даже сказать вам, что долго в Довиле он не останется. Газета выходит через три дня. Вернется домой самое позднее завтра вечером.
— Нам могут понадобиться бабки, — сказал Жоэль. — На жратву, пока мы прячемся.
— У меня есть, — заверил Жорж.
— Держите меня в курсе, — подвел итог Влади.
— А если не получится взять его дома? — снова начал Жорж.
— Проследите за ним. Надо знать, что у него на уме. По нашим сведениям, передвигается он мало: квартира на авеню Ош, редакция и типография на улице Монмартр — вот, пожалуй, и все… Ну а теперь, если вы не уверены в себе, скажите об этом сейчас. Я пойму.
Оба парня молчали. Ни на секунду им в голову не пришла мысль уклониться. Но они чувствовали себя, как парашютисты во время первого прыжка перед открытым в пустоту люком. Жоэль засунул за пояс пистолет, положил в карман наручники.
— Пошли!
Фигуру Блеша Жерсен узнал издалека. Он дружески посигналил, проезжая мимо, помахал рукой и въехал в ворота. Свой «вольво» он оставил посреди двора. Бессмысленно припарковывать машину, раз собираешься снова уезжать. Блеш подошел к нему. Они обменялись рукопожатиями и направились к входу.
— Сведения получили? — спросил Жерсен.
— Да… Гостиница «Бристоль» в Ницце на Променад… Второй номер принадлежит некоему Рене Аллио в Болье, улица генерала Леклерка, дом 6-а… Вы его знаете?
Жерсен остановился, ухватил за руку Блеша, как будто ему стало плохо. Аллио! Конечно, он его знал! Имя всплыло в памяти, как сгусток желчи. Флоранс раньше упоминала о нем, как бы вскользь. Это и доказывает, что Аллио был самым опасным среди всех.
— Да, знаю. Как она выглядела? Нервной… возбужденной?
— Знаете, шеф, на вокзале столько народа. Мне едва удалось не потерять ее из вида.
— Как она одета?
— В светлый костюм.
— А чемодан?
— Маленький чемоданчик. Как для поездок на пару дней.
На почтовом ящике Жерсен заметил приклеенную бумажку: «Срочная телеграмма». Поискал ключи.
— Она прощается со мной, — прошептал он. — Очень мило!
Вынул телеграмму и протянул ее Блешу.
— Откройте… А то я боюсь порвать… Ну, читайте… Чего вы ждете?
— «Жду нетерпением. Безмерно счастлив. Рене».
— Все ясно, — сказал Жерсен. — Вы свидетель. Она назначила этому Рене Аллио свидание, и по его тону характер их отношений легко понять.
Он вызвал лифт и втолкнул Блеша в кабинку.
— Мы это дело уладим, — продолжал он.
— Шеф, — робко пробормотал Блеш, — не делайте глупостей.
— Ничего не бойся. Я просто хочу застать ее врасплох.
Когда Жерсен впадал в гнев, он называл Блеша на «ты», и бывший кетчист таял. Лифт остановился. Блеш профессиональным взглядом осмотрел коридор. Жерсен резким движением открыл дверь.
— Шлюха, — процедил он.
Блеш с несчастным видом осторожно закрыл дверь.
— Если хотите, шеф, я поеду с вами. Тысяча километров ночью, вы совершенно вымотаетесь.
— Ты меня очень обяжешь, старина, если вернешься домой. Не хочу, чтобы ты впутывался в это дело. От тебя больше ничего не требуется. Отправляйся на рыбалку. Понял?
— Но…
— Не спорь. Что бы ни случилось, слышишь, что бы ни случилось, ты ни при чем. Ясно?
— Шеф! Мне не нравится, когда вы так говорите.
— Иди на кухню и приготовь нам чего-нибудь покрепче, пока я переодеваюсь.
Блеш бывал в квартире и раньше. Стаканы, лед и виски он нашел без труда и налил довольно приличную дозу. Ему было не по себе, он чувствовал, что эта поездка кончится плохо. Просто дурное предчувствие. А ведь он был не из тех людей, которые поддаются подобным настроениям. Он отпил немного виски, поискал поднос.
— Иди-ка посмотри, — крикнул Жерсен.
— Сейчас, сейчас.
Он бросился на зов. Кусочки льда по пути весело перестукивались.
— Вот! Посмотри, что она оставила.
Он медленно прочитал:
— «Уезжаю. Ты сможешь прекрасно обойтись без меня. Не вздумай меня искать. Я тебе этого не прощу».
— Невероятно! — промолвил Блеш.
— Не очень-то умно. Имея эту записку и телеграмму, я добьюсь такого развода, какого захочу.
Он убрал листочки в бумажник и задумчиво добавил:
— Но разводиться я не буду… Во всяком случае пока. Сначала займусь этим прохвостом.
Он взял стакан, поднял его, чокнувшись с Блешем.
— За любовь… Садись… Сигареты перед тобой.
Прошел в спальню, переоделся в твидовый костюм. Было без малого четыре. Не имеет смысла появляться там слишком рано. Вернулся в кабинет.
— Гостиница «Бристоль»… ты ее знаешь?
— Шеф, когда я бываю на Лазурном берегу, во дворцах не останавливаюсь.
Жерсен поискал в справочниках.
— Вот… Гостиница «Бристоль»… Три звездочки… Есть гараж… Представляешь их физиономии завтра утром, когда они меня увидят… Застану их в постели с завтраком на подносе… И не забывай, жена думает, что я в Лондоне… Просто сцена из водевиля!
— Шеф, я волнуюсь за вас.
Жерсен осушил стакан.
— В путь! А ты сиди тихо… Это мое дело. Прошу тебя только позвонить в редакцию. Пусть не волнуются. Вернусь через два дня. Если тебя будут спрашивать, ты ничего не знаешь. Ты меня даже не видел. Просто передаешь поручение.
— Хорошо.
Они вышли, и Жерсен тщательно запер дверь на ключ. Лифт все еще стоял на этаже. Они спустились вниз.
— Подкрепитесь в пути, — посоветовал Блеш. — И не гоните. При таком движении.
Он еще раз пожал Жерсену руку и посмотрел, как тот разворачивается.
— Подождите, шеф… Выгляну на улицу.
Убедившись, что можно выехать беспрепятственно, он поднял руку и крикнул: «Счастливого пути!» «Вольво» повернул на улицу и сразу же скрылся за следовавшим за ним «пежо».
«Как глупо, — подумал Блеш, — честное слово, я взволнован!»
Флоранс заняла свободное место, удобно расположившись в углу у окна, и предалась размышлениям, глядя на проносившиеся мимо залитые солнцем поля. Кондиционер был включен на полную мощность, и временами ей становилось даже холодно. Но она чувствовала себя удивительно свободной. Впереди — часы неизвестности, как фишки перед игроком. Муж в Лондоне. Никто не знает, где она. На целый день она оставалась хозяйкой своей жизни. Полностью. Если захочется, можно вернуться в Париж. Можно остаться в Ницце и начать борьбу, окончательно порвать и начать работать… А почему бы и нет?.. Ей помогут уйти от Жерсена. Сколько друзей говорили ей: «Как вы можете жить с ним?» Возможно, полагали, что она любит деньги и готова вынести любое унижение, лишь бы не потерять свои удобства. Но это не так. Совсем не так. Она всегда довольно наивно рассматривала этот брак как нечто вроде одержанной победы. Девушки вокруг нее были постоянно заняты поисками мужа — ведь у манекенщицы, как у велогонщика, чтобы обеспечить себя, в запасе всего несколько лет. Но в то же время она всегда сожалела… О! Это трудно объяснить!.. Не о безжалостной публике, рассматривавшей ее, когда она представляла какую-то коллекцию, не о фотографах, исполнявших вокруг нее немыслимый танец, не о поездках из одного роскошного зоопарка в другой… не о платьях, не о драгоценностях, которые надевали на нее не глядя… а о том, что было под всем этим, она была узница, неизвестная самой себе, рассматривавшая как бы через слуховое окно, исподтишка, подлинные картинки мира.
«Теперь я принадлежу себе, — подумала она. — Если захочу, зайду в бар или завяжу разговор с кем угодно… могу сойти в Лионе, Авиньоне по своему усмотрению… Если доеду до Ниццы, никто не будет меня принуждать, и если Рене вдруг меня ждет, я не буду от него зависеть. Наконец-то я сделала первый шаг».
Поезд вошел в туннель, закрывший дневной свет. В стекле она увидела свое отражение, и оно ей понравилось. Экспресс начал сбавлять скорость. Проводница на французском и английском языках сообщила, что поезд прибывает в Дижон, а затем из громкоговорителя полилась приятная музыка, как будто шептавшая на ухо, что все в жизни легко, что надо предаться сладострастию мягкого скольжения проносящегося за окном пейзажа.
Дижон исчез за переплетением железнодорожных пейзажей. Она вернулась к своим неспешным мыслям. Прислушалась к себе. Она была одновременно психоаналитиком и пациентом. Разговаривала с собой свободно, с откровенностью, не причинявшей больше боли. Любовь? Это для других. Она ее никогда до конца не понимала. Ей припоминались склоненные над ней лица, которые постепенно, по мере того как наступало удовлетворение, замыкались в бесчеловечном одиночестве. Слепцы! Лунатики! Больше всех мучился, наверное, ее муж. Нет, она не бесчувственна. Ей нравилось ощущать на себе эти руки. Но если бы это оставалось только игрой, а не превращалось в какую-то отчаянную схватку. Возвратившись к жизни, на нее смотрели в растерянности, с затаенной обидой, как будто она виновата в том, что они раскрылись перед ней помимо воли. Без такой любви она вполне обойдется. Она спокойно призналась себе: ей нужен партнер, но не постоянный, не обязательно один и тот же, который бы непременно находился рядом с ней, занимался бы любовью только на словах, водил бы ее в маленькие ресторанчики, брал бы ее руку в свою, танцевал бы с ней, прикрыв глаза, говорил бы ей: «Фло, люблю тебя», а когда ей надоест роман и она проснется, они бы мило расставались, с легким стеснением в груди. Нежность выражается именно в этом. Моя бедная Флоранс! Перестань!..
Пробегали щиты с названиями лучших марок бургундского. Приближались окрестности Макона. Она рассеянно листала женский журнал, рассматривала корсеты, лифчики, прочитала гороскоп своего знака Рыбы… «Следует проявлять терпение со своим окружением». А знак Рене? Он вроде бы Рак?.. «С начала лунного месяца Марс неудачно расположен по отношению к Венере, рожденным под этим знаком не следует поддаваться эмоциям…» Не доезжая Шалона-на-Соне, она заснула.
«Вольво» ехал не очень быстро. Они пристроились прямо за ним. В этой массе машин, двигавшихся на юг, они никак не могли привлечь внимание Жерсена. Кроме того, «Пежо-504» — неприметный автомобиль. Жерсен им был хорошо виден, а при торможении в зеркале заднего вида они могли разглядеть даже часть его лица. Их взгляды скользили по нему, как затачиваемое лезвие ножа. Куда это он направляется?.. Доехали до развязки Куртене. Судя по всему, он движется в направлении Лиона. Жоэль за рулем жевал резинку и напевал про себя какую-то мелодию, ладонью правой руки отбивая такт на руле. Его ничто никогда не удивляет. Лион?.. Пусть так. Преследуя Жерсена, он мог бы не задумываясь сесть в самолет и отправиться за ним в Конго или в Южную Америку. Вопросами задавался только Жорж, только он размышлял и ставил перед собой проблемы. Если Жерсен не остался в Довиле, уехал из Парижа через несколько часов после взрыва на вилле, то, разумеется, не потому, что захотел отдохнуть, а скорее всего потому, что полиция посоветовала ему укрыться где-нибудь на некоторое время. И чем дальше Жерсен уезжал, тем труднее становилось захватить его. Эта операция подготовлена плохо. Влади решился на нее, недостаточно все обдумав. Жорж тоже был сторонником решительных действий, но тщательно подготовленных, а не таких, как это, слишком напоминающее «Атаку летучего отряда». Влади, в сущности, был анархистом, не верящим в глубокую терпеливую воспитательную работу среди масс. Клода спасти, конечно, надо. Но есть более важные и, главное, более полезные дела.
Между ними и «вольво» втиснулась маленькая красная «альфа», за рулем которой сидела молодая женщина с развевающимися на ветру волосами. Жоэль присвистнул.
— Посмотри, что я вижу! — произнес он.
Он развлекался. Жорж всегда недоумевал, почему Жоэль пришел к ним. Родом из затерянного городка в Морбиане, он отличался неразговорчивым и замкнутым характером. Малый он, впрочем, был неплохой, гордился своей силой, но не воспринимал никакой идеологии. Работал он в гараже. К нему относились как к мальчику на побегушках. Он всегда со всем соглашался. Он слушал Влади, как слушал бы кюре. Это немного раздражало. Красный кабриолет вышел из ряда и вихрем обогнал Жерсена. Жоэль выглянул из окна, провожая его взглядом.
— Вот это да! — пробормотал он.
На девушку ему было наплевать. Но машина!.. 120 лошадиных сил… скорость 180 километров в час. Настоящее сокровище! Ему бы такую тачку! Автомобили он любил, как иные любят животных. При стычках с полицией ему всегда было больно за машины, которым причиняется вред. Над ним смеялись. Называли прислужником капитала. В ответ он улыбался, все его имущество состояло из металлического сундучка, сделанного собственными руками, и кое-какой одежды, иными словами, из небольшого солдатского скарба.
«Вольво» притормозил. Они проехали под указателем площадки автосервиса.
— Неплохая мысль, — сказал Жоэль. — Нам тоже надо заправиться.
«Вольво» остановился у одной из колонок. Жоэль проехал чуть дальше, вышел из машины, похлопал по капоту и, пока служащий вставлял шланг, посмотрел в сторону Жерсена. Жерсен снял перчатки и принялся изучать карту. Перчатки! В этом типе мерзким было все. В тот же самый момент Жорж подумал о том же, но с более философской точки зрения. Мерзким, издававшим зловоние грязных денег был этот мир автомобилей, заправочных станций, автострад. Он подумал о нефтяных эмирах, гигантских танкерах, нефтеперерабатывающих заводах, над которыми реют флаги крупных компаний, более надменные, чем флаги государств. И все это ненадежно, готово полыхнуть, стоит только поднести спичку. Что такое Жерсен по сравнению с этим? Мелкая шавка, интересующая только Влади. Подлинную борьбу надо вести не с ним. Здесь мы только теряем время.
— Расплатись, — сказал Жоэль.
Жорж заплатил. От родителя надо было бы потребовать еще денег. Предстоит очередной скандал. «Предупреждаю тебя, Жорж. Это последний раз. Не забывай, что у тебя есть братья и сестры». Жорж усмехнулся, и Жоэль, садясь в машину, спросил его:
— Над чем ты потешаешься?
— Просто так. Вспомнил о своей сволочной семье и о придурке родителе.
Они выехали вслед за Жерсеном. Лучи солнца коса падали на них, и они жарились, несмотря на открытые окна. Жоэль распахнул рубашку на волосатой груди.
— Мне повезло, — сказал он, — я сирота. Отец утонул. Наверное, по пьянке. У него тогда была лодка… Это было давно. Помню, неподалеку от дома ловили угрей. Теперь с рыбалкой покончено… Когда возвращался, дубасил нас с матерью и братишкой… Черт!
«Вольво» только что обогнал две машины. Стрелка спидометра дошла до отметки «130». Жоэль тоже начал обгон.
— Что с ней?.. Твоему папаше надо бы показать машину автомеханику. Она перегревается. Радиатор, наверно, забит накипью… И потом, заодно можно бы установить радиоприемник. С музыкой веселее. Твой папаша врач?
— Да.
— Деньжата у него водятся?
— Да.
— Какого черта ты делаешь у нас?
Жорж пожал плечами. Зачем объяснять, что дело не в деньгах.
— Забавно! — возобновил разговор Жоэль.
— Что?
Жоэль принялся жевать резинку. Со своими высокими скулами, полузакрытыми, слегка косящими глазами он походил на монгола. «Вот, — подумал Жорж. — Мы гунны. И вместо того, чтобы дойти до масс, мы, как боевики, рыщем по этому прогнившему обществу, пытаясь его подорвать». На память пришли картинки из детских книг по истории: яростные конники, с криками врывающиеся в города, пылающие соборы, отрубленные головы, монахи на кострах… Жаль!
— У нас не было времени как следует узнать друг друга, — проговорил Жоэль. — Ты, конечно, единственный сын в семье? У тебя просто на роже написано, что ты единственный сын.
Жоржа охватил приступ сумасшедшего смеха.
— Тебе хочется знать?.. Тебе это интересно?
— Ну да!..
— Я старший из семи детей… После меня четыре девочки и два мальчика.
Жоэль оторвался от наблюдения за прямым шоссе, ведущим к Жуаньи, и посмотрел, не шутит ли Жорж.
— Для врача, — проговорил он, — это довольно глупо.
— Да, но он католик. Уважает природу. Нельзя убивать жизнь. Надо плодиться и размножаться. Я даже не знаю, как в нормальном состоянии выглядит моя мать. Я всегда видел ее вот с таким пузом и со сложенными на нем руками.
Он выбросил руку в открытое окно и несколько раз кулаком ударил о дверцу.
— Это надо прекратить, — пробормотал он.
Жерсен обогнал экскурсионный автобус с кондиционером, замкнутый в себе, как рейсовый самолет, за затемненными окнами которого просматривались ряды оцепенелых голов. «Пежо» последовал за ним.
— Может, чуть оторваться от него, — предложил Жоэль, — а то вдруг он нас засечет.
— Как хочешь. С меня хватит. Если удастся где-нибудь остановиться, позвоню Влади. Так дальше нельзя. А если ему взбредет в голову поехать в Испанию?.. Ты что, сядешь ему на хвост до Барселоны?..
Жоэль не переставая жевал. Его спокойствие, медлительность раздражали. Ему бы пасти коров.
— Я выполняю приказания, — наконец проговорил он. — Если начать рассуждать…
Перед ним вырос указатель Оксер-Норд. За ним среди полей цвета львиной шерсти показались ответвления дороги. Крыши машин вдалеке блестели, как осколки стекла. Жоэль размышлял. Временами трогал усы там, где выступил пот.
— Вы, — продолжал он, — вы учитесь… А я нет… Моя сила в том, чтобы делать то, что мне скажут.
Жорж оттаял и левой рукой дружески погладил ему шею.
— Ты мне нравишься, — сказал он. — В сущности, ты шуан. Ты просто сменил знамена. Главное — идти за своим кюре, ведь правда?.. Временами я хочу быть таким, как ты.
Он поудобнее расположился на сиденье, откинул голову на подголовник. В квадрате открытого люка на крыше маленькие круглые облака бежали как бы на одной скорости с машиной. Зачем пытаться познать что-то больше? После всех книг все равно остается еще одна книга, и ты без конца… И для объяснения мысли все равно надо прибегнуть к мысли. Ее нельзя никак убить. Разве ее можно свести к жужжанию атомов, как комаров у болота? Надо быть верным, как бретонец!
— Я бы чего-нибудь выпил, — сказал Жоэль.
Жерсен вглядывался в сгущающиеся сумерки. Тело его затекло от сидения, сам он устал от поисков возможных способов мщения, но вел машину, автоматически направляя ее кончиками пальцев. После Вьенны у него возникло ощущение, что он спускается вместе с рекой куда-то к широкому горизонту, где ночь раскрывает свои чудеса. Жерсена мало привлекали соблазны природы. Он был городским человеком и всем другим зрелищам предпочитал линотипы или же свой кабинет, где нередко писал свои лучшие статьи. А еще влажную парижскую ночь с ее освещенными кафе, куда он мог зайти выпить кружку пива, прежде чем идти домой. Он вдруг почувствовал себя чужим на этой дороге между темными холмами слева и овернскими горами справа, которые выступали темными силуэтами на фоне золотого заката. Он был лишним. Он присутствовал на чужом празднике. Его просто задабривают, укрощают, разрешают ему войти в этот театр, где разыгрывается опера для наивных туристов. Но он на это не пойдет. В лучшем случае он согласится склонить немного голову, чтобы освежиться потоком воздуха, который уже утратил свой жар. Он хотел быть полностью собранным, чувствовать себя ощетинившимся клещами, зубами, рогами, крюками, как те жуки-рогачи, которые как камни стукаются о ветровое стекло.
А этот Рене дорого заплатит!.. Он не очень хорошо помнил, чем тот занимается… как будто бы что-то связанное с оформлением… Но ведь оформитель обычно работает на кого-то, а этот кто-то связан с банками. Так что открывается хоть окольный, но путь, по которому можно без особого труда добраться до него. Жерсен хорошо знал, как топят людей. В будущем он расположит вокруг Флоранс все свои боевые орудия. Он будет использовать тактику выжженной земли. Ей никто не сможет протянуть руку помощи. Он не будет устраивать ссор. Не будет высказывать никаких упреков. Будет просто говорить: «Пошли домой». Если она проявит упорство, если обратится к адвокату, он выдвинет против развода свои религиозные убеждения. Впрочем, ведь он действительно католик. К мессе он, правда, не ходит, нет времени. Кроме того, его раздражают молодые священники, у которых на уме только социальные вопросы. Любовь! Любовь! Говорят только о любви, как будто вера только в этом. Как будто она никак не связана с разумом. Но, Господи, разве заповеди не обращаются прежде всего к разуму? Разве они не дают повода для размышлений?.. Религия, в сущности, состоит из запретов. Он представлял ее себе как осажденную крепость. А его, оклеветанного, опозоренного человека, ненавидят, потому что он готов сражаться до конца. Флоранс предала его подло, как предают во время войны. Прежде всего ее следует призвать к порядку. Наказание придет потом.
Правая нога уже затекла, кроме того, спину между лопатками свело судорогой, сигнализирующей водителю, что надо обязательно на некоторое время остановиться. Но он продолжил путь, его ослепляло заходящее солнце, окрашивающее шоссе в красный цвет и освещающее Рону. Появился указатель автосервиса в Сен-Рембер-д’Альбон. Жерсен огляделся, заметил вдалеке вывеску заправочной станции «Шелл», снял ногу с акселератора. Машина своим ходом подкатила к стоянке, но та была заполнена до отказа. Он медленно тронулся вперед в поисках свободного места.
— Пусть припаркуется, — сказал Жорж. — А мы пока заправимся бензином и подольем воды.
Они двинулись к одной из колонок и остановились за большим американским автомобилем. В поисках места Жерсен объезжал стоянку, все больше удаляясь к краю, в сторону темных и массивных грузовиков, возвышающихся как стены. Наконец он втиснулся между двумя грузовиками, включил тормозные огни.
— Хорошее место нашел, — пробормотал Жоэль. — Уголок подходящий.
Жерсен возвращался, прихрамывая и массируя себе плечо. Зашел в закусочную. Жорж расплатился за бензин, и они не торопясь тронулись с места. Доехали до конца стоянки и остановились на газоне.
— Можно попробовать, — сказал Жоэль. — Когда будет открывать дверцу, я его стукну. Все произойдет между «вольво» и «берлие», и никто нас не заметит. Ты дашь задний ход и остановишься перед нами. Я открою багажник и уложу его, надев наручники.
— Не выйдет, — заметил Жорж.
— Почему не выйдет?
— Когда он придет в себя, начнет стучать, наделает шума.
— Да ты что? В Тэн-л’Эрмитаж переедем Рону и двинемся к перевалу Республики. Я знаю эти места. Здесь много проселочных дорог. Найдем самую безлюдную и там приведем клиента в чувство, объясним ситуацию. Либо он на всю дорогу затыкает рот, либо мы в своем праве. Все просто. И потом, ведь у нас нет выбора. Дай пушку.
Подчиняясь, Жорж послушно вынул из «бардачка» пистолет и наручники. На заправочной станции зажглись фонари. Наступило самое приятное время дня. Перед колонками сменяли друг друга автомобили. Люди шли к стойкам, жадно пили пиво или фруктовый сок. Мужчины, кое-кто без рубашек, закуривали сигареты. Обменивались дружелюбными взглядами. Совершенно незнакомые люди говорили друг другу: «Хорошая погодка!.. Да, продержалась бы подольше!»
Жоэль сунул пистолет в карман брюк, и на этом месте образовалась заметная выпуклость. «Это не реально, — подумал Жорж. — Все это немыслимо. Не здесь! Не сейчас!..» Жоэль оставался чудовищно спокойным.
— Ну? Идешь?
Жорж последовал за ним, и они сразу же почувствовали атмосферу метро с тем же кисловатым запахом дезинфекции, с той же толчеей возле торговых автоматов. В конце зала народа было меньше, и там они увидели Жерсена, сидевшего за кружкой пива.
— Вот мерзавец, — добродушно пробормотал Жоэль.
Он нашел место возле дороги, откуда было удобно наблюдать за объектом. Он впервые был так близко от Жерсена и рассматривал его с нежностью охотника, увидевшего буйвола или бегемота, о котором давно мечтал.
— Да садись ты. Не надо строить такую кислую рожу.
Жорж сел и тоже оглянулся. Он все еще не верил. Жерсен в нескольких шагах от него пил пиво, как все остальные, почесал ухо и теперь сидел сложа руки, давая отдых плечам. Жерсен, главный редактор «Консьянс», автор памятной статьи о леваках. Он казался вполне уязвимым, а в его бритом, сморщенном от переживаний лице было что-то патетическое. Хотелось крикнуть ему: «Защищайся!» Жоэль за руку остановил официантку:
— Два пива.
В толпе он чувствовал себя вполне комфортно. «Никогда, — подумал Жорж, — я не стану таким, как он». Он посмотрел на свои руки, которые не забили ни одного гвоздя, не свернули шею ни одному цыпленку, бесплодные руки, как у Жерсена, который в это время щелкнул зажигалкой. Всеми фибрами души он позавидовал Жоэлю. Кружка Жерсена была как песочные часы. Чем ниже опускался уровень пива, тем ближе подходил момент действия. Но Жерсен не торопился. Официантка принесла пиво. Им так хотелось пить, что они осушили кружки почти залпом.
— Все-таки не везет, — проговорил Жоэль. — В другой день взяли бы его без проблем.
— Может, пора позвонить Влади? — предложил Жорж.
— Нет. Долго ждать, пока соединят.
— И все же он должен знать…
— Не горячись. Позвоним потом. А сейчас мы тоже в отпуске.
Он потянулся, закурил «Голуаз».
— Боже мой! Отпуска у меня никогда не было. Видишь ли, меня это забавляет, как будто я еду, как другие, в Сен-Тропез. Пусть это будет моим мелкобуржуазным предрассудком.
Жерсен допил пиво. Жоэль положил ладонь на руку Жоржа.
— Пора, — прошептал он. — Запомни: ты подъедешь ко мне задним ходом. Но спокойно, без суеты.
Он отсчитал деньги, накинул небольшие чаевые — у него каждый франк на счету. Он взял на себя руководство как что-то само собой разумеющееся. Похищение Жерсена было черной работой, значит, по его части. Он подтянул брюки, отвисавшие под тяжестью пистолета, и направился к выходу. Подъезжали машины с включенными фарами. В наступивших сумерках ярко горели фонари. На небе красный цвет сменился фиолетовым. На дороге габаритные огни машин пролетали, как раскаленные угольки. Едва они сделали несколько шагов, как Жоэль внезапно остановился:
— Черт! Сорвалось! Там люди!
У края площадки остановился фургон «фольксваген», загораживая «пежо». Вокруг суетились люди… женщины в шортах, дети… Они подошли. Вышел и Жерсен. Водитель в фургоне безуспешно пытался запустить мотор.
— Не заводится? — спросил Жоэль.
Жерсен не спеша приближался к ним.
— Там наш «пежо», нам надо выехать, — сказал Жорж.
Машина была с голландским номером, и никто из них вроде бы не понимал по-французски. Женщины мило смеялись. Они были толстыми, как статуи, со слишком белыми ногами.
— Толкните! — предложил Жоэль, показывая жестом, как это сделать.
Все уперлись в фургон. Тем временем Жерсен сел в «вольво» и дал задний ход.
Фургон сдвинулся на несколько метров.
— Хватит, спасибо, — крикнул Жоэль.
Они бросились в «пежо», быстро захлопнули двери. Жерсен у выезда на шоссе ждал просвета в потоке машин. Они встали вслед за ним.
— Что же теперь? — спросил Жорж.
— Едем дальше. Все равно где-нибудь его возьмем.
22 часа 25 минут. «Мистраль» у первой платформы заскрипел всеми своими тормозами. Флоранс вышла из поезда и оказалась в густой толпе. Над вокзалом простиралась синяя африканская ночь, звезды сияли так же ярко, как фонарь над путями. Она почувствовала волнение. Вспомнила молодого человека из прошлого. Они расстались вот здесь у вокзального киоска. Он долго жал ей руку, а потом ждал отхода поезда, одиноко стоя у края платформы с мужественной улыбкой и глазами, полными отчаяния. Теперь ей было стыдно за этот отчаянный взгляд. Ей надо оплатить долг. Она медленно направилась к выходу. Над головами вдруг увидела руку.
— Фло!
Они расцеловались.
— Фло! Я так рад.
Они пробрались сквозь толпу, остановилась у камеры хранения.
— Дай мне.
Он взял у нее чемодан, отступил на два шага.
— Ты не изменилась… Костюм красивый, а вот платок не подходит. Мне определенно надо научить тебя скромнее подбирать цвета.
Оба засмеялись, и она почувствовала признательность за тот легкий тон, который он избрал. Не будет упреков, ненужных извинений, проявлений высоких чувств. Совершенно непринужденно она взяла Рене под руку.
— Какой ты высокий, — сказала она. — Но выглядишь не очень хорошо. Тебя надо подкормить. А мне — чего-нибудь выпить.
С трудом нашли место в переполненном кафе, проходы в котором были завалены сумками и рюкзаками. Неосознанно он повторил прежний жест: свою большую нервную руку положил на руку Флоранс.
— Не слишком устала?
Он наклонился, и в глазах у него появилась какая-то животная нежность, сменившаяся быстрой искоркой иронии.
— Ты заказала номер? Ведь сегодня тридцатое июля, все забито.
— Да. В «Бристоле».
Это было первым шагом к прошлому. Они уже проводили ночь в «Бристоле». Она понимала, что прошлое возвращается. Но чувствовала, что оно оживает незаметно, как тихая музыка.
— А муж? — спросил он.
— В Лондоне до завтрашнего вечера. Во всяком случае, могу обойтись и без его разрешения.
— Ты счастлива?
— Расскажи лучше о себе. Мы так давно…
Она почувствовала досаду от своей оплошности. Непосредственность первых минут исчезла. Но он рассеял ощущение неловкости. К их столу пробирался официант.
— Два лимонных сока, — крикнул Рене. — Видишь, я знаю, что ты любишь… Я? Все тот же. Занимался живописью, а потом залез в дело, от которого у меня немало неприятностей… Короче, речь идет о предприятии, занимающемся строительством несуществующих портов… Я вложил в него немало денег, оказался более или менее связанным с неким Маяром, а тот вроде бы не такой уж честный малый, как я думал… Впрочем, не хочу донимать тебя всем этим.
Он обезоруживающе улыбнулся, и эта улыбка внезапно оживила прежние времена.
— Это дело как раз для твоего мужа. Я следил за его карьерой. Иногда покупаю «Консьянс». Это борец. Полная моя противоположность… Фло, ты все так же молода!..
— Благодаря косметике. И потом, есть морщины, которые никто не видит, но я их чувствую.
Они пили сок, глядя друг другу в глаза. Оставаясь добрыми товарищами, как она сама того пожелала. И все же ей хотелось пойти дальше, задать ему вопрос, начинавший ее мучить. Она не удержалась.
— У меня не было уверенности, что ты встретишь меня на вокзале, — проговорила она.
— О! Фло!.. Ничто не могло помешать мне.
— Но ведь у тебя могла быть жена… или подружка.
— Да, разумеется.
Концом ложки он рисовал на столе что-то, понятное только ему. С лица у него исчезла веселость.
— Если честно, — прошептал он, — я думал о тебе не каждый день. У меня даже была связь… но после тебя ничего толком не выходит.
На что она рассчитывала? Если бы он ответил: «Да, у меня есть подружка», ей это было бы неприятно, а теперь она злилась, как будто он нарушил договор.
— Пошли, — сказала она, — ты еще наверстаешь.
И быстро добавила:
— Я приехала на несколько дней отдохнуть. Если ты читаешь газеты, то завтра узнаешь, что подорвали нашу виллу в Довиле… по всей видимости, леваки. Поэтому у меня нет больше дома для отдыха.
— Если бы… если бы не это, ты осталась бы в Довиле?
— Возможно.
— Понятно… А я думал…
— О! Рене!.. Не расстраивайся… Я здесь… И рада, что здесь.
Он грустно улыбнулся:
— По-видимому, мне надо поблагодарить тебя?
Он позвал официанта, отсчитал деньги. Чтобы скрыть охватившую неловкость, ему надо было чем-то заняться. Она права: главное, что они вместе, не надо копать глубже. Не надо ничего требовать. Не надо ничего ждать. Но разве может любовь довольствоваться тем, что есть?
— Я тебя отвезу, — предложил он. — Моя машина у вокзала.
Чуть не добавил: «Она стоит там с полудня», но это тоже выглядело бы как упрек.
Флоранс встала. Взяла свой чемодан. Протянула ему платок.
— Я забыла, что здесь так жарко.
Они подсознательно перешли к банальным фразам, прячась от слов, которые первыми приходили на ум и могли их выдать. Подходили дополнительные поезда, выплескивая новые толпы приезжих. Время от времени слышался пронзительный и властный свисток полицейского. Они продрались сквозь толпу, и Рене, бросив чемодан с платком на заднее сиденье, усадил Флоранс.
— Красивый у тебя «ситроен», — сказала она. — Поль отказался от этой марки, когда…
Она остановилась, не зная, правильно ли она сделала, назвав Поля… Пускай, в конце концов все равно! Такая вот игра в прятки только усугубляла страдания. Так они все испортят.
Рене почувствовал ее переживания и наклонился к ней.
— Можно?
Поцеловал ее в ухо.
— Моя маленькая Фло, — прошептал он, — прости меня… Я всегда так смешон.
И сам первый рассмеялся, не осознавая, до какой степени этот смех растрогал его подругу.
— Мой бедный Рене! — выговорила она.
Он выехал на улицу, спускавшуюся к морю. Над крышами появился самолет, выглядевший громадным и медлительным, невообразимо мигая огнями, шум его еще долго оставался у нее в ушах.
— Завтра, — заметил Рене, — будет бедлам. Приезжают, уезжают. Лучше не выходить.
Он свернул на улицу Франс, объяснив, что надо сделать крюк из-за одностороннего движения. Вскоре они выехали на Променад. Вдали у горизонта еще виднелась светлая полоса, и в конце освещенной улицы угадывались очертания Антибского мыса.
— Узнаешь?
— Да, — ответила Флоранс. — Хорошо.
«Ситроен» остановился у «Бристоля».
— Ну вот, ты на месте… Остается только пожелать тебе доброй ночи.
Наступил момент, о котором она думала весь день. Но у женщины только один способ оплатить свой долг. Она положила руку на колено Рене. Он смотрел на нее взглядом обманутого юнца.
— Тебе этого хочется? — прошептала она. — Ладно, поставь машину на стоянку. Я заказала номер… на имя Энбон.
Она вылезла из машины, он передал ей чемодан. Кончиками пальцев она послала ему поцелуй.
— Я быстро, — крикнул он.
Нажав на газ, помчался к концу улицы. Гараж был еще открыт. Ночной сторож наводил порядок. Он проводил Рене на место, пятясь перед ним задом. Жестом большого пальца то вправо, то влево он корректировал направление. Затем отошел в сторону.
— Прижмитесь поближе, — сказал он. — Это поразительно! Клиенты никогда не думают о тех, кто приедет после них… Вот так. Потом придвину к стене. Оставьте ключи…
Рене был счастлив. Дал чаевые, на которые старик посмотрел с недоверчивым видом.
Рене постучал в дверь.
— Входи!
Он робко прошмыгнул в комнату. Она выкладывала вещи из чемодана на стол.
— Считается, что ты мой муж. Можно не прятаться.
Подошла к нему и обвила шею руками.
— Знаешь, Рене, я тебе сказала неправду… Иди. Я тебе объясню… Нет, оставь меня.
Осмотрелась. Из мебели были только кресло и стул. Она порывисто взяла Рене за руку и усадила на кровать. Стоя закурила сигарету, затем после небольшого колебания села рядом с ним.
— Это правда, нам не надо прятаться, — начала она, — но мне нельзя быть опрометчивой… думаю, что мы с Полем расстанемся.
Он хотел сесть поближе, но она отодвинулась.
— Не надо, выслушай серьезно. Пойми мое положение. Между Полем и мной возникла невозможная ситуация… по многим причинам… Выключи люстры, свет режет глаза.
Он встал, выключил верхний свет, включил лампу у изголовья. Еще минуту назад он держал ее в руках. Теперь же она превратилась в посетительницу, у которой проблемы. А кем стал он? Не без досады он взял стул и уселся на него подальше от кровати.
— Давай. Рассказывай.
— О! Рассказывать нечего. Плохо, вот и все.
— Он тебе изменяет?
— У него на это нет времени. На нем газета… Ты ведь ее покупаешь, значит, знаешь все.
— Жерсен — человек влиятельный, видимо, богатый, о нем много говорят. Разве ты не этого хотела?
Флоранс раздавила окурок в пепельнице, почерневшей от долгого использования.
— Не будь таким злым. Когда я с ним познакомилась, у него были амбиции, но с ним можно было говорить и даже не соглашаться.
— А сейчас?
— Мне кажется, он болен.
— Мания преследования за правду?
— Именно. Поэтому я хочу уйти. Но не хочу, чтобы он вообразил Бог знает что… что у меня любовник… что я как подстилка… Это ему только на руку. К тому же, если бы у меня был любовник, бедняжка… его можно было бы только пожалеть.
— Почему?
— Потому что Поль уничтожил бы его всеми средствами. Он любит уничтожать людей.
— А меня?
Она окинула его озабоченным взглядом.
— Тебя, Рене? К счастью, ты мне не любовник… да, знаю. Мы здесь вдвоем. Но это ничего не значит. Понимаешь, что я имею в виду?.. Мы просто старые друзья… Хочу, чтобы мы оставались друзьями… Поэтому завтра я сменю гостиницу и поведу безупречную жизнь. Мы, конечно, сможем встречаться, гулять вместе. Но хочу, чтобы ему было ясно: я уехала не по какой-то низменной причине.
Она была одна, говорила сама с собой, такая же одержимая, как и ее муж.
— Спасибо, — пробормотал Рене.
— Боже мой, как все это трудно! Как тебе объяснить!.. Я хочу быть честной, свободной от всего, именно свободной… от всех… чтобы меня оставили в покое.
— Ты хочешь действовать по-своему и при этом чтобы тебя строго не судили.
Она бросила на него быстрый взгляд, пытаясь определить, говорит ли он с сочувствием или как противник. Он вытащил трубку и задумчиво посасывал ее.
— Одного не могу понять, — проговорил он наконец. — Почему ты так внезапно объявилась… Могла бы написать, объяснить, подготовить меня… У меня такое впечатление… могу ошибаться, заметь… у меня впечатление, что меня ты используешь как аргумент в ссоре с мужем.
— Нет, — воскликнула она. — Это не так. Я просто боюсь его. Мне надо научиться сопротивляться ему… Если завтра я окажусь с ним лицом к лицу… он, наверно, опять будет сильнее, а мне надоело… быть… — она пожала плечами, — самкой… Когда я уезжала, у меня был только ты… Веришь мне?.. Если хочешь, можешь курить.
Он набил трубку, как всегда медленно и основательно. Она сняла платье, неспешно, как супруга перед мужем. Оба понимали, что им предстоит еще долгий разговор.
— С тобой, — проговорила она, — я чувствую себя на равных. С ним нет. Я хочу, чтобы он считался со мной. Вернувшись завтра вечером, он найдет записку и начнет что-то понимать.
Она сняла чулки, начала искать застежки розового бюстгальтера.
— Почему ты смеешься?
— О! — сказал Рене. — Мне совсем не до смеха. Но ты — полуголая, а я спокойно курю трубку… смешно. В сущности, ты права. Я создан быть просто приятелем. Для Майяра я тоже приятель. Ладно, продолжай… Ты оставила записку…
— Да… довольно сухую и очень ясную.
Она прошла перед ним, взяла пижаму и направилась в ванную комнату.
— Знаю, он перевернет все вверх дном, лишь бы наложить на меня лапу.
— Боже, — воскликнул Рене, как будто уронив что-то горячее. — Телеграмма!
— Какая телеграмма?
— Я тебе отправил телеграмму…
Она появилась в проеме дверей, один рукав пижамы был надет, другой свисал спереди, прикрывая живот.
— Ты хочешь сказать, что?..
— Я не мог знать… Получаю первую телеграмму с сообщением… Фло… Пойми… радость моя.
— Что ты написал в телеграмме?
— «Жду с нетерпением… Счастлив…» и подпись: «Рене».
Она медленно опустила руки, приоткрыв грудь, и, прислонив голову к косяку двери, начала плакать. Рене подошел к ней.
— Оставь меня, — пробормотала она. — Все кончено. Зря я уехала.
— Но что изменилось?
— Все… все…
Жестом наказанной девочки, взволновавшим Рене, она вытерла глаза.
— Фло… Подожди… Иди сюда. Успокойся. Попробуем разобраться.
Он довел ее до кресла и усадил себе на колени. В этот момент он любил ее так сильно, что даже не хотел ее.
— Твоя записка и моя телеграмма, — начал он, — разумеется, все это плохо. Я, конечно, совершил ошибку. Уехав от него после взрыва виллы, ты поступила правильно. Ты устала от жизни с ним… Но если он подумает, что ты бросила его, чтобы лететь на свидание как раз в тот момент, когда на него напали, то он вправе предположить, что ты… Ах! Как не везет!
Он покрывал легкими поцелуями глаза, из которых лились слезы. Гладил ее обнаженное тело. Никогда они не были так далеки друг от друга.
— Но ведь вернуться невозможно, — проговорил он.
Она обняла его за талию, выпрямилась.
— Ты это сделаешь для меня?
Потом снова бессильно откинулась, заранее капитулировав, а он принялся размышлять, рассеянно проводя губами по ее мокрым щекам.
— Когда, ты сказала, он возвращается?
— Самолет прилетает в Орли около двадцати двух часов, точно не помню. Но какое это теперь имеет значение?
— Это нам дает… подожди…
Он откинул рукав и посмотрел на часы.
— Сейчас чуть больше половины первого ночи… у нас около двадцати часов.
Она встала, надела до конца пижаму.
— Все это бессмысленно, — произнесла она с неожиданной твердостью в голосе. — Оставь. Ты очень мил.
Именно это слово могло разбередить старые раны, удерживая его на расстоянии, как постороннего человека, от которого хотят вежливо избавиться.
— Фло… Мне с тобой просто не везет… Разве я мог подумать… Но повторяю, у нас впереди почти целый день… Конечно, о самолете нечего и думать. Все забронировано на недели вперед. А на поезде в твоем состоянии… Но у меня машина — «Ситроен-ДС». Фло, послушай серьезно. Глупо не попробовать. Можно успеть. На все уйдет двенадцать или тринадцать часов, с учетом заторов. Видишь, ничто не потеряно.
Слышала ли она его? Глаза ее смотрели в пустоту, как у человека, которому непреодолимо хочется спать.
— Ты его знаешь, — чуть слышно произнесла она. — Он выяснит, откуда ты отправил телеграмму, и не замедлит вычислить тебя. Он способен на все. Заведет дело. Приложит туда мою записку и твою телеграмму. Потом наведет справки. Выкопает что-нибудь против тебя и будет использовать информацию… И каждый день за столом или вечером, в спальне, будет рассказывать мне: «Кстати, о твоем любовнике… узнал такое… Не везет тебе с любовниками…» Любовник… Любовник… и так без конца… А ведь ему известно, что это не так. Я с ним играла честно. Не я виновата, что ему нравится жульничать.
Она глубоко вздохнула, повернулась к Рене и грустно улыбнулась.
— Напрасно стараюсь, для него я навсегда останусь шлюхой.
— Перестань! Тебе не кажется, что ты преувеличиваешь?
— Но ведь именно так можно понять твою телеграмму.
Рене потерял терпение. Чтобы не дать выход гневу, пошел выпить стакан воды. Потом набил трубку.
— Согласен быть лишним, — сказал он, — если тебе так нравится. Но мне кажется, что ты поступила немного поспешно.
Он не решился добавить: «Ты, как всегда, думала только о себе». Раскурил трубку, из которой на ковер посыпались раскаленные кусочки табака.
— Фло… еще раз… пока не поздно… Можно забрать телеграмму… а заодно и твою записку.
— Да, но хватит ли у меня сил начать все сначала? Если вернусь, это конец. Я проиграла.
Начинался бесконечный спор, подогреваемый усталостью.
— Хватит, — отрезал он. — Дай ключи. Я поеду один.
— Ты уверен, что это правильно?
— Другого выхода нет.
Она взяла его руку и тоже посмотрела на часы. Потом привлекла к себе.
— Ты такой добрый, Рене, настоящий товарищ… Ты меня понимаешь.
Рукой нежно погладила его лицо и прижалась головой к плечу.
— Ты же знаешь, — продолжала она, — я не отпущу тебя одного… но, может, есть еще время отдохнуть до отъезда. Как все это глупо!
Она легла на кровать.
— Иди ко мне, бедный Рене. Успокойся.
Потушила ночник.
— Раздевайся.
Он понимал, что во время любви она не переставала думать о Жерсене.
Жерсен двигался через Эстрель. Часы на приборной доске показывали четыре с половиной. Он чувствовал себя сломленным, пламя гнева едва теплилось, как угасающий костер. Он слишком много думал, слишком долго внутренне репетировал сцену встречи. А теперь уже не очень хорошо себе представлял, как ее лучше разыграть. Грубо? Или иронично? Скорее иронично. Ирония удавалась ему лучше. Надо заказать комнату, если еще есть свободные. Немного поспать, два или три часа, ведь ему предстоит снова отправиться в путь, а обратная дорога будет настоящим испытанием. Уже сейчас встречные машины шли почти непрерывным потоком. Свет фар, идущий едва ли не от самого горизонта, ослеплял его. Все это будет тягостно. Но он все равно получит удовольствие от монолога перед безмолвной и застывшей в напряжении женщиной.
«Он недурен, этот парень. И вроде тебя любит. А чем он занимается? Может, пляжный сутенер?.. Нет?.. Если бы ты обратилась ко мне, я бы дал тебе совет… Но ты всегда поступаешь по-своему».
Именно так — комедийный тон на фоне угроз. А что до этого прохвоста, нужные сведения можно получить, пустив по следу Блеша. У всех есть что скрывать, у всех.
Он ехал над Каннским заливом. Белое пятно вдали было большим пароходом на рейде. Его окружали счастливые люди, парочки, занимавшиеся любовью или спавшие, держась за руки, перед открытыми в ночь окнами. Он покопался в отделении для перчаток, куда положил пистолет, и сунул его в карман брюк. Простая предосторожность. Все пройдет тихо и гладко. Жерсен гордился своим воспитанием.
Флоранс заканчивала приготовления. Рене открыл ставни балкона и смотрел на море, лениво катившее на береговую гальку мелкие волны. Впечатление покинутого города. Как на полотне Кирико. Пустые стулья на Променад. Конец ночи. Он тоже чувствовал себя опустошенным и рассеянным. Уставшим. А теперь еще эта глупая поездка. Они оба не спали. В который раз возобновляли тот же спор. Неизменно приходя к одному и тому же выводу: если Жерсен найдет телеграмму и записку, расплата последует незамедлительно. Но это возмездие не может зайти слишком далеко. Фло взвинчивала себя. Что ей грозит: развод по ее вине?.. А если Жерсен пронюхает о деле со строительством портов, что это ему дает?.. Скандал… И что дальше?.. Но была Фло со своим нелепым самолюбием. Или гордостью. Спасти лицо! Остаться безупречной супругой! Ей хотелось заставить Жерсена уступить. Мало-помалу она встала на сторону тех, с кем тот боролся, напрасно она это отрицает, именно так. А сам он превратился в заложника, оказался между молотом и наковальней. И тем не менее он шел на это. Не выглядеть же жалким слабаком… В награду она еще раз или два переспит с ним. Приласкает, как собаку. А потом, ну что ж, она сама об этом сказала: они останутся добрыми друзьями, она расцелует его в обе щеки, несколько месяцев будет писать, а затем он больше о ней не услышит.
Заря начинала вычерчивать горы за аэропортом. Наступали минуты, в которые страдальцы доходят до предела своего отчаяния и с широко раскрытыми глазами сводят счеты с жизнью. Рене попытался сделать глубокий вдох, он слегка задыхался. Перед гостиницей остановился автобус. Из него вышел водитель в голубой фуражке и белом пыльнике. Вероятно, организованная турпоездка. Рене вернулся в комнату.
— Ты готова? Поторопись.
— Иду.
Он звал ее уже в третий раз. Его раздражало нарушение холостяцких привычек.
— Мы сможем позавтракать в пути? — спросила она.
— Откуда мне знать! Думаю, сможем.
Она вышла из ванной комнаты, осмотрела свою фигуру перед зеркалом шкафа, слегка приподняла юбку.
— Еще один чулок поехал… Эти чулки ни к черту не годятся. Одну минуту, дорогой.
— Пора ехать, Фло, уверяю тебя. Иначе с самого начала попадем в пробку.
— Иди… Я тебя догоню… Какая погода?
— Прекрасная. Чем больше задержимся, тем будет жарче.
— Выводи машину. Я спускаюсь.
Жерсен оставил «вольво» позади автобуса. На тротуаре грудились чемоданы с написанными мелом номерами. Рядом суетились два человека, укладывая их в багажное отделение. Вестибюль «Бристоля» был заполнен группой туристов, столпившихся вокруг гида и переговаривавшихся по-немецки. Гид раздавал документы в протянутые ему руки. Шума было больше, чем во дворе школы во время перемены. Жерсен протиснулся к столику портье, у которого с видимым нетерпением стоял мужчина в сером костюме.
— Сущие несчастья эти организованные поездки, — проговорил мужчина.
Когда появился портье, тот схватил его за руку.
— Счет, пожалуйста.
— Сейчас… вот… Готово.
— Пожалуйста, — вмешался Жерсен. — Можно у вас остановиться?
— Да, — сказал портье, — конечно… Подождите немного.
— Здесь есть гараж?
— Да, на соседней улице. Первый поворот направо. Гараж открыт. Но, видите ли, сейчас вас некому проводить.
— О! — сказал Жерсен. — Найду сам.
— Можете пройти по коридору. Нет смысла делать крюк. Свет включается справа от двери.
— Счет, будьте любезны, — настаивал Рене.
Но портье уже бежал за гидом. Жерсен прошел по коридору, по которому разносились сложные кухонные запахи. Зажег свет в гараже и покачал головой. Гараж был почти битком забит. Но он нашел свободное место между белым «Ситроеном-ДС» и «симкой». Скудный свет мрачно падал на автомобиль. Железная дверь была приоткрыта. Жерсену пришлось налечь плечом, чтобы откатить ее до конца. Он оказался на пустынной улице, в конце которой на перекрестке мерцали огни. Прижавшись к стене, осторожно пробирался кот.
«Больше не могу, — подумал Жерсен. — Мне действительно надо немного поспать».
Он повернул и вышел на Променад. Увидел женщин, садящихся в автобус. Оживленную группу мужчин на тротуаре, от которых доносился запах сигар. С усталым видом Жерсен снова уселся за руль.
— Давай за ним, — сказал Жоэль, — это самый подходящий момент.
«Вольво» обогнул автобус. Жорж на первой скорости последовал за Жерсеном в пустынный переулок. Они увидели, как «вольво» въехал в гараж. Чтобы лучше видеть, Жерсен включил фары, и ангар осветился, как праздничный зал.
— Тут никого нет, — сказал Жоэль. — Я пошел. Приставлю к брюху пистолет, и увозим.
— Ты не думаешь…
— Старик, надо решиться!.. Надоело… Въезжай на тротуар… Так… теперь подай чуть назад.
Он вынул пистолет, проверил глушитель и легко выскочил из машины, прежде чем она остановилась.
— Ну и помотала нас эта сволочь!
Наклонившись к открытому окну, добавил:
— Поведу я… Заглуши двигатель и выключи огни.
Он пошел чуть согнувшись, с пистолетом в руке, у входа в гараж привычно потрогал усы.
Жерсен еще не поставил машину. Он постепенно, сантиметр за сантиметром, загонял ее на место, наполовину высунувшись из дверцы. Жоэль несколькими прыжками добежал до «шевроле», немного выдававшегося из ряда машин, и пригнулся за ним. «Вольво» замер, внезапно наступила тишина и темень. Издалека доносился приглушенный шум из холла гостиницы. У Жерсена не оставалось места, чтобы вылезти со стороны водителя, и он перебрался к правой дверце, попытался открыть ее. На полпути она уперлась в «ситроен».
— Не соскучишься, — проворчал Жерсен.
Его слова разнеслись, как в церкви. Он выбрался из машины, осмотрел «ДС», чтобы убедиться, не оцарапал ли его, произнес слова, которые Жоэль не смог точно разобрать: «Я был уверен…» или «Буду уверен…». Жерсен заглянул внутрь «ситроена», протянул руку, вытащил оттуда платок, развернул его, внимательно осмотрел и понюхал. Теперь он разговаривал сам с собой, но очень тихо. Казалось, он обращается к платку, как к живому существу.
«Совсем спятил», — подумал Жоэль.
Жерсен запихнул платок в карман. Еще больше Жоэля удивило то, что он открыл багажник «ситроена» и склонится над ним. Жоэль больше не колебался. Он подошел и наставил пистолет.
— Руки вверх, — приказал он.
Жерсен медленно выпрямился и неожиданно ударил Жоэля ногой в колено. И сразу же обернулся. В руке он держал небольшой автоматической пистолет. Жоэль инстинктивно спустил курок, и выстрел отбросил Жерсена назад. Он ударился о «вольво», медленно сполз с него и повалился на бок. Его пистолет упал на бетонный пол и исчез под машинами. Из гостиницы продолжал доноситься шум голосов туристов, обезумевшее сердце Жоэля билось как молот. Появился металлической запах пороха.
— Боже мой, — выдавил из себя Жоэль. — Что на него нашло?
Он склонился над Жерсеном. Из груди возле сердца сочилась кровь. Совершенно очевидно, Жерсен убит наповал. Это катастрофа! Именно этого нельзя было делать. Клод не скоро выйдет из тюряги.
Жоэль бросился к «пежо».
— Быстро, — крикнул он. — Смываемся. Я его убил.
— Что?
— Он хотел меня застрелить. Что бы ты сделал на моем месте?
Жорж привык думать быстро. Или они оставляют тело на месте и начнется поиск преступника, или они его увозят. Он вышел из машины, повторяя себе: «Спокойно… Без паники… Без паники…»
— Надо его увезти, — сказал он. — Заткнись.
Автобус дважды посигналил. Предупреждение об отъезде. Не говоря ни слова, они бегом бросились в гараж. Дело решалось минутами, даже секундами. Когда автобус уедет, гараж закроют.
— Берем на плечи, — бросил Жорж. — Черт!
Открылась внутренняя дверь. Они пригнулись, оставив труп на виду. В проеме увидели фигуру человека, разговаривавшего с невидимым собеседником.
— Скажите моей жене, что я вывожу машину, — крикнул он. — Флоранс! Подожди!
Мужчина вернулся назад, но оставался неподалеку. Они слышали его голос. Жорж заметил все еще открытый багажник «ситроена». В голове сразу созрел план. Ему казалось, он играет в рулетку. Но в сущности, они этим занималась вот уже три минуты.
— В багажник… Быстро…
Подняли тело, затолкали и уложили его. Все в порядке! Там даже был плед, который впитает кровь, если рана будет продолжать кровоточить. Жорж закрыл багажник. Щелчок был почти не слышен.
— Я же сказал, что заплатил, — прокричал мужчина. — Выезжаю.
Жорж с Жоэлем вышли, пытаясь придать себе самый естественный вид на случай, если им кто-нибудь встретится. Но на пути им никто не попался, и они сели в «пежо».
— Его надо забрать оттуда как можно быстрей, — сказал Жорж. — Как только этот тип уедет, провернем за минуту. Нельзя оставлять за собой труп. Найдем где-нибудь местечко и похороним… А потом уже пусть решает Влади.
Он еще не успел отдышаться. От волнения щемило в груди. Еще чуть-чуть, и он начнет стучать зубами. Из гаража донесся шум мотора, и показался выезжающий задом «Ситроен-ДС».
— О! Нет! — воскликнул Жоэль, не веря своим глазам. — Не может быть.
В машине сидели мужчина и женщина. «Ситроен» выехал на улицу, подкатил прямо к ним и двинулся в направлении Променад. Жоэль тоже тронул машину.
— Не может быть, — повторил Жорж.
— Все в порядке? — спросил Рене. — Пристегни ремень. На всякий случай.
Они ехали по дороге на Канны. Как и следовало ожидать, шоссе было забито. Но стрелка спидометра держалась на отметке «90». В открытые окна врывался пока еще свежий воздух. На востоке солнце золотило горизонт. Перед ними разворачивались сиреневые массивы Эстереля. Рене включил радио.
— Можно послушать, что творится на дорогах, — сказал он. — Иногда это бывает полезно.
Флоранс молчала. В ее молчании всегда сквозила как бы обида. Рене, подобно кошке, тонко улавливал ситуацию. Она не могла простить ему телеграммы. Конечно, дело в этом. Он положил руку ей на колено и нежно сжал его.
— Выкрутимся, — сказал он.
Дорога, описав дугу, стрелой начала подъем. Машины шли сплошным потоком до самого верха перевала. Не очень хорошее предзнаменование.
— Если все будет хорошо, — продолжал он, — выпьем кофе в Эксе.
В течение уже довольно длительного времени они следовали за «рено». На заднем сиденье мальчишка, стоя на коленях, подавал им дружеские знаки. Рядом с ним сидели две женщины, переговариваясь и поочередно поворачиваясь друг к другу, так что можно было видеть их профили и движение губ. Возникало чувство принадлежности к одной группе. Позади них шел «пежо», который спокойно вел молодой человек, жевавший резинку. Его спутник погрузился в изучение раскрытой дорожной карты. За «пежо» в зеркале заднего вида отражался нескончаемый поток других машин. При первом же замедлении возникнет пробка. Рене посмотрел на Флоранс. Она казалась далекой, озабоченной, усталой. Почувствовав на себе взгляд, она повернула к нему голову и выдавила улыбку.
— Правильно ли мы делаем? — произнесла она. — Я уже не знаю.
Их обогнал «триумф», заставив посторониться. Сколько людей погибнет сегодня в дорожных катастрофах? Рене прижался правее и, увидев, как зажглись красные огни «рено», притормозил. Движение замедлилось. Он переключил скорость.
— Конечно, правильно. Через несколько часов ты успокоишься. Потом у тебя будет время объясниться с мужем. Ты ведь этого хочешь?
— Сама не знаю, чего хочу. По правде…
Она умолкла, отстегнула ремень и перегнулась через спинку за сумочкой, которая лежала на заднем сиденье рядом с чемоданом.
— Интересно, — проговорила она. — Я думала, что оставила платок в машине… Наверное, забыла в гостинице.
Поток машин остановился, затем снова медленно тронулся в путь. Флоранс достала сигарету, закурила.
— По правде? — спросил Рене. — А в чем правда?
— Ах да, правда в том, что все мы трое одиночки. Поль живет сам по себе, я тоже, а ты? Если честно?
— И я, конечно.
— Вот видишь! Такие люди, как мы, не могут оставаться вместе. И в то же время они страшатся одиночества, У Поля… газета, друзья, кроме того дом. Он бывает там редко, наездами. Но, думаю, он ему дорог. У меня то же самое. Когда Поль уходит, я вздыхаю от облегчения… В определенном смысле мне нравится оставаться одной, но, как бы это лучше сказать, одной против него, в согласии с окружающими меня вещами, квартирой, улицей… Ты никогда не испытывал такого чувства?.. Тебе бы легко далось сразу сменить город, где живешь, профессию?.. У меня сейчас такое чувство, как будто я — перемещенное лицо… беженка… Я плохо выражаю свои мысли.
Рене слушал сжав зубы. Робко задал вопрос:
— Тебе не кажется, что у нас с тобой, несмотря ни на что?..
— Тебе быстро надоест.
— Фло, поверь…
Начал наполняться и левый ряд. Рядом с ними шел еще один белый «ситроен», и они смотрели друг на друга без всякого стеснения, оставаясь совершенно чужими, как пассажиры пригородных поездов, сидящие рядом и рассматривающие друг друга пустыми глазами. «Ситроен» потихоньку оторвался, и его место занял старый «фольксваген» с капотом, перевязанным ремнями, и бортами, разукрашенными цветами и надписями. Рене размышлял.
— Если разведешься, — спросил он, — чем будешь заниматься?
— У меня есть подруга, она держит антикварный магазин.
На второй скорости от двигателя ногам становилось жарко. Рене включил вентилятор. Откуда-то справа донеслось курлыканье журавля, потом другого. Флоранс отогнала муху, на мгновение севшую на ветровое стекло.
— Я бы не возражала, — продолжала Флоранс, — зарабатывать на жизнь, занимаясь коммерцией.
— Но это надо уметь делать.
— Можно научиться… и потом, может быть, ты мне поможешь?
С лица Рене долго не сходила улыбка, как у ребенка, которому пообещали игрушку. «Рено» прибавил скорость, но он быстро его догнал. Проехали развязку Манделье. На соединительной полосе скопилось около пятнадцати машин, ожидавших возможности выехать на трассу.
— И когда же у тебя появилось желание работать? — спросил Рене.
— Я об этом думаю уже много месяцев… И именно из-за этого начала отдаляться от Поля… Если бы он хоть попытался понять меня… но у него представления другой эпохи… обо всем.
В разговоре у них время от времени наступали паузы. Рене приходилось следить за дорогой, и зачастую он не слушал, а просто сидел, слегка наклонив голову, с видом человека, пытающегося понять иностранный язык. Это и вправду было похоже на иностранный язык, тонкости которого от него ускользали, несмотря на все старания. К примеру, желание работать при такой легкой жизни… Неудивительно, что Жерсен злится. А какова все-таки подлинная природа их отношений? Он опустил солнцезащитный козырек — утренний свет начинал ослеплять.
— В чем ты, в сущности, его упрекаешь? — спросил он. — Если отбросить эмоции… посмотреть на вещи объективно, как судья?
Вопреки его ожиданиям они ответила сразу.
— Ни в чем. Вообрази, в чем животное может упрекать своего дрессировщика. Например, лиса. Ее запирают в загон и пытаются научить поведению собачки. Сам по себе хозяин, может быть, неплохой. Он даже говорит: «Разве я тебя плохо кормлю?.. Разве тебе чего-нибудь не хватает?..»
Резкое торможение. Бампер чуть не коснулся «рено». Ребенок упал, и женщины принялись его успокаивать. «Пежо» сзади совсем рядом. У сидящих в нем пассажиров скучающий вид. За ними через заднее стекло виднеется «мерседес», а дальше угадываются радиаторы, капоты других машин. Половина седьмого. Слева видны неровные очертания Эстереля, до развилки Фрежюса еще далеко.
— Ты говорила… лиса? Но мне кажется, я смог бы тебя приручить.
— Нет, Рене. Зря ты вбиваешь себе в голову такие мысли. Перестань. Разве ты не можешь быть просто моим лучшим другом?
— Я хотел спросить тебя… Подожди… Извини за несуразный вопрос… Допустим, опасность угрожает только мне… Согласилась бы ты поехать в Париж только ради того, чтобы помочь мне выпутаться?
— Идиотский вопрос, как в какой-то игре.
— О нет, это не игра… Если откровенно?
— Ты хочешь заставить меня признаться, что я думаю только о себе. Возможно. Даже наверняка. Но не так, как ты это себе представляешь. Человек вынужден думать о себе, когда ему не хватает воздуха.
Она протянула руку и согнутым указательным пальцем постучала ему по виску.
— Упрямец. У вас у всех деревянные головы.
— Ладно… Согласен. Допустим: ты работаешь, свободна и стала счастливой… Что мешает мне переехать в Париж и быть рядом с тобой?.. Буду вести себя как мышка.
— Поначалу… А потом начнешь звонить. «Сегодня вечером встретимся?» И сердиться, если я буду отказываться. Тебе тоже трудно понять, что у меня может возникнуть желание пойти одной в кино, или запереться дома, чтобы почитать, или вообще ничего не делать.
Машины начали плестись.
— Думаешь, нам надо расстаться?
В его голосе сквозила такая тоска, что Флоранс пододвинулась к нему поближе и положила на руль свою руку возле его руки.
— Потерпи, — сказала она. — Я терплю все это, — она кивнула в сторону машин и сверкающей дороги, — только ради того, чтобы пристойно положить конец жизни с Полем. Понимаешь?.. Пристойно. Развод не любой ценой, а пристойный… Потом посмотрим.
Она достала из сумочки надушенный платок и осторожно, как будто обрабатывала рану, вытерла выступивший у него на лбу пот.
Они уже не спорили, просто не разговаривали. Согласия у них больше не было ни в чем. Жорж не переставал обдумывать ситуацию. Он считал партию проигранной. Жоэль навсегда останется просто халтурщиком. Возможно, он представляет ценность как головорез, но для действий, требующих тонкости, не подходит. Вот, например, эта дурацкая стрельба!.. Почему он выстрелил? Потому что был зачарован пистолетом с глушителем… из удовольствия просто выстрелить. Самозащита! Что за чепуха! А теперь вот они будут ехать за этой машиной… сколько времени и куда?.. И что потом?.. Тело все равно не вытащить. Кругом машины. Но начнем с того, что они упустят «ситроен». В силу обстоятельств. Стоит ему обогнать две или три машины, и все будет кончено. Но предположим: произойдет чудо и они его не упустят… Что, логичнее всего, произойдет? Пара остановится где-нибудь у заправочной станции. Типу в сером понадобится что-нибудь в багажнике. Он откроет его… и все, влипли. Разумеется, сначала подозрение падет на этого бедолагу. Но ему не составит труда оправдаться… Он абсолютно не связан с этим делом… Он не может быть ни родственником, ни знакомым Жерсена. В полиции не идиоты, там быстро свяжут убийство со взрывом на вилле… Политическая месть. С легавыми на хвосте ни одно укрытие не будет надежным… бордель да и только!..
Другая гипотеза: «ситроен» съедет с трассы на проселочные дороги. Ничто не изменится. Сейчас наплыв отпускников. Если и есть проселки, они заполнены велосипедистами, туристами. Даже если парочка отойдет на какое-то время от машины, будет ли место достаточно безлюдным, чтобы перенести труп… Жорж с ненавистью смотрел на дорогу. Причина… глубинная причина происходящего — опять же это параноидальное общество. В нормальном обществе люди должны уезжать в отпуск по очереди, а не так… в нормальном обществе можно будет захватить человека, не преследуя его из одного конца Франции в другой… впрочем, таких, как Жерсен, не будет. Не будет «Консьянс». Не будет продажной прессы. Все это порождается буржуазным обществом… В том числе и это чудовищное скопление перегретого железа с запахом бензина. Какая поразительная картина разложения страны — машина, несущая мертвеца, затерявшаяся в бесконечном потоке других машин, заполненных чемоданами, детьми, больными, чужими друг другу людьми, животными в корзинках, спорящими супругами… великое перемещение, массовая давка, бегство от Революции, приближение которой они чувствуют. Ладно, размечтался. Сейчас главное — не отстать от «8065 Р3 06». Приближаемся к Бриньолю. А чем занимается этот бретонец? Жует резинку… Играет на руле. Ладонью отстукивает мелодию какого-то рока. Он уже забыл о Жерсене. Он при деле среди всех этих машин, в глухом шуме моторов. Его окружает гигантский гараж. Он — пастух четырехколесного стада. В Бриньоле, конечно, будет затор, десятикилометровая пробка. Он наверняка предложит мне сменить его.
Жоэлю было жарко. Мысли его плавились. Он смотрел на багажник «ситроена» и думал о том, что там внутри сейчас, должно быть, паршиво. И о том, что из этого трупа можно было бы извлечь большие бабки. Похоронив Жерсена — а они так или иначе доберутся до трупа и избавятся от него, — можно дать понять, что его похитили, и предложить жене вернуть его за выкуп. Что его взяли заложником!.. Их группа может получить немалые деньги. Только Влади на это не пойдет. У Влади свои идеи. Понять его не всегда просто… Но если есть труп, почему бы его не использовать? Он мертв, ничего тут не поделаешь, произошел несчастный случай, и можно этим воспользоваться. Не для того, чтобы набить карманы, а чтобы легче было работать, купить копировальную машину, всякие конторские причиндалы, придающие серьезный вид. Сам Жоэль не испытывал неудобств от бедности, но он думал о Влади. Влади надо лучше одеваться. Тогда он выглядел бы настоящим руководителем. Ведь они не анархисты, не бродяги, на которых снизошло озарение. Революционная организация должна быть как завод, наподобие «Рено», с рядовыми членами, у которых руки в солидоле — это естественно, — но и с кабинетами, телефонами, со всей управленческой структурой и — на самом верху — Влади в единственном числе. Но Влади смотрит на вещи по-иному. Он никогда не станет практичным человеком. Все-таки уморительная эта поездка в погоне за покойником! Еще уморительнее, что не знаешь, куда направляется «ситроен». Это выводит Жоржа из себя.
При въезде в Бриньоль «пежо» остановился перед щитом, сообщавшим об ограничении скорости в городе до 50 километров в час. Просто издевательство! Если бы ехать хоть на второй или третьей скорости, уже было бы хорошо. Но на данный момент она нулевая. Из домов высовывались люди, пытаясь разглядеть, где кончается вереница машин. Переговаривались между собой. Вид у них был возбужденный, как у зевак, собравшихся посмотреть «Тур де Франс». Наверно, сравнивали пробку с затором на Пасху или 1 июля. На кузовах машин ослепительно блистали солнечные блики.
— Выключаю двигатель, — сказал Жоэль. — Вдруг еще полетит дюритовый шланг.
У ночного сторожа «Бристоля» голова шла кругом. Такого утра еще не было! Сначала этот автобус. Все хвалят дисциплинированность немцев, но в отпуске они ничем не лучше других. Пришлось побегать, чтобы собрать опоздавших, и все равно чуть не забыли почтенную краснолицую даму, пудрившуюся в туалете. Потом выехала пара из 132-го номера… Потом американцы из 124-го уехали на «шевроле». В семь часов попросили завтрак в 212-й номер. В семь часов! Куда подевалось время спокойных постояльцев, которые спали целое утро, а после завтрака отправлялись на прогулку пешком… «Бристоль» теперь превратился в подобие привокзальной гостиницы для разъездных коммерсантов и транзитных пассажиров. Суета продолжалась и после семи часов. Отнести багаж… пройти в гараж и там повторять: «Выезжайте… проходите нормально…» Без четверти восемь уехал бельгиец на «опеле». Когда сторож запирал за ним гараж, его внимание привлек какой-то блестящий предмет, валявшийся на бетонном полу там, где раньше стояла «Симка-1000». Память у сторожа была натренирована двадцатью годами службы. Здесь действительно стояла «симка». В этом он был уверен. Он подошел поближе.
На полу лежал пистолет. Он взял его за спусковую скобу, понюхал. Из него не стреляли. Такое оружие обычно из предосторожности возят с собой люди, путешествующие ночью, — калибр 6,35. В «Бристоле» постоянно находили забытые вещи: пудреницы, книги, шляпы, зонтики… но пистолет?.. Это впервые.
Сторож огляделся… Все в порядке. Он вдруг вспомнил о человеке, приехавшем, когда немцы заполнили холл. Куда он девался? Он заказал комнату и отправился поставить машину в гараж. Конечно же он приехал на этом «вольво» с номером департамента Сены: 7030 ВД 75. Сторож обошел «вольво», заглянул внутрь. Все нормально. Но все равно странно. Он отнес пистолет внутрь. Консьерж с удивленным и слегка встревоженным видом пошел вместе со сторожем к «вольво». Осмотрели и другие машины, на всякий случай. Они все больше приходили в недоумение. Неужели в гостинице бандит, готовящий какой-то налет? Решили поставить в известность директора.
Тот прибежал, едва узнав, что в гараже нашли пистолет. От одной мысли о скандале свело судорогой его внутренности. Он стоял и слушал объяснения сторожа. В итоге на одного клиента было меньше, на один пистолет больше. Но невозможно установить между ними связь. Кроме того, клиент, наверное, вскоре объявится. Может, он решил просто прогуляться по берегу моря, воспользовавшись великолепием погоды.
Но все равно стоило прикрыться. Директор позвонил в полицию, и через четверть часа в «Бристоле» появился офицер полиции Минелли. Вид у него был не очень встревоженный… Пистолет, тем более калибра 6,35… его мог подбросить любой прохожий, увидев открытые двери гаража… Пистолет не был снят с предохранителя. В таком виде оружие было безвредно. Можно предположить, что оно выпало из какой-то машины… Не ясно, правда, как. Но в любом случае повода для беспокойства нет. Что касается владельца «вольво», личность его установить предельно просто. Стоит только позвонить в парижскую полицию. Это займет полчаса. Офицер полиции Минелли открыл отделение для перчаток, порылся в других местах… ничего особенного… дорожная карта, электрический фонарь, инструкция по эксплуатации автомобиля… В багажнике чемодан с бельем, пижама с инициалами «П.Ж.», бритва, зубная щетка… Набор человека, отправившегося в короткое путешествие.
— Сообщите, когда ваш клиент вернется. В любом случае вы правильно сделали, что вызвали нас. Никогда не знаешь, что случится. Пока будем ждать. Но серьезного вроде бы нет ничего.
Он записал номер «вольво» и перед отъездом согласился выпить чашку кофе!
Они застряли в центре городка.
— Сен-Максимен, — сказал Рене, — и это одно из двух или трех самых неприятных мест.
Слева под платанами бил фонтан, где люди из этого громадного каравана заполняли пустые бутылки. От двигателей, работавших на холостых оборотах, на улице слышалось густое, непрестанное гудение, а выхлопные газы наполняли воздух зловонием. Из-за жары люди открывали дверцы, выставляли ноги наружу. Местные жители, шедшие по своим делам, протискивались между бамперами, бросая на ходу фразы: «Сколько нам уже обещают построить автостраду… И целыми днями это все у нас под окнами… А ночью грузовики… Надоело жаловаться…»
Раздался сигнал одного автомобиля, потом другого, кончилось диким ревом, который, отражаясь между фасадами древних зданий, разносился далеко за пределами города. Вопль застрявшей колонны.
Флоранс зажала уши руками.
— Не могу больше, — прокричала она.
Вдруг, как по мановению волшебной палочки, шум прекратился, но движения все равно не было.
— Подожди, — сказал Рене. — Попробую узнать.
Он вышел, сделал несколько шагов, пройдя две машины, ему не хотелось уходить далеко. На тротуаре стояла группа мужчин в рубашках с засученными рукавами и просто в майках.
— Что-то случилось? — спросил Рене.
— Не знаем. Булочник говорит, что там столкновение. Если будут составлять протокол, то это надолго.
Рене вернулся в машину. По замкнутому лицу Флоранс, по тому, как она обмахивалась платком, он сразу понял, что она вне себя.
— Понимаю, — сказал он. — Но трудно всем.
— Все это мерзко. Если так будет продолжаться, я поеду сама.
— Как?
— Где-нибудь поблизости есть вокзал. Вернусь в Ниццу.
— А… твой муж?
— Плевать на него, в конце концов.
Платком отогнала муху, разгуливавшую по приборной доске.
— Надо же, — продолжала она. — Остановиться прямо у мясной лавки.
— Я остановился там, где мог, — сухо ответил он. — Выбора не было.
Назревала ссора. Теперь Рене лучше осознавал всю абсурдность их плана. В гостинице, в тишине комнаты возвращение в Париж казалось вполне разумным делом. А теперь? Уже почти девять часов, а они еще в Сен-Максимене. После Экса все, конечно, пойдет быстрее. Но, не говоря уже о таких местах, как Вьенна и Турнюс, есть еще и пригороды Парижа. Ко всему прочему, надо где-то позавтракать. Двенадцать часов! Осталось двенадцать часов! О! Зачем он послал эту телеграмму!..
— Не могу себе простить, — пробормотал он. — Знаешь, я могу ехать один. Может, так лучше.
— Оставь, — устало произнесла она.
Какое-то время они сидели неподвижно, обливаясь потом, как два чужих, незнакомых человека. Перед ними «рено», за которым они следовали с момента выезда на трассу. Позади «пежо». Те же лица, как в поезде, где в конце концов знакомишься с попутчиками. Руль стал горячим, как все части тела, на которые падало солнце, — колени, плечи. Сиденья издавали запах кожи, воняло выхлопными газами, несмотря на закрытые окна и включенный на полную мощность вентилятор. Впереди послышался звук включаемых сцеплений.
— Стояли не так уж долго, — сказал Рене.
Машины медленно двинулись с места. Но не прошли и тридцати метров, как впереди зажглись тормозные огни, и процессия снова остановилась. Рядом с ними было кафе.
— Хочешь пива? — спросил Рене.
Флоранс вымученно посмотрела на него. Рене подумалось, что своим немым упреком она немного переигрывает. Он не стал ждать ответа. Быстро вышел из машины. Перед стойкой уже толпились другие путешественники. Он узнал высокого усача из «пежо».
— Можно не торопиться, — объяснил хозяин. — Они сейчас освобождают дорогу… Так каждый раз. Все хотят проехать сразу, и от этого аварии.
— Возвращаюсь в Париж, — проговорил толстяк, вытирая медвежью грудь клетчатым платком.
— Я тоже, — сказал Рене.
Усатый вежливо кивнул головой, взял четыре бутылки пива, расплатившись крупной купюрой.
— Скоро нечем будет давать сдачу, — проворчал хозяин.
Рене взял фруктовый сок. Пиву Фло предпочитает оранжад. Он остановился на пороге и оглядел улицу сверху. Справа и слева блестели кузова машин — кочевое стадо, остановленное в своем неспешном передвижении. Рене вдруг подумалось, что ничего бы не произошло, если бы для взрыва на вилле Жерсена не выбрали именно это время всеобщей неразберихи, если бы самолеты не летали с полной загрузкой, если бы поезда не были переполнены, если бы Париж не оказался вдруг недосягаемым, таким же далеким, как Мельбурн или Сан-Франциско. Возможно, для кого-то безумие этих нескольких дней порождает драмы. Для них с Фло это уж точно. Жерсен… Плевать ему на Жерсена. Он терял Фло, вот это он сознавал очень хорошо. Виновата она, виноват он, все виноваты. У него было впечатление, что он угодил в какой-то концентрационный лагерь, мелкими бросками перемещающийся по стране под насмешливыми и веселыми взглядами.
Рене вернулся в машину.
— Они едут в Париж, — сказал Жоэль. — Я сам слышал, как этот тип говорил.
Он поднял бутылку до потолка машины и, полузакрыв большим пальцем горлышко, тонкой струйкой начал вливать в себя пиво.
— Не могу понять, зачем мы за ними едем, — проговорил Жорж.
Тыльной стороной руки Жоэль вытер губы.
— В любом случае нам тоже надо возвращаться. Уж лучше пусть они едут в Париж, а не в Женеву или Германию. В Париже у нас есть небольшой шанс. Надеюсь, они оставят тачку на безлюдной улице.
Он не упрекал, не отчаивался. Просто развлекался, как ребенок на ярмарке. Ну а Жорж страшился момента, когда надо будет дать отчет Влади. Он беспрестанно возвращался мысленно назад, вновь переживал то мгновение, когда принял решение. Оно действительно было единственно разумным. Жерсен лежал на земле, багажник «ситроена», стоящего рядом, открыт… Влади поступил бы так же. Разве он мог предвидеть, что именно эта машина сразу уедет? Конечно нет. Ему не в чем себя упрекнуть. Но дело-то все равно провалилось. Только такой наивный человек, как Жоэль, может воображать, что им удастся достать труп. Но даже если удастся… что они будут делать с телом? Скажут Влади: «Он там, внизу». Этот труп теперь превращался в динамит. Не трогать! Опасно!.. Тем хуже для Клода. Бедняга, когда полиция доберется до трупа Жерсена, он станет соучастником убийства. А это вопрос нескольких часов!
«Ситроен» медленно тронулся с места. Жорж осторожно включил скорость. Ни в коем случае нельзя столкнуться с «ситроеном», но ехать приходилось почти касаясь его бампера, поскольку сзади впритык к «пежо» двигался «мерседес», за которым по пятам наверняка шла какая-то машина, и так на протяжении многих километров. На перекрестке стояли два полицейских мотоциклиста, их легко было различить издалека по голубым рубашкам и сверкающим на солнце шлемам. На дороге валялось битое стекло, блестевшее, как слой града. На обочине стояла полицейская машина. Объехали пострадавшие машины с раскрытыми дверцами. Скорость понемногу увеличивалась. «Ситроен» воспользовался просветом и обогнал две машины, затем встал в ряд. Жоржа это застало врасплох, и он не успел повторить его маневр. Начиналась гонка, ужасающая игра в прятки, требующая неимоверного внимания. Жорж довольно прилично водил машину, но ему было далеко до виртуозности Жоэля.
— Давай я сяду за руль, — сказал Жоэль.
— Боже, для этого надо остановиться. О чем ты думаешь!
Появилась сплошная желтая разметка, вынуждавшая поток ехать в один ряд. «Ситроен» они замечали на поворотах и на подъемах. Жоэль вдруг увидел, как он выехал в левый ряд и обогнал «универсал». Вскоре они доехали до участка, где дорога расширялась, и Жорж, посигналив, начал обгон.
— Машина у него мощнее, — произнес Жоэль. — На трассе после Экса он нас обставит. Запомни номер: 8065 Р3 06.
— Знаю… Знаю…
— Белых «ситроенов» сегодня тьма. Не промахнись!
Неожиданно перед ними втиснулась какая-то белая машина.
— Держись ближе, — проговорил Жоэль.
— Отстань. Веду, как могу.
Они въехали в Ле Канэ, не догнав «ситроен», опередивший еще две машины. Не доезжая Экса, поток снова сначала притормозил, потом остановился. Здесь они хотя бы не очень страдали от жары благодаря откосам, нависавшим над дорогой. Жорж вышел из машины, и Жоэль пересел за руль.
— Раз он отправился в поездку, — сказал он, — женушка начнет его искать не раньше чем завтра или послезавтра. У нас много времени, чтобы похоронить тело… Влади наверняка что-нибудь придумает.
— Хватит болтать, — вздохнул Жорж.
Он обошел машину и сел справа. Через некоторое время возобновил разговор:
— Я все думаю о пистолете… Тебе не кажется, что когда найдут пистолет в гараже, это будет выглядеть странным?.. Ведь кто-нибудь его обязательно найдет. Скажет об этом портье, тот хозяину, а этот поставит в известность полицию.
— Ну и что?
— Что?.. Найдут «вольво» Жерсена и его пистолет… а Жерсена нет… Тебе не кажется, что они начнут шевелить мозгами? Тем более что Жерсен — не рядовой обыватель. А вчера взорвали его виллу…
Жоэль улыбнулся.
— Умора, — выдавил он.
— Еще уморительнее, если мы наткнемся на полицейский кордон.
— У нас все в порядке. Документы на машину у тебя есть. Ничего с нами не случится.
Как ему объяснить, что он такой же наивный, как овчарка? Стоило ему крикнуть «Апорт!», и он принесет требуемое, несмотря ни на какие препятствия.
— Как бы я хотел походить на тебя! — пробормотал Жорж.
«Ситроен» проехал Экс. Самые большие трудности позади. Почти десять часов. Если повезет, они будут в Париже до Жерсена. Рене увеличил громкость радиоприемника: там сообщали о заторах. Флоранс делала вид, что дремлет. Время от времени она забывалась, приходила в себя только для того, чтобы сообщить, что ей жарко и что она до крайности устала. Рене иногда обращался к ней. Она не отвечала. Он был добрым, внимательным, преданным, нежным, а ей в ответ нечего ему сказать… Она ничего не могла с собой поделать. Она его никогда не полюбит. Себя не пересилить… Ее пугало будущее. Он ведь будет приставать… Звонить, писать до востребования, строить из себя смиренного. А у нее не будет сил оттолкнуть его. Он — как нищий, как инвалид с грустными глазами… В определенном смысле он хуже Поля!.. Как же выпутаться?.. Пытаешься уйти от одного и попадаешь к другому. А если они договорятся, оставив ее в дураках… Она смутно слышала голос диктора, рассказывающего об операции «Примула»… Заторы почти повсюду… 12 км в Сен-Андре-де-Кюбзак… 21 км в Пертюсе… 7 км во Вьенне… Заторы… Пробки… Перекрытые дороги… Разбитые надежды… Расстроенные жизни… Ладно, надо спать!
Он потряс ее за плечо. Она открыла глаза и увидела медленно проносящиеся верхушки деревьев.
«…Повторяем, разыскивается владелец „вольво“, номер 7030 ВД 75. Он прибыл в гостиницу „Бристоль“ в Ницце около пяти часов утра, и после о нем ничего не известно. Неподалеку от его машины найден мелкокалиберный пистолет. Кто располагает какой-либо информацией, просьба позвонить по телефону 85-27-51».
— «Бристоль», — сказал Рене. — Какое странное совпадение.
— Но… это же «вольво» Поля! — воскликнула Флоранс.
— Что?
Он поспешно выправил машину, которая вильнула на середину дороги, раздался резкий сигнал, и они увидели, что водитель встречной машины сердито постучал пальцем по виску.
— Уверяю тебя, — продолжала Флоранс. — «Вольво-7030 ВД 75» — это его. Нет никаких сомнений.
— Но я думал, он в Лондоне.
— Я тоже… и пистолет… Рене, мне страшно.
Он поискал ее руку, сжал ее.
— Нет. Не надо бояться.
— Но ты же слышал, как и я… Номер «вольво» — 7030 ВД 75. Мне это не приснилось.
Как он раздражал своими стараниями успокоить ее, несмотря на очевидное.
— Поль в Ницце, — отрубила она. — И мне совершенно ясно, как все произошло. По какой-то причине он не смог улететь. Вернулся в Париж. Нашел твою телеграмму… мою записку…
— Но как он узнал, что мы в «Бристоле», в Ницце?.. Нет. У меня другое объяснение. Машину украли в Довиле молодые люди, которым захотелось прокатиться на Лазурный берег. Просто-напросто. А «Бристоль» — это совпадение.
— А пистолет? Говорили о малом калибре. А у Поля как раз пистолет калибра 6,35.
— Но не у него же одного!
Она не соглашалась, как будто ей доставляло какое-то удовольствие уличить его в промахе.
— Он в Ницце, — настаивала она. — Приехал туда, чтобы нас убить.
— Перестань!
— Он любит меня.
— Странная любовь… А если он одолжил машину знакомому? Что? Разве так не могло быть? Он улетел в Лондон и намеревался вернуться прямо в Париж. На два дня машина была ему не нужна.
— И этот знакомый остановился именно в «Бристоле»?
Почему такой снисходительный тон?
— Может «Бристоль» — единственный отель, где были места?
Какое-то мгновение она оставалась в нерешительности, но затем возобновила атаку:
— А почему этот знакомый исчез, едва приехав?
— Из-за женщины, думаю… Свидание где-то в другом месте… Но если у тебя другое объяснение…
Она пожала плечами и закурила сигарету. Бедный Рене! Издалека они увидели, как опускается шлагбаум железнодорожного переезда и колонна остановилась.
— Ты полагаешь, — проговорил он, — что в его ситуации он стал бы в нас стрелять?.. Если бы он нас неожиданно застал, другое дело… Но если ты права, то у него было время подумать.
— А зачем же он приехал в Ниццу?
— Он не приезжал в Ниццу. Тебе нечего бояться. Надо продолжать путь, Фло. Глупо поддаваться панике. Чем больше я об этом думаю, тем больше склоняюсь к мысли, что машину украли в Довиле.
Они услышали шум поезда, затем увидели медленно катившийся товарняк. В одном вагоне блестели рога.
— Бедные животные! — сказала Флоранс. — В такую жару.
К глазам подступали слезы, но не из-за заключенных в вагоне коров, это из-за… она сама точно не знала… Из-за Поля, раздражения, неясных угрызений совести, возможно, совершаемого над ней насилия. Она завидовала спокойствию Рене и ненавидела его. Как хорошо им удается выдавать самое удобное объяснение, лучше всего их устраивающее! Поль тоже в совершенстве владеет искусством находить доводы. Застигнутый врасплох, он впадает в ярость. Тогда он бросается в машину и катит в Ниццу… Если он и правда видел записку и телеграмму, тогда ей уже не надо возвращаться домой, просить прощения, признаваться в грехах. И он в очередной раз будет прав. Так они унижают. Даже не замечая этого.
Ей вдруг захотелось выйти из машины. Она взялась за ручку дверцы. Экс всего в нескольких километрах. Можно дойти пешком. Но ее ужаснула новая мысль. А что, если Поль видел их в гостинице? А что, если он преследует их в другой машине? Она обернулась. Увидела «пежо» с сидящими в нем безмятежными пассажирами. А что дальше, за ними?.. «Все это нелепо. Я становлюсь дурой… Поль в Ницце. Ищет меня… Или поехал туда по срочному делу… Ему случается совершать дальние поездки, не предупредив…»
Рене съехал с дороги и затормозил на заправочной станции «Элф».
— Лучше заправиться до автострады. Ужасно, сколько съедается бензина на такой черепашьей скорости.
Он вышел из машины, и ему показалось, что слегка кружится голова. Сделал глубокий вдох, протер глаза. А ведь он был человеком, привыкшим к жаре.
Сразу стало лучше. Даже шум начал казаться не таким громким.
— Полный бак? — спросил заправщик.
— Да, пожалуйста.
У соседней колонки за большим «универсалом» с американским номером своей очереди ждали молодые люди в «пежо».
— Извините! — сказал заправщик. — Перелил.
По крылу «ситроена» стекал бензин.
— Если не вытереть, — заметил Рене, — прилипнет пыль. Выглядеть будет отвратительно… У меня в багажнике есть тряпки.
Он обошел машину.
— Ну вот! — прошептал Жорж. — Сейчас!
Жоэль перестал жевать и уставился на Рене, протянувшего руку к кнопке багажника. Но в это время подбежал заправщик с ведром.
— Подождите! Я лучше вымою… Так будет чище.
Он приложил к загрязненному месту почерневшую губку и тщательно его протер. Рене достал бумажник.
— Пока пронесло, — сказал Жорж. — Но это произойдет. Неизбежно!
— Может, да… а может, нет, — бросил Жоэль. — Давай поспорим.
— Но, черт побери, это же не игра.
Рене сел в машину. «Ситроен» отъехал. Жорж расплатился и, чтобы не терять времени, отказался от сдачи. Обе машины влились в поток, протянувшийся от одного края горизонта до другого.
Господин Морель вошел в гараж. Многие машины уже уехали. Его «таунус» стоял в конце неподалеку от «вольво», и он подумал, что выкатить его не составит труда. Эта машина была у него всего три недели, и он еще не совсем к ней привык. С гордостью осмотрел ее издалека. Ему нравились эти современные линии, может быть, немного тяжеловатые, но элегантные. Настоящий автомобиль для автострад. По правде говоря, Морель ездил мало. Он уже вышел из возраста дальних поездок и довольствовался тем, что дважды в году ездил из Лиона в Ниццу. Но это не мешало ему испытывать к автомобилю непомерную привязанность. Поэтому-то у него и сжалось сердце, когда он заметил под задним стеклом что-то черное, пятно или след удара. Он бросился к машине и остановился в изумлении. Дыра! Как от удара пробойником. Его охватило такое волнение, что он вынужден был прислониться к машине. Он чуть не заплакал. Гостиница за это заплатит. Просто так это им не сойдет. Морель бросился в холл, схватил за руку портье.
— Пойдемте… Посмотрите… Место в гараже берешь, чтобы быть спокойным, а тут… Пойдите посмотрите сами.
— Вас поцарапали? — спросил портье.
— Если бы… хуже.
Он остановился перед «таунусом».
— Вот… Насквозь!
— Но это же след от пули, — выговорил портье.
На память пришла история, рассказанная коллегой, когда он пришел сменить его… Таинственный «вольво», пистолет… А теперь вот след от пули!..
— Я должен предупредить полицию, — продолжал он. — Огорчен, мсье, но вам лучше ничего не трогать. Дело, возможно, серьезное.
— Невообразимо! — воскликнул Морель. — Меня ждет жена. Мы должны ехать в Ментону.
— Боюсь, что полиция задержит вас здесь на целый день. Если позволите, я позвоню директору.
Было половина одиннадцатого. Для бедного Мореля, стоявшего у «таунуса», как у изголовья больного, начинались часы испытаний. Засвидетельствовать ранение пришел директор. Засунув в дыру мизинец, он произнес:
— Крупный калибр.
Портье что-то прошептал ему на ухо, тот кивнул, добавив:
— Попросите офицера полиции Минелли.
Но прибыл дивизионный комиссар собственной персоной. Его сопровождали инспектор и сотрудник лаборатории со своим хозяйством. Рассеянно поприветствовав Мореля, ничего не значащего в его глазах, он осмотрел дыру.
— Пуля в спинке, — констатировал он. — Приступайте, Ландро.
Ландро вытащил спинку, аккуратно, как хирург, исследовал рану и пинцетом извлек пулю. Морель тревожно следил за операцией. Оплатят ли по страховке ремонт?
— Вот она, — произнес полицейский.
Он показал пулю комиссару. Тот осмотрел ее, не дотрагиваясь.
— На ней кровь, — заметил он. — Кто-то здесь был ранен… или даже убит.
Повернулся к Морелю.
— Ваша машина понадобится нам для расследования. Вас же прошу оставаться на месте. Поверьте, я сожалею об этом.
Затем отвел директора «Бристоля» в сторону.
— Совершено преступление, — прошептал он. — Напали на вашего клиента, владельца «вольво». Он, видимо, что-то подозревал — при нем был пистолет, который нашли утром. Но не успел защититься. Убийца выстрелил в упор, пуля прошла навылет, потом пробила кузов этой машины. Удивительно, что не нашли следов крови. Хотя если попали в сердце… Вряд ли произошло иначе. По дыре и положению пули мы скоро узнаем, откуда был произведен выстрел… Детонации никто не слышал. Пистолет наверняка был с глушителем… Странно!
— А… тело?
— Его увезли.
Комиссар еще больше понизил голос.
— Нам уже известно имя владельца «вольво». Речь идет о видном человеке… очень видном… Мы не будет раскрывать его как можно дольше, дабы избежать скандала, ведь у нас ни в чем пока нет полной уверенности. Машину могли и угнать.
Инспекторы рылись в «таунусе», не обращая внимания на протесты Мореля.
— Мне нужны показания ночного сторожа и портье, который был тогда на дежурстве, — продолжал комиссар.
— Это просто. Если пройдете в мой кабинет… Мне бы не хотелось, чтобы это дело привлекло слишком большое внимание… У меня клиентура…
— Я в такой же передряге, как и вы, — отрезал комиссар. — На меня насядет Париж. Если бы вы знали…
Он расположился в кабинете, а директор послал за служащими, отдыхавшими на последнем этаже гостиницы. Вскоре они спустились, позевывая.
— Нам опять нужны ваши показания, — сказал комиссар. — Попытайтесь вспомнить… Как выглядит человек, приехавший ночью?
— Не очень высокий, — сказал портье. — Брюнет с темными глазами. На нем был твидовый костюм. Он заказал номер и сразу вышел поставить машину.
— В котором это было часу?
— Ну, автобус с немцами должен был вот-вот отойти. Жермен…
— Это я, — произнес сторож.
— Жермен помогал выносить багаж. Было около пяти.
— Я видел, как «вольво» остановился за автобусом, — сообщил Жермен. — Но у меня не было времени открыть гараж. Водитель сам изнутри сдвинул ворота. Он прошел туда из холла.
— В тот момент в гараже никого не было?
— Нет. Правда, в это самое время спустилась пара… Энбоны, помню их фамилию… Они очень торопились.
— Точно, — сказал портье. — Он вышел первым. Расплатился и пошел в гараж… Помню даже, что в этот момент из лифта вышла жена и он вернулся… Больше ничего не знаю, был слишком занят.
— Да, да, конечно. А какой у них был багаж?
— Почти ничего. У нее чемоданчик, у него что-то вроде «дипломата».
— Они здесь долго жили?
— Нет. Приехали вчера вечером, около двадцати двух часов… Да, вспомнил. Она заказала номер по телефону из Парижа.
— Сколько им лет?
— Около тридцати.
— В них не было ничего запоминающегося?
Портье развел руками:
— Ничего особенного… Она показалась мне красивой.
— Что у них была за машина?
— Белый «ситроен», — ответил сторож.
— Не помните номер? Хотя бы номер департамента?
— Нет.
— Если я правильно понимаю, после того, как они вошли в гараж, их никто не видел?
— Именно так.
— Но они же находились в гараже примерно в то же время, когда там появился владелец «вольво».
— Именно в это время.
— У вас есть, конечно, их адрес.
— Формуляр заполняла женщина.
— Выясним.
— Можно вам предложить что-нибудь, господин комиссар? — спросил директор.
— Нет, спасибо… В этом деле все странно… Допустим, что… Как их звали?
— Энбоны, — ответил портье.
— Допустим, что у него возникла ссора с владельцем «вольво». Заметьте, это не доказано… Мужчины могли подраться из-за малейшего пустяка, особенно когда речь идет о машинах. Это понятно. Один не дает другому выехать, происходит стычка. Ладно. Оба вооружены, вот это объяснить труднее… Приходится даже предположить, что жена помогла мужу поднять тело и засунуть его в багажник «ситроена»… Вот это невероятно! Подождите!.. Я сказал: в багажник «ситроена»… а может, а багажник другой машины.
— Я ушел со службы в девять часов, — сказал ночной сторож, — все клиенты, которым я помогал, клали чемоданы в багажники, значит…
— Значит, есть другие. Можно где-нибудь в гараже спрятать тело?
— Нет, — ответил директор. — Это просто ангар. Впрочем, вы его видели. Просто четыре стены.
— Хорошо, благодарю вас.
Он вернулся к «таунусу» в сопровождении директора, подобострастно открывавшего и закрывавшего двери. Там все еще работал Ландро.
— Ничего нового?
— Ничего. Я сделал снимки.
Комиссар отвел инспектора в сторону.
— Проверь все машины и просмотри карточки всех клиентов, проведших здесь ночь. Мало ли что! Сейчас одиннадцать часов, если это сделал тип из «ситроена», у него в распоряжении уже шесть часов, чтобы смыться и избавиться от трупа.
— Вы же знаете, сегодня быстро ехать не может никто.
— Но у него же шесть часов!.. И представьте, какой поднимется шум, если выставить кордоны.
Робко приблизился несчастный Морель.
— Нам надо ехать в Ментону… — начал он.
— Для этого есть такси, — отрезал комиссар.
В Пон-Руаяле, неудачно затормозив, дорогу перегородил прицеп. На нем стояла лодка из красного дерева, блестевшая как предмет дорогого гарнитура. Флоранс теребила платок.
— Так мы никогда не доедем. Давай где-нибудь остановимся.
— Послушай, Фло, ты же сама хотела…
— Знаю… Знаю… Но теперь все не так.
Ответ был довольно сухим, за это она себя укорила, но у нее не было больше сил сдерживаться. Прежде всего, разве не он должен принимать решения, управлять ситуацией, вместо того чтобы просто так катить по дороге? Они что, так и будут ехать бесконечно, не останавливаясь, чтобы поесть, а особенно попить, и не только чтобы попить, ведь…
— Рене, — произнесла она натянутым тоном. — Мне хочется… понимаешь.
— Скоро Сенас, — ответил он с раздражающей нежностью. — По дороге найдем стоянку… Еще три четверти часа. Потерпишь?
Она приподнялась, оторвав измятую юбку от кожи сиденья, подкрасилась, но пот все равно блестел на носу, на лбу. Она чувствовала, что ее элегантность тает, как большой фигурный торт. Караван снова двинулся в путь, теперь они ехали за черной «симкой», отражавшей солнце, как зеркало. Водитель время от времени вытирал платком шею, затем отдавал его жене, и та отгоняла им мух. Это выглядело отвратительно, но мало-помалу все становилось отвратительным. По мере того, как продолжалось это лишенное смысла плутание, пробуждался голод, жажда, тревога. Доехав до развязки, выводящей на автостраду, они оставили слева шоссе № 7, но хоть поток и разделился, движение все равно оставалось плотным. Встали в очередь, чтобы уплатить дорожную пошлину. «Лион — 245 км». Это было написано крупными буквами, цифра вызывала головокружение. Почти полдень.
— Прицепи ремень, — посоветовал Рене. — Надеюсь, сейчас поедем.
Поедем! Но ведь машины в два ряда виднелись до самого конца прямой линии, делившей надвое сверкающие от солнца поля. Что это, слепота или инфантилизм? Но они все-таки поехали. Скорость увеличивалась. Уши обтекал воздух, как поток свежей воды. Рене начал обгон, истошно сигналя. Стало как на войне, каждая машина превращалась в противника, которого надо вывести из строя, наседая на него, лишая его воли. Некоторые сопротивлялись, не уступали левой полосы. Распалялось самолюбие. Но появлялся «порше» или «астон-мартин», требуя освободить путь, и все успокаивались.
Рене тоже, в состоянии напряжения и возбуждения, оглядывал свои тылы, не желая совершить оплошность перед Фло. Он не обращал внимания на пейзаж. Ни на приветливо раскинувшиеся с одной стороны холмы, на которых одна над другой громоздились мирные деревушки, а с другой, у горизонта, высились голубоватые горы, чуть дрожавшие вдалеке, подобно отражению в воде. Он превратился в снаряд, заботящийся только о своей траектории. Спидометр остановился на отметке «90». Мимо них пронесся указатель: «Карпантра». Возвращалась надежда.
— Все в порядке? — спросил он.
— Да.
— После Вальреаса есть придорожный ресторан, приличные туалеты. Может, удастся что-нибудь перекусить.
— Это далеко?
— На такой скорости не больше получаса.
Она вздохнула, откинула голову и закрыла глаза.
— Ты их видишь? — спросил Жорж.
— Да… Быстро едут, сволочи!.. Прижмись, дерьмо!
Он обошел малолитражку, двигавшуюся по середине шоссе, прижал «рено», пассажиры которого завтракали, сидя с салфетками на шее. Машина приняла вправо, и Жоэль насел на «Ами-6», чувствовавший себя хозяином на дороге. И его удалось сделать. «Ситроен» впереди обгонял автобус.
— Ну и воняет, наверно, Жерсен в багажнике, — сказал Жоэль. — При такой жаре запашок появится.
— Представь себе, я тоже об этом думаю, — отозвался Жорж. — И мне не до смеха.
Придорожный ресторан оказался переполненным. Люди облепили стойки и торговые автоматы, как осы вазу с фруктами. Фло, пошатываясь, направилась к краю площадки, а Рене пытался пробиться к бару, потрясая в поднятой руке десятифранковой бумажкой. Пахло зверинцем, аптекой и горячей резиной. Плакали дети, под ногами валялись картонные стаканчики и пластиковые упаковки. Стоял неимоверный шум. Рене еле дышал. От усталости на нем выступил нехороший пот, ноги дрожали. Наконец он протиснулся к бару. Но не очень-то получалось. Ему пришлось крикнуть несколько раз:
— Два кофе.
Флоранс вернулась и знаком показала ему, что ей не хочется ввязываться в эту переделку. Он выпил оба кофе и подошел к ней.
— Чудовищно, — проговорила она. — Нельзя даже вымыть руки. Ничего не работает. Рене, давай уедем… Черт с ним… Обойдемся без еды. Я больше здесь не могу… Плевать мне на все, на все… Поехали куда угодно, лишь бы все это кончилось.
Он обнял ее за плечи, но она оттолкнула руки.
— И так жарко. Давай уедем.
— Вот что я предлагаю, — проговорил он. — В Монтелимаре свернем с дороги. Это рядом. Поедем по шоссе № 7 и перед Валансом повернем направо. В Кресте есть хороший спокойный ресторан. Это займет два часа, но ведь я, как и ты, окончательно вымотался. Подожди… Послушай…
Посреди этого шума доносился голос диктора. Над стойкой стоял приемник, и одна неожиданно услышанная фраза насторожила Рене. «Преступление в Ницце…» Дальше следовала информация. Из-за шума слышно было не очень хорошо. «…„Бристоль“… неизвестный на „вольво“…» Еще два кофе!.. «…убит выстрелом из пистолета…» Ворвалась группа весело перекликающейся молодежи. Флоранс схватила Рене за руку. «Труп увезли убийцы…» Хоть это было ясно. После опустошающей неизвестности показался проблеск надежды. Сраженные, опустошенные, они смотрели друг на друга, их вдруг охватило невероятное облегчение. Наконец-то закончилась эта отупляющая гонка. Диктор тем временем перешел на другие темы… повышение цены золота… напряженность на Ближнем Востоке… Рене протиснулся к выходу, ведя за собой Флоранс, и, оказавшись на бетонной площадке, посреди заправочных колонок, запаха металла и бензина, они вздохнули свободно, как будто их легкие наполнял свежий морской воздух.
— Его убили, — сказала Флоранс. — Ты это сам слышал.
— Да. Слышал… Мне кажется…
Им пришлось отступить в сторону, пропуская «опель» с огромным трейлером, из которого раздавалась джазовая музыка.
— Мне кажется, это связано с политикой. Раньше я думал, что у него угнали машину, но оказывается, все гораздо проще. За ним следили до Ниццы и убили, когда он хотел остановиться в «Бристоле»… Согласен, все это очень запутано, но… Взрыв на вилле нельзя не связать с его смертью. Тебе не кажется?
— Поехали, — сказала Фло. — Увези меня в Крест… там деревья, сады, цветы… Тебя не удивляет, что где-то еще есть цветы?
Они вернулись в машину. Приемник там продолжал работать, но очень тихо. Рене прибавил звук.
— Может, еще что-то узнаем…
«Ситроен» выехал на шоссе, по которому несся нескончаемый поток машин. Рене осторожно пристроился в правом ряду, где натруженно пыхтели малолитражки и разбитые колымаги. Торопиться больше некуда.
— И все же, — проговорила Флоранс, — мне надо вернуться как можно быстрей. Ведь к нам обязательно явится полиция. Если меня не будет дома, это покажется странным, согласен?.. Кроме того, мне хочется заполучить свою записку и твою телеграмму.
Она говорила деловым тоном, но Рене почувствовал, что враждебность в его адрес исчезла. Для нее это избавление. Флоранс не сидела больше с отрешенным видом, как человек, отказавшийся от борьбы. Она как-то по-особому посмотрела на Рене, и в его воображении возникла картина сероватых облаков, из-за которых пробивается солнце.
— В любом случае, — перебил он ее, — у нас есть время, и нам не мешало бы хорошенько подкрепиться.
— Мне его жаль, — продолжала она, — умереть такой смертью! Как глупо! Доигрался со своей политикой!.. Где он сейчас?.. Почему увезли тело?..
— Этого-то я и не понимаю, — ответил Рене. — А вот и Монтелимар. Приготовь деньги для дорожной пошлины.
Дивизионный комиссар держал совет со своими инспекторами.
— Дело ясное, — говорил он. — По адресу, записанному в карточке «Бристоля», никаких Энбонов нет. Они указывали вымышленный адрес. Я только что получил подтверждение из Парижа. Следовательно, убийство преднамеренное. Они, видимо, договорились с жертвой о встрече. Не случайно так называемый Энбон вошел в гараж через одну дверь, а Жерсен через другую.
— Жерсен? — спросил Минелли. — Жерсен из «Консьянс»?
— Да.
— Черт! Поднимется страшный шум.
— Не будет никакого шума, — отрезал комиссар. — На этот счет сверху… с самого верха получены предельно четкие указания. Никаких утечек! По крайней мере, пока. Категорически запрещено упоминать это имя. Прессе его не сообщать, понятно?.. У меня лично сомнений нет никаких: на «вольво» приехал именно Жерсен. Кроме того, на белье в чемодане стоят метки «П. Ж.». И все же… небольшое, крошечное сомнение остается. И пока не найден труп, мы не можем ничего утверждать с полной уверенностью. Так что никаких утечек. На этом деле все мы можем погореть. Представляете, какая развяжется кампания в случае ошибки. И когда я говорю «мы», речь идет не только обо мне и о вас, достанется и правительству. Нужен труп любой ценой. Нам известно, что его засунули в багажник белого «Ситроена-ДС».
— Сейчас на дорогах сотни белых «ситроенов», — возразил Минелли. — А у убийц семь часов преимущества.
— Знаю, — ответил комиссар. — Но знаю и то, что они ни за что не рискнут пересечь границу. Еще знаю, что при всех этих заторах, пробках, при крайне медленном движении на дорогах далеко они уехать не могли. Хотя вполне возможно, что они уже закопали тело где-нибудь поблизости на холмах. Но у нас нет выбора. Немедленно займитесь этим и сделайте все необходимое… Объявляется всеобщий розыск… начинаем игру…
— У нас один шанс из тысячи.
— Это лучше, чем ничего… Минелли, я на вас рассчитываю… И еще! Позовите Бриффо. Кондиционер не работает. Здесь просто задыхаешься.
— Они спятили, — сказал Жоэль. — Что это им взбрело в голову? Шоссе № 7 забито еще больше, чем автострада.
От «ситроена», двигавшегося по направлению к Валансу, их отделяло четыре машины.
— Может, хотят перекусить, — предположил Жорж.
Жоэль попытался обогнать шедший впереди «рено», но все время мешали встречные машины.
— Не суетись, — посоветовал Жорж. — До Валанса так и будем тащиться. А там, может, повезет… Удастся позвонить Влади… А что, если он скажет бросить все это… — Он продолжительно зевнул. — Лично меня это бы устроило. Я уже начинаю дрыхнуть.
Он закрыл глаза и расположился поудобнее. Забавно воспринимать вещи только на слух… проносившиеся мимо деревья, разрывавший воздух свист встречных автомобилей, где-то вдалеке поезд… Если папаша хватился «пежо», то наверняка заявил в полицию, еще одна неприятность.
— Черт. Мы их потеряли. Эй… Жорж.
— Что?
— Их нет впереди. Я их не вижу.
— Куда они могли деться?
— Говорю тебе, мы их потеряли. Какое скотство! А ты в это время видишь сны. Я же не могу смотреть направо и налево.
Он посигналил и включил третью скорость. Мотор взревел на полных оборотах, заглушая слова Жоржа, и он одним броском обогнал сначала «рено», а затем маленькую «NSU». Дорога впереди оставалась свободной до видневшегося вдалеке поворота. Он включил четвертую и прибавил скорость.
— Посмотри сам, — крикнул Жоэль.
Жорж придвинулся к нему, изучая дорогу. Начинался поворот. Шоссе уходило влево и просматривалось сбоку на несколько сотен метров. Картинка промелькнула очень быстро, но Жорж успел запечатлеть ее, как на фотопленке. «Ситроена» не было. Только одна белая машина, по всей видимости «крайслер». Жоэль прав. «Ситроен» исчез.
— Разворачиваемся, — решил он.
— Где?.. Скажи где?.. Покажи место, где можно развернуться, если ты такой умник.
Жоэль сбросил скорость, и шедшая сзади «NSU» сразу же начала сигналить, требуя освободить путь. Придется ехать вперед. Пока не будет перекрестка, развернуться невозможно. Но перекрестка не было. Вместо него вскоре появились рассыпанные тут и там первые дома пригорода Валанса.
— Они свернули с дороги, — размышлял Жорж. — Будем рассуждать логично. Сейчас половина первого. Куда обычно идут в половине первого? Пожрать.
— Ну да. И ты что, собираешься объехать все местные забегаловки? Не видели, случайно, белый «ситроен»? Нет, считай, что сорвалось. И потом, у них могут быть и другие причины сделать перед Парижем крюк. Может, у них здесь где-то родственники.
Появились заправочные станции, стрелы подъемных кранов над крышами, громады домов. Валанс! К вечеру труп обнаружат. Это ясно. И легавые в больнице Довиля, сменяя друг друга, примутся за Клода, будут изводить его, не давая покоя.
— Паршиво! — выдавил Жоэль.
— Вот и Крест, — сказал Рене. — Здесь великолепный замок, древние ворота… Но и народу тоже немало.
Стоянки были переполнены. А машины все прибывали, со стороны гор, Диня, Систерона. Рене остановился у «Гранд-Отеля».
— Пойду узнаю.
Флоранс вышла из машины и закурила сигарету. Она страшно устала. Медленно обошла машину, облокотилась на багажник. Почему все-таки увезли тело Поля? Может, хотят потребовать выкуп? Или это месть? В таком случае не угрожает ли опасность и ей? Как остаться в стороне от этой нелепой схватки?.. Уехать! Зря она остановилась в Ницце. Надо было поехать в Италию, Австрию, неважно куда… Причем одной… одной… да, главное, одной!
— Мест нет, — сообщил, вернувшись, расстроенный Рене. — Ждать целый час… Но мне сказали, что есть еще один ресторан, называется «Отдых». Это по дороге в Ди, в пяти километрах. Вроде бы прямо на природе… Таких пока не много. Поехали… Черт побери…
Они сели в машину.
— Я совсем выдохся, — продолжал Рене. — С некоторого времени мотор у меня барахлит. Сегодня утром был у доктора… хотя нет, вчера утром… Я уже не замечаю времени.
Флоранс думала о своем, и он замолк. Вскоре они увидели щит со стрелкой у поворота к «Отдыху» и по узкой дорожке поехали вдоль Дромы, блестевшей за густым рядом плакучих ив.
«Отдых» оказался совершенно новым чистым заведением, наполовину гостиницей, наполовину фермой, с террасой, на которой под желтыми тентами стояли столики и плетеные стулья. У входа вырезанная из фанеры фигура шеф-повара предлагала меню, выглядевшее довольно аппетитно. В конце дороги была стоянка — лужайка на берегу реки. Рене нашел место в тени.
— А здесь неплохо, — сказал он. — И машин не много. Наконец-то мы сможем немного отдохнуть. Пора… Уже почти час.
Через крыльцо над местами общего пользования они прошли прямо в ресторанный зал. Там было прохладно. Зал, выдержанный в кремовых и золотых тонах, выглядел приветливо. Посетителей мало. В глубине негромко работал телевизор.
Они выбрали столик на двоих, и официантка принесла меню. Тишина, свежесть, доносящиеся из кухни запахи жареного мяса, все теперь настраивало на блаженство и покой.
— Так… паштет из дроздов, форель… этого мне достаточно, — заказала Флоранс.
— А я попробую фрикасе из кролика… И для начала бутылочку дийского кларета…
В голове у Рене все плыло… Кровь приливала к скулам… Сказывалась дорога, голод, усталость. Как только открыли бутылку, он выпил большой бокал и улыбнулся Фло.
— Если б не эти заботы, — проговорил он, — было бы почти хорошо. Фло, дорогая Фло, ты меня слышишь?.. Около полуночи мы будем в Париже.
— Будет слишком поздно, — ответила Фло. — Если в Ницце убили не Поля…
— Конечно же Поля. Извини, но я рад… может, это неприлично, но у меня сомнений нет. И ничего не могу с собой поделать. Это доставляет мне радость… Смотри, а вот и новости… Этого диктора я не знаю.
Фло, сидевшая спиной к экрану, передвинула стул. Диктор после краткого обзора новостей перешел к их подробному изложению. Последним в списке было загадочное происшествие в Ницце.
— Это не должно отвлекать нас от еды, — заметил Рене. — Попробуй паштет. Совсем неплохой. Фло, сделай небольшое усилие.
— Подожди, — пробормотала Фло. — Потом…
Фло сидела неподвижно, облокотившись на стол и повернувшись к экрану, а он взял еще один ломтик паштета. В телевизионном репортаже речь шла об операции «Примула», показывали жандармов, полицейских на мотоциклах и снятую с вертолета дорогу, на которой виднелись пятнышки машин, теснившихся как кровяные шарики в артерии. Диктор скучно перечислял места заторов. Появился крупный план с картой на стене, в центре управления зажигались огоньки, вырисовывая маршруты объездных путей. К северу от Лиона образовалась пробка на несколько километров. Выступил министр. Рене продолжал есть, но облегчение не наступало. У него сжимало грудь.
— Фло… Я, может быть, попрошу тебя повести немного машину… вечером.
Она, не отвечая, кивнула головой. Официантка принесла форель. Папа отправился в свою резиденцию Кастель Гандольфо… Брежнев отдыхает на Черном море… В августе повышение стоимости жизни не превысит 0,5 процента…
— Фло, малышка… Форель остынет…
«Преступление в Ницце…»
Рене положил на стол нож и вилку. Показался вход в «Бристоль». Потом гараж, в нем «вольво», камера обошла его кругом. Кадры сопровождались стандартным комментарием. Затем на экране крупным планом возникло лицо человека, которого представили как дивизионного комиссара. Он начал говорить.
«Жертва убита выстрелом из пистолета крупного калибра. По неизвестным нам пока причинам преступники увезли тело. Подозрения падают на мужчину и женщину, которые остановились в гостинице вчера вечером и уехали, когда жертва как раз ставила в гараж машину. Они записывались под вымышленной фамилией и указали вымышленный адрес. Они уехали на белом „Ситроене-ДС“, который сейчас активно разыскивается…»
Сморщив лоб, Флоранс пыталась понять. Люди в ресторане притихли. Рене уже понял все. Истина, как острая струя, пронзила его мозг.
«Дело это может получить большой резонанс, поскольку есть основания предполагать, что жертвой стало хорошо известное в мире журналистики лицо…»
Рене покрылся потом. Флоранс с мертвенно-бледным лицом повернулась к нему.
— Он хочет сказать?..
— Да.
Взял ее руку и сильно сжал.
— Фло… Прошу тебя… Держись… Никто не должен догадаться…
Какое-то время они сидели не двигаясь, с искаженными лицами, перед кусками рыбы, медленно застывавшими в соусе. Мир потерял реальность, шумы доносились откуда-то издалека. Где-то играла музыка, говорившая о любви. Они тупо смотрели на свои белые сплетенные руки, лежавшие на столе, как посторонние предметы из мрамора.
— Значит… он там?.. — произнесла Флоранс чужим голосом.
— Да.
Подошла заинтригованная официантка.
— Мадам плохо себя чувствует, — сказал Рене. — Пожалуйста, отмените заказ и подайте два кофе… на террасе.
Рене немного помолчал, затем вернулся к разговору:
— Фло… Ты можешь передвигаться?
— Попробую.
Он поднялся и помог ей встать.
— Пошли… Главное — не плачь. На нас смотрят.
Негнущимися ногами, как люди, выпившие лишнего, но старающиеся сохранить достоинство, они пересекли зал. Рене провел Флоранс по террасе и усадил за столиком в тени.
— Понимаю, как все произошло, — сказал он. — Твоего мужа убили незадолго до того, как я вошел в гараж. Мой приход помешал убийце. Ему надо было спрятать тело, рядом стояла моя машина, и он засунул его в багажник.
— Он там с самого утра? — Она подавила рыдание. — Бедный Поль! — пробормотала она.
— Пожалеть надо нас, — заметил он.
Неистово трещали цикады. Тени на асфальте казались нарисованными. Жара делала невыносимой саму мысль о смерти. Официантка принесла кофе.
— Мадам лучше?
— Да, спасибо, — ответил Рене, — дайте счет.
Она отошла, и у нее под ногами заскрипел гравий. Это тоже причиняло боль, как серо-голубое небо над ними, как мухи, кружившиеся над кусками сахара. Все вокруг вызывало страдание.
— Я не смогу больше сидеть в этой машине, — проговорила Флоранс.
— И все же…
— Давай сообщим в полицию.
— Не теряй головы. Или ты хочешь сегодня же вече ром оказаться в тюрьме?
— Что же делать?
— Ехать дальше… Найти место, где мы сможем его…
В ту же секунду его потрясла мысль о скрюченном в багажнике трупе. Она показалась невыносимой. Это выше его сил.
— Фло, надо что-то делать, — сказал он.
Но и сам он сидел не шевелясь, у него не было желания двигаться, бороться с охватившей его паникой.
— Если полиция нас арестует, — продолжал он, — жена, любовник… убитый муж… Все ясно… Ты оставила прощальное письмо… Я послал тебе телеграмму… Мы вместе были в Ницце… Вывод очевиден.
— Он всю дорогу был рядом с нами… там… сзади.
Она говорила прерывистым бесцветным голосом, как в бреду. Внезапно она встала.
— Ты куда?
— Пойду внутрь… Здесь я больше не могу. У них там, наверное, есть где-нибудь место в уголке.
— На нас опять обратят внимание, — заметил Рене.
Тем не менее он последовал за ней, осторожно неся в руках чашки с кофе. Расположились в небольшом зале в стороне от общего. Там они были одни.
— Я не хочу, чтобы меня посадили в тюрьму, — простонала Флоранс. — В конце концов, это несправедливо. Почему все против меня?
Она не могла больше сдерживать слез. Плакала с каким-то остервенением. Рене протянул к ней руку, но она отпрянула, как будто боялась испачкаться.
— Оставь меня! Уведи куда-нибудь эту машину.
— Фло… Постарайся понять… Ты уже не девочка… У нас есть еще шанс. Если мы избавимся от… Никто ничего не сможет против нас сделать.
Сам он не был уверен, но в его предложении заключался здравый смысл. Флоранс вытерла глаза.
— Ты собираешься… закопать его? — спросила она.
Она произнесла это голосом, вновь ставшим настолько естественным и спокойным, что Рене удивленно посмотрел на нее. Как его мать, она тоже могла почти что по желанию говорить то заупокойным, то обычным голосом.
— Нет, не закопать. Бросить где-нибудь.
— Как дохлую собаку!
— Фло!
— Но это же мой муж!
— Предложи тогда что-нибудь еще.
Она вновь расплакалась, не стесняясь официантки, которая принесла счет. Рене расплатился. Подождал окончания кризиса.
— Извини, — выговорила наконец Флоранс. — Конечно… Ты прав… Как ты намерен сделать это?
— Мы на второстепенной дороге. Думаю, если поедем в сторону Ди, то найдем где-нибудь тихое место… проселочную дорогу, уголок природы…
— А если встретим полицейский кордон?
— Мне не известны методы работы полиции, но не представляю, чтобы они перекрыли движение в такой день, как сегодня.
— Может, дождемся темноты?
Рене начал терять терпение.
— Послушай, Фло. Теперь от нас требуется мужество. Он в багажнике. Это факт. Пойми это наконец. Считай меня ответственным за все… да, да… я вижу, что ты именно так и думаешь… но помоги мне. Одному мне не справиться… Я слишком устал. Ты поведешь машину, а я займусь всем остальным… Единственное, о чем я тебя прошу, — не паниковать… Поехали?
Он первым вышел в холл, увидел на стене карту и пальцем прошелся по нескольким возможным маршрутам. Флоранс, стоя возле него, подкрашивалась.
— Загвоздка в том, — негромко проговорил он, — что я плохо знаю этот район. На другом берегу Роны мне было бы легче… Ты готова?
Он взял ее под локоть, и они вышли. Одновременно увидели стоявшую под деревьями машину. По крепко сжатой руке Флоранс пробежала дрожь. Он и сам чувствовал себя не очень храбрым. Тем не менее площадку они прошли довольно решительно. «Ситроен», осевший под березой почти на брюхо, казался вполне безобидным. Флоранс остановилась в нескольких шагах от него. Место было безлюдным. Внизу среди песчаных отмелей и валунов еле слышно катила свои воды Дрома.
— Может быть… — начал он.
Она сразу перепугалась:
— Не здесь. На нас уже наверняка обратили внимание.
Она была права. Но, возможно, лучшего места им не найти. Рене сел в машину, завел двигатель, и кузов «ситроена» начал подниматься, как потягивающееся животное.
— Иди сюда, — крикнул он.
Но она никак не могла решиться.
— А если это не он, — проговорила она. — Ты сам говорил, что…
Не выключая двигатель, работавший на холостых оборотах, Рене подошел к ней. Стоя рядом, они рассматривали машину, как барышники больную корову.
— Я не знаю твоего мужа, — произнес он. — Никогда его не видел. Как же я могу…
Он сделал шаг вперед.
— Фло, всего один взгляд… Прошу тебя, взгляни. Я сразу же закрою.
Но ему тут же пришлось броситься назад и поддержать ее. Она теряла сознание.
— Бедняжка Фло! Так мы никогда не доедем… Посиди немного на траве.
Она опустилась, прислонившись спиной к дереву. Рене сел за руль, развернул «ситроен» и вывел его на дорогу. Затем вернулся к Флоранс, довел ее до машины и помог сесть. Она с сомнением оглядывалась вокруг.
— Багажник такой маленький, — сказала она. — Как им удалось?.. Рене, это ужасно.
— Знаю… Знаю… Но больше не думай о нем. Страдания его кончились. Повторяй себе: его страдания кончились… Пока поведу я… Подвинься немного.
Рене хлопнул дверцей и тронулся с места. Машина покатилась по неровной дороге.
— Потише, Рене… Пожалуйста, потише.
— Говорю же тебе, он ничего не чувствует. Фло, дорогая, он уже не пассажир. Это… вещь… Багаж.
Пытаясь успокоить себя самого, он мысленно повторил: «Багаж» — и повернул направо к Ди. Машин по-прежнему было много, но здесь они шли отдельными группами с довольно значительными промежутками.
— Хотелось бы найти какой-нибудь просвет в изгороди, — проговорил он, — куда можно втиснуться задним ходом, чтобы не видно было багажника.
— Положи его на траве, — отозвалась она, — чтобы все было прилично, чтобы…
Она подыскивала слова. Подбородок у нее дрожал.
— Конечно, обещаю тебе. Сделаю все, как надо. А потом… Ты будешь в безопасности.
— Тебе придется его обыскать… Боже! Может, при нем записка и телеграмма… если он был в Париже.
— Обыщу.
Говорить! Надо говорить! Во что бы то ни стало продолжать разговор, чтобы занять Фло, отвлечь ее, не дать ей снова поддаться панике. А ведь он и сам очень нуждался в поддержке. Он уже представлял себе сцену: скрюченное тело, застывшее в каком-то немыслимом положении. Поднять его надо будет одним рывком, а затем вытаскивать из багажника осторожно, как окаменелость из породы. Это потребует времени. Фло не понимает. К счастью для нее!
— Ты будешь вне опасности, — вновь заговорил он. — Какие против тебя улики?.. Записки нет. Телеграммы нет. Портье в «Бристоле» видел тебя мельком. Он не сможет тебя узнать… Но, разумеется, тебе надо вернуться домой… Полиция, может, уже заявлялась. Тебе будут задавать вопросы… Но не нужно терять самообладания, скажешь что-нибудь: из Парижа не уезжала, ночь провела у себя, а весь день тебя не было дома… Никто не сможет доказать, что это не так. Соседи в отпуске… Только, видишь ли, надо вернуться, и как можно быстрей.
Он следил за дорогой, притормаживая, когда замечал какой-нибудь выезд сбоку. Но все эти дороги вели к фермам. В этом краю садов не было пастбищ, загонов, изгородей. И кругом автомобили. И они все больше удаляются от Парижа. Так долго продолжаться не может.
— Вон там! — воскликнула Флоранс.
Показалась тропинка, ведущая к рощице. Рене затормозил, поставил машину на обочину и огляделся. Он уже собирался двинуться задним ходом по тропинке, когда между деревьями показался ребенок, игравший в мяч. Рене не стал упорствовать. Он продолжил путь и на небольшой скорости проехал через Сайян. На них медленно надвигалась гора, но там и сям по-прежнему виднелись домишки. Впечатление такое, что за тобой отовсюду наблюдают. Достаточно одного любопытного взгляда: «Что это там остановилась машина? Что это тот тип вытаскивает из багажника?» У Рене не хватало смелости.
— Вон там! — повторила Фло.
Каменистая стенка выглядела гладкой. Здесь, видимо, был когда-то карьер — на насыпи сохранился полуразрушенный барак, вокруг которого переплетались высохшие от жары колеи. Гора обнажила свою красноватую плоть. Рене подъехал и остановился возле барака. Вышел из машины и обошел покинутое помещение. Повсюду валялись ржавые консервные банки, сальные бумажки. Ладно! Сейчас или никогда. Он вернулся к машине. Придется пережить неприятный момент. В это время появился «форд». Притормозил. Водитель, оглядевшись, оценил место. Остановился неподалеку от «ситроена». Из машины вышла женщина с маленьким ребенком.
— Ну-ка быстро, — сказала она.
Ребенок спрятался под навесом. Из машины вылез и водитель, поздоровался с Рене.
— Места прекрасные, — проговорил он, — но чтобы сделать остановку, наездишься. Сколько же я искал какой-нибудь безлюдный уголок. Представляете! Везде столько народа… Рири, иди сюда!
Рене, отчаявшись, сел за руль.
— Ничего не поделаешь, — сказал он. — Дальше будет то же. Я уже начинаю думать, не лучше ли дождаться темноты, как ты предлагала. В принципе, сейчас безопаснее вернуться на шоссе. Проедем до Шасса. Там свернем на Сент-Этьенн, а у Флера сделаем поворот на Клермон-Ферран. Уверен, что в десять часов вечера в районе Нуаретабля никого не будет.
— Как хочешь.
Она смирилась. Понимала, что они пропали. Какая теперь разница, здесь или где-то еще! Рене развернулся, и они влились в поток машин, направлявшихся к Валансу. У Флоранс нервное напряжение сменилось каким-то оцепенением, почти безболезненным. О Поле она теперь думала скорее с грустью, чем со страхом. Все ее планы новой свободной жизни остались в прошлом. Если она даже выкрутится, все равно ее будут преследовать воспоминания об этой ужасной поездке. Возможно, ей даже больше никогда не захочется встречаться с Рене.
В салоне появился шмель, полетал немного, натыкаясь на стенки, и сел возле заднего стекла. Нетрудно догадаться, что его там привлекало, как и муху утром. Прости, Поль, прости. Я этого не хотела. Мне очень жаль. Я не виновата. Вероятно, не надо было стремиться к другой жизни. Она представила себя в тюремной одежде и грубых башмаках, среди других заключенных в тесном дворе.
— Смотри, — сказал Рене. — Вон еще проселок, который мы не заметили.
Но он не остановился. Он испытывал облегчение от того, что отложил испытание на несколько часов. Теперь он опасался одного: полицейского заграждения, красного щита с надписью «Стоп. Жандармерия». Если они благополучно доберутся до автострады, все будет в порядке. Так далеко от Ниццы проверять машины конечно же не будут, если полиция вообще решится устанавливать заграждения в такой день на автостраде, в час наиболее интенсивного движения. Внезапно потемнело в глазах, и дорога впереди приняла такой вид, как будто он смотрел на нее через залитое дождем стекло. Рене протер глаза. Когда же наконец удастся нормально поесть? Будь он один, остановился бы в Валансе купить хотя бы булочек. Но с Фло об этом нечего и думать. Она слишком напугана.
В предместье на узкой улочке, куда они въехали, начала образовываться пробка. Вокруг теснились лавчонки, садики, строящиеся дома, и все это под солнцем, которое по-прежнему палило нещадно. Ему уже трудно было разобрать, то ли они едут вперед, то ли в противоположную сторону передвигаются разрисованные декорации. Болела голова. Но несмотря на полное отупение, в голове сидела мысль: спасти Фло.
— Ущипни меня, — попросил он. — Чувствую, что засыпаю. На автостраде будет лучше.
Она с силой сжала ему руку. Выехали на широкий проспект, надолго остановились у светофора. Город источал запах дыма и раскаленного металла. Они увидели указатель, сообщавший о приближении к автостраде, но перед ними тянулись десятки машин, за которыми отсвечивала Рона. Еще немного терпения. Немыслимо, чтобы полиция вздумала устраивать проверку при таком движении. Невозможно остановить поток лавы, огромную массу материи, всем своим весом продвигавшейся вперед. Единственная опасность — столкновение, какой-нибудь неудачный удар сзади, который мог бы пробить багажник. Это место у «ДС» довольно слабое. Поэтому Рене не отрывал глаз от зеркала заднего вида, а при торможениях на педаль нажимал очень осторожно. Машины шли теперь бампер к бамперу. Гигантская колонна достигла наконец автострады и там распалась, разделилась на части. Рене осмотрительно пристроился между «ЖС» и «Пежо-304», не вылезая в набиравший скорость левый ряд. Было четыре часа. От реки отражались ослепительные лучи света, а Ардешские горы на другом берегу казались вырезанными из жести.
— Думаю, проскочим, — сказал Рене.
Проскочим! Да он не понимает, что говорит. Или, скорее, помимо воли смотрит на вещи извне, как посторонний наблюдатель. Ему-то ничто не угрожает! Ему не придется отвечать на вопросы полицейских. В Париже он снимет номер в гостинице и будет ждать развития событий. Время от времени будет звонить: «Ну как? Держишься?» Пока ее терзают инквизиторы, он побудет в сторонке. «Зачем она нужна, любовь? — думала Флоранс. — Как будто можно сменить шкуру». На прогулочной скорости с трупом в машине они двигались по дороге, которую туристические путеводители называют живописной. Муж в багажнике! Любовник за рулем! Все это настолько нелепо! Ей даже приходилось делать усилие, чтобы осознать, что это происходит именно с ней. Она чувствовала себя одновременно в центре драмы и в стороне от нее. Она начинала понимать, почему находят успокоение в безумии. Но у нее этого шанса не будет. Она вынуждена идти вперед. Она — как те проклятые женщины, которых раньше на повозках возили к костру. Проехали развязку Роман-сюр-Изер. Справа над дорогой возвышались виноградники, на которых работали крестьяне в широкополых соломенных шляпах. Стоит только перейти эту бетонированную полосу, и окажешься в мире безмятежной природы. Но у автострады свои законы. Она — как государство в государстве. Без визы из него никому не выйти.
— Черт побери, — выругался Рене.
На обочине стоял полицейский, жестом руки призывая водителей сбавить скорость. Машины затормозили, начали еле плестись.
— Несчастный случай? — спросила Флоранс.
— Будем надеяться.
Впереди на площадке для отдыха виднелись автомобили, а на пересечении автострады и выезда развязки стоял еще один полицейский в каске и сапогах. Их неторопливо нес поток. Шедшая впереди «ЖС» проехала перекресток. Полицейский вышел вперед и показал рукой на стоянку. Побледневший Рене остановился. Полицейский подошел ближе.
— Извините. Проверка. Встаньте вон там.
Рене въехал на стоянку.
— Боже мой, — прошептала Флоранс. — Смотри.
Останавливали только белые «Ситроены-ДС». Три машины уже отъехали под строгим взглядом полицейского, стоявшего возле своего мотоцикла. Никуда не деться! Дорога, как конвеерная лента, неумолимо приближала их к гибели. Они превратились в животных, ведомых на бойню.
Рене остановился в нескольких метрах от жандармов, невозмутимо смотревших на них, всем своим видом демонстрируя уверенность в своих силах и в своем оружии. Флоранс уже не знала, жива ли она. И в то же время она остро ощущала свое тело, руки, вцепившиеся в приборную доску, как руки утопленницы, сдавленное сердце. Рене склонился над рулем. Он тяжело дышал, как после долгой пробежки. Двигатель заглох. В наступившей тишине они услышали поскрипывание кожаных ремней жандарма, подходившего к машине. Вот он уже здесь, возле двери. Можно было видеть его ремень и черную рукоятку пистолета в кобуре. Затем появилось лицо. Оно было таким крупным и так внезапно оказалось рядом, что Флоранс отпрянула. В сущности, лицо даже не было строгим… Скорее озабоченным… с голубыми глазами, гладко выбритыми щеками, бусинками пота на висках.
— Откройте, пожалуйста, багажник.
— Там ничего нет, — пробормотал Рене.
— Все равно. Дайте ключ.
— Он не заперт, — выдавил Рене.
Вокруг летали стрижи. Жизнь оставалась еще такой близкой, такой привлекательной, и вот сейчас они ее потеряют. Жандарм выпрямился. Отошел, скрипя сапогами. Виден был только его торс. Затем он появился в заднем стекле. Пальцы Флоранс нервно забегали, вцепились в руку Рене. Жандарм нажал на кнопку замка багажника, и машина чуть просела. Затем, заслонив его, поднялась крышка.
— Фло, — прошептал Рене, — я не виноват.
Они сидели неподвижно, испытывая невыносимые муки. Внезапно оба вздрогнули. Флоранс застонала. С сухим щелчком закрылся багажник. Жандарм отошел на несколько шагов, помахивая рукой.
— Чего он от нас хочет? — пробормотала Флоранс.
— Не задерживайтесь!.. Проезжайте!.. — крикнул он.
— Куда ехать? — спросил Рене.
— Уезжайте!.. Вы мешаете!
Приближался для обыска еще один отловленный белый «Ситроен-ДС». Рене, чувствуя себя как нокаутированный боксер, включил скорость и в полном тумане выехал на соединительную полосу.
— В багажнике ничего нет, — воскликнула Фло. — Боже! Какая радость!
— Извини, — проговорил Рене сдавленным голосом, — но за руль лучше сесть тебе… Я уже не знаю, что делаю… это… вот это… окончательно меня подкосило.
Он остановился и, пока Флоранс обходила машину, тяжело передвинулся на ее место. Она села за руль, подвинула поближе сиденье, ощупала тормоз, рукоятку переключения скоростей, пытаясь освоиться с управлением.
— Не знаю, что со мной, — продолжал Рене, — вероятно, переволновался… А ведь по идее должен почувствовать облегчение.
Флоранс решительно вывела «ситроен» на автостраду. На лице вновь появился румянец, и казалось, она с трудом сдерживает в себе какой-то порыв, что было видно по тому, как она жала на газ. Машина неслась, легко обгоняя правый ряд. 120, 130 километров в час…
— Осторожнее, — посоветовал Рене.
— Столько переживаний из-за ничего, — сказала она. — Как глупо! Верь после этого журналистам! Какие же они рассказывают байки! Готова поспорить, что Поль в Ницце, в добром здравии.
Рене слушал рассеянно. Его внимание привлекла тупая, неведомая ранее боль, мешавшая глубоко дышать. Или, может, дышать не давал какой-то животный инстинкт. Он боялся, как бы при полном вдохе внутри что-нибудь не лопнуло. Осторожно помассировал грудь в области сердца. Фло продолжала оживленно говорить:
— Не знаю, что там произошло в этом гараже. Может, кого-то и убили, но не Поля. А тело засунули в другую машину.
Ему не следовало двигаться, он это остро ощущал. Боль принимала определенную форму… она была длинной… вычерчивалась вертикально от горла до диафрагмы. И медленно входила в плечо. Это была не обычная боль… скорее ломота, спазм… но в то же время теплее, горячее, чем спазм. Он слишком долго сидел за рулем, слишком мало ел.
— Никому не пожелала бы пройти через это. Хорошо, что у меня здоровое сердце.
Сердце! Она сказала: сердце. Неужели у него сдает сердце? Мишель накануне посоветовал ему отдохнуть, запретив курение… Что же все-таки он имел в виду?
— Видишь ли, Рене, в определенном смысле это пошло мне на пользу. Я видела самое худшее так близко, что мне теперь не страшно встретиться с Полем. Теперь он должен уступить, клянусь.
Почему слова доносятся, как из телефонной трубки, будто приглушенные громадным расстоянием?.. Почему лучи солнца, отражающиеся от капота, причиняют такую боль? И почему этот обильный пот, от которого рубашка прилипает к спинке сиденья? Ему захотелось вытереть лоб, и он поднял левую руку. В нее сразу же вошла боль. В пальцах покалывало. Он испытывал то, что человек чувствует, если слишком долго спал на одном боку и отлежал руку. Он потер ее, но безрезультатно. «Это приступ», — подумал он. Но не знал, приступ чего. К боли теперь примешивался страх… не страх смерти… просто беспокойство, что он здесь, на дороге, вдали от всякой помощи. Найти бы тень, воды, кровать! Как бы хорошо полежать! Вдруг до него дошло, что к нему обращается Фло.
— Что?
— Ты выглядишь измученным, — сказала она.
— Да… Больше не могу.
— Хочешь, остановимся?
— Нельзя. И потом, это слишком опасно. Поехали дальше. Не обращай на меня внимания.
Ему приходилось подыскивать каждое слово. Он любил Фло, но ему хотелось замкнуться в себе, сжать боль пальцами, мешая ей проникнуть в живот. Любовь!.. У него нет времени. Ему нельзя отвлекаться.
Они вдвоем стояли в узкой кабине. Жорж прижимал трубку к уху. Связь была плохой, и Жоэль не слышал голоса Влади.
— Мы в Невере, — говорил Жорж. — А! Ты знаешь!.. Сообщили по радио?.. Да, невезуха. Несчастный случай!.. Подожди! Товар забрали в одном городке у Валанса… Расскажу потом… Тачку еле нашли. Думали, что совсем потеряли… А потом повезло… Нет, все прошло гладко… А теперь что нам делать?.. Бросаем его где-нибудь и возвращаемся в Обервилье?..
Жоэль провожал взглядом девушку в мини-юбке.
— Влади хочет с тобой поговорить, — сказал Жорж.
Жоэль приклеил жвачку под полочкой и взял трубку. Жорж зажег сигарету. Он курил так много, что язык уже покалывало.
— Нет, не обыскивали… Как ты себе это представляешь? Сидим на берегу реки и выворачиваем ему карманы?.. Что?.. Потрясающая идея. Ты один способен выдумать такие штучки… Вернемся к вечеру… Ладно… Да, знаю… Но я же не нарочно… Либо он, либо я… Сейчас это уже не имеет значения… Передаю трубку.
Он протянул трубку Жоржу. С Влади не соскучишься. Его ничем не смутишь. Жоэль вышел из кабины и подождал Жоржа в зале почтового отделения. Они совсем выдохлись, но в конце концов прогулка оказалась не такой уж неприятной. И закончится она прекрасно.
Подошел Жорж.
— Раз у нас есть время, — сказал Жоэль, — предлагаю немного смочить горло. Да и два-три бутерброда нам тоже не помешают.
Они направились к кафе.
Голова Рене соскользнула на плечо Флоранс.
— Не время спать, — бросила она. — Ты мне мешаешь.
Не отрывая глаз от дороги, попыталась оттолкнуть его.
— Думаешь, мне тоже не хочется спать!.. Ну! Проснись.
Притормозила и посмотрела на Рене. Увидела серое лицо, закрытые глаза. Боже! Он в обмороке. Обогнала еще одну машину, приняла вправо, не представляя, что делать дальше. Она знала, что на автострадах запрещено останавливаться на обочине. Но сейчас особый случай. Поискала включатель мигалки, переключила не тот рычажок, и зажглись фары. Она слегка растерялась и выехала на обочину, резко затормозив. Рене бросило вперед, и он навалился на нее и на руль. Ей пришлось напрячь все силы, чтобы усадить его на место. Он осел на сиденье в совершенно немыслимой позе, и ей почудилось, что он мертв. Однако нет… Увидела движение губ. Склонилась над ним. Что это он говорит?.. Сердце… Инфаркт… Слова она не очень хорошо разбирала. На глазах выступили слезы. В конце концов, это несправедливо. И что ей делать? Где найти врача? Приоткрыла дверь. Раздался истошный сигнал, и рядом промчалась машина. Она увидела в ней лица, оборачивавшиеся на застрявший с зажженными огнями «ситроен». Теперь она действовала осмотрительнее, дождалась просвета в безумном потоке и быстро вышла из машины. Прежде всего надо разложить спинку сиденья, чтобы Рене лежал. Она подошла к его двери, поискала внизу сиденья кнопку, рычаг или какую-то еще штуку, которая регулирует положение спинки. К сожалению, «Ситроен-ДС» был ей незнаком, в нем все было не так, как в «вольво». Двигатель продолжал работать на холостых оборотах. Она протянула руку над Рене, но не достала до ключа зажигания. Ничего не получается. Впрочем, с техникой у нее всегда были сложности. Ладно, пусть двигатель крутится. Когда наработается, остановится сам. Ей хотелось пнуть машину ногой. Ее охватил гнев и отчаяние. В голове, оглушенной шумом, мысль искала решение, выход, и она все больше приходила к выводу, что оказалась в месте, где безлюднее, чем в пустыне. Может, кто-то и остановится, увидев, что она нуждается в помощи, но пока машины проносились мимо на скорости в 100 километров в час. Все они были рабами скорости, и если кто-то тормозил, сигнал следующей напоминал, что он находится на дороге, чтобы ехать. Она все-таки решила попытаться. Встала позади «ситроена» и подняла руку, как будто голосуя. Но вскоре поняла, что на нее даже не смотрят, что она для водителей — часть проносившегося пейзажа. А может, они даже потешались, глядя на нее: «Смотри, застряла тачка. Бедняжка, как ее жаль!» Продолжать не имело смысла. Она вернулась к Рене. Тот открыл глаза.
— Позвони, — прошептал он.
Он бредит?
— Но здесь нет телефона, — ответила она.
— Есть… на дороге.
Она вдруг вспомнила, что действительно на пути встречались телефонные будки.
— Сделаю все. Не волнуйся.
Подождала просвета в массе машин и села за руль. Чтобы влиться в поток, надо было набрать скорость на обочине. Ей это удалось, несмотря на хор возмущенных клаксонов. Теперь она ехала медленно в поисках телефона, и это вызывало чудовищную вакханалию среди тех, кто следовал за ней. Каждый считал своим долгом резко нажать на сигнал, давая ей понять, что она мешает, что здесь не место для прогулок. Удастся ли ей выдержать это до конца? Она чувствовала себя обессиленной, но ее поддерживало что-то вроде негодования. Сначала Поль! Теперь Рене! Это уж слишком! Бедный Рене, конечно! Но даже решившись сделать все, что в ее силах, чтобы помочь ему, она не испытывала никакой жалости. Эти двое мужчин как бы объединились против нее. Поэтому ей следует обезопасить себя, прежде всего надеть маску безразличия, как врач или священник, которые постоянно находятся рядом со страданием, не принимая его на себя. Она не будет жертвой. Никогда! Ей нужно сохранить свою жизнь. А обморок Рене вызван, возможно, просто усталостью. Она внимательно осмотрела его. Тревожила бледность. Он дышал широко открытым ртом, как будто задыхался. Если это действительно инфаркт, он может умереть прямо здесь, посреди этого балагана, помощи ждать не от кого, хотя среди автомобилистов наверняка есть врач, который мог бы оказать первую помощь. Все это ужасно, мерзко и главное — глупо!.. Вот уже сорок восемь часов она играет какую-то идиотскую роль в этой нелепой истории… по их вине, потому что Поль — одержимый, а Рене — мечтатель. Потому что каждый из них хочет, чтобы она принадлежала только ему… Потому что ей не повезло и она заплутала в мире мужчин.
За ней пристроился «фиат» и посигналил фарами. Чего он хочет?.. Ах да, забыла выключить свет… Во всех этих кнопках она уже запуталась. Наконец нашла выключатель. «Фиат» обогнал ее, и водитель помахал рукой. Первое проявление дружеских чувств за все время. От этого ей стало немного легче. Не теряя надежды, она продолжала осматривать дорогу и вскоре увидела голубой щит с изображенным на белом фоне телефоном и надписью «Дорожная помощь». Рене спасен. Она не знала, кто ей ответит, но в любом случае кто-то заменит ее, будет принимать за нее решения, возьмет на себя ответственность за больного. Флоранс остановилась возле щита.
— Все в порядке, — выговорила она. — Вот телефон.
Пропустила два автобуса с поющими детьми и вышла из машины. Нажала на кнопку и начала говорить в сетку приемного устройства. «Алло!.. Алло!..» Аппарат молчал. Может, она не умеет им пользоваться или он не работает. Может даже, его сломали нарочно, шутки ради. Все это тоже входит в сценарий. Было предопределено, что Рене умрет рядом с ней, что машина рано или поздно повезет труп. Флоранс прислонилась к столбу, на котором висел телефон. Ей хотелось лечь на землю, ни о чем больше не думать. Ладно! Проиграла. Сдаюсь. Голова гудела от жары. Она была перепачкана, помята, вся в поту. Рене машинально потирал себе грудь.
— Мне плохо.
У нее не хватало решимости сказать ему, что телефон не отвечает. Она попыталась усадить Рене прямо, чтобы он не соскальзывал. Его бы надо усадить поудобнее, обложить подушками. И главное, она это знала, надо избегать тряски. Но что же делать? Она призвала в свидетели небо, казавшееся слишком ярким, эту жуткую дорогу, все это отталкивающее окружение, где нет места тем, кто просит о помощи. Она пройдет до конца, пока хватит сил. Но потом пусть ее больше ни о чем не просят. Если Поль пострадал по ее вине, она за это уже заплатила. А сейчас вот расплачивается за Рене… Когда она садилась в «ситроен», ее чуть не задел идиот, ехавший слишком близко к обочине. Где она сейчас? Наверняка неподалеку есть какая-нибудь площадка для отдыха. Она вновь двинулась в путь, решив остановиться, как только увидит какой-нибудь домик, скамейки, заправочную станцию. А если никто не захочет помочь ей? Нет, такого не может быть. Кто-то да согласится поехать позвонить… куда-нибудь… Но что значит куда-нибудь? Это бессмысленно. Может, придется ехать по проселкам, наугад. А Рене за это время умрет. Разумнее всего доехать до Лиона и там отвезти Рене в больницу… Но тогда ведь она должна будет остаться с ним?.. Если он вдруг умрет, какой поднимется шум!.. В прессе… прежде всего в «Консьянс»… Среди сотрудников Поля она не на очень-то хорошем счету… Все они как на подбор чопорные пуритане. И вот Поль исчез… Рене умирает на дороге… какой прекрасный случай!.. А если Поль вернется… Но нет, он не вернется… Она совсем теряет голову. Появился указатель площадки для отдыха Гранд-Борн, и вскоре она увидела стоянку, на которой примостились несколько машин. Свернула с шоссе и остановилась перед мужчиной, изучавшим карту.
— Извините, мсье… мужу плохо, а у меня никак не получается опустить спинку… Вы не поможете?
— Конечно.
Открыл дверцу со стороны Рене, покачал головой.
— Вид у него совсем неважный.
Флоранс подошла к нему и удивленно посмотрела, как он одним движением рукоятки разложил сиденье до положения шезлонга. Рене расслабился. На щеках сохранялся все тот же пепельный цвет.
— Он в обмороке? — спросил мужчина.
— Мне кажется, начало инфаркта.
— Тогда нужна «скорая помощь».
Он сразу же спохватился, как будто осознав, что сказал глупость.
— «Скорая помощь»!.. Как она сюда доберется?.. Вы доедете быстрее. Вьенн рядом… Вы можете остановиться… Опять не то. Там, наверно, все переполнено. Советую ехать прямо в Лион… Доберетесь до него за три четверти часа. Вы знаете, где там больница?
— Нет.
— Сейчас покажу.
Он открыл путеводитель, нашел план города.
— Видите… Вы въедете здесь… Повернете налево…
Указательный палец чертил сложный маршрут, за которым она уже не следила. Выяснит на месте.
— Да, да… Спасибо… Поняла.
— Очень вам сочувствую, мадам, — сказал он. — Представляю ваше состояние. Но не падайте духом. Инфаркты не обязательно бывают смертельными.
Он вместе с ней обошел машину и захлопнул за ней дверцу. Она осторожно тронулась с места, немного успокоившись. В лежачем положении Рене выглядел лучше. Флоранс сжала ему руку.
— Потерпи еще немного. Скоро мы будем в Лионе. Я отвезу тебя в больницу.
— Не надо.
Он произнес эти слова почти твердым голосом.
— Надо. Там о тебе позаботятся.
Он попытался приподняться, опираясь на локоть, но не получилось. Начал что-то говорить, но она не разбирала слов — все ее внимание теперь было приковано к дороге. Надо доехать как можно быстрей. Лишь бы во Вьенне… К счастью, хоть движение при въезде на мост было очень медленным, они все же продвигались вперед. Вьенн проехали. Немного беспокоил указатель уровня бензина. Стрелка опустилась очень низко, но времени для остановки не было. У Фейзена показались заводы. Спасение близко.
— Почти приехали, — сказала она.
Пьер-Бенит… Мюлатьер… Мост Пастера… Вокруг них громоздился город. Машины еле двигались.
— Фло.
В его голосе появилась сила. Остановившись у светофора, она склонилась к нему.
— Не волнуйся.
— Фло… Не надо отвозить меня в больницу… Ты не должна быть в этом замешана. Тебя будут допрашивать… Дай мне сказать… Найди стоянку такси и помоги мне выйти… Я сам смогу…
— Ни за что!
— Тогда… скажи, что не знаешь меня… что я попросил тебя подвезти…
Зажегся зеленый свет, и она свернула на широкую набережную вдоль Роны. При всей усталости любовь Рене трогала ее до слез. А она… Но ведь она же не чудовище! Не ее вина, что ей захотелось как можно скорей остаться одной. Да, она доедет до больницы, но последует совету Рене. У нее хватит малодушия, чтобы сказать, что она его не знает… А потом трусливо убежит… У нее больше не было сил, теперь ею руководил только инстинкт самосохранения. И именно этот инстинкт направлял движение ее рук, ног. Она вела машину, как робот. Вдалеке слева увидела большую площадь… может, площадь Белькур… Там наверняка есть регулировщик, который сможет подсказать ей дорогу… Но она попала в лабиринт улиц с односторонним движением. Ее вновь охватил приступ гнева из-за того, что все вокруг строит против нее козни. Куда теперь повернуть? Выехала на перекресток, и на повороте раздался свисток. Слава Богу… Наконец-то судьба посылает ей помощь. Она готова была заплатить любой штраф. Подбежал разгневанный регулировщик. Но увидев Рене, он смягчился.
— Я ищу больницу, — сказала Флоранс. — Мой… Этот господин попросил его подвезти. Я согласилась, но ему стало плохо. Просто не знаю, что делать.
Врала она очень натурально. Регулировщик сдвинул фуражку на затылок, достал блокнот и ручку.
— Вам нужна больница… Вы не знаете Лиона… Это довольно сложно… Сейчас нарисую…
Он принялся рисовать линии и углы.
— Смотрите… Вы здесь…
Из этой истории ей не выбраться. Город оказался ловушкой, еще более утонченной, чем автострада.
— Вы не могли бы меня проводить?
— Но я на службе. Вы сами найдете.
— Спасибо… Попытаюсь.
Он попрощался с ней и дал свисток, освобождая ей дорогу. Держа в левой руке нарисованный план, она осторожно вела машину, выехала на одну улицу, потом на другую и через пять минут поняла, что заблудилась. Она не нашла площади, где надо повернуть. Рене из-за нее испытывал ненужные страдания. Если с ним что-то случится, виновата будет она. Все из-за нее!.. А если она… Нет, она здесь ни при чем. Не надо возвращаться к прошлому.
Она остановилась возле небольшого кафе, выходя из машины, заметила умоляющий взгляд Рене.
— Подожди немного, — проговорила она. — Я все сделаю быстро.
Кафе оказалось почти пустым. Она объяснила ситуацию официанту. Тот посмотрел на нее недоверчиво и подошел совещаться к кассе. Соизволил подойти сам хозяин.
— Проще всего, — сказал он, — вызвать «скорую помощь»… Антуан, позвони… Побыстрее… Где вы его взяли?
— На въезде на автостраду.
От него несло вином и потом. Всему этому происшествию он придавал какой-то нехороший оттенок.
— Нельзя брать в машину первого встречного, — продолжал он. — Где он?
— Здесь, рядом.
Он вышел на тротуар, увидел стоявший «ситроен».
— От неприятностей не может быть удовольствия, — проворчал он. — Номер «06». Вы едете с побережья, Сегодня много таких.
Он подошел к машине, осмотрел больного.
— Вы уверены, что он жив?
Он прошелся по Рене взглядом, как бы ощупывая его.
— С моим братом было то же самое… И тоже в машине… После пьянки… Паф!.. И кончено. С сердцем не шутят. Вам надо немного подкрепить силы… Пошли! Вы же не виноваты. Для вас это потрясение.
Он взял ее под локоть и проводил в кафе.
— Сейчас приедут, — сообщил Антуан.
— Вот видите, — сказал хозяин, гордясь тем, что все сделано, как надо. — Антуан, два коньяка.
Флоранс села, забыв об усталости, угрызениях совести, вообще о жизни. Попробовала напиток.
— Пейте, — сказал хозяин. — Не каждый же день вам предлагают что-то вроде этого.
Раздалась сирена «скорой помощи». Хозяин залпом осушил свою рюмку.
— Вот ваши неприятности и кончились, милая дама.
— А будут… формальности?.. Я ведь очень тороплюсь.
— Какие могут быть формальности, раз это не ваша вина? Не беспокойтесь.
Он пододвинул к ней блокнот с ручкой.
— Запишите на всякий случай имя и адрес…
На пороге появился санитар в белом халате.
— Где больной?
— В «ситроене» рядом… Вам помочь?
Флоранс сделала вид, что пишет. Хозяин вышел, она последовала за ним. Дальше все происходило не очень ясно… носилки… два санитара… Рене, которого осторожно пронесли мимо нее… Надо ли встать у носилок? Поцеловать его? Она стала заложницей своей лжи, и теперь поздно. Его уже заталкивали в машину «Скорой помощи». Они расставались на этой улице, которой она не знала даже названия, среди окружавших их зевак.
«Скорая помощь» отъехала, включив сирену. Она еле сдерживала рыдания. Себе самой она была противна. Рене… Поль… они исчезли, как призраки, но будут вечно ее преследовать. У нее хватило сил поблагодарить хозяина кафе, а тот хотел всячески ее задержать, уговаривая отдохнуть. Но она села за руль и поехала наугад. Какая разница, туда или сюда.
По чистой случайности она выбрала правильное направление. Вот туннель Круа-Рус. Париж!.. Теперь Париж… полиция… Но до завтра так еще далеко. Да, ведь надо заправиться!.. И потом поесть, чего угодно… или она свалится с ног. Наконец она заправила «ситроен» возле супермаркета и поставила его на стоянке. Было полшестого. Столько событий в такое короткое время! Ей казалось, что она стала старухой. В баре ей подали бутерброды и кружку пива. Она больше ни о чем не думала. Словно животное, она жевала, глотала и снова жевала… И все же мало-помалу Флоранс пришла в себя. Зажгла сигарету и заказала еще одну кружку, потом кофе. В членах у нее распространялось животное блаженство. Наконец-то одна! Наконец-то спокойна! Наконец-то свободна! Ей казалось, что она потеряла остатки совести. Но теперь она чувствовала, что идет еще дальше, смакуя, не стесняясь самой себя, наслаждаясь непередаваемым облегчением. Возможно, это проявление малодушия, слабости. Но не ее вина, если к ней возвращается жизнь, любой бы на ее месте… и потом, ведь тот человек на дороге сказал: «Инфаркт не обязательно смертелен». Рене выздоровеет. А Поль?.. Может, он уже в Париже. Не исключено, что вся эта драма только видимость. Нет, она не виновата. Не может же человек нести вину за то, что однажды сел на поезд и уехал. Она объяснится с Полем… если Поль жив. А Рене… ну что ж, она его навестит на следующей неделе. Вернет ему машину. Будет с ним милой… Разумеется, они останутся друзьями. Но не более того. Она будет распоряжаться жизнью по своему усмотрению.
— Еще кофе, пожалуйста.
Как приятно самой принимать решения, даже когда речь идет о такой мелочи, как чашка кофе. Как приятно держать свои мысли при себе, ни перед кем не отчитываться. С самой Ниццы она только и делала, что подчинялась. Теперь же она вновь принадлежит самой себе. Ей вспоминались счастливые мгновения, пережитые в «Мистрале». Кофе хорош. Флоранс закурила еще одну сигарету, жадно затянулась. Остается последнее испытание: выяснить правду об исчезновении Поля. Но Поль, живой или мертвый, не был больше частью ее жизни. Позади нее как будто бы произошел обвал или подземный толчок. По телевизору ей приходилось видеть людей, спасшихся после землетрясений, кораблекрушений, авиакатастроф… у нее сейчас, наверное, такое же лицо, как у них: растерянное, измученное, еще не верящее в свою удачу, но уже светящееся от радости. Полиции она будет лгать упорно и нагло. После того, что она пережила, ложь ничего не значит. Правда, есть некоторые трудности… Например, записка и эта идиотская телеграмма… Утверждать, что она не уезжала из Парижа, может быть, рискованно… Ну и что! У нее будут кое-какие неприятности, ничего больше… Всего несколько тяжелых дней. Из двух возможных вариантов, возвращения Поля или его смерти, она уже давно почти помимо воли предпочла смерть. Об этой смерти ей ничего не известно. И от этого факта никому никуда не деться. Теперь, когда она поела и выпила, у нее начала слегка кружиться голова. Мысли путались. Несомненным, абсолютно несомненным было одно — ее невиновность. Она расплатилась и прошла по громадному магазину. Глаза ее невольно пробегали по прилавкам с тканями, духами. Угрызения совести постепенно оставляли ее, и первыми освобождались глаза. В них уже блистало будущее.
Ей не очень хотелось вновь оказаться в «ситроене».
Но иного способа попасть как можно быстрее в Париж не было. Она выехала на автостраду и пристроилась среди других машин.
Вильфранш… Макон… Турнюс… Шалон…
Временами она впадала в полусонное состояние. Повернула ручку приемника, но от музыки стало еще хуже. Выключила.
Аваллон… Оксер… Санс…
Рене, наверно, отдыхает, приступ прошел. На этот счет беспокоиться больше нечего. По крайней мере, ей так хотелось. В Фонтенбло остановилась выпить еще пива. Ее все больше отупляло кишение машин. После Мелена начались остановки, бесконечная вереница машин медленно приближалась к Парижу. Наступил вечер. Красные огни автомобилей блестели до самого горизонта. Флоранс была на пределе сил, но сохраняла спокойствие. К ее удивлению, после Орлеанских ворот движение стало почти свободным. Через полчаса она была уже на авеню Ош. Куда деть «ситроен»? Проще всего оставить на улице. Она взяла чемодан, заперла машину и вошла в дом.
Первым делом бросилась к почтовому ящику. От уведомления о срочной телеграмме на нем оставался лишь обрывок бумаги. Значит, Поль был здесь! Она лихорадочно порылась в сумочке в поисках ключа, открыла ящик. Пуст. Значит, Полю стало известно, что его жену ждут. В лифте принялась быстро соображать. Он сел в «вольво» и поехал за ней. Потом кто-то его там убил… скорее всего, какой-то недруг… Она вышла из лифта, вставила ключ. Замок заперт только на защелку. Странно! Она пощелкала замком. Поль, при своей осторожности, никогда бы не ушел, просто захлопнув за собой дверь. Она вошла в квартиру. В прихожей темно. Но в кабинете горит свет.
— Поль! Ты дома?
Голос у нее слегка дрожал. Он все-таки жив. Значит, с ним надо будет поговорить прямо сейчас. Она зажгла верхний свет.
— Поль… Это я.
Поставила чемодан на стул и, собрав всю свою волю, поскольку предстояло объяснение, направилась из прихожей.
— Это я… Приехала из Ниццы, раз ты хочешь знать…
Открыла дверь. Поль лежал возле стола. Тело его после падения как-то странно скрючилось. Валялся выпавший из руки пистолет, большой пистолет, которого она раньше никогда не видела. А ее записка… прощальное письмо… лежала на паласе в двух шагах от трупа… Флоранс ухватилась за ручку двери. Голова шла кругом… Значит, он покончил с собой… записка его убила… Но тогда в Ницце… Она уже не пыталась понять… Про себя повторяла: «Неужели он так меня любил… Невероятно… Не мог он меня так любить…»
Она отступила на несколько шагов, чтобы не видеть тело, и провела по глазам тыльной стороной руки… «Это сон… Он покончил с собой из-за меня… О! Поль, если б я только знала!.. Поль… если б ты мне сказал…» Заставила себя вернуться в кабинет. На столе были разложены, как обычно перед сном, связка ключей, бумажник, носовой платок… и телеграмма, смятая, будто в порыве гнева. Флоранс взяла ее и спрятала в сумочку. Уничтожит потом. Самоубийство окончательно выводило ее из-под удара. Ей стало стыдно за эту мысль, но факт оставался фактом. Поль был уже не в себе из-за взрыва на вилле и окончательно сломался, когда узнал… Другого объяснения быть не может. А как же «вольво» в Ницце? Вероятно, угнали. Рене прав. Поль… Рене… почему они ее любили? А ей нужно было всего немного уважения…
Надо сообщить в полицию. Она сняла трубку, еще раз посмотрела на распростертое тело. Между ней и свободой оставался только этот труп.
— Алло… полиция?
— Будьте же благоразумны, мадам, — говорил Маньян. — Нельзя отрицать очевидное… Блеш, доверенное лицо вашего мужа, проследил за вами до вокзала. Под вымышленной фамилией вы поехали к своему другу Рене Аллио. Это тоже установлено благодаря показаниям Блеша… Ваш муж, вернувшись в Париж, нашел телеграмму Аллио и записку о разрыве и сразу же уехал на «вольво». При нем был пистолет калибра 6,35, который нашли в гараже гостиницы «Бристоль». Таковы факты. Вы не можете их отрицать… Итак! Мы не знаем в точности, что произошло в гараже… ведь Рене Аллио мертв… но обвинению не составит труда воспроизвести сцену. Вы сами признаете, что ваш друг первым вошел в гараж. Там соперники и столкнулись лицом к лицу: ваш муж только что приехал, а любовник пришел за своим «ситроеном»… Оба вооружены. В «ситроене» Жерсен нашел ваш платок — он лежал у него в кармане, когда полиция пришла к вам на квартиру для первого осмотра тела. Этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать вспышку гнева против Рене Аллио, и он выхватил пистолет… Меня пока не интересует, кто из них почувствовал себя в опасности и решил, что имеет право на законную самозащиту. Допустим даже, что Рене Аллио… Но потом! Все ваши дальнейшие действия свидетельствуют против вас. Откройте же глаза, мадам!.. Вы наверняка помогли Аллио засунуть тело мужа в багажник «ситроена»… Вы решили привезти его в Париж и разложить в кабинете, оставив в качестве доказательства найденную при нем записку… Вы наивно рассчитывали, что полиция поверит в самоубийство… Все это очевидно… Но полиции с самого начала было ясно, что вашего мужа убили… Поразившая его пуля застряла — вы этого не знали — в спинке «опеля»… Вы продолжаете утверждать, что в багажнике «ситроена» ничего не было и что это может подтвердить жандарм, производивший проверку. Но начнем с того, что жандармы проверяли в тот день сотни белых «ситроенов». Как может один из них вспомнить вашу машину, даже допустив, что вы говорите правду?.. К сожалению, однако, вы утверждаете совершенно невозможную вещь — в лаборатории на одежде Жерсена нашли цветные ворсинки, по всей видимости, от какого-то пледа. Точно такие же ворсинки обнаружили в багажнике «ситроена»… Согласен, плед исчез. Но чтобы установить, что тело было в багажнике, этого пледа даже не нужно… Не хочу, мадам, выглядеть вашим противником, ведь я должен вас защищать. Но признайте, вы мне не помогаете. Подождите!.. В определенном смысле есть еще более неприятная вещь. У Рене Аллио случился инфаркт, он от него умер. Кто поверит, что он не стал жертвой собственных эмоций? А если он умер от волнения, не это ли лучшее доказательство его вины, того, что его доконала именно эта поездка с трупом?.. Но вы, вместо того чтобы заявить в полицию в Лионе… тогда вас могли бы обвинить только в соучастии… вы вызываете «скорую помощь»… на этот счет тоже есть показания, хозяина кафе… и хладнокровно утверждаете, это заявление можно оценить по-разному, что больного вы подобрали на дороге. Ваш возлюбленный умирает, а вы говорите, что не знаете его. Зачем?.. Потому что у вас есть только одна возможность вывернуться… во что бы то ни стало привезти в Париж тело мужа… Все это мерзко! Но мои оценки ничего не значат. Вас будет судить суд присяжных… Мадам Жерсен, прошу вас, признайтесь!.. Если признаетесь, у меня куча смягчающих обстоятельств. Этому убийству можно придать политический оттенок… Рене Аллио в своем не очень-то надежном положении опасался кампании в прессе со стороны вашего мужа… Вы сами признались, что не разделяете идей Жерсена… Возможно, у вас даже были дружеские отношения с кем-то из его врагов. Это можно проверить, и тогда становится более понятным, почему вам помогли внести тело в кабинет… Признайтесь, и я постараюсь добиться для вас минимального наказания… В противном случае… извините… за откровенность… вы выйдете из тюрьмы очень старой.
— Доктор, ваш «пежо» нашли… Здесь, рядом, на улице, перед складом… Хотите посмотреть?
— Иду.
Доктор положил стетоскоп, вышел из кабинета и чуть не столкнулся с Жоржем.
— Мне вернули машину, — сказал он.
Жорж пожал плечами.
— Ты всегда устраиваешь балаган понапрасну. Зачем было заявлять об угоне?
Но доктор уже вошел в лифт. На улице увидел ожидавшего его полицейского и прошел с ним около сотни метров. Возле «пежо» стоял другой полицейский.
— Машина очень грязная, — сказал он. — Ветровое стекло и радиатор забиты насекомыми. Посмотрите, сколько она проехала?
— Это просто проверить, — уверил доктор. — На прошлой неделе я менял масло, было тридцать пять тысяч километров ровно.
Открыл дверцу и посмотрел на спидометр: «37 320».
— Черт побери! — проговорил полицейский. — Ну и прогулочка. Молодчики наверняка проехали до Сен-Тропеза… Все на месте?
Доктор проверил «бардачок», полку у заднего стекла.
— Все… впрочем, я здесь ничего не оставляю… Только если кусок замши, карты… Ну и, естественно, необходимые документы… Нет, все на месте.
— А запасное колесо?
Доктор открыл багажник.
— На месте.
Полицейский порылся среди тряпок и газет, валявшихся в багажнике.
— А это? — спросил он. — Это, случайно, не ваша?.. Чековая книжка. Странное для нее место.
— Вряд ли она моя, я во всем придерживаюсь порядка.
Доктор открыл книжку и прочитал имя: «Поль Жерсен».
— Поль Жерсен, — воскликнул он. — Но это же невозможно!
Полицейский вызвал начальника.
— Нашли чековую книжку Поля Жерсена. А машина проехала более двух тысяч километров.
Он закрыл багажник.
— Извините… Но ни до чего дотрагиваться нельзя, надо сохранить отпечатки пальцев. В этой машине перевезли тело… ясно.
— Простите?
— Надо связаться с криминальной полицией. Обещаю, доктор, что вы станете знаменитым.
Брат Иуда
Frère Judas (1974)
Перевод с французского В. Леликова
Ученики выстроились полукругом в совещательной зале. Вороны, Приобщенные и Воины — слева; Львы, Персы и Гелиодромы — справа. Наставники держались позади Учителя. На них были надеты туники семи цветов радуги. И только Учитель, этот верховный жрец, мог носить белую тогу как символ вновь обретенного единства. Обнаженный Андуз дрожал от возбуждения, страха и надежды. Он стоял перед Учителем со связанными руками и чувствовал себя немного неловко. Он стыдился своих слишком худых рук, впалой груди и нелепой бороды. Но он знал, что Сила снизойдет на него и он доведет до конца то, что задумал.
— Брат, — сказал Учитель, — что ты хочешь?
— Я хочу Света, — ответил Андуз.
— Готов ли ты обуздать бренную плоть и желания, приковывающие тебя к земле и пленяющие твой дух?
— Готов.
— Тогда прочитай крещенскую молитву.
— Митра, Бог-освободитель, Властелин наших жизней, сменяющих одна другую, заклинаю тебя. Даруй рабу твоему Полю способность познать истину, следовать по твоим стопам, всегда и везде действовать в интересах общины.
— И да услышит тебя Митра!
Учитель жестом подозвал ученика, одетого в пурпурную тунику, тот подал ему шпагу, лежащую на подушке. Андуз протянул руки, связанные тонкой веревочкой, и Учитель разрубил ее. Другой ученик, в зеленой тунике, принес серебряную чашу, наполненную водой. Андуз омыл в ней руки.
Собравшиеся неторопливо затянули песнь радости; смысл ее Андуз не очень хорошо понимал, поскольку пели они на латыни. Эту песнь написал на древнесирийском языке Захарий Схоластик, а Учитель перевел ее на латынь. Она напоминала христианские литании, сложенные в честь Пресвятой Богородицы.
Митра, властвующий над стихиями, Мы тебя обожаем. Митра, оплодотворяющий землю, Мы тебя обожаем. Митра…Андуз сохранил молчание, поскольку был слишком потрясен и смущен. Он встречался с этими мужчинами и женщинами каждое воскресенье, он знал все об их прошлой жизни, и они ничего не скрывали от него. Вот толстый Каглер, Симона Аламин, вся усыпанная брильянтами, Боккара, тщательно скрывающий свое пристрастие к алкоголю… и те четверо, что сидят в машине, — Блезо, Ван ден Брук, Фильдар, Леа, — они тоже пели, несчастные… Они не могли знать… И все остальные, которые в другие дни были, в общем-то, заурядными людьми. Как они изменились, до неузнаваемости!
Андуз уже давно мечтал превзойти самого себя! Конечно, он нервничал, ибо не сомневался, что после крещения с ним произойдет нечто неведомое. Однако если он так и не обретет жизненных сил, столь необходимых ему, чтобы исполнить свою миссию… Но нет! Учитель обещал… Ведь каждый, кто прошел обряд крещения, так или иначе преобразился… Даже Кастель, тем не менее оставшийся скептиком, хотя он и познал смысл предыдущей жизни!..
Андузу даже не хотелось знать, сколько жизней он прожил. Он предпочитал думать лишь о том, что ему предстоит совершить, а это казалось столь необычайным, столь трудным, что даже в момент свершения таинства он все же не мог избавиться от сомнений. Возможно, ему снится сон? Накануне совещательную залу преобразовали в храм. Длинная и узкая, она символизировала Вселенную. Вдоль стен справа и слева установили скамьи. Получилось нечто вроде амфитеатра, где правоверные могли преклонить колени. В глубине залы Учитель повесил икону с изображением Митры. Над иконой возвышались два заостренных рога, рядом с ними стояли две статуэтки. Одна из них представляла собой подростка, держащего поднятый факел, другая — подростка, сжимающего опущенный факел. Под иконой располагался камин. Поленья уже догорали. Левую стену украшал гороскоп, а на правой стене Учитель, который очень ловко орудовал кисточкой, изобразил бога с львиной головой и Митру, возникающего из недр скалы. Помещение освещалось только свечами двух канделябров, расположенных по обе стороны входной двери, да отблесками огня в камине. Песнь закончилась, и Учитель помог Андузу встать.
— Поль, — сказал он, — через мгновение ты станешь нашим спутником как в этой жизни, так и в грядущих, поскольку тебе предстоит, как и большинству присутствующих здесь, пройти через многие жизненные циклы, прежде чем ты обретешь вечный покой. Но я всегда буду рядом с тобой, ибо я — это уже ты, а ты — это уже я. Мы слились в единое целое. Ты постепенно прозреешь. Ты осознаешь, насколько преходящи и жизнь, и смерть. Мы вместе спустимся в подземелье, где сокрыт источник всех начал, а затем, преодолев семь ступенек, ты воскреснешь и устремишься к свету. На тебя прольется кровь Митры. Она укутает твои плечи, словно покровом вечности. Ты готов?
Андуз посмотрел на Учителя. Ему казалось, что он видит его впервые. Грубые черты лица Учителя излучали доброту, которая струилась, словно таинственный свет, сквозь одутловатые щеки. В его выпученных глазах таилась почти женская нежность, которая резко контрастировала с гладко выбритой головой, как у буддийских монахов.
— Ты готов? — повторил свой вопрос Учитель.
— Да. Я готов.
— Так вперед!
Ученики образовали два ряда; те, кто был одет в фиолетовые туники, шагали во главе колонны; затем следовали синие туники, а вслед за ними голубые, зеленые, желтые, оранжевые и красные. Андуз шел впереди Учителя. Процессия вышла из храма, пересекла вестибюль и стала спускаться по лестнице, ведущей в подвал. Андуз знал, что на его долю выпало суровое испытание. Он замерз и поэтому прижимал руки к туловищу. Он уже раскаивался в содеянном и внезапно вздрогнул, когда его соратники запели песнь. Но присоединиться к хору у него просто не было сил. Он и так с трудом переставлял ноги.
Солнце прогонит тьму… Истина озарит землю и сердца тех, кто принесет себя в жертву, дабы возродиться в тебе, Митра, единственный, несравненный источник всех источников, центр всех центров, по ту сторону потустороннего мира…Эхо повторяло слова песни. Мерцающие электрические лампы, словно маяки, указывали дорогу небольшому кортежу, сопровождаемому огромными тенями, которые скользили по стенам и по потолку. Изредка проход расширялся, и тогда можно было заметить заброшенные стеллажи для бутылок, с которых свисала паутина. Будучи хранителем имущества общины, Андуз уже несколько раз приходил сюда. Однако теперь он растерялся. Он вдруг столь явственно почувствовал собственное ничтожество, что начал задыхаться, и наверняка остановился бы, если бы Учитель не толкал его в спину. Да, он пробивался сквозь хаос видений. Этот подвал был не чем иным, как отражением бесконечно меняющегося лика иллюзорного мира. Он споткнулся о рельсы узкоколейки, когда-то служившей для перевозки ящиков шампанского, но Учитель подхватил его. К счастью, его бдительный покровитель всегда начеку. «Кем бы я был без него? — думал Андуз. — Обыкновенным бухгалтером, жалким человечком, тенью… Ах! Если бы и я смог стать его защитником! Но я ему докажу, что…»
Процессия остановилась. Впереди возвышалась глухая стена. Справа зиял лаз в подземелье. Андуз видел лишь его начало, но он знал, что скрывалось там в глубине, и сцепил пальцы, чтобы унять дрожь. Ученики молча расступились. Учитель приблизился к темному входу.
— Карл?
— Да, Учитель, — сказал голос.
— Можешь зажигать.
Красноватые блики заиграли на цементных стенах. Как-то странно зашелестела солома, словно ее топтали копытами, и сразу же послышалось хриплое дыхание. Учитель обратился к Андузу.
— Пробил час, — прошептал он. — Будь спокоен в момент превращения в самого себя… Мы помолимся за тебя.
Он возложил руки на плечи Андуза и заключил его в объятия. Потом друг за другом к Андузу стали подходить ученики. Они прижимали свою голову к его голове сначала с одной стороны, потом с другой… От Симоны Аламин пахло дорогими духами, от Каглера — табаком. Леа была столь нежна, что ему захотелось взять ее на руки. Он остался один в кругу посвященных. У его ног ступеньки уходили под землю. Он начал медленно спускаться, опираясь о стену. Лестница круто поворачивала и вела в крохотную каморку. Через небольшие отверстия в потолке просачивался серый свет. Помещение настолько пропахло стойлом, что Андуз старался как можно дольше задержать дыхание. Пот катился с него градом, как в сауне. Гигантская, как ему показалось, тень заслонила свет. Мощные копыта сотрясали потолок прямо у него над головой. Он даже пригнулся и поднял руки, приготовившись защищаться. Бык Митры!
Стреноженное животное хрипло заревело, и Андузу показалось, что крик ужаса вырвался из его собственной груди. До него этому испытанию подвергались другие ученики. Кастель утверждал, что все не так уж страшно, если не давать воли воображению. Но Жанна Беллем потеряла сознание. Нужно только все время повторять себе, что каждый день на бойни отправляются десятки миллионов животных, что планета истекает кровью животных, принесенных в жертву, чтобы прокормить людей. Следует помнить, что некогда жрецы, чтобы предсказать будущее или умилостивить богов, торжественно перерезали горло овцам, свиньям, священным коровам… А главное — нельзя ни на минуту забывать, что смерть не властна над нами, что в результате всеобщего переселения души обретают новые судьбы. И когда Андуз отправит на тот свет свою первую жертву, то он будет старательно думать именно о том, что смерть не властна над нами.
Но он настолько ослаб, что был уже не в состоянии даже опираться плечом о стену, шершавая поверхность которой расцарапала ему кожу. Он упал на колени, и в тот же самый момент раздался удар молота. Он понял тогда, что испытывает дерево под ударами топора, сотрясающего его до самых корней. В голове проносились бессвязные образы. Он был и срубленным дубом, и поверженным быком. Он слышал, как рушилась древесная масса, как падала плоть. Он открыл рот, чтобы закричать. Нечто огромное закрыло собой все дыры, проделанные в потолке, и на долю секунды он погрузился в могильную тьму… Где-то вдалеке он услышал шепот… ученики молились за него, чтобы помочь ему избавиться от дурных привычек, от жалких бренных остатков прежнего Андуза, от старого рубища. И вот упала первая капля, ударив его по лопатке. Она пробудила в нем те же самые чувства, что и первая капля надвигающейся грозы. Она была большая, теплая и густая, словно небесная слюна. Он стиснул зубы. Он догадывался, что капля — красная и что она пенится, и благословил темноту. Вторая капля упала на затылок и заскользила по шее — похожая на медленно стекающее растительное масло. И потом вдруг сотни, тысячи капель слились в единый поток. Тело стало липким. Он умирал от отвращения, но, несмотря на жару, отвратительный запах и слабость, держался.
Он попытался встать. Но жирные руки не могли найти точку опоры. Он поскользнулся и грузно повалился на левый бок. Он с трудом переводил дух, как раненый воин, истекающий кровью. Но уже в нем пробуждалась какая-то необузданная радость. Так родник пробивает себе дорогу в скале. Сила! Он обретет силу! Именно эта пролившаяся кровь, подобно ручьям, звонко журчащим среди тишины подземных гротов, и несла в себе силу! И сила поможет ему спасти Ашрам. Учитель прав. Тот, кто вскоре выйдет на свет божий, станет другим человеком. Да, внешне он останется Андузом, но его внутренний мир изменится. Теперь он достойный доверия атлет, который преодолеет любые препятствия. Он станет верным камикадзе.
Он не осмелился вытереть потное лицо, боясь испачкаться, и осторожно оперся на одно колено. Он рассчитывал каждое движение, как если бы ему предстояло сражаться с обледеневшей землей. Луч света осветил ступеньки.
— Как ты там? — спросил Учитель.
— Все в порядке. Сейчас приду.
Ему предстоял долгий и изнурительный путь. Учитель поставил лампу на самую верхнюю ступеньку. Лучи света едва проникали в каморку. Ноги Андуза утопали в тягучей жиже. От нее шел легкий пар, как от болота перед восходом солнца. Он дошел до лестницы и только тогда увидел, что весь перемазался. Но он, страшный чистюля, по утрам неизменно принимавший душ, тщательно смывавший грязь, каждый день менявший белье, испытывал нечто вроде ироничного наслаждения, созерцая покрасневшие руки и расцарапанную грудь. Он подумал о распятом Христе, который на третий день воскрес и вознесся на небеса. «Я тоже, — сказал он себе, — возвращаюсь из Ада и, преодолевая семь символических ступенек, прохожу через семь состояний всемирного бытия, чтобы затеряться в Пространстве, где нет ни начала, ни конца!»
Он повторял любимые слова Учителя, потому что само звучание этих слов, писавшихся с большой буквы, наполняло его таинственной, почти детской робостью. Все Андузы поддерживали тесные связи с катарами, камизарами,[2] с множеством еретических сект, которые методично истребляли. Он последний и самый ярый приверженец священной науки. Его чуть не повергла ниц внезапная слабость на третьей ступеньке, на той, что олицетворяет проницательность человека, его оккультные возможности, его способность быть единым в двух лицах при помощи ясновидения и телепатии. Леа, милая Леа, почему ты такая недоверчивая? Что означают твои бесплодные эксперименты? Неужели ты не боишься рассердить столь терпеливого и снисходительного Учителя, который ждет меня наверху и готов по-отцовски раскрыть мне свои объятия?
— Я иду, — прошептал Андуз.
Он преодолел еще две ступеньки. Он не помнил, что они означали. Сквозь туман он видел склонившиеся лица. Когда же он вышел из тьмы, похожий на человека, уцелевшего после страшной катастрофы, но потерявшего рассудок, они резко отпрянули назад. Одна из женщин закричала. Учитель накинул на плечи Андуза дождевик.
— Пошли быстрее, — сказал он, — а то простудишься.
Он повернулся к неподвижно стоящим людям.
— Встретимся в столовой, как обычно.
Он увлек за собой Андуза.
— Ты потрясен, не так ли?.. Не разговаривай, иначе будешь стучать зубами. Теперь тебе надо принять горячую ванну, чтобы хорошенько согреться. А затем ты почувствуешь чудесное освобождение. Кровь несет в себе необъяснимую доблесть. Вот увидишь. Древние, которые знали обо всем, знали и об этом. Ты как следует подкрепишься и отдохнешь… Почта, счета — все отложи в сторону.
Андуз слушал его с удовольствием. У Учителя был низкий, вкрадчивый голос, каждую гласную он слегка тянул, как англичане, и раскатисто, на русский манер, произносил букву «р». Сколько языков он знал? Он часто разговаривал с членами секты на их родном языке. Андуз бы все отдал, лишь бы обладать хотя бы сотой долей поистине энциклопедических знаний Учителя. Ведь тот слыл не только выдающимся лингвистом. Он прочитал множество книг. В частных беседах он демонстрировал познания в самых разнообразных отраслях, будь то физика или химия, астрология или геральдика, и даже ботаника. Однако он не умел составить баланс, рассчитать бюджет. Вот за это Андуз и любил его, поскольку хоть и не разбирался в высшей математике, но, подобно счетной машине, точно и быстро оперировал цифрами. Если бы не Андуз, как бы Учитель справлялся со счетами, чеками, векселями, всякого рода банковскими документами? Андуз мог утверждать, что секта процветала и все больше пополняла свои ряды именно благодаря ему.
— Нужно купить другого бычка, — заметил он.
— Брось, — сказал Учитель, — сегодня праздник. Как твое самочувствие?.. Мне знакомы случаи, когда люди падали в обморок через час после испытания.
— Не волнуйтесь, со мной все в порядке.
Они поднялись из подвала. Ванная комната находилась справа от лестницы. Это было просторное помещение, оборудованное всем необходимым для массажа. Учитель открыл краны.
— Но сначала душ, — приказал он. — Я тебе помогу, одному тебе не справиться.
Андуз сбросил дождевик и предстал перед Учителем, забрызганный кровью с головы до пят, затем разделся донага. Учитель тем временем регулировал температуру воды.
— Расслабься… Через минуту ты будешь чист снаружи так же, как ты уже чист изнутри. Ведь крещение оказывает незамедлительный эффект, не зависящий нисколько от внутренней предрасположенности того, кто просит совершить таинство.
Учитель надел байковые перчатки.
— Прогни спину. Хорошо. Крещение обладает магической властью. Римские солдаты, почитавшие Митру, это хорошо понимали… Подними руки… Затем и христиане переняли этот обряд… Только они заменили кровь водой. Но тем не менее им понадобился крест. Очень важно, чтобы время от времени проливалась кровь. Именно кровь, основа единства…
Подожди, на икрах у тебя образовалась корка… Да, кровь, красная, как огонь, трепещущая, как воздух, жидкая, как вода, и тягучая, как ил. Кровь — душа Вселенной.
Андуз испытывал невероятное блаженство. Правда, он никак не мог понять, что такое душа Вселенной. Никогда прежде Учитель так с ним не разговаривал. Он подчинялся могучим рукам Учителя, жадно впитывая его проповеди на правах любимого ученика. Другие часто спорили. Например, малютка Леа… Она придиралась по пустякам. Она требовала доказательств, фактов. Она не верила, что духовный наставник может ходить по раскаленным углям или вызывать дождь. Впрочем, какое это имеет значение? Андуз просто хотел жить подле Учителя, слушать его, посвятить себя служению ему. Учение вторично. Хотя не совсем. Очевидно, не мешает знать тайны устройства Вселенной, постичь тысячи невидимых связей между предметами. Но важно прежде всего отрешиться от повседневной серости и безликости, от рутинного распорядка дня. Когда Учитель говорил: «Вы спите. Все спят. Ваше существование — сон», то насколько он оказывался прав!
— Теперь примешь ванну. И затем я сделаю тебе массаж.
Учитель скинул промокшую тунику и надел свой довольно-таки мятый костюм. Брюки на нем висели мешком. Потом он вытащил из кармана пиджака черную сигару, закурил от золотой зажигалки, подаренной ему арабским шейхом, и превратился в профессора Букужьяна, лекции которого притягивали в Париже столько людей. Андуз наконец расслабился, ему стало так хорошо, как никогда прежде.
— Пойми, — продолжил Учитель. — Тебе нужно усердно заниматься. Крещение, как любой обряд, означает только начало подлинной жизни. Но крещение обладает тем преимуществом, что благодаря ему ты можешь сконцентрировать все свои силы до такой степени, что в это трудно поверить.
Он наклонился над ванной и потрогал воду.
— Слишком горячая. На будущее запомни… тридцать семь градусов… температура тела. Нужно, чтобы ты почувствовал, как ты покидаешь свою плоть, как расстаешься с оболочкой. Нужно, чтобы ты плавал, как медузы в море. У медузы нет границ. Сквозь медузу свободно проходит первородный поток, и она всего-навсего лишь мимолетное утолщение этого потока.
Пепел от сигары упал на жилет Учителю. Он рассеянно стряхнул его.
— Ты знаешь, — продолжил он, — почему Ганг считается святой рекой? Потому что он растворяет формы. Но хорошая тренировка может его заменить.
Андуз закрыл глаза. Как бы он хотел простым усилием воли покинуть свою оболочку! Возможно, ему это удастся. Ведь Учитель не мог лгать! Но прежде Андуз должен убить всех четверых, потому что либо тот либо другой неизбежно заговорит. Сомнений нет. И тогда дело Учителя погибнет. Вот почему Учитель и Андуз лгали, но они лгали, движимые любовью. Андуз поднял веки, чтобы только посмотреть, как Учитель берет пузырьки и баночки с мазью в аптечке. На его бритом черепе прыгали лучики света.
— Думаю, — сказал он, — что ты самый талантливый. Другие тоже не бездари… Малышка Симона, если постарается… Однако у тебя есть то, чего не хватает им всем. Ты себя не любишь. Ведь как только начинаешь себя любить, то наступает конец, поскольку ты отдаляешься от других… Ты готов для массажа?.. Тогда ложись сюда.
Он говорил, зажав сигару зубами, и потому слегка шепелявил. Его голос звучал глухо, как у чревовещателя. Андуз растянулся на столе.
— Ложись поудобней… Ты сопротивляешься, твои мышцы напряжены. Расслабься… Представь, что ты труп… Вспомни изречение иезуитов: «Perinde ас cadaver».[3] Эту клятву дают при посвящении.
Его пухлые пальцы, украшенные кольцами с выгравированными на них таинственными знаками, пробегали по телу Андуза, как по клавиатуре. «Я его фортепиано, — подумал Андуз. — Я его вещь. Я сделаю для него то, чего никто еще никогда не делал и не сделает. И он никогда об этом не узнает!» От волнения у него сжалось сердце.
— Завтра, — сказал Учитель, — когда проснешься, сосредоточься на своей правой руке. Это легче всего… Многим нашим братьям это прекрасно удается.
— А Леа?
Учитель засмеялся, и с его сигары слетел пепел, упав Андузу на плечо.
— Леа, — сказал он, — пошла по неверному пути. — Он перевернул Андуза и стал быстро мять ему бока. — Вещи надо понимать сердцем, а не разумом.
— А если попробовать погасить свечу? — предложил Андуз.
— Это еще слишком трудно для тебя. Нет… Сначала рука… Начинай с большого пальца и двигайся к мизинцу. Бесполезно повторять, как иногда советуют: «Я — моя рука… Я — моя рука». Важно не думать, а сознавать… Если ты добьешься успеха, то сразу же почувствуешь это. Не ты найдешь свою руку… Рука тебя найдет… Понимаешь?.. И главное — не смотри на нее. Она останется простым предметом. Ты нутром должен себя ощущать живой рукой, по которой проходят артерии, вены, нервы…
Он перевернул Андуза на бок.
— Ты хорошо питаешься? Ты худой и мягкий. Это нехорошо.
— В полдень я обедаю в ресторане или, скорее, в столовой. В банке есть довольно приличная столовая. Ем, что дают. А вечером я готовлю дома то, что не занимает много времени: яйца, макароны, рис. Пища меня не очень интересует.
— Неправильно, — сказал Учитель. — Ты куришь?
— Нет.
— Бегаешь за женщинами?
Андуз покраснел.
— Нет. Они меня не интересуют.
— В общем, никаких забот. Очень жаль. Если нет желаний, то как от них откажешься? Жизнь должна бурлить, чтобы ее можно было обуздать, усилить ее напор и направить на получение какого-то результата, — точно так же, как используют сжатый газ. Понимаешь?
Это было его любимое выражение: «Ты понимаешь?» На уроках он ограничивался намеками. Ученик должен пройти полпути. Андуз усердно кивал, даже если не понимал. А это с ним случалось очень часто.
— Одевайся. Если мы опоздаем, они станут ревновать.
Учитель рассмеялся, выбросил окурок сигары и вытер руки носовым платком. Андуз отбросил испорченные брюки, которые надевал для церемонии, и облачился в выходной костюм, аккуратно висевший на вешалке. Затем подошел к Учителю и порывисто схватил его за руку.
— Учитель… я хотел сказать…
— Ну! Ну! Не воображай… Ты ничто, малыш… Ничто!
Грубость после нежности. За это Андуз еще больше любил Учителя.
Когда на следующее утро Андуз проснулся у себя дома, он вдруг вспомнил, что теперь окрещен, что стойко выдержал испытание, на которое отважились бы очень немногие, и почувствовал, что теперь он стал сильным и могучим, как полноводная река. Ничто не сможет его сдержать. Он потечет к своей цели медленно и неотвратимо. Он сметет со своего пути всех четверых в слепом безмятежном порыве. И община будет спасена. «Я — Андуз!»
Он сел на кровать, потрогал грудь и спину. Кожа была сухой и прохладной, но кончики пальцев еще ощущали липкую кровь. Возможно, это воспоминание никогда не изгладится из памяти. Тем лучше! Учитель навсегда оставил свою метку. Он встал, раздвинул шторы. Дождь стучал по крышам, по трубам. Оцинкованное железо тускло поблескивало. Тут и там метались разорванные, гниющие листья, неизвестно откуда принесенные. За окнами стояла мрачная парижская осень.
«Меня окрестили», — повторил Андуз, словно магическое заклинание, которое позволит ему избавиться от прохожих, метро, клиентов, от всего того, что разрушало его жизнь до встречи с Учителем.
Андуз снял пижаму и побежал принимать душ. От горячего ливня его зазнобило. Мельчайшие детали оживали с поразительной ясностью: вот животное упало прямо у него над головой, вот хлынул поток крови… Он энергично растерся, понюхал руки. Ему, как кошке, хотелось себя вылизать. Затем он тщательно побрился и стал внимательно рассматривать свое лицо, он испытывал к себе неведомую ему прежде симпатию. «Я — Андуз! Я пришел из глубины веков. До сих пор я влачил жалкое существование. Но теперь я призван не допустить, чтобы дело Учителя потерпело крах, столь похожий на скандал».
Из-за жалкого узкого, уродливого лица, усеянного веснушками, он всегда принадлежал к отбросам человечества… он был то раб, то крепостной, то лакей, то развратник. Сейчас ему вспомнились болотные растения, которые прорастают из ила. С необыкновенным упорством они преодолевают толщу мутной воды, чтобы раскрыть свои быстро увядающие цветы. Андуз также приблизился к моменту своего расцвета. Он настолько дорожил этим событием, что непременно хотел защитить его от обыденности окружающей жизни.
Он оделся, не переставая любоваться собой, затем не выдержал и достал из кухонного шкафа подсвечник со свечой, поставил его на стол в гостиной, закрыл двери, чтобы не было сквозняка, зажег свечу и сел перед ней. Пламя колыхалось от малейшего дуновения, воск плавился, а черный фитиль сгибался пополам. Тонкая струйка дыма вилась над свечой. Сине-желтое пламя вытянулось и перестало дрожать. Эксперимент начался. Андуз попытался прогнать все мысли… Стать никем… забыть Леа… забыть банк… эту комнату, заваленную книгами… Теперь он не просто смотрел на пламя, а направлял в самый его центр луч энергии, поток, движимый безымянной силой, но которая, возможно, подобна той, что увлекает за собой мироздание. Вот пламя раздвоится, согнется и запляшет… Существуют такие выдающиеся личности, которые способны потушить свечу на расстоянии нескольких метров. Леа, которая работала в лаборатории Коллеж де Франс, дважды присутствовала на подобных опытах. Она говорила, что наука называет это явление телекинезом.
Он устремил неподвижный взгляд в самый центр пламени и напрасно старался расслабиться… perin-de ас cadaver… да, конечно, но… Он напрягался, пытался сосредоточиться. Свеча продолжала по-прежнему гореть, иногда чуть потрескивая. Ее фитиль переливался красноватыми оттенками. У Андуза сжалось сердце. Он напряженно ждал, когда же наконец пламя покачнется, и погаснет, и рассеется в черных клубах дыма. Впрочем, на это он и не надеялся. Пусть пламя хотя бы вздрогнет, хотя бы затрепещет… Ах! Неужели… Он не смог не залюбоваться этим огоньком, упрямо отстаивающим жизнь. Ему становилось все труднее смотреть в сердцевину пламени. Его отвлекала капелька воска, образовавшаяся на краю маленького белого кратера. Она раздулась, а затем скатилась вниз. Андуз закрыл глаза. Ничего не получилось. Он сидел с опущенными веками и видел зеленоватые свечи. Ему не терпелось добиться успеха. Учитель рассердился бы, если бы узнал, что… Следовало бы начать с руки… Он слишком поторопился. Впрочем, эти игры вовсе не самоцель. Он должен срочно сконцентрировать свое внимание на одном из четверых. Не важно, на ком именно.
Все же, чуть огорченный, он задул свечу. Быстро поднялся, сварил кофе. Половина девятого. Черт возьми! Он съел, как спортсмен перед соревнованиями, два кусочка сахара. До двенадцати ему предстоит считать деньги в банке. Через его руки проходили большие суммы, целые состояния, но он не испытывал ни зависти, ни жадности. Он стал бы счастливее любого богача, если бы сумел погасить свечу одним своим взглядом.
Он проглотил кофе, который отдавал железом, и спустился по черной лестнице. Ею пользовались только горничные да студентки. У него становилось тепло на душе, когда он слышал, как они смеются и что-то напевают. Иногда одна из них просила у него прикурить. Сам он не курил, но в кармане у него всегда лежал коробок спичек. Пока он спускался с седьмого этажа и выходил на улицу, ему вполне хватало времени, чтобы вновь стать господином Полем Андузом, кассиром Национального кредитного банка.
Он направился к метро. По мере того как он приближался к банку, Ашрам удалялся, и это всегда его беспокоило. Почему ему не удавалось в течение всего дня оставаться братом Полем? Он прочитал множество книг, посвященных мистикам. Они тоже занимались тяжелым трудом, но только они не давали себя подавлять. Они просто умели замыкаться в себе. Правда, если бы им пришлось лихорадочно пересчитывать пачки банкнотов, то они как миленькие вынуждены были бы спуститься на землю! И все же следует попробовать выкроить время для медитации. Он втиснулся в вагон между полицейским и гигантским негром, насквозь пропахшим одеколоном, и думал: «Они все спят. Они не подозревают, что над каждым из них витает Дух. Но мой разум скоро проснется… и благодаря Учителю я узнал высшие истины». Огромная толпа людей вынесла его на улицу. Радостное чувство не погасло. Оно теплилось, словно огонек под пеплом.
— Вы отлично выглядите, — сказала ему Алиса, машинистка из юридического отдела. — Выиграли на скачках?
— Вы совершенно правы, — сказал Андуз. — Я выиграл на скачках.
— Везет же некоторым!
Она не верила ни единому его слову. Все в банке знали, что Андуз вел скромную холостяцкую жизнь. Никаких скачек. Иногда, редко, кино. И то еще его нужно долго уговаривать: «Мсье Поль, право же, этот фильм стоит посмотреть». Когда он попал в аварию, которая чуть было не стоила ему жизни — два его спутника погибли, — то несколько дней банк лихорадило. Самые злые языки ворчали: «Погибают лишь отцы семейств!» Его начальник не удержался и спросил:
— Но как, черт возьми, вы очутились около Реймса?
— Хотел повидать друзей. Разве это запрещено?
— Разумеется, нет. Ваша малолитражка, должно быть, совсем разбита?
— Ее место на свалке.
— Разве вы не пристегнули ремни безопасности?
— У меня же очень старая машина. Их там просто нет.
— Собираетесь купить новую?
— На те деньги, что я зарабатываю…
Начальник счел за благо не настаивать. С Андузом было нелегко разговаривать. Замкнутый. Недоверчивый. Но все вдруг заинтересовались им. Двое погибших! К тому же оба американцы! Пожилая мадам Ансель из отдела ценных бумаг без зазрения совести начала свое расследование:
— Как это произошло?
Андуз сухо объяснил, что авария произошла не по его вине. Машина, которая шла впереди, потеряла управление. Непроизвольный резкий поворот, чтобы избежать столкновения. Малолитражка Андуза заскользила на свекольной ботве, рассыпанной по дороге, и врезалась на полном ходу в мачту высоковольтной линии.
— Все очень просто, — заключил Андуз.
Снисхождения окружающих ему ждать не приходилось.
Заместитель директора сказал:
— Он совершенно измотан.
Но все вынуждены были признать, что Андуз — примерный служащий. Никаких ошибок. Никаких жалоб. А Сюзанна Маркантье из бухгалтерского отдела подвела черту под всей этой историей:
— Если окажется, что он ведет двойную жизнь, меня это не удивит!
Она и не догадывалась, что попала в самую точку. Андуз вошел в свою клетушку, снял пиджак, и день начался. Сидя за решеткой, он часто представлял себя пойманным зверем. Мелькали лица — одно, другое, третье. Кончиками пальцев ему протягивали банкноты, как будто предлагали орешки арахиса. Он складывал их в пачки, а затем пересчитывал деньги со свойственной ему виртуозностью. Как только он чувствовал небольшую усталость, а это случалось крайне редко, он откладывал все в сторону, тер глаза и думал: «Я — другой!» Эту фразу он вычитал в поэтическом сборнике. Каком? Он и не помнил, но эта мысль ему понравилась. Она несла умиротворение и оказывала на него такое же действие, как влажное полотенце, приложенное ко лбу.
В полдень он отправился в столовую, где у него было постоянное место в глубине зала, возле телефона. Здесь он позволял себе немного расслабиться. Как правило, он читал частные объявления в газете, которую складывал вчетверо и приставлял к графину. Он как бы подглядывал в замочную скважину. Он любил расшифровывать загадочные формулировки, в которых, казалось, содержалось столько секретов: «Одинокая женщина, 45 лет, мат. необеспеченная, но миловидная, ищет скромн. обеспеченного мужч. с целью замужества…», «В связи с переменой места жительства продаю колл, редких марок. Цена договорная…», «Студент переводит на англ. и немецк.»… Часто незнакомые ему служащие звонили по телефону, и тогда он ловил обрывки разговоров: «И я ему сказала: лишь дураки так поступают…», «Нет, только не сегодня вечером… Ты знаешь, есть дни, когда женщины предпочитают оставаться дома…», «Конечно, я тебя люблю, дорогой. Ты глупый!..».
В эти минуты он вспоминал об Ашраме, о столь возвышенных проповедях Учителя и гордился тем, что он Андуз.
Когда он в шесть часов вышел из банка, то увидел, что его ждет Леа.
— Вы?
— Да, я. Мне кажется, что вы не очень-то рады нашей встрече.
— О! Как вы можете так говорить?
Он что-то забормотал, покраснел, стал подозрительно оглядываться вокруг. Ему не хотелось бы, чтобы его увидели в обществе молодой девушки, но она со своей обычной непосредственностью взяла его под руку.
— Вы не догадываетесь, почему я пришла?.. Просто хотела поговорить с вами. Какое впечатление на вас произвел обряд крещения?
— Пойдемте отсюда.
— Хорошо. Угостите меня чем-нибудь.
Он повел ее в большое кафе, расположенное на Бульварах. Они сели в сторонке. Она умирала от любопытства.
— Вы меня так напугали, когда словно выросли из-под земли, как воскресший Лазарь. Какая режиссура!
— Официант! Два чая с молоком… Но постойте! Какая режиссура?!
— Да будет вам! Неужели вы хотите заставить меня поверить в то, что вы почувствовали себя перевоплощенным… Извините меня, Поль. Я не хотела вас обидеть. Я пытаюсь понять.
Андуз принадлежал к тем молчунам, которые сами без труда понимают любые феномены, но не способны объяснить их другим.
— Послушайте, — сказал он, — вы же можете попросить Учителя окрестить вас.
— Ни за что на свете! Это отвратительно! И потом, мне нечем платить… Положа руку на сердце, скажите, во сколько вам это обошлось?
Андуз на минутку задумался и неторопливо стал пить чай. Имел ли он право раскрыть Леа некоторые аспекты своих отношений с Учителем?
— Вам, должно быть, известно, — начал он, — что я оказываю общине немало услуг?
— Вы и бухгалтер, и кассир?
— Если хотите.
— Вот именно…
— Мы договорились.
— Жаль, что вы ничего не хотите говорить. Это не очень-то любезно.
Он избегал смотреть ей в глаза, но в зеркале, висевшем позади нее, он видел отражение ее головы с короткой стрижкой, золотую цепочку на тонкой шее. Она протянула ему мятую пачку «Голуаз».
— О! Извините. Вы же не курите.
Краешком рта она выпустила густую струю дыма. Андуз восхищался каждым ее жестом.
— Давайте все-таки вернемся к разговору о крещении, — сказала она, — пусть я вас раздражаю, но это несерьезно.
— Но тогда зачем?.. И вообще, что вы у нас делаете?
— Да я сама задаю себе этот же вопрос… Допустим, из любопытства. Букужьян — занятный тип. Вы знали, что я пишу диссертацию?
— Нет. Я не знал.
— Так вот. Я работаю вместе с профессором Кремье в лаборатории экспериментальной психологии Сорбонны. Но вы меня обманываете. Это я вам уже рассказывала.
— Уверяю вас, что нет.
— Да, конечно, в Реймсе особенно некогда болтать.
— О чем ваша диссертация?
— Это не так просто объяснить. Мой патрон — ученик профессора Рина. Он стремится доказать существование экстрасенсорного восприятия посредством математического анализа. Я выпила бы чего-нибудь покрепче. Грог вас устроит?.. Официант. Два грога!
Официант улыбнулся с заговорщицким видом. Она — белокурая, изящная, с кошачьими манерами. Непринужденность делала ее еще более очаровательной. Она пьянила Андуза, как вино.
— Предположим, — продолжила она, — что тесты проходите вы. Я беру колоду карт и выбираю наугад одну из них, не важно какую. А вы говорите мне, что это за карта, и так несколько раз. Если вам удастся угадать пять раз из десяти, значит, вы хорошо выдержали испытание. Но если вы угадаете шесть, семь раз, значит, вы просто талантливы. Естественно, я упрощаю. Представьте, что опыт повторяется десятки тысяч раз с самыми различными испытуемыми… Закон больших чисел гласит, что шансы дать правильный и неправильный ответ должны уравняться. Если преобладают правильные ответы, следовательно, экстрасенсорное восприятие существует. Не верите? Сейчас попросим принести колоду карт.
Она щелкнула пальцами, чтобы привлечь внимание официанта. Андуз схватил ее за руку.
— Нет, — сказал он. — Нет.
Он внезапно испугался. Ему не хотелось, чтобы между ними возникли дружеские чувства. Он уже ощущал, что начинает уступать. У него никогда не хватит сил… Он постарался принять вежливый и равнодушный вид.
— Так вот, значит, над чем вы работаете.
— Да. Разумеется, есть исключительные личности, поэтому когда патрон, будучи в Америке, услышал о Букужьяне, то сразу поручил мне познакомиться с ним, узнать, в чем состоит его учение и обладает ли он способностями, которые ему приписывают.
— Вы шпионите за ним? — воскликнул Андуз.
— Ну что вы! Я подошла к нему после одной из лекций и четко изложила свои намерения. Он любезно предложил мне присоединиться к его группе, провести опрос среди учеников, принять участие в упражнениях. Это захватывающее зрелище. Но испытание крещением я не выдержу… к тому же существует немало вещей, которые для меня просто неприемлемы. Скажите откровенно, а?.. Поклонение Митре вам что-нибудь дает?
Он ответил не сразу. Его била внутренняя дрожь. Как можно более твердо он сказал:
— Да. Это мне дает много.
— Что, например?
— Вам не понять.
Он попал в точку. Она принадлежала к тем особам, которые тешат себя надеждой, что все понимают. Она тут же заартачилась:
— Вы принимаете меня за идиотку! Культ солнца я изучала, как и все остальные. Его исповедовали двадцать веков назад. Но в наше время!..
Он достал бумажник и хотел уже расплатиться. Хватит слушать эту чепуху.
— Я не тороплюсь, — сказала она. — Расскажите мне о Букужьяне. Как я ни стараюсь, у меня язык не поворачивается назвать его Учителем. Вы давно с ним знакомы?
— Вот уже два года четыре месяца и три дня.
— Вы шутите!
Он сурово взглянул на нее.
— Эта встреча перевернула всю мою жизнь, — сказал он. — Я ее никогда не забуду.
— Вы тоже специально к нему приехали?
— Нет. Все произошло банально просто. Он клиент нашего банка. Он искал человека, которому мог бы доверить вести дела общины. Директор порекомендовал меня. Теперь каждый выходной я езжу в Реймс. Но об этом никому не известно.
Он снисходительно улыбнулся.
— К счастью, у этого бедолаги есть я! В его делах царит такой беспорядок! Он никогда не знает, сколько получил, сколько потратил. Недавно я решил заглянуть в книгу Упенски, «Выдержки из неизвестной доктрины». Да вы читали ее. Там вместо закладок лежали неоплаченные счета.
Андуз невольно оживился. Он походил на восхищенного послушника, взахлеб рассказывающего об отце аббате.
— Думаю, он относится ко мне по-дружески, — добавил он. — Заметьте, что он всех любит. Но, как и любой другой человек, некоторым отдает предпочтение. Вы только что упомянули о культе Митры. Если он его возродил, значит, получил знамение свыше. Он говорил мне об этом. И я ему верю. Сейчас христианство переживает свой упадок, настала новая эра. Но вы совсем не похожи на верующую.
Она раздавила сигарету в пепельнице и пригубила грог.
— Я верю фактам, — сказала она. — То, что он телепат, — это факт. Он воскресил в моей памяти события, о которых я совершенно забыла.
— Вы лжете!
Удивленная, она подняла глаза. Лицо Андуза залилось краской, как если бы он поперхнулся.
— Вы лжете, — повторил он.
— Вы не верите, что он телепат?
Потрясенный, он напрасно старался прийти в себя. Он залпом осушил рюмку, и грог обжег ему горло.
— Я обязательно это проверю, — сказал он. — Не вам…
Ему не хватало слов, чтобы выразить свое возмущение и страх.
— Извините меня, — продолжил он. — Я один из самых старых его учеников и всегда считал, что хорошо знаю Учителя. Почему же он утаил от меня, что наделен этим даром?
— Какой вы странный, — сказала она, открывая сумочку и доставая пудру. — Вы хуже подозрительной любовницы. Он понял, что меня интересует, и хотел меня удержать, пробудив мое любопытство.
— Что же он вам рассказал?
Она быстро провела пуховкой по лицу, посмотрела в зеркальце.
— Ба! Пожалуй, я не стану делать из этого секрета. Речь идет о Робере.
— Кто такой Робер?
— Вы невыносимы! Мужчина, который меня бросил.
— Вы были помолвлены, — сказал Андуз с болью в сердце.
— Вы говорите как моя бабушка!.. Букужьян мне много что рассказал… что и побудило меня присоединиться к вашей группе.
— Это ужасно, — прошептал Андуз.
— Как мило!
— Нет… Я говорю «ужасно», поскольку думаю, что если он способен угадывать…
Она слегка подкрасила губы, скривив рот.
— Полагаю, что уж вам-то от него скрывать нечего?
Она закрыла сумочку и подвела итог:
— Мне совсем не нравится, что он корчит из себя кудесника. Он просто пускает пыль в глаза. Сколько же сейчас расплодилось верховных жрецов, выходцев из Индии или Калифорнии, живущих припеваючи за счет доверчивых простофиль! Знаем мы их!
— Я запрещаю вам…
— Вы ребенок, Поль! Между нами говоря, на какие средства он живет?
— Он беден.
— Оставьте! Эти знаменитые крещения… вы знаете, во сколько они обходятся? Да, само собой разумеется, знаете, потому что вы ведаете деньгами… Две тысячи франков! Я навела справки… А пансион членов общины?.. Двести франков в день. Цена номера в роскошном отеле, и это за то, что тебе подают чечевичную похлебку и предоставляют место в камере, где стоит железная кровать! Согласитесь, что он не остается внакладе. Я уже молчу о пожертвованиях. Предполагаю, что они сыплются как из рога изобилия.
— Замолчите.
— Повторяю, Поль, я не хочу делать вам больно. Но не моя вина, что существуют два Букужьяна: мой Букужьян — просто-напросто медиум, каких наука знает немало, а ваш — выступающий в роли эдакого Оробиндо и Гурджиеффа[4]
Андуз больше ее не слушал. Он побледнел, на лбу забилась тоненькая жилка. Глупая! Разве она не понимает, что сама себе выносит смертный приговор? Она почувствовала смятение своего спутника.
— Вам плохо? — спросила она. — Да, кстати, как вы себя чувствуете после той аварии?
Андуз взял кусочек сахару и надкусил его.
— Еще немного побаливает плечо, — сказал он.
— Вы все уладили со страховкой?
— О! Нет! Каждую неделю получаю какую-нибудь бумажку.
— Вы счастливо отделались. И все из-за какого-то кота! Блезо затормозил столь резко, что меня бросило на спину Фильдара, сидевшего впереди. Ведь вы же ехали за нами почти вплотную. Я…
— Не совсем так, — отрезал Андуз. — Если бы у меня была новая машина, я смог бы затормозить вовремя. Но для моей бедной старушки нагрузка оказалась не под силу. Вот я вас и зацепил.
— Есть новости от Ноланов?
— Да. Вдова Че намеревается приехать, но ей надо уладить формальности. День ее прибытия неизвестен.
Андуз колебался. Возможно, настал момент расспросить ее. Вдруг она так ничего и не заметила… бедняга не подозревает, что сейчас поставит на карту собственную жизнь.
— Забавно, — сказал он дрожащим голосом, — но я вижу сцену аварии, как будто мне прокручивают кадры кинохроники. Но есть детали, которые совсем не запечатлелись в моей памяти… Я отчетливо помню, что ваш «рено» остановился довольно далеко, у рощицы слева. Зато совершенно не припомню, как вы подбежали ко мне. Я вижу, как Ван ден Брук помог мне встать…
— Да. За ним шел Фильдар. Я же еле передвигалась. На лбу образовалась шишка.
— И затем?
— Ну как вам сказать, кажется, что… Ах! Боюсь, от меня будет мало проку. У меня кружилась голова… Два тела лежали в траве.
— Постарайтесь вспомнить!
Леа посмотрела на настенные часы.
— Черт! Вы знаете, который час?.. Половина восьмого. А мне предстоит разложить кучу карточек!
Она встала, разгладила платье и взбила волосы.
— До скорого, — сказала она. — И не злитесь. Мне нравится подтрунивать над людьми.
Она выскользнула у него из рук в самый последний момент. Он видел, как она удалялась, изящно огибая столы. Очаровательное создание! Но возможно, она погубит Ашрам, если ему не хватит мужества идти до конца.
Андуз обнаружил в почтовом ящике новое уведомление страховой компании. Он раздраженно прочитал его. Если бы он знал, что авария настолько отравит ему жизнь, то предпочел бы погибнуть вместе с теми двумя пассажирами. На этот раз у него просили уточнить схему. Предыдущая им казалась недостаточно ясной. Он скомкал уведомление и хотел уже выбросить его. Чего они добиваются? Разве он не представил им все необходимые сведения, не говоря уже об отчете полиции? Не хотят платить, пусть так и скажут.
Он снял костюм, не переставая ругаться про себя, надел халат и вытянулся на кровати, скрестив руки на затылке. Значит, Учитель способен читать чужие мысли! Но тогда зачем прилагать столько усилий? Положение безвыходно. Продолжать, несмотря ни на что? Чтобы тебя разоблачили, подвергли презрению и выгнали? Отказаться? Чтобы кредиторы добились ареста на имущество и растащили Ашрам на части?
«В конце концов, — подумал Андуз, — я поклялся действовать на благо общины. Если Учитель так непредусмотрителен — в этом нет моей вины. Или, скорее, это означает, что он всецело полагается на меня. А раз он всецело полагается на меня, значит, он мне слепо верит. Слепо! То есть не пытается меня разгадать. Если он захотел удивить Леа, то это вполне в его духе. Он с ней кокетничает, чтобы покорить ее. А вот я — другое дело. Он уверен, что всецело может на меня положиться, и ему не надо меня проверять, прощупывать. Он пользуется мной, словно орудием. Заметил ли он, как я беспокоюсь за будущее Ашрама? Разумеется, нет. В таком случае, если я уничтожу тех, кто встал на пути Учителя, конечно при условии, что буду действовать терпеливо, спокойно, не выказывая ненависти, он тем более ни о чем не догадается… Выбора у меня нет. Но вот вопрос: насколько я владею собой?.. Давайте расставим все по своим местам. Речь вовсе не идет об убийстве. Это было бы выше моих сил. Я должен всего лишь устранить, ликвидировать их, не забывая ни на минуту, что смерть есть не что иное, как метаморфоза. Доктрина Учителя поможет преуспеть в этом. Если бы мы жили только единожды, разумеется, я не имел бы права поступать подобным образом. Но возьмем, например, Ван ден Брука. Этот человек взял от жизни все, что она может предложить. Он целое состояние истратил на путешествия, праздники, разные пустяки. Дело дошло до того, что семья Ван ден Брука лишила его права самолично распоряжаться деньгами. Она не выделяет ему денег на оплату пансиона, отдавая их Учителю, который, по сути, такой же транжира, как и Ван ден Брук. В результате этой рентой распоряжаюсь я. Ван ден Бруку шестьдесят восемь лет. Он никому не приносит пользы. Уйдя из жизни, он обретет блаженство. Где-то в другом месте он перевоплотится. И вновь станет прежним: молодым, сильным. В чем же моя вина? В чем же меня можно упрекнуть? Ах! Если бы я заставлял его понапрасну страдать, то да, конечно, я был бы виноват. Но если я найду средство, как ему спокойно перейти…»
Андуз встал, настроил радиоприемник на музыкальную волну. Передавали концерт Вивальди. Он отрегулировал звук и снова лег. Под музыку легче думать. Он восстановил ход своих мыслей. Прежде всего нельзя доставлять страданий. Затем — нельзя попасться. И это вовсе не трусость. Он охотно пожертвовал бы собой ради Учителя. В некотором роде, исполнив то, что он замыслил, он тем самым приносил в жертву свою духовную судьбу, ведь посмертная жизнь преступников всегда ужасна. Но безопасность Ашрама зависит от его собственной участи. Следовательно, нужно придумать хитроумный способ. Безболезненный и хитроумный. И кроме того, легковыполнимый, потому что время поджимает. «Я слишком многого требую, — подумал он. — И потом, у меня кишка тонка!»
В конце концов он устроил себе настоящий суд совести. С горечью он сознавал, что ни в чем не преуспел. В детстве он ничем не отличался от других. Учился кое-как. Ему уже тридцать пять лет, а у него так и не появилось никаких стремлений. Впереди бесперспективное будущее. И теперь он возомнил, что ему удастся совершить нечто особенное, что заставило бы вздрогнуть даже самые закаленные сердца. Но… но… он должен был признать, что за всеми доводами, угрызениями совести, сомнениями скрывалось наваждение. Оно возникло из глубины души. Нет, оно не походило ни на желание, ни на настроение. То было совершенно необъяснимое чувство, неуловимое, словно запах, который преследует тебя по пятам. По сути, ему хотелось бы, чтобы жизнь угасла от одного его взгляда, так, как он пытался погасить свечу. Что произойдет потом… последствия… он предпочитал не думать о них…
Вслед за концертом Вивальди зазвучала симфония Моцарта. Андуз не очень-то разбирался в музыке, но любил классические произведения за строгость формы. Они напоминали ему таблицы. Дебет. Кредит. Бухгалтерские расчеты, которые всегда точны. «Однако вернемся к нашей проблеме. Если я возьму в руки оружие, то мне крышка. Тотчас прибежит полиция. Этого нужно избежать любой ценой. Я могу расколоться. Остается несчастный случай. До чего глупо! Два человека погибли, хотя я и пытался избежать худшего, отчаянно вцепившись в руль. А теперь ума не приложу, как подстроить несчастный случай!..» Андуз с завистью подумал о курильщиках, которые всегда находили наилучшее решение, затягиваясь сигаретой. Но в свое время, когда Андузу было тринадцать лет, его мама, найдя в его кармане пачку сигарет «Кэмел», закатила ему такую сцену, что он больше к сигаретам не прикасался. И все же сигарета помогла бы.
Есть ему не хотелось, и он решил выпить чашку чая. Уведомление из страховой компании лежало на столе. Он перечитал его, пока заваривал чай, обдумывал ответ. Авария! Навязчивая идея — авария! Он вытащил из папки бланк заявления пострадавшего и принялся его заполнять: Поль Андуз, VI округ, улица Аббата Грегуара, 21. Марка машины — «ситроен». Регистрационный номер — 1189 FV 75. Номер водительских прав… Он не помнил его наизусть, порылся в бумажнике. Решительно они ничем не побрезгуют, лишь бы оттянуть момент оплаты.
Личности погибших: Патрик Нолан, родился в Сан-Франциско 6 июня 1929 г. Стоит уточнять, что он ходил, опираясь на костыль? О! С какой стати!.. Че Нолан, родился в Сан-Франциско 3 января 1931 г. Они, несомненно, поймут, что речь идет о двух братьях.
Андуз положил ложку заварки в чайник и снова принялся писать. Места, на которых сидели погибшие: Патрик — спереди, справа; Че — сзади, также справа. Обстоятельства автомобильной катастрофы. Они предельно ясны. Он несколько раз их объяснял жандармам, эксперту. Впереди ехал «Рено-16». Машину вел Блезо. Блезо, Ван ден Брук, Фильдар и Леа возвращались из Парижа. Это происходило 22 сентября, в субботу. Они присутствовали на лекции Учителя. Андуз же вез в Ашрам братьев, за которыми заехал в гостиницу… Нужно ли вдаваться в подробности? Говорить, что Патрик решил поселиться в Ашраме, уточнять, что он получил серьезное ранение левой ноги во время войны во Вьетнаме?
«Нужно, — решил Андуз. — Раз они считают, что недостаточно осведомлены, значит, нужно предоставить им максимум информации. И даже лучше, если они поймут, что я посмеиваюсь над ними». И он подробно объяснил, что дорожное полотно было мокрым и скользким, что «Рено-16» ехал медленно и что он решил пойти на обгон. Но в этот момент Блезо резко затормозил. Застигнутый врасплох, он тоже резко нажал на тормоза. «Ситроен» вильнул, слегка врезался в другую машину, помяв правое заднее крыло; затем его вынесло на правую сторону дороги, и здесь он врезался в мачту высоковольтной линии.
Он взял большой лист бумаги, предельно точно указал расположение машин до аварии, потом в момент столкновения и пунктиром обозначил путь «ситроена», когда его вынесло на встречную полосу. Наконец крестиками он пометил место, куда выбросило его пассажиров. Он же очутился лежащим плашмя в луже. Его слегка контузило. Ему неслыханно повезло! Причем даже дважды, поскольку он сохранил присутствие духа, что позволило сделать необходимое… Он на секунду задумался. Может, в конце концов, было бы лучше, если бы он потерял сознание!
Он вспомнил, что чайник, вероятно, уже давно кипит, и побежал выключить газ. Три куска сахару, нет, четыре, ведь чай, наверное, получился очень крепким. Он поставил под заявлением подпись, положил его в конверт, тщательно написал адрес. Он все проделывал машинально, словно школьник. Он даже не забыл о промокашке. Вдова Че много не получит. Несколько миллионов старыми франками, по курсу доллара… не больше. Если же она попытается подать в суд, то ей откажут в иске, потому что «ситроен» хоть и был старым, но вполне исправным. Он как водитель не совершил ни единой ошибки. Его могли упрекнуть лишь в том, что он не покинул свой ряд, но он уже пояснял жандармам, что с его малолитражкой нужно обращаться иначе, чем со скоростным автомобилем. При обгоне сначала следует до конца утопить педаль газа и приблизиться почти вплотную к впереди идущей машине. Нет. Страховой компании придется платить. А вдову Че подстерегает еще одно несчастье: она не сможет даже получить страховку за деверя, потому что Патрик завещал свое состояние Учителю…
И тут в его памяти всплыли слова Леа. Он сделал еще несколько глотков. Наверное, ему предстоит бессонная ночь. Чай был отвратительным. Она полагала, как и многие другие, что Учитель богат. Но уж он-то точно знал, что это не так. Прежде всего, Учитель дорого заплатил за замок и подсобные помещения. Ему пришлось влезть в долги. Затем он затеял грандиозное строительство. В глубине парка он решил возвести нечто вроде гостиницы для гостей. И потом… потом… расходы все возрастали. Иногда ему взбредало на ум, например, закатить шикарный банкет без всякого повода, просто так. Обычно пансионеры питались скудно, но время от времени вдруг устраивался праздник. Или Учитель менял машину. Он продавал «шевроле» и приобретал «линкольн». «Что такое деньги?» — спрашивал он. Безусловно, Леа имела все основания его критиковать. Но ей следовало бы понять, что Учитель уже миновал стадию аскетизма. Он относился к деньгам с презрением. Он не брал на себя никаких обязательств. Просто он хотел доказать, что лицо, посвященное в секреты культа, может то разделять мирские заботы, то уходить от них. И при этом оставаться безразличным ко всему происходящему вокруг. Вот чего Леа, жертва собственного менталитета, искаженного точными науками, никогда не сможет понять.
Он долго мыл свою чашку, поставил ее в кухонный шкаф, рядом с сахарницей… Ему необходимо опять увидеться с Леа, вновь расспросить ее, но ни в коем случае не упорствовать! Возможно, она ничего не помнит! Тогда, вероятно, он пощадит ее. Он относился к ней снисходительно, несмотря на ее неуместные замечания. Даже больше чем снисходительно… Скорее даже доброжелательно. И все же он не обращал почти никакого внимания на людей, на животных, на цветы, на все, что представляется реальным, будучи на самом деле иллюзорным. Но Леа! Она пробуждала в нем любопытство. Не только потому, что она была свидетелем аварии. Трое остальных — Блезо, Фильдар и Ван ден Брук — вызывали у него только беспокойство. Леа — другое дело. Ее отличало необыкновенное вольнодумство! Она жила, казалось, так непринужденно! Она не подозревала, что всецело в его руках, словно маленькая птичка, и достаточно сжать пальцы…
И тут он вдруг вспомнил, что не сделал упражнений. Он лег, чтобы лучше сосредоточиться, и закрыл глаза. Прежде всего ему следует научиться контролировать дыхание, вдыхать медленно, так же медленно выдыхать, затем сконцентрировать свое внимание на руке, мысленно спуститься вдоль нее, проникнуть вглубь, стать капелькой крови, которая течет по запястью и вот уже начинает биться в пальцах… в большом пальце, указательном… Но вдруг внимание рассеивается. Эта рука, держащая скомканный конверт, не принадлежит ему. Это рука Леа, маленькая, нервная… «Снова одно и то же. Мне трудно забыться… Однажды Учитель произнес какую-то фразу, которая должна мне помочь… Он сказал, что нужно уметь дать проявиться своему „я“… Что это, по сути, означает? Если я исчезну, то исчезнет и Учитель и служить станет некому. Я теряю смысл существования. Я испаряюсь, растворяюсь. Вот Леа посмеялась бы, если бы увидела меня. Ну и пусть! Все нужно начать сначала… Учитель знает, о чем говорит, когда проповедует, что познание ускользает от нас, как проточная вода. Я спускаюсь вдоль руки… проникаю вглубь… я там остаюсь… Она становится тяжелой, она покрывается мурашками… она…»
Андуз погрузился в сон.
Ван ден Брук открыл глаза. Девять часов. У него болела рука. Артроз не давал ему покоя. Он всегда испытывал странные ощущения, просыпаясь в железной кровати, расположенной в глубине большой комнаты, очень скромно обставленной. Там стоял шкаф, купленный на одной из распродаж, комод из светлого дерева, колченогий стол, под ножку которого была подложена сложенная в несколько раз бумажка. На стене висел умывальник, а вода стекала в проржавевший таз.
Он никак не мог забыть «Эрмитаж» в Монте-Карло. Молчаливый слуга подносил ему на подносе апельсиновый сок. На ковер падали лучи солнца, и достаточно было выйти из спальни, чтобы взору открылись порт и сверкающее море. Не то что здесь! Он поднялся, зевнул, подошел к окну. Он увидел хмурое небо да стаю ворон. И сразу же на его плечи навалилась усталость. Ведь ему предстоит прожить целый день. Накануне он прочел распорядок субботы, вывешенный в столовой: проповедь Букужьяна, обед, тихий час, групповые занятия и, как всегда по субботам, с 16 часов прогулка ad libitum.[5]
Он шутки ради сравнил его с тем распорядком, которого он придерживался когда-то давно: просматривал газеты, лежа в кровати, прогуливался в парке перед казино, пропускал стаканчик-другой крепкого вина, обедал в «Эрмитаже», захаживал в тир и, наконец, играл в рулетку… Не стоит больше об этом вспоминать. Впрочем, Ашрам оказался довольно сносным домом для престарелых. Пожалуй, тут вели слишком много философских бесед. Но общество было приятным. Тут обитало несколько экстравагантных женщин, подобных тем, которых он знавал в прошлом. Он не переставал удивляться: постоялицы Ашрама походили чем-то на представительниц высшего света. Он однажды даже встретил одну очень ухоженную пожилую особу. Чувствовалось, что она частенько прибегала к помощи хирургов, массажистов, косметологов. Едва взглянув на нее, он воскликнул: «Глазам не верю! Вы, конечно…» — и последовали воспоминания. «Вы помните, как в Довиле…» И старая дама вздыхала: «Мне очень симпатичен этот Букужьян! Он так поддерживает, утешает! Как я вас понимаю, мой милый друг, вы так правы, что приехали сюда!»
Увы! Если бы она знала!.. Но разве он мог объяснить, что, разорившись, он впал в мистицизм. Он даже подумывал вступить в орден цистерцианцев.[6] Но затем, поразмыслив, он предпочел последовать за Букужьяном. В религии Букужьяна не было ни догм, ни раскаяния, ни исповедей, ни унижений, причиняющих боль, но не изменяющих внутреннего мира. Ашрам распахивал свои двери перед побежденными, одинокими, покинутыми. Здесь ничего ни от кого не требовали. Всем предоставляли возможность забыться, избавиться от ностальгии. Рядом с Букужьяном, которого Ван ден Брук называл профессором, страдальцы вновь обретали уверенность, что в их душе вот-вот воцарится долгожданный покой. Например, Фильдар сложил с себя духовный сан, чтобы вступить в профсоюз. Затем он забросил профсоюзную деятельность и занялся детской преступностью. Но и это занятие ему надоело, и он начал писать книгу, где страстно рассказывал о кризисе нравственности на Западе. Так вот Фильдар говорил, что с Букужьяном можно совершить метафизическое путешествие. Он ошибался. Профессор стремился приспособить свое учение к нуждам каждого. А Ван ден Бруку нужно было прежде всего забыть прошлое. Но унылая равнина и серое небо напротив пробуждали воспоминания о солнечных днях, проведенных на площадках для гольфа или на ипподромах. И тогда он задыхался, как больной, у которого вот-вот начнется сердечный приступ.
Машинально он ощупал пижаму, ища портсигар. Он нашел его в кармане и закурил последнюю сигарету. Нужно будет попросить Андуза выплатить небольшой аванс. Ван ден Брук задумался. Неужели он уже потратил свою пенсию? Но он почти ничего не покупал. Букет цветов, чтобы немного оживить комнату: он выписал из Ниццы гвоздики. Разумеется, сигареты, шелковый платок, поскольку наступили холода. А! Очень дорогой зимний костюм. Безусловно, можно отказаться от всего, но только не от элегантности. Элегантность — это, вероятно, отчаянное проявление мужества. Андуз рассердится, примется читать нравоучения. Ведь он во всем подражает профессору. И затем, сурово сдвинув брови, выплатит.
Странный тип этот юноша. Немного похож на надзирателя! Уж слишком много он проявляет усердия. А Ван ден Брук полагал, что усердие — это неизгладимый след плохого воспитания. Одно крещение чего стоит! Безумная идея! Бухгалтер должен знать свое место. Совсем другое дело, если получить крещение захочет, например, Кастель. В конце концов, Кастель имеет на это право. Он славно повоевал и в Индокитае, и в Алжире. После высадки ОАС[7] в Алжире его посадили в тюрьму. Ашрам прекрасно подходил для этого полковника в отставке. То же самое можно сказать и о любительнице новых приключений, графине де Рошмор. Она участвовала в ралли, играла на сцене, вероятно, пробовала наркотики. «Блудница в поисках вечного спасения», — утверждал Фильдар, не страдающий милосердием. Но Андуз! Вечное спасение Андуза! Смешнее не придумаешь!
Ван ден Брук потянулся, зевнул, решил не ходить на проповедь, посвященную непротивлению. Вкус к жизни появляется тогда, когда ты начинаешь пренебрегать всеми обязанностями, когда каждое мгновение ты стремишься превратить в удовольствие. Так из пустой породы добывают крупинки драгоценных камней. Он тщательно побрился, не торопясь оделся, машинально оглядел стены, ища большое зеркало, в котором он себя критически рассматривал столько лет. Так смотрят на скаковую лошадь при взвешивании. Но в его распоряжении находилось только узенькое зеркальце над умывальником. Он пожал плечами и прикрепил гвоздику в петлицу. «Когда я умру, — подумал он, — то мне бы хотелось, чтобы меня похоронили в этом костюме. Профессор напрасно говорит, что бренные останки — ничто. Все же я предпочел бы быть хорошо одетым. Это придало бы мне уверенности, и я мог бы достойно встретиться с тем, что меня ждет после!» Он спустился в столовую.
— Опаздываете, — недовольно пробурчала мадам Вильбуа. — Все уже пообедали.
Засучив рукава, она уже мыла кафельный пол, походя скорее на домработницу, чем на вдову банкира. Хотя и не забыла надеть резиновые перчатки. Странно, но эта женщина, которую всю жизнь окружали многочисленные слуги, теперь находила явное удовольствие в том, чтобы обслуживать других. Кухня и столовая находились в полном ее подчинении. «Она хочет, — шутил Фильдар, — стать одновременно и Марфой, и Марией!»[8]
Ван ден Брук не стал настаивать. Он отправился в библиотеку, небольшую комнатку, где на стеллажах вперемежку стояли самые разные книги, подаренные гостями и учениками. Здесь можно было отыскать произведения Генона,[9] Олдоса Хаксли,[10] Раймона Абелио,[11] трактаты и проповеди Майстера Экхарта,[12] Упанишады,[13] а также бесчисленное множество научно-популярных книг, рассказывающих о тайнах пирамид, или об Атлантиде, или о домах, где водились привидения. Больше всего Ван ден Брука интересовали истории о призраках. Стоя на стремянке, он небрежно листал недавно вышедшую книгу Вильяма Томпсона, посвященную ирландским призракам, но она быстро утомила его своей монотонностью. «5 декабря 19… возвращаясь домой, доктор Дюрел заметил…» Или: «Служанку разбудили шаги, раздавшиеся на потолке…» Но как же разобраться в сложной фабуле? Букужьян утверждал, что призраки — всего-навсего «астральные коконы». Красивое словечко, но непонятное. А Ван ден Бруку так хотелось знать! С некоторого времени он часто думал о смерти. Ему только шестьдесят восемь лет, но он чувствовал, что дышит на ладан. Он был не прочь очутиться в машине Андуза в тот день, когда оба американца погибли. Мгновенная смерть. И никаких продолжительных болезней, унижающих человеческое достоинство. Если бы он заболел, то наверняка распрощался бы с Ашрамом. Его семья отправила бы его в какую-нибудь больницу, и он превратился бы в зловонного старикашку, каких пруд пруди!
Он поставил книгу на полку рядом с эссе Ромена Роллана о Вивеканде.[14] В актовом зале профессор продолжал читать свою проповедь. Ван ден Брук заглянул в приоткрытую дверь. Профессор сидел за небольшим столом, положив руки на бювар, где лежали его конспекты. Но ими он никогда не пользовался. Ван ден Брук бесшумно вошел в кабинет Андуза. Но Андуза там не оказалось. Удивительно! Обычно он приходил к девяти часам. Ван ден Брук вышел в парк. Стоял серый печальный день, но ничто не предвещало дождя. «Самое время пройтись пешком, — сказал он себе. — И само собой разумеется, вдоль Марны». Он немного поколебался, так как было прохладно, но так и не смог заставить себя надеть засаленный плащ поверх роскошного костюма. И он бодро зашагал.
Андуз медленно брел по берегу. Он приехал первым утренним поездом и не спешил в Ашрам. Отступать некуда. Ему по-прежнему угрожала опасность. Она даже возрастала по мере того, как приближался момент, когда вдова Че Нолана решит отправиться в дорогу. И если внимательно разобраться, то все четверо свидетелей происшествия одинаково опасны. Бесполезно думать: «Я начну с этого или с того!» Бесполезно говорить: «Последней я убью Леа». И это при том, что из четверых Леа самая болтливая. Нет. Чувства в сторону. Но разве можно предпринять что-либо в Ашраме? Там слишком много людей. К тому же немало приезжих из Парижа. Преподаватели, студенты, одинокие женщины, не знающие, куда деваться от скуки в воскресенье. Любопытные, фанатики, бунтовщики, снобы шатались повсюду, разве что не спускались в подвал, который тщательно запирали. Так что же из этого следует?
Если бы он обладал силой полковника Кастеля, если бы, как он, занимался боевыми искусствами, то вопрос отпал бы сам собой. Достаточно одного из четверых куда-нибудь завлечь, и в мгновение ока все сделано. Смертельный прием, и свидетель замолк навсегда. Но полиция возьмет Ашрам под наблюдение, а Учителю, возможно, придется уехать в Германию. Такое намерение он уже высказывал. Эта мысль часто мучила Андуза. Что же с ним тогда станет?..
Он шел, опустив голову, ударяя ногой по кучкам сухих листьев, как в далеком детстве, когда он вместе с матерью гулял в Люксембургском саду. Спокойная серая река, словно водяная дорога, обсаженная перевернутыми деревьями, скрывалась за туманным горизонтом. И там, вдали, ее очертания едва просматривались, и только стаи ворон летали над полями. Ван ден Брук заметил Андуза издали и ускорил шаг. Андуз очень редко прогуливался здесь. Тем более не следовало упускать такую возможность. Ведь во время приятной беседы гораздо легче решить денежный вопрос. Ван ден Брук дружелюбно взмахнул рукой.
— Вы хорошо выглядите, — бросил он.
— Здравствуйте, — сказал Андуз. — Как видите, решил подышать свежим воздухом. Всю неделю торчу в Париже.
— Позволите пройтись с вами?
— Разумеется.
Андуз беспокойно посмотрел вокруг и обошел своего спутника справа.
— Принесло ли вам крещение долгожданное удовлетворение? — любезно спросил Ван ден Брук.
— В общем-то, да. Но сейчас у меня столько забот.
— А! Но не из-за Ашрама?
— Как раз из-за него.
Андуз обернулся. На берегу ни души.
— Эта авария доставила мне столько хлопот, — продолжил он. — Вы даже не представляете, с какими трудностями мне пришлось столкнуться. Никто не верит мне на слово!
— Я знаю. Я сам десять лет назад сбил велосипедиста в Экс-ан-Провансе. Он неожиданно выскочил на меня. Свидетели твердо стояли на своем.
— О! Свидетели, — со злостью сказал Андуз. — Возьмем наш случай. Вы же находились совсем рядом, как и остальные. Так вот, ваши свидетельские показания расходятся с показаниями Блезо и Фильдара. А малышка Фонтана утверждает, что не помнит, как все случилось.
— Постойте! — запротестовал Ван ден Брук. — Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Я смог бы уточнить все детали… Пожалуйста! Я уверен, что перед самой смертью Патрик Нолан еще пытался что-то сказать. Я отчетливо видел, как дрожали его большие усы…
Вдруг он почувствовал сильный удар и потерял равновесие. Левая нога увязла в мягкой земле у кромки берега. Он упал на колени, попытался встать, поскользнулся и, подняв фонтан брызг, опрокинулся навзничь. Его тут же подхватило быстрое течение. Он увидел Андуза, стоявшего наверху, открыл рот, чтобы позвать на помощь, но у него перехватило дыхание. «Что произошло?.. Ко мне!..» Его тело закоченело, и его потянуло вниз. Он скоро умрет. Он попытался двигать ногами, чтобы всплыть. Вода проникла в нос, в рот. Он пошел ко дну. Водоворот, вызванный его падением, перестал бурлить. Две большие волны ударились о берег.
Андуз замер в ожидании. И это конец, так скоро?.. Неужели так легко? Он дрожал с головы до ног. В нем проснулась сила… Сила… Просто толчок, а все остальное довершила река.
Он долго вытирал руки, словно их забрызгала кровь, затем снял куртку. Его бросило в жар. Ему было еще жарче, чем в тот момент, когда бык с перерезанным горлом рухнул над его головой.
Старший инспектор Мазюрье покуривал сигарету, ожидая результатов вскрытия. Он рассматривал предметы, найденные в карманах покойного: ключи, пустой золотой портсигар, золотую зажигалку, носовой платок, очки с двойным фокусом, юфтяной бумажник, где лежали выцветшие фотографии, удостоверение личности на имя Жупа Ван ден Брока… не то Брука… вода и здесь оставила свой след… и письмо. Чернила размыло, но адрес кое-как прочитывался: «замок Сен-Реми». Денег нет. На первый взгляд могло показаться странным, что в бумажнике не оказалось денег. А ведь утопленник был элегантно одет.
Мазюрье уже немало слышал о замке Сен-Реми. Сейчас им владел профессор с труднопроизносимым именем, который занимался, как ему сказали, оккультными науками. За этим могли скрываться странные религиозные обряды! Но ни разу в полицию не поступало никаких жалоб. Профессору часто наносили визиты влиятельные граждане. К тому же ему оказывали покровительство высокопоставленные особы. Так что придется действовать осторожно.
Вошел, вытирая руки, судебно-медицинский эксперт.
— А! Мазюрье, так это вы занимаетесь расследованием? Думаю, что вам не придется ломать голову. На данном этапе я исключаю версию об убийстве. На теле нет никаких подозрительных следов. Произошел несчастный случай… или самоубийство. Не угостите сигаретой? Спасибо.
Он присел на краешек стола, снял очки и протер глаза.
— Организм старикашки поизносился, — продолжил он. — Если бы он не утонул, то его ждал бы инфаркт… Желудок пустой. Немного воды в легких. От переохлаждения он потерял сознание и пошел ко дну. Классический случай.
— Сколько времени он пролежал в воде?
— Два дня… возможно, три… но никак не больше… А! Забыл сказать, что в левой туфле полно грязи.
— Благодарю, — сказал Мазюрье шутливым тоном. — Теперь картина полностью прояснилась. В последнее время пошли дожди, и уровень воды в Марне сильно поднялся. Здесь течение довольно сильное. Тело нашли у железнодорожного моста. Зная, что тело находилось в реке по крайней мере два дня, мы найдем место, где случилась трагедия, элементарно, доктор.
Они улыбнулись друг другу, и эксперт встал.
— Я представлю отчет… Так, сегодня вторник… скажем, к завтрашнему вечеру. Идет?
— Превосходно.
— Много работы?
— Э-э… Ну так, текучка, в общем, терпимо.
— Счастливый человек! Чего обо мне не скажешь. Вы уже ознакомились с вещичками нашего подопечного?
— Да. Предполагаю, что он жил в замке Сен-Реми.
— Смотри-ка! У этого колдуна.
— Вы с ним знакомы?
— Нет, только не я. Моя дочь с подругой как-то раз туда ходила.
— Он что, немного того?
— Отнюдь. Я думаю даже, что он весьма незаурядная личность. Он пытается воскресить какой-то древний культ. Забыл, как он называется. Молодежь к нему валом валит!
— Молодежь и люди постарше… Судя по тому, что удалось расшифровать на удостоверении личности утопленника, он родился в тысяча девятьсот шестом или тысяча девятьсот восьмом году… Так как же зовут вашего колдуна?
— Букужьян.
— Придется хорошенько все продумать! Для начала нанесу ему визит.
— Желаю удачи.
Они обменялись рукопожатиями, и Мазюрье, положив в пакет вещи, найденные на трупе, вышел из морга. Замок Сен-Реми, окруженный большим парком и виноградником, возвышался в двух километрах от Реймса, близ дороги, ведущей в Вервен. Мазюрье прекрасно знал эту местность. До войны там изготавливали розовое шампанское, которое пользовалось неимоверным успехом. Он поехал в замок на своем «фиате». Десять часов. Времени предостаточно. Легко представить себе, что же произошло. Этот Ван ден — как там его — отправился прогуляться по берегу Марны. У него закружилась голова и — бултых! Он падает в воду. По сути, в визите к профессору нет никакой необходимости. Но раз представилась такая возможность, то почему бы не выведать кое-что. А Мазюрье обожал вынюхивать. Если даже не в интересах дела, то для самого себя. Причем с равным успехом он посещал аукцион, заглядывал к букинистам, антикварам. А когда появлялось свободное время, он наведывался в Париж. Вот уж где можно было вдоволь порыскать! Он коллекционировал — но тайно, не дай бог, об этом проведает высокое начальство и сочтет это увлечение сомнительным — иллюстрированные журналы для детей моложе четырнадцати лет — «Эпатан», «Бон пуен», «Интрепид»… Он собрал почти все номера. А также «Буффало Билл», «Ник Картер». В Париже он встречался с другими коллекционерами. Эти славные маньяки первыми же и смеялись над собственными слабостями. Он не причинял никому беспокойства, поскольку жил один. Иногда он спрашивал себя: почему он испытывает необъяснимое влечение к иллюстрированным журналам? Из какого далекого детства оно пришло… И поскольку Букужьян, возможно, напоминал ему некоторых героев мультипликационных фильмов, то он сгорал от нетерпения увидеть его, поговорить с ним. Он уже представлял себе его с тюрбаном на голове.
К замку вела широкая аллея. Хотя это строение походило не столько на замок, сколько на то, что раньше называли особняком. Нет ни башенок, ни причудливой крыши, просто квадратное, богато отделанное здание, над которым возвышался громоотвод. В парке работали мужчины и женщины. Мазюрье сразу понял, что они не имеют никакого отношения к садоводству. Так просто любят покопаться в земле! Он поставил свой «фиат» за длинной американской машиной и поднялся на крыльцо. Никто не обратил на него внимания. Ему встретился старик с орденом на груди, о чем-то сам с собою разговаривающий, и девушка, несшая простыни. Он прошел через холл, постучал в дверь. Никакого ответа. Он толкнул дверь и вошел в своего рода приемную, напоминавшую ему приемную лицея. Длинный стол. Стулья расставлены по периметру комнаты, на стенах висят фотографии большого формата. Он подошел ближе.
Странная картинная галерея. Мужские и женские лица анфас, в профиль, в основном молодые люди. Она походила на сборник фотографий рекламного агента, работающего в сфере кино или театра. Все подаренные фотографии были сделаны лет двадцать тому назад. Часто встречались посвящения: «Глубокоуважаемому Учителю…», «Моему спасителю» — и даже надписи, напоминавшие о посвящении: «На память о моем обращении в веру…», «В честь неожиданного спасения…».
Инспектор вдруг понял. Фотографии присылали благодетели Букужьяна, по крайней мере самые влиятельные из них. Англосаксы со светлыми глазами, жители Востока с черными нежными глазами. Бодрые, худощавые, суровые, страдальческие, улыбающиеся лица…
«Церковь! — подумал Мазюрье. — Это церковь!»
Он вышел на цыпочках и обратился к женщине, которая держала в руках швабру и тряпку.
— Мне хотелось бы увидеться с мсье Букужьяном.
— Учитель сейчас в своем кабинете, второй этаж, первая дверь направо.
В эту минуту Мазюрье услышал, как кто-то стал ритмично хлопать в ладоши. Где-то танцевали. Не переставая удивляться, он поднимался по лестнице, пахнущей воском, равно как и приемная, и постучал в массивную дверь.
— Войдите!
Толстый лысый человек, медленно печатавший на машинке двумя пальцами, и оказался Букужьяном. Он так и не обернулся, и инспектор быстро осмотрел комнату. Кругом царил лирический беспорядок. Везде валялись книги, папки, из которых высыпались бумаги, скоросшиватели. Стулья завалены кипами газет. Полки из светлого дерева прогибались под тяжестью журналов. Книги также лежали и на полу, и на батареях, и на подоконниках. Они штурмовали письменный стол. Они поддерживали телефон, вот-вот готовый свалиться с груды отпечатанных страниц. С какой радостью Мазюрье порылся бы здесь! Мимоходом инспектор прочитал несколько заголовков: «Катары… Филокалия»…[15] Он начинал понимать сущность Букужьяна.
Учитель взглянул на Мазюрье.
— Прошу прощения, — сказал он. — Садитесь… О! Извините!.. Я немного занят.
Он поднялся и обогнул стол с такой живостью, что инспектор изумился. Букужьян схватил стул, хорошенько тряхнул его, словно хотел прогнать кота. Со стула беспорядочно посыпались книги.
— Кто направил вас? — продолжил он.
Интересно! Значит, к нему приходят только по рекомендации!
— Старший инспектор Мазюрье. Мы нашли тело некоего Ван ден Брока…
— Брука… Что произошло?
— Он утонул.
— Понимаю, — задумчиво сказал Букужьян.
— Он жил здесь?
— Да… В Ашраме живет около двадцати гостей.
— В Ашраме?
— Вы разве не знаете?.. Конечно, в полиции… Речь идет об эзотерической общине…
— Нечто вроде монастыря?
— Как вам угодно. Но мое учение носит скорее философский, нежели религиозный характер. Разумеется, мы сами организуем похороны. Надо соблюдать ритуал, помогающий усопшему должным образом устроиться в своей новой жизни.
— По вашему мнению, он мог покончить с собой?
— Нет. Духовно он оставался еще ребенком. А самоубийство…
Букужьян на секунду задумался.
— В данный момент мы подвергаемся воздействию, которое меня беспокоит, — сказал он. — На днях два американца, приехавшие сюда, разбились на машине… Мы недостаточно молимся, если говорить упрощенно.
— Авария произошла близ Реймса?
— Да. Приблизительно в десяти километрах.
Мазюрье запомнил эти сведения.
— А вы не нашли странным, что этот Ван ден Брук пропал? — спросил он.
— В Ашраме каждый свободен в своих действиях. Я не устанавливаю ни за кем слежки. Если наш друг захотел отлучиться на несколько дней, то он имел на это полное право. И если он захотел покончить с собой, как вы говорите, следовательно, и на это имел полное право.
— И вы бы не стали ему мешать?
— А что такое смерть? — спросил Учитель.
— Он занимал здесь комнату?
— Да. На третьем этаже.
— Я могу ее осмотреть?
— Ну конечно. Я буду даже рад показать вам Ашрам, потому что люди думают бог весть что, как только заходит речь о нашем доме.
Его ровный, приятный голос напоминал голос священника, который уже ничему не удивляется.
— Здесь рядом наш секретариат. Позвольте… Я пойду впереди.
Он открыл дверь. Инспектор остановился на пороге. Комната выглядела уютно и чисто и походила на кабинет управляющего делами. Металлическая мебель. Металлическая картотека. Настольная лампа в форме голубого шара. Телефон. Учитель улыбнулся.
— Здесь все расставлено по своим местам. Не то что у меня. Наш друг Андуз привык к порядку. Этот юноша приезжает сюда по выходным. Он занимается материальными проблемами, улаживает все формальности.
— У Ван ден Брука есть семья?
— Да. Его сестра живет в Роттердаме. Занимается крупными импортно-экспортными операциями… Далее расположены жилые комнаты. Поскольку они оказались слишком большими, я разделил их надвое. Это позволяет приютить больше приверженцев… Ван ден Брук жил в комнате, расположенной в самом конце коридора. Пойдемте.
Шум стих.
— Сейчас наступил час медитации для самых одаренных, — объяснил Учитель. — Вот его комната. О! Здесь все очень скромно. Но наши друзья и желают познать здесь лишения.
«Армянин? — подумал инспектор. — Русский? Скорее, выходец из Ирана. Говорит со странным акцентом. Наверняка на него заведено досье в префектуре. Во всяком случае, человек он неординарный».
Он прошелся по комнате.
— Кровать не убрана, — заметил он. — Разве это не доказательство, что он собирался вернуться?.. И потом, обычно, прежде чем покончить с собой, человек оставляет письмо.
— У нас, — возразил Букужьян, — начинают с того, что избавляются от своих привычек.
Мазюрье открыл шкаф, пощупал висевшую одежду, осмотрел поношенную обувь, порылся в ящиках туалетного столика.
— Очень интересно. У солдата в казарме и то больше вещей. А тут нет даже ни одной книги!
— Они получают весьма полную устную информацию.
Инспектор встал перед Учителем.
— Вы могли бы мне объяснить, чему вы здесь обучаете?
— Как раз, — ответил Учитель, терпеливо улыбаясь, — это и не нуждается в объяснениях.
— Вы им читаете катехизис?
— Напротив. Верить не во что. Я только учу их жить с открытыми глазами. Того, что люди хотят познать, нет ни на небе, ни на земле, но в каждом из нас.
— Это Бог?
— Это единство.
— Допустим, — отрезал инспектор не без раздражения. — Я не способен к метафизике. Итак, по вашему мнению, это убийство?.. Несчастный случай?
Учитель поднял брови и медленно окинул бархатистым взглядом комнату.
— Это метаморфоза, — сказал он наконец. — Продолжим, если желаете.
«С таким типчиком, — подумал инспектор, — хлопот не оберешься!»
— Весь третий этаж, — продолжил Учитель, — занимают кельи. Впрочем, как и чердак. Пойдемте вниз.
Женщина, чье лицо скрывалось за голубой вуалью, почтительно поклонилась Букужьяну, скрестив руки.
— Это леди Бейкфильд, — прошептал Учитель. — Поэтесса! Ерундой занимается!
— Вы не любите поэзию? — спросил удивленно Мазюрье.
— Я не люблю наркотики!
Он проворно спустился, как молодой человек, на первый этаж и уже открывал дверь приемной.
— Знаю, знаю, — сказал Мазюрье. — Я уже заходил сюда. Предполагаю, что на стенах висят портреты ваших благодетелей?
— А! — заметил Учитель. — Угадали… Да, это наши благодетели. Ашрам в основном существует на пожертвования… А вот актовый зал… Здесь мы проводим важные собрания.
— А что означают рога?
— Они символизируют Митру.
— Кто такой Митра?
— Солнце. Жизнь. Первоначальная энергия. Вибрация, порождающая все прочие вибрации. Если вы коснетесь камертона около хрустальной рюмки, то она начнет вибрировать вслед за ним.
— В унисон, — заметил Мазюрье.
— Вы только что произнесли основополагающее слово. И я не теряю надежды увидеть вас однажды среди нас. Зал для упражнений.
Он приоткрыл дверь, и инспектор увидел, как покрытые вуалью фигуры исполняли замысловатый танец под дикую монотонную музыку, лившуюся из громкоговорителя.
— А здесь столовая… Но это неинтересно.
Букужьян топнул ногой по полу.
— Внизу подвалы, старинные подвалы, где хранили шампанское. Хотите посмотреть?
— О нет! Зачем?
— Однако они весьма примечательны. Не могу утверждать, что они тянутся на сотни километров, но это настоящая сеть широких подземных ходов. Во время последней войны там находился склад боеприпасов. Кое-какие церемонии мы проводим в подвалах, поскольку они олицетворяют низменный мир, мир хитростей и уловок, проявлений грубости, от которой каждый из нас должен избавиться. Но я вам наскучил.
— Совсем нет. Можно, я закурю?
— Пожалуйста. Вы ведь видели парк и сад. Так что туда я вас не приглашаю.
Инспектор набил трубку.
— У вас работают добровольные садовники, не очень-то разбирающиеся в садоводстве.
Букужьян от души расхохотался.
— Они в этом совершенно ничего не смыслят. Впрочем, они и не ухаживают за садом. Просто я заставляю их выполнять неприятную физическую работу, чтобы испытать их добрую волю и помочь им избавиться от старых привычек, понимаете?
— Бросить дурные привычки, — сказал Мазюрье. — Как сказано в Священном Писании.
Букужьян фамильярно похлопал инспектора по плечу:
— Ладно… ладно… Еще вопросы?
— Сколько людей живет в Ашраме?
— Обычно около двадцати, если не считать случайных гостей. Но на выходные к нам приезжает немало людей из Реймса и Парижа.
— Кончина этого Ван ден Брука, кажется, вас не очень огорчила?
— В наших обителях, — сказал мэтр, — смерть не считают печальным событием. Скорбят лишь атеисты. Но не заблуждайтесь. Мы любили нашего брата Жупа… Прошу меня извинить. Мне нужно два слова сказать Карлу.
Карл ждал около черной машины, стоящей перед крыльцом. Вероятно, шофер… Широкоплечий мужчина. Похож не на мистика, а скорее на борца. Учитель вернулся обратно.
— Это ваша машина?
— Да.
Мазюрье уже перестал чему-нибудь удивляться. Он выбил трубку о каблук и протянул руку Букужьяну.
— Что ж, благодарю вас. Мой визит к вам оказался очень полезным.
— Приходите когда угодно, — сказал Учитель. — Я всегда к вашим услугам. Уверен, что вы еще не раз нас навестите.
— Сомневаюсь. Дело мне представляется ясным. Правда, всякое бывает.
Он спустился по ступенькам, направился к машине.
— Карл! — крикнул Учитель.
И показал на «фиат».
Шофер устремился вперед, открыл дверцу перед инспектором, потом закрыл ее и на немецкий манер щелкнул каблуками.
«Оригинал? Вельможа? Ясновидец? Пройдоха? — спрашивал себя Мазюрье. — Возможно, все, вместе взятое».
Он резко тронулся с места.
Андуз готовил себе чай, когда в дверь постучали.
— Боже мой. Когда же меня наконец оставят в покое, — проворчал он. — У меня и без них забот хватает!
Он пошел открывать.
— Вы!
На пороге стояла Леа.
— Вы очень любезны, — сказала она. — Можно войти?
Но она уже стояла посреди комнаты и хотя была очень изящной, тем не менее заполнила ее всю.
— А вы неплохо устроились, знаете ли! У меня гораздо теснее.
Она посмотрела повсюду, сунула свой нос даже на кухоньку.
— Я тоже с удовольствием выпью чаю. Я так устала. Я по горло сыта статистическими отчетами.
Она обернулась к нему. Бог мой, какие белокурые волосы! А шея! Нежная, хрупкая, как у ребенка. Достаточно слегка надавить!..
— У нас происходит что-то невероятное, — продолжала она. — Поэтому я пришла. Букужьян позвонил мне около полудня. Ему не удалось отыскать вас в банке… Умер Ван ден Брук.
— Умер? — с наигранным недоверием спросил Андуз.
— Да… По-видимому, он упал в Марну во время прогулки. Такова версия полиции…
— А! Поскольку полиция…
Он сел и машинально забарабанил пальцами по столу.
— Полиция ведет расследование?
— Ну и ну! Да вы как с луны свалились, мой бедный друг!.. О! Чай!
Она побежала к плите.
— Да, — пробормотал он, — я понимаю, что расследованием занимается полиция, но только когда речь не идет о несчастном случае. Несчастные случаи находятся в компетенции жандармерии… Что вам, собственно, сказал Учитель?
Она вернулась, неся две чашки, и села рядом с ним.
— Он сказал мне, чтобы я вас поставила в известность. Всем займется сестра Ван ден Брука. Она хочет увезти тело в Роттердам.
— Но… Что он думает по поводу смерти?
— Ничего. Что вы хотите, чтобы он думал? Если все происходит не на глазах…
— И что из этого? Он же имеет представление о том, как утонул Ван ден Брук?
— Как он может иметь представление?.. Разумеется, произведено вскрытие. Полицейский инспектор посетил Ашрам… И все.
— Странно!
— Да нет, Поль. Это вы какой-то странный. Я вижу, что вы потрясены. Хотя вы не поддерживали с Ван ден Бруком близких отношений.
— Почему Учитель попросил вас поставить меня в известность?
— Как почему? Вы же его секретарь!
Он постепенно успокаивался, но сердце еще продолжало громко стучать. Она попробовала чай.
— Кусочек лимона не испортил бы его, — сказала она. — Но у вас нет лимона… В общем, у вас ничего нет… Вы живете здесь словно сыч.
Она рассмеялась.
— Вы даже моргать стали как он… Мой бедный Поль, я вас раздражаю. А что это такое?
На столе она увидела отчет об аварии, предназначенный для страховой компании. Она взяла лист бумаги, посмотрела на план, прочитала несколько строк.
— О! Понимаю.
— Мне следовало бы уже давно его представить, — объяснил он. — Но я несколько раз переписывал.
— Что означают эти крестики?
— Расположение тел… Вы помните?
Вновь учащенно забилось сердце. Так бьется пойманная рыба.
— Нет. Не помню. Я знаю, что видела ноги… одно тело с одной стороны, другое — с другой… Это кошмар… Я так и не подошла поближе…
— Этот крестик — Че Нолан… а этот — Патрик… Нет, подождите… Возможно, наоборот…
Он делал вид, что колеблется, хотел заставить Леа заговорить. Может, она скажет: «Тот, с усами, вроде бы шевелился». В таком случае… Он посмотрел на шею девушки. В таком случае…
— Спросите других, — сказала она. — Они-то не боялись смотреть. Они должны помнить… Я ничего не видела. Когда я приблизилась, они уже скончались…
Казалось, ее вдруг озарила некая мысль.
— А вот Ван ден Брук не может дать показания.
Андуз заставил себя отпить немного чаю. Во рту пересохло.
— Хорошо! — воскликнула Леа. — Поговорим о чем-нибудь другом… Вы всегда такой мрачный? А сколько вам лет?
— Тридцать пять.
— И вы влачите жизнь старика. Если бы я не пришла… Ну… сознайтесь… Вы бы съели яйцо или даже не стали бы ужинать, предпочитая бить баклуши, другого слова я не нахожу.
Она грациозно встала, открыла холодильник и присела на корточки, едва качнув бедрами, как это умеют делать только женщины.
— Так и думала… завалявшийся кусок колбасы, очевидно, уже прогоркшее масло… банан, которым пренебрег бы даже бродяга… До чего же странный! И вы намеревались провести весь вечер в полном одиночестве, наедине с бог весть какими мыслями!.. Вам нужно развеяться, Поль… Может, поужинаем где-нибудь вместе?
Она покачалась на каблуке, при этом одно ее бедро обнажилось, потом резко вскочила и взяла его под руку.
— Подъем! Мы уходим. Учитель не запрещает вам развлекаться, а я не собираюсь надевать траур из-за того, что Ван ден Брук утонул!
В этой девушке жизнерадостность била ключом. Глаза радовались, глядя на нее. От нее веяло необыкновенной нежностью. И она не заговорит, потому что ничего не заметила!
— Мне нужно переодеться, — сказал он.
Он просто хотел выкроить еще несколько минут, чтобы кое-что обдумать.
— Вы и так прекрасно выглядите, — отрезала она. — Надеюсь, вы не вообразили, что мы едем в «Риц»? Вы становитесь старомодным!
Ему стало даже приятно, что Леа торопила его. Но с особенным удовольствием он твердил себе, что она спасена. Он горел желанием расцеловать ее в обе щеки, поблагодарить, как будто она преподнесла ему бесценный подарок. Возможно, у него не хватило бы сил продолжать, если бы она сама себе вынесла смертный приговор! Но теперь она выступала в роли сообщницы. Она помогала ему забыться, а ведь он только об этом и мечтал!
— Куда мы едем? — спросил он, надевая плащ.
— Я полагаю, что танцевать вы не умеете.
— Нет.
— Я так и думала. Вы неотесанны, словно крестьянин из самой глухой деревни. Решительно мне везет на оригиналов! Один мой патрон чего стоит! Я уж не говорю о Букужьяне. И в довершение всего вы!
Она кубарем скатилась вниз по лестнице, прыгая сразу через две ступеньки, как маленькая девочка, которая использует малейшую возможность, чтобы поиграть. На улице она повернула к небу свое лицо, похожее на мордочку трепетной лани.
— Какая прелесть этот дождь!
Он ненавидел дождь. Она взяла его под руку.
— Как насчет того, чтобы немного пройтись? Я обожаю гулять. И потом, огни… шум… люди… Не возражаете, если мы отправимся в «Сен-Жермен»?
И тут он сделал нечто такое, что привело в изумление его самого. Он остановил такси и сразу же извинился:
— Я немного устал. Но в следующий раз мы пройдемся. Даю вам слово!
Ибо ему казалось очевидным, что следующий раз обязательно наступит и даже следующие разы. Вдруг он понял, что нуждается в ней. Он обнаружил… Он точно не знал, что именно обнаружил. Но боль исчезла. Он как бы повис между прошлым и будущим. Ему было хорошо в этой машине, где он плечом прижимался к плечу Леа. Для него город зажег свои огни. Он словно очутился в незнакомом городе. Он пожалел, что они приехали так быстро.
Леа взяла его под руку и увлекла за собой в ярко освещенный ресторанчик, где звучала оглушительная музыка. Будучи завсегдатаем, она быстро нашла два места в глубине зала. Здесь оказалось еще теснее, чем в такси. Ресторанчик заполнили студенты. Кто стоял, кто сидел, и все кричали, чтобы расслышать друг друга.
— Это другая разновидность Ашрама, — сказала она. — Подождите, я принесу два чинзано, а то пока нас обслужат…
Он восхищался ее непринужденными манерами, но более всего поражался, что пришел сюда, что так легко сменил обстановку и при этом не ощущал никакой вины. Она принесла два бокала, где сталкивались друг с другом кусочки льда.
— Ну, что скажете? Получше, чем у вас? Снимите пиджак, если вам жарко.
— Нет. — Пожалуй, это уж слишком. Иначе у него появится чувство, что его раздели донага. — Вы часто здесь бываете? — спросил он.
— Да, довольно часто. Я живу в этом квартале, на улице Дофин. Я немного похожа на вас. Вечером у меня совершенно нет желания готовить. Прихожу сюда поесть бутербродов, встретиться со старыми друзьями, поболтать.
— И о чем же вы разговариваете?
Они чокнулись.
— Чин-чин… Мы говорим о серьезных вещах. Вы даже не представляете, насколько они серьезны, эти мальчики… Революция… Изменение жизни к лучшему… Бог мой! Но это не мешает им смеяться и развлекаться. Напротив. Что вы будете есть?
— Это я должен вас спросить… Ведь вы мой гость.
— Поль, будьте благоразумны. Каждый платит за себя, разумеется. Бифштекс. Их здесь неплохо готовят… Так я и знала! Вы обиделись? И все из-за того, что я сказала, что каждый платит за себя! Хорошо, я согласна, угощаете вы. Но вы зайдете ко мне, и мы выпьем по стаканчику.
Он заказал бифштексы. Она любила бифштексы. Она любила бифштексы с кровью, он же — хорошо прожаренные. А как же иначе!
— Я вам говорила, — начала она, — что встретила вчера в метро Блезо? Он совершенно обескуражен. Его проект супермаркета отвергли. Он собирается уехать за границу, поскольку считает, что предприимчивый характер может преуспеть в Африке.
Андуз насторожился.
— И как скоро он уезжает? — спросил он.
— Не знаю. Он хлопочет, но формальности всегда отнимают много времени.
Андуз положил свою руку на руку Леа.
— Забудем о нем… Забудем об Ашраме… Забудем обо всем… Я счастлив, Леа. Глупо, не так ли? Но я так говорю только потому, что со мной подобное не часто происходит.
Шедший мимо высокий негр в расстегнутой куртке чуть не сбил бокал Андуза. Андуз едва успел подхватить его на лету. Но ничто не могло омрачить его радостное настроение.
— А вы, Леа, счастливы?
— Я? О! Далеко не всегда. Со мной, как и со всеми, случаются неприятности. Но я никогда не сдаюсь.
— Скажите мне по секрету, что вам дает Ашрам?
— Вот видите, вы опять принялись за свое! По правде говоря, почти ничего. Я езжу туда только затем, чтобы собрать материал для диссертации.
— Вы ищете из ряда вон выходящее?.. А обо мне что скажете?
— О вас?
Им принесли бифштексы и много жареного картофеля.
— Это только половина порции, — сказала она. — Вы?.. Вы, вне всякого сомнения, феномен.
— В каком смысле?
— Вы рассердитесь.
— Да нет же. В этот вечер меня не так-то просто рассердить.
— Я полагаю, что вы чересчур стараетесь. Вы готовитесь к познанию высокой мистики так, как готовятся к выпускным экзаменам. А что касается самой высокой мистики, то, между нами говоря… я имею в виду ту, что проповедует Букужьян… Да, можно развивать определенные способности, и я с полным правом готова это засвидетельствовать. Впрочем, наука пристально изучает их. Но делать далеко идущие выводы и разглагольствовать о каком-то внутреннем «я», о первоначальном единстве и бог знает еще о чем!..
— Вы отрицаете опыты святых?
— Я не присутствовала при их проведении.
— Вы меня разочаровываете.
— Ешьте, пока не остыло. Сочный бифштекс и нежная картошка, вот в чем заключается истина.
Андуз задумчиво жевал.
— Мне следовало бы на вас рассердиться, — прошептал он. — Вы топчете меня ногами! Если бы я потерял веру во все это, то мне оставалось бы… оставалось бы…
У него чуть не сорвалось «утопиться», но он промолчал.
Она уже съела всю свою картошку и подцепила вилкой кусочек в тарелке своего спутника.
— Вы же не станете утверждать, — продолжала она, — что нормальный молодой человек нуждается во всех этих возбуждающих средствах, так как все эти упражнения по концентрации внимания и есть не что иное, как возбуждающее средство.
— Вы не делаете этих упражнений?
— Боже упаси!
— Даже не пробовали?
— Один раз, и у меня сразу же появилось желание заняться любовью.
— О! — воскликнул он, задетый за живое.
Она рассмеялась и крепко сжала руку Андуза.
— Не нужно на меня сердиться, Поль. Я очень непосредственная. Знаете ли, вы очень странный.
Он отодвинул тарелку. Есть ему больше не хотелось. Ему теснило грудь. Он спросил себя, что она сделает, если он признается ей, что убил Ван ден Брука? И почему. Но эта мысль казалась ему чужой. Она зародилась вне его самого, словно преступление совершил не он, а какой-то безответственный родственник.
— Кофе? — предложила она.
— Нет, спасибо. Я уже немного отупел от этого шума.
Он попросил счет, вытащил бумажник, отсчитал мелочь, бросил ее на стол, как игрок в шашки, и помог Леа надеть плащ. Они не заметили, как очутились на бульваре.
— Я живу в двух шагах отсюда, — сказала она. — Вы обо всем рассказываете Букужьяну?
— Мне нечего скрывать… то есть я хочу сказать, что мне нечего было скрывать…
— Ах! Ах! — наигранно фыркнула она. — Вам нечего было скрывать до сегодняшнего вечера?
Они обогнали парочку, шедшую в обнимку.
— А теперь, — продолжала она, — у вас появились непристойные мысли. Поль, вы какой-то не от мира сего. Поцелуйте меня… Неужели это так трудно?
Она остановилась и подняла на него глаза. Капли дождя падали ей на лицо. Он наклонился и, сжав зубы, прикоснулся к ее губам. Ему стало немного противно, когда он почувствовал, что она приоткрыла рот. Влажная плоть заставила его отпрянуть назад. Леа схватила его за руку.
— Вы застенчивы по природе, не так ли?.. Держу пари, что вам не часто приходилось целоваться с девушками.
— Нет… не думайте так… я… я очень занят.
Он что-то мямлил и страшно злился на себя за то, что покраснел.
— Вы слишком плохо к себе относитесь, — сказала она. — Я вижу, что вы очень скованный и недоверчивый человек… и, откровенно говоря, это причиняет мне боль. Нужно идти навстречу жизни с распростертыми объятиями, а не сжав кулаки.
Вечерняя толпа толкала их локтями, иногда разделяла, и теперь уже он взял Леа под руку. Они пошли по узким улочкам, сплошь застроенным гостиницами и антикварными магазинами.
— Я безумно люблю этот квартал, — сказала она. — Тут ты одновременно и дома, и где-то далеко. Словно душа отделяется от телесной оболочки… Смотрите! Вот и мой дом. Я живу на шестом этаже. Пойдемте.
Он знал, чего ей хотелось, и больше не сопротивлялся. Он последовал за ней по скрипучей лестнице. Боясь, что его могут увидеть, он шел на цыпочках.
— Высоковато, но мы уже пришли, — сказала она. — Входите. Располагайтесь, будьте как дома. Но прежде снимите плащ.
Квартира состояла из небольшой гостиной, спальни, ванной и кухни. Он медленно прохаживался, осматривался по сторонам и ничего не видел, настолько был взволнован.
Она подошла, положила руку ему на сердце.
— Ну и ну! Только не говорите, что в такое состояние вы пришли, поднимаясь по лестнице. Хотите что-нибудь выпить?.. Нет, выпьем потом… Так что ж, Поль, не стоит усложнять… Раздевайтесь в спальне, я же приму ванну.
Все так просто и все так сложно! Совсем растерявшись, он снял с себя одежду и по привычке тщательно сложил ее на стуле, рядом поставил ботинки. Он скользнул в постель, которая оказалась очень холодной. Ему еще никогда не было так холодно. Он вытащил из-под одеяла руку, чтобы потушить свет. Она не заставила себя долго ждать, и он сразу же провалился в небытие, но позже, однако, признавался сам себе, что испытал разочарование. Он ждал страсти, исступления, о которых читал в книгах.
— Вот видишь, — сказала она. — У тебя неплохо получается… Ну вот, не станешь же ты дуться теперь!
— Вы меня любите?
Она приподнялась на локте, чтобы лучше его разглядеть.
— Поль, что ты себе воображаешь? Ты мне интересен, если хочешь знать. Но не стоит все валить в одну кучу.
Она погладила его по волосам.
— Разве тебе недостаточно дружбы? Знаешь, я вовсе не шлюха. Но ты так одинок! Мне хочется научить тебя маленьким радостям, а не ловким трюкам, вызывающим исступленный восторг… на это я не способна. Эти штучки хороши для учеников Букужьяна, которые хотят превратиться в божество, ни больше ни меньше… И ты тоже, ты немного похож на них. Видишь, куда тебя это привело?
Она говорила совсем тихо. Он уткнулся ей в плечо. Ему хотелось плакать.
— Что же это такое, по-вашему, маленькие радости? — прошептал он.
— Честное слово, я никогда не задавала себе подобный вопрос. Я их чувствую, вот и все. Животные знают о них лучше, чем мы… Идет дождь. Светит солнце, а люди вместе. Вместе спят, пьют кофе с молоком. Я хорошо умею варить кофе, ты увидишь… Потом они идут гулять… Это и есть маленькие радости. И они заполняют целый день! За ними не надо гоняться. Они находят нас сами. Так цветок поджидает пчелку.
— Да, да, — сказал он печально.
Его лоб касался потной подмышки Леа. Она служила как бы спасительным укрытием. Ему хотелось туда спрятаться и спать… спать…
В субботу утром Андуз получил в Ашраме важную корреспонденцию. Как всегда, счета, запросы, благодарственные письма. И большой конверт из Америки. Одним движением вскрыл его. Он уже давно чувствовал, что опасность приближается.
Мсье секретарь!
Я довольно серьезно болела, но теперь мне стало лучше, и через пару недель я собираюсь приехать во Францию в сопровождении своего адвоката. И хотя вы мне подробно описали обстоятельства гибели моего мужа, я не слишком хорошо разобралась в них. Покорнейше прошу меня простить, но столь внезапная кончина мужа и деверя настолько потрясла меня, что я прихожу в себя с большим трудом, и, возможно, мне станет легче, если я сумею ознакомиться с местом, где произошла авария. Вероятно, у меня больное воображение, но вы отнеслись ко мне столь любезно, и это вселяет в меня уверенность, что вы поймете меня. Я надеюсь, что вы не откажетесь сопровождать меня в этом скорбном паломничестве.
На французский язык письмо перевел мой адвокат. Я же на вашем языке говорю очень плохо, о чем весьма сожалею, потому что те, кого я горячо любила, нашли успокоение в земле вашей страны. Точную дату нашего прибытия я сообщу телеграммой.
Искренне ваша,
Вирджиния Нолан.«Влип! — подумал Андуз. — Вот так влип… Блезо… Фильдар… Да у меня не хватит времени! К счастью, Леа можно больше не опасаться!»
Он на мгновение задумался. Свидетели, не знавшие, чему они стали свидетелями! Абсурд! И однако это и делало их столь опасными! Он убрал письмо в бумажник. Нет никакого смысла показывать его Учителю. Две недели! Его бросило в жар. И вдруг у него появилось желание встретиться с ними, и с тем и с другим, расспросить их. Ван ден Брук умер потому, что сказал лишнее слово! А вот Леа, ничего не захотевшая видеть, спасена. Если, на свое счастье, Блезо не заметил одну мелочь… Блезо или Фильдар… а может, и оба. Нет! Уж Фильдар-то обязательно должен был заметить… Тем не менее! В течение двух недель гораздо легче отправить на тот свет одного, чем двух. Ведь без предварительной подготовки здесь никак не обойтись. Ван ден Брука на берег Марны привел случай. Но такая удача больше не повторится.
Андуз вышел. Он вспомнил, что ученики собрались в актовом зале, куда их пригласил Учитель для последней беседы в память о Ван ден Бруке. Они закончат не раньше чем через час. Он принялся прохаживаться по вестибюлю, заложив руки за спину, как вдруг заметил Карла.
— А я как раз вас искал, — сказал Карл.
Он так и не смог избавиться от немецкого акцента. Да и кто говорил без акцента в этом доме?
— Прислали нового быка. Мне он кажется слишком большим. Хотите на него взглянуть?.. Вам следовало бы предупредить Учителя. Он никогда не торгуется, и все этим пользуются. К чему нам такие огромные животные?
— Хорошо, — сказал Андуз, — но давайте поскорее.
Они спустились по лестнице в подвал.
«Я прошел через это, — думал Андуз. — Я ждал чуда, и чудо свершилось. Я, ничем не рискуя, убрал Ван ден Брука и встретил Леа. И моя жизнь изменилась благодаря ей. В лучшую сторону? В худшую? Не знаю. Во всяком случае, она стала полнокровней. Потому что я предал. Я предал Учителя, Ашрам, предал собственные обязательства. Может, я безумец. Любить — значит предавать!»
— Привезти его стоило немалых трудов, — сказал Карл. — Это строптивое животное. Поэтому нам его и продали. Вы не знаете, когда состоится очередное крещение?
— Нет.
Они услышали издалека, как он мечется. Солома шуршала под его копытами… Он глубоко дышал… Все это впечатляло не меньше, чем в первый раз. Андуз представил себе, что произойдет, если бык вырвется на волю… если этот необузданный зверь примется блуждать по подземелью… и исступленно мычать.
— Он хорошо привязан?
— У меня большой опыт. Теперь мяса нам хватит надолго. Идите за мной. Здесь особенно не развернешься.
Клетка стояла в глубине туннеля. Отблески электрического света играли на черной шкуре животного. Карл похлопал через прутья решетки по крупу животного, оценивая его с видом знатока.
— Посмотрите, какие у него рога, какая грудь. Он слишком хорош для нас. Какая жалость… Кстати, я подумал, что старый гараж можно будет использовать под помещение для разделки туш. Там мне будет сподручнее. К тому же внизу есть небольшой погреб, где можно хранить все необходимое. Правда, погреб завален пустыми бутылками, да и лестница требует ремонта. Одна ступенька вот-вот провалится. Когда я в первый раз спускался, то чуть не сломал себе шею.
— Хорошо. Я это учту.
Бык повернулся к ним, ударил копытом об пол. Красноватый огонек блеснул в его неподвижных глазах. Рога сверкали, как клинки.
— Какая жалость! — повторил Карл. — Но я хотел показать вам еще одну вещь.
Возвращаться назад они не стали. Они свернули в другую галерею, плавно поднимавшуюся вверх. Здесь рельсы узкоколейки блестели как новенькие. Они вышли к небольшому ангару, где стояли две вагонетки. Карл стал открывать раздвижную дверь, но на полпути ее заклинило.
— И здесь не обойтись без ремонта, — заворчал Андуз. — Прямо напасть какая-то.
— Да это мелочь, — сказал Карл. — Но, как вы могли заметить, у меня нет инструментов. Хорошо бы иметь несколько блоков, чтобы поднимать тушу к потолку, раз уж я ее приношу сюда. Я работаю здесь в немыслимых условиях! В то время как бывший гараж… там цементный пол, туда подведена вода. На его оборудование потребуется не так много денег.
— Сразу видно, что платите не вы. Я поговорю об этом с Учителем.
Но Андуз уже знал, что Учитель не станет и слушать, а просто скажет: «Делайте!.. Делайте!..»
Он вышел из ангара и очутился в глубине парка, недалеко от новых строений, которые уже начинали расти как грибы.
— Черт знает что! — проворчал он. — Черт знает что!
Прощаясь с Карлом, он не подал ему руки. Его обуревала ярость. Денег Патрика Нолана не хватит. Так придется вечно латать дыры. Он уже решил было послать все к чертям. Тем хуже для Ашрама. Фильдара он не тронет. Равно как и Блезо. Он заживет тихой, спокойной жизнью, которую украсит своим присутствием Леа.
«Я устал, — подумал он. — Я и вправду устал!»
Но Учитель любил его. Учитель избрал его. Хорошо бы умереть ради него. А ведь в глубине души Андуз жаждал умереть. Но в сущности, почему он привязался к Учителю? Потому что Учитель сказал ему: «Нужно учиться умирать. Все великие духовные отцы были живыми трупами!» Он пошел через парк к замку. Ученики покидали актовый зал, молчаливые, сосредоточенные. Учитель вышел последним. На ходу он расстегивал белые одежды, которые еще не успел снять. Он взял Андуза за локоть.
— Поль… У меня есть для тебя работа. И потом, мне нужно с тобой поговорить… Зайди ко мне.
Он удалился с озабоченным видом. Андуз поискал Блезо, который стоял рядом с приемной и что-то обсуждал со слишком накрашенной молодой женщиной.
— Мадам Ришом, — представил он. — Новенькая.
— О! Я еще не решила, — прервала она. — Мои парижские друзья мне очень много рассказывали о профессоре Букужьяне, вот я и решила увидеть все собственными глазами.
— Можно вас на минутку, мсье Блезо? — спросил Андуз. — Благодарю вас.
Он отвел Блезо в сторону и вытащил письмо мадам Нолан.
— Прочитайте-ка.
Блезо пробежал письмо глазами.
— Я сыт по горло этой аварией, — сказал он. — Что вы собираетесь делать?
— Я думал, что вы согласитесь по просьбе этой несчастной женщины изложить то, что произошло, в двух словах, сам я уже написал. Может быть, ее это удовлетворит. Иначе последует продолжение. Она начнет докучать вам, мне, Фильдару, Леа… И это будет длиться до бесконечности.
— Что, по вашему мнению, я должен изложить?
— То, что вы видели, разумеется.
— Да я ничего и не видел. Там нечего было видеть, кроме двух трупов.
— Что ж, так и напишите. Пойдемте в мой кабинет. Там есть машинка. Это займет всего несколько минут. И возможно, тогда она оставит нас в покое.
Он увлек за собой Блезо, усадил его за пишущую машинку.
— Разумеется, пишите очень коротко. Нет нужды описывать само происшествие. Она уже знает, почему оно произошло. Внезапно на дорогу выбежала кошка. Машина резко затормозила… Ее интересует, что вы увидели, когда подбежали к моей разбитой малолитражке.
Блезо выглядел немного удивленным.
— Ну, это проще простого, — произнес он наконец.
Он на какое-то мгновение застыл неподвижно, опустив руки на клавиатуру, словно подыскивал слова, затем принялся печатать, говоря вслух:
— Мы все четверо почувствовали, что нас ударила следовавшая за нами машина, но тревогу поднял наш друг Фильдар. Он сидел сзади и, обернувшись, увидел, что малолитражка врезалась в столб. Мы тотчас остановились. В этот момент мы находились в сотне метров от места аварии. На дороге лежал человек. Им оказался Поль Андуз. Я увидел, как он зашевелился, потом попытался подняться… Так пойдет?
— Очень хорошо, — сказал подавленным голосом Андуз. — Продолжайте.
— Я посмотрел в сторону обочины. Двух незнакомых мне людей выбросило под откос. Один, в очках, был мертв. Второй агонизировал. Фильдар, бывший священник, встал на колени рядом с ним. Умирающий пытался что-то сказать. Потом подошел Андуз. Его поддерживал Ван ден Брук. Через несколько секунд священник поднялся и сказал: «Все кончено». И тогда Андуз нам сказал, что эти двое братья Нолан — Че и Патрик.
Блезо перестал печатать.
— В общем и целом это все, — сказал он. — В траве валялся костыль. Я помню, как подобрал его. Затем приехали жандармы. Они обыскали оба трупа, забрали документы, ценные вещи, все запихнули в два мешочка… Но я не понимаю, какой смысл…
— Нет, этого вполне достаточно!
Голос у Андуза так дрожал, что Блезо поднял глаза и пристально посмотрел на него.
— Вас до сих пор бросает в дрожь, не так ли?.. Понимаю. До чего глупо вот так умереть… Мне нужно подписать?
— Да, пожалуй.
Блезо поставил свою подпись, встал, протянул руку Андузу.
— Всегда к вашим услугам.
Он вышел, Андуз перечитал текст, затем разорвал листок. Блезо подписал себе смертный приговор.
— Садись, — сказал Учитель.
— Я лучше постою.
Букужьян долго рассматривал своего ученика, и Андуз понял, что он не сможет больше ничего скрывать. Но о чем догадался Учитель?
Букужьян вынул из кармана едко пахнущую сигару.
— Что-то не ладится? — спросил он. — Как только я тебя вчера увидел, то сразу подумал: Поль не в духе, не такой, как всегда. Я прав?
— Да.
— Тогда говори… Ты хочешь, чтобы я тебе помог? Женщина?
— Да.
— Хорошо. Женщина… отсюда?
— Да… Леа.
— Бедный Поль. Ты никогда не перестанешь делать глупости.
— Почему, Учитель?
— Потому что эта женщина не для тебя.
Учитель тщательно раскурил сигару. Он совершенно не выглядел рассерженным.
— Крещение часто приводит к таким последствиям, — продолжил он. — Кровь заставляет бурлить кровь. Тогда удовлетворяют страсть и об этом больше не говорят. Это не имеет никакого значения. Но твой случай особенный. Держу пари, что ты ее любишь.
— Не знаю.
— Знаешь, даже очень хорошо знаешь. А влияние этой малышки может оказаться для тебя пагубным. О! Я ее хорошо изучил. Она пришла сюда, чтобы шпионить за мной, а не для того, чтобы попытаться изменить себя. Ашрам? Она в него не верит. Она не верит ни во что. И не по своей вине. Она так устроена. Разум погубил ее. Но не настоящий разум, а тот, которым наделены преподаватели. А у тебя, конечно, не было ничего более важного…
Он сказал несколько слов на иностранном языке, стряхнул пепел, упавший ему на брюки.
— И давно все это началось?
— Нет.
— Ты порвешь с ней. Да, я знаю, ты будешь страдать. А что потом?.. Не позволишь же ты телу командовать собой! Заметь, ты свободен в своих действиях. У меня нет на тебя никаких прав.
— Учитель, не оставляйте меня.
— А я и не собираюсь оставлять тебя. Послушай меня, Поль. Ты обладаешь некой силой, которую непременно следует обуздать. Скажу откровенно: я считаю, что ты один из тех, кто впадает в крайности. Но научиться владеть собой можно только через насилие. Это настоящее сражение. Если ты его проигрываешь, то конец. Случится наихудшее. А любовь — предвестник поражения. Или ты убьешь демона, или он тебя. Ты хочешь излечиться?
— Постараюсь.
— Очень хорошо… Тебе больше не в чем признаться?
Андуз быстро взвесил все за и против. Преступление? В этом он никогда не признается. Впрочем, Учитель о нем даже и не подозревал. Он почувствовал, что его ученик что-то скрывает, и он получил признание. Нет необходимости делать другое признание.
— Нет, Учитель.
— Хорошо. Ты должен думать только об одном: об Ашраме. Кстати, я хотел бы с тобой поговорить о Фильдаре. Ты заходишь к нему?
— Довольно редко.
— Как этот Фильдар мне досаждает! Тебе известно, что раньше он был священником?
— Мне говорили об этом.
— В некотором роде он им остался. Таинства христиан обладают магической силой, хотя они об этом даже и не подозревают. Христианство оставило неизгладимый след в душе Фильдара, и он оказывает здесь плохое влияние. Я напрасно принял его в общину. Я придерживаюсь принципа «все желающие могут приехать ко мне». Те, кто не находит у меня то, что ищут, уезжают. Так сделает малышка Леа. Фильдар же отвергает некоторые постулаты моего учения, но остается. И это начинает создавать проблемы.
— Например?
— Например, он отрицает переселение душ, а ведь это так успокаивает слабых духом. Он упорно цепляется за прежнюю веру в Спасителя, как будто каждый из нас не является своим собственным спасителем. Понимаешь?.. Повторяю: лично я его ни в чем не упрекаю. Это его дело. Но чтобы он убеждал в этом наших друзей — нет, ни за что! Мне хотелось бы, чтобы он уехал. Кажется, он собирается заняться перевоспитанием малолетних преступников… Ты мог бы поговорить с ним, поддержать его намерения. Фильдара нужно убрать, понимаешь?
— Убрать? — задумчиво сказал Андуз. — Вы предоставляете мне свободу действий?
— Разумеется.
— Я подумаю.
— Что-нибудь еще?
— Письма. Как обычно, много писем. Одно от мадам Нолан. Она подтверждает, что скоро приедет.
— Мне хотелось бы, чтобы вопрос о наследстве был решен, — сказал Букужьян. — Здесь не должно возникнуть никаких проблем.
— Карл попросил меня переоборудовать старый гараж.
— Хорошо… хорошо… Это твое дело… Что там Блезо думает о новых зданиях?
— Я с ним еще не говорил на эту тему.
— Что ж, поговори. Умерь его аппетиты, если сможешь. Совсем не нужно, чтобы здания походили на дворец. Держи меня в курсе, хорошо? А с малышкой Леа веди себя поосторожней!
— Я обещаю.
Учитель встал и проводил Андуза до двери.
— Что бы мы без тебя делали, — сказал он, смеясь.
Андуз все больше чувствовал, как наваливается усталость. И ни минуты покоя! В дверь стучали не переставая. «Это секретариат?» Новые лица. «Мне хотелось бы записаться на лекции». Заезжали бывшие ученики. «Ах! Если бы вы знали, как я скучаю по Ашраму!» Все время суетился Фильдар. Уголок его рта нервно подергивался. Чтобы хоть как-то скрыть нервный тик, он курил трубку, вернее, постоянно покусывал небольшую трубку, которую никогда не разжигал. «Как дела, Поль?.. Вы не могли бы мне передать несколько листов бумаги?» Ему не сиделось на месте, пока Андуз распечатывал пачку. Он теребил волосы, подстриженные бобриком. Подходил к окну. Несколько раз останавливался у картотеки. «Спасибо, старина». Андуз, у которого голова раскалывалась от мигрени, попытался его задержать. «Я спешу. Не сегодня, Поль». Он убежал. В потертой куртке и висевших мешком вельветовых брюках, он выглядел довольно странно. Затем некая дама потребовала, чтобы ее немедленно принял Учитель. Затем…
Между двумя посетителями Андуз обессиленно облокачивался на стол и обхватывал голову руками. Все происходило слишком быстро! Как будто крещение вознесло его на высокую гору, а теперь он скользит вниз с головокружительной скоростью… Но картина бешеного спуска невольно навела его на мысль о падении. Нужно заставить Блезо или Фильдара упасть. Ведь толкнуть человека вовсе не означает убить его. Но как? Он уже и забыл, почему он непременно должен их уничтожить. Сейчас он походил на изобретателя, у которого иссякло воображение. И именно это доставляло ему страдание. Он видел лестницы, кабины лифта, мосты, переброшенные через бездну. Кровь стучала в висках. «Войдите!» Еще один надоедливый тип. «Да, каждую субботу Учитель читает лекции в Париже… Да, разумеется, платные!.. Список тем?..» Он вытащил из ящика стола размноженные на ротаторе листы. «Вот. Это программа до Рождества… На следующей неделе Учитель расскажет о культе Митры в первом веке… Адрес внизу… Бульвар Сен-Жермен. Географический зал».
Леа пришла незадолго до перерыва на обед.
— Здравствуй, мой милый Поль. Сегодня мне некогда было даже тебя поцеловать.
Она перегнулась через стол и быстро чмокнула его в лоб.
— Тише! Если кто-нибудь войдет…
— Да нет же! Ну и трусишка… Вечером я тебя забираю!
— Нет. Мне нужно работать допоздна.
— Неправда. Посмотри-ка на меня. Не отводи глаз… Ясно. Ты, дорогуша, все рассказал патрону.
— Нет.
— Да! Поклянись, что ни словом не обмолвился.
Он пожал плечами.
— Знаешь, я далеко не все ему сказал. Ты уже воображаешь, что я его раб. Отнюдь.
— Нам на все плевать, — заключила она, смеясь. — Мы свободны. Хорошо. Ты придешь на собрание?
— Не думаю. Посмотри на эту кучу писем.
— Можно подумать, что кто-то тебя заставляет! Глупенький! Так гнуть спину за здорово живешь! Если старику нужен секретарь, пусть наймет. Деньги у него есть. Завтра я могу заехать за тобой в банк?
Он отодвинул назад кресло, чтобы лучше ее увидеть. Учитель прав. Он ее любил. Никто никогда ему не объяснял, что такое любовь. Но эта потребность заключить ее в объятия, раствориться в ней… И обо всем забыть. И вот уже больше нет ни Блезо, ни Фильдара… Канул в небытие Ашрам!
— Только не завтра вечером, — прошептал он.
Ему хотелось добавить: «И не послезавтра… и не через два дня. Никогда!» Силы оставили его. Учитель сказал: «Нужно убить демона». Он и не думал раньше, что от этого можно умереть.
— Я тебе позвоню, — продолжил Андуз. — Я неважно себя чувствую… Наверное, схожу к врачу.
— Ты слишком много работаешь, мой бедный Поль. Ни минуты передышки. Он тебя доконает, этот Букужьян. По сути, к этому ты и стремишься!
Они с неприязнью посмотрели друг на друга. Но она тотчас ласково провела рукой по его щеке.
Андуз уставился на закрытую дверь. «Мне было бы спокойней, — подумал он, — если бы я внес ее в список! Тогда я не попался бы в ее сети!» Устранить двух последних свидетелей будет, возможно, легче, чем избавиться от Леа. И он вновь погрузился в горестные размышления. Подстроить падение? Но как, боже мой? Какое именно падение?.. На рельсы метро? Возможно. У Блезо офис в Париже. Редко, но он все же туда ездил. И что из этого? Назначить ему встречу в час пик, например? На станции «Шателе» или «Страсбург-Сен-Дени»… пригласив его на ужин?.. На перроне в это время — толпы людей… Легкий толчок в спину, совсем незаметный… Да, но такая же толпа соберется на перроне напротив. Сотни, тысячи внимательных глаз. Кроме того, на пути смотрит и машинист, готовый остановить состав при малейшем подозрительном движении… Нет. Метро исключается. Жаль!
Андуз, чтобы лучше сосредоточиться, сжал кулаки. Это точно так же сложно, как и упражнение «Рука». Подумаем… Откуда можно упасть совсем случайно, где падают повседневно?.. Полистать бы перечень несчастных случаев на производстве. Падают кровельщики, каменщики. Каменщики… возводящие дом… Внутри что-то сработало. Андуз повторил себе: «Падают каменщики». А Блезо — архитектор. А архитектор ходит на стройки. Луч света становился все ярче. Занималась заря. Она высвечивала все новые подробности. Строящиеся здания… Их везде много… Даже в пригородах Реймса. Андуз видел, как над высокими стенами, зияющими проемами для окон, возвышались красноватые подъемные краны. Направляясь в Ашрам, он проходил мимо незаконченного жилого массива в конце авеню Эмиля Золя. На огромном панно он как-то прочитал: «Предприятие братьев Буржуа. Резиденция „Босолей“». И был указан адрес конторы, занимающейся продажей квартир.
Он закрыл дверь на ключ. Замер, засунув руки в карманы. Главное — не упустить эту идею, не позволять себе расслабляться. «Предположим, мне захотелось купить небольшую квартиру на последнем этаже. „Босолей“ — очень высокое здание. Где-то восемь-девять этажей. Три метра на этаж. Значит, высота составит около двадцати пяти метров. Я спрошу у Блезо совета. Надо непременно привести его в воскресенье… возможно, уже в следующее… Мы обсуждаем цену. Это его конек. Я ему скажу, что у меня возникли сомнения… что я не знаю, во сколько обойдется строительство, хорошего ли качества материалы… Мне нужно мнение эксперта. Мы поднимемся на девятый этаж. Полагаю, что лестницы уже готовы. Вроде бы их строят одновременно со всем остальным. Если с „Босолей“ ничего не выйдет, подыщу что-нибудь другое. Рабочих в воскресенье не будет. Кроме нас, никого… Естественно, он начнет задавать вопросы. Ведь мне нет никакого смысла покупать эту квартиру. А почему бы нет? Я хочу жить рядом с Ашрамом. Париж мне надоел. Впрочем, я последую примеру многих. Утром и вечером буду садиться на поезд. Или же добьюсь перевода в филиал Реймса…»
В дверь постучали, подергали за ручку. Андуз не двинулся с места. Шаги удалились.
«…Итак, мы одни. Я покажу ему первую попавшуюся квартиру. Скажу — вот эта… Затем мне останется только его слушать. В нем, конечно, проснется профессионал. И он захочет осмотреть каждую мелочь, в том числе лоджию или балкон. Я начну критиковать открывающийся вид. И вот тогда я встану за его спиной…»
Андуз сел. Он обессилел. Все это легко осуществимо и все же безрассудно. И реально и обманчиво, как сон. После автомобильной аварии у него как будто что-то заклинило в голове. Он ни на минуту не переставал слышать жуткий скрежет металла. Но затем все как в тумане. Он встал. Нет. С головой у него все в порядке… Тогда почему вот уже три недели он воспринимает все как бы со стороны? Словно некое стекло отделяет его от живых существ? Стекло, искажающее действительность. Через него он видит только врагов! Что побудило его столь внезапно попросить совершить над ним обряд крещения? Он мог бы это сделать гораздо раньше. Почему именно сейчас? Чтобы обрести силу исполнить то, что считал своим долгом? Да… да… только поэтому. Те, кто постоянно рискует… своей жизнью, будь то солдаты, пожарные или даже каскадеры, должны испытывать подобное чувство… сон наяву. «Я привыкну, — подумал Андуз. — Я укреплю свой дух. Ашрам или я. Но я уже ничего не значу!»
Он пообедал вместе со всеми в столовой, настолько переполненной посетителями, что пришлось приносить стулья. Чисто случайно он сел рядом с Фильдаром. Тот, прежде чем развернуть салфетку, быстро осенил себя крестным знамением.
— Как работа, движется? — рассеянно спросил Андуз.
— Так себе, потихоньку. К несчастью, эта тема неисчерпаема. Я вам разве не рассказывал?
— Нет. Не помню.
— Если в двух словах, то мне хотелось показать, что во всех античных религиях существовал Отец… Юпитер, Иегова, божество, которое нужно постоянно ублажать… Им на смену пришло христианство. Это — религия Сына, богочеловека и брата-мученика, которому постоянно нужно помогать… А сейчас наступила эпоха обновленной религии, религии Святого Духа, религии трансцендентного присутствия, ломающего границы, которые мы устанавливаем сами. Букужьян это хорошо понял. Он не глуп, немного путает понятия. Немного индуизма, немного христианства, чуточку иллюминизма…[16]
На другом конце стола Учитель что-то объяснял молодой женщине, сидящей от него справа. Фильдар потянул Андуза за рукав:
— Вы меня слушаете?
— Разумеется.
— Я прав или не прав?
— Мне кажется, правы.
— Истина неизбежно на моей стороне, потому что история движется в одном направлении…
Он нервно раскрошил бутерброд, лежащий перед ним.
— Что нам нужно — так это религия, свободная от своих оков, догм, непонятных обрядов. Иными словами, истинный католицизм!
— Вы остаетесь католиком?
Фильдар гортанно рассмеялся. У него затряслись плечи, но черты лица остались натянутыми.
— А разве это не видно?
— Я слышал, что вы хотите осуществить какой-то проект.
— А! Работа с трудными подростками. Я действительно кое-что задумал.
Он наклонился к Андузу и зашептал ему на ухо, не сводя глаз с сотрапезников:
— Ему это доставит удовольствие. Между нами. Я ему наскучил. На днях, вынимая платок, я уронил четки… Да, когда я работаю, мне нужно что-нибудь теребить. Нужно занять пальцы… Видели бы вы его лицо!
Он вновь рассмеялся, сохраняя маску мученика.
— Я и вас шокирую. Богу угодно, чтобы я шокировал людей. Таково мое призвание.
— Вы собираетесь уезжать?
— Позже. Позже.
Кончиком ножа он рисовал на скатерти загадочные фигуры.
— Вам, — продолжил он, — я могу сказать. Я предпочел бы, чтобы меня отсюда выслали. Мой епископ меня прогнал. Моя паства меня прогнала. Мне доставит удовольствие, если Ашрам отвергнет меня.
— Понимаю.
Фильдар был, казалось, потрясен. Он схватил Андуза за руку.
— Это правда?.. Вы меня понимаете?.. Вы не обманываете меня?.. Нам следует обстоятельно поговорить. Почему вы никогда не зайдете ко мне? Странно. Ко мне никто никогда не заходит.
Он нетерпеливо отодвинул блюдо, которое предложил ему Андуз.
— Спасибо. Я не голоден. Вы обратили внимание? Здесь каждый занят своими собственными проблемами. Никакого общения. Букужьян напрасно повторяет: «Нужно забыть о тщеславии». Каждый, наоборот, стремится стать маленьким богом для самого себя.
Андуз вежливо кивал головой и думал: «А его откуда столкнуть? С колокольни? Смешно… Тогда откуда?» Фильдар отвернулся от него, чтобы ответить соседу справа, полковнику в отставке. Андуз едва прикасался к еде. Пожилая женщина, сидящая слева от него, робко спросила:
— Вы часто приезжаете, мсье?
— Очень часто, — ответил он. — Практически на все субботы и воскресенья.
— Тогда вы, может, мне посоветуете. Меня сюда послала подруга… Потому что я потеряла сына… Когда я говорю «потеряла» — это не совсем точно… Он совсем рядом. Но он больше не появляется в том обществе, в котором вращаюсь я… Кажется, профессор — искусный медиум?
— О! Совсем нет. То есть не в том смысле, в каком вы это понимаете. Здесь не занимаются спиритизмом.
— Вы уверены?
Она устало опустила на скатерть морщинистые руки.
— Не знаю, к кому и обратиться, — прошептала она. — Бедный мальчик!
— Тише, — сказал Андуз. — Учитель будет говорить.
Букужьян несколько раз слегка постучал ножом по стакану. Разговоры сразу же стихли.
— После перерыва, — сказал он, — мы соберемся в зале заседаний. Вновь прибывшим я объясню, в чем заключается суть культа Митры, как мы его понимаем и как поклоняемся ему в наше время. До скорого свидания.
Пора. Андуз поднялся и быстро вышел. Никто не обратил на него внимания. Как только он вышел на дорогу, то свернул налево и увидел над новым жилым массивом, опоясавшим город, высокие стрелы подъемных кранов. Он почти бежал — так ему не терпелось убедиться, насколько осуществим его план. Чем больше он размышлял, тем больше полагал, что план вполне разумен. Само это слово вызывало смех, но он не мог подобрать другого, чтобы охарактеризовать столь эффективное и совсем не жестокое действие. Очевидно, опять вмешается полиция, так же как в случае с Ван ден Бруком. Но ей придется констатировать несчастный случай. Нет, полиции не стоит опасаться.
Нельзя сказать, чтобы комплекс «Босолей» был неудачно расположен. Он строился на отшибе, образуя правое крыло здания, окружавшее небольшую площадку, все еще загроможденную различными материалами, грудами кирпича, компрессорами и грузовиками. Андуз посмотрел на часы. Половина второго. Ни души. Стройка не охранялась. Из осторожности он изображал из себя случайного прохожего. Есть любопытные, которые замечают каждую мелочь, а ты об этом даже и не догадываешься. Вокруг строящегося массива стояли другие здания, вздымая ввысь ряды окон. Но все пока сидят за столом. И потом, отступать уже поздно.
Он вошел в нечто, что скоро превратится в вестибюль, но пока походило на дот. В глубине просматривалась неотделанная лестница. Он стал подниматься. На втором этаже квартиры были почти готовы, на третьем — работы еще хватало. Начиная с четвертого этажа по комнатам свободно разгуливал ветер. К плиточным работам еще не приступали, перегородки отсутствовали. Андуз высоко поднимал ноги, чтобы не испачкаться. Он поднялся на пятый, на шестой… Здесь проступала арматура, а на полу толстым слоем лежала пыль. Через зияющие отверстия город просматривался как на ладони. Вдалеке на фоне серого неба возвышался серый собор. Вот она, бездна, она окружала его. Андуз продолжал свой подъем, а она преследовала его по пятам. Она возникала на каждой лестничной площадке, в конце каждого коридора. Бездна разверзалась под ногами.
Андуз остановился на восьмом этаже. Дальше идти бесполезно. Он осмотрел квартиру, расположенную слева. Слишком большая для него… Пять комнат. Из комнаты в комнату переходишь, словно играешь в классики. Квартира в центре еще больше. Блезо никогда не поверит в серьезность намерений Андуза. К счастью, квартира справа оказалась поменьше. Три комнаты. Андуз внимательно осмотрел ее. Гостиная выходит на запад, правда, пока вместо окна зияет дыра. Балкона нет. Держась за шероховатый цемент, он боязливо высунул голову. Стена с головокружительной быстротой уходила вниз. Он сделал несколько шагов назад. Значит, действие развернется здесь. Но как? Следует все предусмотреть. Импровизировать он не умел. Будет достаточно одного толчка? Или придется ударить Блезо по ногам и выбросить через проем?..
Он сомневался еще и по другой причине. Он знал, что если первая попытка окажется неудачной, то он сломается. Он вновь подошел к проему, рискнул выглянуть наружу. Здание по другую сторону строительной площадки еще не заселили. Свидетелей не будет. Все соответствовало его плану. Значит, в воскресенье…
Он осторожно начал спускаться. Теперь у него сложилось впечатление, будто кто-то шел сзади и внимательно разглядывал его. Но это ветер гонял по лестнице мелкий строительный мусор. Очутившись внизу, он поднял голову, чтобы лучше измерить стену, затем приблизительно определил место, куда тело… На земле сплошь и рядом валялся цемент, песок, бумага. Как бы ему хотелось тщательно убрать под окнами. Как бы ему хотелось — что за бред! — чтобы архитектор отправился на тот свет, не испытывая боли, не испачкавшись, чтобы он не походил на те трупы, которые ему довелось видеть около своей разбитой вдребезги машины.
Разволновавшись, он ушел.
Блезо прогуливался в парке, куря сигарету за сигаретой. Андуз мысленно оценил его, прикинул, сколько тот может весить, словно видел его в первый раз. Максимум семьдесят килограммов. Сорок лет. Сухощавый. Крепкий на вид. Очевидно, легок на подъем, поскольку архитектору не привыкать ходить по пересеченной местности. Он подошел к нему сзади, посмотрел на спину. Блезо носил спортивную куртку с хлястиком. Этот хлястик послужит мишенью. Толкать нужно будет именно в это место. Блезо как бы почувствовал его взгляд, обернулся.
— А, здравствуйте. Что-то я вас утром не видел. Вы меня искали?
— Да. Мне нужен ваш совет.
— Но… для чего же тогда существует Учитель?
— Нет. Мне нужно знать мнение архитектора.
— О! А архитектор сейчас не в лучшей форме. По правде говоря, я совершенно пал духом. К тому же мой проект застройки крупной территории опять отвергли. И вы знаете, в чем меня упрекают? В том, что я слишком масштабно мыслю. В том, что я хочу использовать слишком много земли. А земля нынче дорого стоит. Держитесь от меня подальше, мой дорогой. Если хотите начать строительство, обратитесь к одному из моих коллег.
— Я хочу только купить, — сказал Андуз. — Я тут недалеко заметил строящееся здание… «Босолей».
— Знаю, — сказал Блезо, пожав плечами. — Архитектор Гамелен… на самом деле он только воображает из себя архитектора. Сам же не в состоянии построить газетный киоск. И вы хотите купить квартиру в этом комплексе? К вашим услугам!
— Я еще не решил. Ведь я ничего не понимаю в строительстве, а вы оказали бы мне услугу, если бы согласились сопровождать меня.
Блезо взял Андуза под руку.
— Хорошо. Пойдемте прямо сейчас.
— Ах нет! — испуганно воскликнул Андуз. — Нет. Незачем торопиться. Сегодня мне нужно просмотреть много писем. И потом, я не привык все делать наскоком. Лучше через неделю.
— Что ж. Значит, через неделю.
Слова теснились в голове Андуза. Ему хотелось сказать: «Поживите в свое удовольствие эту неделю. Извлеките из нее пользу. Неделя — это не много… Но для меня она будет длиться бесконечно. Я буду агонизировать вместо вас».
На следующий день Андуз почувствовал, что по-настоящему заболел, и в первый раз чуть не ошибся, заполняя счета. Его бросало то в жар, то в холод. Спина, затылок, даже уши покрылись потом. Он прекрасно осознавал, что с ним происходит. Что касается Ван ден Брука, то сам случай протянул Андузу руку помощи. Блезо — другое дело… Здесь следует продумать массу деталей, собрать их воедино, словно в хрупкий карточный домик. Не закончив дела, он вдруг замер. Нужно поехать в контору по продаже квартир в «Босолей». Естественно, нужно получить буклет, ознакомиться с ценами… Иначе Блезо удивится. Значит, необходимо как можно скорее вернуться в Реймс, причем не поставив никого в известность. Он извлечет выгоду из своей болезни. Если потребуется, он возьмет бюллетень на две недели… Он считал деньги и видел, как падает Блезо. Он летит плашмя, как парашютист. Ветер раздувает его спортивную куртку, и на спине у Блезо появляется нечто вроде трепыхающегося горба… Нужно также нарисовать схему, чтобы объяснить Блезо, как он себе представляет расположение комнат. Иными словами, ему предстоит влезть в шкуру реального покупателя.
Впрочем, идея не так уж глупа. Разве плохо жить рядом с Ашрамом и все свободное время проводить здесь, общаясь с Учителем? Ведь в конце концов, ради чего он старается?.. Чтобы спасти Ашрам, разумеется, обеспечить ему благодаря наследству Нолана продолжительное материальное благополучие. Но все же самое главное — это выведать у Учителя секрет его непревзойденного безразличия, этой радости, благодаря которой Учитель всегда, казалось, пребывал в невозмутимом настроении, как если бы он на все смотрел с высот внутренних небес. Значит, необходимо оставаться рядом с ним, подражать ему, копировать его. Посещать Ашрам один раз в неделю недостаточно. У Андуза появилось желание жить в Реймсе. Он взял лист бумаги и написал в столбик:
«Контора по продаже…
Предупредить Б…
Встретиться с ним в Париже…
Объяснить, почему он не должен ничего говорить о моей просьбе…
Уточнить расписание…»
Когда он писал, ему становилось спокойней. Он словно облегчал свою ношу. Во второй половине дня он предупредил заместителя директора, что не выйдет завтра на работу. О, только один день, он неважно себя чувствует и боится допустить ошибку…
— Сходите к врачу. Не запускайте болезнь. Вам следовало бы немного отдохнуть после аварии.
— Да, — сказал Андуз, — все-таки схожу к врачу.
Чудесно! Первое препятствие преодолено. Андуз почувствовал себя лучше. Но когда он увидел Леа, ожидавшую его около банка, то почувствовал сильное раздражение.
— Ты меня больше не узнаешь? — спросила Леа. — Рассердился?
— Нет же, — произнес Андуз раздосадованно. — У меня просто раскалывается голова.
— Бедняжка! Я тебя провожу. Прекрасно понимаешь, что я не брошу тебя в таком состоянии. Ты ляжешь в постель, выпьешь две таблетки аспирина вместе с чаем. Ты простудился?
— Нет-нет. Я просто переутомился.
— С тобой такое часто случается?
— Да. Я уже привык.
— Как же ты лечишься?
— Я лежу в темноте. Это лучшее лекарство.
Андуз не лгал. Сильные мигрени часто мучили его. Они начались много лет назад, когда умерла его мать, но после того как он доверился Учителю, они давали о себе знать столь редко, что он уже начал думать, что избавился от них навсегда.
— Может, возьмем такси?
— Нет, я лучше пройдусь.
Наступала ночь. Небо еще чуть краснело на самом горизонте.
— Почему бы тебе не взять отпуск?
Он молчал. Если бы он открыл рот, его прорвало бы. Он бы ей заявил: «Я хочу, чтобы меня оставили в покое, чтобы меня оставили наедине с моими мыслями. У меня дело, которое я должен провернуть в одиночку. Я должен убить человека!» Она прижалась к нему.
— Поль, я хочу тебе помочь. Я знаю, что ты от меня что-то скрываешь.
— Я? Я что-то скрываю?
— Да. Ты несчастен, потому что ты не нашел у Букужьяна того, что ожидал. Скажи мне, что у тебя не ладится?
Он гневно топнул ногой.
— Но, боже мой, в конце концов! У меня нет секретов. Вы везде видите секреты. Когда я возвращался из школы, моя мать мне говорила: «Поль, что-то случилось!» Я уходил с друзьями: «Поль, ты опять поссорился!..» А сейчас: «Поль, ты несчастен!» Так вот, я не несчастен. Нет. Я не разочарован. И Ашрам мне дает все, чего я от него ожидал!
— И тем не менее Букужьян разговаривал с тобой обо мне. Я в этом уверена.
Она мило, нежно упорствовала, и ему стало стыдно за свой гнев. Он предпочел согласиться с ней.
— Так вот почему вы пришли ко мне.
— Ты можешь называть меня на «ты».
— Хорошо, давай на «ты»… Что Учитель мог мне рассказать? А? Это тебя мучает.
— Я не люблю, когда за моей спиной шушукаются.
— Успокойся. Мы, как всегда, говорили об Ашраме, о строящейся гостинице, которая обойдется в бешеную сумму…
— Все?
— Да. Это все.
— Он тебе не говорил, что малышка Леа такая-сякая, держись от нее подальше?
— Но чего ты добиваешься?
Он рассмеялся и состроил гримаску.
— О-о. Это мне действует на нервы.
— Извини меня, Поль. Может, я напрасно обижаюсь? Но мы, женщины, о многом догадываемся. Я чувствую, что он относится ко мне с подозрением.
— И ты хочешь отдалить меня от него. Ты мне об этом уже говорила. Давай прекратим разговор на эту тему.
Они медленно поднимались по лестнице. У Андуза нога как свинцом налились. Он направился прямо к кровати, рухнул на нее и закрыл глаза. Леа ходила по квартире, передвигала кастрюли, зажигала газ. «С ней, — думал Андуз, — все станет сложнее. И все же хорошо, что она здесь. Приятно слышать шорох ее платья. Но это не для меня! „Что такое счастье?“ — как любит спрашивать Учитель».
Она вернулась, неся дымящуюся чашку.
— Пей, пока горячий.
Она присела на кровать.
— Тебе нужно раздеться и укладываться спать. Тебе помочь?
— Нет. Спасибо. Погаси свет… Леа… ты очень добрая. Но ты напрасно возишься со мной. Я этого не стою… Оставь меня, уходи… Так будет лучше для нас обоих. У нас с тобой ничего не выйдет.
Из окна в комнату лился свет уличных фонарей. Андуз видел силуэт девушки. Он задыхался. Слишком многое ему хотелось бы ей сказать.
— Ты меня не знаешь, — продолжал он. — Я, может, способен на такие вещи, которые…
— Не волнуйся… Пей… Медведь, вот ты кто. Злобный, нелюдимый… Видишь, я совсем не щажу тебя. Немного фанатичный… Разве не так?.. Признайся, что если бы Букужьян тебе приказал, ты бы облил себя бензином и поджег.
— Это тебя и привлекает?
— Да. Я пытаюсь понять. Это так противоречит моей натуре. Как можно посвящать себя целиком какой-то идее… идее… даже не имеющей никакого отношения к политике! Боевики Ирландской республиканской армии… члены Организации освобождения Палестины… да, я понимаю довольно хорошо, что ими движет… Это порождение несправедливости. Но тебя-то кто породил?
— Я сам, — сказал Андуз.
Она забрала у него пустую чашку и прошептала:
— Хорошо. Отдыхай. Ты уже не знаешь, что говоришь.
Он слышал, как она моет чашку, наводит порядок на кухне. Ощупью она поискала плащ, затем склонилась над ним и прикоснулась губами к его лбу.
— Постарайся уснуть, гордец!
Она ушла на цыпочках. «Гордец!» Это еще что такое? Он погружался в это слово, как в пучину. Гордец! Теперь он ничего не понимал. Гордец, который ничего не нажил… Гордец, который всегда останется трудолюбивым учеником и привратником монастыря, последним послушником… Слезы обожгли ему глаза. Он поднялся, чтобы принять снотворное.
Реймс!.. Он внезапно проснулся, и сразу же его охватило возбуждающее чувство тревоги, как в давние годы, когда он на следующее утро после каникул собирал свой портфель. Он заглянул в расписание, которое всегда носил с собой в бумажнике. Поезд отправлялся в десять часов восемнадцать минут. В полдень он пообедал в буфете. В привокзальном буфете никто не обратил на него внимания. Он тщательно оделся, взял демисезонное пальто и, подумав, прихватил с собой кейс. Он должен произвести впечатление серьезного господина, который очень спешит и который как бы случайно попал в контору по продаже недвижимости, чтобы прицениться, не имея твердого намерения покупать. О нем тотчас забудут.
Он выпил бы перед уходом чашку кофе, но у него болел желудок. На улице он почувствовал легкое головокружение. Ему стало не по себе, что он прогуливался, вместо того чтобы быть в банке. Когда он сел в поезд, то совсем стушевался. Он не знал, то ли он в отпуске, то ли ему предстоит совершить нечто весьма трудное, весьма необычное и в некотором роде весьма захватывающее.
Он пробежал взглядом по вагону забавы ради… ненужная мера предосторожности, так как он заранее знал, что знакомых среди пассажиров он не встретит.
В буфете оказалось мало народу. Чужие лица. Он проглотил бутерброд, от которого его тут же стало тошнить, зашел в кафе. Там он подождал, пока откроется контора. В пятнадцать минут третьего он навел справки. Большинство квартир в «Босолей» еще не было продано. Квартира на восьмом этаже справа стоила сто пятьдесят тысяч франков. Он получил всевозможную информацию, где расхваливалось удобное расположение здания, его естественное освещение, всякие другие привлекательные стороны.
— Будьте добры, ваша фамилия, мсье?
— О! Мне кажется, это преждевременно, — сказал Андуз. — Я хочу пока получить представление об установленных здесь ценах.
Он очень вежливо попрощался и вернулся на вокзал, избрав замысловатый маршрут, чтобы избежать опасной встречи. Достаточно набраться смелости, и все становилось до смешного простым. В Париж он вернулся на пассажирском поезде.
Блезо предавался размышлениям, стоя перед макетами зданий. Авровиль — Город утренней зари, звучит неплохо. Даже созвучно духу Востока, хотя немного смахивает на гостиничный стиль. Настоящими архитекторами можно назвать, безусловно, тех неизвестных мастеров, которые впервые построили романскую церковь, которая со всех сторон защищает человека. Так сложенные ладони укрывают язычок пламени. Только эпоха войн и великих страхов осталась позади. Наступили времена толпы. Католики соорудили ужасный сарай в Лурде, этот маленький ангар. Чтобы получить причастие, нужно оседлать велосипед. Современную церковь еще только предстоит построить. Вот она на столе. Пока еще в виде чертежей, где указаны все размеры… церковь, воплощающаяся в форме собора, простирающегося в глубину, ибо Митра — это потаенный бог, это свет в конце подземелья. Долгое странствие души, блуждающей в потемках внешнего мира, выражено с помощью вереницы лестниц, ведущих в залы для медитации, а извилистые коридоры заключают в себе скрытый смысл. Эти вдохновенные катакомбы образовывали лабиринт, выходящий к обитаемой центральной части здания — к быку, к крови, передающей энергию Вселенной и пульсирующей как внутри галактики, так и в артериях человека. Вот в чем заключается гениальность замысла. Базилика, вывернутая наизнанку. Но где найти мецената? Букужьян, безусловно, ворочал крупными суммами, однако он не так уж богат. И потом, он неверующий. Он настроен против массовой религии. Ему хватало узкого круга последователей. Он человек прошлого. Эзотеризм, откровение из уст в уста, это выглядит очень мило, но немного театрально. Блезо же смотрел намного дальше. Его взору открывалась современная Мекка, движение народов, планета, бьющаяся словно сердце, которая побуждает все новых и новых паломников отправляться на поиски истины. Циркуляция веры, диастола, систола. Вокруг святого места расположатся гостиницы, центры по приему гостей. Да там вырастет целый город! И Блезо уже знал, каким он будет. Утопия? Так значит, уже забыли, какие величественные церемонии проходили в Нюрнберге в эпоху господства свастики?
Зазвонил телефон, и Блезо вздрогнул, охваченный тревогой и надеждой. Он не сомневался, что однажды вдруг зазвонит телефон и звонок изменит его судьбу. Ему сообщат, что его проект рассмотрен и что найдены источники его финансирования. Блезо снял трубку.
— Алло… А, это вы, Андуз? Да, вечером я свободен… Хорошо. Буду вас ждать… До скорого.
Но звонил всего-навсего Андуз. Неплохой парень. Серьезный, аккуратный, но главное — по-настоящему убежденный. Этого малого следовало бы взять в союзники, если однажды дело примет серьезный оборот. Он вышел из — как он ее называл — своей лаборатории, закрыл дверь на ключ, но не из боязни или предосторожности, а потому, что эта комната была его святая святых, куда никто не смел входить, даже он сам, если пребывал в дурном настроении. «Он хочет, — подумал Блезо, — поговорить со мной об этой квартире, которую собирается купить. Смешно! Эта квартира свяжет его по рукам и ногам. Он слишком молод, чтобы обосноваться окончательно. Мне следует его отговорить. Это в его интересах». Он услышал шум лифта и пошел открывать.
— Здравствуйте. Вам повезло, что вы меня застали. Увы! Я здесь бываю не часто. Заказами меня не заваливают. Входите!
Андуз вошел в кабинет и с первого взгляда заметил царивший там беспорядок. Этот Блезо смахивал немного на подмастерье, немного на художника!
— Извините, — сказал Андуз, — что помешал… Я вам принес кое-какие бумаги.
Трясущимися руками он разложил на столе буклеты.
— На восьмом этаже есть небольшая квартира. По-моему, довольно удачно расположенная.
— Всю зиму вам в окно будет стучать дождь, — заметил Блезо. — Западный фасад — далеко не лучший вариант.
— Но цена приемлемая… сто пятьдесят тысяч франков… Ковровое покрытие, оборудованная кухня.
— Ерунда, — сказал Блезо. — Кухонный комбайн сломается через полгода, а через год от коврового покрытия останутся одни воспоминания. Я знаю качество работы Гамелена.
— Все ж… мы могли бы вместе осмотреть квартиру?
— О! Если вы так настаиваете! Но, черт возьми, что вы собираетесь делать в Реймсе? Здесь ужасно тоскливо.
— Да, тоскливо, — сказал Андуз задумчиво. — По правде, я еще не принял окончательного решения, вот почему мне важно, чтобы вы осмотрели квартиру.
— Вы говорили о своем намерении с Учителем?
— Нет, — поспешно воскликнул Андуз. — Ни в коем случае. И вас я прошу держать язык за зубами.
— Даю слово.
— В следующую субботу у меня много дел, и я не поеду в Ашрам, а в воскресенье как раз смогу заскочить в Реймс. Не возражаете, если мы встретимся в час перед «Босолей»? Рабочих на стройке не будет, и нам никто не помешает все спокойно осмотреть. Мне хотелось бы с этим закончить побыстрее.
— Судя по вашим словам, можно подумать, что этой сделке вы придаете чрезвычайное значение. Честное слово!
— Да уж немаловажное!
— Ба! Ну не подойдет вам эта квартира, так найдете другую. Эка невидаль. Я даже считаю, что вы напрасно бросаетесь на первое, что попалось под руку. Как вы собираетесь платить?.. Извините за вопрос, но я думаю, что вам имеет смысл взять ссуду. Ведь девальвация выгодно сказывается на выплатах… Вы удивлены? Вы никогда не задумывались над этой проблемой?
— Нет, — сознался Андуз, внезапно смутившись.
— Вы очень странный покупатель, — пошутил Блезо. — Значит, решено. В воскресенье.
— И никому ни слова, — настаивал Андуз. — Предположим, я передумаю. Как я буду выглядеть, если весь Ашрам узнает о моих планах? Скажут, что я сам не знаю, чего хочу… или начнут давать советы.
— Вы преувеличиваете!
— Но вы же знаете людей. Сплетни возникают даже на пустом месте.
— Ладно. Даю слово.
Блезо проводил Андуза. На пороге он остановился.
— На вашем месте, — прошептал он, — я бы не спешил. Квартира — это как женитьба. Конец свободе.
— Но кто свободен в этом мире? — спросил Андуз.
Прошла неделя. Он считал каждый день. В субботу он решил сходить к врачу. Мигрень не давала ему ни минуты покоя. Слишком глупо потерпеть неудачу в последний момент, не имея сил поехать на назначенную встречу. Он нашел в справочнике фамилию врача, живущего далеко от его дома: доктор Амьель. Им оказался человек неопределенного возраста, лысоватый. Его проницательные голубые глаза прятались за очками в массивной оправе. Андуз, стесняясь, описал симптомы болезни.
— Беда в том, — сказал врач, — что мигрень возникает по самым разнообразным причинам. Как аппетит?
— Не слишком хороший.
— Сон?
— Беспокойный.
— Пищеварение?
— Очень плохое.
— Что ж, посмотрим. Раздевайтесь.
Он долго слушал Андуза, постучал по коленям молоточком, осмотрел глазное дно, рот, горло, измерил давление, взвесил его.
— Ваши родители?
— Мама умерла лет десять назад от рака печени.
— А ваш отец?
Андуз запнулся.
— Тоже умер? — спросил врач.
— Не знаю. Он нас бросил много лет назад, когда я был совсем ребенком.
— Так. Думаю, что это сильно потрясло вас.
— Да, разумеется. Мы сняли другую квартиру. Мама пошла работать.
Врач сел за стол.
— Я не нахожу ничего существенного, — сказал он. — Давление низковато. Вы принимаете успокоительные?
— Снотворное.
— Вам никогда не приходило в голову проконсультироваться у невропатолога?
— По поводу мигрени?
— Совершенно верно. Ее могут вызвать психические факторы. Таких, как вы, обычно называют психопатами. Это бросается в глаза.
— Я психопат? — спросил недовольно Андуз.
— Случай довольно распространенный, учитывая, какую жизнь вы ведете!
— Как это понимать: жизнь, которую я веду?
— Вы мне сказали, что работаете кассиром. В этом и кроются причины нервного напряжения. Вы часто раздражаетесь без видимого повода?
— Да, такое со мной случается.
— Вот видите. А доводилось ли вам впадать в депрессию, в уныние?
— Как и всем остальным.
— Да что вы об этом знаете! Послушайте меня. Сходите к невропатологу. Я дам вам адрес своего коллеги.
Он начал писать. Андуз покусывал губы. «К невропатологу? Никогда! Пусть психи к нему и ходят. А я пока вполне в здравом уме. Да, возможно, я раздражителен. У солдата, ожидающего час атаки, нервы сжимаются в комок. Но я знаю, чего хочу и как это осуществить. Я прошу его всего лишь снять эту боль в висках».
— Вот вам таблетки… Принимайте одну во время обеда и две перед сном. Не садитесь за руль. И позвоните доктору Марескье. Выписать бюллетень?.. Тогда вы сможете выбраться за город, а вам это так необходимо. На десять дней?.. Лучше на две недели.
Андуз спускался по лестнице, сжимая рецепты и бюллетень. Его мысли напряженно работали. Бюллетень пришелся как раз кстати. Через три-четыре дня он обоснуется в Ашраме и уже на месте станет следить за ходом полицейского расследования, а также займется Фильдаром… Ведь после Блезо наступит очередь Фильдара… С другой стороны, он поступит благоразумно, если будет держаться подальше от Леа. Она уже учуяла, что от нее что-то скрывают. Одно лишнее слово, и она поймет… Хотя скорее так и не поймет. Никто не в состоянии понять! Но она примется искать. Двое погибли с интервалом в одну неделю. Причем оба ехали в «Рено-16»… Но догадается ли она сопоставить факты? И даже если догадается… Голова болела все сильнее. Он купил в аптеке прописанное ему лекарство и вернулся домой.
Оставалось восемнадцать часов и несколько минут. Он съел два банана и проглотил таблетки. Потом прочитал аннотацию к лекарству. Его всегда восхищали своей непроницаемостью эти заумные тексты. На этот раз названия компонентов показались ему особенно отвратительными. Хотя речь шла всего-навсего об успокоительном средстве. Он поискал радиостанцию «Франс-мюзик», надел пижаму и вытянулся на кровати, скрестив руки на затылке. Сейчас бесполезно делать какое-либо упражнение. Потом! Когда список жертв будет исчерпан. Когда уедет американка. Когда Ашрам окажется в безопасности. Ван ден Брук, Блезо, Фильдар уже стоят у врат рая и готовятся к новой жизни. Они поймут, простят… Его сморил сон.
И наступило воскресное утро, такое солнечное, что сердце наполнилось грустью, ведь стояла поздняя осень, деревья сбросили последние листья, небесная голубизна казалась столь хрупкой, столь уязвимой. Андуз чувствовал себя утомленным, отупевшим под действием успокоительного. Он забыл выключить приемник. Из него лились звуки знакомой мелодии… возможно, Бетховен… Он зевнул, заставил себя сесть. В голове — туман, тело словно ватное. Что за бредовая идея — проглотить сразу две таблетки. Этот день казался ему гладкой стеной. Забраться на самый верх! Он мысленно представил себе квартиру на восьмом этаже. «Не могу! Я не убийца!» — подумал он. И тем не менее он оделся, с трудом выпил чашку кофе. Руки двигались помимо его воли. Он делал тщательно и прилежно все то, что ему не хотелось делать. Сейчас хозяином положения стал другой Андуз. На улицу он вышел слишком рано и пешком отправился на Восточный вокзал. Но вскоре, сраженный усталостью, спустился в метро.
Ватага мальчишек с мячами весело направлялась к спортивной площадке. Воскресный праздник для пленников города! Они-то сбегут. Он же походил на подсудимого, которого приковали цепью. Он побродил по вокзалу, выпил еще одну чашку кофе, не переставая думать о Блезо, который где-то там тоже собирался в дорогу, не ведая, что ему — Андуз посмотрел на часы — оставалось жить всего три часа. При условии, что все сложится благополучно!
Время от времени Андуз сжимал и разжимал кулаки, как бы проверяя, сколько сил у него осталось. Он проглотил кружку пива, поскольку кофе оставил во рту горький привкус. Затем, как только подали состав, он вошел в вагон. Его тянуло в сон, как он ни старался взбодриться; тогда он заставил себя встать в проходе, мешая пассажирам, задевавшим его чемоданами.
Наконец поезд тронулся. Андуз задремал, но он настолько хорошо знал дорогу, что смутно слышал, как грохочут мосты, как гудит железнодорожное полотно, и открыл глаза в тот момент, когда состав въезжал в Реймс. Пора. Он сошел с поезда, тревожно озираясь по сторонам. Сейчас совсем не время встретить кого-либо из Ашрама. Он пошел по улицам, опустевшим в обеденные часы, остановился перед витриной магазина, чтобы взглянуть на свое отражение. Он казался спокойным. Наконец он направился в «Босолей». Среди брошенных вагонеток бродила собака. На стройке, как он и предполагал, ни души. При входе в здание, сидя на груде кирпича, его уже ждал Блезо. Он пошел навстречу Андузу, пожал ему руку.
— Ну как, полный порядок? — спросил он.
Андуз был не в силах ответить.
— Пойдем? — с энтузиазмом вновь спросил Блезо.
— После вас, — пробормотал Андуз.
Блезо останавливался на каждом этаже, стучал ладонью по перегородкам. «Ну и халтура! Через пятьдесят лет здание пойдет на слом. И вы собираетесь здесь купить квартиру!» Андуз шел за ним, настолько уставший, что держался за стены. Блезо бросал на ходу:
— О! Попробуйте сами. Я отвечаю за свои слова. Никакой звукоизоляции! Вы услышите, как за стеной чихают!
Он рыскал всюду, шарил в каждом углу. Еще четыре этажа. Время от времени Андуз посматривал на часы.
— Я еще не обедал, — заметил он, — и, потом, я должен вернуться в Париж.
— И то правда. Извините. Я вас задерживаю… говорю… говорю… Но когда я вижу их нынешнее творчество, то выхожу из себя. Мне просто необходимо высказаться.
На шестом он остановился.
— Послушайте, Андуз. Вы славный малый. Давайте я вам что-нибудь подберу. Я найду вам квартиру. Время у меня есть. Мне не хочется, чтобы вы бросали деньги на ветер. Да что с вами?
— Мне нездоровится, — сознался Андуз.
— Тогда дальше не пойдем. Я уже достаточно посмотрел, и у меня сложилось определенное мнение.
— Нет. Нет. Мы уже почти у цели.
— Да вы не стоите на ногах, старина.
— Ничего. Я напрасно не позавтракал утром.
— Тогда давайте быстрее. А потом я отвезу вас обедать.
«Замолчи же, — умолял Андуз про себя. — Замолчи. Ты не понимаешь, что, если бы не Ашрам, я мог бы стать твоим другом. Я твой друг…» Эта фраза стучала в голове. Он все повторял ее, пока они взбирались на восьмой этаж.
— Направо, — пробормотал он. — Квартира справа.
Блезо вошел первым. Андуз остановился на пороге. Мужество его покинуло. И неудивительно! Если бы не эта катастрофа! Если бы братья Нолан остались в живых! Вот цена за неудачный поворот руля! Какая высокая цена! Он подошел к Блезо, который вертелся вокруг своей оси посередине гостиной, рассматривая с недовольным видом потолок.
— Нет, — сказал он, — покупать здесь — просто глупо. Зимой здесь холодина, а летом — парилка.
— Зато прекрасный вид из окна.
— Согласен. Но он вам вскоре надоест.
Блезо подошел к проему. Один шаг, другой. Пустота его не пугала. Он встал, расставив ноги, поискал сигарету в кармане. Сейчас обе руки его будут заняты. Андуз, мертвенно-бледный, стоял сзади.
— Скоро начнется строительство нескольких комфортабельных домов, — сказал Блезо, — недалеко отсюда, слева от дороги, ведущей в Лион. Сейчас я вам покажу…
Он вытянул руку.
— Видите эти деревья там, позади водонапорной башни? Архитектор — один из моих друзей. Я могу с ним поговорить.
Он зажал сигарету губами, вытащил зажигалку и прикрыл ладонями пламя.
Как все произошло, Андуз не помнил. Только что перед проемом стоял человек. Теперь там никого не было. Он остался один. Он напряженно прислушался, словно считал секунды, разделяющие сверкнувшую молнию и раскаты грома.
Падение не наделало большого шума. Его собственное сердце стучало куда сильнее. Каждое биение походило на удар. Все кончено. Блезо переступил черту. Он очутился по ту сторону. Он познал истину. Теперь он обрел покой, и Андуз завидовал ему. Он упал, разбился, но все это всего-навсего перипетии… гримасы смерти. Нужно уметь распознать сущность явлений, как неустанно проповедовал Учитель. Возвращение к Вечности… вот единственная реальность. Хороши любые пути, ведущие к ней…
Андуз быстро спустился. Осторожность требовала, чтобы он покинул это место как можно скорее. Он сделал невероятное усилие, чтобы не смотреть туда, куда… Все же краем глаза он заметил, как оседает облако пыли. Очутившись вдалеке от стройки, он зашел в кафе и взял рюмку коньяку. От алкоголя на глазах выступили слезы. Он совершенно успокоился. Словно разум окутала ночь. Ни мыслей, ни образов. Сладострастная потребность погрузиться в сон. Он вышел. Ноги сами довели его до вокзала. Он ощущал себя безобидным кусочком дерева, плывущим по течению.
— Алло! — произнес инспектор Мазюрье. — Вот уж не ожидал!.. Что новенького в Ашраме?
Зажав плечом телефонную трубку, он спокойно набивал табаком трубку.
— Блезо?.. Да, понял… Но чего вы, собственно говоря, опасаетесь?.. Ба! Он не пришел на ужин, хорошенькое дело!.. Так, подведем итог. Вчера он вышел около половины первого. И с тех пор не появлялся. Вы звонили в Париж. Безрезультатно. Я правильно излагаю?.. Да, я знаю. То же произошло с Ван ден Бруком… Но это еще не довод… Минутку. Прошу прощения. Меня вызывают по другому аппарату.
Он подошел к внутреннему телефону.
— Это ты, Бернар?
Он чиркнул спичкой и так и оставил ее гореть, забыв, что собирался закурить.
— Думаешь, самоубийство?.. Хорошо… У меня как раз Букужьян на проводе. Этому типу принадлежит замок в Сен-Реми, где жил Блезо… Ты беги скорее, я его предупрежу.
Он опустил трубку на рычаг. Желание курить пропало. Он вернулся к разговору с Букужьяном.
— Алло!.. Мсье Букужьян… У меня для вас плохие новости. Рабочие только что обнаружили тело вашего друга… Да, он умер… Это произошло недалеко от вас. Здесь строится дом, «Босолей»… Блезо выпал из окна одного из последних этажей… Простите?.. Именно это следствие попытается установить, но на первый взгляд можно склониться к гипотезе о самоубийстве… В противном случае — что он делал в этом здании?.. Хорошо. Жду вас.
— Вот так история, — произнес он, вновь раскуривая свою трубу. — Опять Букужьян со своим Ашрамом! Продолжение не замедлило последовать.
Он открыл центральный ящик стола, порылся в бумагах. Куда он сунул досье на Букужьяна? Впрочем, сведения там весьма скудные. Обычное досье, какие заводят в полиции. Ах да! Вспомнил. Он приколол его к копии рапорта жандармерии об автокатастрофе на автомагистрали 380. Привычка! Мания коллекционировать! Но незначительных деталей не существует… Посмотрим! Букужьян Базиль… американский гражданин… В паспорте указан год рождения — 1914-й… Родился в Требизонде… Доктор наук. Ничего примечательного! Человек так и не раскрыл своей тайны.
Инспектор быстро перечитал рапорт. В «Рено-16» они ехали вчетвером, и из четверых двоих уже нет в живых. Среди пассажиров пострадавшего «ситроена» тоже двое погибших: братья Нолан, американские граждане, и один оставшийся в живых: Поль Андуз. Он-то и вел машину. Обычное дорожно-транспортное происшествие, виновником которого был не только Андуз, но также Блезо. Он допустил ошибку, когда слишком резко затормозил. Впрочем, вина ложилась и на неизвестного крестьянина, небрежно сложившего свеклу в повозку, и, в конце концов, на дорожно-строительное управление, не отремонтировавшее этот участок дороги из-за нехватки средств. Блезо замучили угрызения совести?.. Может, он считал, что авария произошла только по его вине?..
— А! Бернар! Наконец-то. Рассказывай.
— К несчастью, — сказал молодой инспектор, — рассказывать нечего. Придя на стройку, рабочие сразу же обнаружили труп. Сколько времени он там пролежал?.. Если хотите на него взглянуть, то он в морге. На данный момент больше ничего не известно. Я осмотрел дом. Но как определить, с какого этажа он упал? Безусловно, с одного из верхних этажей… Я склоняюсь к версии о самоубийстве, но, подумав, можно предположить, что он хотел осмотреть здание. Судя по его документам, он архитектор, и тогда…
— Вернись туда, мой славный Бернар. Расспроси соседей. Может, кто-то видел, как он пришел.
— Соседи находятся далеко, патрон. Если только кто-нибудь совершенно случайно…
— Это ничего не значит. Разузнай. Кто знает. В этом деле… э-э… как бы это сказать…
Он поднес руку к носу, словно вдыхал аромат вина.
— …Я что-то чувствую…
Он проводил Бернара до двери.
— Я вернусь ближе к вечеру. Сам понимаешь: морг, замок, рапорт и, вероятно, отчет дивизионному комиссару, ведь владелец замка Сен-Реми — это далеко не первый встречный.
Он заметил Букужьяна, стоящего в конце коридора.
— Давай… Беги… И постарайся что-нибудь найти.
Он сделал знак Букужьяну:
— Сюда, мсье профессор. Входите, прошу вас… Мне не нужно вам объяснять, как я огорчен… Садитесь… На ваш дом обрушивается несчастье за несчастьем… Пока я вас ждал, я ознакомился с делом… Из семи четверых нет в живых.
Букужьян нахмурил густые брови.
— Из семи четверых нет в живых?
— Ну да! Семеро попали в автомобильную катастрофу… Четверо ушли из жизни: братья Нолан, затем Ван ден Брук и, наконец, Блезо… Пока я не решаюсь давать какие-либо объяснения, но все мне представляется странным. Расскажите мне о Блезо.
— Это был хорошо успевающий ученик, — сказал Учитель, — и… вы уж меня простите, я очень взволнован… Добровольно уйти от нас он не мог.
— Почему?
— Месяц назад он стал Гелиодромом.
— Простите?
— Гелиодромом… то есть он достиг определенной степени посвящения. Мне трудно дать более точное пояснение.
— То есть, говоря без обиняков, по-вашему, он не покончил с собой.
— Нет. Речь может идти только о несчастном случае.
— В том-то и дело, мсье Букужьян… С некоторых пор у нас слишком много несчастных случаев.
Мазюрье разжег трубку, не сводя глаз с Учителя, который оставался бесстрастным, как статуя.
— Итак, — сказал он, — начнем все с самого начала. Сначала братья Нолан. Расскажите мне о них.
— Здесь все проще простого. Я познакомился с Патриком в Лос-Анджелесе. Он вернулся из Вьетнама не только с израненным телом — ему приходилось ходить с костылем, — но и с искалеченной душой.
— Стал неврастеником? — уточнил Мазюрье.
Учитель слегка улыбнулся.
— Это гораздо сложнее, но, чтобы упростить, скажем, что он стал неврастеником. Я там организовал Центр духовных знаний, и Патрик привязался ко мне, как… короче, я стал его духовным наставником… Понимаете?
— Вполне. Когда вы вернулись во Францию, он решил последовать за вами.
— Приблизительно так.
— Расскажите мне, что произошло в день автомобильной катастрофы:
— Как вы знаете, Патрика сопровождал его брат Че, потому что он с трудом передвигался. Мы пообедали в Париже вместе с Андузом, моим секретарем. Патрик вручил мне чек, потому что хотел передать в дар Ашраму определенную сумму.
— Большую?
— Десять тысяч долларов.
— Черт возьми! Он был очень богат?
— Да. Их отец создал сеть магазинов, и Че продолжал его дело. Патрик был счастлив, словно жених, подаривший невесте кольцо. Ашрам так много для него значил.
— Извините, мсье Букужьян, вы часто получаете такие дорогие подарки?
— Нет, и я очень сожалею об этом, так как, если верить Андузу, мы живем не по средствам. Но мы рассчитываем на то, что вы называете Провидением.
Инспектора забавляла эта беседа. Он никогда еще не встречал более колоритной личности.
— И как же проявляется ваше Провидение?
— О! По-разному. Порой кое-кто составляет завещание на мое имя. Как, например, Патрик… Иногда мне оставляют в наследство недвижимость. Такое уже случалось. Я всегда бедствовал, и мне всегда приходили на помощь в нужный момент.
— Вам везет! Что же дальше?
— Дальше… Мы расстались в половине третьего. Я оставил их на попечении Андуза, который должен был им показать Париж. Я же отправился читать лекцию. Больше в живых я их не видел.
— Четверо пассажиров «Рено-16» знали их?
— Нет. Совершенно случайно «ситроен» Андуза в какой-то момент оказался позади машины Блезо.
— Случайно, да не совсем, потому что все направлялись в Ашрам. — Мазюрье отодвинул рапорт и выбил трубку. — У него есть семья? — продолжил он.
— Мать. Она живет в Дижоне. Я не помню ее адрес, но могу сообщить его вам по телефону. Я думаю, что его похоронят там.
— Его материальное положение?
— Он не много работал, но деньги у него водились.
— Естественно, он дружил с тремя остальными?
— Дружил? Не знаю. Не уверен.
— Вы же не станете утверждать, что они тоже случайно оказались в одной машине.
— Думаю, именно так и произошло. Блезо просто спросил, не хочет ли кто-нибудь поехать с ним.
— Подведем итог, — вдруг нетерпеливо воскликнул инспектор. — Волей случая две машины следуют одна за другой. В этих машинах сидят люди, случайно очутившиеся вместе. Случайно происходит катастрофа. Сначала случайно гибнут два человека. Затем по очереди еще двое, тоже случайно. Нет! Так не пойдет!.. И вы, профессор, ничего не знаете?.. Между тем утверждают, что у вас исключительные способности.
Учитель поднял толстую, массивную руку.
— Я не шарлатан, — сказал он. — Вы меня очень обяжете, если впредь не будете об этом забывать.
— Извините… В конце концов, мы столкнулись с классической серией происшествий… Бог троицу любит. На сегодня все. Но прошу мне разрешить посетить замок, когда я сочту это необходимым.
— Вы всегда желанный гость.
Андуз отослал в банк заявление с просьбой предоставить отпуск по болезни и заключение врача. В чемодан он положил белье, которое понадобится ему в Ашраме. Несколько раз он пересчитывал рубашки, носки, носовые платки. Его не покидало ощущение, что он обязательно что-нибудь забудет. Он никак не мог унять легкую дрожь в руках. Он ни о чем не думал, но руки помнили! Он закрыл ставни, отключил счетчики, обошел квартиру, еще раз проверил счетчики. Он находился так далеко от всего этого.
Чемодан показался ему столь тяжелым, что он взял такси. Тот же самый вокзал, тот же самый поезд, как будто все повторялось вновь. Он принялся педантично выбирать место, желательно где-нибудь посередине вагона. Сейчас он простой бухгалтер, старый холостяк, мелочный человечек с разными причудами, которые одновременно защищали его и успокаивали. Время от времени в памяти всплывало это имя: Фильдар! Но Андуз не давал воли воображению, приводил в действие засовы, замки, как в банке, когда он запирал сейф. Он закрыл глаза, чтобы не видеть мелькающие станции, знакомые пейзажи, напоминающие о том, что Реймс приближался. Он попытался думать о Леа. Леа — это оазис в пустыне. Кто знает… может, потом, позже… когда все будет кончено… он сможет вновь ее видеть, встречаться с ней… Просто чтобы иногда, наспех, получить от жизни то, на что другие мужчины имеют право каждый день… присутствие женщины, шелест юбки, духи… Большего он и не требует. Теперь он навсегда лишен права требовать. Он даже перестанет желать этих откровений, внутренних перевоплощений, которым Учитель обещал научить своих учеников. С болезненной остротой он понимал, что метил слишком высоко. Но он чувствовал себя обязанным защитить Учителя. Его миссия заключалась в самопожертвовании. Так солдат подрывает мост и гибнет сам…
Реймс… Приехали. Нужно выходить, придать лицу выражение ничего не знающего человека. «Блезо?.. Умер?.. Не может быть!..» Он сел в такси, низко наклонил голову, когда машина проезжала мимо стройки. «Прости!» — сказал он про себя. И вот перед ним длинная аллея поднимается к Ашраму. Символично! Он принадлежал к числу тех, кого впереди ждало восхождение. Бедный, жалкий Христос, воплощающий преданность и верность. По пути он встречал учеников, которые приветливо здоровались с ним. Здесь он пользовался уважением, и эта мысль придала ему немного уверенности. Он поставил чемодан в кабинете и тотчас отправился к Учителю.
— Надо же! — удивился Учитель. — В понедельник?
— Я взял отпуск по болезни на две недели.
— Что-нибудь серьезное?
— О нет! Переутомление, усталость, мигрень. Вчера весь день провалялся в постели.
— Ты в курсе, что у нас случилось?
Андуз довольно хорошо изобразил удивление. Поднял брови. Слегка скривил рот.
— Что?
— Блезо умер.
— Ах! Какой ужас! Сердечный приступ?
— Нет. Упал из строящегося здания «Босолей». Это совсем рядом.
Андуз сел, продолжая разыгрывать непонимание.
— Но что он там делал?
— Вот этого… боюсь, мы не узнаем никогда. Я оповестил его мать. Похороны состоятся в Дижоне. Ты поедешь со мной?
Андуз с опаской посмотрел на Учителя. Почему он задал этот вопрос?
— Я неважно себя чувствую, — ответил он.
Но нет, Учитель спросил это без всякой задней мысли. Он выглядел как обычно. В больших неподвижных глазах отражался свет, падающий из окна.
— Я доволен, что ты приехал, — сказал он. — Я должен чувствовать ваше присутствие. Сегодня вечером мы соберемся. На Западе люди не знают, как должны происходить похороны. Покойника кладут в коробку, его перевозят, обращаются с ним, как с вещью. Мне хотелось вам как-нибудь показать обряды, которые нужно совершить, чтобы помочь усопшему обрести новое состояние. Это очень важно, особенно если он умер насильственной смертью.
— Почему? — спросил Андуз дрогнувшим голосом.
— Потому что дух страдает, когда грубо отделяется от тела.
— По вашему мнению, Блезо будет страдать?
— Да. Он, Ван ден Брук, братья Нолан… Все наши друзья, насильно вырванные из этой жизни и не успевшие принять… ранние христиане об этом уже знали, что и подтверждает таинство соборования. Но сам смысл таинства забыт, как и многое другое.
— Ужасно… мне… мне жаль их.
Учитель показал на десяток писем, лежащих стопкой около пишущей машинки.
— А вот тебе и работа. Но время терпит.
Андуз вскрыл письма. У Учителя никогда нет ничего срочного. Несколько счетов, как всегда. Письмо от предпринимателя…
Смета…
— Что это такое?
— Я собираюсь, — сказал Учитель, — оборудовать новое помещение для освежевания туш, пристроить один этаж к гостинице. К нам приезжает столько гостей!
— Сто пятьдесят тысяч франков! Где вы хотите, чтобы я их взял?
— Наследство Нолана.
«А если мне не удастся избавиться от Фильдара, — подумал Андуз, — если я не придумаю как?.. Если я заболею! Если все брошу. Очень легко витать в облаках, а другим предоставлять возможность месить грязь!»
— Наследства Нолана, возможно, мы не получим, — заметил он.
— Хватит тебе, Поль!.. Вечно ты со своими сомнениями. Ты знаешь так же хорошо, как и я, какие распоряжения сделал Патрик.
Учитель ничего не понял. Ни смерть Ван ден Брука, ни смерть Блезо не вызвали у него подозрений. Какая прелесть эта высокая метафизика. Или он просто ничего не хотел знать… Нет, это предположение выглядело оскорбительным. И все же Андуз продолжал настаивать.
— А если вдова Че в последний момент начнет чинить препятствия?
— Какие препятствия? Условия завещания совершенно недвусмысленны. И потом, не забывай, она и так очень богата. Наконец, вы все можете подтвердить свои свидетельские показания.
— Наши свидетельские показания!.. К несчастью, остался только Фильдар и я.
— А малышка Фонтана?
— Леа?.. Она ничего не видела.
Уступая внезапному желанию вызвать беспокойство у Учителя, затащить его силой в эту грозовую полосу, где он уже чувствовал себя потерянным, он вдруг забыл всякую осторожность.
— Она ничего не видела, — повторил он.
— Но послушай, ты же сам говорил…
Большие глаза Букужьяна оживились. Он наклонился вперед.
— Я-то там не присутствовал. Я знаю об аварии с твоих слов… Ты же не ошибся!
Наконец он соизволил покинуть башню из слоновой кости! Андуз горько улыбнулся:
— Нет. Я не ошибся. Не бойтесь.
Ему хотелось добавить: «Предоставьте мне эту гнусную работу. Возвращайтесь к вашей медитации!»
— Ладно, ладно, — произнес Учитель. — Нечего беспокоиться напрасно… Ты можешь поселиться в комнате рядом с Фильдаром. Я думаю, она свободна. Пока ты отсутствовал, я отдал твою комнату одной англичанке…
Он перечитал лист бумаги, вставленный в пишущую машинку, всем своим видом показывая, что разговор закончен, и вновь принялся печатать. Андуз отнес почту к себе в кабинет. Если Учитель прошел мимо истины, то это лишний раз доказывает, что полиция в этом деле вообще не разберется. Никто не мог догадаться, что существовала связь между братьями Нолан, Ван ден Бруком, Блезо… И эта связь не станет более очевидной, когда Фильдар в свою очередь…
Андуз листал страницы перекидного календаря. Восемь страниц! Столько событий поместилось на этих восьми страницах! Красным карандашом он пометил приблизительный день приезда вдовы Нолан. Так мало времени! И ни одной идеи! Он долго размышлял. Фильдар почти никогда не покидает Ашрама. А убить его в стенах замка совершенно невозможно. Здесь слишком много людей, которые постоянно перемещаются. Перво-наперво: неустанно следить за Фильдаром, чтобы досконально изучить его привычки.
Андуз взял чемодан и пошел по коридору. Свободная комната находилась в самом конце… не столько комната, сколько келья. Это вполне в духе Учителя — всем распоряжаться, бестолково импровизируя — на ходу. Андузу нравилась комната, которую он занимал по выходным. Теперь он почувствовал себя бедным, ограбленным, униженным. Он пощупал жесткую кровать-клетку, которая скрипела. Как работать в таких условиях! К тому же в комнате отчетливо слышался стук машинки. Ведь за стеной, толщиной с ладонь, Фильдар что есть мочи печатал свой манускрипт. Звенел колокольчик, когда каретка доходила до конца.
«Я не имею права даже на головную боль», — проворчал Андуз.
Шкаф оказался совсем крошечным, умывальник висел слишком низко. Окно выходило на стройку, где уже начали возводить гостиницу. Вагонетки, груды кирпича, мешки с цементом, как на той, другой стройке! Это превращалось в навязчивую идею.
«Я не выдержу, — подумал Андуз. — Я ненавижу этот дом. Я ненавижу Фильдара. Я даже сам себя спрашиваю: уж не ненавижу ли я иногда Учителя?» Он сжал кулаки, несколько раз пробежался взглядом по узкому пространству между дверью и окном. Убить Фильдара! Чтобы обрести покой! Смертельный удар, нанесенный самому себе. Затем… жизнь вновь обретет свои краски. Он перестанет считать дни. Будущее откроется, как бегущая среди цветов и деревьев тропинка. Да, он должен ненавидеть Фильдара всеми силами души, рассматривать его как личного врага. Чем дольше стучала эта проклятая машинка, тем глубже она проникала в его сознание и тем легче становилась задача.
Фильдар прекратил печатать. Он прохаживался по комнате от окна к двери и от двери к окну, посасывая пустую трубку. Его грубые ботинки громко стучали по полу. Временами он принимался разговаривать сам с собой, останавливался и возражал себе: «Да, но извините…» Он пожимал плечами, вновь принимался ходить. Или же стучал правым кулаком по левой ладони. Приняв вдруг внезапное решение, он вырвал из машинки бумагу, скомкал ее, бросил через всю комнату, нервно вставил новый лист, сел на край стула и начал: «Примечание 14. Показать, что доктрина Букужьяна есть не что иное, как пантеизм. Но Букужьян боится называть вещи своими именами…»
В стену постучали, приглушенный голос крикнул:
— Вы когда-нибудь закончите?.. Пора спать!
Удивившись, Фильдар приподнял рукав и посмотрел на часы. Половина одиннадцатого. Он услышал, как заскрипела кровать в соседней комнате, как зашлепали босые ноги, и вскоре чья-то рука возмущенно дернула за ручку двери. Он открыл.
— Андуз!.. Я думал, вы в Париже… Когда вы приехали?.. На ужине вас не было… Заходите, старина.
— Я заболел, — сказал Андуз. — Какое-то время проведу в Ашраме. Понимаете, мне нужен покой… Вы обычно работаете допоздна?
— По-разному.
Фильдар пододвинул ему единственный стул, а сам сел на кровать.
— Присаживайтесь. Я сейчас очутился в мерзкой ситуации.
Он показал на машинку, на бумаги, разбросанные на столе.
— Пытаюсь разобраться, но окончательно запутался в противоречиях. Вы знаете, почему я отказался от своего сана?.. Извините, мне нечего вам предложить, но вы можете курить… если угодно. Современная церковь больше не верит в сверхъестественное. Видения, чудесные выздоровления, изгнание бесов… все это выброшено на свалку… Существует человек, существует Бог, и между ними — ничего!
Он резко вскочил, обошел комнату, сложив руки за спиной.
— Между тем, — продолжил он, — согласно традиционным учениям, между ними простирается мир, где царят духи, некие силы воздействия. И с ними следует считаться. Вера — это хорошо. Но при условии, что она опирается на науку о невидимом. Религия, отрицающая философию магов, не имеет корней.
Андуз кашлянул, чтобы напомнить, что он здесь и что ему в легкой пижаме совсем не жарко.
— Вы следите за ходом моей мысли? — спросил Фильдар. — Хорошо. Теперь возьмем Букужьяна. Прежде всего, чему оригинальному он может нас научить?.. Все его знания почерпнуты в веданте, суфизме[17] и даже — что далеко ходить — в произведениях Генона. И к чему сводится его учение?.. К тому, что якобы Я растворяется в Себе, в Едином, но не исчезает там. Так вот: нет. Я говорю: нет. Одно из двух: или Я — только видимость и Я просто-напросто теряется. Тогда мы с вами есть не что иное, как иллюзия. Или Я вполне осязаемо, и тогда не существует Себя, Единого, не существует Бога-создателя. В этом заключается фундаментальная дилемма, и, на свою беду, я не могу сделать выбор. Мне нужна философия магов, и мне нужен личный бог. Что вы об этом думаете?
Андуз горько улыбнулся.
— Вы неудачно выбрали собеседника. Я плохой мыслитель. Для меня истина в том, что Учитель — это как раз тот самый человек, каким я стремлюсь стать… потому что… ну… потому что он не похож на других… потому что он выше их… А вы действительно верите, что все то, что вы мне только что объясняли, имеет грандиозное значение?
Фильдар подпрыгнул, как будто его ударили.
— Грандиозное значение? Нет, старина. В этом заключается вся моя жизнь. Если я ошибаюсь, значит, я просто несчастный человек.
Он развязал кисет.
— Возможно, я несчастный человек… Я признаюсь вам кое в чем, Андуз. Только между нами… Впрочем, если вы кому и скажете, мне плевать… Я всегда себя ощущаю священником. Это и есть доказательство существования сверхъестественного. На мне как бы поставили клеймо, в самых глубинах моего существа.
Он раскурил трубку, выпуская небольшие клубы дыма. Потом раздавил спичку каблуком.
— Временами, — продолжил он, — во мне звучат молитвы. Это происходит помимо моей воли. Молитвы переполняют меня… Более того. Здесь, в Реймсе, каждое утро, рано-рано, я иду на мессу без песнопений. Я незаметно проскальзываю в церковь, как бы стыдясь самого себя, прячусь за колонной. «Уйдите оттуда. Разрешите мне». Или, наоборот, я сжимаюсь в комок и думаю: «Все, что ты рассказываешь, дружище, — ложь!» И когда выхожу, впадаю в отчаяние… Извините меня… Вы, наверное, принимаете меня за сумасшедшего, но кто не сумасшедший в этом доме?
— Да, — согласился Андуз. — Кто не сумасшедший?
— У меня, впрочем, нет никакого намерения оставаться здесь, — продолжил Фильдар. — Общаться с людьми, которые сюда приезжают, просто невыносимо. К вам это не относится. По правде говоря, мне гораздо больше нравились сбившиеся с пути истинного, с которыми я занимался до того, как все бросил. Преступник — это нечто неуловимое, опасное, но ужасно сентиментальное. Ощущение схватки… Возможность действовать… А сейчас я попусту теряю время…
— И как скоро вы собираетесь уезжать? — равнодушно прошептал Андуз.
— После того, как закончу книгу.
— Это надолго?
— Пять-шесть недель.
— А… А закончить ее в другом месте вы не можете?
— Нет. У Ашрама есть по крайней мере одно преимущество. Здесь спокойно.
— Спокойно? А Блезо?
— Несчастный случай.
— А давно вы работали с преступниками?
— Нет. Около года тому назад.
— А где?
— В Труа.
У Андуза внезапно зародилась новая идея. Если что-то случится с Фильдаром, следствие, вероятно, пойдет по этому руслу.
— Я с ними работал восемь месяцев, — сказал Фильдар. — И не только по воскресным дням. Уж поверьте мне. Но я твердо стоял на земле. Никакого Митры, крещения кровью, смехотворных упражнений… Не хочу вас обижать, старина. Но я не могу удержаться от смеха, когда вижу, как эти славные женщины изображают факиров! Мне уж больше по нраву причуды старых богомолок!
Учитель прав. Этот тип опасен. От него следует срочно избавиться. Андуз встал.
— Пойду лягу. Чувствую, что простудился. Будьте любезны, не мешайте мне поспать.
Фильдар улыбнулся, и его лицо преобразилось: оно так просветлело, так помолодело, что у удивленного Андуза появилось желание пожать Фильдару руку.
— Спасибо.
— Нет, — возразил Фильдар, — это я вас должен поблагодарить за то, что вы меня выслушали. Я встаю рано… в шесть часов, но постараюсь не шуметь. Обещаю. А вдруг у вас появится желание? Я не хожу в собор. Это слишком далеко и слишком торжественно. Но на площади Республики есть часовенка, которая как раз мне подходит.
— Я подумаю.
— Рискните, — сказал Фильдар, — и вы тотчас поймете, что отрешиться от мирских забот вовсе не значит просто сосредоточиться. Доброй ночи.
Андуз вернулся в свою комнату. Сон не приходил. Если Фильдар говорил правду, то он покидал Ашрам только по утрам, когда направлялся в эту часовенку. Учитывая это обстоятельство, подстроить несчастный случай просто невозможно. Тогда остается что?.. Убить его… голыми руками? То есть совершить убийство? Сдавить горло? Ударить тяжелым предметом по голове?.. В семь часов? В семь на улице уже есть люди. Велосипедисты спешат на работу. Открываются магазины…
И вдова скоро приезжает! Она начнет расспрашивать Фильдара. Он все ей расскажет. Он скажет, что видел…
Нет! Нет! Андуз тревожно ворочался, никак не мог найти удобную позу. Он проглотил две таблетки, надеясь впасть в забытье, как если бы выпил упаковку люминала. Мысли развеялись, но уверенность в неудаче оставалась еще долго, забившись в самую глубину его притупленного сознания, словно зверь, готовый в любой момент укусить.
Мазюрье бродил из комнаты в комнату, осматривал каждый этаж. Рабочие, проходя мимо, подозрительно поглядывали на него. Он показал свой значок прорабу, чтобы получить возможность беспрепятственно передвигаться. И теперь он старательно размышлял, но ему не удавалось выдвинуть ни одной гипотезы. Вскрытие не дало никаких результатов, но судебно-медицинский эксперт категорично заявил, что в день гибели Блезо чувствовал себя превосходно. И сердце, и мозг находились в отличном состоянии. Ни капли алкоголя в крови.
— Боже мой! — повторял инспектор. — Но ведь без причины люди не падают!
Он подошел к отверстию, внимательно прислушался к себе.
«У меня кружится голова?.. Отнюдь. Это все же не скала!»
Несчастный случай, пожалуй, стоит исключить. Но самоубийство тем более казалось нелепым. Из-за чего? Сердечные страдания? Человек, который принял решение жить под наставничеством Букужьяна? Это столь же маловероятно, как самоубийство семинариста. Однако, если отбросить несчастный случай, остается самоубийство. Но в него Мазюрье не верил. Инстинктивно. Значит, преступление?.. Он обдумывал эту идею, убежденный в ее нелепости. Он стоял на последнем этаже и смотрел на раскинувшийся внизу город. Он вновь и вновь возвращался к этой версии, стараясь придать ей логическую форму. Версия абсурдна, но допустима, если, конечно, рассматривать смерть Ван ден Брука как убийство. Если предположить, что голландца убили, то напрашивается неизбежный вывод, что некто решил уничтожить пассажиров «Рено-16». Ван ден Брук… Блезо… оставались Фильдар и девушка. Если кто-нибудь из них погибнет, то всякие сомнения отпадут…
Его хлестал сильный ветер. Он спустился на пятый этаж и сел на груду облицовочного камня… Сумасшедший! Это, должно быть, дело рук сумасшедшего! Только безумец совершает несколько преступлений подряд. Это известно всем. Допустим. Но почему псих взялся за этих четверых?.. Предположить можно все, что угодно!.. Например, он считал, что они все виноваты в смерти братьев Нолан… Нет! В этом случае единственной подозреваемой оказалась бы вдова. А она живет в Америке. Псих мог ненавидеть Букужьяна и поэтому решил бросить тень на Ашрам. Уничтожить его!.. Или же… На самом деле, возможно, что преступник вовсе не псих, а очень расчетливый убийца, наметивший одну-единственную жертву, но уничтоживший несколько человек, чтобы запутать следы…
Мазюрье, вдруг разволновавшись, прошелся по квартире и, остановившись перед окном, стал наблюдать за подъемным краном. Все версии не стоили и ломаного гроша, но ему доставляло удовольствие сочинять роман об этом преступнике. Некий мужчина влюбился в Леа? А что, если она ему вежливо отказала? Он хочет отомстить. И начинает с того, что толкает Ван ден Брука в воду, а Блезо — в бездну. Он знает, что поиски полиции не увенчаются успехом… «Если я все это расскажу дивизионному комиссару, — подумал Мазюрье, — в ответ услышу такое!» Вне всякого сомнения, он терял время. И все же… Не такая уж глупая мысль убить по очереди всех пассажиров «Рено-16» и заставить думать, что их смерть имеет отношение к гибели братьев Нолан…
Стоп! Бесполезно продолжать. Мазюрье вышел из здания, обернулся, чтобы еще раз взглянуть на высокий фасад. Он нисколько не продвинулся вперед. Он ничего не понимал, но несомненно, что понимать здесь было нечего. Из осторожности он навел справки о Фильдаре и Леа Фонтана. Кое-кто мог извлечь выгоду из их смерти. Он желал этого всеми фибрами своей души, потому что был хорошим полицейским.
Андуз не замедлил заметить, что Фильдар придерживался строгого распорядка. С мессы он возвращался к семи часам, брился электрической бритвой. Ее шум выводил Андуза из себя. До восьми он работал. Он не печатал, но все время ерзал, отчего стул то скрипел, то трещал. Стул издавал самые раздражающие звуки, а Фильдар то разговаривал сам с собой, то вполголоса перечитывал абзац. Андузу оставалось только вставать и заниматься своим туалетом. Но он старался уронить все, что только попадалось ему под руку, чтобы выразить протест и утвердить свое право. Небольшая война прекращалась в восемь часов. Тогда они вместе выходили в коридор и вместе спускались в столовую.
— Я не очень вас беспокою? — любезно спрашивал Фильдар.
Он не слушал ответа, если таковой следовал, и тут же начинал говорить о проблемах, волновавших его в данный момент.
— Я тут размышлял о пантеизме…
— Послушайте, мой дорогой Фильдар, давайте отложим этот разговор.
Но Фильдару требовалось высказаться, сбросить со своих плеч груз сомнений, который он не мог нести один. Он принадлежал к тем людям, которых любое возражение заставляет бледнеть, а неопровержимый довод мучает, словно грех. Он едва прикасался к еде. Иногда застывал, пристально глядя в одну точку, в то время как его рука автоматически тянулась к записной книжке, куда он ежеминутно что-то записывал. Из-за стола он выходил последним, и, когда размышления заводили его в тупик, он просто швырял салфетку на стол и шел в сад, где хватался за лопату. Целый час он усердствовал в схватке с самим собой. Затем он поднимался к себе и принимался печатать. Ему хватало сил работать до вечера. Андуз нервничал. Как подобраться к Фильдару, перехитрить его, загнать в угол, чтобы покончить с ним?
И пока Фильдар настойчиво преследовал истину, печатая страницу за страницей, Андуз за стеной тщетно искал способ заставить его замолчать навеки. Недомогание служило хорошим оправданием поведения Андуза. Он не присутствовал на собраниях. Он отказался прийти на траурную церемонию, организованную Учителем в память о Блезо. Он еле-еле согласился пожать руку матери архитектора при выносе тела. Следя за Фильдаром или находясь один в своем кабинете, он думал до умопомрачения. Единственный благоприятный момент — утро, когда Фильдар отправлялся на мессу. Таков непреложный факт. Теперь он без конца пережевывал одно и то же. Какое избрать оружие? Как нанести удар? Если он промахнется…
Руки покрывались потом. Сердце громко стучало. Он старался взглянуть на проблему со стороны, сформулировать ее как можно более нейтрально: допустим, молодой преступник хочет свести счеты с Фильдаром. Он вышел на след и поджидает его где-то на пути от Ашрама до часовни. Хорошо. Он не станет нападать в открытую. Он подкрадется сзади и нанесет удар каким-то предметом. Но каким? Дубинкой? Что может заменить дубинку? Молоток? Кусок свинцовой трубы? Разводной ключ? Неплохо. Разводной ключ! Но встает вопрос: где найти достаточно увесистый разводной ключ?.. Ответ?.. Ответ?.. Может, в ящике с инструментами от грузовика.
Он отправился в гараж. Грузовик стоял здесь. Его кузов был забит пустыми ящиками. Инструменты в беспорядке лежали под передним сиденьем: домкрат, пусковая рукоятка, молоток и разводной ключ. Он обернул руку тряпкой, поднял ключ, слегка подбросил его. Оружие — практичное, удобное в обращении, достаточно тяжелое, чтобы нанести смертельный удар, но слишком громоздкое! Куда его спрятать? Под плащ? Как его закрепить, ведь его хорошенько нужно закрепить, потому что он должен выглядеть естественно и идти с пустыми руками… Удрученный Андуз принялся бродить по саду. Глупо останавливаться из-за подобных трудностей. Но разве в глубине души он не радовался, что наткнулся на препятствие?.. Он заперся в своем кабинете, перелистал отрывной календарь. Впереди, конечно, еще пять-шесть дней. Может, даже больше, потому что мадам Нолан могла задержаться в последний момент. Зазвенел телефон.
— Алло!.. Андуз слушает… A-а! Это ты!.. Да, ты правильно делаешь, что сердишься… Ну да, я знаю. Мне следовало бы тебя предупредить. Я взял отпуск по болезни. Врач любезно предоставил мне две недели. Послушай, Леа, незачем настаивать, чтобы я куда-нибудь уехал. Здесь почти как в деревне… Ты сейчас станешь смеяться. Он посоветовал мне проконсультироваться у невропатолога… Как? И ты тоже?.. Но почему вы все ополчились против меня?.. Да, у меня часто болит голова, так что с того? Это еще не повод. Почему бы не сходить к психиатру?.. Это очень мило с твоей стороны. Спасибо… Уверяю тебя, ты беспокоишься напрасно… Что?.. А! Нет. Это не повторится! Но в чем влияние Учителя может оказаться опасным для меня?.. Не настаивай. Я тебе уже говорил: Ашрам — мой дом… Честное слово, ты ревнуешь! Да, да… Я уже не раз обращал внимание.
Он вздохнул, отодвинул немного трубку от уха, посмотрел на календарь. Потом его вдруг охватила ярость.
— Я запрещаю тебе так говорить. Я достаточно взрослый, чтобы знать, что я должен делать… В конце концов, Леа, я тебя не понимаю. Ты хочешь мне быть всего лишь подругой… очень нежной… очень преданной… не так ли? Вспомни. Однако ты ведешь себя как требовательная, подозрительная любовница… вот именно! Подозрительная! Хочешь, я скажу тебе правду?.. Ты окажешься на седьмом небе, если я навсегда забуду об Ашраме. Да ты бы послала ко всем чертям мой Ашрам! Как бы тебе хотелось его уничтожить… Нет, я не сержусь… Просто не понимаю, зачем ты сюда приезжаешь, что ты тут ищешь… Знаю. Ты собираешь материал. Тогда почему ты так враждебно настроена?.. Но объясни ты мне, что Учитель сделал тебе такого плохого? Можно подумать, что ты жаждешь свести с ним счеты. И к тому же с моей помощью!.. Ладно. Я ошибаюсь. Ну разумеется, я буду рад, если ты приедешь… Да, конечно… в субботу, как обычно… Я тоже тебя целую.
Уф! Он положил трубку. Сейчас у него просто нет времени на ссоры. До чего же странная девица!
Дверь широко распахнулась. Учитель никогда не стучал.
— Поль, у меня к тебе небольшая просьба. Мадам Брийон хочет уехать завтра утром. Ты сможешь отвезти ее на вокзал?
— А что, разве Карл не в состоянии ее проводить?
— Нет. Я должен ехать в Париж, и мы вернемся поздно. Возьми грузовик.
— Когда уходит поезд?
— В половине седьмого. Немного рановато. Тебя не затруднит?.. Я сначала хотел заказать такси, но ты же их знаешь. Никогда нельзя на них рассчитывать.
— Хорошо.
— Спасибо. Как ты себя чувствуешь? Получше?
Он ушел, не дожидаясь ответа. В другой раз Андуз обиделся бы. Но сейчас он в страхе убеждал себя: «Грузовик, половина седьмого, завтра… Такой удобный случай больше не представится. Так просто припарковать машину на площади Республики, пойти навстречу Фильдару, предложить ему: „Хотите, я вас подброшу? Грузовик стоит в двух шагах. Я еду с вокзала“». И тогда разводной ключ… Достаточно придумать любой предлог… плохо поступает бензин… барахлит зажигание… Фильдар всегда любезен. Этого у него не отнимешь. Он любит оказывать услуги. Он откроет капот, наклонится… Разводной ключ сделает свое дело. Благодаря своей тяжести.
Опять потянулось жуткое бесконечное ожидание. Ожидание неясного результата. Возможно, оно окажется удручающим. Если Андуз промахнется, то неизбежно последует арест, тюрьма. Какой адвокат, какой судья поймет мотивы, которыми он руководствовался?.. Он сам-то не всегда толком их понимал. Разумеется, самый ясный довод — это Ашрам. Во что бы то ни стало обеспечить материальное будущее Ашраму. Он уже все рассчитал, основываясь на доверительных откровениях Учителя. После уплаты налогов и пошлин останется кругленькая сумма почти в шесть миллионов. Если их толково вложить, то они обеспечат доход, который позволит общине безболезненно переживать потрясения, вызванные опрометчивыми действиями Учителя. Он уже знал, какие акции следует покупать. Он четко представлял, как составить портфель ценных бумаг. В некотором роде эти деньги принадлежат ему. И сейчас он их зарабатывал в поте лица. Эта мысль не была кощунственной. Он никогда не испытывал — и он мог в этом поклясться — желания взять, украсть… Достояние Ашрама — это святое. Он только поставил перед собой цель управлять финансами, следить за ними с карандашом в руке, выступая в роли необычного управляющего делами. Он совершенно не возражал встать вровень одним ему известным способом с теми важными господами, которых он каждый день видел в банке, просматривающих финансовые газеты или шушукающихся с директором. Он станет богатым по доверенности. Он получит право подписи. При условии, что Фильдар… Нужно убрать Фильдара.
Во второй половине дня, чтобы убить время, он занялся накопившейся почтой. Однообразная, механическая работа. Он быстро с ней справился. Он вышел в парк и пошел в старый гараж, где работали двое рабочих. Они прикрепляли к потолку рельс, по которому будет перемещаться блок, поднимая вверх мертвых быков. Работой руководил Карл. Он пожал Андузу руку.
— Как видите, — сказал он, — они почти закончили. Позже я освобожу подвал от всех бутылок, которые его загромождают. Мы там устроим холодильную кладовую.
— Подождите, — сказал Андуз. — Об этом проекте вы мне не говорили.
— А! Прошу прощения… Я думал… Но подрядчик согласен… На следующей неделе он представит вам смету.
— Хорошо. Хорошо, — проворчал Андуз. — Мы это обсудим.
До чего же Карл предан Учителю! Все время предлагает что-то переоборудовать, то здесь, то там. Как получилось, что религиозная община, ставившая перед собой единственную цель духовного перевоплощения, начала походить на промышленное предприятие? Невероятно! Это уже не монастырь, а больница!
Он прошел мимо гостиницы, окруженной строительными лесами, повернул к замку, поднялся к себе в комнату. Фильдар стучал на машинке. Он смочил холодной водой полотенце, положил его на лоб и лег в кровать. Во второй половине дня головная боль давала о себе знать довольно остро. Она превращалась в посетительницу, привычки которой он начал запоминать. Оставалось только смириться. Она не только завладела его нервами, артериями, больно стучала в висках, но проникла в его мысли, разговаривала с ним шепотом, присущим ей одной. Словно кто-то другой незаметно занял его место. И он уже не хозяин себе. Кто ударит разводным ключом? Он или другой? Скорее, другой, который, впрочем, смелее, а возможно, и злее. Убрав Фильдара, сможет ли он остановиться? Не потребует ли он новых жертв? Угрожает ли что-нибудь Леа? Сама по себе она опасности не представляет, но, в конце концов, авария произошла у нее на глазах. И почему она все время лезет со своими советами? Сходить к невропатологу! Забыть об Ашраме! Сплошное наваждение. Если на тебя нападают, ты должен защищаться… Пишущая машинка замолкла, и головная боль разжала тиски. Фильдар постучал в дверь, приоткрыл ее.
— Пойдемте ужинать?
— Без меня, — прошептал Андуз.
— Вам что-нибудь принести?
— Бутерброд, если вам не трудно. Я заморю червячка. Спасибо.
Фильдар ушел, покусывая пустую трубку, а Андуз воспользовался тишиной, чтобы вздремнуть. Он удивился, когда вновь появился Фильдар. Он проспал целый час. Фильдар принес на тарелке бутерброд с паштетом.
— Перед уходом Букужьян попросил меня напомнить вам, что вы должны проводить мадам Брийон на вокзал.
— Знаю.
— Она будет вас ждать с шести часов. Но если вы устали, то я могу ее отвезти. Ведь я все равно иду на мессу. Я возьму грузовик.
Андуз приподнялся на локте и сурово посмотрел на Фильдара.
— Нет. Это моя обязанность.
— Но если вы заболели…
— Я не заболел.
Фильдар прошелся по комнате Андуза, как по своей собственной. Он посчитал необходимым закрыть ставни.
— Включить ночник?
— Нет. Свет меня раздражает.
Фильдар сел у его ног в темноте. Андуз не осмеливался попросить его уйти. А оставаться рядом с тем, кто через несколько часов… нет, это выше его сил.
— Завтра утром, — продолжил Фильдар, — вы окажетесь в двух шагах от часовенки. Вам непременно следует туда зайти. Кто не присутствовал на мессе без песнопений в час, когда все еще спят, не может понять, что такое умиротворение. Здесь гримасничают, кривляются, из кожи вон лезут. В то время как забвение — это так просто.
— Мне хотелось бы отдохнуть, — сказал Андуз.
Но Фильдар продолжал размышлять, и Андуз вцепился в железный край кровати, чтобы сдержать вопль.
— Достаточно, — в изнеможении сказал он. — Думаю, будет лучше, если вы уйдете. Да, для вас, для меня… так будет лучше.
— Что ж. Я вас покидаю. Спокойной ночи… Но мне бы очень хотелось увидеть вас завтра утром.
— Да! — закричал Андуз. — Вы меня увидите.
Фильдар вышел на цыпочках, но тем не менее умудрился хлопнуть дверью.
Мадам Брийон удалялась по перрону, неся два чемодана, и вскоре исчезла в подземном переходе. Андуз должен был бы ей помочь, проводить до поезда, но он спешил вернуться к грузовику и посидеть спокойно несколько минут, прежде чем приняться за дело.
День наступит не скоро. Шел мелкий дождь, отчего улицы казались еще более пустынными. Андуз положил разводной ключ рядом с собой, мысленно перечислил все принятые меры предосторожности, словно летчик, который, как молитву, повторяет про себя все маневры, которые ему предстоят. План готов. Он включил дворники, завел двигатель, выжал сцепление и поехал. Начался отсчет чего-то необратимого.
Прохожие встречались редко. Иногда проезжала какая-нибудь машина. Занималось ненастное утро, наводившее тоску. Он быстро доехал до площади Республики, покрутился немного, выбирая подходящее место немного в стороне, плохо освещенное, ничем не загроможденное, где бы он смог удобно расположиться. Вооружившись электрическим фонариком, он отключил бензонасос. Затем завел двигатель, тот почти сразу заглох. Явная неисправность. Он закрыл дверцы машины на ключ и прислонился к кузову, чтобы перевести дух. Как только он начинал волноваться, у него тут же перехватывало дыхание. Он завидовал людям, которым хватало мужества совершать вооруженные ограбления. Он часто думал о них, сидя в банке. Хотя, может, не так уж трудно терроризировать людей, размахивая автоматами. А вот хладнокровно нанести удар! Посмотрим!..
Он пересек площадь и направился к небольшой церкви. Он пришел заранее, и поэтому ему пришлось войти внутрь. В боковом приделе священник совершал богослужение. Фильдар был здесь. Он стоял, преклонив колени, в первом ряду, рядом с пожилой женщиной. Царила почти неземная тишина. Священник невнятно бормотал какие-то слова, по таинственным причинам ходил вдоль алтаря, то нагибался, то выпрямлялся. Фильдар, закрыв лицо руками, не двигался. Андуз сел в самой темной части нефа. Его присутствие выглядело святотатством. И эта мучительная уверенность обжигала его. Он помолился бы, чтобы снять с души грех, но не знал, что в подобном случае говорят христиане. Он только и сумел вымолвить: «Я невиновен. Клянусь, что я невиновен». Священник широким жестом благословил присутствующих, и Фильдар перекрестился. Месса закончилась. Андуз выскользнул наружу; увидев, как вышла пожилая женщина, подождал еще несколько минут. Наконец показался Фильдар, увидел Андуза и подошел к нему. Каждая деталь врезалась в память. Счет пошел на секунды. Андуз уже никогда не сможет забыть эти мгновения.
— Вы опоздали, старина, — сказал Фильдар. — Но это так любезно с вашей стороны! Хотите осмотреть церковь? Подождем следующей мессы?
— Нет. Я только подумал, что вам будет приятно, если я составлю вам компанию. Идет дождь. А грузовик стоит там. Вы поступите просто глупо, если решите возвращаться пешком.
— Неплохая идея.
Они поспешили к стоянке и сели в машину.
— Надеюсь, что она заведется, — сказал Андуз. — Сегодня она капризничает. Я даже думал, что мадам Брийон опоздает на поезд.
Он включил стартер один раз, другой.
— Прогрейте двигатель, — посоветовал Фильдар. — Он остыл.
— Тогда зальет свечи.
Он старался изо всех сил, но безуспешно.
— Бросьте, — сказал Фильдар. — Возможно, что-то случилось с бензонасосом. Чувствуете запах?
Он открыл дверцу.
— Вы умеете чинить машины? — спросил Андуз.
— Я мастер на все руки, — смеясь, ответил Фильдар. — Откройте капот.
Все шло по плану с какой-то трагической точностью. Андуз потянул за рычаг замка, и Фильдар поднял капот и опустил его на упор.
— Ничего не видно, — проворчал он. — У вас, случайно, нет фонарика?
— Нет.
— Тем хуже. Придется работать на ощупь.
Он склонился над двигателем. Андуз схватил разводной ключ. Голова гудела. Он растерянно огляделся вокруг. На площади ни души. Дождь. Согнутая спина Фильдара. Андуз вспомнил слова Учителя: «Они страдают… те, кто умирают насильственной смертью, страдают после…» И, чуть скрипнув зубами, поднял разводной ключ.
— Нашел, — сказал Фильдар. — Клапан бензонасоса.
Его голова скрылась под капотом. Андуз не смог нанести удар. Он медленно опустил руку. В то же мгновение Фильдар выпрямился, вытащил платок, чтобы вытереть руки. Он увидел разводной ключ и улыбнулся:
— И этой штуковиной вы собирались чинить неисправность? Она хороша только для многотонки. Ну-ка, заводите двигатель, посмотрим!
Андуз даже не пытался сопротивляться, искать другое решение, быстро подготовиться к еще одному нападению. Он вновь сел за руль. Больше у него никогда не получится… И даже сейчас он всего-навсего разыграл комедию. Он взмахнул ключом, чтобы убедить самого себя, что он пойдет до конца, и тем не менее не ударил. Теперь он в этом почти не сомневался.
— Двигатель, — крикнул Фильдар.
Андуз повернул ключ зажигания. Двигатель завелся. Он окончательно проиграл партию. Проиграл с самого начала. Он всегда об этом знал. Ашрам требовал от него непомерно много. Фильдар, слегка нажимая на акселератор, запустил двигатель на полную мощность, прислушался, довольно кивая головой. Он опустил капот и забрался в кабину.
— Сколько продержится, столько и продержится, — сказал он. — Я починил на глазок. Нужно сказать Карлу, чтобы он посмотрел внимательней… Ну что? Все же я оказался здесь весьма кстати, а?
Он набил трубку. Андуз начал маневрировать, чтобы выехать со стоянки. Была ли это трусость, слабость или же некая болезнь, словно мозг отказывался давать команды? Сказывалось нервное напряжение. Он запутался в скоростях, заглушил мотор, тронулся рывком, как новичок.
— С вами что-то неладно? — заметил Фильдар.
— После аварии я сам себя не узнаю, — сказал Андуз.
— Еще бы. Кстати, как у вас со страховкой?
— Неважно. Они ко мне придираются.
— Вы не присутствовали, когда Букужьян рассказывал нам о дурном влиянии, которому подвергается Ашрам. Вы много потеряли. Он говорил о неверии некоторых, а также о психическом воздействии отрицательного разума… В качестве примера он привел Иуду… Догадываетесь почему?
— Нет.
— Потому, что я еврей по материнской линии… Если разобраться, то ему это совсем не нравится. Но возможно, он прав, что причина беспокойства заключается во мне. Я иду от одной церкви к другой. Я лишний. Не верите?.. Э-э! Сейчас заедете на тротуар!
— Лучше ведите машину вы, — сказал Андуз. — Я, право, не знаю, что со мной.
Фильдар обошел грузовик, пока Андуз пересаживался на его место.
— Вы беспокоите меня, старина, — возобновил разговор Фильдар. — Если вы заболеете, то я тоже подумаю, что нас сглазили. Братья Нолан ушли из жизни. Умерли Ван ден Брук и Блезо. Вы совсем расклеились! Это эпидемия… Мне самому только и остается, что держаться изо всех сил!.. Когда мы приедем, вы сразу же ляжете, а я о вас позабочусь. Я и это умею делать. Чего я только не умею!
Он свернул на аллею, ведущую к замку, помог Андузу выйти из кабины.
— Обхватите меня рукой за шею.
— Нет. Я не смогу.
— Черт возьми. Вы ведете себя глупо. Если бы я заболел, разве вы не помогли бы мне?
Андуз повис на Фильдаре. Его тошнило. Он покорно позволил довести его до комнаты. Фильдар раздел его. Андуз не сопротивлялся. Как только он лег, то сразу же закрыл глаза. Но попросил Фильдара задержаться.
— Не оставляйте меня одного, — прошептал он. — Курите, если хотите. Мне это не мешает.
Фильдар пощупал ему лоб, руки.
— У вас все-таки поднялась температура. Наверное, начинается грипп.
— О нет!.. Садитесь… Спасибо. Вы очень любезны… Расскажите мне об Иуде.
— Об Иуде? — радостно переспросил Фильдар. — Прелюбопытнейший тип! Его никто не понял. Представьте себе, каков был его Учитель… С точки зрения Иуды, Он все время витал в облаках. Берется то за одно, то за другое… За душой ни гроша. Никогда не сидит на месте. Нечто вроде странного бродячего комедианта. Иуда же не предавался мечтам. Он хотел где-то обосноваться, создать что-нибудь основательное, иметь крышу над головой…
— Он предал.
— Да нет же… Его довели до крайности. Это не одно и то же. Он устал, бедняга. Он все время ссорился с остальными. В Святом Писании об этом ни слова. Но это правда. Я уверен, что он неоднократно упрекал Петра и Иоанна: «Попробуйте сами вести учет. С меня довольно. Вы транжирите то, что мне удается сэкономить». Измучившись, он отказался от дальнейшей борьбы. Он смирился. «Хотите его арестовать? Воля ваша. Арестовывайте. Возможно, так будет лучше для всех. Вот он… Бросьте его в тюрьму. Только дайте нам возможность свободно дышать!» Он не догадывался о последствиях. Он и повесился потому, что был честным человеком. Я очень сочувствую Иуде.
Андуз уже не слышал последних слов Фильдара. Он спал. Когда он почувствовал, что Фильдар встал, то схватил его за рукав и прошептал сквозь сон: «Нет. Не уходите…» Проснувшись, он увидел, что так и не отпустил Фильдара, и сильно смутился.
— Извините… Я совершенно отключился… Я разговаривал во сне?
— Нет.
— Вы непременно должны мне сказать… Мне часто снятся кошмары. Я говорю бог весть что. Думаю, что я в состоянии подняться. Еще раз спасибо. Я справлюсь сам… Который час?
— Почти одиннадцать.
— Черт! Если Учитель вернулся, то, возможно, ему нужна моя помощь. Но ни слова. Он не должен знать.
— Но если вы заболели?
— Я привез с собой лекарства.
Андуз закрыл за Фильдаром дверь. И вновь на него навалились заботы, от которых раскалывалась голова. Есть ли у него шанс? Отныне он оставит в покое Фильдара. Следовательно, все потеряно. Либо одно, либо другое. Альтернатива раскрывалась перед ним с болезненной ясностью. Фильдар останется в живых, и вдова попросит его рассказать о том, что произошло во время аварии. Чтобы ее утешить, Фильдар не преминет добавить, что вместе с умирающим читал молитвы, он припомнит малейшие детали. Обо всем этом Андуз уже думал раз двадцать, но еще никогда столь напряженно. Если поразмыслить, то ему самому бояться нечего. Его никто не станет обвинять… Но в определенном смысле он и Ашрам едины. И вдруг Ашрам исчезнет… как он сможет жить, все время помня о двух убитых? Вот тогда он и превратится в настоящего преступника. Сдаться полиции? Во всем сознаться? Какой скандал! Пострадает репутация Учителя. Скажут, что Учитель знал обо всем, что он сообщник Андуза. Нет. Надо молчать, молчать во что бы то ни стало.
Он оделся, умылся. В соседней комнате Фильдар так и не сел за машинку. До чего он милый, этот Фильдар. Он оказался совсем другим человеком, совсем не таким, каким представлял его себе Андуз. По сути, он жил по законам братства! Итак, все складывалось следующим образом. Фильдар не умрет и пойдет своей дорогой. Ашрам перестанет существовать. Учитель найдет пристанище где-нибудь в другом месте. А он сам останется наедине с воспоминаниями о грандиозной хитроумной авантюре, закончившейся провалом. Жуткое поражение. Леа не в счет. Он прекрасно понимал, что и здесь его ждет неудача. Пустота. Останется пустота. Вся дальнейшая жизнь представлялась ему каменистой пустыней. А на самом горизонте виднелся маленький силуэт, который не замедлит отправиться в дорогу.
Андуз спустился в свой кабинет.
Карл постучал в дверь.
— Войдите! — крикнул Фильдар.
— Вы очень заняты? — спросил Карл.
— Видите ли… Я всегда очень занят. Но если я вам нужен…
— Да, на пару минут… В подвале, знаете, что под бывшим гаражом… там каменщики позавчера закончили работать. Я хотел убрать бутылки, но Учитель отправляет меня в город. Но я приготовил большие корзины. Придется, может, спуститься раз пятнадцать. Просто поставьте бутылки перед гаражом. Во второй половине дня, ближе к вечеру, их заберут.
— Иду, — сказал Фильдар.
— Осторожно спускайтесь по лестнице. Она коварная.
— Не беспокойтесь!
Фильдар собрал листы бумаги, валявшиеся на полу. Когда он работал, то разбрасывал вокруг себя законченные страницы. Он положил их в объемистую папку и побежал за Карлом.
— Э! Купите мне табаку. Но только крепкого. Когда вернетесь, я вам заплачу.
В гараже он наткнулся на Андуза, который проверял работу каменщиков. Андуз держал в руках канат, перекинутый через блок.
— Нет, вы только посмотрите, — сказал Андуз. — Я же ясно объяснил: цепь и система блокировки. Они приделали этот канат. Теперь придется скандалить… Как мне все надоело!
Фильдар поискал выключатель.
— Справа, — подсказал Андуз. — Над корзинами.
Фильдар снял куртку, повесил ее на гвоздь и засучил рукава рубашки. Затем он схватил корзинку и стал спускаться по лестнице. За ним захлопнулась дверь. Глубоко внизу свет освещал стеллажи, уставленные бутылками.
— Э! Андуз! — крикнул он. — Вы уверены, что они все пустые?
До него донесся приглушенный голос Андуза:
— Да… Начинайте!
— Предупреждаю. Если я обнаружу хоть одну полную, то я ее выпью.
Посвистывая, он принялся за работу. Ему нравилась физическая работа. «Из меня получился бы чертовски неплохой монах, — подумал он. — Богослужение! Плуг! Богослужение! Телега! Богослужение! Мозолистые руки творят самые прекрасные молитвы!»
Он приподнял корзину.
«Увесистая штучка! Эти корзины слишком уж большие!»
Он прикинул, как поудобнее взяться за них. Проще всего было волочить эту тяжесть по земле до ступенек. Бутылки позвякивали. Неизбежно некоторые из них разобьются.
Добравшись до лестницы, он понял, что никогда не поднимет корзину, держа ее перед собой. Он повернулся спиной к ступенькам, прочно ухватился одной рукой за ручку, а другой уперся во влажную стену. Затем, пятясь назад, поднял корзину на первую ступеньку, потом на вторую. Получается! Но в следующий раз корзину не стоит так нагружать.
Он обернулся. Он почти у цели. Еще небольшое усилие. Он напряг спину, судорожно напряг колени, и вдруг ступенька зашаталась и рухнула у него прямо под ногами. Он бросил корзину, попробовал за что-то зацепиться, но его потащило вниз в жутком грохоте битого стекла. Он чувствовал, как в тело вонзаются острые осколки, а он все падал и падал до тех пор, пока не ударился плашмя о слой битого стекла. Сознание он не потерял, но двигаться больше не мог. Что-то текло по животу, по бедрам. В одной из бутылок, наверное, оставалось шампанское.
Вдруг он понял: это его кровь. Он позвал сдавленным голосом:
— Андуз!.. Андуз!..
Андуз, мертвенно-бледный, вцепился в ручку двери и прислушивался. У него было такое ощущение, словно его самого покидала жизнь. Безумные мысли лихорадочно сменяли друг друга. «Ступенька!.. Карл меня предупреждал… Я тут ни при чем… Я ничего не сделал… Это несчастный случай. Настоящий!» Он посмотрел на свою руку, побелевшую от напряжения, и приказал ей разжаться. Она не повиновалась. Он должен бежать, позвать на помощь. Наверняка еще не поздно. Но он не двигался и напряженно слушал. Ему почудился стон, и он сильнее сжал ручку. Последний свидетель… Он никогда уже не заговорит. Судьба после некоторых колебаний только что выбрала Лифам. Не идти против ее воли. Андуз сделал шаг назад… потом еще один… Не оказать помощь человеку, которому грозила смертельная опасность. Но что все это означает? Ведь Фильдар умер. Теперь он в этом не сомневался. Но как спуститься, если в самом верху лестницы зияет дыра? Он удалялся, все время поглядывая назад. С его уст слетали слова: «Я ничего не сделал… Я ничего не сделал…»
По мере того как он приближался к замку, в нем зарождались искорки надежды. Но он еще не почувствовал облегчения. Просто он стал как-то иначе дышать, держать голову. В парке возились добровольцы с лопатами и мотыгами. Они ничего не заметили, поскольку находились слишком далеко. Андуз вернулся к себе в кабинет, долго массировал глаза, но ему никак не удавалось стереть образ тела, лежащего среди мерцающих звезд. Фильдар вознесся на свои небеса. А теперь?.. Что ж, теперь все кончено. Сражаться больше не с кем. Вдова может приезжать.
«Могу ли я думать о Фильдаре без угрызений совести? — спросил он сам себя. — Да. Я смирился с судьбой. Я больше ничего не предпринял бы против него. Я пропал. Он умер. Мы в расчете!»
Но все дело было в том, что он, возможно, не умер. Андуз собрался с силами, чтобы хладнокровно рассмотреть такой вариант. Несомненно, Фильдар серьезно ранен. Как только его обнаружат, то сразу же отвезут в больницу. А там никто не станет его расспрашивать об автомобильной катастрофе, стоившей жизни братьям Нолан. Если же Андузу начнут задавать вопросы, то он ответит, что он сразу же вышел из гаража и вернулся в кабинет. Нет. Он ничем не рискует. И каждая минута возвещала о его победе. Фильдар упал уже больше четверти часа тому назад. Андуз притаился у окна, чтобы наблюдать за учениками… Прошло полчаса… Сорок минут… В доме ни малейшей тревоги. Он выиграл! Андуз упрекнул себя, что произнес столь оскорбительное слово. К Фильдару он питал только дружеские чувства и всем сердцем сожалел, что все обернулось трагедией. Ну и что? Ведь он и сам глубоко страдал. И вдруг ему сообщают: «Вас помиловали! Можете выйти из тюрьмы!» Ведь чуда ожидаешь только для себя!
Он увидел, как вернулся грузовик. Из него вышел Карл. В руках он держал пачку табаку. Он сразу направился к бывшему гаражу. Андуза охватило ужасное волнение. И он сел за стол. Началось невыносимо жестокое, настоящее ожидание. Оно длилось бесконечно долго… Насколько труднее его переносить, чем любое другое! «Вот почему у меня болит голова, — подумал он. — Две недели я жду и больше ничего не делаю. Каждый час звонит колокол. Кто это выдержит? Если я должен понести наказание, то вот оно. Клянусь, наказание ужасно!»
Он услышал, как кто-то взбежал по лестнице и постучал в соседнюю дверь. Раздался хриплый, запыхавшийся голос Карла:
— Учитель! Идите быстрее!.. Фильдар… Мне кажется, он мертв!
Андуз закрыл лицо руками. Он заплакал от усталости, от нервного истощения и от радости.
Мазюрье, держа в руках переносную лампу, осмотрел лестницу и ощупал соседние ступеньки.
— Все сгнило, — сказал он. — Вот еще одна, которая так и просит, чтобы ее заменили.
Учитель, Карл и Андуз столпились у входа в подвал и наблюдали за ним. Тело уже унесли, и осколки стекла грудой лежали в стороне.
— А ведь я предупреждал его, чтобы он был поосторожней. Ступенька, которая рухнула, шаталась уже давно, — сказал Карл.
— Какое несчастье, — сказал инспектор. — Ему, безусловно, хватило времени позвать на помощь. Если бы кто-нибудь услышал его крик, Фильдара могли бы спасти, наложив жгут.
— Это я виноват, — сказал Карл. — Если бы я знал…
— Он впервые спускался в подвал?
— Да.
— Мы собирались делать новую лестницу, — сказал Учитель. — Мы хотели переоборудовать помещение под холодную кладовую.
Инспектор продолжал водить лампой по стенам. Он осторожно переступил через зияющее отверстие и спустился вниз. Снизу он на глазок прикинул расстояние.
— Приличная высота, — оценил он. — Удивительно, что он ничего себе не сломал. И надо же было случиться, чтобы этот кусок стекла перерезал ему бедренную артерию!.. Согласитесь, что здесь вмешалась сама судьба!
Андуз держался немного в стороне. Он нисколько не сомневался, что от лестницы пахло смертью. Он до сих пор слышал, как стонал Фильдар. «Но почему они привели меня сюда? — подумал он. — Почему они все время меня мучают? Я хочу уйти. Оставьте меня в покое!»
Инспектор поднялся и заметил шпагат и блок, прикрепленный к потолку гаража.
— Это что такое?
— Это приспособление для разделывания туш животных, которых мы убиваем, — объяснил Учитель.
— Вы убиваете животных?
— Да. Наш культ требует, чтобы при определенных условиях ученики получали крещение кровью. Поэтому время от времени мы убиваем быка и затем, что совершенно очевидно, мы его съедаем.
— Кто мясник?
— Карл.
Мазюрье бросил короткий взгляд на Карла, затем вновь обратился к Учителю:
— Странные вещи творятся в вашем Ашраме. Если я правильно понял, вы живете под знаком крови.
— Извините. Под знаком Митры!
— Как вам будет угодно. А это, случайно, не может расстроить психику некоторых ваших учеников? Собственно, как происходит крещение? Вы окропляете вашего ученика кровью?
— Нет. Он находится в своего рода камере, сделанной под тем местом, где бык приносится в жертву. Таков ритуал. Кровь должна пролиться на него.
— И где происходит церемония?
— Под домом. Там огромные подвалы, где раньше хранилось шампанское.
— А почему вы не совершаете обряд в парке, например?
— Потому что подземелье имеет символическое значение. Посвященный сначала должен вновь упасть в первородный хаос. Темнота, окружающая его, означает материю, от которой он вскоре избавится, обретя силу, жизнь, творческую энергию…
— Вот вы только что сказали, что посвященный должен упасть. И это невольно наводит на мысль… о ваших трех трупах… Ван ден Брук упал в воду. Блезо упал из окна дома. Фильдар упал с лестницы… Любопытно, не так ли?
Все больше и больше теряясь в догадках, Андуз пытался понять, к чему клонит инспектор. Да и Учитель оказался в затруднительном положении.
— Они прошли обряд крещения? — продолжил Мазюрье.
— Нет, — сказал Учитель, — Ван ден Брук искал здесь скорее убежища, чем истины. Блезо утверждал, что ему спешить некуда. Фильдар был диссидентом, если хотите.
— Представьте, что рядом бродит сумасшедший, — продолжил инспектор. — Разумеется, это только гипотеза. Но в конце концов, она не так уж и абсурдна. Сумасшедший знает, что три человека отказались от крещения, что они в некотором смысле находятся в оппозиции и могут причинить Ашраму только зло. Он их уничтожает, то есть бросает их в то, что вы называете хаос.
— Я в это совершенно не верю, — запротестовал Учитель.
— Здесь нет сумасшедших, — живо подхватил Андуз.
— Возможно. Хотелось бы в этом убедиться. Фильдар, кажется, действительно стал жертвой несчастного случая. Но ничто не мешает предположить, что и его тоже толкнули и что, упав на ступеньку, он ее сломал. Но я опять поостерегусь делать выводы. Тем более что эта теория не объясняет другой, еще более странный факт. Все три жертвы были пассажирами «Рено-16».
Они вышли из гаража. Мазюрье остановился перед Учителем.
— Поймите меня правильно, мсье Букужьян. Вы придерживаетесь гипотезы о несчастных случаях. Я иного мнения. И безусловно, ошибаюсь я. Но я считаю необходимым принять меры предосторожности. Я прошу у вас разрешения прислать сюда своего человека для наблюдения. Обещаю, что он не будет слишком назойливым. Мне, однако, на некоторое время требуется наблюдатель.
— Ладно, — сказал Учитель. — Нам скрывать нечего. Андуз введет его в курс дела. Ты согласен, Поль?
— Безусловно, — сказал Андуз.
Инспектор Бернар приехал на следующий день, и Андуз занялся им, устроил его, показал Ашрам. «Любопытно, право, очень любопытно», — не уставал повторять молодой инспектор. Вместе перебрали всех тех, кто постоянно жил в замке или кто регулярно туда приезжал.
— Только достойные люди, — пояснял Андуз. — Добавлю, что здесь никто не интересуется жизнью соседей. Каждый занят своими проблемами. Вы зря потеряете время. Предположим даже, что преступник скрывается среди нас. Но вы же не можете одновременно наблюдать за всеми.
— Конечно. Но с вас-то я могу постоянно не спускать глаз.
— Что?
Андуз остановился. Еще шаг, и он споткнулся бы.
— Патрон, — продолжал Бернар, — думает, что вам грозит опасность. Правда, он не вполне уверен. Но постарайтесь взглянуть на это дело его глазами, непредвзято. Кто погибнет? Те, кто в той или иной степени замешан в аварии, в которой погибли братья Нолан. На данный момент в живых осталось двое: девушка и вы. Значит, вас надо охранять. Патрон принял меры в отношении девушки. А я здесь, чтобы защищать вас.
Андуза вдруг стал разбирать смех, и он почувствовал, как сдавило грудь.
— Значит, он отверг версию о сумасшедшем? — воскликнул Андуз.
— Нет. Напротив. Как вы догадываетесь, он досконально изучил каждое происшествие. Так вот, ни один из погибших не имел врагов. Все сведения подтверждают друг друга. Ван ден Брук, Блезо и Фильдар вели уединенный образ жизни. Ни семьи, ни состояния. Нет никакой причины для убийства. Я имею в виду, как вы понимаете, причины с точки зрения здравого смысла. Хотя, может, существовал тайный мотив. Три падения — это уже не совпадение. Если патрон полагает, что где-то рядом находится сумасшедший, то он не имеет в виду, разумеется, больного, подверженного припадкам. Речь идет о человеке, одержимом навязчивой идеей, который наносит удары с трезвой расчетливостью, свойственной некоторым душевнобольным. А внешне он пребывает в здравом уме, так же как вы или я.
— Это смешно! — отрезал Андуз.
— Бессознательное хранит в себе много тайн. Если этот сумасшедший и правда существует, то, будьте уверены, он считает, что на него возложена конкретная миссия и у него есть весомые основания… Таково мнение патрона.
— Но разве я кому-нибудь перешел дорогу? — спросил Андуз.
— Кто знает? Может, вы кое-кому внушаете опасение.
— Сомневаюсь.
— Как сказать. Все возможно. Я не удивлюсь, если узнаю, что преступник питает подозрения к самому себе. Нет. Я шучу. Извините. Я все же считаю, что произошли всего-навсего несчастные случаи. Только патрон любит везде совать свой нос… «Он хочет достичь совершенства», — как говорит дивизионный комиссар.
— Вы будете ходить за мной как тень? — спросил Андуз. — Хотя меня это не смущает.
— Нет. Все же нет. Я просто всегда буду неподалеку.
— И долго это продлится?
— Не знаю.
— Что ж, я иду в свой кабинет. Так что не волнуйтесь. До скорого.
Чувствуя себя не в своей тарелке, Андуз долго обдумывал планы полицейского. Подпал ли он под подозрение? В таком случае Мазюрье останется с носом. «Я больше ничего не боюсь. Я в безопасности. Мы все в безопасности. И я не сумасшедший. Конечно, иногда мне казалось, что я теряю контроль над собой. Но выяснилось, что у меня все же есть голова на плечах и я могу вынести любой удар судьбы…» Однако эта мысль жгла как кислота. Полицейский приблизился к истине, когда сказал: «Преступник питает подозрение к самому себе!»
«Питаю ли я к себе подозрение? — подумал Андуз. — В некотором смысле да… Но в каком смысле? Что это означает? Что, сражаясь за Ашрам, я убиваю себя? Это правда. Мне пришлось насиловать себя днем и ночью, не имея ни минуты передышки. А потом, что еще? Существовала какая-то подоплека? Мною двигали таинственные, неуловимые мотивы? Ну хватит! А то я себя не знаю!» Он мысленно возвращался к каждой смерти, анализировал обстоятельства со свойственной ему дотошностью. Он не собирался убивать. Просто его поставили в безвыходное положение. И в конце концов он отказался от убийства. Именно это его и оправдывало. Это делало его похожим на других. Он был таким же человеком, как и все остальные: тихим, аккуратным и весьма уравновешенным. Доказательство: он вскоре вернется к прежней спокойной жизни. Наступил конец драмы, и он больше никогда не услышит о Мазюрье…
Он вздрогнул, когда Учитель вошел в кабинет.
— Похороны состоятся в субботу, — сказал Букужьян. — У Фильдара не было родственников, как ты знаешь. Мы вправе похоронить его так, как сочтем нужным. Но я думаю, что лучше это сделать по христианским обычаям. Он бы так распорядился. Я уже договорился с кюре и с похоронным бюро. Тебе не придется ни о чем заботиться. Этот полицейский тебе не очень досаждал?
— Нет. Но ему любопытно все знать.
— Пошли его подальше, если он проявит излишнюю назойливость. Нужно, чтобы он понял, что мы просто его терпим. И ничего более… Как ты себя чувствуешь?
— Получше.
— Что думаешь по поводу Фильдара?
— Безусловно, несчастный случай.
— Я так тоже считаю, но этот несчастный случай может нам повредить… Мне уже задают слишком много вопросов. Сейчас звезды не благоприятствуют Ашраму. Сатурн посылает на нас пагубные импульсы. Кто-то сглазил Обитель счастливых ценностей. Я спрашиваю себя, правильно ли мы поступаем, принимая наследство…
— Учитель… Вы не откажетесь!.. У нас столько долгов!
Учитель машинально теребил себя за волоски, торчащие из ушей.
— Я колеблюсь, — сказал он. — Решение примут Небеса!.. Сегодня вечером мы соберемся в актовом зале. Повесь объявление на двери столовой.
Андузу так хотелось удержать его, вступить с ним в спор, как будто Учитель никогда не чудил! Он чуть не показал кулак закрывшейся двери. Вдруг его охватило негодование. Отказаться от наследства! Теперь, когда до него рукой подать! Нет, это немыслимо. Если здесь и скрывается сумасшедший, то это — Учитель. Легко сказать: «Решение примут Небеса». Но Ашрам от его врагов избавили, и вовсе не Небеса. Андуз перечислял про себя всех кредиторов. Разве Небеса будут платить подрядчику, поставщикам? Да этому списку конца нет! По сути, Учитель жил в кредит. Кто станет улаживать дела с недовольными, которым приходится сталкиваться с вечно расстроенным бюджетом? Кто? Он! Как всегда!
«Ах! — сказал сам себе Андуз. — Если бы этот дом принадлежал мне! Если бы я мог им управлять по своему усмотрению! Я бы создал что-нибудь солидное, надежное. Никогда я не позволю ему отказаться от наследства. Если он заведет об этом речь, я скажу ему всю правду. Мы погибнем вместе!..» Он весь кипел от возмущения и долго не мог успокоиться. Он написал объявление и прикрепил его к двери столовой… Инспектор прочитал объявление, затем спросил Андуза, представит ли его Букужьян ученикам. Как принимали новичков?
— Учитель, — объяснил Андуз, — выжидает неделю. Если новичок упорно постигает азы культа, то проводится небольшая церемония обращения. Не удивляйтесь, если вам покажется, что собраний слишком много. Вы не обязаны их посещать. Чуть не забыл. На важные собрания наши друзья приходят в особых одеждах, в зависимости от того, насколько они подвинулись в учении. Так что не следует изумляться.
…Однако через несколько часов инспектор с трудом верил своим глазам. Он увидел, как в актовый зал вошел Учитель, облаченный в белую мантию, в сопровождении колоритного кортежа учеников. Инспектор сидел в самой глубине зала в полном смятении. Это напоминало сборища ку-клукс-клана или же Кающихся грешников Севильи.[18] Лица собранные, внимательные, почтительные, обращены к сцене, где неподвижно замер Учитель, словно ожидая таинственного вдохновения. «Моление о горе!» — подумал Бернар.
Наконец Учитель заговорил. Он отнюдь не блистал красноречием. Напротив, он излагал только факты. Он напомнил, что карма направляет эволюцию души во всех ее жизнях. Только невежда мог удивиться, что с Фильдаром произошел несчастный случай. В действительности это расплата за ошибку, совершенную в предыдущей жизни. Этот несчастный случай надо рассматривать не как возмездие, а как искупительное приношение. Андуз слушал, неимоверно взволнованный, поскольку он часто размышлял о собственной карме. Та неизведанная бездна, разверзшаяся позади него, всегда его зачаровывала. Из какого прошлого пришел человек, которого временно звали Поль Андуз? Что он делал? Какие неведомые грехи наложили на него свой отпечаток?
— Нельзя допустить, — продолжал Учитель, — чтобы разнообразие наших жизней заставило забывать нас об их глубоком единстве. Каждый из нас похож на шахматиста. Вначале у него есть определенное количество фигур. Он волен сыграть бесконечное множество или всего лишь несколько партий. Все зависит от его сил, вернее от чистосердечия. Есть личности, которые обретают освобождение сразу, таких называют святыми. Есть те, кто блуждает в потемках и совершает одни и те же ошибки. Это преступники…
Это слово, словно пуля, насквозь пронзило Андуза. Разве он сам не преступник? А разве в былые времена, много веков тому назад, он не совершал других преступлений? Он думал об Ашраме, затерявшемся в глубине столетий, и об этой личности, в некотором смысле сливавшейся с ним самим и возложившей на себя вину, от которой уже никогда, возможно, не избавиться!
Учитель говорил со свойственной ему простотой, а инспектор, все больше и больше изумляясь, делал записи. Теперь Учитель затронул проблему ада.
— Очевидно, — заметил он, — ада не существует в том виде, в каком его обычно представляют. Тем не менее это вполне реальное явление. В некоторых случаях он возникает из-за цикличного повторения одних и тех же обстоятельств. Есть потерянные души, которые уже больше не могут уйти от судьбы. И никто из нас не знает, относится ли он к числу этих отщепенцев.
Он вытянул руку, как бы собираясь указать на затаившегося среди учеников виновного. «Он никогда так не говорил, — подумал Андуз. — К кому он обращается? И почему он смотрит в мою сторону?»
— Вот почему, — продолжал Учитель, — сейчас мы споем «Песнь ночи», дабы воссоединиться с тем, кто был нашим братом.
По сигналу ученики начали гнусаво бормотать нечто похожее на медленный гимн, а инспектор выскользнул наружу. Ух! Черт побери! Недаром у патрона возникли подозрения. Он закурил сигарету и не спеша направился к бывшему гаражу. Он заранее знал, что ничего не обнаружит, но, во всяком случае, сейчас он был один и мог отвлечься от кликушеской обстановки, так действовавшей на нервы.
Он вошел в гараж, еще заваленный стремянками и мешками с цементом, включил свет в подвале, еще раз осмотрел зияющую дыру на месте рухнувшей ступеньки. Затем он прошел к строящейся гостинице, где деловито сновали полдюжины американцев. Отсюда гараж не просматривался. Если совершено преступление, то убийца хорошо выбрал место и время. Ему, наверное, придется попотеть, защищая Андуза! Чертова работенка. Он вернулся через сад и увидел, что почтальон передает Андузу письма и пакеты.
— В это время всегда приходит почта, — сказал Андуз. — Я отлучусь на минутку. Вы подождите меня в библиотеке.
Он сортировал письма, не переставая разговаривать. Последнее письмо пришло авиапочтой. На нем стоял штемпель США. Он отвернулся от полицейского и побежал в свой кабинет.
Мсье секретарь!
Мадам Нолан поручила мне сообщить вам, что она прибывает в Орли 7 ноября рейсом 215. Я забронировал два номера в гостинице «Плаза». Мадам Нолан все еще очень плохо себя чувствует и будет отдыхать весь следующий день. 9 ноября мы вместе отправимся в Реймс и остановимся в гостинице «Европа». Мадам Нолан просит профессора Букужьяна не беспокоиться и передает ему через вас привет. Мы приедем в Ашрам в 10 часов.
Искренне ваш,
Генри Г. Салливан.— Сразу чувствуется рука адвоката, — проворчал Андуз. — Девятого, однако… черт, это же послезавтра.
Он отнес письмо Учителю.
— Мы просто обязаны устроить небольшой прием, — сказал Учитель. — Организуем что-нибудь попроще из-за траура… в приемной. Побольше цветов и шампанского. Нельзя забывать, что Патрик Нолан — наш благодетель. Понимаешь это, а?.. В половине десятого я пошлю за ними машину.
— Вы думали о наследстве? Учитель, мы не должны от него отказываться. Иначе мы просто погибнем.
— Разумеется, мы примем наследство. Я над тобой подтруниваю, Поль. Просто ты никогда не веришь. Мы выйдем из положения, не бойся.
Андуз вернулся к себе, и его вновь охватило сомнение. Этот адвокат, этот Салливан, а вдруг он начнет разнюхивать… Однако нет. Он ничего не сможет обнаружить. Свидетелей не осталось в живых. Они уже не откажутся от того, что заявили жандармам. Единственный человек, который в состоянии отвечать на вопросы юриста, — это он сам. Следовательно… Он вытащил из картотеки досье Нолана и убрал в него письмо. В досье хранилось не так уж много документов, но каждый из них служил вещественным доказательством. Вот первое письмо Патрика Нолана:
Я устал от жизни. Я пережил слишком много кошмарных событий. Все, чего я хочу теперь, — это тишины. Примите меня к себе, Учитель. Во время своего очень короткого пребывания в Ашраме Лос-Анджелеса я познал такое умиротворение, что спешу оборвать последние нити, которые удерживают меня здесь, чтобы присоединиться к вам. Вы поможете мне познать Всевышнего в самом себе и скажете, как примириться с моими жертвами…
Никаких сомнений. Патрик Нолан без обиняков утверждал, что хотел поселиться в Ашраме. Второе письмо не менее ценно:
…Ничто меня здесь не держит. Мой брат руководит нашим делом с должной компетентностью и пользуется большим авторитетом. Я ему совершенно не нужен. В моем состоянии о женитьбе не может идти и речи. Я слишком богат, чтобы работать, и меня не прельщает никакая деятельность. Истина заключается в том, что я чем-то похож на нахлебника, и моя невестка иногда мне на это намекает. Все вздохнут с облегчением, когда я уеду. Если вы дадите свое согласие, Учитель, — а я знаю, что вы скажете «да», — я немедленно отдам последние распоряжения и навсегда покину свою родину…
Но самым весомым вещественным доказательством служило третье письмо. Андуз мог прочитать это письмо наизусть, настолько досконально он его изучил. Красным карандашом на полях он отметил главное:
Я поделился своими планами с братом. Он нисколько не возражал. Итак, я решил все свое состояние завещать Ашраму, если Че умрет раньше меня. И в самом деле, невестка получает очень большие доходы и совсем не нуждается в моем имуществе, в то время как вы, Учитель, существуете только благодаря щедрости своих учеников, как я не раз убеждался. Однако если я умру первым, то мое состояние перейдет к Че, ведь он всегда хорошо относился ко мне. Но я все же выражу вам свою благодарность как-то иначе…
Как иначе? Он не уточнял. Но теперь это не важно. В четвертом письме он сообщил Учителю, что завещание хранится у нотариуса семьи Нолан. Патрик зачитал и подписал завещание в присутствии Че и его жены. Все формальности соблюдены, так что комар носа не подточит. Учителю бояться нечего. В последнем письме говорилось о приезде Патрика:
Мой брат захотел меня сопровождать, поскольку я передвигаюсь с большим трудом. Но у него есть и более личная причина. Дело в том, что он сражался во Франции и его полк был расквартирован в Реймсе. Ему не терпится вновь увидеть эту страну.
Несчастные! Один воевал во Франции, другой — во Вьетнаме. Но оба нашли свою смерть в кювете, из-за неверного движения руля. Как нелепо! Но Андузу упрекать себя не в чем. Конечно, он растерялся, когда Блезо резко затормозил, но за все остальное он не несет ответственности!
Он закрыл папку, на мгновение задумался, пытаясь взглянуть на себя со стороны, словно он председательствовал на суде. По совести, он ничего не замышлял, ни о чем не жалел. После смерти братьев Нолан он действовал как верный эконом. Ван ден Брук — да… Блезо — да… О них можно сожалеть. Но либо они, либо разорение. «Ответственность ляжет на Учителя, — подумал он. — Почему он выбрал меня? Если я плохой слуга, то только потому, что слишком предан… Поль, займись цветами… Поль, обсуди смету… Поль, рассчитываю на тебя». Он вдруг вспомнил, что забыл предупредить Леа. Она приедет на выходные, а ведь до сих пор она, безусловно, не знала, что Фильдар умер и вскоре состоятся похороны. Он бросился к телефону. Он набирал то один номер, то другой, наконец она сняла трубку.
— Леа… Извини меня… Дел по горло… Умер Фильдар… Точно не знаю. Его нашли в подвале бывшего гаража. Он выносил пустые бутылки и сорвался с лестницы… Да, представь груду битого стекла. Кажется, ему разорвало бедренную артерию… Нет. Никого не оказалось рядом. Не повезло… Разумеется, приехала полиция. Избавлю тебя от ее предположений. Совершенно очевидно, что они заинтересовались совпадением, а как ты думаешь!.. Они даже приняли меры, чтобы защитить тебя и меня, если вдруг нам тоже будет угрожать опасность… Ну нет! Это совершенно нелепо… Похороны в субботу утром… Если у тебя нет темного платья, ничего… Я… мне лучше. Хотя вся эта история меня потрясла, а как иначе. Мне Фильдар нравился… Хорошо, хорошо… Не стану тебя задерживать. До субботы, да. Я тоже тебя целую.
Он подвинул телефон. Она встретится с вдовой. Она, несомненно, приедет сюда, когда мадам Нолан захочет посмотреть на место, где погибли оба брата. Ну и что? Она скажет то же самое, что и он. Он попробовал предусмотреть каверзные вопросы. Где лежали тела? Здесь все предельно просто. Леа подтвердит его слова. Нет. Она не видела, как умер Патрик. Когда она подошла ближе, он уже не шевелился. Фильдар читал молитву. Он осенил труп крестом, затем преклонил колени перед Че, который погиб мгновенно. Теперь ему не страшны никакие вопросы. Опасность исходила бы только от Ван ден Брука, Блезо и Фильдара. Они присутствовали при недолгой агонии, и если бы они уточнили хоть одну подробность… Теперь же не существовало ни малейшей щелочки, через которую смогли бы просочиться сомнение или недоверие. А если этот Салливан намеревается проводить собственное расследование, то и ему придется в конце концов опираться только на одно свидетельское показание — Андуза. Круг замкнется.
Немного успокоившись, он начал думать о приеме.
— Мне нужно с тобой поговорить, — сказала Леа. — Я много думала.
Они уединились в библиотеке, куда редко заходили ученики. Андуз рухнул в кресло. Похороны оказались для него серьезным испытанием.
— Больше не могу, — сказал он.
— Я приехала сюда в последний раз…
Она снимала черные перчатки, высвобождая каждый палец со сдержанным гневом.
— Я закончила свою работу. Я поняла, что хотела понять. Ты, естественно, продолжаешь?
— Я продолжаю что?
— Прекрати. Ты прекрасно меня понял… Разве Ашрам не может обойтись без тебя?
— Нет.
— Значит, ты обойдешься без меня.
Она резко поставила стул рядом с креслом и села.
— Послушай меня, мой милый Поль, и не сердись.
— Но я ничего не сказал.
— Мне больно видеть, как тебя буквально пожирает Букужьян. Ты достоин лучшей участи. Из-за него ни одна женщина не сможет никогда тебя полюбить… Нельзя любить того, кто от тебя постоянно ускользает. Я… Я попыталась. Как видишь, я откровенна. Так вот нет… Но открой глаза, Поль! Позавчера, как только я по телефону произнесла имя Букужьяна, ты сразу же встал на дыбы… Так что, пока это еще возможно, давай расстанемся по-хорошему, без скандала, спокойно… Я пойду своей дорогой, а ты своей. Если случайно встретимся, то пропустим по рюмочке, как друзья.
Андуз долго не сводил с нее глаз. Любопытно, как два существа могут оскорблять друг друга по пустякам, как они способны мгновенно озлобиться друг на друга.
— Ну так скажи все, что у тебя накопилось, — прошептал он.
— Все, что у меня накопилось? — переспросила она удивленно. — Ты действительно хочешь, чтобы мы выяснили отношения?
— Ты начала первая.
— Зачем? По правде говоря, я просто хотела, чтобы ты лечился… не лекарствами… а иначе… Потому что именно это тебя сюда и привлекает…
Она покрутила пальцем у виска.
— Ты похож на одержимого. Фанатика.
Он рассмеялся, встал, прошелся перед полками с книгами, в которых содержалась вся мировая мудрость.
— Фанатик! Я просто верующий.
— Верующий, да. Копия верующего. Эдакий маленький Букужьян. Вот почему я ухожу. Ты меченый, Поль.
Она остановилась, озадаченная, как если бы вдруг почуяла угрозу, затаившуюся в этом слове.
— Я плохо выражаю свои мысли, — продолжила она. — Однако мне хотелось тебе помочь… Ты выглядишь спокойным, внушаешь доверие, но ты вовсе не такой безобидный, как кажешься… Пожалуйста, Поль, сделай мне приятное. Сходи к невропатологу. Он тебя вылечит от непонятной мне болезни, но я ее чувствую.
Он стоял к ней спиной и машинально расставлял книги в алфавитном порядке. Его потрясло до самой глубины души. Подлинным врагом была она… с самого начала! Под ее светлым взглядом он превращался в пресмыкающееся, которое пригвоздили к земле.
— Ладно, — сказал он. — Можешь не продолжать. Мои комплексы — это мои комплексы. И я сумею справиться с ними. Но ты права. Так больше продолжаться не может.
Он повернулся к ней лицом и тихо добавил:
— Я сержусь на самого себя. И я жду, когда Учитель даст мне избавление.
— Бедный Поль!.. Скажи, а ты уверен, что не ненавидишь его?
— Что?
— Чрезмерная привязанность никогда не бывает очень прочной! Я не ясновидящая, но держу пари, что однажды ты уйдешь от него, громко хлопнув дверью. Поэтому я опять прошу тебя: оставь его сейчас. Вернись со мной в Париж.
— Нет.
— Что ж, Поль. Все кончено. И без обид.
Она протянула ему руку. Он сжал ее робко, боязливо, как-то устало.
— Ты едешь прямо сейчас?
— Нет. В понедельник утром. Почему ты спрашиваешь? Уж не думаешь ли ты, что я даю тебе отсрочку?
Он пожал плечами. Нет, конечно. Он думал только о завтрашнем испытании. Поскольку Учитель учил его видеть во всем приметы, он не мог не вспомнить, что Блезо тоже собирался уезжать и умер. Фильдар тоже хотел покинуть Ашрам и умер… Он проводил Леа до вестибюля и следил за ней глазами, пока она поднималась к себе в комнату. Придется ли ему ее убить, из предосторожности, чтобы ничего не оставлять на волю случая? И все же какое-то чувство теплилось в нем, может даже любовь…
Он нашел Карла в приемной. Карл передвинул длинный стол в глубину комнаты и расставлял бокалы.
— Цветы, — сказал он, — поставим завтра утром. Кто будет присутствовать на церемонии?
— О! Почти все.
— На всех бокалов не хватит. Придется одолжить. Я приготовил двенадцать бутылок. Достаточно?
— Думаю, что да.
На пороге показался инспектор.
— Моя помощь не требуется?
Он подмигнул Андузу и пошел с таинственным видом к нему навстречу.
— Малышка, которую вы провожали, это она?
— Да. Это Леа.
— Жаль, если с ней что случится! Не буду терять ее из виду, можете мне довериться.
Вирджиния Нолан была высокой красивой женщиной, превосходно сохранившейся благодаря должному уходу. Она говорила любезным, но повелительным тоном, внушающим страх. Она носила очки в весьма изящной оправе, что только подчеркивало суровые черты ее лица. Ее адвокат, Салливан, худощавый, гладко выбритый, молчаливый мужчина, прятал глаза под темными очками и держал на коленях дипломат. С Учителем они разговаривали по-английски, сидя втроем на заднем сиденье «линкольна». Леа сидела впереди, между Карлом и Андузом. Машина ехала по Реймсу.
— Если тебе начнут задавать вопросы, — шептал Андуз, — скажи, что ничего не помнишь. Эта поездка все равно не принесет никакой пользы. Поэтому чем раньше мы закончим, тем лучше.
Он повернул голову, изучая дорогу. Этот путь, проделанный в обратном направлении, его сбивал с толку. Он пытался представить обстоятельства, при которых произошла катастрофа, мысленно сел за руль «ситроена». Тогда перед его глазами простирался большой отрезок дороги, идущей все время прямо, а по диагонали ее пересекала высоковольтная линия. А сейчас до самого горизонта он видел серую равнину, а ему навстречу бежали бесконечные провода и опоры. Андуз окончательно запутался. Он несколько раз просил Карла замедлить ход, оборачивался, чтобы посмотреть на дорогу через заднее стекло. Его взгляд наталкивался на вдову, которая слушала, как всегда, словоохотливого Учителя. Салливан машинально поглаживал портфель, где лежали… Что?.. Какие документы?.. Какие бумаги?..
— Там, — сказала Леа. — Я узнаю это место. Я помню это ограждение, справа. А напротив видна мачта.
— Остановите, — сказал Андуз Карлу, — не доезжая ограждения… Да, я тоже вспомнил.
Карл потихоньку съехал на обочину и, сняв фуражку, открыл дверцу. Пассажиры вышли, образовав необычную группу на фоне низкого неба. Женщина, усыпанная драгоценностями, мужчина в черном, как могильщик, и Учитель, любезный и услужливый, будто он встречает гостей в своей усадьбе.
— Что мне делать? — спросил Андуз.
Учитель перевел. Мадам Нолан и Салливан посовещались между собой. Адвокат ответил Учителю. Тот опять перевел:
— Объясни, как ты себя вел, очень подробно…
Но Салливан прервал его и обратился по-французски к Андузу:
— Пожалуйста… Вы расскажете нам все, что произошло… Покажите, где вы находились, когда начали тормозить…
Это уже не паломничество, а следственный эксперимент. И Андуз понял, что юрист начал проводить собственное расследование. Учитель и вдова перешли через шоссе и остановились около мачты высоковольтной линии. Андуз с адвокатом отошли назад метров на пятьдесят.
— Приблизительно здесь я затормозил.
— Где сидели жертвы?
— Справа от меня находился мсье Патрик. Он держал костыль между ног. Мсье Че сидел сзади, тоже справа.
Адвокат открыл портфель и вытащил несколько отпечатанных на машинке листов и сверился с ними. Что это за отчет? Где он его раздобыл?..
— Продолжайте, прошу вас.
Андуз попытался объяснить американцу, как себя вел старенький «ситроен» на скользкой дороге с выбоинами. Адвокат, привыкший к шикарным машинам и великолепным автомагистралям, старался вникнуть в суть.
— Да, да… — говорил он из вежливости.
Андуз, вытянув обе руки вперед, объяснял, как машину занесло. Они подошли к мачте, и Андуз остановился на том месте, где его выбросило из машины.
— Я очутился на земле. Меня оглушило, но я остался цел и невредим и почти тотчас поднялся.
Адвокат полистал свое досье, изучил схему, измерил большими шагами расстояние, затем задумался. Время от времени мимо проезжали машины, из-за стекол выглядывали любопытные лица. Адвокат перешагнул через ограждение и осмотрел подножие мачты. Затем быстро поговорил о чем-то с мадам Нолан по-английски. Он повернулся к Андузу.
— Где находились трупы?
— Мсье Патрика выбросило вперед, на другую сторону кювета, примерно на то место, где сейчас находится мадам Нолан. Его костыль валялся чуть поодаль.
— Он был мертв?
— Нет. Он еще жил несколько минут.
— Вы уверены?
— Совершенно уверен. Он пытался что-то сказать. Его губы шевелились.
— Другие свидетели это подтвердили?
— Все без исключения. К несчастью, я остался последним свидетелем, потому что трое других… Вы ведь в курсе.
— А девушка?.. Будьте любезны, позовите ее.
Все решалось в эту секунду. Андуз знаком подозвал Леа.
— Что вы видели? — спросил адвокат.
— Я была настолько потрясена, что ноги мне отказали. А когда я все-таки подошла ближе, то они оба уже умерли. Мсье Фильдар стоял на коленях перед Патриком Ноланом. Потом он поднялся и подошел к телу Че.
Адвокат повернулся к Андузу.
— Где лежал Че?
— В кювете, на куче мусора. Он погиб сразу.
— Значит, он умер первым.
— Несомненно.
Салливан взял за руку вдову и Учителя и отвел их в сторону, чтобы кое-что обсудить. Андуз, сжавшись в комок, даже не смел и взглянуть на Леа. Как он оказался прав, заставив замолчать всех троих! Мадам Нолан привело во Францию не столько горе, сколько главным образом желание подробно выяснить обстоятельства катастрофы, получить доказательство, что именно Патрик умер последним. Хорошенькое дельце для адвоката! А Андуз вообразил себе, что вдова едет поклониться месту, где ее муж и деверь распростились с жизнью. Отнюдь. И сейчас она, скорее всего, говорила о делах и о наследстве! Иногда ее очки поблескивали, когда она поворачивалась в сторону Андуза. Но они напрасно старались. Андуз себя чувствовал хозяином положения. Мадам Нолан не опустится до того, чтобы попросить Леа описать трупы! И однако, задай она только один этот вопрос, как произойдет катастрофа. Если Леа спросит: «Патрик — это тот, что с усами?», тогда откроется правда… Какой скандал!.. Только… опасаться нечего. Напрасно адвокат проявлял профессиональную подозрительность, мог ли он догадаться, что Андузу хватило ума перепутать имена… Ведь это единственный, хотя и отчаянный способ добиться наследства.
Андуз ждал, уверенный в себе и в то же время терзаемый опасениями. С полицией все гораздо проще. Она могла опираться только на свидетельские показания, полученные на месте происшествия и неоднократно подтвержденные. А свидетели, введенные в заблуждение, подтвердили, что Патрик Нолан пережил Че на несколько минут. А теперь единственным свидетелем оставалась Леа, видевшая лишь два трупа.
Адвокат перешагнул через кювет и вновь заглянул в свои бумаги.
— Вы приезжали сюда после аварии?
— Нет, — ответил Андуз.
— Теперь, когда мы вновь заговорили об аварии, всплыли ли у вас в памяти другие подробности?
— Нет.
— Священник после окончания расследования мог невзначай передать вам последние слова Патрика Нолана… Этот момент неясен, однако он имеет огромное значение.
— Думаю, что он ничего не сказал членораздельно. Его губы просто шевелились.
— Благодарю вас.
Опять они принялись что-то обсуждать. Андуз перешел через дорогу. Леа догнала его около «линкольна».
— Чего они дожидаются? — спросила она. — Здесь очень холодно.
Мадам Нолан перекрестилась, и они направились к машине. Наконец-то! Испытание закончено. Пассажиры заняли свои места. Андуз с наслаждением уселся в мягкое кресло. Столько усилий, страданий, переживаний, чтобы отвоевать эти миллионы! Он станет яростно сражаться за них с Учителем. Он их заработал с таким трудом! Он ни о чем не сожалел. Две жизни, ибо Фильдар не в счет, две жизни в обмен на все духовные благодеяния, которые Ашрам продолжит вершить… Что это значит? Покой. Безмятежное спокойствие. Жизнь войдет в свое русло. Он вдруг почувствовал прилив нежности к Леа, поискал ее руку.
— Я непременно начну лечиться, — сказал он. — Обращусь к невропатологу. Может, ты права.
Она не ответила и отдернула руку. Тем хуже! Он обойдется без Леа. Целомудрие и послушание, как у монаха! Все его мысли и заботы обратятся к Ашраму. Он посвятит ему всего себя. Он станет воистину любимым учеником. Он облагородит общину, очистит ее от подозрительных субъектов, не позволит Учителю принимать каждого встречного-поперечного. Великодушие, преданность, милосердие — это прекрасно. Но порядок, дисциплина, строгость — гораздо лучше. Именно он будет распоряжаться материальными благами!
«Линкольн» вернулся в замок.
— Через четверть часа я всех жду в приемной, — сказал Учитель.
Он провел гостей к себе в кабинет. Андуз пошел проверить, все ли готово. Цветы, очень хорошо. Бутылки убраны в холодильник. Хорошо. Молодой инспектор появился в дверях.
— Можно войти? Я не помешаю? Что вы собираетесь праздновать?
— Это вовсе не праздник. Просто мы принимаем мадам Нолан и ее адвоката.
Ученики стали молча собираться.
— Вы можете остаться, — сказал Андуз. — Встаньте где-нибудь в уголке. Извините.
Он выстроил учеников полукругом, удержал Леа, которая хотела уйти.
— Не уходи. Доставь Учителю удовольствие.
— Это неприлично, — сказала Леа.
— Вовсе нет. Нужно же поблагодарить мадам Нолан.
— За что?
— Ну, за ее приезд. Семья Нолан — наш благодетель. Патрик Нолан завещал все свое состояние Учителю.
— Я не знала. И много?
— Да, довольно много.
— Мои поздравления.
Учитель вновь облачился в длинную белую тунику. Он усадил в первый ряд вдову и адвоката и повернулся лицом к ученикам.
— Я убегаю, — шепнула Леа. — Терпеть не могу речей.
— Прошу тебя. Давай тихонько встанем сзади. И не дергайся.
— Друзья мои, — начал Учитель, — вы не забыли о трагическом происшествии, унесшем жизни мсье Патрика Нолана и его брата. Патрик Нолан, с которым я близко познакомился еще в Америке, приехал, чтобы присоединиться к нам. Он отличался исключительными способностями, и Ашрам потерял в его лице выдающегося ученика. Мне хотелось бы от вашего имени выразить мадам Нолан, на которую обрушился страшный удар, ибо смерть настигла одновременно ее мужа и деверя, наши соболезнования, нашу почтительную симпатию, а также нашу признательность.
— Он действует мне на нервы, — прошептала Леа.
— Тише!
— …Да, нашу признательность, ведь Патрик Нолан принес в дар Ашраму все свое состояние. Он знал, что общине живется порой трудно. И этим поступком он хотел показать ту важность, которую он придавал нашей деятельности. Он, чье тело изранила война, не сомневался, что мир обретет спасение благодаря возрастающему влиянию обществ, похожих на наше, которые от Запада до Востока трудятся во имя примирения людей во вновь обретенном единстве. Я хочу только добавить, чтобы утешить его близких, что хотя он и стал невидимым нашему взору, он все равно продолжает жить в абстрактном мире, где зреет зародыш его новой жизни, более полной и богатой, так как он был добрым и великодушным. Давайте почтим его минутой молчания.
Ученики склонили головы. Андуз заметил вдову, по-прежнему владевшую собой, и рядом с ней сосредоточенного адвоката, как всегда сжимавшего свой портфель.
— Спасибо, — сказал Учитель.
Послышался легкий шепот, и адвокат вышел на середину круга.
— Слова, которые мы только что услышали, — сказал он, — нас глубоко тронули. Мы благодарим вас за такой теплый прием. Я знаю, что вы никогда не забудете Патрика Нолана. Тем не менее мадам Нолан, которая просит прощения за то, что недостаточно хорошо знает ваш язык, хочет преподнести вам подарок…
Он открыл портфель, перебрал документы и вытащил большую фотографию, которую и протянул Учителю.
— Этот портрет, — продолжил он, — по праву займет свое место среди портретов друзей и благодетелей Ашрама, украшающих эти стены…
Учитель поднял высоко над головой фотографию, чтобы все ученики смогли ее увидеть. Леа сжала руку Андуза.
— Он ошибся, — сказала она. — Это не Патрик Нолан.
Окаменевший Андуз превратился в комок нервов.
— Это не Патрик. Я уверена. Очки носил Че. А у Патрика были усы.
— Замолчи, — зашептал он. — Я тебе объясню потом…
— Что ты мне объяснишь? Я вполне в своем уме. Ты нам сам так сказал… Думаешь, я не помню?
— Пожалуйста, замолчи.
К ним обернулись несколько лиц.
— А! Ну нет, — сказала Леа тихо. — Если Фильдар или Блезо…
Она вдруг замолкла. Андуз понял, что она обнаружила истину и это ее потрясло. Тем временем Карл прикреплял портрет к стене. Патрик через очки, казалось, наблюдал за залом печальными глазами. Его правая рука опиралась на костыли. Леа посмотрела на Андуза.
— Но я не могу допустить…
Она сделала движение, чтобы отодвинуть в сторону двух учеников, стоявших перед ней. Андуз ее задержал.
— Вы мошенники! — воскликнула она.
Ее голос затерялся в поднявшемся гаме, поскольку все присутствующие столпились около мадам Нолан, желая пожать ей руку.
— Выйдем, — сказал Андуз. — Ты должна меня выслушать.
Он вытолкнул ее в пустой вестибюль. От ярости он стал заикаться.
— Ты спятила?.. Патрик или его брат, какая разница?
Молодой инспектор появился на пороге вестибюля и закурил сигарету. Андуз хотел увести Леа подальше. Она принялась отбиваться:
— Отпусти меня… и постарайся говорить откровенно… Это чей портрет?
— Патрика.
— Тогда почему ты хотел нас заставить поверить, что Патриком зовут другого?
— Из-за наследства. Если Патрик умрет первым, то его состояние перейдет к брату. Но если он умрет последним, то наследником становится Учитель… И к несчастью, он умер первым… Чуть раньше! Но условия завещания все же остаются в силе.
— Идиотизм, — сказала она. — Тебе следовало подумать, что…
Она сдавила руками уши, стиснула лицо пальцами, как бы борясь с невыносимой болью.
— Нас было четыре свидетеля, Поль!
— Но никто из вас не знал в лицо братьев Нолан. Кроме меня. Вы не могли отличить Патрика от Че, ведь он не носил обручального кольца. Меня охватило возбуждение… я действовал на благо общины. Когда приехали жандармы, все уже давно закончилось. Они записали наши свидетельские показания.
— Но послушай… они же изъяли документы обоих погибших, их паспорта с фотографиями!
— Ну и что? Они же не собирались устраивать вам перекрестный допрос, предъявив фотографии!.. Пять человек утверждали, что Че скончался раньше Патрика. Разве этого недостаточно?
— Нет! — упорствовала Леа. — Нет. Этого недостаточно.
Инспектор наблюдал за ними издалека.
— Прошу тебя, — сказал Андуз. — Подумай. Мы не обездолим мадам Нолан. Она богата.
— Ты нам солгал, — продолжила Леа. — Мы не могли догадаться, кто из них был инвалидом. Но достаточно, чтобы один из нас совершенно без злого умысла в разговоре упомянул о какой-нибудь детали, как истина стала бы очевидной… Ты знал, что мадам Нолан собиралась приехать?
— Да.
— И ты знал, что она начнет задавать нам вопросы?
— Да… Она или ее адвокат.
— Вот именно. И если бы Ван ден Брук или Блезо сказали, что тот, кто с усами, пытался что-то произнести, или же чтобы Фильдар рассказал, как он стал на колени перед ним…
Андуз молчал. Он больше не мог воспрепятствовать мрачной работе мысли Леа, идущей к логическому концу.
— Они умерли, — прошептала она. — А я? Если бы я присутствовала при агонии Че, если бы видела то, что видели другие, я тоже умерла бы, не так ли?.. Это ты… Да, это ты… Я теперь хорошо понимаю… Но вы чудовища. Ты и твой Букужьян. Вы чудовища!
Она повысила голос, и инспектор, охваченный любопытством, переступил через порог.
— Пойдем в парк, — сказал Андуз.
Он протянул руку. Она отшатнулась.
— Не прикасайся ко мне. Он был в курсе, да?
— Нет. Клянусь, что нет.
— Значит, ты его обманул! Надо же, как ты любишь деньги!.. Ашрам распался, твой Учитель предан… может, его даже арестуют… и все это из-за гнусной корысти. Знаешь, кто ты?.. Ну…
Он схватил ее за горло.
— Нет, — крикнул он. — Только не это! Неправда. Я не виновен, Леа. Я ничего не замышлял. Все произошло помимо моей воли.
— Эй! Вы там!
Инспектор устремился вперед. Андуз отпустил девушку, она упала на колени. Она задыхалась, но ей еще хватило сил крикнуть: «Будь ты проклят! Проклят!»
Андуз пустился бежать, обогнул дом, увидел бывший гараж, устремился туда, закрыл дверь на ключ. Он запыхался. Выиграть время! Прийти в себя! Кто-то застучал кулаком в дверь.
— Андуз!.. Откройте!.. Откройте!..
Андуз оглянулся кругом. Он пропал. С потолка свисал канат. Еще одна примета. Последняя. Учитель говорил правду. Столько примет вокруг, а он ничего не понял. Он принес стремянку, сделал скользящую петлю.
— Андуз!.. Это я, Бернар… Откройте!
Он просунул голову в петлю. Теперь он знал, из какого прошлого пришел… какого Учителя предал когда-то давно. И в каждой новой жизни он начнет все сначала. Он обречен предавать во веки веков.
— Это не моя вина, — сказал он.
Ударом ноги он опрокинул стремянку.
В тисках
La Tenaille (1975)
Перевод с французского Б. Скороходова
— Не стоит беспокоиться, — сказал мэтр Брежон. — Я знаю дорогу.
Виктор Леу пытался встать, опираясь на трость и на край стола. Адвокат хотел было ему помочь.
— Не надо, — пробормотал Леу.
Отталкивающая гримаса искажала его лицо. Левое веко было полуопущено. Левая рука висела как плеть. Ему наконец удалось встать. Жестом он отстранил своего друга.
— Филлол настаивает, чтобы я ста… ста… (он запнулся на этом слове)… Старался все делать сам. А Филлол — хороший врач…
Голос его сильно изменился, губы двигались странно, как у старой лошади, жующей удила. Он сделал несколько шагов, еле волоча ноги.
— Я рад… что все… привел в порядок. Лучше все… пре… предусмотреть заранее, правда?
— Конечно, — ответил адвокат наигранно бодрым тоном. Так обычно разговаривают с тяжелобольными людьми. — Вот увидите, все будет хорошо. Пусть Симона мне непременно напишет, как только вы устроитесь.
Леу остановился, искоса посмотрел на мэтра Брежона.
— Бедняжка Симона!.. Какую я ей уготовил участь!
— Наймите сиделку. И потом, черт побери, вы же не при смерти!
Леу достал платок и медленно вытер рот. Как только он начинал говорить, на губах выступала слюна.
— Я знаю, что серьезно болен, — проговорил он. — Я чувствую себя хуже, чем все думают. Ладно, друг мой, спасибо… за все.
— Вы вернетесь?
— Нет. Переезд отнимает слишком много сил… Филипп… будет держать меня в курсе… Что вы хотите?.. Мое время прошло… Все кончено…
— Я приду к самолету проводить вас.
Леу оперся о трость.
— Вы очень любезны… но не надо… Все эти прощания меня просто убивают.
— Да, ведь за такое долгое время вы перезнакомились со всеми. Вы здесь уже двадцать лет?
— Двадцать пять… Скоро будет двадцать шесть.
Леу повернулся к заливу, посмотрел на пальмы, на лужайку, где работала поливочная машина.
— Тяжело уезжать, — пробормотал он.
— Отойдя от дел, вы могли бы остаться здесь.
— Нет. Лучше предоставить свободу… свободу… преемникам… И потом, не забывайте о моей малышке Симоне… В Париже у нее больше шансов выйти замуж, чем здесь… Мне так хочется, чтобы она устроила свою жизнь… Теперь это — моя главная забота.
— Не оставайтесь долго на ногах, не утомляйте себя… Я горячо желаю, чтобы вы выздоровели, чтобы хорошо устроились на новом месте… Мы часто будем вспоминать о вас…
— Спасибо.
— Пустяки. Ладно. Держитесь!
Адвокат долго жал здоровую руку Леу, затем удалился. В гостиной его ждала Симона.
— Извините за беспорядок, — сказала она. — Одни вещи берем с собой… другие оставляем здесь… Голова идет кругом. Ну, как вы его нашли?
«Как же она на него похожа! — подумал мэтр Брежон. — Такие же серые глаза. Тот же подбородок. И такой же нелегкий характер».
— Что ж, — проговорил он, — думаю, дела не слишком плохи. Но он очень беспокоится о вас.
— Присядьте на минутку, вы же не торопитесь?
Она взяла пачку сигарет со столика из черного дерева, украшенного изображением дракона.
— Вам я не предлагаю. Вы человек положительный. А я вот выкуриваю пачку в день. Бедный папа! Мне двадцать восемь лет, а он обо мне беспокоится. Это очень трогательно.
Она закурила.
— Иногда, правда, раздражает.
Затягивалась она глубоко, выдыхая кольца дыма, закрывавшие ее лицо голубым туманом, который она время от времени отгоняла движением руки, как будто освобождаясь от обволакивающей ее паутины.
— Его дела плохи, — возобновила она разговор. — Филлол — просто осел. У него допотопные понятия. Паралич лечат не только таблетками и уколами. В Париже мы сразу же обратимся к настоящему специалисту. Папа… ведь я его уже не узнаю… У него бывают эмоциональные всплески, как у старика. Представьте себе, это у него-то! Иногда он даже теряет контроль над собой… Он путает дни, даты. Подумать только, каким он был раньше.
— Мне кажется, что резкая перемена обстановки не пойдет ему на пользу, — сказал адвокат. — Он ведь никого не знает в Париже?
— Никого. После того как он поселился здесь, он никогда туда больше не ездил.
— Но… извините за нескромность… если с ним что-то произойдет в Париже, разве согласился бы он быть похороненным так далеко от могилы жены? В завещании ничего об этом не говорится.
— Ему это глубоко безразлично. Мы с ним обсуждали этот вопрос. Он желает, чтобы его похоронили в Париже в склепе родителей, причем без особых церемоний. Ну а мама, естественно, останется здесь. Вас это удивляет?.. Но ведь мама умерла более десяти лет тому назад. А у отца всегда было столько дел! Понимаете, у него никогда не оставалось времени на сантименты.
— Ну а вы? Вы тоже покидаете нас навсегда?
— Не знаю. Скажу откровенно, ничего не знаю. Папа купил большую квартиру в семнадцатом округе… Вы в курсе?
— Да, конечно. Должен сказать, хорошая сделка.
— Он уже полностью обставил квартиру. Мы берем с собой совсем немного… мою мебель, я очень дорожу ею… ну и некоторые семейные реликвии. Понравится ли мне там — это уже другой вопрос… Я думаю, что время от времени буду приезжать. Не хочу бросать Марилену… Что-нибудь выпьете? Немного виски?
Она встала и вышла, перешагнув через упакованные коробки.
«За этой девушкой дают миллиарды, — подумал адвокат. — Прекрасная партия. Там, конечно же, не будет недостатка в претендентах».
Он прошелся по комнате с опустевшими стенами. Мысленно представил себе весь дом: просторную столовую, выдержанную в колониальном стиле, громадную прихожую, где красовались образцы и макеты самолетов: «Фирма Леу»… Человек, которого называют господин Виктор, может гордиться. Он создал дело, в которое никто не верил. Фирма Леу! С десяток моделей самолетов… Каботажные суда… Рыболовные… Крупные перевозки на близлежащие острова, прежде всего на Мадагаскар. Теперь Сен-Пьер находится всего в нескольких часах пути от Таматаве, от Антананариву и даже от Диего-Суареса…[19]
Досадно все это бросить, продав дело, пусть даже за огромную сумму, акционерному обществу, в котором очень быстро возьмут верх американские капиталы. По крайней мере, сам особняк, несомненно, останется французским владением, если хозяин сельскохозяйственных угодий Рандель примет наконец решение. А ведь это четыре большие комнаты, две ванные. Великолепный ансамбль, не говоря уже о саде и подсобных строениях, бассейне, гараже на два автомобиля… Леу хочет уехать так же, как и приехал, — с чемоданом в руке. Но приехал он разоренным, а уезжает богатым. Адвокат сел, услышав шаги Симоны в соседней комнате.
— А ваш свояк Филипп не почувствует себя как бы немного преданным?.. Он ведь оказался в достаточно сложном положении: зять прежнего хозяина, конечно, не совсем зять… Я просто привык считать Марилену вашей родной сестрой… Знаю, Филипп — просто муж племянницы… Значит, племянник бывшего хозяина… Как к этому отнесется новое руководство? Когда дело переходит в другие руки, обычно старых служащих увольняют… Еще воды, спасибо.
— Вы правы, — ответила Симона. — Он не очень доволен. Я считаю, что он держался довольно независимо, особенно в последнее время. Узнав, что папа хочет продать дело, сначала хотел все бросить. Мне об этом сказала сама Марилена. Но где ему найти такую работу? Марилена его отговорила.
Мэтр Брежон не торопился уйти. Ему нравилось вынюхивать чужие секреты. Это входило в его работу.
— Думаю, — продолжал он, — вашей кузине расставание не по нутру?
Симона задумалась, как бы взвешивая ответ.
— В сущности, — ответила она, — я не очень хорошо знаю Марилену. Думаю, да, ей тяжело. Поэтому мы их и увозим во Францию на три недели. Они уже давно не отдыхали по-настоящему. Знаете, не так-то просто оторвать Марилену от дома. Не видела другой такой замкнутой и домашней женщины.
— Она не похожа на вас, — с улыбкой заметил адвокат.
— Это так, — призналась она. — Я обожаю путешествовать. И надо признать, папа всегда предоставлял мне свободу. Если ему станет лучше, я сразу же постараюсь увезти его развлечься в Канны, в Женеву, куда он захочет… Почему бы и нет? Думаете, это будет невозможно?
— Боюсь, что так. Он сознает, что сдал… очень сдал… Он пребывает в очень плохом настроении. Он никогда не согласится выставить себя на всеобщее обозрение, чтобы все видели, как он еле передвигает ноги, а санитарка ведет его под руки. Думаю, он запрется в квартире и откажется куда-либо выходить. Следите за ним. Он из тех, кто способен сам положить конец своему существованию.
Симона вдруг испугалась.
— Это было бы слишком ужасно, — пробормотала она. — Ведь его брат когда-то… Он вам рассказывал?..
— Как-то раз он мне об этом намекнул… Насколько я понял, его брат покончил с жизнью после банкротства…
— Все гораздо сложнее. У отца были брат и сестра. Так вот, эта сестра… моя тетя Ольга… скажем так, они с отцом обмениваются новостями один раз в году… иными словами, она никогда не играла особой роли в его жизни. И наоборот, он был очень привязан к своему брату… мне об этом рассказывала мама… Братья вдвоем основали сахарный завод возле Лилля. Но дело не пошло… Бухгалтер оказался сволочью. Они едва не попали под суд. Папин брат застрелился. Чуть позже умерла его жена, а Марилена осталась сиротой.
— Я не знал…
— О! Папа ведь не всегда был таким удачливым. Тогда он считал себя опозоренным, бедняга. Он решил уехать на край света, но в то же время остаться во Франции. И он нашел такое местечко — Реюньон.
— Он сделал неплохой выбор, — проговорил адвокат с улыбкой, как бы поощряя Симону продолжить рассказ.
— Увидев, что здесь можно заработать больше денег, — продолжала Симона, — он вызвал маму, Марилену и меня. Ему казалось, что он в долгу перед племянницей.
— Понимаю, — сказал мэтр Брежон. Его глаза горели от любопытства.
— Тогда мы были еще совсем маленькие. Я, конечно, ничего не помню. Это ведь было так давно!.. Но ему, наверно, не понравится, если он узнает, что я…
Мэтр Брежон поднял руку, заверяя в том, что все останется между ними.
— Ему надо найти какое-нибудь занятие, — сказал он. — Для такого активного человека бездеятельность может оказаться опасной.
— Какое? С парализованной-то рукой! И потом, что вы можете ему предложить? Читать он не любит. Телевизор? Он ему быстро надоест. Буду катать его на машине, это ему понравится.
Адвокат покачал головой. Ему не хотелось произносить вслух: «Мне жаль», но Симона угадала его мысль. Она закурила еще одну сигарету и пожала плечами.
— У меня нет выбора, вы согласны?
— К счастью, у вас есть деньги. Это хорошая компенсация. Кстати, может, вам нужен аванс?
— Спасибо. Не надо. У меня есть доверенность, и я смогу снять со счета, который открыт в одном из парижских банков, любую сумму.
Адвокат поставил стакан на стол и поднялся.
— Я лично прослежу за выполнением договора. Новая фирма кажется мне надежной. Так что об этом вы можете совершенно не волноваться. Вопрос о доме тоже надеюсь решить в самом ближайшем будущем. Мне остается только пожелать доброго пути вам, вашей кузине и ее мужу. Они скоро вернутся, а вот вы… Да, дорогая Симона… вы уж позвольте мне называть вас Симоной… как жаль расставаться с вами. Разрешите обнять вас. Надеюсь все же, что время от времени мы будем встречаться… Пишите мне, как себя чувствует мсье Леу… Видите ли, все это выглядит довольно странно… Нам всем здесь очень хорошо, и вместе с тем, когда кто-то уезжает во Францию, мы испытываем… как лучше сказать?.. что-то вроде зависти, как будто нам чего-то не хватает… Думаю, это потаенная болезнь островитян. Нам не хватает воздуха. Ладно, дорогая Симона, желаю вам удачи!
«Странно, — подумал Филипп. — Я дышу полной грудью только в этой крошечной кабине… нельзя опускаться, надо летать и летать… К черту старика, его паралич, эту дурацкую поездку!»
Он наклонился и увидел внизу голубую бездну, раскинувшуюся землю, так похожую на географическую карту, опоясанные белой пеной берега, медленно покачивающиеся при повороте машины горы. Но самое замечательное зрелище представляло собой небо, эта живая пустота, где пробегают невидимые волны, незаметно влекущие планер к маленькому ослепительно-белому облачку, края которого уже рвутся, здесь, совсем рядом, разлетаются в клочья, и неуловимая пелена, мощная, как магнит, обволакивает планер со всех сторон. Синева притягивает нас, словно тех больших морских птиц, которые непостижимым образом взмывают ввысь на своих неподвижных крыльях.
«Я принадлежу только себе и никому другому, — думал Филипп. Он как будто оцепенел, но в то же время сохранял ясность ума. — Я воздух и облако. Если захочу, я растворюсь в мерцании света». Он посмотрел на указатель высоты: семь тысяч футов. «Хватит на сегодня. А жаль. Такая прекрасная погода! И так хорошо несет воздушный поток. Я мог бы облететь весь остров. Нет ни малейшего желания возвращаться на землю. Эта поездка во Францию сводит меня с ума…»
Филипп с сожалением оторвался от притягательного облака и пошел на снижение. Засвистел ветер, он почувствовал, что падает, но свободно, легко. С силой тяготения можно поиграть. Одно движение руки — и машина возвращается в горизонтальное положение, скорость снижается, шум затихает, и остается только оглушительная тишина мягкого скольжения при разливающемся свете. И снова возникает чувство радости. Он не знает, почему так счастлив. Он только знает, что ему хорошо вдали от кабинета, от мастерских, от каждодневных никчемных занятий. Он похож на тех насекомых, которые большую часть жизни проводят под землей в полной темноте, а затем вдруг вылезают и начинают летать. Жаль только, что он не исчезает при закате дня, а вновь становится куколкой и вновь начинает задыхаться от монотонного существования рядом с бумагами и Мариленой.
Машина снижается, плавно скользит в безграничных сумерках. Солнце вроде бы стоит еще высоко, но на земле уже вытягиваются тени. Видно, как остров погружается в темноту, как он окрашивается в синие и коричневые тона, как то там, то здесь начинает преобладать пепельный цвет. Нельзя так долго оставаться в воздухе. Восходящие потоки теряют силу. Планер становится тяжелым. Но еще несколько минут, пожалуйста! Эта поездка во Францию — такая тягомотина. Этот старик их и раньше подавлял своим авторитетом, а теперь и вовсе задавил своей болезнью, как же от него избавиться? В небе приходит пронзительное озарение. Несмотря на отвращение и угрызения совести, вдруг начинаешь понимать, что ненавидишь его… но не злобно, а так, как препятствие, упорно преграждающее путь. Филипп не мог ему простить, что тот продал дело, ни с кем не посоветовавшись. Если бы старик не был человеком из прошлого века, он бы понял, что дело должно остаться в семье, перейти в руки племянницы и племянника. Филипп твердо считал, что из него получился бы прекрасный руководитель фирмы Леу. Да и вообще, кто в последнее время взял на себя все полномочия? Так ведь нет! Старик все еще не доверяет. Однажды Филипп услышал фразу, глубоко оскорбившую его. Она до сих пор заставляла его страдать, как старая рана. Старик, как это нередко случалось, вступил в перепалку с Мариленой: «Твой муж, — воскликнул он, — просто механик!»
Планер вдруг резко занесло в сторону. Филипп выпрямил ход, затормозил. Тридцать миль — нехорошая скорость для посадки. Он немного отклонился в сторону моря, но ничего страшного. Механик! Слово звучало как оскорбление. Старик хотел сказать, что он способен только на то, чтобы следить за инвентарем. Ему можно доверить только черновую работу. А патрон управляет персоналом, золотым фондом фирмы. Старый дурак! Как будто в этой стране, где климат для машин убийствен, есть что-нибудь важней, чем ухаживать за двигателями. К тому же если бы старик хоть закончил Центральную школу[20] или Политехнический институт. Куда бы еще ни шло. Можно было бы склонить голову. Но всего лишь училище! Хвастаться тут нечем…
Планер уже кружил над посадочной площадкой. В Сен-Пьере зажигались огни. В стороне моря краснело небо. Три недели в Париже, и сезон здесь кончится. Задуют не те ветры, возникнут не те потоки. Полеты станут рискованными. Нужно будет ждать весны. Ну и что? Отказаться от поездки в последний момент? Тогда против него восстанет весь клан Леу. Лучше смириться.
Он пикирует, резко заваливается на крыло. Он наделяет эту искусственную птицу с полотняными крыльями своими нервами, мускулами, чтобы почувствовать упругость воздушной среды, отделяющей его от земли. Он немного выпрямил ход машины. Планер начал медленно приближаться к ангарам и баракам, возвышающимся в конце поля. При касании с землей планер глухо зазвенел, потом подскочил. Безукоризненное приземление. В стиле Филиппа Осселя.
Филипп улыбнулся. Привстал, отстегнул ремни, пояс, вылез из кабины. Сказка окончилась. Он стоит на твердой земле. Небо далеко. Чуть пошатываясь, он направился к бару аэродрома. Марио и Ахмед поставят машину на место. Обернулся и еще раз на нее посмотрел. Модель «Феб-Б», изящная, как стрекоза, чудо техники, часть его самого. Ему захотелось поговорить с ней, сказать, что три недели пройдут быстро, что не надо скучать. Ему захотелось выпить чего-нибудь крепкого, потому что вечер такой прекрасный, а у него на сердце вдруг стало тоскливо, как у ребенка.
В баре был только Рампаль, Филипп сел напротив.
— Уезжаете завтра? — спросил Рампаль. — Только что узнал. Хотелось бы оказаться на вашем месте. Я целую вечность не был в Париже.
— Коньяк! — крикнул Филипп. — Двойной.
Он всегда успеет вернуться. Марилена укладывает чемоданы. Скорее всего, очень нервничает. Это же ее первая поездка во Францию. Лучше оставить ее в покое, не устраивать глупую ссору из-за какой-нибудь пары носков или галстука. И вообще Филиппу нравился этот маленький бар, напоминавший Фаянс, где он работал тренером.
— Ты встречался с новым директором? — спросил Рампаль.
— Да, но мы просто столкнулись в дверях. Только поздоровались. Высокий, сухой субъект, не очень симпатичный. От кузины знаю, что он намерен многое изменить. Если меня начнут доставать, я все пошлю к черту.
— Я тоже так и сказал. В Африке для пилота всегда найдется работа. Но, вообще-то говоря, мне не хотелось бы менять место. Сколько тебе лет?
— Тридцать семь.
— Мне почти сорок. Неважный возраст, старина. Теперь если потеряешь работу, то сливай масло… ходят разговоры, что папаша Леу вовсе ничего уже не соображает?
— Ну, это уж слишком сильно сказано. У него еще достаточно сил, чтобы изводить меня весь день. Порой он держит меня за мальчишку. «Принеси то… Принеси это…» К счастью, теперь все позади.
Он пил мелкими глотками, подогревая раздражение. Рампаль прав. В тридцать семь лет трудно начать новую жизнь, не имея настоящей профессии. В Фаянсе он прозябал, перебивался случайными заработками, не думая о завтрашнем дне. Он с удовольствием пошел работать у старика, а потом позволил женить себя на Марилене. Но сейчас все оказалось под вопросом. Если старик умрет… Симона унаследует капитал, а Марилене достанутся мелкие подачки. Короче, надо будет начинать все заново с не очень-то расторопной женой… Он вспомнил о «Фебе» с его громадными тонкими крыльями, как у альбатроса. Отказаться от него, как это гнусно!
Зазвонил телефон.
— Вас просят, мсье Оссель, — сказал бармен.
— Чего еще им от меня надо? — проворчал Филипп.
Он взял трубку, покачал головой и ответил тоном человека, которому до крайности надоели: «Ладно, еду». Проходя мимо стойки, заказал еще одну рюмку коньяку. Упал на стул и объяснил Рампалю:
— Жена. Спрашивает, нужно ли брать с собой свитера.
«Я даже не знаю, стоит ли брать свитера или нет. — Марилена говорила сама с собой. Она бросила на чемоданы взгляд, полный отчаяния. Ей захотелось плакать. — Когда он мне нужен, его никогда нет рядом». Накануне этой дальней поездки она мысленно как бы заново переживала всю свою жизнь, словно готовилась к смерти. Нет, Филипп не очень-то ласков с ней. Когда возникает необходимость, ладно, можно сесть в самолет, хотя это очень утомительно. Она всегда этому противилась, а все над ней смеялись. Но зачем ее заставляют ехать во Францию? Ей и здесь хорошо. Внезапно она осознала, какую глупость она совершила, выйдя замуж за такого человека, как Филипп. Она присела на кровать, посмотрела на открытые чемоданы, белье, одежду, развешанную на стульях. Она не хочет уезжать. Зачем ее принуждают? Почему ее лишают тихого, мирного, размеренного существования? Пусть он летит, превратившись в бумажного змея, раз это его страсть, мания, единственная мысль, раз он живет только этим и в доме нет другой темы для разговоров. Как могла она, такая застенчивая и сдержанная женщина, стать женой человека, которого не понимает! Ведь он из породы людей, которым всегда тесно, которым нужен воздух, движение, приключения! Ей же хорошо известно, что он очень рискует, поднимаясь на этих нелепых машинах, так похожих на бумажные стрелы, выше облаков совершенно непостижимым образом.
В первый раз, когда она пришла на аэродром и ей показали в вышине крошечный черный предмет, она чуть было не потеряла сознание. «Он разобьется!» — больше ни о чем другом она не могла и думать. В тот вечер между ними произошла крупная ссора. «Но я же не скрывал от тебя, что летаю, — говорил он. — Как ты думаешь, зачем я нужен твоему дяде?.. И не приставай ко мне. Ты мне надоела. Я делаю то, что хочу».
«Ты делаешь в основном долги, — ответила она, выйдя из себя. — Все наши деньги идут на планеры. А это хобби миллионеров. У нас нет на это средств!»
Он принялся доказывать, что содержать планер дешевле, чем яхту, рассказал, что однажды взял Симону в небольшой ознакомительный полет… Но Симона есть Симона, такая же сорвиголова, как и он. Самолет для нее как такси, она одна летает в Рим или Монте-Карло. Совсем одна! Какая для этого требуется смелость! Марилена же, например, не могла представить себя в зале роскошного ресторана под любопытными взглядами. А чаевые! Как узнать, сколько надо дать? А ведь возникают и другие проблемы: какие надеть туалеты, какие приглашения можно принять, от каких следует отказаться… Напрасно говорят, что кузины похожи друг на друга, внешне — возможно, но на самом деле они как небо и земля. Симона, как и Филипп, смела, настойчива, она из тех людей, которые рвут жизнь зубами, как добычу. Марилена сидела, опустив руки на колени, и оценивала себя без всякого снисхождения: она мягкотелая, трусливая, боится инициативы, но в то же время способна бороться за свою спокойную жизнь. А вот сейчас против нее объединились все. Дядя Виктор требует, чтобы его жалели. Симона с некоторого времени постоянно пребывает в плохом настроении. Филипп раздражается по пустякам. И они насильно заталкивают ее в «боинг», в который ей не хочется садиться, потому что у нее появилось предчувствие, о котором она не хочет говорить, потому что ее грудь сжимает страх, потому что ей наплевать на Париж и на отдых, потому что ее счастье здесь, в этом уютном доме, который она обставила с такой любовью.
Она ногой закрыла чемодан. Тем хуже. Он разберется сам со своими проблемами. Она подошла к окну, посмотрела на еще розоватое небо. Завтра она будет находиться там, на высоте… девять тысяч метров. Она попыталась представить себе эти девять тысяч метров. Девять километров, расстояние от дома до складов фирмы… но только вверх, по вертикали. Ужасно! Она закрыла глаза. Ей говорили, что там ничего не чувствуешь, что это как поездка в автобусе и даже нет тряски. Но что пишут в газетах! Катастрофы, захваты! И потом, самолет делает несколько посадок в Африке, в странах, где не очень-то спокойная обстановка…
Ну хватит! Лучше заняться ужином. Будь ее воля, она приняла бы снотворное и сразу же легла бы спать, не дожидаясь Филиппа, который наверняка отругает ее за звонок в бар. Но как раз зазвонил телефон. Это оказалась Симона.
— Можно с тобой встретиться через час? Мне кое-что надо тебе сказать. Я долго не решалась, но это важно.
— Знаешь, я как раз складываю вещи. Нельзя подождать до завтра?
Симона колебалась. У Марилены возникло странное чувство, что сейчас действительно решается нечто важное. Такие ощущения она испытывала уже не раз. Если кузине надо с ней встретиться, что ж…
— Ладно, — сказала Симона. — Ты права. До завтра. Но мне иногда хочется поменяться с тобой местами.
В зале ожидания собралась небольшая толпа друзей, деловых знакомых, зевак. Последние рукопожатия, последние поцелуи. Ждали Филиппа с билетами. Он чуть в стороне разговаривал с пилотом компании Леу. Марилена, которая уже начала сильно нервничать, пошла за ним.
— Послушай… пойдем… Дядя волнуется.
— Начинается. — И, повернувшись к собеседнику, добавил: — Напиши обо всем. Нельзя же допустить, чтобы нами вот так помыкали.
В памяти Марилены каждая деталь запечатлевалась с чудовищной ясностью. Полицейский, проверявший документы, был рыжим, и от него пахло табаком. Таможенник, толстяк с голубыми глазами навыкате, счел необходимым пожать руку Леу.
— Неужели это правда? Вы уезжаете?.. Но ведь вы вернетесь! Все всегда возвращаются.
Стюардесса ждала у двери перед выходом на взлетную полосу. «Ей нужно сделать завивку», — подумала Марилена. Под палящим солнцем стоял громадный блестящий «боинг». Да в нем задохнешься!.. Она начинала испытывать смешанное чувство опьянения, эйфории и тревоги. «Что со мной? — повторяла она. — Все остальные совершенно спокойны. Я просто идиотка». Пассажиров было не много, около пятидесяти человек. Кое-кто из знакомых. Много мужчин. Деловые люди возвращались в Европу. Сами собой образовались группы. Филипп, чувствуя себя как рыба в воде, переходил от одной группы к другой. Он умел завязать разговор с кем угодно, вызвать на откровенность и сразу же обменяться адресами, номерами телефонов. Марилену это всегда возмущало. И теперь вот тоже, одетый в тенниску и светлые брюки, волосатый, загорелый, он протягивал зажигалку к сигарете, которой только что угостил, смеялся, самодовольно оглядывался вокруг, кричал, увидев знакомое лицо:
— Смотри-ка, и вы тоже здесь?
Он оставлял одного и переходил к другому с любезной непринужденностью. Марилена опустилась в удобное широкое кресло. Что ее ждет впереди? Подошла Симона.
— Как дела?.. Ты неважно выглядишь. Извини за вчерашний звонок… Просто напала хандра. Расскажу… в Париже… когда все успокоится… Здесь при папе нельзя.
— Это касается его?
— И да и нет. Скорее, это касается нас с тобой. Знаешь, в жизни не все просто.
По громкоговорителю объявили посадку на рейс 317.
— Это наш, — сказала Марилена.
Словно удар в сердце. Марилена слегка задыхалась. Филипп! Где он? Ей хотелось чувствовать его рядом. А вот и он, подбежал, шаря по карманам.
— Идите… Идите… Вот билеты. Да, они все у меня.
Леу ковылял далеко позади, Марилена нервничала, ей хотелось взять его за руку, чтобы он шел быстрее. Филипп нес какой-то вздор стюардессе, обогнал их, продолжая шутить, как будто обе женщины, поддерживающие больного старика, были ему незнакомы. Асфальт уже раскалился. Занимался прекрасный день.
— Подержи мою сумочку, — вполголоса сказала Симона. — Я сама. Одна я лучше справлюсь.
Она взяла отца за талию. Стюардесса уже стояла вверху трапа и смотрела на них. Филипп первым вошел в салон, возможно, он займет хорошие места. Но какое это имеет значение, если произойдет катастрофа? В голове Марилены как мухи жужжали фразы из газет: «Обломки рассеялись на сотни метров… искалеченные трупы… неопознанные останки…» А начинается все именно так, как сейчас… улыбающиеся лица, чем-то занятые руки, радостное возбуждение, самолет, который выглядит таким же надежным, как корабль. Ни малейшего признака уже возникшей опасности. Или все-таки знамение существует — какое-то инстинктивное сопротивление, нежелание поставить ногу на первую ступеньку трапа?..
Симона с отцом медленно поднимаются. Марилена осталась последней. Все, поздно. Напрасно она говорила: «Не хочу… Зачем меня вынуждают?.. Я могу остаться здесь». Теперь она должна идти. Потому что она себе не принадлежит, потому что уже давно любая мысль, любое движение подводили ее к этой поездке, и именно это называют судьбой… соединение незначительных побуждений, мелких причин, когда считаешь, что выбираешь ты, а на самом деле выбирают тебя.
Она поднялась на одну ступеньку, потом на другую, в последний раз оглянулась назад… моя страна… моя родина… все это слишком глупо… Стюардесса просит ее войти. Внутри она увидела длинные ряды кресел, иллюминаторы. Выглядит все спокойно, интимно, тихо, удобно… Филипп занял места неподалеку от туалета. Он прошептал на ухо жене: «Из-за твоего дяди, понимаешь… Лучше пусть будет рядом». Симона усадила отца, помогла ему пристегнуть ремень.
— Хочешь сесть у иллюминатора? — спросил Филипп.
У Марилены нет никаких желаний, никаких стремлений, ей теперь все равно. Очень жарко. Она немного задыхается. Сиденье узкое. Колени неуклюже упираются в спинку переднего сиденья. Она пытается усесться поудобнее. Потом у нее пропало желание двигаться. Она пристегнула ремень и закрыла глаза. Если бы было можно сразу заснуть и проснуться в Париже… Она понимает, что это смешно, что она ведет себя как ребенок. Но она также знает, что животных охватывает страх задолго до землетрясения, а ей сейчас страшно. Когда заработали двигатели, она вся сжалась, впилась руками в подлокотники. Из громкоговорителя лился приятный невозмутимый женский голос. Она не слушала, замкнулась в себе. Мощная машина сдвинулась с места, медленно поехала, шум моторов сделался еще более резким. Под колесами проносились стыки бетонных плит.
— Ну как дела? — спросил Филипп.
Его голос доносился как бы издалека. Марилена не ответила. Шум еще больше усилился. Кресла начали трястись. «Боинг» наконец оторвался от земли. Марилена помимо своей воли приоткрыла глаза и увидела через иллюминатор, как убегает, исчезает взлетная полоса. От мощного подъема свело желудок.
— Видишь, — сказал Филипп, — совсем не страшно. И это при том, что у нашего пилота не совсем легкая рука.
Марилена немного осмелела и глубоко вздохнула.
— Если хочешь, отстегни ремень. До Диего-Суареса можно ни о чем не думать.
Марилена уселась поудобнее, машинально поправила прическу, скрестила ноги. Она возвращалась к жизни. Командир корабля поприветствовал пассажиров, сообщил о деталях полета, о температуре за бортом, причем все это говорилось домашним, благодушным тоном. Марилене захотелось обозвать себя дурой. Она понемногу освобождалась от страха, но все же он полностью не исчез, ведь ее не покидало острое чувство, что она висит над бездной, что под ногами пустота. При малейшем покачивании она опять замкнется в себе. Филипп направил на нее вентилятор. Теперь ей стало лучше, лоб и щеки освежает воздушная струя.
— Как дядя? — спросила она.
Филипп встал, наклонился над стариком.
— Вроде заснул… Хочешь чего-нибудь выпить?
По проходу, толкая перед собой тележку, приближалась вторая стюардесса, высокая элегантная блондинка. Обстановка вполне умиротворяющая. Приятно вдруг почувствовать жажду, почувствовать себя как раньше. Испытать радостное ощущение выздоровления.
— Фруктовый сок, пожалуйста.
Филипп и Симона взяли виски. Пассажиры начали вставать с мест, подходить друг к другу.
— Там впереди — это не Фортье? — спросила Симона. — Я с ними здесь еще не виделась.
С бокалом в руке она пошла по проходу. Если бы не Фортье, возможно, все повернулось бы иначе. Эта мысль будет преследовать Марилену бесконечно долго. Рядом с ними нашлось свободное место, и Симона заняла его. Теперь она сидела метрах в десяти от Марилены, может, чуть ближе, и между ними пролегла как бы граница, линия, которая вскорости разделит их на живых и мертвых. Филипп закурил сигарету, отдал свой бокал стюардессе.
— Как зовут командира корабля? — спросил он. — Я не расслышал.
— Ларгье.
— А штурмана?
— Мериваль.
— Поль? Поль Мериваль?.. Я же хорошо его знаю. Пойду поздороваюсь.
— Посиди немного со мной, — попросила Марилена.
— Я быстро. Тебе нечего волноваться, черт возьми!
Уверенным шагом он направился к носу самолета. Марилена следила за ним глазами, вот он исчез за таинственной дверью, за которой располагалось неведомо что: рычаги, ручки, циферблаты, кнопки, клавиши, на большее у нее не хватало воображения. Филиппу же все это хорошо знакомо. И раз он чувствует себя уверенно, значит, все работает нормально и можно расслабиться. Марилена поудобнее уселась в кресло. Бросила быстрый взгляд в иллюминатор. Вокруг голубизна. Не на чем остановить взор. Как будто находишься нигде. Ее окружают мужчины, снявшие пиджаки и раскрывшие свои папки. Они спокойно изучают документы, словно находятся у себя в кабинетах. Глядя на затылки, расположившиеся перед ней рядами, она чувствует себя как в кинозале. Перед ее полузакрытыми глазами развернут экран… Мелькают картинки…
Филипп… В последнее время с ним стало трудно. Он прав, когда говорит, что постарел. Все его теперь раздражает. Когда разозлится, бросает ей в лицо: «Вы все достали меня!» «Вы» — это дядя, Симона, она сама и весь клан Леу. Но она же не виновата, что Филипп чувствует себя узником на этом крохотном клочке земли. Пять лет назад он знал, что делал, согласившись работать в фирме. Когда он приехал, то сиял от счастья. Тогда у него на губах еще не появлялась презрительная складка и он не ухмылялся. «Ох уж этот Реюньон». А ведь именно из-за Реюньона между ними произошел разлад. Для нее нет более прекрасной страны на свете. И любое замечание она воспринимает как личное оскорбление. Поначалу Филиппу здесь нравилось все. А она испытывала наслаждение, показывая ему море, пляж, затерянные в зелени дорожки. И дядя тогда повторял: «Неплохой парень…»
В голове все путается. Марилена задремала. Когда же она повела его в свой коллеж Непорочного зачатия, где получила образование? Ну конечно, после свадьбы. Это дяде пришло в голову выдать ее замуж. Здесь все неясно, сложно, как болотистое место, которое лучше обойти. Хотел бы дядя видеть Филиппа в роли зятя? Разумеется, нет. Не только Филиппа, но и никого другого… Для Симоны достойного человека нет. А для малышки Марилены — какая разница. Лишь бы ее «устроить». Так говорил сам Леу. А что, в сущности, это означает? Что он исполнил долг перед сиротой. Ей дали все необходимое, даже чуть больше, ведь она, как и ее кузина, училась в коллеже Непорочного зачатия. Вроде бы никакой разницы. Но для слуг, для знакомых Марилена — это Марилена, а Симона — мадемуазель Леу. Про мадемуазель Леу говорят, что у нее нелегкий характер. Про Марилену говорят, что она очень мила. Одна — гордячка, другая — послушна. Одна — наследница, другая — «бедняжка», которой не повезло. Пока ищут хорошую партию для мадемуазель Леу, находят мужа для Марилены. Правда, не первого встречного! Более того, ее выдают замуж за расторопного, деятельного парня, который нравится дяде, поскольку он обладает навыками мастера, на него можно положиться, он, как никто другой, умеет вдохнуть жизнь в испорченный мотор, хотя дешевле купить новые запчасти. Правда…
Правда заключается в том… что дядя хотел иметь рядом нужного человека. И он возвел его в ранг «почти зятя». Теперь об этом можно думать без боли, без того инстинктивного отторжения, которое раньше сжимало сердце… Филипп… Надо принимать его таким, каков он есть. Любовь с ним не та, о которой мечтала юная пансионерка. Но быть может, все мужчины такие странные, шумные, безалаберные, непостоянные, чувственные и скучные. Но она не может простить ему то презрение, с которым он отзывается о «вашем городишке» или о «вашей стране канаков». А ведь больше всего она боится, даже во сне, что он однажды уедет. Это так просто! Под любым предлогом можно сесть в самолет, в такой, например, как этот… В воздухе он чувствует себя как дома… Все об этом свидетельствует: он знает пилотов, стюардесс, знаком с людьми, которые рассказывают ему о Европе, о Франции… Он может сойти на конечной остановке и никогда не вернуться. Он на такое способен. И свой планерный клуб он организовал только для того, чтобы где-нибудь побыть в одиночестве, сбросив с себя все обязательства, разорвав все связи, словно кочевник, перед которым простирается только горизонт! Возвращаясь вечерами, он порой не раскрывает рта или бросает ее на кровать для жесткой схватки, которая доводит ее почти до истерики. Там, «на аэродроме» — священное слово, — он встречается с богатыми коммерсантами, с представителями узкого круга элиты, которые владеют яхтами и спортивными машинами. В конце концов он становится для них своим. Он завоевывает большой авторитет. Он рассказывает разные истории. «Помню… В Каннах…» Ведь он с Лазурного Берега. Она слышала это не раз. Часто он лжет, просто из удовольствия, ради забавы. Но он никогда не делает этого в присутствии дяди, которого боится и с которым лучше не шутить.
Филипп вернулся, грузно сел в кресло, сильно сжал ей колено.
— Спишь?
Раз он не спит, ей тоже надо просыпаться. Она приоткрыла глаза.
— Оставь… Мне так хорошо.
— Подлетаем к Диего.
— Уже?
Понизив голос, он кивнул в сторону дяди.
— А он как?
— Не двигался с места. Отдыхает.
— Я бы еще выпил стаканчик.
Снова ушел, на этот раз в хвост самолета. Наверно, отправился к высокой блондинке, но Марилена не ревнует. Филипп по натуре не соблазнитель. Гораздо лучше ему удается роль добродушного генерального директора фирмы, который сам не прочь поработать, близок к служащим, понимает их проблемы. В сущности, ему необходимо выглядеть важной персоной. Но в Сен-Пьере все друг друга знают. Там следует проявлять осторожность. А здесь Филипп вполне может выдавать себя за человека, уставшего от дел и отправляющегося на три недели в Париж. «Отменил все деловые встречи и спрятал ключ под дверью. Больше не могу. Хочу увидеть Париж весной. Для коренного парижанина вроде меня Реюньон хорош, но в малых дозах». Однако он забывает сказать, отказывается признаться самому себе, что в Париже он начнет скучать с первого же вечера. Пойдет в бар гостиницы, сразу же завяжет разговор с барменом… «Здесь, старина, не очень-то тепло, брр! Особенно для человека, приехавшего из колонии…» Тот, разумеется, вежливо поинтересуется, из какой колонии. «Из Реюньона, конечно. Это не совсем колония, но там негры, желтые, всякая экзотика…»
И начнет рассказывать о себе как о человеке, к которому не имеет никакого отношения, или о котором мечтает, или о том, кем становится, когда выпьет. Он забудет о том, что Марилена совсем не знает Парижа. Ей было три года, когда ее забрал дядя. Ее иногда занимают воспоминания о той ушедшей эпохе. Все это было давно. Туманное прошлое, из которого она вышла. И все же она помнит одно лицо, ей кажется, будто она играет с ним в прятки… Вот сейчас она его отчетливо увидит, но оно вновь исчезает… Это лицо тети Ольги…
Тетя Ольга живет в пригороде Парижа. Однажды Филипп захочет пойти куда-нибудь один — рано или поздно это обязательно случится, — и тогда она навестит свою добрую старую тетю, о которой все несправедливо забыли. Если б не она… кто бы позаботился о сиротке? Матери Симоны она не очень-то была нужна. Странная семья. Леу почти никогда не говорили о том страшном несчастье, и Марилена может только догадываться, что же случилось на самом деле. Ей гораздо лучше известны события из истории Франции, падение монархии или битва при Вердене. Она знает, что жила у тети Ольги до отъезда в Сен-Пьер. Она случайно узнала, что тетя Ольга хотела оставить Марилену у себя и что это послужило одной из причин ее разрыва с дядей. У нее оставались только размытые временем воспоминания, а еще она помнила мишку, с которым никогда не расставалась… А что потом?.. Обмен ни к чему не обязывающими пожеланиями на Новый год. «Любящая тебя племянница Марилена…» Теперь представляется возможность узнать больше, расспросить старую женщину. Сколько ей теперь лет? В конце концов, не такая уж она старуха. Шестьдесят семь… или шестьдесят восемь… Ей, конечно, известно, что брат сколотил состояние. Какие теперь между ними возникнут отношения? Но прежде всего, как тетя Ольга живет теперь и как она жила раньше? Марилене известно только то, что она категорически отвергала всякую помощь. Уж это точно, поскольку однажды она слышала разговор об этом между Симоной и дядей.
«Она сумасшедшая! — кричал дядя, выйдя из себя. — Она всегда считала, что во всем виноват я. Она уверена, что брат застрелился из-за меня. Понимаешь, поэтому она не хочет прикасаться к моим деньгам. Ну и пусть идет к черту. Чтобы я о ней больше не слышал».
Марилена видела перед собой серый затылок дяди, неподвижно лежащий на подголовнике, его редко расчесанные на лысине волосы. Он тяжело болен, но не сломлен, и даже сейчас, когда стал походить на свою тень, он еще меньше настроен прощать. Да, надо будет незаметно посетить тетю Ольгу, скрыть этот визит, пусть Филиппу это послужит уроком. Как все-таки трудно беспрестанно лавировать между этими упрямцами, на которых часто вдруг что-то находит. Вот, например, Симона. Что значат ее слова: «Поговорим в Париже, когда все успокоится». Что она натворила? Что можно такого совершить в Сен-Пьере, что ей надо скрывать? Зачем эти тайны? Большой близости между кузинами нет, особенно после свадьбы Марилены. Но время от времени Симона вдруг рвется к доверительным отношениям, особенно после ее возвращений из Европы, когда она переполнена впечатлениями. Ей обязательно нужно выговориться, рассказать о том, что она видела. А перед отцом Симона сдержанна, при нем она немного робеет. Ему она говорит только о музеях, которые посетила в Афинах, Риме, Флоренции. Послушать ее, так подумаешь, что все время она провела как прилежная путешественница. Но от Марилены ей нечего скрывать, может быть, ей даже доставляет удовольствие немного ее ошеломлять. Симона всегда попадала в необыкновенные истории. Она, как и Филипп, из тех, кому нужны переживания, кто постоянно бросает вызов обществу, кому претит повседневная жизнь. Вот почему, вероятно, она пребывает в таком дурном настроении с тех пор, как заболел ее отец. Заниматься инвалидом, не отходить от него, предупреждать все его желания, терпеть его выходки — все это выше ее сил. Но самое удивительное заключается в том, что она немного противилась переезду в Париж. Может, боится впасть в зависимость от трудного, эгоистичного больного человека, который привык, что его обслуживает целая свита слуг? Или прелестный дом в Сен-Пьере притягивает ее больше, чем она сама в этом признается? Как бы там ни было, вот уже несколько недель с ней совершенно невозможно говорить. Она ворчит, дуется, постоянно отчитывает слуг…
Из громкоговорителя раздалось объявление о посадке в Диего. Филипп протиснулся на свое место, помог Марилене пристегнуть ремни. Симона пересела к отцу. Далеко внизу виднеется земля. Мимо плывут облака, отбрасывая быстрые тени. Все это было бы забавно, если бы ее вновь не охватила тревога. Внизу раздался глухой шум.
— Выпустили шасси, — сказал Филипп.
Снижения еще не чувствуется, но тем не менее уже почти рядом появились дома, дороги с развилками и, наконец, серая бетонная полоса. Послышался стук колес. Самолет начал торможение в ставшем вдруг оглушительным шуме двигателей.
— Видишь, — сказал Филипп. — Все прекрасно.
Сразу возник гомон голосов. Пассажиры бросились к выходу. Засуетились стюардессы. Остановка короткая. Симона обернулась.
— Фортье летят в Афины. Вот счастливчики!
— Отцу ничего не нужно? — тихо спросил Филипп.
— Нет. Все нормально.
Она снова начала рассказывать о Фортье, которые несколько дней проведут в Греции. Леу проснулся. Он слушает. Правда, плохо слышит. Но ему все равно. Фортье? Имя ему знакомо. Он знал одного Фортье, но это было давно, когда он еще был самим собой. Стоит ли вспоминать? Он попытался еще раз пошевелить левой рукой, такие попытки он делает двадцать или сто раз в день. У него создалось впечатление, что откуда-то к нервным окончаниям поступает приказ и тогда что-то происходит, подергивание пальцев, даже нет, просто покалывание, и от этого ощущения возникает желание почесаться. И нога тоже не подает признаков жизни. Он лишился половины себя. То есть наполовину мертв. Будь он один, ему хотелось бы, чтобы самолет разбился. Он не хочет быть чучелом, вызывающим жалость. Но есть Симона! А Симона еще нуждается в нем, нуждается в его советах, в его… Нет, все не то. Он просто не хочет с ней расставаться. У него никогда не было времени заняться ею, но он всегда думал о ней, даже в самые трудные дни. Она полностью владеет его сердцем. Он это понял — и с какой силой! — когда у него в голове порвался какой-то крошечный сосуд. Часы его жизни остановились. Они показывают одно время: Симона. Все остальное не имеет значения. Остальное… он теряет ход мыслей, но вновь находит его. Лишь бы никто не догадался, что у него провалы в памяти. Неслушающиеся пальцы, члены — все это ничто. Да, это Леу, отошедший от дел, но не настоящий Леу. Настоящий Леу — это мысль, ясная мысль, готовая распутывать любые проблемы, а теперь она затуманивается, как зеркало, на которое дышат. Бывают моменты, когда знакомые лица становятся чужими, когда он уже не знает, почему сидит в своем кресле возле окна, держа трость в правой руке. Ему надо быть в своем кабинете, работать… Потом все всплывает в памяти, и он подавленно вздыхает. Об этих слабостях он никому не говорит, но сам он их четко осознает, ведь они становятся все более явными. Врач говорит: «Все придет в норму, наберитесь терпения». Но он-то знает, что это неправда. Именно поэтому он старается как можно крепче привязаться к Симоне. Он удерживает ее возле себя, после обеда просит ее почитать газеты, а когда она собирается уходить, заплетающимся языком просит ее, порой коверкая слова:
— Еще есть время. Побудь со мной.
— Папочка, ты же хочешь спать.
— Нет, подержи меня за руку, и я не засну.
Но все равно очень быстро приходит сон, лишающий его последней радости. И если бы это был настоящий глубокий сон. Наступает просто оцепенение, отупляющая тяжесть, шумы не исчезают, как будто жизнь продолжается где-то за закрытой дверью. Ночью, один, он остается настороже. Порой кто-то подходит или до него доносится шепот: «Он так изменился!»
Леу открыл глаза. Самолет вновь поднялся в воздух. Ему хочется знать, долго ли еще лететь. Франция, может, совсем рядом. Они, наверно, давно уже покинули Сен-Пьер. Он потерял чувство времени. Беспокойно задвигался, пытаясь привстать. Спина затекла.
— Симона!
— Я здесь, дядя.
— Где Симона?
— Отошла… К друзьям… Мы подлетаем к Джибути.
Потрогал ремень. Он пристегнут. Джибути… О чем-то ему это напоминает. Итак… Джибути… Он пытается вспомнить, не получается. Почему-то он вдруг оказался в лифте, и тот начал спускаться, спускаться…
Вокруг него все вдруг раскалывается. Он в центре мощного взрыва. Ремень врезается в живот. Его подхватывает вихрь горячего воздуха, по больному плечу как будто ударяют палкой, до него смутно доносятся крики. Впечатление такое, что его сначала бросают, как камень, а потом начинают вращать. Его поглощает поток шумов, потрясают мощные толчки. Нет больше ни верха, ни низа, ни неба, ни земли, только дым, пыль, пламя. Конец света.
— Симона!
Он теряет сознание.
«Я так и знала». Кто это сказал? Марилене хочется понять, откуда исходит этот голос. Это даже не голос. Нечто сокровенное, глубокое и в то же время спокойная и почти самодовольная констатация. «Я так и знала». Знала о чем?.. «Я не нашла пока ответа, и не стоит его искать, чтобы не разбудить боль, которая пока притихла, но может вот-вот вернуться. Кажется, что ее никогда не было, но я о ней помню, как будто раньше — но когда? — испытала пытку. Что-то летает, совсем рядом… шелест крыльев… совершенно равномерный… освежающий… нет, скорее это шум работающего механизма. У него есть название… но очень сложное… Очень важно вспомнить название. Если оно всплывет, это уже будет каким-то светом во тьме. А эта тьма так давит, так удушает… „Вентилятор“… Да, это вентилятор. Можно спать. Его работа успокаивает, убаюкивает. Сплю… Я чувствую, как сжимают мою руку. Мне это не нравится».
— Симона!
«Чушь! Я слышу. Но кто говорит? Не я же. Мою руку сейчас ощупывают, трогают. Ведь я Марилена».
— Симона!
«Я не Симона. Оставьте меня. Я так устала». Другой голос произнес:
— У нее еще не прошло действие успокоительного… Не беспокойтесь. Она придет в себя.
Шум удаляющихся шагов. Закрывается дверь. Марилена отказывается понимать. Она не знает, где находится. Осталось ли у нее тело? Да, ведь ее руку только что трогали, и, потом, она хоть неотчетливо, но осознает, что лежит. Но почему? Она что, больна?
Слова образуются в ней, как пузыри. В них должен быть какой-то смысл, но пока они отдаются в ней таинственным эхом… Она больна… Больна… Слово звучит как будто на расстоянии… Марилена засыпает.
По больничному коридору идут три человека: Филипп с рукой на перевязи, Леу с забинтованной головой и врач, поддерживающий обоих.
— Вы ее видели! Вы довольны? — спросил врач у Леу. — Теперь в постель. И не надо больше волноваться.
Филипп остановился у двери палаты, пока санитар, взяв старика под мышки, тащил его к кровати. Но Леу обернулся. С трудом произнес:
— Доктор… Прошу вас… Присмотрите за ней хорошенько… У меня только она… Маленькая Симона… Заплачу сколько надо…
Врач, обменявшись взглядом с Филиппом, ответил нарочито веселым тоном:
— Конечно же… Не беспокойтесь… Вам нужно отдохнуть, предоставьте все нам… Обещаю, через несколько дней ваша дочь будет у вас.
Чуть заметно пожав плечами, он увлек за собой Филиппа.
— Больше всего меня волнует он, — сказал врач очень тихо. — Внешне он почти не пострадал. Рана на голове не опасна, но общее состояние отнюдь не блестяще. Его надо оберегать от всяких переживаний. Понимаете?
Филипп слушал, напрягая все свое внимание. Он еще не принял решения. Хорошо бы побыть одному, избавиться от боли, тщательно взвесить все «за» и «против». Но уже поздно. Выбор надо делать сейчас, а он слишком вымотан. Он — как пассажир, опаздывающий на поезд. Состав уже двинулся. Осталось сделать только одно усилие. Тем хуже!
— Он выдержит дорогу? — спросил он. — Мы ведь отправляемся в Париж.
— Думаю, что выдержит. В любом случае мы не можем оставить его здесь. Полагаю, что мы сможем его выписать в начале следующей недели… Но как только прилетите, покажите его врачу. Не стану скрывать, я настроен достаточно пессимистично. А вот за его дочь беспокоиться не стоит. Чуть было не сказал, что и вам повезло… мой бедный друг, но это прозвучало бы нетактично, к сожалению, вы потеряли в катастрофе… Ладно… Не буду настаивать.
— Говорят, в живых осталось четырнадцать человек. Это правда?
— Да. Выжили те пассажиры, которые находились в хвосте самолета… Извините, много дел.
Филипп остался один посреди ярко-белого коридора. Сомневающийся и несчастный. Не может быть, чтобы все сложилось так просто. Старик в шоке принял Марилену за Симону. Пока что в его больной голове не возникает никаких сомнений. Если одна из них выжила, так это — та, которая только его и интересует: Симона! Он узнал ее без малейших колебаний. Для врача, санитаров все ясно: эта женщина — мадемуазель Леу… Симона Леу… Его, Филиппа, считают вдовцом, относятся к нему соответственно, с подобающей предусмотрительностью. Доказывают это и сочувственные слова врача. Итак, чем же он рискует? Симона мертва. Разумеется, Филиппу ее жаль. Он не очень любил свою свояченицу, считая ее гордячкой, но ее смерть все равно его огорчает. Но сейчас не время выражать сочувствие. Может ли он предусмотреть все последствия возникшей неразберихи? Начинается большая и опасная игра. Далеко ли он зайдет? Не придется ли ему мошенничать? Откровенно говоря, он ничего не знает. Пока он просто потрясен драмой.
Он вернулся в палату, куда его поместили вместе с тремя другими пострадавшими. Им досталось больше. У них разного рода переломы. Но у всех радостно светятся глаза оттого, что они вновь обрели жизнь. Филипп лег на свою кровать. На руке у него глубокая рана, доставляющая большие страдания. Он потерял много крови. Вот почему ему трудно собраться с мыслями, четко их проследить. Прежде всего, кто их знает? Фортье. И естественно, экипаж. Все они погибли. Самолет развалился на две части. Передняя часть разрушилась и сгорела. Задняя проскакала по земле, как огромное колесо, по пути у нее отвалились куски железа, вываливались кресла, чемоданы, пассажиры, некоторые из них погибли. Если бы несчастная Симона осталась на своем месте, рядом с отцом, возможно, она выжила бы. Теперь она ничто, просто горсть пепла. Хватит мучить себя воспоминаниями!.. В глазах властей на данном этапе расследования среди оставшихся в живых фигурируют мсье Виктор Леу, житель Реюньона, некий Филипп Оссель и молодая женщина, которую все считают дочерью старого господина. Ведь нет никаких оснований ставить под сомнение его заявление. К тому же лучшим доказательством этим словам служит его возбужденное, беспокойное состояние. Кроме того, у авиакомпании есть список пассажиров, и не составит труда установить, что среди живых не хватает Марилены Оссель. Филиппу все это предельно ясно. Хоть бы эти трое раненых немного помолчали! Теперь они без конца пересказывают друг другу свое приключение!.. И еще. Не следует забывать об одной детали. Старик, у которого и так не все было в порядке с головой, испытал слишком сильное потрясение и вряд ли когда-нибудь вновь обретет чувство реальности. К тому же ему, вероятно, недолго осталось. Итак, если Марилена, придя в себя, согласится подыграть ему, кто осмелится утверждать: «Это самозванка»? Сен-Пьер далеко, а в Париже никто не знает ни Симону, ни Марилену. В сущности, ситуация крайне простая, и все в руках Филиппа. Ему отвели роль вдовца. Надо продолжать играть эту роль, вести себя так, будто бы он потерял Марилену, строить из себя убитого горем мужа. Следователи, разумеется, не замедлят задать ему вопросы. Но их будет интересовать не его семейное положение, а свидетельство специалиста: «Вы не заметили ничего странного?.. Может, отказали двигатели?..» — и тому подобное. Остальное не имеет значения. Ему выразят чисто формальные соболезнования. Очень хорошо. Но зачем пускаться в подобные махинации?.. Ответ сводится к одному слову: деньги. Если погибла Симона, состояние старика после его смерти по закону будет поделено между его сестрой Ольгой и племянницей Мариленой. А после уплаты налогов останутся ничтожные куски. А если Симона, «дочь», осталась жива, состояние перейдет к ней целиком. Значит, достаточно, чтобы Марилена стала Симоной… Затем… Ну что ж, пока перспективы туманные. Марилена — само воплощение покорности, она отдаст все на усмотрение мужа. «Капиталом, — думал Филипп, — стану распоряжаться, конечно, я. С Реюньоном покончено. Ноги нашей там больше не будет. Если потребуется, уедем за границу. Но думать об этом пока рано. Главное сейчас — убедить Марилену».
Филипп сел, продолжая размышлять. А если к старику все-таки вернется рассудок?.. Ну и в этом случае не произойдет ничего страшного, не надо бояться. Врач, санитары — все в один голос скажут: «Бедняга Оссель! И он тоже тронулся!» Да! Звучит не очень убедительно. Но, по правде говоря, Филиппу наплевать на то, что о нем подумают, если возникнут осложнения. Ему все больше и больше хочется попытать счастья… Он уже знает, что пойдет на это, ведь дело пахнет миллионами. В голове у него начинает зарождаться еще одна мысль, на первый взгляд нелепая… Но нет! Не такая уж она нелепая. Почему бы ему не попробовать создать во Франции или в Швейцарии то, что старику удалось сделать на Реюньоне?.. В другой форме… Например, в виде компании воздушных такси… Он станет патроном! Организует клуб! С отделением планеризма… Эта мысль зрела в нем с самого начала. Теперь она его просто озарила. Смела все сомнения. Надо продолжать обманывать старика. Марилена сделает все, что ей прикажут. Такой случай представляется раз в жизни. И если придется запачкать руки, чтобы его не упустить, тем хуже.
Лежа с закрытыми глазами, Марилена мало-помалу приходит в себя. Она начинает осознавать окружающий ее мир. Слышит тихий голос: «Симона, проснись…» — и с неожиданной ясностью вспоминает ужасающий грохот, катастрофу, которую она предчувствовала. Она ранена?.. Мысленно перебирает все части своего тела, как бы осторожно ощупывая их изнутри. Нигде не чувствует боли, потом ее вдруг охватывает страх: Филипп? Симона? Дядя? Ее запястье сжимает чья-то рука. Она делает слабую попытку освободиться, открывает глаза и видит перед собой два лица: рядом с ней сидит старик, чуть поодаль Филипп.
— Симона, — говорит дядя. — Ты узнаешь меня?.. Я твой папа.
Филипп, стоя позади него, прикладывает палец к губам. Она ничего не понимает. Где она? В больнице, судя по голым стенам и этому запаху… Санитар открывает дверь. Негр. Почему негр? Ах да! Слово просвистело как пуля: Джибути!.. Теперь у нее в голове все встает на свои места, все становится ясным. Они же подлетали к Джибути. Негр входит в палату задом. За собой он везет тележку с подносом, заставленным разными склянками.
— Сейчас придет врач, — сказал он. — Если он вас здесь застанет, ему это не понравится.
— Пошли, — проговорил Филипп. — Вернемся попозже.
Он помог старику встать, наклонился над ней и быстро прошептал:
— Не спорь с ним. Потом объясню. Ни слова… никому!
Он поцеловал ее в лоб и выпрямился.
— Можно сказать, вы легко отделались, — громко воскликнул Филипп. — Рана пустяковая. Через три дня будете на ногах.
Взял дядю под руку и повел его к выходу.
— Мы здесь мешаем, — растолковывал он ему, словно ребенку. — Не надо ее утомлять.
— Не надо ее утомлять, — машинально повторил Леу.
Он зашаркал ногами. Совсем сгорбился. Сегодня он действительно выглядит как развалина. Позволил себя увести. Из коридора до Марилены донесся голос врача:
— Вы здесь! Очень неразумно. Вам же сказали, что с вашей дочерью ничего страшного. Пожалуйста, успокойтесь.
Голоса постепенно затихли. К ней подошел санитар с доброй улыбкой на лице.
— Хорошо отдохнули?.. Приподнимитесь немного, пожалуйста. Я сниму повязку.
— Я ранена?
— У вас на затылке большая гематома.
Ловкими движениями он принялся разбинтовывать голову. Вошел врач и обратился к Марилене наигранно веселым тоном:
— Ну?.. Как дела у нашей барышни?.. Посмотрим на вашу рану. Знаете, мы за вас испугались. Вид у вас был неважный.
Он принялся ощупывать голову Марилены. Та резко дернулась от боли, которая набросилась на нее, как хищный зверь.
— Ну-ну, — пробормотал врач. — Все позади. Пришлось сбрить вам часть волос на голове. Но они быстро отрастут.
— Выглядит ужасно? — спросила Марилена.
— Не очень красиво, скажем так. Правый глаз немного распух, на ухе небольшая ссадина…
— Я стала уродиной?
— Да нет же, — воскликнул врач, рассмеявшись. — Через три недели будете выглядеть как раньше.
Согнутым пальцем несколько раз дружески постучал Марилену по виску.
— А в голове? Что там? Не слишком все перепуталось?
И продолжил уже более серьезным тоном:
— Вы помните, как все произошло?.. Понимаете, из какого ада вы выбрались?
Марилена вспомнила о странном предупреждении Филиппа. «Ни слова… никому».
— Не очень, — ответила она.
Но любопытство одержало верх.
— А моя кузина… Она тоже ранена?
Вопрос привел его в замешательство, и она все сразу поняла.
— Она погибла?
— Не надо волноваться, — проговорил врач. — Выслушайте меня спокойно. В большинстве случаев при подобных катастрофах никто не остается в живых. Так что подумайте о том, как вам повезло.
Это известие потрясло Марилену. Она замолчала. Она мысленно вновь увидела Симону. Такой живой образ… Симона закуривает сигарету. Симона за рулем «мини», Симона играет в теннис… Невозможно представить себе, что ее больше нет. Врач открыл пузырек.
— Не двигайтесь. Будет немного щипать.
Какое это имеет значение! Все настолько абсурдно! Марилене захотелось вернуться в бессознательное состояние, в котором ей было так хорошо. Жизнь… Слишком трудная вещь… Она всегда страшилась жизни. Ее совсем не радует, что она осталась в живых. Кто теперь будет ухаживать за дядей? Кто?..
— Доктор… Мне хочется спать.
— Очень хорошо. Вам нужно спать как можно больше.
Началась перевязка. Марилена чувствовала, как его ловкие пальцы бегают по ее голове. Потом врач разбил ампулу, а санитар смочил кусок ваты спиртом. Марилена отвернулась. Ей не нравится вид шприца. Но укол она едва почувствовала. Закрыла глаза, чтобы как можно быстрее заснуть.
— Вашему отцу я сказал, что…
Какому отцу? У нее нет отца. У нее никогда не было родителей. Она всегда была сиротой… Послышался шум отъезжающих резиновых колес… легкое постукивание склянок… Уходит. Послышался голос врача:
— Если что-то произойдет, позовите меня. С этими ранами на голове никогда не знаешь…
Ее со всех сторон обступает забытье. Глубокое и теплое, как море.
Перед часовней стояли тридцать семь гробов. Поскольку в катастрофе погиб мальгашский дипломат, последние почести отдавал небольшой отряд солдат. Филиппу указали на один из гробов. В нем покоились останки, которые невозможно было опознать, но которые вполне могли быть и останками его жены. Ранее Филиппа пригласили поискать среди вещей, найденных на месте катастрофы и теперь разложенных в ангаре, то, что могло бы принадлежать погибшей. Мрачный хлам. Туфли, обрывки одежды, там и сям оплавленные огнем драгоценности, остатки бумажников, замки сумочек, совершенно целая кепка, кроме того, почерневшие заскорузлые предметы, которым невозможно дать какое-то определение и которые пахнут пожаром. «Нет, — сказал Филипп. — Ничего не нахожу». Потом он еще раз вернулся для очистки совести и в последний раз прошелся по этой ужасной мясной лавке вместе с мужчинами и женщинами, прикладывающими платки к покрасневшим глазам.
Теперь он смотрел, как полковой священник освящает каждый гроб. Он переступил грань. Он официально заявил, что его жена Марилена Оссель, урожденная Леу, погибла в катастрофе. Теперь это точно установлено, признано, записано в бумагах, подтверждено. Молодая женщина, которую лечат в военном госпитале, — Симона Леу. Никто в Джибути не вправе утверждать обратное. Только в Сен-Пьере могли бы… Но скоро они приедут в Париж, где никто их не знает, где Симона никогда не была. Филипп беспрестанно пережевывал одни и те же доводы. Возможно, в них где-то затаилось слабое место, но он его не находил, как ни старался. Разумеется, с Мариленой не все пойдет гладко. Но в конце концов она же поймет, в чем заключается их интерес. Будь Симона на месте Марилены, та бы не колебалась.
Церемония все продолжалась. Филипп еле держался на ногах. А ведь нужно еще дойти до кладбища по страшной жаре, обрушившейся на город. Наконец они остановились перед могилой со свеженаписанной табличкой: «Марилена Оссель». А в гробу, возможно, лежали останки блондинки стюардессы или молодой Фортье. Смерть обманывает всех.
Испытания Филиппа на этом не кончились. После похорон лейтенант, принеся тысячу извинений, отвез его на машине в аэропорт, где работала следственная комиссия, изучающая катастрофу «боинга». Филиппу доводилось видеть разбитые машины, но то были небольшие любительские самолеты, здесь же все обстояло иначе. Самолет разбился, развалившись на две части. Его заднюю часть можно было определить по сохранившемуся высокому хвостовому оперению, металл которого блестел, как новый. Рядом лежали куски корпуса самолета, в некоторых из них сохранились иллюминаторы. Бетонная полоса была покорежена, обожжена. Еще дальше возвышалась гора металлолома, которую пыталась разобрать целая бригада рабочих. В нескольких десятках метров от нее валялось крыло с оставшимся на нем искривленным двигателем. От потухшего вулкана еще поднимался дымок. По заданным ему вопросам Филипп понял, что следователи подозревали диверсию. Но он почти ничего не знал. Помнил только, что «боинг» пошел на посадку. Пассажиры уже пристегнули ремни. «Его жена», болтавшая с друзьями, сидела рядом с ними, впереди. Самолет вдруг резко вошел в пике. Почему? Он не понимает.
— Вы не слышали взрыва?
— Нет.
Следователи посоветовались между собой.
— Господин Оссель, вы технически грамотный человек… вы ничего не заметили непосредственно перед падением… никакой вибрации… ударов?
— Нет. Самолет шел нормально. К тому же, если бы что-то случилось, предупредили бы контрольную службу аэродрома.
Прошли к хвосту «боинга». Перешагивая через обломки, Филипп пытался сориентироваться и все время думал о Марилене. Если она проснется, если захочет увидеть мужа…
— Думаю, что я сидел здесь… позади мсье Леу… но кресел нет, поэтому трудно…
— Да, конечно. Нам очень неприятно задавать вам вопросы в такое тяжелое для вас время. Задняя дверь не открывалась?
— Уверен, что нет.
— Если не возражаете, мы бы попросили вас представить письменный отчет.
Они отошли на несколько шагов, шепотом переговаривались. Филипп в это время рассматривал оставшуюся непостижимым образом невредимой часть фюзеляжа, где их, должно быть, бросило друг на друга в момент удара. Невероятно! Но ведь это еще один повод: раз их троих уберегла судьба, такую ситуацию надо использовать до конца. «Марилена, — подумал он, — если ты не будешь вести себя как дура, клянусь, наша жизнь изменится».
Проснувшись, Марилена почувствовала себя гораздо лучше. Немного болело только в затылке. Она зевнула и вздрогнула — кто-то взял ее за руку. Повернув голову, она увидела Филиппа.
— Ах! Это ты!.. Давно здесь?
— Полчаса. Уже темно. Включить свет?
— Мне и так хорошо… Ты ранен?
— Царапина. Пустяк.
— Я знаю… о Симоне.
— Кто тебе сказал?
— Врач… Бедная Симона!
— Ты называла ее имя?.. Это важно… Сейчас объясню…
— Вроде бы нет… Нет… Я просто спросила, не ранена ли моя кузина.
— Уверена, что сказала просто «кузина»?
— Зачем все эти тайны? Что от этого меняется?.. Кузина или Симона?
Филипп встал, подошел к двери, открыл ее и посмотрел в коридор, потом вернулся, снова сел, пододвинулся к Марилене совсем близко.
— Дело касается твоего дяди, — еле слышно проговорил он. — Я тебя не утомляю?.. Можно продолжать?
— Конечно. С ним что-нибудь случилось?
— В определенном смысле — да. В катастрофе он не пострадал, во всяком случае физически. Но он считает, что Симона не погибла. Вспомни: голова у него и так была уже не совсем в порядке. А теперь стало хуже. Он уверен, что ты Симона. И мне не хочется его разубеждать.
Марилена погладила щеку мужа.
— Ты правильно поступил, дорогой. При его состоянии так лучше. Правда доконала бы его.
— Это так… Но ты представляешь себе, что произойдет дальше?
— Что дальше?
— В присутствии твоего лечащего врача, санитаров я был вынужден вести себя так, как будто ты Симона.
— Не понимаю.
— Подумай же немного. Ты не можешь быть Симоной для него и Мариленой Оссель для всех остальных. Неизбежно произойдет какая-нибудь оплошность, кто-нибудь проболтается, или же мне придется постоянно находиться рядом с дядей, чтобы предупреждать всех тех, кто захочет поговорить с ним.
Марилена приподнялась на подушке.
— И что ж… мне надо будет называть его папой… ухаживать за ним, словно я его дочь…
— Разве это так трудно?
— Не знаю… Все это так странно… Но если я его дочь, то кем ты мне приходишься?
— Зятем… Вот почему я обращался к тебе на «вы» перед посторонними. Мне тоже вначале все это показалось странным. Теперь, понимаешь, ты — Симона, а я вдовец.
— Но это же глупо!
— Боюсь, что да. Но я не мог поступить иначе. Ты находилась в бессознательном состоянии, в шоке. Со мной все случилось по-другому… Начнем с того, что я узнал тебя, когда тебя несли на носилках, и сразу же успокоился… Потом к моей кровати подошел твой дядя… Он выглядел совершенно растерянным. Он не мог оставаться на одном месте. Все время повторял: «Симона ранена… Симона ранена. Симона…» Я ему, естественно, поверил… А потом увидел, как, сидя у твоего изголовья, он называет тебя Симоной. И все понял. Но было бы преступно…
— Бедный Филипп!.. А меня? Он меня не искал?
— Нет. Он уже ничего не соображает. Даже увидев меня, он поначалу не очень-то разобрался, кто перед ним. Иногда говорит: «Спасибо, мсье, вы очень любезны». Потом вдруг узнает меня.
— Это его слабоумие будет долго продолжаться?
— Я не хотел так откровенно спрашивать у врача. Ведь тогда мне пришлось бы ему сказать, что ты не Симона… Сама понимаешь, какие бы тогда возникли осложнения… Моя ошибка состояла в том, что я сразу не сказал правду, что поддался чувству жалости… Но я устал, совершенно ослаб… Короче, глупость совершена. И не надо меня в ней упрекать… Открыть окно? Становится душно.
Он открыл окно. Оно выходило на двор, где росли четыре чахлые пальмы. Небо почернело, на нем появились громадные звезды, которых он уже не узнавал. Он вернулся к кровати, зажег ночник. Марилена прикрыла глаза рукой.
— Ты сам признаешь, — проговорила она. — Это глупость. Как только вернемся в Сен-Пьер, наши друзья…
Филипп нетерпеливо прервал ее:
— Мы не вернемся в Сен-Пьер.
— Почему?.. Дядя в таком состоянии, и ты хочешь везти его в Париж?
— Естественно! Дом в Сен-Пьере выставлен на продажу. А в Париже его ждет прекрасная квартира. Не надо ничего менять в его планах.
— А мы?.. Мы же непременно вернемся. Что тогда?..
Филипп взял Марилену за руки.
— Малышка, ты ничего не поняла… но тебя можно простить после всего случившегося. Повторяю: ты Симона… до конца своих дней.
Марилена высвободилась и села, чтобы лучше видеть Филиппа.
— До конца моих дней? Ведь это же невозможно!
— Но я же тебе объяснил. Власти, как водится, составляют список пострадавших… Официально ты погибла… Умерла… В глазах закона Марилена Оссель погибла в катастрофе, происшедшей в Джибути.
— Но надо же что-то делать… Я никогда не соглашусь…
— Согласишься. В противном случае нас ждут судебные преследования. Закон с такими вещами не шутит. Да, конечно, мне надо было думать раньше. Но я не сообразил, и вот… Но послушай… Ты меня слушаешь?.. Понимаю, что тебе претит играть роль Симоны перед дядей… Но ведь это ненадолго… бедняга, он при смерти… Потом ты станешь свободной.
— Не многого же я добьюсь, оставшись Симоной.
Она повернулась на бок и разразилась рыданиями. Филипп подбежал к двери, заглянул в коридор и быстро вернулся к кровати.
— Марилена… Прошу тебя… Не время плакать, уверяю… Разреши мне закончить… Успокойся!.. В этом деле есть не только плохие стороны.
Он взял полотенце и вытер лицо Марилены.
— В нем есть и много хорошего, — продолжил он. — Ты ведь наследница. Не надо так сильно изумляться… Это очевидно: после смерти дяди все перейдет тебе… До меня это дошло не сразу… Видишь ли, ситуация довольно запутанная, нужно время, чтобы в ней разобраться. В этом-то я уж уверен. Симона — единственная дочь, значит, все отходит тебе…
— Если, конечно, к дяде не вернется рассудок, — пробормотала Марилена.
— Ты права, риск есть. Но надо попытаться.
Ему сразу же пришлось пожалеть о своих словах. Марилена посмотрела на него недоверчиво.
— Так вот в чем дело! — проговорила она. — Ты рассказываешь мне сказки. Вся эта твоя жалость, странное желание не причинять боль человеку, которого ты никогда не любил… все это только ради того, чтобы добраться до наследства…
— Марилена… Клянусь тебе… Я ни на минуту… Впрочем, подумай сама, ведь именно я ничего не получаю от смерти твоего дяди, а это лучшее доказательство, что я не мог так далеко заглядывать. Да, Симона — наследница. Но после смерти Марилены ее муж становится посторонним, у него нет никаких прав.
— Филипп, — прошептала она, — оставь меня. Это выше моих сил. У меня болит голова.
— Да, я сейчас уйду, но я не могу оставить тебя в таком дурном настроении. И потом, мне хочется помешать тебе совершить неосмотрительные поступки. Необходимо, чтобы все у тебя в голове стало ясным, чтобы ты четко понимала, что потеряешь, если сделаешь глупость. Что произойдет, если всплывет правда?.. Задумайся хоть на минуту… Потом я уйду… Состояние дяди… вернее, то, что от него останется после уплаты громадных налогов… будет поделено между тобой и Ольгой.
— Ольгой?
— Черт побери! Она же Леу. Это сестра твоего дяди. Начинаешь понимать? Представляешь, какая заварится каша! Итак! Твой отец покончил с собой… думаю, в какой-то мере по вине дяди… иначе зачем бы старик стал опекать тебя, ведь правда?.. И после этого ты собираешься упустить состояние, которое с моральной точки зрения принадлежит тебе не меньше, чем Симоне… Это было бы уж слишком! Теперь видишь, я ни о чем не сожалею. Думаю, что поступил правильно, выдав тебя за кузину. Это просто справедливо. Ну и что! Скажи, что между нами изменилось?
— Все!.. Дай, пожалуйста, попить.
Филипп наполнил минеральной водой стакан, стоявший на тумбочке у изголовья.
— Все? Ты шутишь.
Марилена медленно пила, глядя на Филиппа.
— По закону я мертва, ведь так? — произнесла она наконец. — Значит, ты волен уйти от меня, начать новую жизнь. Ты этого хотел?
Сжатыми в кулаки руками Филипп несколько раз стукнул себя по вискам.
— С тобой невозможно разговаривать! Неужели ты могла представить, что я ухожу от тебя именно тогда, когда ты больше всего во мне нуждаешься?! Марилена, дорогая, не будь такой глупой.
— Попробуй только сказать, что никогда не хотел уйти от меня!
Филипп резко встал. Марилена схватила его за руку.
— Ну а я, — прошептала она, — никогда тебя не отпущу. Если ты так хочешь, я буду молчать… но ведь ты должен… ты должен жениться на мне.
Он тяжело опустился на стул.
— Боже мой! Я тоже теряю голову. Но разве мы не… Действительно. Я об этом забыл. Теперь я твой дальний родственник.
— Вот именно, — сказала Марилена. — Но тебе ничто не помешает жениться через несколько месяцев на Симоне Леу, раз тебе так хочется, чтобы я была Симоной.
Шум за дверью заставил их замолчать. Они услышали голос санитара: «Только на одну минуту, господин Леу… Потом вы снова ляжете…»
— Филипп! — с мольбой в голосе проговорила Марилена.
— Я здесь, — прошептал Филипп. — Не бойся… Пусть говорит… Ты его кукла… Не перечь ему… Больше ничего не требуется.
Дверь открылась, вошел старик. Шаркая ногами, он приблизился к кровати. Филипп отошел в сторону. Санитар, как бы извиняясь, развел руками в беспомощном жесте. Потрясенная Марилена смотрела на склонившееся над ней лицо, которого она всегда боялась. Серые глаза излучали любовь и в то же время тревогу, откровенную и стесняющую. Как будто тебя застали голой. Марилену охватило странное чувство, будто она подглядела чужой секрет.
— Симона… Бедная твоя головка… в каком же ты состоянии!
Здоровой рукой он потрогал повязку. Пальцы коснулись щеки Марилены. Та уткнулась в подушку, с ужасом подумав, что долго лгать не сможет.
— Тебе больно?.. Ты не хочешь меня расстраивать?
— Да нет, ей не больно, — вмешался санитар. — Сейчас мы поможем ей подготовиться ко сну, а завтра она встанет.
— Не хочу… чтобы ты страдала… я увезу тебя… далеко.
Леу нахмурил лоб, стараясь осознать значение слова «далеко». Оно вызывало в нем неясные воспоминания. Губы шевелились так, словно он проговаривал про себя трудный текст.
— Пойдемте, вам пора отдыхать, — сказал санитар, беря его под руку.
— Оставьте, — ответил старик. — Это моя дочь… Я имею право…
Сквозь морщины начала проступать дрожащая улыбка, осветив старческое лицо, озарив его нежностью и добротой. Поддавшись внезапному порыву, Марилена обвила руками его шею. Ей хотелось попросить прощения, но не потому, что она его обманывает, а потому, что Симона нередко обращалась с ним жестоко, когда он отказывался потакать ее капризам. Она вдруг почувствовала себя счастливой, что может как-то загладить старые обиды. Филипп прав. Надо лгать. Она слегка его отстранила, посмотрела на него, держа за плечи на расстоянии вытянутых рук, улыбнулась.
— Ну а теперь, папа, иди отдохни.
Она разговаривала с ним, как с отцом, которого потеряла, как с ребенком, которого у нее не было. Со слезами на глазах она смотрела, как он уходит, пошатываясь и бормоча бессвязные слова. Филипп закрыл дверь.
— Ну что ж, — весело проговорил он, — ты отлично выкрутилась.
Марилена провела ладонью по мокрому от пота лбу.
— Мне его так жаль… Филипп… хочется просто быть рядом с ним… не думать о наследстве. На деньги мне наплевать. А вот он сам… странно… я вдруг поняла, как он мне дорог.
— А ведь он тебя не очень-то баловал.
— Может быть. Но когда я вижу его таким… потерянным… Конечно, я понимаю, что любит он не меня…
— А он ведь даже не спросил, что стало с тобой.
— Возможно, это и есть любовь, — задумчиво проговорила Марилена. — Человек думает только об одном-единственном существе… А теперь иди… Мне надо спокойно подумать обо всем, что ты мне сказал.
Филипп несколько секунд колебался. Оставалось еще немало вопросов, которые следовало бы обсудить.
— Спокойной ночи, — наконец сказал он.
— Можешь меня поцеловать.
— Конечно.
Он быстро поцеловал ее.
— Крепче.
Он пожал плечами.
— Надо соблюдать осторожность. Давай привыкать, что мы с тобой всего лишь дальние родственники. Постарайся заснуть.
Филипп вышел с каким-то смутным чувством досады. Все эти душещипательные сантименты его слегка угнетали. Он закурил сигарету, пересек двор и уселся в садике перед больницей. На скамейках расположились несколько выздоравливающих, явно изголодавшихся по свежему воздуху. Ветер с моря доносил шумы порта. «Это промежуточная посадка, — подумал он. — Не больше. На следующей неделе мы будем в Париже». Ему захотелось посидеть в бистро, выпить, может быть, сойтись с женщиной. Марилена раньше его поняла, что он свободен. Вот уже несколько минут он думал только об этом. Свобода! Свободен от Леу! В Париже Марилена будет жить с дядей. А он поселится в гостинице. Он сам сможет распоряжаться своим временем. Денег она ему даст больше, чем он попросит, лишь бы удержать его. Будущее постепенно раскрывалось перед ним, суля радостные перспективы. Снова жениться на Марилене — это не так уж глупо, но торопиться некуда. Сначала стоит еще раз испытать прелести холостяцкой жизни, вернуться к праздному времяпрепровождению прежних лет, к неожиданным встречам, ко всему, что составляет радость жизни. Кроме того, в пригородах наверняка существуют клубы планеризма. Туда его примут с распростертыми объятиями. Он уже испытывал чувство товарищества, возникающее на взлетных полосах. Много летать он не собирается, так, время от времени небольшой полет, просто чтобы не потерять навыки. На Реюньоне других развлечений не было. Но в Париже!..
Он так разнервничался, что ему захотелось немного пройтись. Движение стесняли брюки. Их одолжил ему Поль, санитар. Его собственные разорвались и запачкались кровью. Завтра надо будет всем купить новую одежду. Филипп мысленно прикинул, что ему предстоит сделать… Подтвердить заказ на рейс во вторник, если у врача не возникнет возражений… Потом… начать хлопотать о выдаче Марилене документов, удостоверяющих личность… Отправить уведомление новому руководству компании, что он увольняется… Все это муторно, но не так уж неприятно. Все-таки первые шаги на пути к свободе. На фоне радостной убежденности: «Я богат».
На следующее утро Филипп зашел повидать Леу. Тот брился, сидя в пижаме, выданной больницей, перед зеркалом сержанта Иностранного легиона, с которым лежал в палате. Старик на него даже не посмотрел. Он неловко скреб кожу с каким-то неизъяснимым старанием, от которого правый глаз вылезал из орбит.
— Дайте мне, — сказал Филипп. — Вы порежетесь. Когда вам что-то надо, попросите о помощи. Садитесь.
Старик боязливо повиновался. Он не узнал Филиппа. Он так намучился, что у него дрожали руки, а губы и щеки подергивались.
— Он всю ночь разговаривал, — сказал сержант.
— Вам это мешает?
— Да нет! Но ему, кажется, здорово досталось.
Филипп помог Леу одеться.
— Хотите повидать Симону?
Никакого проблеска сознания. Старик забыл Симону. Филипп отвел его в сад, усадил в тени в шезлонг.
— Сидите спокойно, — сказал он. — Я скоро вернусь.
Старик смотрел на муху, ползавшую по его руке, не делая никаких попыток прогнать ее. Вдруг с его губ сорвался дребезжащий смех. Он был немыслимо одинок, затерявшись в далеком прошлом. Филипп почувствовал себя спокойнее. И отправился к Марилене.
— Ну как ты сегодня?
Марилена уже встала. В зеркале, висевшем над раковиной, она рассматривала свое лицо.
— Страшна, как смерть, — отозвалась она. — Видел дядю?
— Да. Сегодня он не в себе, бедняга. Созрел для инвалидной коляски. Можешь не волноваться. Ну как, обдумала наш вчерашний разговор?
— Только этим и занималась всю ночь. Ничего не выйдет.
— Почему?
— Не знаю. Так мне кажется.
— Объясни.
— О! У меня такое впечатление… Мне кажется, что, сев в самолет, я вызвала какой-то обвал. Как бы лучше сказать? Вся наша жизнь была как-то не очень устроена. А теперь все начинает рушиться, катиться, как снежный ком.
— Глупости! У тебя есть серьезные возражения, что-то конкретное?
— Ну что ж, в Париже нас сразу же ждут огромные расходы… квартира… врачи… за все это будешь платить ты?
— Нет. Ты. По доверенности твоей кузины. Ты, может, не в курсе?.. Дядя оформил Симоне доверенность в «Сосьете женераль». Тебе придется просто подделывать подпись Симоны. Ты все знаешь о своей кузине. Так что с этим проблем не возникнет. Есть еще возражения?
— Да… Наследство Симоны, полученное от ее матери. Это же мне все-таки не принадлежит.
— Но она от нее совсем ничего не унаследовала. Или какую-то мелочь. Все сбережения ее матери пропали после банкротства. Свое нынешнее состояние дядя сколотил сам, и оно принадлежит только ему. Еще возражения?
— Тетя Ольга. Я лишаю ее всего. Ты же сам это говорил.
— Ну и что?.. Тетя Ольга для тебя уже давно посторонний человек… двадцать пять лет! Еще возражения?
— Ты мне надоел. Дай лучше сигарету.
Филипп протянул ей пачку и зажигалку. Марилена уселась на кровати, подогнув под себя ноги.
— У тебя на все есть ответ, — возобновила она разговор, — но у меня все равно нет уверенности. Все выглядит чересчур просто.
— Что?
— Ну как можно просто так исчезнуть? Сменить личность, воспользовавшись последствиями катастрофы… Как быть, например, с документами Симоны, с моими документами, с нашими фотографиями…
— Они сгорели. От ваших сумок ничего не осталось.
— Предположим. А если я нос к носу столкнусь с кем-нибудь, кто знал меня или Симону…
— Ты знаешь кого-нибудь в Сен-Пьере, кто ездит во Францию? Чиновники, да… но это люди, с которыми дядя не общался. А остальные?.. Ладно. Не волнуйся. Я подумал обо всем.
— И о том, как мы будем жить? Я с дядей в новой квартире, это понятно. А где ты?
— Там, где мы должны были жить вместе. В гостинице.
— А когда мы будем встречаться?
— Ну… если хочешь, каждый день.
— А ночью?
Филипп улыбнулся.
— Ночью я буду спать один. Что ты выдумываешь?
Он сел рядом с ней, обнял ее за талию, кончиками пальцев лаская грудь.
— Да пойми же ты, — проговорил он. — Я у тебя в руках. Если мне вдруг захочется избавиться от тебя, ты всегда сможешь поставить в известность обо всем, что произошло, власти, прокурора республики, начнется следствие… Нам предъявят иск. Мы все потеряем… Но ты хоть отомстишь мне, если тебя это волнует.
— Филипп!.. Мне необходимо, чтобы ты находился рядом со мной всегда.
Большим и указательным пальцами она вытерла выступившие на глазах слезы.
— Какая я глупая, — пробормотала она. — Я теперь все время хочу плакать. А как подумаю, что мне снова придется сесть в самолет, у меня просто останавливается сердце.
— Может, нам немного пройтись? Пошли… Возьми меня под руку.
Они обошли больницу и встретили одного из оставшихся в живых пассажиров самолета, с трудом переставлявшего ноги в гипсе. Филипп представил Марилену:
— Мадемуазель Симона Леу.
Он почувствовал, как сжались пальцы Марилены. Но она уже начала привыкать к своей новой роли. Дальше она пошла более уверенно. Они прошли по садику, где крутящиеся фонтанчики разбрызгивали капли воды на землю, сразу исчезавшие.
— Как ты думаешь, можно здесь раздобыть пудру и губную помаду? — спросила она.
— Не обещаю. Но поищу.
Марилена с любопытством смотрела на уличную суету, на направлявшихся в сторону рынка верблюдов, арабов, эфиопов, разношерстную толпу. К ней возвращалась жизнь, и она вытягивала шею, как кошка, которой хочется, чтобы ее приласкали.
— Ты не устала?
— Нет.
— Пойдем дальше?
— Да. Хочу купить платок, чтобы прикрыть голову.
В конце улицы они нашли лавку, где купили ужасный шелковый платок — квадрат с изображением заходящего в пустыне солнца, но теперь Марилена чувствовала себя защищенной от любопытных взглядов. А надев темные очки, она уже больше не испытывала стыда. По пути назад они впервые начали строить планы. Марилена сразу же наймет служанку и, возможно, сиделку. А если квартира достаточно просторная, то почему бы Филиппу там тоже не поселиться?
— Я уже не член семьи, — возразил Филипп.
— Но ведь никто нас не знает. Я скажу, что…
— У дяди это может вызвать удивление, если к нему когда-нибудь вдруг вернется ясность ума. Лучше, чтобы у него не возникало вопросов. Сейчас он воспринимает меня как лицо, не выделяющееся среди других. Он обращает на меня внимания не больше, чем на санитаров, и так даже лучше.
— Но, значит… ты ко мне не будешь приходить?
— Я этого не говорил. Но только вначале нам следует встречаться не дома… Вот увидишь, мы все устроим.
Они остановились, чтобы купить газету. На первой полосе пестрели заголовки, набранные крупным шрифтом.
«„Боинг“ потерпел катастрофу… Найден „черный ящик“… Расследование затягивается…»
На фотографии бригада рабочих расчищала взлетную полосу. Филипп почувствовал, что Марилену снова охватил ужас.
— Тебе дадут успокоительное, — сказал он. — Дяде тоже. Вы будете спать до самого Парижа.
В больнице Филиппа ждал швейцар.
— Вас просят зайти в кабинет главного врача, господин Оссель. Мне кажется, что это связано с расследованием.
— Иди, — прошептала Марилена. — Не провожай меня. У меня хватит сил.
Она вернулась в палату. На столике у кровати лежали телеграммы. «Симоне Леу. Военный госпиталь. Джибути». Она сначала не поняла. Симоне? Но она же погибла. Затем вспомнила, и у нее перехватило дыхание. «Симона — это же я!» Никогда ей к этому не привыкнуть!
Она вскрыла первую телеграмму. «Узнали о постигшей вас беде. Искренние соболезнования. Декомб». Это от Робера Декомба, молодого человека, без всякого успеха ухаживавшего за Симоной. Быстро просмотрела другие телеграммы. Выражения сочувствия, соболезнования… «Вместе с вами безмерно скорбим… Всем сердцем с вами… Искренне переживаем…» Марилену очень любили! Телеграммы падали на нее, как комья земли. Нет. Вернуться назад невозможно. Газеты опубликовали список погибших, и всем теперь в Сен-Пьере известно, что она погибла.
Она чувствовала себя настолько подавленной, что даже не подняла голову, когда ей на подносе принесли обед. Исчезла оставшаяся у нее маленькая надежда вернуться на остров, вопреки всем планам Филиппа. Все как будто сговорились: она должна стать Симоной. До сих пор она была пассивным персонажем. Теперь надо действовать сознательно. Ведь она знает эту роль наизусть. Филипп прав. Она слишком долго жила в тени своей кузины и прекрасно осведомлена о ее вкусах, манерах, увлечениях, о чертах ее непостоянного характера. Но одна сторона характера Симоны все же ускользала от нее. Почему Симона сказала ей: «Мне бы хотелось поменяться с тобой местами»? Может, у нее с отцом произошла по какому-то вопросу не известная никому размолвка и старик когда-нибудь вдруг на нее намекнет?
Марилена с отвращением посмотрела на стоявший на столике поднос: сардины в масле, черный кусок мяса с овощами, от которых пахло капустой. Ей не хотелось есть. Она была слишком занята своими мыслями. Она хорошо понимала, что ей даже не надо подражать Симоне, пытаться стать ее двойником, потому что ей не придется никого водить за нос. Если к дяде на беду вдруг вернется ясность ума, он с первого взгляда поймет, с кем имеет дело. Тревогу у нее вызывало то, что она не знает, существовал ли между Симоной и отцом какой-то конфликт. На память теперь приходили отдельные сцены, фразы… Однажды, незадолго до болезни дяди — это случилось в воскресенье, поскольку по воскресеньям они с Филиппом обедали у Леу, — Симона за столом заявила, что не поедет отдыхать, а когда отец спросил ее почему, то она бросила на стол салфетку и выбежала из комнаты. Иногда Марилена замечала, что у Симоны покрасневшие глаза и распухший нос, словно та долго плакала… Марилена надкусила бутерброд и отодвинула поднос. Фактически ей предстоит занять место Симоны, которую она не знает. Объяснять эту тонкость Филиппу бесполезно. Он принадлежит к той категории людей, лишенных интуиции, которые сразу раздражаются, когда им начинают рассказывать о предчувствиях, когда им, например, говорят: «У меня такое ощущение…», «У меня такое впечатление…». «Бабские выдумки», — брюзжит он в ответ. В эту минуту Марилене стало предельно ясно, что в их плане что-то не ладится. Она не притронулась к вину, один запах которого вызывал в ней отвращение, зато опорожнила целый графин воды. Потом прилегла. Прогулка ее сильно утомила. Она дремала, когда появился Филипп. Бросил на кровать несколько телеграмм.
— Они адресованы старику, — сказал он, — но больше мне. Соболезнования.
— Мне тоже, — отозвалась Марилена, показывая полученные телеграммы. — Как он?
— Все так же. Но слабеет. Пришлось сидеть с ним, резать мясо, помогать ему есть… Та еще работенка!.. Я разговаривал с инженером, который ведет расследование. Все вроде улажено. Как раз вовремя.
— Мы сможем улететь во вторник?
— Конечно. Еще я встретил священника. Правда, больше он похож на регбиста. Он к тебе вскоре зайдет. Будь с ним поосторожнее. Он как бы между прочим, но выведывает. Пригласил нас завтра утром на мессу за упокой душ погибших. Но если тебя это смущает, можешь остаться здесь.
— Я пойду.
Это будет страшным кощунством. Вот еще одно непредвиденное испытание! Марилена молится о вечном спасении Марилены. За подобное святотатство ее неизбежно настигнет возмездие. Несмотря на религиозное воспитание, ее вера в Бога была не очень крепкой. Но она обладала острым чувством справедливости и не могла не думать, что заслуживает сурового наказания.
— Все это не принесет нам счастья, — проговорила она. — Мне страшно.
— Чего ты боишься?
— Всего. Слишком много предзнаменований. Может быть, мне было бы лучше и в самом деле погибнуть.
Через неделю страхи Марилены начали постепенно рассеиваться. Все прошло очень хорошо. Ей еще раз пришлось поволноваться в самолете, но при перелете не возникло никаких осложнений. Старик дремал до самого Орли. После посадки, правда, их обступили журналисты. Их было около полудюжины, и они хотели взять интервью у людей, оставшихся в живых после катастрофы «боинга». Отвечал на вопросы Филипп, а Марилена с дядей спокойно отошли от самолета. Никаких других неприятностей больше не было. В гостинице тоже обошлось без недоразумений. Они остановились в роскошном отеле неподалеку от Елисейских Полей, где для них держали наготове три номера. Больной старик, напичканный транквилизаторами, казался крайне подавленным. Он не разговаривал, позволял обращаться с собой как с куклой и если как-то проявлял себя, то только долгими невнятными монологами.
— Сдает, — говорил Филипп.
Не откладывая дела в долгий ящик, его отвезли к профессору Меркантону, которого порекомендовал портье гостиницы, знавший Париж как свои пять пальцев. Тщательно осмотрев больного, профессор высказал категоричное мнение:
— Продержится два месяца, возможно меньше. Сердце никуда не годится.
— Может, поместить его в клинику? — спросил Филипп.
— Не имеет смысла.
— Как вы думаете, у него в голове всегда будет такой сумбур?
— Нет. Он может временами приходить в себя, вспоминать какие-то события, и то я в этом не уверен.
В промежутках между двумя телефонными звонками он сделал еще несколько мудреных замечаний, потом выписал длинный рецепт.
— Вот. Если что-нибудь случится, предупредите меня сразу же. Вам потребуется медсестра для уколов. Могу порекомендовать. Естественно, никаких нагрузок, никаких эмоций, особенно в такую погоду.
Посмотрев на высокое окно, по стеклам которого хлестал дождь, он завершил разговор:
— Постарайтесь его развлечь. Немного музыки, телевизор. Если он проявит интерес к окружающим его вещам, возможно, мы вскоре станем свидетелями того, что ему становится немного лучше…
— Он может нас узнать? — Марилена задала вопрос, трепеща от страха.
— Да, конечно.
Старик, сидя в кресле, не слушал. Он машинально разглаживал внутреннюю часть шляпы, которую ему купили сегодня утром. Сейчас он походил на маленького воспитанника лицея, совершившего какое-то нарушение и представшего перед директором в присутствии родителей. Ему просто сказали: «Пошли… Мы уходим». Его покорность выводила из себя. В лифте Филипп прошептал на ухо Марилене:
— Видишь! Я оказался прав. Два месяца — это недолго.
— Замолчи.
Но Филипп с трудом сдерживал радость. Теперь он срочно захотел посетить квартиру, которую унаследует Марилена. Они пошли туда, когда старик улегся и уснул. Дом располагался на бульваре Перейр. Марилене место понравилось, главным образом из-за железной дороги, проходившей рядом в низине со скатами, поросшими ирисом.
— Ты будешь усаживать его у окна, — сказал Филипп. — Он будет смотреть на поезда, и ему станет хорошо.
Квартира оказалась большой: смежные гостиная и столовая, кабинет, три спальные комнаты, просторная ванная. Художник-декоратор оформил ее в духе скромной роскоши: красное дерево и кожа в стиле зажиточных английских домов, все это удобно, но, может быть, немного мрачновато. Филипп включал бра, люстры, канделябры, переходил из комнаты в комнату, выдвигал ящики из шкафов, поворачивал краны и повторял: «Восхитительно! Все есть!.. Шикарно!..» Марилена вела себя более сдержанно.
— Ты недовольна! — воскликнул Филипп.
— Очень смахивает на каталог.
Ей захотелось вернуться в свой маленький домик, вновь увидеть сад, где обитало множество птиц. Филипп сел в кресло перед письменным столом, начал выдвигать ящики, с удовольствием потрогал телефонный аппарат старой модели, купленный у какого-то антиквара. Марилена была все еще на кухне: и газовая плита, и электрическая, величественный холодильник, посудомоечная машина — целая батарея, похожая на арпеджио на плиточном полу… и всяческие умные приборы, соковыжималки, кофемолки, мясорубки, овощерезки. Все это слишком!
— Все в полном порядке, — сказала она Филиппу, когда тот прошел на кухню и залез в холодильник в поисках выпивки.
— Они позаботились даже о виски. Причем лучшей марки. Хочешь? Зря. Я обязательно поблагодарю человека, который все это устроил. Короче, вам можно переезжать.
— А ты?
— Успокойся! Не бери в голову. Найду какой-нибудь маленький отель на улице Ниель или Вилье. Это совсем рядом.
Ему не сиделось на месте. Он вновь начал обход, на этот раз с бокалом в руке. Слышались его восклицания, когда он находил что-нибудь по душе. Марилена сидела, оперевшись руками о стол. Она чувствовала себя покинутой. Силы оставили ее.
— В шкафах есть все, что надо, — крикнул он издалека. — Белье, простыни, все!
Он от нее ускользал. На уме у него только одно: затолкнуть ее в эту клетку, запереть и оставить наедине с инвалидом. Она оказалась одинокой в этом незнакомом городе, шумы которого смутно доносились до нее в виде какой-то угрозы. Он же, напротив, вел себя как плененный зверь, которому возвращают свободу и который уже чувствует запахи леса. Филипп вернулся, налил себе еще немного виски.
— Наймем тебе служанку. Будешь как королева.
— А где ее поселить?
— Ты забыла, что на восьмом этаже для нее есть комната? Нам же писали из агентства. Ты живешь как на луне, честное слово! Если б не я… Кстати, у меня почти не осталось денег. А нам нужна наличность. Тебе надо всего-навсего зайти в банк со справкой об утере документов.
Казалось, все это его ничуть не смущает. Деньги Леу принадлежат ему. Для него не имеет никакого значения, что старик еще жив.
— Тысячи хватит?
Филипп рассмеялся.
— Что здесь можно сделать на тысячу франков? Мы же не в Сен-Пьере… Разумеется, я могу снять со своего счета. Но долго он не просуществует. Ну а твой собственный счет заблокирован, поэтому ты должна меня выручить. Тебе это не по душе? Но ты же уже расписывалась за Симону.
— Но я еще не привыкла распоряжаться деньгами, которые мне не принадлежат.
Он обнял ее за плечи. Марилена высвободилась.
— Сколько?
— Не знаю. Четыре-пять тысяч. Нам надо купить одежду. Потом, мы должны еще заплатить агентству. Ну и карманные деньги. Одно только такси…
— Ладно, ладно. Договорились.
Он вдруг скривил физиономию, как делал обычно, когда бывал не в духе.
— Я же не прошу у тебя милостыню. Постарайся понять.
— Я поняла.
С этих пор, как только она переставала заниматься делами, ее тут же обволакивала печаль, от которой она задыхалась. По счастью, времени для самоанализа у нее оставалось очень мало.
На следующий день появилась служанка, расторопная португалка с дерзким взглядом и со слишком накрашенными глазами. Она потребовала непомерную плату, но хорошо говорила по-французски, умела готовить и казалась вполне пристойной.
— Настоящее сокровище, — заявил Филипп.
Как он умудрился ее найти? Его ничем не смутишь, его не пугают трудности, которые другого поставили бы в тупик. Марилене надоело спорить. Она наняла Марию. Потом встретилась с сиделкой, приехавшей на красном «мини». Сиделка обошла квартиру, подробно расспросила о больном, выразила сожаление, что в квартире нет аптечного шкафа. Потом, не снимая перчаток, села за стол и в блокноте записала адрес, номер телефона и свое имя: Анна Водуа. «Мадемуазель», — сухо уточнила она.
— Когда приедет господин Леу?
— Сегодня вечером.
— Зайду в восемь часов.
Филипп между тем снял номер в небольшой и очень уютной гостинице на улице Ниель. Едва освободившись, Марилена прибежала к нему. Недоверчиво перебрала постельные принадлежности, посмотрела на улицу.
— Филипп, мы делаем глупость. Ты здесь, я там… Ничего хорошего из этого не выйдет, я это чувствую.
— Что ты предлагаешь?
— Ничего.
— Вот именно. Выхода нет. Остается только ждать его смерти.
Ожидание началось с этого дня, с этой минуты. Как иначе назвать эту манеру бесшумно перемещаться, подслушивать у дверей комнаты старика, когда он спит, наблюдать за ним, когда он медленно переходит из одной комнаты в другую? Поначалу он как будто что-то заподозрил, пытаясь освоиться в незнакомой квартире. Его заинтересовала кухня, ведь там стояли сложные приборы. В Сен-Пьере в кухню он никогда не заходил — там хозяйничали слуги. Здесь же он охотно наблюдал, как работает Мария.
— Мадам, можно, чтобы он сидел где-нибудь в другом месте? — просила португалка. — Меня он слишком смущает.
Но кресло у окна ему не нравилось. Едва он вытягивал шею, как проходил поезд. И он сразу же впадал в состояние какого-то безумного безразличия. Или звал: «Симона!.. Симона!..», как ребенок, боящийся темноты. Марилена подходила, тихо с ним разговаривала, наклонялась к нему, пытаясь разглядеть в глазах отблеск разума, то есть сигнал опасности. Если он ее узнает, что тогда ей придется делать? Филипп на этот вопрос ответил спокойно:
— Бедняжка, ты напрасно мучаешь себя. Допустим, он чуть-чуть придет в себя. Всего на несколько минут… Но начнем с того, что этого не случится. Ведь ясно, он уже при смерти.
На Филиппа рассчитывать больше нечего. Он приходит только к обеду, шутит с Марией, обсуждает блюда, читает газету. К старику он никогда не заходит.
— Ты мог бы хоть поздороваться с ним.
Филипп пожимал плечами или насмешливо кричал: «Привет, папаша!», обмениваясь с Марией заговорщицкими взглядами. Марилена не узнавала Филиппа. Он теперь одевается не так, как в Сен-Пьере, где обычно ходил в полотняных брюках и рубашке. Теперь он носит бархатный костюм, который уже начал пузыриться на коленях, водолазку и куртку, делающую его похожим на водителя грузовика. Шокировал он Марилену и своим поведением. Как он может не понимать, что он не у себя дома, что нельзя громко говорить, смеяться, свистеть, включать телевизор, как будто все это принадлежит ему?!
— Что подумает Мария?
— Плевать мне на Марию!
Порой, забываясь, он называл Марилену на «ты», и это за столом при старике, когда прислуживала Мария.
— Будь осторожнее, — умоляла Марилена.
Тогда он, не говоря больше ни единого слова, одним глотком допивал кофе и сразу же уходил. Потом начинался долгий вечер, вымученный и одинокий. Иногда, когда прекращался дождь, Марилена ходила прогуляться, открывала для себя новые улицы, но всегда боялась зайти слишком далеко. Она не хотела надолго отлучаться из дома. Ей чудилось, что Мария станет задавать дяде вопросы, чтобы заставить его заговорить. Ведь служанка, вероятно, о чем-то догадывается. Она наверняка считает, что у нее с Филиппом греховная связь. А ведь Леу всегда старались быть выше всех подозрений и не давать ни малейшего повода для сплетен. Леу!.. Марилена часто вспоминала о своем острове, солнце, голубом море, о той мирной радостной жизни, которую она вела когда-то. Теперь нельзя написать даже подругам, ведь они считают, что она погибла. А ведь приходят письма, от одного взгляда на которые начинает учащенно биться сердце. Они адресованы господину Виктору Леу и касаются дел компании. На них, ворча, отвечает Филипп. Хоть он и отказывается это признавать, но в его плане существует слабое звено. В идеале следовало бы найти квартиру, адрес которой не был бы известен никому в Сен-Пьере. Постоянно в голову лезет эта мысль. В идеале, конечно, старик должен поскорее умереть. А однажды утром почтальон принес письмо. Надпись на оборотной стороне конверта поразила Марилену: «Ольга Леу, дом 14-а, ул. Турель, Булонь-сюр-Сен».
Письмо было переправлено с Реюньона и пришло на имя мадемуазель Симоны Леу.
«Дорогая Симона!
Я знаю, что вы с моим братом находитесь в Париже. Газеты писали о вас в связи с катастрофой, произошедшей в Джибути. Но Виктор никогда не считал нужным ставить меня в известность о своих планах, поэтому мне неизвестно, почему вы вернулись во Францию и где я могу с ним встретиться. У меня есть все основания полагать, что вы не намереваетесь удостоить меня визитом. Только моя бедная крошка Марилена могла бы догадаться навестить меня. Но она погибла! Пишу вам для того, чтобы вы поняли, насколько ее смерть меня трогает. Я старая женщина, всеми покинутая, как и мои постояльцы. Единственной моей родственницей была Марилена, ведь Виктор забыл обо мне. К тебе, дорогая Симона, у меня нет претензий. Что такое тетя, которую не видишь двадцать пять лет и о которой, полагаю, тебе всегда говорили плохо. Но во мне все-таки достаточно чувств, и я оплакиваю ту девочку, которую от меня забрали, лишив меня радости видеть, как она растет. Мне очень жаль. Надеюсь, что вы испытываете такие же чувства.
Обнимаю тебя, малышка.
Ольга»Поддавшись велению сердца, Марилена приняла решение: «Я поеду к ней». Потом ее как огорошило: «Но я же не Марилена». Ну и что! Филиппу об этом письме говорить необязательно. А ей ничто не мешает посвятить старой тетке немного времени, съездив к ней на такси. На это уйдет не больше двух часов. Ольга, вероятно, примет ее холодно, ведь она не очень-то любит Симону. О том, чтобы сказать ей правду, не может быть и речи, но в ее письме, написанном таким раздраженным тоном, чувствуется такая тоска, что от нее невозможно отмахнуться, не подать ей руку. Дядю она оставит на попечение Марии, и та не преминет сказать ей с двусмысленной улыбкой: «Мадам идет за покупками?.. Мадам это пойдет на пользу. Мадам следует чаще выходить с мсье Филиппом. Я займусь старым господином».
Она позвала Марию.
— Булонь-сюр-Сен… это далеко?
— Нет. На поезде четверть часа… Он останавливается на площади Перейр…
— На что это похоже? Там расположены заводы или это сельская местность?
— Мадам сама увидит.
«Ее обязательно надо навестить, — повторила про себя Марилена. — Ведь она столько сделала для меня в прошлом. Бедная тетя! На что она живет?.. Может, содержит семейный пансион для престарелых, раз об этом упоминает в письме? Но почему они покинуты?.. Старые одинокие люди? Пенсионеры, как и она, или бог знает кто?»
Перечитав письмо несколько раз, она показала его дяде.
— Я получила письмо от тети Ольги.
— Да? Ну и как она поживает?
Марилена вздрогнула. Он ответил совершенно нормальным голосом. Но потом вдруг разволновался.
— Она… эта ведьма… Она всегда… завидовала мне… тебя… Симона… она никогда не любила… Только и думала о твоей кузине.
— Прочитать письмо?
— Не надо.
Он встал с кресла и, вздыхая, отправился в кухню. Он шаркал по полу ногами, как ребенок, катающий игрушку. Марилена постепенно освобождалась от охватившего ее страха. Когда пришел Филипп, она ему сказала:
— Попробуй с ним поговорить. Мне кажется, ему лучше.
— Ну, старый негодяй! — воскликнул Филипп, не проявив никакого волнения. — Чего он только не придумает, чтобы отравить нам жизнь!
Потом она услышала, как он разговаривает на кухне. Прислушалась, не в силах пошевельнуться. Наконец он вернулся, ворча.
— Тебе что, приснилось?.. Он мелет все тот же вздор.
— Но я тебя уверяю…
— Ладно, все в порядке. Давай быстренько поедим. У меня дела. Встретил старого приятеля, он предлагает поехать в Фаянс.
— Что?
— Да. Но летать я не собираюсь. Сейчас не сезон. Мне хотелось бы повидать друзей. Просто пожму им руки и вернусь… Скажем, на три дня. Подумаешь, всего три дня!
Он обнял жену за плечи.
— Ну, крошка, ты же не собираешься плакать. Буду тебе звонить каждый вечер… Пойми. Я же не могу все время сидеть на привязи, как собачонка. И потом, у меня есть планы… Расскажу, когда вернусь.
Он крепко сжал ее, покачивая в руках с забытой нежностью.
— Ой! Извините.
Они быстро отстранились друг от друга. На пороге с заговорщицким видом стояла Мария.
— Завтрак готов.
Они прошли в столовую, но, едва сев, Марилена встала, скомкала салфетку.
— Что с тобой?
Она бросилась к себе в комнату, попыталась запереться, но Филипп помешал.
— Оставь меня, — крикнула она. — Иди… Занимайся своими делами.
— Но объясни же…
— Разве ты не видишь? Эта девчонка… думает, что мы любовники. Я вышвырну ее за дверь.
— Успокойся.
— Тебе на это наплевать.
— Боже мой, я просто не делаю из этого трагедии.
— А мне это невыносимо.
Она упала на кровать, закрыв уши руками, чтобы больше не слышать Филиппа. Она дошла до предела. Филипп так далек от нее… Дядя — крест, который она несет… Ольга считает ее Симоной… Все это глупость и нелепость. И вот, в довершение всего, ее принимают за любовницу собственного мужа. Это уже слишком! От нее требуют слишком многого. И ради чего? Из-за каких-то несчастных денег. Филиппу хорошо удавалось скрывать свои планы, но теперь ей все стало ясно. Он всегда зарился на наследство. С самого начала он терпеливо вел свою игру. Нагромождал одну ложь на другую. А она, как послушный ребенок, всегда уступала.
Она поискала платок, увидела, что Филиппа в комнате больше нет, и пожалела об этой идиотской сцене. Филиппу ведь тоже нелегко. Если бы у нее было больше решительности, она могла бы приходить к нему в гостиницу, проводить с ним ночи, раз уж днем она себе не принадлежит. Она умыла лицо, накрасилась. Правда заключается в том… как ни неприятно признавать это, в том, что ей нравится играть роль кузины. Почему она сейчас оттолкнула Филиппа? Потому что их застала Мария? Или потому, что она уже привыкла спать одна, без приставаний мужчины, не затрудняющего себя особыми церемониями? Нет, хорошей супругой ее назвать нельзя. В сущности, она продолжает оставаться воспитанницей коллежа Непорочного зачатия. Хочет сохранить Филиппа и все делает для того, чтобы его потерять. И все это завязано в чересчур тугой узел противоречивых желаний, которые она не в состоянии понять. Она вернулась в столовую. Услышав шум, из кухни появилась Мария.
— Можете убирать, Мария. Я не хочу есть.
— Господин Филипп ушел. Он оставил записку.
Она протянула сложенный вдвое листок, вырванный из записной книжки.
«Позвоню завтра вечером. Не забудь об удостоверении личности. За тебя я его получить не могу. И вообще, не будь дурой…»
Мария записку наверняка прочитала. Марилена покраснела.
— Как мой отец? — спросила она.
— О нем я позаботилась. Покормила на кухне.
— Он меня не спрашивал?
— Нет. Сейчас он отдыхает в шезлонге.
— Спасибо, Мария.
У Марилены вдруг возникла мысль довериться этой девушке, которая умеет все так хорошо устроить, которая, должно быть, у себя дома воспитала целый выводок братишек и сестренок.
— Я оставляю его на вас, — проговорила она. — Я иду по делам.
— Мадам права. Надо пользоваться солнечной погодой.
Марилена завязала на голове шелковый платок, прикрыв волосы. Они отрастали довольно медленно. Узнает ли ее тетя Ольга? Прошло двадцать пять лет. Конечно нет. Но если вдруг произойдет невозможное, она признается во всем. И у нее наконец-то появится союзник. Ей почти хочется, чтобы ее разоблачили. Пусть Филиппу будет хуже. Не надо было дергаться.
Она села в такси. Время от времени спрашивала:
— Еще далеко?
Она порылась в сумочке. Хватит ли ей денег? Может, надо помочь немного старой женщине, живущей в нужде? Когда-то Ольга заведовала небольшим пансионатом под названием «Общественные связи»… Во всяком случае, Марилена слышала, как об этом говорили. Но она особенно не старалась вникать. Теперь Ольге больше шестидесяти пяти лет, ведь она самая старшая. Получает ли она пенсию? Заняв место Симоны, Марилена лишает ее части наследства. Эта мысль стала вдруг невыносимой. Марилена смутно представила себе убогую квартиру, перед глазами предстали почерпнутые из романов картинки бедности, и она чуть было не попросила повернуть назад.
— Почти добрались, — сказал шофер. — Застава Отей позади, теперь совсем рядом.
Такси ехало вдоль большого сада, оранжерей, потом сделало поворот и наконец остановилось у ворот перед палисадником. За ним виднелся двухэтажный домик. Еще дальше, за домом, возвышался огромный кран со стрелой, нависшей над строящимся зданием. Марилена расплатилась, дошла до ворот, поискала звонок. Его не было. Она толкнула ржавую дверь. Лужайка оказалась ухоженной. Там росли три персиковых дерева, их опавшие розовые листья придавали некое очарование этому безрадостному месту. На ступеньках дома рыжий кот приводил себя в порядок. Увидев Марилену, он подошел к ней и потерся о ее ноги. Она потихоньку его отстранила, но тут же увидела другого, совершенно черного. Он сидел на подоконнике и смотрел на нее из-под полузакрытых век. Тетя Ольга, видимо, любит животных. Дверь была приоткрыта. Марилена постучала, открыла дверь и оказалась в тесной прихожей, заставленной плетеной мебелью. На ней дремали кошки — серые, белые, полосатые, — как минимум дюжина кошек, приоткрывших глаза при появлении незнакомки.
— Есть здесь кто-нибудь?
— Да… да…
— Мадемуазель Ольга Леу?
— Это я. Я вас хочу предупредить. Больше не беру. Куда я их дену?
От удивления Марилена не смогла выговорить ни слова. Почему она решила, что тетя — беспомощная старушка? Тетя Ольга с зачесанными назад волосами с раздражением рассматривала ее близорукими глазами сквозь очки в железной оправе. Засунув руку в большой карман фартука, она вытащила оттуда маленького котенка.
— Утром еще одного подкинули.
Она поцеловала котенка в носик, снова засунула его в карман.
— Какие же бессердечные люди!
— Я ваша племянница, — робко произнесла Марилена, — Симона Леу.
Ольга чуть наклонила голову и искоса посмотрела на Марилену сквозь очки.
— Вот уж не ждала тебя, — произнесла она.
Она стояла посередине прихожей, рассматривая Марилену, сощурив глаза, как будто пытаясь что-то вспомнить. В кармане копошился котенок и пищал, как мышка. Она погладила по фартуку, успокаивая его.
— Симона!.. Вот уж действительно сюрприз!.. Заходи!
Марилена вошла в комнату, когда-то, возможно, служившую кабинетом. На стульях, всех других предметах мебели лежали кошки.
— Не обращай внимания, — сказала Ольга. — Я стала как бы матерью для кошек. Я вменила себе в обязанность подбирать всех бездомных. Если не я, кто о них позаботится?
— Много их у вас?
— Около сорока.
К ним, мурлыча, подошел здоровенный котяра с отметинами недавних битв. Ольга взяла его под мышку, стряхнула со стула свернувшуюся на нем клубком кошку.
— Садись. Можешь называть меня на «ты»… Не надо строить из себя скромницу, ты ведь одна из них!
Из соседней комнаты доносились звуки схватки, потом раздалось хриплое мяукание.
— Это Микадо, — сказала она. — Когда он есть, никого рядом не терпит.
— Но как вам удается… как тебе…
— Выкручиваюсь… Во многом себе отказываю… Что ты хочешь? Не выкинуть же всех их!
Она вытащила из кармана котенка, поставила его на пол.
— Ну… Иди побегай!.. А ты расскажи мне о брате. Как он?
— Плохо. Знаешь, с ним случился удар…
— Я ничего не знаю, — сухо ответила Ольга. — Если б не Марилена, которая хоть раз в год мне писала…
Она наклонилась к Марилене и прошептала:
— Она страдала?
— Нет. Все произошло очень быстро.
Ольга опустила кота на пол, и тот улегся у ее ног. Достала из манжеты платок и протерла очки. Глаза покраснели, на них выступили слезы.
— Бедная малышка Марилена! Так вот умереть!.. Будь она со мной, не погибла бы… И я бы не стала такой старой ведьмой! — Она надела очки. — Ну-ка повернись… Знаешь, ты на нее похожа. В профиле есть что-то общее…
Она направилась к буфету, и за ней, мяуча, побежали несколько кошек.
— Они думают только о еде. Посторонитесь, мои маленькие… Я на вас наступлю…
Она принесла зеленую папку, закрытую эластичной застежкой, и села рядом с Мариленой.
— Вот. Смотри. Все, что у меня от нее осталось.
Полдюжины выцветших фотографий. На них был запечатлен ребенок, лежащий на подушке, держащий в руках меч, гуляющий в саду, играющий с куклой и, наконец, прижавшийся головкой к тете Ольге.
— Видишь, — сказала Ольга. — Конечно, ничего особенного, все же какое-то сходство есть… само собой разумеется. Ведь вы кузины.
Она села на край кресла, чтобы не мять серую пуховую накидку. Из глаз полились слезы. С какой-то яростью собрала фотографии.
— Все. Меня не особенно баловали. А как мне хотелось получить хотя бы фотографии вашего причастия. Полагаю, что Виктор не захотел… Приходится думать, что семья у нас не такая, как все… Только кошки меня и любят.
— Я тоже, тетя, — произнесла Марилена дрожащим голосом.
— Удивительно. Ну ладно. Ты пришла. Это лучше, чем ничего. Пойдем, я покажу тебе свою больницу… если тебе это не слишком противно.
Марилена ничего не ответила. Она боялась, что не совладает со своим волнением. Ей хотелось обнять тетю за плечи, сказать ей, что она не Симона, а та маленькая девочка из прошлого. «Сейчас слишком рано, — подумала она, — а вот потом, когда мы узнаем друг друга лучше… Когда я избавлюсь от страха…»
Она прошла за Ольгой в не очень-то опрятную кухню.
— Смотри себе под ноги!
Повсюду стояли тарелки, миски, чашки с молоком, валялись куски мяса, рыбные кости. Посреди разбросанной посуды прогуливались пять или шесть котов, подозрительно принюхиваясь к объедкам.
— Хороши, — сказала Марилена, пытаясь доставить удовольствие старой женщине.
— Ведь правда?.. Вот тот черный — это маленький Зулус… Просто негодяй… Эй, Зулус, какой же ты негодяй!.. А этот котище — Рыжик… Когда я его взяла, он был очень болен. А теперь не отходит от меня ни на шаг. Животные очень привязываются… А вот и приют.
В довольно просторном дворике с четырех сторон стояли клетки. Во всех сидели кошки.
— Самых диких я вынуждена запирать, — объяснила Ольга. — Из-за соседей. Они ведь так и норовят что-нибудь стащить.
Кошки встали, подошли к сетке, начали выгибать спину.
— Если бы у меня были средства, — продолжала Ольга, — я бы поселилась за городом, организовала бы настоящий пансионат… Но не с моими же доходами… И так мне с трудом удается их кормить… А вот Улисс.
Сиамский кот с косыми глазами подставил погладить свою треугольную мордашку.
— Не возьмешь его?
— О чем ты говоришь? — сказала Марилена.
— Ну конечно, у тебя отец. Если он не изменился, то ухаживать за ним нелегко… А как твой зять?
— Филипп?
— Да, Марилена была с ним счастлива?.. Хотелось бы его увидеть. Может, он рассказал бы о ней… Он хороший человек?
— Кажется.
— Кажется! Ты настоящая Леу. Кажется! Ты просто не обращала внимания!
Она открыла одну из клеток, вынула черно-белого кота, взяла его на руки, пощупала живот.
— Как сегодня дела, воробышек? Носик еще теплый. Придется показать тебя ветеринару.
Она осторожно положила его на подстилку из тряпок.
— Кошки очень беззащитны… Особенно когда лишены любви.
Она показала рукой на клетки.
— Все они бродяги, бедняжки! И я тоже… Ты не можешь гордиться своей теткой.
В глубине дворика Марилена заметила дверь. Она открыла ее и увидела небольшой участок необработанной земли.
— А это? Что такое?
— Это их кладбище, — ответила Ольга. — Они болеют, это часто случается… тиф, лишения… мне приходится их умерщвлять… Потом я их хороню… Но это только мое… Пошли…
Они вернулись в кабинет.
— Извини. Мне нечего тебе предложить. Если хочешь, могу угостить только молоком. Больше мы, они и я, ничего не пьем.
— Не надо, тетя, спасибо. Мне уже пора. Отца нельзя надолго оставлять одного. Но я еще вернусь.
— Всегда так говорят.
— Поверь мне. И… если позволишь, принесу тебе немного денег.
— Я не просила у тебя милостыню.
— Для котят.
— Для них — ладно… Но пусть это останется между нами. Брату необязательно знать… Понимаешь… Где вы поселились?
— На бульваре Перейр.
— Понятно. Там нельзя появляться с животными и торговать вразнос…
Она призвала в свидетели кота, запустившего когти в обивку стула.
— Слышишь? Нас оттуда выставят, мой бедный котик… Ладно. Девочка, желаю здоровья отцу…
Марилена подошла попрощаться с тетей. Они обменялись скромными поцелуями.
— Знаешь, тетя, я могла бы заменить Марилену.
— Не надо говорить глупостей. Давай иди. Отцу не понравится, если он узнает…
Она проводила Марилену до ворот. Их сопровождал неизвестно откуда появившийся кот, выделывающий на тропинке немыслимые трюки.
В последний момент Ольга схватила его за шкирку, не позволив вылететь на тротуар.
— Спасибо, что пришла, Симона. Теперь ты знаешь дорогу.
Она взяла кота за лапку и помахала ею.
— До свидания! До свидания!
До стоянки такси Марилене пришлось идти довольно долго. Наконец она втиснулась в машину. «Надо было поговорить с ней откровенно, — подумала она. — Я просто трусиха. Она бы обрадовалась, если бы я сказала всю правду. Но Филипп бы не простил. В любом случае, я могу ей помочь. С другой стороны, если я принесу слишком много, ей это может показаться подозрительным. Боже, что же мне делать! Я никогда из этого не выберусь».
Она посмотрела на часы. Она еще успевает заскочить в мэрию IX округа и оформить выписку из свидетельства о рождении Симоны, ведь документы надо получить как можно быстрей. Она велела таксисту ехать по другому адресу.
Почему она ведет себя так боязливо? Почему ее одолевают угрызения совести, нерешительность, почему она ищет окольные пути, лазейки? Почему она не сказала Ольге, что ее брат обречен? Не потому ли, что ей не хочется, чтобы эта старая неухоженная женщина нанесла им визит, поднявшись по парадной лестнице? Откуда же у нее вдруг появилось такое пристрастие к правилам хорошего тона? Неужели она наперекор себе становится Леу? Возможно. А может быть, она опасается, что, увидев Ольгу, дядя обретет ясность ума? Может, есть и другие причины, недоступные ее разумению, как будто бы в глубине души она каким-то таинственным образом остерегается Ольги и ее котов. А сама она разве уже не стала шальной кошкой?
Городской пейзаж, мелькающий за окном машины, немного отвлек ее от дурных мыслей. С напряженным любопытством она смотрела на бульвары, улицы, замечала неизвестные памятники, которые Филипп забыл ей показать… Ах! Филипп!.. Сбежал так быстро! Заставил ее расхлебывать всю эту заваруху. Ему наплевать на ее страхи. Он эгоист и не любит ее. Никто ее не любит. Но ведь и она сама уже стала никем.
Когда такси остановилось, она чувствовала себя грустной и подавленной. Бюро записей актов гражданского состояния располагалось в глубине двора. Нет ничего проще и обыденней, как попросить выписку из свидетельства о рождении. Но у окошка ее почему-то охватила дрожь. Она протянула служащей справку, выданную в Джибути. Та любезно улыбнулась, раскрыла толстую книгу записей и принялась заполнять формуляр. Никаких вопросов, никаких комментариев. Просто исполнение формальности.
Марилена немного успокоилась, пока служащая писала, вспомнила даже, что предложила Филиппу вновь жениться на ней. Почему бы и нет? Так она вернет свое настоящее имя: мадам Оссель. Так она снова станет собой.
Ей выдали документ с надлежащими подписями и печатями. По нему ей теперь выдадут удостоверение личности. Она сложила бумагу и вышла. Но на ступеньках вдруг остановилась. Это могло показаться нелепым, но у нее появилось желание проверить, что она теперь действительно Симона Леу. Она развернула листок.
«Леу, Симона Валери, родилась 25 мая 1948 года в Париже, улица Мобеж, дом 53, IX округ. Родители — Леу, Виктор Андре и Рабо, Мишлен Симона Антуанетта…»
Снизу справки служащая приписала еще несколько строк:
«11 августа 1973 года в Каннах оформлен брак с Жервеном, Роланом Люсьеном…»
Как не повезло! Служащая допустила ошибку. Марилена повернулась назад, горя желанием опротестовать, но вдруг, как пуля в сердце, ее пронзила догадка. Симона была замужем! Она перечитала еще раз. Буквы как будто ударялись друг о друга.
«11 августа 1973 года в Каннах оформлен брак с Жервеном, Роланом Люсьеном…»
11 августа 1973 года Симона отдыхала в Европе. Она уехала в начале июля. Да, сомнений нет. С этим Жервеном она встретилась на Лазурном Берегу и, будучи натурой увлекающейся, вышла за него замуж, никого не предупредив. Потом держала свой брак в тайне… Ошибки быть не может. Но вместе с этим всплыл еще более ужасающий факт. «Я замужем. Моего мужа зовут Ролан Жервен, а не Филипп Оссель. Я жена Жервена».
— Вам плохо, мадам?
Перед ней стоял полицейский с приложенной к фуражке рукой.
— Нет… ничего… пройдет.
— Вызвать такси?
— Да… Пожалуйста.
Она уже не соображала, где находится. Ее подвели к дороге. Куда ее увозят? Ее сейчас арестуют? Разве двоемужниц арестовывают?.. Перед ними остановилась машина.
— Вы уверены, что с вами все в порядке?
Полицейский улыбался. Он был молод. Длинные волосы спадали на шею. Он смахивал на ряженого.
— Спасибо. Просто закружилась голова.
Но чувствовала она себя очень слабой.
— Бульвар Перейр, — пробормотала она. — Дом покажу.
Она впала в какое-то безвольное и подавленное состояние, так, как будто ее бросили в камеру и она теперь сидит в четырех стенах, которые давят на нее всей своей тяжестью. Почему Симона скрыла, что вышла замуж? Марилене опять пришли на память странные слова: «Бывают моменты, когда мне хочется поменяться с тобой местами… Знаешь, жизнь — непростая штука». Вспоминались внезапные перемены в настроении кузины, ее скованное поведение в последнее время. Причиной тому была, конечно, не болезнь отца. Это… Марилена повторяла про себя роковую фразу: «11 августа 1973 года в Каннах оформлен брак с Жервеном, Роланом Люсьеном…» Если бы брак был достойным, Симона об этом бы сообщила. Почему же она его скрывала? Боялась отца, пусть так. Но достаточно ли этого объяснения? А ведь эта ситуация продолжалась почти два года. И никто не узнал… Они что, не писали друг другу? Или Симоне как-то удавалось перехватывать письма? Или они с этим Жервеном встречались где-нибудь тайком?.. Но уж во всяком случае не в Сен-Пьере. Где же тогда?.. Во Франции или других странах, куда она ездила? Но что же это за супруги, встречающиеся раз или два раза в году?.. Симона с ее гордостью не вышла бы замуж за кого попало. Может, ее муж — моряк и большую часть времени проводит в плавании? Маловероятно. И потом, почему же она тогда ничего не сказала отцу? Она совершеннолетняя и свободна поступать по своему усмотрению. Соединившись с человеком, занимающим определенное положение, Симона ничем не запятнала бы себя.
Марилена остановила такси, не доезжая до дома. Сама не зная почему, она предпочла пройтись пешком. Слегка кружилась голова. «11 августа 1973 года в Каннах оформлен брак с Жервеном, Роланом Люсьеном…» Ей стало жарко. Но руки оставались ледяными. С любезной улыбкой к ней обратилась привратница.
— Хорошо прогулялись, мадемуазель?
— Да, спасибо.
Мадемуазель! Звучит как насмешка. Когда она открывала почтовый ящик, ей в голову вдруг пришла мысль, что этому Жервену, как и всем другим, известно о катастрофе, происшедшей в Джибути. Он прочитал список погибших и, следовательно, знает, что Симона в Париже, ведь она наверняка поставила его в известность о планах отца. Если он, конечно, тоже не умер. «Может, я уже вдова», — подумала Марилена, входя в кабину лифта. Ее охватил нервный смех, чуть не перешедший в рыдания. Было бы так хорошо, если бы Филипп остался в Париже! Он бы разделил с ней эту ношу. В конце концов, виноват во всем он.
В кухне Мария резала овощи.
— Все в порядке? — спросила Марилена, снимая перчатки.
— Господин спит в шезлонге. Когда мадемуазель ушла, он очень разволновался. Все время говорил о какой-то женщине, имя я не разобрала: Мария Луиза… Мария и еще как-то… Спрашивал, почему ее никогда нет дома.
— Ну и что вы ему ответили?
— Хотела его успокоить и поэтому сказала, что она скоро придет. Не надо было так говорить?
— Нет, все правильно.
Марилена чувствовала себя настолько обессиленной, что уже ничто не могло испугать ее. Пусть все рушится! Быстрее! Пусть все закончится. Она легла на кровать, задернув шторы, чтобы побыть в темноте. В голове роились мысли и образы, как после слишком крепкого кофе.
Итак, Жервен, Ролан Люсьен, за которого она вышла замуж в Каннах 11 августа 1973 года, знает, что она в Париже. По логике — хотя в этой череде глупейших событий не может быть никакой логики, — по логике он должен дать о себе знать. А может, супруги поссорились вскоре после свадьбы? Марилена вспомнила, что Симона выдвигала всевозможные возражения, когда ее отец заявлял о своем желании уехать во Францию. А ведь ей, напротив, следовало бы радоваться. Но в любом случае Жервен, даже если он рассорился с женой, не может не поинтересоваться ее самочувствием после катастрофы, в которой она чуть не погибла. А вдруг он заявится собственной персоной? Позвонит в дверь? А откроет она?.. Он все поймет с первого взгляда.
Нет. Не с первого взгляда, ведь он ее не знает. Но что ему объяснишь, когда в соседней комнате сидит старик? Не скажешь же этому Жервену: «Я заняла место кузины ради дяди, чтобы он думал, что его дочь жива. Он умер бы от отчаяния, если бы узнал, что она погибла… А теперь, когда вам все известно, бога ради, уходите. Если он поймет, что Симона вышла замуж, не посоветовавшись с ним, его хватит удар, который может стать роковым. Уходите, вы можете его убить».
Что за человек этот Жервен? Может, вполне достойный, способный внять голосу разума. В любом случае рано или поздно ему придется все объяснить. Придуманная Филиппом история расползается по швам. Вся его комбинация рушится, и Марилена, прижав сжатые в кулак пальцы к вискам, с содроганием думала, что она будет вынуждена, возможно очень скоро, исповедоваться незнакомцу, каясь, что поступила дурно, что руководствовалась не только жалостью, но и корыстными интересами. А если она скажет, что к этому ее принудил Филипп, какое он о них составит мнение? Нет. С Жервеном никак нельзя встречаться. Но в то же время надо удостовериться в его существовании. Если по каким-то неведомым причинам он живет далеко, за границей, к чему тогда все эти страдания? Еще несколько недель, если врач не ошибся, или, в худшем случае, несколько месяцев, и они с Филиппом уедут. Жервен потеряет их следы… Но как о нем узнать?..
Если подумать, какой-то способ должен существовать. В голове у Марилены что-то вертелось, но мысль постоянно ускользала. Она встала, прошла в ванную комнату, приложила ко лбу мокрое полотенце. Жервен писал жене, это очевидно, но в Сен-Пьер он отправлял письма до востребования. Он продолжает делать то же самое, когда жена приехала в Париж. Достаточно просто дойти до ближайшего почтового отделения… Жервен ведь не рискнет отправить письмо в дом на бульваре Перейр. О тяжелом состоянии отца Симоны ему неизвестно. Наверняка думает, что письма проходят через него. И потом, Симона, вероятно, ему просто запретила… Один вопрос оставался загадочным, но в целом рассуждение было верным. Но если оно верно, надо идти до конца…
Симона, конечно же, дала мужу номер телефона и новый адрес… Если, конечно, не порвала с ним… Выяснить это невозможно. Но если у Жервена есть номер телефона, он не замедлит позвонить, ведь он наверняка волнуется, а телефонный звонок не представлял для него никакой опасности. Если ответит не Симона, он просто извинится и скажет, что ошибся номером. Марилена вздохнула. Ее и так трудная жизнь становится просто невыносимой. Она посмотрела на часы. Уже шесть часов. Надо покормить дядю, подготовить его ко сну. Она слегка подкрасилась и боязливо направилась в гостиную, где старик, сидя у окна, наблюдал за жизнью, кипевшей на улице. Нарочито манерным голосом она произнесла:
— Время ужина! За стол!
Леу обратил на нее безжизненный взгляд.
— Симона… малышка…
Он долго глотал слюну, шевелил челюстями, как будто готовясь произнести чрезвычайно сложную фразу.
— Тебе… очень плохо…
— Нет. Не думай об этом.
Он заплакал. Старческими слезами, смотреть на которые было невыносимо.
— А твоя кузина… она…
— Не волнуйся, папа. Она рядом. Думает о тебе. Пошли.
Она отвела его в столовую, усадила за стол, повязала салфетку — во время еды он пачкал одежду. Иногда он пытался заговорить — она сразу же подносила ко рту вилку. Почему он вспомнил о племяннице? Что творится в его больной голове? Следует ли рассчитать Марию, которая уже и так слишком много знает, нанять новую служанку и сказать ей, чтобы она не обращала внимания на слова старика? В Марилене зрел гнев против Филиппа, и это создавало еще одну проблему. Надо ли ему сказать, что Симона вышла замуж? Какое он предложит решение? Оно ей известно заранее: он будет держаться своего плана, поскольку не любит терять лицо. Это новый повод для ссор, а спорить ей больше не хочется. И потом, этот Жервен… почему она заранее считает его врагом? Если она встретится с ним, расскажет ему все, не станет ли он ее союзником? Она не могла не признаваться себе, что он ее интересует. Ведь Симона влюбилась в него за несколько дней… она не отлучалась из дома больше чем на месяц… Всего за месяц она выскочила замуж. Настоящая любовная история. Как в романах! Марилена считала глупостью завидовать Симоне, но во всем этом таилось что-то неистовое, страстное, что ее смущало и что она безуспешно пыталась понять.
На следующий день вечером, когда раздался телефонный звонок, она еще не приняла никакого решения. Звонил Филипп. Она была в этом уверена. А вдруг не он?.. Не чувствуя под собой ног, села у телефона и почти расстроилась, услышав голос мужа.
— Как дела? — спросил он. — Больше на меня не злишься?.. Как в Париже погода?.. Здесь прекрасная… Удалось часик полетать с приятелем. Только здесь и можно жить…
Он говорил слишком возбужденным голосом. Неподходящий момент говорить ему… о Симоне. Такой момент никогда не наступит.
— Дома ничего нового?
— Ничего… Дядя начинает вспоминать… обо мне, но все пока неопределенно.
— Ну и что! Пока он тебя не узнает, бояться нечего… Вернусь послезавтра.
— Раньше не можешь?
— Трудно будет. Здесь столько знакомых… Поставь себя на мое место.
Сказано прекрасно. Марилена пожала плечами.
— Ладно. Как хочешь…
— Не забудь о фотографиях для удостоверения личности.
— Это подождет.
— Нет, не подождет. Ты ничего не сможешь сделать без удостоверения личности.
Марилена вспомнила о почте до востребования. У нее спросят удостоверение. Филипп прав.
— Завтра этим займусь.
— Пока. Целую тебя.
Вот так. Целую тебя. Разговаривает как будто со знакомой. А как Жервен говорил с Симоной?.. Она задумчиво положила трубку. До этого звонка Марилена еще никогда не ощущала себя покинутой женщиной. Она приняла сильную дозу снотворного, чтобы забыть о своем одиночестве.
Все последующие дни Марилена жила как в тумане. Филипп вернулся со свежим загаром на лице и на руках. Чувствовалось, что он очень доволен своей поездкой, и Марилена никак не могла решиться показать ему свидетельство о рождении, разрушившее все их планы. Она опасалась, что он придет в ярость, поскольку знала, что он свалит всю вину на нее, но в то же время заранее испытала горькую радость от его разочарования. Он считает себя очень хитрым! Посмотрим. Когда на них обрушится небо, когда они будут вынуждены признать, что погрязли во лжи, когда им придется давать объяснения властям, у Филиппа поубавится спеси. Никогда они уже не смогут вернуться на Реюньон. И тогда… Марилена даже не пыталась представить себе будущее. Оно казалось мрачным, безрадостным. В конце концов они, вероятно, расстанутся. Он вернется к друзьям, планерам, к своему существованию, лишенному внутреннего стержня, а она, ну что ж, она станет потихоньку влачить свои дни, если, конечно, ей, несмотря ни на что, достанется какая-то доля дядиного наследства, может, тоже заведет кошек… Но она обретет наконец покой.
Это событие произошло во время завтрака. Марилена резала на кусочки филе морского языка для больного, когда раздался телефонный звонок.
— Не отвлекайся, — сказал Филипп. — Я подойду.
Дверь осталась открытой, и она услышала, как он снимает трубку. Сразу же догадалась, что это Ролан.
— Что?.. Откуда?.. Вы наверняка ошиблись… Ничего страшного… Пожалуйста, мсье.
Он вернулся на место.
— Кто-то звонил из Сан-Ремо… Представляешь!
— Что он сказал?
— Да ничего… Он назвал наш номер, но ведь он просто ошибся! Он сразу же извинился.
— Почисти ему рыбу, — сказала Марилена. — Я сейчас вернусь.
Она вышла, чтобы привести себя в порядок. Итак, то, чего она боялась, свершилось. Жервен сделал попытку связаться с женой. До этого он не давал о себе знать просто-напросто потому, что находился в отъезде. А теперь принял твердое решение увидеться с ней. Вероятно, он занимается бизнесом? Какой-нибудь современный директор фирмы, постоянно летающий из одного места в другое, уставший от многочисленных деловых встреч. Как только он вернется в Париж, то позвонит снова. Если немного повезет, ей удастся получить несколько дней передышки, а потом последует неизбежное объяснение. Он, конечно, же примется преследовать ее, захочет узнать причины ее молчания. Долго она скрываться от него не сможет. Теперь она уже сожалела, что не ответила на звонок сама. Она бы ему сказала… Что бы она сказала?.. «Я не Симона. Нам с вами надо встретиться как можно скорей!» Он начал бы задавать вопросы. Разговор затянулся бы. Филипп бы подошел и, быть может, взял бы, по своему обыкновению, параллельную трубку. И все же ей хотелось быстрей положить конец этой идиотской истории.
Но Жервен больше не звонил, и прошло еще несколько дней, невыносимых из-за своей монотонности. Филипп появлялся только за обедом и ужином. Когда он входил, то сразу же заявлял: «Ни о чем меня не спрашивай. Я работаю над планом, который принесет нам много денег. Ты удивишься, когда я тебе все расскажу. Хорошо бы только, чтобы старик не зажился на этом свете». Он ходил вокруг Леу, со злобой его рассматривал, расспрашивал медсестру, приходившую делать уколы:
— Как вы его находите?.. Мне кажется, сдает.
— Да нет, все так же.
— Да что вы! Он же все больше несет несусветный вздор.
— Нет. Его что-то угнетает, но он не может этого высказать… Естественно, усилие утомляет его. Он теряет ход мысли. Но я чувствую, что он пытается что-то понять… как будто ему хочется что-то узнать.
Филипп с яростью сжимал кулаки в карманах, оставаясь наедине с женой, призывал ее в свидетели.
— Эта девица просто глупа! С чего это ей пришло в голову, что он хочет что-то узнать?
— Но она права. Мне кажется, что время от времени у него бывают проблески и он не может понять, кто я такая.
— Плевать на это, лишь бы он не раскрывал рот.
Он хлопал дверью. И когда возвращался вечером, от него часто пахло спиртным.
Марилена наконец получила удостоверение личности и зашла в банк взять немного денег. Потом, чтобы оттянуть время, прошлась по магазинам. У нее уже пропала решимость идти на почту, и она долго просидела в кафе перед стаканом фруктового сока. Имеет ли она право вскрывать письма, адресованные Симоне, жульнически вторгаться в тайны супружеских отношений, которые Симона тщательно оберегала? Но это единственный способ узнать хоть что-нибудь о Жервене, по тону его писем понять, можно ли сказать ему правду, довериться ему. Марилена наконец решилась, перешла улицу Ваграм и вошла в почтовое отделение. Может, никаких писем вообще нет в природе. Может, Жервен принадлежит к числу тех людей, как и Филипп, которые не любят писать и предпочитают звонить по телефону. У окошка стояла небольшая очередь. Марилена протянула служащему удостоверение личности, сгорая от стыда, как жена-прелюбодейка. Тот порылся в стопке писем, вытащил из нее одно… второе… третье… Марилена угадала правильно.
С ворованными письмами она выбежала на улицу, укрылась в каком-то кафе. Она боялась даже встретиться взглядом с официантом, подавшим ей лимонад. Жервен писал четким, разборчивым почерком, слегка растягивая прописные буквы, в которых чувствовалась некая снисходительность. На двух письмах стоял штамп Рима, на третьем — Милана. Жервен итальянец? Наверно, Симона встретила его в Италии, ведь она часто отдыхала в Греции, Италии и на юге Франции. Пилочкой для ногтей Марилена аккуратно вскрыла конверты.
«Симона, дорогая!»
Она закрыла глаза. Ее как будто вдруг одурманил слишком сильный запах. Но потом решительно, словно хирург, склонившийся над обнаженным телом, пробежала текст первого письма.
«Поверишь ли, если я тебе скажу, что я только что пережил жуткие часы? Во всех газетах писали о катастрофе, происшедшей в Джибути, и не сообщали никаких сведений о том, кто погиб, а кто остался жив. Я пытался выяснить, но все напрасно. И только сегодня утром увидел список погибших. Какая радость, что вы втроем живы и невредимы. Но вы потеряли бедняжку Марилену, которую ты называла „дурехой“, но очень любила. Я знаю ее только по фотографиям, но тоже очень переживаю. Думаю, что от этого потрясения вы еще не оправились, и я до сих пор волнуюсь, хотя и испытываю облегчение от сознания того, что вы живы. В Париж вы приедете раньше, меня задерживают дела. Но очень хочется быстрее вернуться. Нам надо принять решение. Наша жизнь не может больше так продолжаться. Получив твое последнее письмо, я много думал. Я уже тебе объяснял, почему мне трудно измениться. Но теперь я готов на все, чтобы не потерять тебя. Безумный страх помог мне осознать, насколько я люблю тебя. Возможно, ты думала, что я легкомысленный, пустой парень. И для этого, наверно, были основания — ведь я не сдержал своих обещаний. Но можно ли отказаться от сулящих выгоды обязательств, отказаться от борьбы за место, которое я занимал еще пять лет тому назад?.. Прошу тебя, пойми меня. Ты вбила себе в голову, что я суечусь из тщеславия, мелких интересов, хвастовства. Ты никогда не хотела принимать во внимание, что я заложник безжалостной системы. Надо либо идти вперед, либо отказаться. Третьего пути нет. Ладно. Я откажусь. Ты получишь мужа только для себя. Но мужа, у которого пока нет положения. Вот это нужно будет объяснить твоему отцу. Баш на баш. Каждый чем-то жертвует.
Кстати, ему лучше? Ты говорила мне о параличе, а это серьезно. От всего сердца желаю ему скорейшего выздоровления, хотя нам от него ничего хорошего ждать не приходится. Отправляю письмо, надеясь, что ты его скоро получишь, несмотря на все забастовки, которые дезорганизуют почтовую службу.
Очень тебя люблю, моя маленькая Симона. Наша супружеская жизнь началась неважно, но если ты приложишь усилия, она, может, принесет нам счастье. Крепко обнимаю тебя.
Ролан»Марилена медленно вложила письмо в конверт. «Дуреха» — звучит довольно зло. А ведь она не заслуживает такого презрения, она так восхищалась кузиной. Раскрыла второе письмо. Что еще неприятного она в нем найдет?
«Симона, моя любимая, меня терзают угрызения совести. Пришло время поговорить о нашем будущем. Меня снедает лишь одно желание: видеть тебя, проводить с тобой все ночи напролет. Полагаю, что в Париже ты сможешь жить по своему усмотрению. Или твой деспот отец будет следить за тобой, как за несовершеннолетней?.. Я пошлю куда подальше все свои обязательства. Покажу тебе город, где ты родилась и которого не знаешь. Устрою тебе экскурсии для влюбленных вдалеке от официальных маршрутов. Париж еще полон садов, маленьких бистро, скамеек и стульев в укромных уголках, где можно спокойно обниматься. Знаю: ты сразу же подумаешь, что я вожу тебя по местам, которые раньше показывал другим женщинам. Симона, дорогая, я же ничего не скрывал от тебя о своей прежней жизни. Но время интрижек прошло! Теперь только ты так много значишь для меня. Кроме того, есть немало мест, куда я ходил один отдохнуть после тяжелых дней, а порой и потерпев поражение. С тобой мне предстоит избавиться от многих неприятных воспоминаний.
Жаль, что месяц назад я не дал тебе списка гостиниц, где должен останавливаться, ты могла бы прислать мне письмецо, успокоить, написать, что не пострадала. Но как можно было такое предвидеть?.. Ты хоть на меня не сердишься? За эту оплошность я уже наказан тем, что меня не покидает беспокойство. Все время думаю, а может, у тебя перелом или какое-нибудь увечье, о которых в газетах обычно не пишут, но которые потом долго не заживают. Несмотря на твой запрет, я все-таки позвоню. Как я могу заниматься делами, будучи неспособным сосредоточиться, держать себя в руках? Как я был бы счастлив, если б знал, по крайней мере, что ты тоже страдаешь от этого вынужденного молчания! Иногда дьявол шепчет мне на ухо: „Она тебя забыла. Вы слишком долго жили вдали друг от друга. Ты ей надоел“. И я знаю, что он прав. Часто перечитываю твое предпоследнее письмо, где ты пишешь, что жалеешь о встрече со мной и что нам лучше расстаться. Но после этого письма произошла катастрофа, чуть было не унесшая тебя. О себе могу сказать, что она высветила мои чувства. Может, и на тебя она произвела такое же действие? Давай начнем все сначала, любовь моя. Давай превратим наш брак — который ты называешь просто безрассудной выходкой — в прочный союз.
В Париж я приеду дней через десять. От всей души надеюсь, что меня там ждет твое письмо. Если паче чаяния я ничего не обнаружу, что ж, тем хуже, стану звонить до тех пор, пока мне не ответят. Будь что будет! Может, к телефону подойдет твой отец. Тогда ничто не помешает мне… Ладно. Не надо нервничать. Ты опять начнешь упрекать меня за горячность. Да, это так. Бывают моменты, когда я выхожу из себя, дорогая. Вернее, выходил из себя — призываю в свидетели Бога, что не буду больше тебя изводить. Но у меня часто возникало желание написать твоему отцу, чтобы раз и навсегда внести ясность в наши отношения. Думаю, ты зря скрываешь от него наш брак. В конце концов, я не такая уж плохая партия. Отец мой был аптекарем. Вполне достойное занятие! А то можно подумать, что ты состоишь в каком-то морганатическом браке! Тогда у меня больше оснований для упреков, чем у тебя.
Но пусть все это останется в прошлом. Забудем взаимные обиды. Я никогда не соглашусь на развод. До скорой встречи, любовь моя. Чтобы находиться рядом с тобой ежедневно, о чем ты мечтала раньше, я отказываюсь от всех контрактов, а это большие потери. Лучшего доказательства своей преданности я дать не могу.
Завтра на три дня заеду в Милан, а на следующей неделе прилечу в Париж. Если ты ждешь встречи с таким же нетерпением, как я, то мы с тобой — самые несчастные и самые счастливые супруги в мире. Обожаю тебя.
Осыпаю поцелуями.
Ролан»Марилена подняла голову. Она возвращалась из такого далека, что с удивлением обнаружила незнакомое ей кафе и в зеркале отражение женщины, которой была она сама. Она припудрила лицо, словно скрывая следы поцелуев, предназначенных не ей.
Потом лихорадочным движением вскрыла третий конверт.
«Моя Симона!
Прошу извинить за задержку. Пришлось заехать в Сан-Ремо. В Париж прилечу в пятницу…»
Марилена оторвалась от письма. Пятница… это сегодня. Ролан, может, уже прилетел. Надо возвращаться домой… Вдруг он позвонит… Но она не смогла уйти, не дочитав до конца.
«Я тебе говорил, что затеял в квартире ремонт? Надеюсь, что работа закончена, но не уверен. Может, какое-то время придется пожить в гостинице. Мне опостылела такая бродячая жизнь. Я как какой-то странствующий комедиант и, увы, иногда начинаю понимать, почему ты не торопишься объявить о нашем браке. Но не будем возвращаться к этой теме. Могу тебе только сообщить, что мне предложили работу в Южной Америке и что я отказался… пока. Окончательное решение остается за тобой. Мне бы хотелось, чтобы ты удержала меня, сделала наконец все необходимое, чтобы мы перестали таиться и начали жить открыто.
Симона, дорогая, выслушай меня! Я глубоко несчастен, меня раздирают противоречивые чувства. Так больше продолжаться не может. В Ницце, перед тем как сесть в самолет, зайду в „Метрополь“, где мы провели первую ночь. Помнишь? В баре не торопясь выпью бокал шампанского за нашу странную любовь. Попытаюсь вспомнить страстную женщину, которой ты тогда была. Не люблю копаться в прошлом, но сейчас именно в нем хочу почерпнуть мужество, которое нам скоро понадобится для принятия решения.
Подумай, дорогая. До скорой встречи.
Твой Ролан»Марилена убрала письма в сумочку, заплатила за кофе, к которому не притронулась, и вышла из кафе, подавленная светом дня и уличным движением, словно только что посмотрела потрясающий фильм. Хотя она находилась в двух шагах от дома, все равно взяла такси.
«Дуреха»! Это слово стучало у нее в голове, как удары пульсирующей крови. В этом конфликте, первопричины которого она не знала, ей хотелось встать на сторону Ролана, а не Симоны. Теперь она уже называла его Роланом, а не Жервеном. Он стал ей близким человеком. Они оба обмануты. Так что им будет легко договориться, теперь она готова встретиться с ним, довериться ему. Ведь они же родственники. И этот несчастный достаточно настрадался, поэтому он сможет понять, в какую она попала ситуацию. Она еще не знала определенно, о чем его попросит. Одно стало ясно: она больше его не боится. Кто он по профессии? Какой-то художник. Возможно, актер. Симона, вероятно, встретила его на каком-нибудь захватившем ее представлении и потеряла голову. Но актер в роли зятя Виктора Леу — это недопустимо. Какой чудовищный мезальянс! Все это может кончиться только разводом. И Ролан хорошо это понимает. Свою тревогу на этот счет в письмах он открыто не высказывал, но она сквозила в каждом слове. Поэтому, когда он узнает правду, у него не будет никаких причин отказаться от инсценировки развода. Именно этого следует добиться от него, ведя себя мягко и дружелюбно. Из мадам Жервен снова превратиться в мадам Оссель. Потом все станет проще.
Марилена посмотрела на часы. Ролан, может, еще не звонил. Она быстро вбежала в дом и уже с лестничной площадки позвала Марию.
— С отцом все в порядке?
— Да, мадемуазель.
— Никто не звонил?
— Звонил. Уже довольно давно. Мужчина, сказал, что перезвонит.
— Спасибо. Я…
Ее прервал телефонный звонок.
— Вероятно, опять он, — сказала Мария.
Марилена, как сомнамбула, прошла в гостиную. У нее перехватило дыхание, и она не была уверена, что сможет ответить. Взяла трубку.
— Алло!.. Это ты, Симона?.. Алло…
— Да.
— Алло!.. Я тебя почти не слышу… Ты одна?
— Нет.
— Понимаю… Письма получила?
— Да.
— Прекрасно. Тогда вот что… Я прилетел сегодня утром, и все обстоит так, как я и предполагал. Маляры работу закончили, но в квартире царит такой беспорядок, какой ты даже не можешь себе представить. Консьержка скоро все приберет, но все равно досадно. Я надеялся, что ты сможешь прийти ко мне. Что ж, тем хуже…
Он замолчал. Шум дыхания, доносившийся до нее с другого конца провода, вызывал волнение.
— Тем хуже, — возобновил он разговор, — или, может, тем лучше. Я не знаю, в каком ты настроении… нет, ничего не говори… оставь мне надежду. В конечном счете я решил, что нам лучше встретиться на нейтральной территории… — (Он вымученно рассмеялся.) — В кафе, например… Кафе нам как раз подходит — ведь там мы поневоле должны следить за своими жестами и интонациями… а нам это сейчас пойдет на пользу… Можешь прийти в половине шестого в погребок «Мариньян»?.. Это на Елисейских Полях… Тебе это удобно?
— Да.
— Придешь?
— Да.
— Твердо обещаешь?
— Да.
— Люблю тебя.
Он повесил трубку. Марилена тоже медленно опустила трубку и откинула голову на спинку кресла. «Люблю тебя». Как хорошо Ролан сказал. С какой душевностью! Вот и Филипп говорил эти слова, но без такой нежной, многозначительной и слегка томительной проникновенности. Он, напротив, произносил их нарочито наигранным тоном, как будто извиняясь за проявление сентиментальности.
Бедный Ролан! Он ведь предвидел разрыв. Как он поведет себя, когда узнает, что стал вдовцом? От горя с трудом будет соображать. Она скажет: «Я выдала себя за Симону ради дяди, чтобы не доконать его». Он не сумеет разгадать их замысел. В сущности, бояться его нечего. Скорее можно пожалеть.
До встречи оставался час. Марилена прикинула, что раньше семи часов она не вернется. Филипп очень удивится. Черкнула короткую записку: «Вышла по делам. Возможно, задержусь. Не беспокойся». Отдала записку Марии. Старик дремал в кресле.
— Если он будет меня спрашивать, развлеките его как-нибудь.
— Со мной он всегда ведет себя спокойно, — заверила Мария. — Мадемуазель может не волноваться.
Теперь уже Марилене следовало поторопиться. Она надела другое платье, тщательно осмотрела себя со всех сторон, накинула сиреневый платок, чтобы хоть как-то оживить траурный костюм. Ей хотелось, чтобы Ролан нашел ее красивой, и она корила себя за это. «Неужели я действительно выгляжу как дуреха? — думала она, глядя на себя в зеркало ванной комнаты. — Я не красавица, но ведь и Симона не была особенно красивой, а ее любили… больше, чем когда-нибудь станут любить меня. Разве не естественно, что я хочу подчеркнуть свои достоинства? Разве я дурно поступаю?» Пожалела, что в катастрофе потеряла свои драгоценности. Не очень-то дорогие, но сейчас они могли бы помочь ей побороть робость. Решила купить новые, лучше прежних, вспомнила, что богата… пока остается Симоной. В голове пронеслась мысль, что это состояние могло бы принадлежать Ролану, если бы… Но ей уже не сиделось на месте, и она тихо выскользнула из квартиры, будто боялась, что ей начнут задавать вопросы.
На Елисейских Полях было полно народа. Марилена знала эту улицу только по почтовым открыткам. Выйдя из такси, она остановилась пораженная. Все выглядело слишком красиво. Солнце садилось за Триумфальной аркой. По тротуарам текла плотная толпа, и отблески света накладывали на лица отпечатки бурной жизни. Прохожие как будто бы шли на праздник, и Марилена устыдилась своего черного плаща. Никогда раньше она не чувствовала себя такой провинциалкой. У нее еще оставалось время, и, чтобы немного освоиться с обстановкой, она немного поглазела на витрины.
Ролан ее, конечно, не узнает. Он никогда не обращал на нее внимания. Он видел ее только на фотографии, которую ему послала Симона. Она выглядела там как статист, случайно попавший в кадр. Внезапно ее охватил страх. Вдруг они разминутся?
Она повернула назад и в каком-то полубредовом состоянии отыскала бар в подвальчике. Посетителей там было совсем немного: перед барменом сидело двое мужчин, третий читал газету, потом еще женщина, весьма элегантно одетая, она курила сигарету, явно кого-то ожидая. Марилена села в конце зала напротив входа. Читавший газету мужчина сложил ее и бросил на Марилену рассеянный взгляд. К Марилене подошел официант, и она вдруг испугалась, не зная, что заказать. Здесь, по-видимому, не принято пить пиво или лимонад. Наугад попросила:
— Стакан лимонного сока.
Началось ожидание. Часы показывали 5 часов 25 минут. Время от времени на лестнице, ведущей в бар, показывались ноги. Потом появлялось туловище. И наконец голова. Это он? Спустился молодой человек в темных очках, рассматривавший ее довольно долго. Но потом направился в бар, пожал руки друзьям и уселся перед стойкой. «Он сведет меня с ума, — подумала она. — Может, он опасается встречи со мной? Ожидает ссоры, тяжелой сцены. Ему не хватает силы воли».
Она допила сок, но ей еще больше хотелось пить. Опять ноги… серый костюм… пестрый галстук… усатый тип… А носит ли Ролан усы? Она ненавидела усы и очень бы расстроилась, если бы у Ролана… Она цеплялась за любой образ, лишь бы подавить свое все возрастающее смятение. Без четверти шесть. Телефон в баре звонил почти беспрерывно. Слышался звон бокалов, раздавалось все больше приглушенных голосов, по мере того как появились новые посетители. Без десяти… без пяти…
В зале появилась гардеробщица, она принялась обходить все столики, где сидели женщины. Наконец она подошла к Марилене.
— Мадам Жервен?
— Да… это я.
— Вас просят к телефону.
Кивком головы она показала на телефонную будку. Марилена поспешила туда, долго не могла закрыть дверцу. Никто не должен ее слышать, никто не должен знать… Взяла трубку, попыталась изменить голос:
— Алло!
Ее обожгло как будто потоком воздуха.
— Алло!
Почему он не отвечает? Аппарат работает нормально. На линии слышались обычные, едва уловимые шумы, которые присутствуют при любом разговоре. Это, без сомнения, Ролан, он здесь, рядом.
— Алло!
Послышались гудки. Повесили трубку. Марилена поняла, что делать больше нечего. Она вернулась к столику, где оставила свою сумочку. Что произошло? Может, просто случайно разъединили и он перезвонит? Да, обязательно перезвонит. Во всем теле, с головы до ног она почувствовала крайнее напряжение. Силы и мужество покидали ее. С каждой минутой надежда все больше улетучивалась. По какой-то неизвестной причине Ролан изменил решение. Может, догадался, что имеет дело не с женой? Нет. Это невозможно. Она произнесла одно слово. Сделав последнее усилие, небрежно подкрасилась, оставила на столике деньги и вышла. Ноги налились свинцовой тяжестью. Она больше ни о чем не думала. Она чувствовала себя покинутой женщиной, перед которой открывается долгий путь одиночества.
Свободных такси на улице не оказалось. Опять пришлось ждать. Над домами краснели отблески заката. Она возвращается к немощному старику, в атмосферу болезни, к тягостной банальности существования. Над входом в кинотеатры начали зажигаться огни. Марилена опустила голову. Почему вы не пришли, Ролан?
Когда Марилена вернулась домой, было начало восьмого. Во всех комнатах горел свет. Значит, Филипп дома — у него страсть зажигать всюду свет. Сейчас примется выяснять, где она так долго ходила, и она уже чувствовала себя виноватой, как будто чуть не изменила ему. Но вместо этого Филипп протянул ей телеграмму.
— Посмотри, что я получил… Прочитай.
«Просим приехать. Надо срочно решить вопрос оборудованием. Перелет оплачен. Беллем».
— Беллем, — пояснил Филипп, — это новый директор. Не понимаю, чего он от меня хочет. Все дела я оставил в полном порядке. Похоже, речь идет о запчастях, которые нам должны были поставить. Может, они затерялись. Такое случалось и раньше. Беллем — дотошный тип, но не очень расторопный.
— Ты полетишь?
— Вынужден. Я же все еще работаю в компании.
— А… если тебя станут расспрашивать?
— Ну и чем я рискую?.. Разумеется, я встречусь там со многими, но отвечать буду уклончиво… Подумай сама: с семьей Леу меня больше ничто не связывает… Начну с того, что официально уволюсь. Никто этому не удивится. Потом выставлю наш дом на продажу. После того, что произошло, это тоже естественно. Наконец скажу, что мне подвернулась работа, в Марселе например… Так что развяжусь полностью. Все решат, что я хочу идти своим путем, жить самостоятельно, ничем не быть обязанным твоему дяде.
— Тебе зададут вопросы о нем, обо мне.
— Ну и что? Мне не придется ничего придумывать. Он очень болен… ты за ним ухаживаешь… Я захожу к вам не часто, мешают дела… Нет, уверяю тебя, не возникнет никаких проблем… Постараюсь вернуться как можно скорее. Разберусь с делами в компании, зайду к нотариусу по поводу дома, покончу со всеми формальностями и сразу же обратно… Сколько это займет? Неделю, самое большее. Черт побери, старик же продержится неделю!
Марилена медленно раздевалась, сняла перчатки, пальто, туфли. Она прошла к себе в комнату, расстегнула кофточку, сбросила с себя юбку. Филипп последовал за ней.
— Не хочу, чтобы ты продавал дом, — сказала она.
— Но ведь мы все равно не сможем там жить… Послушай, Марилена, давай не будем начинать все сначала. Что сделано, то сделано.
Он подошел к двери, приоткрыл ее. С кухни доносился перезвон посуды. Затем вернулся, сел на край кровати.
— В Сен-Пьере для всех я вдовец. Ты это понимаешь?.. Так вот. Разве не естественно, что, оказавшись в таком положении, я все распродаю? Ты должна раз и навсегда твердо себе уяснить, что ты Симона.
Марилена вспомнила голос Ролана по телефону: «Люблю тебя» — и зажала уши руками.
— Вы все сведете меня с ума, — воскликнула она. — Там осталось столько дорогих для меня вещей.
— Купишь новые. У тебя есть на это деньги.
Она надела халат, зябко закуталась в него.
— Когда ты собираешься улетать?
— Дня через два, не раньше. Они же не могут распоряжаться мной.
Он подошел к жене и попытался обнять ее за талию.
— Оставь! — крикнула она. — Если б ты знал, как я устала, как вы все меня измучили… Хватит… Иди ужинать.
За ужином царила мрачная атмосфера. Марилену несколько раз охватывало искушение рассказать Филиппу о Ролане. Она получила воспитание в строгих правилах, и любая ложь была для нее невыносимой. А сейчас она лгала не переставая. Она сама превратилась в ходячую ложь. И чувствовала себя одинокой до мозга костей. И ничего тут не поделаешь. Нельзя даже довериться священнику, исповедаться, не выдав Филиппа. По крайней мере, этого нельзя делать до встречи с Роланом. Ролан сможет что-нибудь решить. Сама не знала что, но смутно надеялась, что он ей поможет. Она всегда кому-то подчинялась… дяде, духовнику, а сейчас потеряла все точки опоры.
Филипп доедал отбивную. У него спокойная совесть и крепкий аппетит. На него рассчитывать не стоит. Марилена отодвинула тарелку.
— Ты беспокоишься из-за этой поездки? — возобновил он прерванный разговор. — Зря. Рано или поздно мне все равно пришлось бы туда поехать, лучше уж покончить с этим сейчас. Я им объясню, почему ухожу со службы. Впрочем, я совершенно не волнуюсь. Удерживать меня они не станут. Кто я для них? Бывший дальний родственник Леу.
Он положил себе еще сыра. От него исходила уверенность в своем будущем.
— Извини, — сказала Марилена. — Болит голова. Заканчивай без меня.
Дружески похлопав его по руке, она ушла к себе в комнату и там заперлась. Вскоре издалека она услышала звук включенного телевизора. Сегодня он не торопится. Она приняла две таблетки и легла в кровать. Где сейчас Ролан? Может, с другой женщиной? «Интрижка» — как он сам писал. Он вращается в мире, который она не может себе представить, ведь она всю жизнь провела в своей тихой глуши. А в том мире музыка, праздники, женщины, ищущие приключений, дворцы и залы казино. Ролан, быть может, сжалится, увидев ее. Она была уверена, что он скоро перезвонит и назначит новую встречу, которой она уже ждала с нетерпением… Почему? Чтобы отомстить Филиппу за его чудовищную бесчувственность. Чтобы отомстить и Симоне, как Симона сама отомстила отцу, выйдя замуж за Ролана… Она начала засыпать и уже не слишком осознавала то, что шепчут ее губы. Они шевелились сами по себе. Наконец она впала в забытье.
Разбудил ее звонок во входную дверь. Так поздно она никогда не вставала. Раздвинула шторы и увидела низкие дождевые облака. В Сен-Пьере сейчас ночь с мерцающими звездами на небе.
В дверь постучала Мария. Марилена открыла.
— Принесли письмо… Пневматическая почта.
Марилена не знала, что такое «пневматическая почта», но догадалась, что это какой-то вид срочной доставки вроде телеграммы. Она вскрыла конверт. Ей сразу же бросилась в глаза шапка голубого цвета в верхней части листа.
«Ролан Жервен
Дом 17-а, улица Библиотеки Мазарини, VI округ
Моя дорогая Симона!
Извини меня. Вчера у меня возникли непредвиденные обстоятельства. Объясню потом. Но поскольку нам срочно надо встретиться, то я предлагаю тебе прийти ко мне сегодня же утром в половине одиннадцатого. У меня нет привычки напускать таинственность, но в письме не могу объяснить, почему я так тороплюсь тебя увидеть. Жду тебя с нетерпением. Если вдруг ты сейчас занята, не смогла бы ты прийти после четырех часов? Речь идет об очень важных вещах как для тебя, так и для меня. До скорой встречи.
Искренне твой
Ролан».Мария все еще стояла на пороге двери.
— У меня нет времени заняться обедом, — сказала Марилена. — Мне надо уходить. Купите курицу и салат. Картошка еще есть. Вернусь к двенадцати часам.
— Хорошо, мадемуазель.
— Сейчас помогу встать отцу. А вы немедленно отправляйтесь за покупками. Его нельзя оставлять одного.
Старик проснулся уже давно. Брюки он натянул, но ему никак не удавалось надеть носки.
— Почему ты меня не подождал? — пожурила его Марилена. — Тебе плохо в постели?.. Дай ногу.
Старик промямлил несколько невнятных слов и попытался отодвинуть ногу.
— Что с тобой сегодня?.. Я тороплюсь.
Ему наконец удалось выговорить почти твердым голосом:
— Кто вы такая?
Марилена поднялась на ноги, перехватила взгляд с блеском в глазах, которого еще вчера не было.
— Я Симона… Ты меня не узнаешь?
Он отрицательно покачал головой. Он больше ничего не говорил, но не переставал вертеть головой, пока она краем мокрой салфетки пыталась умыть ему лицо.
— Сиди спокойно, в конце концов!
Ее сводило с ума это механическое покачивание головы, справа налево, слева направо, от которого морщины на шее сходились и расходились словно гармошка. Что он понял? Вернется ли к нему ясность ума?.. Она завязала ему галстук, надела халат. Потом отвела его в столовую, усадила перед стаканом молока. Казалось, ему доставляет удовольствие демонстрировать ей свое упрямое «нет», как ребенку, который забавы ради беспрестанно повторяет один и тот же жест. Он отказывался открывать рот. Марилена с ложкой в руке напрасно ждала момента, когда его заинтересует пища и он разомкнет губы. Но он упорствовал в своем отказе, а в глазах у него, казалось, мелькали вспышки гнева.
— Папа, прошу тебя… Мне пора уходить.
Ее охватили ярость и отчаяние. Отказавшись от своих попыток, она провела его в гостиную и усадила перед окном. Потом быстро оделась. Когда вернулась Мария, то ввела ее в курс дела.
— Отец сегодня плохо себя чувствует. Он отказался есть. Даже не узнал меня. Не разговаривайте с ним, не слушайте его, если он попытается что-нибудь сказать…
Мария вполне может начать расспросы, лаской и уговорами выудить у старика какие-нибудь слова, из которых она о чем-нибудь догадается. И тогда…
Марилена еще раз взвесила все «за» и «против». Желание встретиться с Роланом оказалось сильнее. Ролан представляет собой самую непосредственную опасность. Чтобы унять лихорадочную дрожь, колотившую ее, как перегруженную машину, перед уходом она выпила две таблетки аспирина. Почему Ролан рискнул написать ей домой, а не позвонил, как накануне? Содержание письма вызывало беспокойство. Почему подчеркнуто слово «срочно»? А что кроется за фразой: «Речь идет об очень важных делах как для тебя, так и для меня»? «Искренне твой» также выглядит странно. От письма веяло каким-то холодом. Казалось, Ролан принял тяжелое решение, и Марилена испытывала такую же тревогу, как если бы она действительно была Симоной.
— Везде пробки, — проворчал шофер. — Если не возражаете, высажу вас здесь, иначе вы потеряете много времени. Вам надо будет только пройти под аркой…
При всем своем волнении Марилена отметила, что квартал ей нравится. Она бы с удовольствием постояла перед витринами антикварных магазинов. Мимо прошла веселая компания длинноволосых юношей и девушек в джинсах. В воздухе висела мелкая изморось, оседавшая на одежде, как роса. Улица от нее казалась расплывчатой, витрины запотели, освещение внутри лавок стало более рельефным, выделяя, как на картинах прошлых веков, позолоченные грани старинной мебели или утонченные контуры экзотической вазы. Номер 17-а Марилена нашла между витриной букиниста и узким входом в крошечный ресторан. Наверх вела каменная лестница, где в полумраке пахло сыростью. Поднимаясь, Марилена останавливалась на лестничных площадках и читала имена жильцов на медных дощечках или на прикрепленных к дверям визитных карточках. В конце концов она оказалась у квартиры Ролана Жервена. Она уже не чувствовала под собой ног, не столько от усталости, сколько от волнения. Нажала на кнопку и где-то вдалеке услышала низкий звук звонка. За дверью послышались решительные шаги. Боже мой, лишь бы… Дверь открылась. В свете проема показался высокий мужчина. Он протянул руки, взял Марилену за запястье и нежно провел внутрь.
— Симона!
В голосе слышалась легкая ирония. Он провел ее в довольно странную комнату с низким потолком, где на стенах висели полки, заполненные кубками и медалями. Она наконец отважилась посмотреть ему в лицо. Блондин. С необычайно живыми голубыми глазами. Именно они выделялись на симпатичном лице с насмешливой улыбкой. Уши и затылок прикрывали золотистые, похожие на девичьи, слегка вьющиеся волосы. На нем были серые брюки, туго стянутые ремнем с большой пряжкой, и рубашка с маленьким зеленым крокодилом на левой стороне. Он был высоким и стройным, как греческая статуя. Положил руки на плечи Марилене.
— Нам бы следовало объясниться, — сказал он.
Движением руки он усадил ее на кожаный пуф. Вынул из бумажника фотографию и бросил ее на колени Марилене. Снимок был сделан на пляже два-три года назад. Кузины, обнявшись, смеялись перед объективом.
— Вас легко узнать, — продолжал он. — Вчера я столкнулся с вами прямо перед входом в «Мариньян». Мне показалось, что вы никак не решитесь туда войти. Я за вами наблюдал… Хотел удостовериться, понимаете… Я ведь думал, что вы погибли, а Симона жива… И увидел вас живой… значит, Симона мертва… Чтобы окончательно убедиться, через некоторое время я позвонил. В баре искали Симону Жервен, и вы ответили… Я ни в чем не ошибаюсь, правда?
— Нет.
— Значит, вы заняли ее место. Почему?.. Подождите! Я сам отвечу. Если ошибусь, я вам разрешаю отхлестать меня по щекам.
Он непринужденно уселся на ковер, поджав под себя ноги. Он находился настолько близко, что она чувствовала запах его туалетной воды.
— Виктор Леу очень богат, — продолжал он. — И у него одна-единственная наследница…
Он подставил ей щеку.
— Ну!.. Пока еще меня не бьете? Тогда продолжаю. Наследница погибла, состояние распыляется: племянница, сестра, налоги… Вполне естественное желание предотвратить такую катастрофу.
— Это Филипп… мой муж… — начала она.
— Разумеется.
— Мы не знали, что Симона замужем.
Он резко встал, взял на столике пачку «Кэмел».
— Курите?
— Нет, спасибо.
— А я, к сожалению, курю.
Зажег сигарету и встал перед ней, положив руки на бедра.
— Мы оба влипли, вам не кажется?.. Кому известно, что вы не Симона?
— Но ведь… никому. После катастрофы — когда я еще не пришла в себя — Филипп объявил властям, всем, что его жена погибла и что я Симона Леу.
— Хладнокровия ему не занимать.
— Все произошло почти помимо его воли. С головой у дяди уже было не все в порядке, и он решил, что я Симона… От пережитого потрясения в мозгах у него все перепуталось… И Филипп не стал говорить ему правду… Вот так я перестала быть Мариленой… Видя отношение ко мне дяди, никто не мог усомниться, что я не его дочь.
— Гм! И все-таки, если вас встретит кто-нибудь из Сен-Пьера, вас тут же разоблачат… Конечно, это маловероятно… Выпьете что-нибудь?.. Кажется, у меня есть портвейн.
Он вышел в соседнюю комнату. На стенах с новыми обоями Марилена заметила фотографии, на которые поначалу не обратила никакого внимания. На всех был изображен Ролан с махровым полотенцем на шее и с ракетками под мышкой. Ролан — теннисист. Вот, значит, почему Симона скрыла брак от отца!
Он вернулся. В каждом его движении сквозила гибкость, ловкость и изящество. Он налил вино, протянул рюмку Марилене.
— Итак, — произнес он, — вы Симона!.. Даже перед лицом закона? Вот уж не думал, что это можно проделать так просто. У вас есть все необходимые документы? Они подлинные?
— Конечно. Доказательством служит то, что я получила на почте письма, адресованные вашей жене.
Она открыла сумочку и протянула Ролану три письма.
— Вы додумались и до этого… Оставьте их себе… В конце концов, они ваши, раз вы стали Симоной… Но вы меня поражаете.
В его голосе не прозвучало никакого укора. Марилена начала проникаться к нему доверием. Этого большого беспечного ребенка можно сделать союзником.
— Мне понадобилось свидетельство о рождении, — объяснила она. — Из него я узнала о браке Симоны. Потом… просто немного подумала… и логика привела меня на почту…
— Логика! Вы очаровательны!
Когда он улыбался, то обнажались его восхитительные зубы, а на щеках вырисовывались две ямочки. Юношеское лицо удивительной чистоты. Но он собрался, и в глазах погасли искорки лукавства.
— Ладно, — проговорил он, — я не сержусь, что вы прочитали письма. Вы ведь поняли, что между мной и Симоной не все складывалось гладко… Бедная Симона! У нее был ужасный характер. Вы, вероятно, ожидали увидеть потрясенного человека, который впал в отчаяние, узнав… Да, вчера вечером после нашей несостоявшейся встречи я не мог найти себе места. А ночью не спал… Но все это время я подводил итоги… Они неутешительны. С самого начала я понимал, что брак окончится неудачей.
Он опустился на пол, положил под спину подушку и облокотился на стол, поставив рюмку с одной стороны и пепельницу с другой.
— Я должен вам рассказать… да… именно должен… Мы встретились почти два года назад в Монте-Карло. Я участвовал в турнире. Она тоже очень любила теннис. После финала, а его выиграл я, организаторы устроили вечеринку… Кто-то нас представил… подробности я опускаю. Все, что могу сказать… абсолютно честно… она бросилась мне на шею. Уверяю вас, что я нисколько не преувеличиваю. Для меня это было обычным приключением, ведь при моем образе жизни возможностей хватает. А вот для нее! Удар молнии! Приступ безумия! Три недели мы жили как… психи. Другого слова не подберешь. Я должен был выступать в ответственных турнирах… Проиграл один, потом второй, потом третий… Как я мог к ним готовиться?.. С этого времени я начал терять форму. В газетах меня не жалели. Моментами я впадал в ярость. Ужасно злился на Симону. Начались ссоры…
Он откинул голову и закрыл глаза.
— И потом однажды вечером она мне сказала: «Так больше продолжаться не может. Давай поженимся. Мой отец богат. Ты будешь играть не ради денег, а для собственного удовольствия». Поставьте себя на мое место, Марилена. Мне уже стукнуло двадцать семь лет. Плохой возраст для игрока, не обладающего исключительными данными. Я мог продержаться еще четыре года или пять лет, а потом конец, все. Надо искать новое место в жизни. А это не просто… Ладно, не будем об этом. Мы поженились в Каннах почти тайно. Я не хотел никакой огласки. Все бы подумали, что я ставлю крест на своей карьере. Симоне тоже не хотелось, чтобы об этом судачили на каждом углу…
Он резко поднялся, бросил сигарету, обжигавшую ему пальцы, закурил новую и нерешительно посмотрел на Марилену.
— Есть одна деталь, которая меня смущает… Да что уж там, раз я начал исповедоваться… Было бы разумно, если бы мы заключили брачный договор с раздельным владением имуществом. Но Симона не захотела. Помню ее слова: «Все мое — твое. Не хочу, чтобы наш союз начинался с какой-то торговли». На самом же деле она тем самым хотела держать меня в руках. Она сделала ловкий ход. Она меня просто купила. Рассуждала она очень просто: «Я привязываю Ролана к себе. Он становится только моим. Вернувшись, поставлю в известность отца и уеду жить во Францию с мужем». Только она не подумала, что, вернувшись, не посмеет ничего сказать отцу. Произошло то, что можно было предвидеть. Я снова стал играть, а она, что ж, думаю, она стала жить, как маленькая девочка, в страхе и ужасе от того, что натворила. Так начались недоразумения. Мы писали письма со взаимными упреками такого рода: «Раз ты не хочешь бросить играть, я ничего не скажу отцу… Раз ты не хочешь сказать отцу правду, я буду продолжать играть». Диалог глухих, за которым скрывалось то, в чем мы не хотели признаваться. Мы просто-напросто сожалели о содеянном. Когда улеглась страсть, мы увидели, что совершили глупость. Но самолюбие брало верх.
— И все же, — робко проговорила Марилена, — вы ведь после этого встречались?
— Да. Симона три или четыре раза приезжала во Францию.
— Почему вы не развелись?
— Почему?.. По глупейшей из причин. У меня не хватало свободного времени. Мне приходилось много ездить — я должен выполнять обязательства и, главное, зарабатывать на жизнь. И потом, ведь речь шла о моей репутации. Не знаю, понимаете ли вы это. Симона, во всяком случае, так и не поняла. Три года назад я входил в двадцатку лучших игроков мира. Я упорствовал, несмотря на ссоры, и какие ссоры! Однажды я ее ударил… Она довела меня до предела. Все это выглядит не слишком красиво. Но я вам рассказываю для того, чтобы вы простили мне, что я не проявляю приличествующей этому случаю печали. Печаль осталась позади, как тернистый путь. Он был долгим. И, видите ли, я испытываю почти облегчение оттого, что вышел из этой нелепой ситуации. По правде говоря, я уже просто обалдел от этой истории. Она, кстати, тоже.
Он налил себе полную рюмку и залпом выпил. Взгляд его смягчился.
— Вы пришли, Марилена, — продолжал он, — и я рад вскрыть нарыв. Если откровенно, ваш дядя действительно такой тяжелый человек, что Симона боялась даже подступиться к нему?
— До болезни он и правда не отличался легким характером. Если б узнал, что Симона вышла замуж, не спросив даже его мнения, не могу себе представить, что бы произошло. Симона для него — это все. Вот почему после катастрофы…
— Да. Теперь мне становится яснее.
Он подогнул под себя ноги, положил на них руки и с улыбкой наклонил голову.
— Ну а что с вашим мужем? Ведь в такой ситуации он вдовец. Как вы это уладили? Он живет с вами?
— Заходит к нам на обед и ужин, но живет в гостинице. Нашел хороший отель, рядом с нами, «Ментенон».
— Он знает о нашей встрече?
— Нет.
Наступило молчание, которое нарушил Ролан.
— Прошу прощения, Марилена. У меня нет намерения смеяться, но это выше моих сил. Никогда не видел чего-либо более абсурдного. Честное слово, мы все сошли с ума. Дядя не в себе. Вы стали его дочерью. Ваш муж превращается в вашего зятя. И в довершение всего я, овдовев на самом деле, становлюсь вашим мужем. Как в плохом водевиле. Нет… Извините… Может, это безумие, но не смешно. Я ставлю себя на ваше место… Хотите посмотреть мою обитель? Это вас отвлечет. Трагедии не в моем вкусе.
Он протянул ей руку, помогая подняться.
— Обожаю этот квартал, — продолжал он. — Обожаю все, что помогает мне думать, будто мне двадцать лет. Посмотрите мои трофеи. Но это одни побрякушки.
Он взял в руки что-то вроде амфоры из позолоченного металла.
— Мельбурн. Прекрасный финал, я выиграл его за три сета. Тогда ноги у меня были еще ничего.
Он начал медленно обводить полки пальцами.
— Кубок Галеа… Кубок короля Швеции… Чемпионат юниоров в Америке… Меня считали новым Розуоллом. А вот маленькие успехи: Боль, Монте-Карло, Виши — все-таки приятные воспоминания. И какие прекрасные места. Я как-нибудь расскажу вам обо всем, Марилена… думаю, мы будем часто встречаться… Да?.. Нет?..
Он совсем близко наклонился к ней, и в его голубых глазах она увидела как бы золотые огоньки — отражение медалей и кубков.
— Да, — прошептала она.
— Отлично. А вот моя комната… Как у студента.
На стенах там были развешаны ракетки, фотографии, возле кровати стоял проигрыватель, на стуле валялась одежда.
— А вот кухня. Осторожно, ступеньки. Дом очень старый. Меня уверяют, что здесь жил один из героев Бальзака. Я не проверял. И потом, романы меня… А вы любите читать? Между нами, я не очень умею готовить. Могу сделать яичницу, сварить рис, приготовить паштет… Но вокруг полно ресторанчиков, да вы сами увидите.
Она слушала, расслабившись и соглашаясь на все, хотя твердо приняла решение больше сюда не возвращаться. Призвала все свое мужество и задала вопрос:
— Ну и что мы решим?
— Решим что?
— Мне нужна свобода.
— Свобода, Марилена? Позволь мне называть тебя на «ты». Мы ведь родственники! Супруги! Да, твоя свобода… Когда захочешь. Надо подумать. Пока нас ничто не торопит. Позволь мне немного насладиться Парижем. Я только что приехал.
Он взял ее за руку и привел снова в свой музей.
— Я тебя едва знаю, и мы уже говорим о разводе. А как твой муж? Не я (он рассмеялся), а Филипп?.. Он занимается спортом?
— Планеризмом.
— Черт возьми! Это интересно. Я не прочь с ним встретиться.
— Не надо, Ролан, прошу вас. Не надо с ним встречаться.
— Почему? Он что, меня съест?
— Это… неприлично.
— Но ведь, Марилена, ему все же нужно будет рассказать о моем существовании.
— Я сама скажу… потом. После того, как он вернется с Реюньона. Он уезжает завтра вечером… Когда приедет, введу его в курс дела. А мы пока начнем бракоразводный процесс… И все встанет на свои места.
Кончиком пальца он приподнял ей подбородок и посмотрел в глаза.
— Знаешь, Марилена, ты мне нравишься… Сделаю все, что хочешь. Ты ведь не такая, как другие. И ты полная противоположность Симоне. С такой женщиной, как ты, отдыхаешь. Ну-ка… хочу сделать тебе подарок… Выбери какую-нибудь медаль… Не отказывайся, сделай мне такое удовольствие… Не эту. Она безобразна… Лучше вот эту… Я ее завоевал в Руапане, давно уже. Это не липа. Чистое золото.
— Спасибо, — пробормотала Марилена, — но мне бы не хотелось.
— Ну-ну, не смеши меня. И не смотри все время на часы.
— Но мне нельзя долго задерживаться.
— Хорошо. Но не забудь позвонить мне, когда Филипп уедет… Обещаешь?
— Да.
— Смотри веселее. А то выглядишь как побитая собака.
Он нежно поцеловал ее в висок.
— До скорого, Марилена. Все устроится, не бойся.
Он постоял на лестничной клетке, пока она спускалась, а когда она подняла голову, то весело помахал рукой.
Филипп принимал душ, когда раздался телефонный звонок. Он набросил халат и, не вытираясь, с недовольным видом пошел к аппарату. Марилена могла бы выбрать и другое время. А может, старик… Это было бы слишком хорошо!
— Алло!
— Господин Филипп Оссель?
— Да.
— Извините. Возможно, я звоню немного рано… Ролан Жервен. Вы меня не знаете. Но нам крайне необходимо встретиться, и как можно скорее.
— Послушайте. Я собираюсь уезжать и…
— Знаю. Марилена мне сказала.
— Что? Марилена вам…
— Вот именно. О ней нам и надо поговорить.
— Объяснитесь.
— Не по телефону. Приезжайте немедленно. Мой адрес: улица Библиотеки Мазарини, дом 17-а, пятый этаж, направо.
— Но, черт побери, в чем дело?
— Речь идет о жизненно важных вещах, поверьте. Жду вас.
Щелчок. Гудки. Таинственный собеседник повесил трубку. Сомнений нет никаких: Марилену узнали. Этот Жервен, видимо, жил на Реюньоне. Невероятное все же произошло. Рушится превосходный план.
Совершенно подавленный, Филипп дрожащими руками натянул одежду. Существует один шанс из ста тысяч, из миллиона, что Марилену могут узнать. Нет, это невозможно. Она выходит из дома так редко. Надо все выяснить, и как можно быстрей.
Такси на стоянке не оказалось, и Филипп побежал в метро. Если рассуждать здраво, этот Жервен все же не мог жить на Реюньоне, ведь у него квартира в Париже. Если бы он находился здесь проездом, то остановился в гостинице. Но как бы там ни было, это тяжелый удар. А эта идиотка Марилена, видимо, раскололась, во всем призналась. Отрицать бессмысленно. Филипп вышел на площади Одеон. Шел дождь. Город казался враждебным, жизнь — тяжкой ношей. Почему бы не повернуть назад, не запаковать чемоданы и не удрать подальше от Леу и от западни, в которую он вот-вот попадет самым глупейшим образом? Ведь ясно же, что все пропало.
Тем не менее он шел вперед, покрываясь холодным потом от страха, переполненный яростью и отчаянием. Нашел улицу Библиотеки Мазарини, выглядевшую мрачной под низким небом. Вот дом 17-а. Сейчас увидим. Позвонил. Дверь сразу открылась.
— Оссель.
— Жервен.
Они стояли лицом к лицу, и Филипп сразу же понял, что он сильнее противника, крупнее его и тренированнее. Никто не сможет им командовать, во всяком случае не этот блондин, казавшийся слишком красивым и слишком элегантным в своем черном халате с желтыми драконами.
— Входите… Садитесь… Рад с вами познакомиться, Филипп.
— Но я вам не позволю…
— Просто вы еще не в курсе. Сейчас поймете.
Ролан включил торшер, осветивший разложенные на полках трофеи. Филипп подозрительно осмотрел комнату. Значит, он имеет дело с теннисистом. Он презирал теннис, игру снобов и щелкоперов. В свое время в Каннах он на них насмотрелся. А этот своей ангельской рожей казался еще хуже остальных. Филипп отодвинул стул, как бы показывая, что у него нет времени на пустые разговоры. Ролан вынул из кармана что-то похожее на записную книжку.
— Свидетельство о браке, — сказал он. — Посмотрите.
Он открыл его на первой странице и протянул Филиппу.
Филипп прочитал, принял удар не дрогнув. Как боксер, нокаутированный стоя. Наступила смертельная тишина.
— Я ее муж, — тихо проговорил Ролан. — Марилена знает.
Из чувства такта, как бы щадя Филиппа, он отошел к окну, отодвинул штору и начал рассматривать мокрые крыши. Услышав, как затрещал стул, обернулся.
— Мне жаль вас, — сказал он. — Но я же не виноват, что Симона — моя жена… Только ведь я не обязан об этом рассказывать…
— Что вы имеете в виду? — пробормотал Филипп.
Ролан взял пачку «Кэмел», предложил Филиппу.
— Спасибо, предпочитаю свои. Объяснитесь.
— Все просто. Наши интересы отнюдь не противоречат друг другу, напротив.
— Ладно. Что вам надо?
— Подождите. Сейчас поймете… Но сначала давайте проясним один вопрос, совершенно откровенно. Вы женились на Марилене по любви?.. Не заключили ли вы одновременно и выгодную сделку?.. Подождите, я вам помогу. Женившись на Симоне, я думал о наследстве. Не боюсь в этом признаться. Это останется между нами. Я сидел на мели. Думаю, вы тоже. Нельзя же упускать такую возможность. Как и вам.
Филипп хотел встать. Ролан положил руку ему на плечо.
— Подождите, черт побери! Я же не сказал ничего оскорбительного. Погоня за наследством — обычное дело в любой семье. Только об этом открыто не говорят. Итак, я с радостью женился на Симоне. Мне удалось даже сделать так, что мы заключили брачный договор на условиях совместного пользования. Это значит, что все ее состояние принадлежит мне.
— Ясно, — сказал Филипп. — Я все понял. Можете не продолжать. Раз вы все знаете, то в вашей власти нас разоблачить. Но предупреждаю…
— Черт возьми, успокойтесь… Филипп, старина, успокойся… Мы — свои люди, и ты мне нужен. Понимаешь — ты мне нужен.
— Зачем? Мне кажется, что у вас в руках все карты…
— У меня ничего нет. Ну и тупица! Хочешь меня выслушать? Симона… Следишь за ходом моих мыслей?.. Симона, если бы она осталась жива, после смерти старика унаследовала бы все состояние. А я, в силу брачного договора, стал бы своего рода сонаследником. Но… есть «но», проклятое «но»… Симона умерла раньше отца, и теперь я для Леу ничто. Договор прекратил свое существование. Состояние перейдет к наследникам по прямой линии, иными словами, к Марилене и старой тетке, не помню ее имени…
— Ольга.
— Да, Ольга. Поэтому в моих интересах молчать. Марилена заняла место Симоны, тем лучше. Я уж не разболтаю, можешь мне поверить. Ты тоже, вас тогда ждут большие неприятности. Но главное — если будет установлена подлинная личность Марилены, она унаследует только часть, а остальное отойдет к тетке, кроме того, ей придется заплатить огромный налог…
Ролан с развязной непринужденностью щелкнул пальцами.
— Видишь теперь, что я неплохо разбираюсь в делах о наследовании. Я досконально изучил вопрос, консультировался даже с адвокатом. Так что это не байки. Отбрось сомнения, старина: твоя жена должна остаться Симоной. Это нас обоих устраивает. Хочешь выпить?
Он отправился на кухню. Ошеломленный Филипп испытывал огромное облегчение. Он по-прежнему не доверял этому субъекту, столь не похожему на него, раздражавшему своей слегка снисходительной самоуверенностью, но хотя бы одно стало ясно: они друг от друга зависят. Следовательно, заинтересованы в обоюдной безопасности.
Ролан вернулся с бутылкой виски, двумя стаканами и вазочкой, полной кубиков льда.
— Ну как, братец?.. Все-таки это для тебя удар, правда?.. О! Знаю, знаю. Денежные вопросы — это всегда трудно, поэтому их надо улаживать сразу. Потом чувствуешь себя спокойным… А как папаша Леу? Долго еще протянет?
— Не думаю.
— А сейчас вы на что живете?
Филипп почувствовал, как краска залила его лицо.
— У Симоны была доверенность. Так что…
— Понятно. Ну что ж, ты оказал бы мне чертовскую услугу, одолжив… скажем, тысячу франков. Нет, успокойся. Я не собираюсь выуживать у тебя деньги. Просто ты бы меня выручил.
Он поднял стакан.
— За наши надежды.
Потом, как будто ему в голову пришла неожиданная мысль, поставил стакан на стол, даже не отпив из него, пододвинул поближе к Филиппу кожаный пуф и сел на него.
— Давай договоримся. Я предлагаю все поделить поровну. Ты уже догадался? После смерти старика будет произведена общая переоценка наследства. А как ты думаешь, на сколько это потянет?
— Точно не знаю, — ответил Филипп. — По крайней мере тридцать миллионов новыми.
— Черт! Прилично! Примем это за основу. Разумеется, я не потребую от тебя пятнадцать миллионов наличными. А ты намереваешься куда-нибудь вложить деньги?
— У меня уже есть на этот счет небольшая идея, — отозвался Филипп.
— Очень хорошо. Себя я знаю. Если деньги перейдут полностью в мое распоряжение, я вполне способен спустить их за несколько лет. Лучше всего, если ты станешь моим банкиром. С ежемесячной выплатой сумм. Марилена об этом знать не должна, она только все испортит… А мы, увидишь, все устроим. Найдем подходящую схему… С этим проблем не возникнет… А пока мне нужна тысяча франков или даже… две тысячи, если тебе не трудно.
Филипп не без отвращения достал бумажник. Этот торг ему совсем не нравился. От него отдавало шантажом. Поделить поровну — это честно. Выплачивать частями — довольно противно. Он протянул Ролану четыре бумажки по пятьсот франков. Теперь у него оставалось совсем немного, и ему придется в свою очередь просить у Марилены денег на поездку. Все это становится откровенно унизительным. Но что поделаешь! Они теперь в руках этого неуемного плейбоя, с улыбкой на лице засовывавшего деньги в карман.
— Спасибо, — сказал Ролан. — Надеюсь, я не обездолил тебя. Значит, Марилена не сказала тебе о своем визите ко мне?
— Что? Она сюда приходила…
— Скрытная дама! Знаешь, она все проделала мастерски. Узнав из свидетельства о рождении о своем замужестве, она подумала, что я пишу ей до востребования. Умно, правда? Без труда заполучила мои письма и к тому времени, когда я ей написал, назначив свидание, уже успела составить план. Угадай какой.
— Не знаю.
— Предложила мне развестись.
Ролан засмеялся.
— Заявила это совершенно спокойно. Она великолепна! Но если я разведусь, она снова выйдет за тебя замуж, и я останусь с носом. Заметь, я мог бы продать ей развод… очень дорого. Но как бы я тогда выглядел? Нет, только не развод. Понимаю, что для тебя это не очень приятная ситуация. Мы составим как бы треугольник: я официальный муж, ты фактический, а Марилена — жена и того и другого. Но я совсем не буду вам мешать. Кроме того, я вернусь к тренировкам, стану ездить на соревнования. Обещаю не портить вам жизнь. Когда ты улетаешь?
— Сегодня вечером.
— Надолго?
— Дней на десять.
— Очень хорошо. Позволь мне встречаться с Мариленой и мало-помалу дать ей понять, что о разводе не может быть и речи. Пойми, если она начнет упорствовать, а ты ревновать, мы никогда из этого не выберемся.
Ролан бесцеремонно похлопал Филиппа по колену.
— Все будет в порядке, братец. Раз Марилена ничего тебе обо мне не сказала, значит, в ее маленькой головке происходит какая-то работа. К чему ей мешать? Уезжай и ничего ей не говори. Я тоже не пророню ни слова. Мы друг друга не знаем. Когда вернешься, соберемся на семейный совет и все решим. Согласен?
Филипп встал. Ему совсем не нравился этот слегка насмешливый тон.
— Согласен, — буркнул он.
— Ну что ж, счастливого пути. Веди себя там осторожно.
Филипп передернул плечами и поспешил к выходу, не пожав протянутой Роланом руки. У него сложилось впечатление, что его переиграли. На месте Жервена он, вероятно, действовал бы точно так же, но как ни странно, именно это и приводило его в бешенство. Сюда он шел со спокойной совестью, а теперь чувствовал себя почти что жуликом. Остановился на улице и быстро прикинул. Соглашаясь на эту сделку, он много теряет, но Ролан прав. Дело все равно выгодное. В сущности, внакладе остается только тетя Ольга. Но как далеко может зайти Ролан? Ведь не станет же он подписывать документ, устанавливающий, что они делят поровну… Как только начинаешь думать о деталях, то понимаешь, насколько все мерзко. Он спустился в метро, запутался с пересадками и потратил больше часа, чтобы добраться до бульвара Перейр.
Перед домом стояла машина транспортного агентства по перевозке мебели. Двери квартиры были широко открыты. На полу валялась солома. Марилена в гостиной разговаривала с какой-то старухой. Увидев Филиппа, она пошла ему навстречу.
— Привезли вещи, — вполголоса произнесла она.
— Какие вещи?
— Мебель из комнаты Симоны, безделушки, дорогие ей вещи, которые переправили оттуда… Не знаю, куда все это деть. Когда ты нужен, тебя никогда нет… Мебель подняли в пустую комнату на восьмом этаже. А ящики пока стоят в комнате для гостей. Разберу их потом. Идем, представлю тебя тете Ольге.
— Значит, это… Вовремя появилась!
— Филипп… Тетя Ольга.
Филипп пожал сухую руку. Тетя не купалась в роскоши, это видно сразу. Одета в черное, похожа на монашку со свойственным им рыскающим взглядом.
— Я испытала огромную боль, — сказала она, — узнав о бедной Марилене… Я очень любила это дитя… Она хоть иногда рассказывала вам обо мне?
— Очень часто, — выдавил из себя Филипп в ужасном смущении.
Ольга опустила глаза, сняла с рукава приставший к нему клок кошачьей шерсти.
— Извините меня, — продолжала она. — Я пришла проведать брата. Он все-таки мне брат. Не узнал меня. Неприятно видеть его в таком состоянии. А вы, Филипп, хоть немного начинаете оправляться от потрясения?
— От потрясения… Да… Хочу сказать… Тяжело, очень тяжело.
Ольга взяла сумочку, перчатки и направилась к двери, где столкнулась с рабочим, протянувшим Марилене какую-то бумагу.
— Вот счет, — сказал он. — Мы закончили.
— Сейчас выпишу чек, — ответила Марилена.
Филипп пошел вслед за ней, на пороге кабинета обернулся.
— Извините, тетя. Я на одну минуту.
Затворив дверь, он сказал тихим голосом:
— Раз уж ты здесь, выпиши мне чек на две тысячи франков.
— Как, еще?
— На предъявителя. У меня оказались непредвиденные расходы.
— Какие расходы?
— Ты отказываешься?
— Мне кажется, мы много тратим.
Она выписала два чека. Филипп со злостью посмотрел на нее. Раньше он давал деньги и требовал отчета. Как же он сумеет теперь оправдывать расходы? Если Марилена всегда будет вставать между ним и деньгами… В этом заключалось что-то невыносимое, о чем он раньше не думал. Надо непременно найти способ отстранить Марилену. Он раздраженно положил чек в бумажник и вернулся в гостиную, где медленно прохаживалась тетка, поедая глазами каждую деталь.
— Заходите ко мне, — пригласила она. — У Симоны есть мой адрес. От нее я узнала, что вы не собираетесь оставаться на Реюньоне. Это можно понять. В вашем возрасте жить среди воспоминаний! Поговорим о Марилене, о дорогой малышке. Симона… не хочу говорить о ней плохого, но…
Она замолчала. Проводив рабочего, к ним подошла Марилена.
— Вот еще одна забота, — вздохнула она. — Со всеми этими ящиками. Уж лучше бы я все оставила на месте… Тетя, не хотите с нами пообедать?
— Ты забыла, что у меня на руках целое семейство? Нет, спасибо, может быть, в другой раз. Если что-то случится, сразу дай знать. Боюсь, что долго он не протянет… Забыла спросить: где похоронили Марилену?
— В Джибути, — ответила Марилена.
— Вы ее оставили там… одну?
Резкими движениями натянула перчатки.
— Ладно, не буду вмешиваться в то, что меня не касается.
Филипп проводил ее до лестничной клетки. Тетя шепнула:
— В Джибути! Рядом с нефами! Такое могло прийти в голову только Симоне.
Она не поехала на лифте. На лестнице долго еще не смолкал стук ее каблуков.
Марилена сопротивлялась изо всех сил. С Роланом она встречалась каждый день. Он ждал ее в конце бульвара за рулем нового шикарного голубого автомобиля.
— Какая красивая машина!
— Она еще не моя. Пока я живу в кредит.
Он всегда разговаривал насмешливым тоном.
— Садись, принцесса. Куда поедем? Ты любишь дары моря? Тогда дело в шляпе.
Он знал все рестораны. Его повсюду приветствовали как хорошего знакомого.
— Отдыхаете, мсье Ролан?
— Показываю Париж своей кузине.
Всегда находился столик в стороне с цветами в вазе, словно их давно ждали. Ролан был полон предупредительности, извинялся за свое веселое настроение.
— Просто у меня такая натура, — говорил он. — И потом, мне нравится быть рядом с тобой, ведь ты сумела остаться девочкой. Хоть ненадолго можно вернуться в детство…
Он рассказывал увлекательные истории, изображал людей, с которыми встречался в разных уголках мира.
— Вот однажды, помню… Это произошло в Осло.
Его рассказы всегда казались забавными. Марилена смеялась. Не могла себя сдерживать. Иногда она думала: «Вот так он и покорил Симону». Но сразу же отгоняла эту мысль. В конце обеда он небрежно платил по счету, оставляя щедрые чаевые. У нее кружилась голова. А он брал ее за руку.
— Нам просто необходимо поехать в Булонский лес.
Потом они шли рядом под деревьями в великолепии свежей листвы. Или же он увозил ее в Версаль, выбирая там самые пустынные аллеи парка.
— Видишь ли, Марилена, мне следовало бы жениться на тебе… Порой я даже думаю, что ты действительно моя жена… Признайся, что этот идиот, твой муж, сам все для этого сделал.
— Замолчите.
Марилена боялась этих мгновений, когда они оставались наедине. Она ждала их, цепенея от страха. Чтобы не оступиться, она брала Ролана под руку. Краснела, бледнела от сумасшедших мыслей. «Если он попытается поцеловать меня, влеплю ему пощечину. Пусть знает, что…» Но она уже не понимала саму себя. Уже спускалась ночь, когда он подвозил ее к дому. Какое-то время не отпускал ее руку.
— До завтра, жена-кузина…
— Ролан… Обещайте мне, что мы еще поговорим о разводе.
— Конечно. Я над этим думаю. Но, знаешь, трудно решиться.
Открывал ей дверцу со все тем же нежным, почтительным и ироничным видом. Ноги едва доносили ее до лифта. Ей казалось, что она выплывает из чуть было не поглотивших ее вод, словно человек, потерпевший кораблекрушение. Мария пребывала в плохом настроении.
— Как он?
— Все так же. Скучает. Ждет мадемуазель.
Однажды Мария взорвалась.
— В мои обязанности не входит кормить господина. Господин мне не отец. У меня уже нет времени заниматься хозяйством.
Марилена вложила ей в руку две бумажки по десять франков.
— Потерпите еще немного, — проговорила она. — Я не виновата, мне надо уладить кое-какие щекотливые дела.
Старик дремал возле радиоприемника, из которого доносилась музыка. Марилена выключила радио, и он открыл глаза. На его лице появился испуг, как у ребенка, пытающегося отогнать кошмар. Здоровой половиной рта он произнес: «Симона». Марилена подумала с ужаснувшей ее радостью: «Он ничего такого не сказал. Сегодня этого не произойдет». Она поцеловала его в лоб. Потом пошла принять ванну, пытаясь унять радостную лихорадку, придававшую каждому ее движению что-то вроде преступного порыва. Ей хотелось отмыться от Ролана, избавиться от угрызений совести, которые обволакивали ее, словно грязь. Потом, обессилев, предалась мечтаниям, потеряв представление о времени. В дверь постучала Мария.
— Ужин готов.
Что? Ужин! Так быстро! Разбрызгав воду, она встала из ванны, наскоро вытерлась. Уже ужин! А потом спать. Надо будет принять три или даже четыре таблетки снотворного. Потом почти сразу же наступит утро. И опять Ролан будет ждать ее в конце улицы, в прекрасной, как грех, машине. И возобновится… настоящая жизнь… а может, это смерть. Она уже ничего не знала и не хотела знать. Откуда-то из живота поднималось желание петь. Надела халат. Семь часов. Через пятнадцать часов ей скажут, наклонившись к уху: «Здравствуй, девочка. Здравствуй, Марилена».
Ее сердце наполнилось радостью.
Ролан вел тонкую игру. Сам возвращался к вопросу о разводе, как будто серьезно и всесторонне взвешивая все «за» и «против».
— Обоюдное согласие пока еще не считается законным основанием, — говорил он, — не надо об этом забывать. Значит, кто-то из нас должен изменять другому. Мне кажется, что по логике изменяешь ты… Изменяешь мне с Филиппом.
— Как вы можете…
Марилена защищалась. Он же настаивал с притворной снисходительностью:
— Ты же ходишь в гостиницу к Филиппу. Это вполне естественно…
— Нет! Не в гостинице.
— Где же тогда?
— Нигде.
— Помилуй! Не хочешь же ты сказать… Ведь ты очень привлекательная женщина… Да. Не надо бояться слов. Видишь ли, я тоже не отказался бы… Вот так. Это не оскорбление. Это комплимент… Я хорошо понимаю, что Филипп…
— Нет.
— С ним что-то не так? Вы не ладите? Ответь, Марилу… Если вы не ладите, будь моей. О! Я вовсе не собирался доводить тебя до слез. Пошли…
Пройдя под арками Пале-Рояля, они медленно направились к свободным скамьям, вокруг которых порхали голуби.
— Я говорю: будь моей, — продолжал Ролан, — потому что выбора нет. Ты мне не изменяешь. Я тебе не изменяю. Так что нам придется остаться мужем и женой. Впрочем, для меня в этом ничего неприятного нет.
— Вы злой, Ролан.
Тем не менее она села рядом с ним и не стала сопротивляться, когда он обнял ее за плечи.
— Успокойся. Я просто подшучиваю над тобой. Но давай смотреть на вещи реально. Значит, я должен тебе изменить. Я предоставлю тебе компрометирующие письма. Это сделать легко. «Любимая! Едва выйдя из твоих объятий, я уже страдаю…» Надо будет постараться, чтобы убедить судью. «Как можно забыть твое пылкое тело, твои крики сладострастья…»
— Хватит, Ролан. Умоляю.
Он почувствовал, что ее охватила дрожь.
— Шучу, Марилу… Когда волнуюсь, всегда шучу. Тебя смущает мой стиль?
— И не только. Разве всерьез вы никогда такого не писали?
— Возможно. В молодости.
— У вас было много любовных приключений?
— Да нет, не очень.
— Вы не умеете лгать. Я не забыла, что вы писали Симоне.
— Ах да. Интрижки. Хочешь полной откровенности?.. Что ж, после матча, после трехчасовой борьбы, когда на тебя смотрят тысячи глаз, ощущаешь потребность в женщине. Вот так… Все предельно просто. Я тебя шокирую?
— Слегка.
Он привлек ее к себе.
— Нет, очень, до крайности. Я тебе противен. Ведь правда?
— Нет.
Он прижался своей головой к голове Марилены.
— А ты мне очень нравишься, знаешь. Подумать только, что мне придется взять вину на себя! И кроме того, я должен буду платить тебе алименты. А они устанавливаются в судебном порядке. От этого не уйдешь. Интересно, из каких денег я стану платить.
— Но я же ничего от тебя не потребую.
— Ну и ну! Ты начала называть меня на «ты». Очень мило. Это заслуживает награды.
Он поцеловал ее в ухо. Марилена чуть не застонала. Она покраснела от стыда, что это произошло у всех на виду.
В тот день он повез ее на берег Марны, в местечко, где когда-то собирались известные художники и названия которого она не знала. Марилена молчала, не зная, как к нему обращаться: на «ты» или на «вы». В то же время ее сковал страх показаться смешной из-за своей застенчивости. Он же вновь стал милым парнем, жизнерадостным, беззаботным, предупредительным. Они зашли пообедать в ресторанчик на берегу реки.
— Марилу… Тебя что-то волнует? В чем дело?
— Меня мучает мысль об алиментах. Это так несправедливо. Не сердитесь…
— Не сердись.
— Хорошо, не сердись. Но нам надо поговорить о денежных вопросах. Тогда я немного успокоюсь. Ты сказал, что ваш с Симоной брак был заключен на условиях совместного владения?
— Да. Полного совместного владения.
— После развода ты все потеряешь?
— Разумеется. Ну что ж! Пойду работать. Напишу мемуары. Ты же уже поняла, что я очень способный.
— Не смейся, прошу тебя. Вопрос слишком серьезный.
— Мне нравится, когда ты беспокоишься обо мне.
Он сидел напротив нее. Отодвинув в сторону бутылку и графин, он взял ее руки и начал нежно поглаживать их пальцами.
— Я просто дурачился, — сказал он. — Прости. Конечно, я не пропаду, если мы разведемся. Но хочу сделать тебе признание…
Посмотрел вокруг, потом наклонил голову над тарелкой.
— Я не тороплюсь с разводом, — прошептал он, — потому что влюбился… в тебя. И думаю, это серьезно, Марилу.
Она побледнела. Руки оцепенели.
— Марилу! Малышка! Не надо так волноваться… На, выпей. Стакан бордо будет в самый раз. Ну, тебе лучше? Ты все воспринимаешь в трагическом свете, честное слово.
— Ролан… Я не хочу больше есть… Отвезите меня домой… Мне очень жаль, но я плохо себя чувствую.
Тем не менее она сделала усилие, чтобы проглотить кусочек пирога. А он старался успокоить ее, привести в чувство.
— Зря я это сказал. Надо было молчать. Но ведь ты не очень счастлива с Филиппом. У меня с Симоной тоже дела шли не очень хорошо. Встретились два неудачника… ну и вот.
От кофе Марилена отказалась.
— Умоляю тебя, Ролан… Поехали.
Она села, отодвинувшись от него подальше. Ролан резкими движениями вел машину, размышляя с полной откровенностью: «Она действительно мне симпатична. Красотой, правда, не блещет, довольно бесхитростна. Но она как чистая вода. Порядочна, что в наши дни редкость. И если честно, меня это возбуждает… Наследство в любом случае от меня не уплывет. Почему бы к тому же не заполучить эту девицу?»
Неожиданно на дорогу выбежала кошка с прижатыми от страха ушами. Ролан чуть повернул руль. Он привык наносить удары уверенной рукой. Послышался легкий толчок. Марилена сидела в забытьи, подняв вверх глаза, и ничего не почувствовала. «Когда я чего-то хочу, — думал Ролан, — я этого добиваюсь. А я ее хочу, эту маленькую дуреху. Чем я рискую? Она же не побежит жаловаться мужу. Не такая уж она идиотка». При въезде на бульвар он остановился.
— Ты злишься?
— Нет… Нет.
— Увидимся завтра?.. Марилу, не отказывай мне в этом. Я буду хорошо себя вести, очень хорошо.
Он поцеловал ее в висок и открыл дверцу.
— До завтра. Жду тебя здесь в одиннадцать часов.
Послал ей воздушный поцелуй. Марилена витала в облаках и поэтому рассеянно прошла мимо дома, потом вернулась назад. Она повторяла: «Он меня любит». Но это не имело никакого смысла. Она испытывала огромную радость или огромную боль. Она уже не понимала своих чувств. Считала и пересчитывала дни… Филипп вернется через четыре или пять дней. Так скоро! А потом… Нет, не стоит думать, что будет потом…
Три часа. Она очень глупо поступила, что не использовала этот вечер, ведь времени остается так мало. Почему? Если бы он проявил настойчивость, она пошла бы с ним куда угодно: к нему домой… в отель… Ведь она же Симона Жервен! Его жена! Его жена! Жена-кузина! Он сам сказал. Ей никак не удавалось вставить ключ в замочную скважину. А ведь она не пила.
Мария в кухне чистила овощи.
— Мадемуазель больна? У мадемуазель такой вид, что мне становится страшно.
— Немного болит голова. Как отец?
— Лежит. Он очень плохо себя чувствует. Сестра сказала, что нужно позвать врача. Меня это не радует, потому что завтра — мой свободный день, а у меня дела. Если мадам уйдет, не будет никого.
У Марилены сразу промелькнула мысль: «Я обещала. Никто не может отнять у меня Ролана… Ну что ж, тем хуже. Я все равно не останусь».
— А ваша тетя, мадемуазель, — продолжала Мария, — та, что недавно приходила… Может, она согласится заменить меня на один день.
— Да! Конечно! Это наилучшее решение.
Ролан не будет понапрасну ждать ее в конце бульвара.
— Мария, я сейчас напишу ей письмо. Отправите его пневматической почтой.
Она быстро набросала записку, потом нашла в справочнике телефон врача, жившего неподалеку. Позвонила ему, попросила его прийти завтра утром, спросила, не может ли он заодно осмотреть и ее.
Она остановилась перед зеркалом в гостиной. Осунувшееся лицо, горящие глаза. Но она смотрела на свое лицо как бы издалека, как на отражение совсем другого человека. Она зашла в комнату дяди. Он спал с открытым ртом, но губы прикрывали зубы, и от этого он казался мертвым. Может, он скоро умрет. Но чем же заняться сейчас? Ах да! Ящиками, сложенными в комнате для гостей. Она колебалась. Пойти и начать вскрывать их или не стоит? Марилена никак не могла сосредоточиться. Ей хотелось одновременно действовать и ничего не делать. Она чувствовала себя возбужденной и опустошенной.
В конце концов она вернулась в гостиную и, совершенно обессилев, села у окна. С Филиппом… она пыталась вспомнить… все началось так хорошо. Они танцевали, оба неловко, на балу, устроенном префектом. У нее разболелась нога, от него пахло одеколоном. Потом они еще несколько раз встретились, и дядя решил, что они любят друг друга. Так прекрасно быть женой, говорить: это мой муж, идти под руку с мужчиной, обедать вместе с ним, спать рядом с ним. Она привыкла к его телу, испытывала удовольствие от его объятий. Но никогда не задумывалась о том, счастлива ли она…
Время от времени проходил поезд, пригородная электричка, стучавшая на рельсах и возбуждавшая ненасытное воображение… Она старалась не думать о Ролане, чтобы уж совсем не стало плохо. Хотелось спокойствия, тишины и покоя. И в то же время завтрашнего дня она ждала с каким-то диким нетерпением. Вернулась Мария. Письмо она отправила. В шесть часов пришла сестра делать уколы. Старик пришел в себя. Он молчал, но его глаза неотступно следили за Мариленой. Сестра ушла, и он отказался есть.
— Мне кажется, он на нас обиделся, — сказала Мария.
Марилена так разнервничалась, что убежала к себе в комнату, чтобы дать волю слезам. Немного придя в себя, она начала размышлять, призвав на помощь все мужество, на которое была способна. Да, она должна увидеться с Роланом и уладить наконец этот вопрос с разводом. Это единственный правильный, честный выход. Она откровенно расскажет обо всем Филиппу. Он ей поможет. Это не только его долг, это и в его интересах. Надо вскрыть нарыв. Она уже видела ножи, лезвия, кровь. Она почувствовала, как ее убивают, видела, как ее зажимают в тисках, но сохраняла решимость. Она заставит Ролана позвонить при ней адвокату. Она тоже встретится с юристом. Предлога искать не надо, Симона его подсказала: беспрерывные поездки Ролана.
Она тщательно протерла глаза, подкрасилась и поужинала яйцом всмятку. Дабы показать Марии, что жизнь идет своим чередом, она заставила себя посмотреть телевизор. Когда начались политические дискуссии, задремала. Разбудили ее боли в ноге. Передача закончилась. Она выключила замолчавший телевизор и долго массировала ноги, чтобы восстановить кровообращение. «Вот что такое любовь, — подумала она. — Это какая-то мучительная тоска». Чтобы заснуть, она выпила две таблетки. «Если бы выпила целую упаковку, пришел бы конец». Но у нее оставалось всего лишь полдюжины таблеток, и это все равно ничего бы не решило. Она легла на кровать и погрузилась в сон, так и не найдя успокоения.
В восемь часов пришла тетя Ольга, и Мария быстро объяснила ей, что к чему. Ольга надела серый халат и принялась хлопотать, сначала в кухне, потом в комнате. Марилена открыла глаза, когда та пылесосила гостиную. Вскоре Ольга постучала ей в дверь.
— Симона, дорогая, не хочу тебе указывать, но пора посмотреть, не нужно ли чего брату. Покажи, как за ним ухаживать. Потом я сама разберусь.
— Тетя, а кто занимается твоими кошками?
— Никто. Еды у них достаточно… А что в этих ящиках в соседней комнате?
— Безделушки… сувениры с Реюньона.
— Ладно, вскрою их… Все приведу в порядок… А твой зять? От него есть вести?.. Я говорю о Филиппе. Ты как будто с неба…
— Ах да! Филипп… Нет… Должен вернуться на следующей неделе.
— Завтрак готов. Поторопись.
Они позавтракали на кухне, испытывая какую-то неловкость оттого, что сидят рядом, вместе пьют молоко, кофе и смотрят друг на друга, как через стеклянную перегородку.
— Спасибо, что пришла, — сказала Марилена.
— Когда я нужна, обо мне вспоминают.
Она никогда не успокоится. Прибежала сюда, чтобы окунуться в атмосферу беды, побыть рядом с умирающим братом, который хотел забыть о ее существовании. А ведь стоит только сказать: «Я не Симона…» Марилена смотрела на невзрачное лицо — морщины, зачесанные назад волосы, очки придавали ей сходство с мужчиной. Леу однолюбы. «И я тоже, — подумала она. — Я… Леу».
В дверь позвонили. Пришел врач. Действовал он быстро, оперативно, не говоря ни слова. Внимательно осмотрел больного, прочитал рекомендации профессора Меркантона, закрыл сумку и отошел от кровати.
— Меркантон — крупный специалист, — тихо сказал он. — Назначенный им курс лечения, безусловно, наилучший. Продолжайте его. Меня удивляет только состояние тревоги у вашего отца. Не испытал ли он недавно какое-нибудь потрясение? Разумеется, я не имею в виду катастрофу.
— Нет. Он ни с кем не встречается.
— И все же что-то его угнетает. Если б он мог говорить… но мне кажется, он окончательно потерял дар речи. Это довольно тревожный симптом. Думаю, рокового исхода можно ожидать очень скоро.
— Вы полагаете, что не стоит беспокоить профессора?
— Это совершенно бесполезно. Но если наступит ухудшение, сразу же вызывайте меня.
Ольга слушала, неподвижно стоя на пороге. Марилена провела врача в свою комнату и закрыла дверь.
— Теперь моя очередь, — сказала она. — Со мной тоже творится неладное.
Пока доктор прослушивал ее, измерял давление и маленьким молоточком проверял нервные рефлексы, она подробно рассказывала о катастрофе. Он кивал, хмурился.
— Пропал аппетит?
— Да.
— Бессонница?
— Засыпаю только со снотворным.
— По утрам принимаете возбуждающие таблетки?
— Да, часто.
— Знаете, что вас ждет? Настоящая депрессия. После катастрофы вам следовало бы хорошенько отдохнуть. К тому же здоровье у вас не очень крепкое. С сегодняшнего дня вам надо изменить образ жизни. Немного гимнастики, в разумных пределах. Два часа послеобеденного отдыха. Никаких визитов. Никаких переживаний. Диета. — Он выписал длинный рецепт. — Медсестра будет делать вам уколы… Давление у вас просто смешное… Слабое успокоительное… Зайду проведать вас на следующей неделе. Поверьте мне, вы должны отнестись к этому серьезно. Черные мысли не лезут в голову?
— Иногда плачу почти без причины.
— Вот видите! Пора подлечиться. Мне хотелось бы оградить вас от потрясения неизбежной потери… Если несчастье произойдет в ближайшее время, я дам вам адрес лечебницы. Уверяю вас, это вам будет необходимо.
Краем глаза Марилена смотрела на часы, стоявшие на столике у изголовья. Без четверти одиннадцать. Может, Ролан уже ее ждет. От нетерпения руки покрылись потом. Да, она постарается строго следовать его предписаниям, да, она будет очень осторожна… да, да… но сейчас пусть он уйдет… пусть оставит ее в покое… Она чувствовала, что ее улыбка превращается в механическую гримасу, что она вот-вот взорвется.
— Что он тебе сказал? — спросила Ольга, когда врач ушел.
— О! Говорил что-то о депрессии… Извини, тетя, мне пора уходить. Пообедаю в городе.
Под ее тяжелым взглядом Марилена смутилась.
— Если тебе понадобятся ключи, они висят в прихожей. Пойдем покажу… Видишь? Есть даже лишние, можешь их взять. Так что, когда еще раз придешь…
Она тотчас пожалела об этой слабости. Ольга, конечно же, не преминет воспользоваться приглашением. А поощрять ее визиты никак нельзя, это очень опасно. Но у нее не оставалось времени для размышлений! Она уже не знала, что хорошо, а что плохо. Вдруг стало не хватать Ролана, как воздуха задыхающемуся человеку. Тщательнее, чем обычно, она подкрасила лицо, пытаясь скрыть бледность. «Что он находит во мне приятного? — подумала она. — Я ведь даже не очень-то хороша собой. Не могу поддержать разговор. Больше того, я как будто его отталкиваю. Потащу его даже к адвокату». Она так торопилась, что порвала перчатку.
— До вечера, тетя, — крикнула она, уже выбежав на лестничную клетку.
Скорее бы пришел лифт. Но он громыхал где-то далеко наверху, и она спустилась пешком. Окинула улицу взглядом и увидела Ролана. Он ходил взад-вперед с сигаретой во рту, и все остальное сразу же забылось. Ей хотелось бежать ему навстречу. Сердце, во всяком случае, уже бежало.
— Здравствуй, Ролан. Я опоздала.
Он совершенно непринужденно обнял ее.
— Поедем пообедаем у Липпа, — предложил он. — Там ты увидишь знаменитостей. Политиков и литераторов. Это поможет тебе стать настоящей парижанкой.
И вот машина уже летит, как ветер, как ковер из сказки «Тысяча и одна ночь».
— Как поживает малышка Марилу?
Она смотрела на его профиль. Он красив. Ей хотелось прижаться к нему головой.
— Немного устала, — ответила она.
— А мой тесть?
Ее это позабавило. Стоит принять игру, отбросить заботы, угрызения совести.
— Твой тесть все так же. Если бы он тебя слышал!
Они рассмеялись как заговорщики. Она забыла об адвокате, о разводе. Войдя в ресторан, она машинально взяла его под руку. Ролан обменялся рукопожатиями с метрдотелем.
— Не успел заказать столик. Но надеюсь на вас.
Метрдотель повел их в глубь зала. По дороге Ролан приветственно помахал кому-то рукой.
— Вот тот брюнет, — объяснил он Марилене, — это Мерлен, с радио. А на краю диванчика сидит Модюи из газеты «Экип»… Справа, не оборачивайся… крупный деятель социалистической партии. Забыл его имя. Закажем, конечно, рагу. Расскажешь мне новости.
Он излучал жизнерадостность. Может, действовало освещение? Но в глазах у него, казалось, блистала нежность.
— Ты на меня сердишься за вчерашнее, Марилу? Я и правда влюбился, но это не должно тебя пугать. Как хорошо быть влюбленным! Там, на твоем острове, ты не могла этого постигнуть. Ну а здесь попытайся представить себе. Повторяй за мной: люблю… Это ни к чему не обязывает… Это может означать: люблю жизнь, люблю цветы, драгоценности, все красивое, все дорогое. Скажи: люблю.
— Люблю.
— Неплохо. Правда, немного робко. Слишком сжаты зубы. Но я тебя научу… Как тебе нравится «Сент-Эмильон»?[21] Вино ведь тоже кое-что значит… Ах! Марилу, малышка, нам давно надо было встретиться.
Она много пила. Трепеща от волнения, она впервые испытала момент, когда минута блаженства вот-вот превратится в незабываемое воспоминание. Даже когда из ее жизни уйдет Ролан, по крайней мере, в памяти останется эта встреча, и она старалась запомнить как можно больше деталей. Надо открыть душу, причем открыть нараспашку для всех впечатлений, разговоров вокруг, надо все сохранить в памяти: телефонные звонки, раздававшиеся иногда в окружающем ее шуме, хождение метрдотеля, которого Ролан называет Морисом и который вот сейчас склонился над ней, предлагая зажигалку, и прежде всего самого Ролана, улыбающегося, с ямочками на щеках, как у девочки.
— Поедем в кино, — решил он. — Свадебное путешествие без этого не обходится. Допивай кофе. А я пока позвоню.
Он удалился, а Марилена из чувства противоречия закурила сигарету. Курить она не любила. Закашлялась. Но ей хотелось показать Ролану, что она начинает усваивать его уроки.
— Ты ведешь себя вызывающе, честное слово, — воскликнул он, вернувшись.
Он помог ей надеть пальто. Она уже выходила, когда к Ролану подошел мужчина, чтобы поприветствовать его.
— Разве вы не в Женеве? — спросил Ролан.
— Лечу растяжение связок.
Ролан лукаво улыбнулся. Повернулся к Марилене.
— Бьорн Ларссон, — представил он.
Обратился к шведу:
— Моя жена.
Швед сдержанно, на немецкий манер, поклонился ей.
— Ну что ж, — сказал Ролан, — желаю удачи. Возможно, встретимся на Уимблдоне. Извините… Где вы остановились?
— В Пон-Рояле.
— Я вам позвоню.
Он увлек за собой Марилену. Она покраснела от смущения.
— Это уж слишком, — пробормотала она.
— Надеюсь, что нет.
— Он всем твоим друзьям расскажет, что ты женат.
— Прежде всего, у меня нет друзей. Только противники. И потом, нам ведь наплевать на сплетни, правда, Марилу?
Они приехали на площадь Одеон. Ролан остановил машину возле кинотеатра.
— Ты забываешь, что мы носим траур, — прошептала она.
Но он уже покупал билеты. Она вошла вслед за ним. Сеанс начался. Она даже не знала, на какой фильм они отправились. На ощупь нашли места, сели рядом так близко, что их руки соприкасались. На экране разворачивалась непонятная история. Мужчина и женщина там так грубо ругались, что она шепотом спросила:
— Что это за фильм?
— Тихо!
Женщина разделась, показалась ее голая грудь. Ролан сжал руку Марилены. Мужчина, все еще ругаясь, сдернул галстук, снял пиджак. Толкнул женщину на кровать, склонился над ней. Последовали невыносимые картинки крупным планом: лица, искаженные в экстазе, бешеные глаза, впивающиеся друг в друга губы. Музыка смолкла. Слышались только стоны обнявшейся пары. Ролан все сильнее сжимал пальцы Марилены. У нее уже пропало желание вырваться. Возмущаясь и соглашаясь, она закрыла глаза. Его руки ласкали ее в ритме вздохов, усиленных динамиками. Она потеряла ощущение времени, места. Превратилась в алчную покорность. Не сопротивлялась, когда Ролан прошептал ей на ухо:
— Ну!.. Поехали ко мне.
Самолет прилетает через три часа… через два часа… Если она хочет встретить Филиппа в Орли, надо отправляться сейчас… немедленно… Она уже даже опаздывает… Филипп начнет ее искать, удивится… Нет. Она не может. Где она найдет силы, чтобы подойти к нему, улыбаться ему, поцеловать его, ведь она больше ему не принадлежит. Лучше подождать здесь, дома… Она расскажет ему все, не пытаясь оправдываться. Она твердо решила это еще вчера, в тот момент, когда Ролан, остановившись в конце бульвара, наклонился к ней, погладил ей щеку и прошептал:
— Не забудь позвонить мне, дорогая. Мы все уладим, как только появится возможность. И держись!.. Пусть он ни о чем не догадывается!
Он открыл дверцу, задержал ее руку.
— Не делай глупостей, Марилу!
Но она уже знала, что видит Ролана в последний раз. Обернулась. Боже… как трудно даются простые вещи… помахать рукой, сказать «до свидания», выдавить улыбку, когда в глазах темно и еле стоишь на ногах… Он не отъезжал. Послал воздушный поцелуй. Роман заканчивался здесь, среди прохожих, рядом со студентом, раздававшим какие-то розовые листочки выходившим из метро людям. Наконец его большая машина исчезла. Марилена не спеша направилась к себе в тюрьму. Перед ней ветер гнал листовки, на которых она машинально читала крупные заголовки: «Требуем освобождения…», «Все в Общество взаимопомощи…». Ролан! С ним все кончено. Теперь начнется медленное угасание с человеком, не способным простить. Сопротивляться она не станет. Только так можно уберечь искру надежды. Она грезила о болезни, о лечебнице, об одиночестве, о тишине… Филиппу нужны деньги? Пусть забирает. Но ей больше никогда не придется метаться между Филиппом и Роланом, между Роланом и Филиппом. Она выбросит из жизни обоих. Она не создана для таких сильных сердечных и плотских потрясений. Плоть! Она вспомнила, каким тоном произносил это слово старый священник в пансионе, с каким омерзением, а возможно, и сожалением в голосе. Знал бы он, какое помрачение…
Единственный выход избавиться от наваждения — во всем признаться. Бессонную ночь она провела в размышлениях, пытаясь найти какое-то еще решение. Проще всего прямо сказать Филиппу: «Я полюбила другого. Давай расстанемся. Я выплачу тебе отступные». Любая женщина поступила бы так без колебаний. Ведь любовь прежде всего! Все теперь считают, что она стоит на первом месте. Ну и что? Что ее удерживает? Непонятно. Но она не способна предложить такую сделку. И потом, ей так долго внушали, что нельзя лгать, что надо честно признаваться в своих ошибках. И к тому же… по натуре она была прямодушной. Ничего не поделаешь. Филипп поймет все с первого взгляда.
Она мучила себя бессмысленными вопросами: «Мне стыдно?» Нет, это не то. «Мне страшно?» Опять не то. Выпила виски, пытаясь остановить ужасный калейдоскоп картинок, мыслей, колебаний, угрызений совести, сомнений, мельтешивших у нее в голове. Внезапно ее осенила потрясающая мысль. Уж не хочет ли она рассказать мужу все просто из хвастовства? Чтобы доказать ему, что она именно та женщина, которая вызывает у мужчин страсть? Или из мести? «Я вполне могу обойтись без тебя». Или по расчету: «Ты не смеешь злиться». Эта мысль привела ее в ужас. Нет, Филипп не вынесет предательства. Он захочет выяснить, где живет Ролан, чтобы… отомстить ему, убить его… «Боже, сделай так, чтобы они никогда не встретились».
Она вспомнила о медали, которую ей подарил Ролан. Она лежит в сумочке, вместе с ключами, пудреницей… А ведь Филипп там роется, когда ему нужны деньги. Надо немедленно избавиться от нее и от писем Ролана к Симоне… Она разорвала письма, подержала немного медаль в руке, не решаясь бросить ее в мусорное ведро, как ничтожный кусок обычного металла. Ладно, она отошлет ее Ролану почтой. Он поймет. Остался еще один час… Она мысленно строила фразы: «Филипп, я должна с тобой серьезно поговорить…»; «Филипп, ты совершил ошибку, оставив меня одну…»; «Филипп, случилось что-то ужасное…». Но ведь Филипп не знает о существовании Ролана. Ей придется рассказать ему все, начиная с посещения мэрии и кончая безуспешными попытками уговорить Ролана развестись. Но у нее никогда не хватит сил дойти до конца своей истории. А если отложить разговор на потом? Если остаться в постели? Ведь она больна. Недаром же врач выписал рецепт. Она выиграет несколько дней, подождет подходящего момента… Она садилась то в одно кресло, то в другое, привычно бросая взгляд на кровать, где дремал дядя. Марию она отпустила на весь день. Их ссору никто не услышит.
По мере того как шло время, ее возбуждение все возрастало. Она ходила от своей комнаты к прихожей и, стоя за дверью, прислушивалась к передвижению лифта. Еще рано, но если дорога свободна, то такси может приехать сюда с минуты на минуту, а она не приняла никакого решения. Она была уверена только в одном: она поговорит с ним! Филиппу тоже придется взять на себя ношу. И нести за двоих. Для этого он и существует.
Она наблюдала за улицей из окон гостиной, когда Филипп с шумом открыл входную дверь и бросил чемодан на пол.
— Эй! Это я!.. Симона! Ты дома?
В этот момент ее как будто озарило, что он стал чужим для нее человеком. Столько угрызений совести из-за ничего! Как все это глупо. Она подошла к нему, подставила щеку.
— Я ждал тебя в аэропорту, — сказал он. — Ты больна?
— Просто устала… Все хорошо?
— Прекрасно. Уладил там все дела… Как наш старик?
— Плохо. Приходил врач… Думает, что скоро конец.
— Ну ладно… Я бы чего-нибудь поел.
— Марии нет.
— Обойдемся без нее.
Он прошел в кухню, открыл холодильник, достал разрезанную на куски курицу и бутылку белого вина. Он производил обычные для мужчины шумы: передвигал посуду, мыл руки, наполнял комнату своим присутствием, и она уже не слушала, что он говорит… дом продан… он разругался с компанией… Она смотрела на его волосатые руки, широкую спину. Хотелось сделать ему больно. Он сел за стол. Он грыз куриную ножку, которую держал перед ртом, словно зубную щетку.
— Видела бы их рожи, когда я заявил об уходе.
Он не замечал, что глаза у нее покраснели от бессонницы, а лицо осунулось от отчаяния.
— Я хотела поговорить с тобой о Ролане, — тихо произнесла она.
— О Ролане?
— Да, о муже Симоны. Симона была замужем. Я узнала это из свидетельства о рождении.
Она думала, что эта новость сразит его. Но он просто удивился, не переставая жевать ни на минуту. Она нанесла новый удар.
— Я с ним встретилась.
На этот раз он положил ножку на тарелку и скрестил руки.
— Что все это значит?
Теперь уже она пришла в ярость, сжав руками спинку стула, как оградительный поручень.
— По твоей вине, — закричала она, — из-за этой дурацкой затеи я оказалась замужем!
Чтобы добить его, она добавила:
— Если хочешь знать, я переспала с ним. В конце концов, я имею на это право.
Ну вот! Дело сделано. Она освободилась, но все произошло не так, как она предполагала. Филипп долго вытирал рот полотенцем, и молчание становилось невыносимым.
— Я в курсе, — проговорил он наконец. — Я его знаю, нанес даже ему визит до отъезда. Не надо больше играть в прятки.
— Ты с ним встречался?.. Но… как…
— Он мне позвонил.
— И ты мне ничего не сказал?
— Ты тоже.
— Но у меня были на то причины… Я хотела… не знаю уже, чего хотела… Филипп, все это нелепо.
Она обессиленно опустилась на стул, закрыла руками лицо и разрыдалась. Филипп подошел к ней, провел по волосам своей шероховатой ладонью.
— Ты его любишь?.. Конечно любишь… У тебя не хватило сил… Я должен был об этом догадаться… Какая сволочь! Он ведь тебя охмурил, правда? Но не сказал тебе о том, что предложил мне… Мне он предложил разделить наследство старика… Поровну… В противном случае он нас разоблачит.
Марилена подняла голову и недоверчиво на него посмотрела.
— Да. Вот что он задумал, доблестный Ролан. И чтобы вывести меня из игры, взялся за тебя. Думаю, это ему далось легко. Встречи, рестораны, развлечения… Самое смешное, он тебя поимел за твои же деньги. Он ведь расплачивался из тех двух тысяч франков, которые вытянул из меня. Должен признать, что человек он расторопный.
У него осип голос. Он сильно ударил кулаком по столу.
— Я разобью ему морду. Если он думает, что…
— Филипп! Прошу тебя!
— А ты! Ты не лезь в это. Он хочет устроить драку. Он ее получит.
— Я больше не стану с ним встречаться.
— Надеюсь.
— Филипп! Прошу тебя, прости. Я осталась одна… Если бы ты был рядом…
— Теперь я рядом. И клянусь, он не замедлит это почувствовать.
— Вы оба меня убиваете, — простонала она. — Я больше не могу. Ты разве не видишь, что я еле стою. Филипп… успокойся… Мне жаль… Мне так жаль, если б ты только знал.
Он обхватил ее лицо руками, склонился над ней.
— Я такой, какой есть, — прокричал он. — Я тоже делал ошибки. Согласен. Но я не олух… Сейчас ты пойдешь со мной… Мы ему позвоним… прямо сейчас… пусть он знает, что мы договорились, ты и я, и что шутки кончились.
Она позволила отвести себя в гостиную и усадить в кресло. Филипп снял трубку.
— Какой у него номер?
— Медичи 54–33.
Он набрал номер, протянул ей трубку, сам взял параллельную.
— Ты не хочешь поговорить сам? — пробормотала Марилена.
— Потом. Сначала ты.
— Алло, — ответил Ролан. — Жервен у телефона.
— Ну же, — прошептал Филипп. — Чего ты ждешь?
— Это я, — выдавила Марилена.
— А! Привет, дорогая… Рад тебя слышать… Как дела? Твой летчик вернулся?.. Все прошло нормально?
Марилена увидела, как у Филиппа побелели пальцы, сжимавшие трубку. Она беспомощно посмотрела на него.
— Не слишком к тебе приставал? — продолжал Ролан. — Еще бы! Десять дней без тебя! Мы не встречались только одни сутки… даже меньше… мне уже не хватает тебя. Хочу признаться в одной вещи, о которой не говорил ни одной женщине… Я в тебя втрескался. Звучит, может, грубо, но это так… Не могу больше обходиться без тебя.
Марилена положила трубку на колени, подняла к Филиппу несчастное, изможденное лицо, дала ему понять, что не в состоянии произнести ни слова. Филипп взял трубку, поднес ее к виску, как пистолет.
— Алло! — кричал Ролан. — Марилу… Я тебя не слышу… Алло, отвечай… Когда мы встретимся?.. Устроить несложно. Филиппа всегда можно перехитрить. Скажешь, что пошла по магазинам…
Филипп силой вложил трубку в руку Марилене.
— Черт побери! — прошептал он. — Не можешь говорить, так попытайся, по крайней мере, послушать, что тебе говорит он.
— Алло… Мне кажется, ты не одна. Скажи…
— Нет, — отрезал Филипп. — Она не одна. Я тоже здесь.
Наступило короткое молчание, затем в трубке раздался смех Ролана.
— Прелестно, — проговорил он. — Рогоносец и изменник! Признай, что это забавно. Значит, она тебе все рассказала? О, знаешь, не надо делать из этого трагедию.
— Мерзавец!
— Извини, извини. Кто все это начал? Кто задумал это милое маленькое жульничество? И не моя вина, что Марилена стала женой нам обоим. Согласен, возможно, мне не следовало бы… Но ты тоже не святой, старина. Поэтому советую заткнуть рот и все забыть. В противном случае сам знаешь, что нас ждет.
— Тем хуже. Ты не получишь ни гроша.
— О нет! Не надо угроз. Я ведь спокоен. А ты такой же, как я: дело прежде всего. Гнев ведь прошел, да?.. Конечно, все встанет на свои места. Вот еще что: не вымещай злость на Марилене. Она-то уж честна!
Он повесил трубку. Филипп со злостью отшвырнул телефонный аппарат. Прошелся по комнате, пиная ногой ковер. Потом остановился перед Мариленой и неожиданно встал перед ней на колени.
— Марилена… Ну…
Она лежала без сознания, перевалившись через подлокотник.
Через два дня умер Виктор Леу. Он вдруг резко почувствовал себя хуже. Срочно вызванный врач констатировал отек легких. Марилена не отходила от него, но думала больше о Ролане. Пыталась убедить себя, что ее самым гнусным образом обманули, и все же… «Мадемуазель скоро сама сляжет», — причитала Мария.
Изредка появлялся Филипп. Пытался казаться предупредительным, но Марилена чувствовала, что он затаил злобу. Он теперь навсегда останется оскорбленным и будет всячески выставлять это напоказ. Нет никакого решения, никакого выхода, никакой лазейки. Марилена держала руку старика, и ей казалось, что она умирает вместе с ним. К вечеру дыхание у него стало ровнее. Он повернул к ней голову, слабо улыбнулся, в мутных глазах появились проблески жизни. Слабо, но совершенно отчетливо произнес:
— Марилена!
Она не ответила, и он повторил:
— Марилена… Позови Симону.
Она не смогла удержаться от слез, и, возможно, именно поэтому он вдруг все понял. Приподнялся, опираясь на локоть, посмотрел на нее с каким-то ужасом, откинулся назад, как будто хотел исчезнуть.
— Она умерла, — проговорил он таким ясным голосом, что для нее он прозвучал как приговор. И больше не двигался. Слышалось только его хриплое дыхание. Марилена поняла: она только что убила его. Закричала:
— Филипп! Иди скорей!
— Мсье Филиппа нет дома. Что случилось?
Мария сразу обо всем догадалась, бесшумно подошла к постели и перекрестилась. Для нее встреча со смертью была привычным делом. Она медленно провела рукой по серому лицу и закрыла ему глаза. Потом помогла Марилене встать и увела ее из комнаты старика.
— Мы с мсье Филиппом все сделаем сами. Мадемуазель надо отдохнуть.
Марилена потеряла представление о времени. Она жила как будто во сне наяву. Филипп заходил к ней посоветоваться насчет гроба, цветов, места на кладбище, телеграмм, которые надо отправить на Реюньон, обо всем. Она отвечала: «Да», «Да» — и снова принималась плакать. С трудом сбросила с себя оцепенение, когда Филипп показал ей телеграмму, только что полученную из Сен-Пьера:
«Скорблю, узнав о смерти. Искренние соболезнования. Прошу указать парижского нотариуса для пересылки завещания Виктора Леу. Наилучшие пожелания.
Брежон»
— Это нотариус дяди, — пояснил Филипп. — Один из его друзей, я ему тоже сообщил. И правильно сделал — оказывается, у него хранится завещание… Марилена, проснись, черт возьми! Говорю же тебе, что существует завещание… Понимаешь? Что из этого следует? У старика была единственная дочь. Она наследует автоматически. Никакого завещания не надо. Что же еще состряпал этот старикан?
Марилена не пыталась даже задавать вопросы. В этот момент она думала о Ролане. Чем он сейчас занимается? Может, возит другую женщину в этой красивой машине? Придется ли ей еще с ним встретиться? Внезапно он предстал перед ней, улыбающийся, элегантный, более осязаемый, чем Филипп, перечитывавший телеграмму, и она поняла, до какой степени он ей необходим. Только Ролан может ее успокоить, объяснить, что она ничуть не виновата в смерти дяди. Протерла глаза, пытаясь отогнать образ, на который она больше не имела никакого права.
— Есть же поблизости какой-нибудь нотариус, — сказала она. — Тот или другой, какая разница.
Филипп взорвался.
— Но боже мой, я же не Симона Леу. Это дело придется улаживать тебе.
— Тогда потом.
— Нет. Прямо сейчас. Хочу знать, что в этом завещании… И как можно быстрей.
Он принес телефонный справочник, пробежался по списку нотариусов.
— Вот! Мэтр Пюше… улица Ампер… В двух шагах отсюда. Сейчас позвоню ему.
— Как хочешь.
Он набрал номер.
— Мэтр Пюше? Не вешайте трубку.
Он протянул аппарат Марилене.
— Сама знаешь, что нужно сказать. Я пошел. Надо предупредить Ольгу. О ней-то я как раз забыл.
Он вышел из комнаты, а она начала объяснять ситуацию адвокату. Тот записал, просил уточнить некоторые детали. Утомительно до смерти.
— Вы замужем?
Как удар в сердце.
— Да.
— На каких условиях?
— Совместного владения.
— Фамилия мужа?
— Жервен.
Она повторила по буквам. Каждая из них олицетворила день счастья или мучений.
— Разумеется, вы вместе с мужем придете ко мне в контору. Я вас вызову, как только получу все необходимые документы.
Какая радость! Она с ним встретится!
— Я дам вам его адрес, — сказала она. — Сейчас я живу в квартире отца.
На пороге появился Филипп, жестом попросил не класть трубку. Подбежал на цыпочках и прошептал:
— Я тоже хочу присутствовать на встрече. Скажи ему…
Она прижала трубку к груди и совершенно растерялась.
— Там же будет Ролан… Вы же не можете… оба…
— Скажи ему.
— Алло… А мой зять… Филипп Оссель… вы разрешите ему тоже прийти?
— Если хотите, мадам, у меня возражений нет. Постараюсь все сделать как можно быстрее, но раньше чем через неделю не получится. Спасибо, и еще раз примите мои соболезнования.
Она положила трубку.
— Филипп… Мы с ним… вы оба… и я рядом… Нет. Не надо.
— Боишься, что мы поскандалим? Не волнуйся. Мы объяснимся потом. Я уж найду способ прижать его. Деньги, за которыми он охотится, проходят через меня, ясно? И клянусь, ему придется ползать на коленях, вымаливая их… На коленях!
Ольга появилась в тот самый момент, когда принесли гроб. Посмотрела на него с отвращением.
— Сейф какой-то, — процедила она. — Он что, унесет с собой все свои деньги?
Кончиками губ она поцеловала Марилену, потом Филиппа.
— Могли бы сообщить мне пораньше. Тогда бы я не пришла с пустыми руками. У меня, правда, нет денег на цветы. Да ему это и ни к чему.
Она долго не выходила из комнаты. Шевелила губами. Молилась? Или пережевывала долгий список обид?
Хоронили на Пер-Лашез, где в большом склепе покоилась семья Леу. Они все трое стояли отрешенно, с сухими глазами. Ольга беспокойно озиралась вокруг, и лицо у нее передергивалось, когда среди могил мелькал силуэт голодной бездомной кошки. В какой-то момент она даже отошла на несколько шагов, чтобы поговорить с белой ангорской кошкой, сидевшей на мраморной урне. Распорядитель дал каждому по гвоздике, и они бросили цветы в могилу. Филипп взял Ольгу под руку.
— Пошли, тетя.
— Как грустно, — прошептала она.
— Хорошо хоть он не страдал перед смертью.
— Я не о том думаю.
Дома Марилена почувствовала себя плохо. Ей пришлось лечь.
— Я позабочусь о ней, — решила Ольга. — Мария мне поможет. Бедный Филипп, вы очень преданны, но ваше место не здесь. Есть вещи, которые вы не можете сделать для Симоны. Единственное, о чем я вас прошу, — два раза в день отвозить меня домой. Я должна кормить моих малюток.
У Марилены уже не было сил возражать. Под действием успокоительных она впала в дремотное состояние, перед глазами проплывали бессвязные картинки… голубой автомобиль… Ролан — ах да, Ролан… Он не проходимец, я его знаю… Он просто слабый… Не злой… Дядя, извини… Так хотел Филипп… Я тоже слабая…
Иногда она открывала глаза. Часто видела перед собой Филиппа. Тот ее успокаивал:
— Не волнуйся. Все устроится. Видишь, дядя умер, так ничего и не узнав. Как только уладим дело с наследством, уедем. Поедем в Лозанну. Начнем новую жизнь. Отдыхай.
Через неделю ей стало лучше. Но она все равно страшилась встречи у нотариуса. Когда он ее вызвал, чуть снова не слегла. Филипп обещал ей, что будет держать себя в руках.
Когда они пришли, Ролан сидел уже в приемной. Они холодно поприветствовали друг друга, потом Ролан подошел к ним.
— Не стройте из себя идиотов, — сказал он. — Нам надо разыграть спектакль. Так что давайте сыграем его прилично.
Лицо Марилены покрывала смертельная бледность. Она не могла без дрожи смотреть на Ролана.
— Ты войдешь первой, — шепнул ей Ролан. — Я за тобой, а потом Филипп. Извини, но по-другому нельзя.
Дверь открылась, и нотариус пригласил их в кабинет. Они ожидали увидеть настоящего нотариуса — чопорного, степенного. А перед ними стоял молодой человек спортивного вида, которому не терпелось перейти к сути дела. Поэтому процедура оказалась короткой. Они расселись полукругом перед его столом.
— Я получил завещание Виктора Леу, — сказал нотариус.
Он вынул из конверта документ.
— Текст короткий… «Вот мое завещание. После моей смерти все мое имущество, движимое и недвижимое, перейдет к дочери, Симоне. Если же она умрет раньше, моя племянница Марилена Оссель, урожденная Леу, становится моей единственной наследницей, дабы состояние, нажитое тяжелым трудом, не расползалось. Составлено в присутствии мэтра Брежона в Сен-Пьере на Реюньоне…» Я получил письмо от мэтра Брежона, где он пишет, что это завещание составлено за несколько часов до отлета Леу и что оно делает недействительным прежнее завещание, в котором не упоминалась мадам Оссель. Впрочем, теперь это не имеет значения, поскольку мадам Оссель погибла… Что касается общей суммы наследства, то она еще не подсчитана, но, по сведениям мэтра Брежона, она очень большая. Я все оформлю как можно быстрее. Если вы мне дадите ваше брачное свидетельство…
Ролан выложил его перед нотариусом. Голова у Филиппа пошла кругам. Он размышлял. Завещание меняет все. Марилена жива, и она единственная наследница. Это легко доказать. Достаточно вызвать мэтра Брежона и еще какого-нибудь другого свидетеля, они ее опознают. Вся эта история, конечно, наделает шума. Последует судебное разбирательство, наверняка их привлекут к ответственности. Ну и что! Марилена ведь официальная наследница, и Ролан уже не сможет кичиться своим брачным контрактом. Симона умерла раньше своего отца.
Ролан в этот самый момент подумал, видимо, о том же, ибо он повернулся к Филиппу. Они обменялись взглядами, полными смертельной ненависти. Филипп любезно улыбнулся. Адвокат встал, чтобы их проводить. Филипп открыл дверь перед Роланом.
— После тебя, прошу.
В тот вечер в гостиницу Филиппу позвонил Ролан.
— Извини, старина. Надеюсь, я тебя не отвлекаю от чего-нибудь важного? Так вот, я, видимо, приму приглашение участвовать в соревнованиях… Алло!
— Я слушаю, — ответил Филипп, размышляя. Наглости этому типу не занимать. Ладно, пусть говорит.
— Я должен дать ответ в течение суток. Если вы оба так настаиваете, я уеду… но мне надо помочь.
— Издеваешься?
— Нет же. Я хотел бы только с тобой встретиться. Потом приму решение. Ситуация изменилась, но мне не привыкать.
«Сдаешься все-таки, — подумал Филипп. — Ты у меня в руках, сволочь!»
— Сейчас десять часов, — продолжал Ролан, — где ты предпочел бы встретиться? У меня? Или в каком-нибудь кафе, на нейтральной территории?
Он рассмеялся. Филипп, почувствовав, как его переполняет презрение, чуть не начал хамить.
— Что, если на площади Терн, в «Ля Лоррен»? От тебя в двух шагах. Буду ждать внутри — на улице прохладно…
— Договорились.
— Тогда до встречи.
Филипп не мог прийти в себя.
Ведь должен же Ролан понимать, что проиграл окончательно. Причем сам виноват. Если бы не соблазнил Марилену, еще существовала возможность договориться. А теперь… Он не получит ни гроша. «Раздавлю его, — подумал Филипп. — Как червяка. Посмотришь, как я тебе помогу».
Через четверть часа он добрался до площади Терн. Дул ветер. Движения почти не было. Он пересек площадь и вошел в кафе. Ролан уже ждал его с дружеской и приветливой улыбкой на лице. Протянул Филиппу руку, и тот почти помимо воли пожал ее.
— Что будешь пить? Коньяк? Официант, два коньяка… Да, старина! Какое потрясение! До сих пор не могу опомниться после этой истории с завещанием… Сам понимаешь, поэтому я и попросил встретиться… Знаю, между нами произошла небольшая размолвка на сентиментальной почве… Ну и что? Не станем же мы делать из мухи слона… Думаю об этом с самого утра. У меня к тебе предложение.
— Бесполезно, — проговорил Филипп. — Я умываю руки. Завтра же напишу прокурору республики заявление, что Симона погибла в Джибути и что Марилена…
— Глупо. Ты посчитал, сколько потеряешь?
— Не собираюсь считать.
— Да? И все же… В одном случае ты получаешь все, разумеется при условии, что Марилена не воскреснет. В другом… подожди, дай мне закончить… наследство переходит к Марилене, но поскольку она племянница, то налоги съедят пятьдесят пять процентов общей суммы или что-то около этого… В конечном счете ты получишь не больше того, что отошло бы тебе по нашей договоренности.
— Мне все равно.
— Черт возьми! Ты зол на меня до такой степени?
Официант принес коньяк. Какое-то время они хранили молчание.
— Но, — проговорил наконец Ролан, — я ведь прошу необязательно половину…
Подождал, наблюдая за реакцией Филиппа, как за игроком в покер, взявшим новую карту.
— Все равно нет, — ответил Филипп.
Ролан притворился, что не слышит.
— Понимаю, — продолжал он, — половина — это много. Ведь в конце концов, заниматься всем придется тебе… вложение капитала, использование процентов, в общем, неблагодарный труд… Согласен на одну треть… В этом случае тебе достается приличная сумма.
— Нет.
— Ты меня разоряешь, — рассмеялся Ролан. — Ладно… Дай четверть. Я не привередлив.
— Не получишь ни трети, ни четверти.
— Это твое последнее слово? Надеюсь, ты знаешь, какие неприятности тебя ждут с правосудием. Присвоение чужой личности — это очень серьезно.
— Не твое дело.
Филипп наклонился к Ролану, он уже не мог сдерживать себя.
— Теперь я понимаю, почему Симоне так хотелось отделаться от тебя. Она очень быстро увидела, что ты… просто мелкий вымогатель.
— Не будем преувеличивать, — невозмутимо ответил Ролан. — Мое предложение остается в силе. Оно вполне разумно и дает вам возможность избежать судебного процесса. Прошу тебя, передай его жене. Решать ведь не тебе, а ей. Официант… Сколько с меня?
Небрежным жестом он отказался от сдачи.
— Тебя подвезти? Машина стоит у входа.
— Нет, лучше пройдусь.
Филипп встал. Ролан ухватил его за рукав.
— Помнишь поговорку? — сказал он. — Утро вечера мудренее. Позвони завтра утром. И не забудь: я прошу четверть. Это подарок.
Филипп резким движением освободил руку и вышел на улицу. Ролан закурил сигарету. Посмотрел в стоящее перед ним зеркало. «Да, парень, — пробормотал он, — вот ты и остался не у дел».
Филипп шел быстрым шагом. Он начал подводить итоги и остался доволен. Старик умер. Состояние само плывет в руки. Того, что останется после уплаты налогов, ему хватит с головой. Но главное… главное… С Роланом покончено — он уже не сможет сделать ничего, ничего. Слава богу. А если он еще посмеет приставать к Марилене, тогда что ж, он без колебаний набьет ему морду. И сделает это с огромным удовольствием.
Почти пустынная улица уходила в ночь. Лишь изредка проезжали машины. Сейчас парижане рано ложатся спать. Филипп вспомнил время, когда в этот час по тротуарам прогуливались толпы народа. Он дошел до улицы Ниель и, не глядя на светофор, начал переходить пустое шоссе. Шум двигателя, ревевшего на полных оборотах, заставил его вздрогнуть. Слева от него вдруг появилась машина. Ему захотелось броситься прочь, а в голове пронеслось: «Это он!» Внезапно зажглись фары, ослепившие Филиппа, как кролика, выбежавшего на проселочную дорогу. От удара правым крылом его бросило на капот, потом он скатился на мостовую и больше уже не шевелился, растянувшись в пыли осколков стекла, отсвечивавших то красным, то зеленым цветом, и так до бесконечности…
На следующее утро Марилене без особых церемоний сообщили о случившемся. Полиция провела чисто формальное расследование и пришла к выводу, что произошел несчастный случай. Для Симоны Леу Филипп Оссель был всего лишь зятем. Но ее первый припадок никого не удивил. Врач лично отвез Марилену в лечебницу, о которой говорил раньше.
В течение недели она пребывала вне окружающего ее мира, вне себя самой, в каком-то растительном состоянии. Потом мало-помалу к ней начала возвращаться память, и воспоминания, словно яд, просачивались в ее сознание. Она вспомнила о катастрофе, о Ролане, о гибели… и все это нахлынуло на нее сразу, но врач-невропатолог смягчил потрясение с помощью успокоительных средств, ненавязчивой заботы и дружеских бесед, внушая ей, что она не так уж несчастна, как ей кажется. Прежде всего, ей не надо беспокоиться о квартире — по счастью, у нее очень преданная служанка, которая следит за всем. И потом, она окружена вниманием… Женщина по имени Ольга, назвавшаяся ее теткой…
— Да, это моя тетя, — подтвердила Марилена.
Так вот, эта женщина звонит почти каждый день. Она сделала все необходимое для похорон господина Осселя. В этом отношении все в порядке. Доктор продолжал доверительным тоном:
— Муж тоже думает о вас. Постоянно спрашивает о вашем здоровье. Мне показалось, что между вами произошла какая-то размолвка… Нет, не говорите ни слова… Меня это не касается… Но вам полезно знать, что он очень тревожится с тех пор, как вы здесь.
Марилена обдумывала эти слова. Ролан действительно ее любит или просто хочет воспользоваться ситуацией, складывавшейся теперь в его пользу?
— Мне очень жаль. Но я пока не могу разрешить вас посещать, — продолжал врач, — и вы должны понять, что это в ваших интересах. Сейчас вам намного лучше, но вы еще очень слабы. Думаю, вы никогда не отличались крепким здоровьем. Если я вас выпишу слишком рано, ваше состояние будет целиком зависеть от малейших волнений… Так что потерпите немного.
Сон, отдых, тишина постепенно возвращали Марилене силы и в то же время приводили мысли в порядок. Времени для размышлений у нее было предостаточно, и само собой возникало подозрение, что смерть Филиппа не случайна. Очень уж странно все совпало: утром нотариус вскрыл завещание, объявляющее ее наследницей, а вечером Филиппа сбивает какой-то лихач. Уж не сидел ли за рулем той машины Ролан?.. А зачем Ролану?.. Причин хватает. Ролан ненавидел Филиппа. В определенном смысле они обладали равными правами на одну и ту же женщину и на наследство. Ситуация сложилась противоестественная.
Марилена не спеша прогуливалась по аллеям парка. То там, то тут срывала цветок. Ролан — он сам в этом признался — живет в кредит. Ему очень нужны деньги. Не думал ли он — возможно не раз, — что стоит избавиться от опасного соперника? Марилена остановилась перед прудом, посмотрела на красных рыбок, ощупывающих поверхность воды толстыми губами. Мысленно прочертила две колонки. Слева Филипп. Справа Ролан. Посмотрим… Что двигало Филиппом, ведь он тоже не просто так старался. Прежде всего, им руководило желание отомстить Ролану. Значит, как можно быстрей порвать навязанную Роланом чудовищную договоренность. Значит, рассказать правду, ведь только правда позволила бы ему вернуть жену и состояние… Устремления Ролана были диаметрально противоположными… Помешать Филиппу рассказать правду и тем самым не дать ему возможности отомстить… ликвидировать его… и затем, по логике… Марилене пришлось сесть. Дальше идти уже не было сил. По логике… да, именно так… теперь он примется за нее. Для него она представляет почти такую же опасность, как и Филипп. Ведь в любой момент она может написать властям, объявив, что она не Симона… О, разумеется, с ней он покончит не сразу. Ведь ему известно, что он все еще имеет над ней большую власть. «Так ли это? Имеет ли он надо мной большую власть?.. Если представить, что он сейчас появится в конце аллеи…» Она повернула голову в сторону входа в парк и увидела его. Он шел к ней легким, непринужденным шагом. Сорвал розу, протянул ей цветок. Она уколола палец, а он принялся зализывать рану. Боль пронзила ее до самого сердца. Она побледнела и провела рукой по лицу, отгоняя видение.
Вечером сестра, видя ее взволнованное состояние, прочитала ей нотацию. Наконец Марилена задремала, повторяя во сне: «Нет-нет, не надо…» Неожиданно она проснулась, вытерла полотенцем потное лицо, снова откинулась на подушку… «Когда-нибудь, — подумала она, — он убьет и меня…» Долго лежала с открытыми глазами. По вискам текли слезы, терявшиеся где-то в волосах. Что же делать? Рассказать все врачу? Но лечебница — неподходящее место для подобного рода безрассудных признаний. При первых же ее словах, как только она скажет: «Я не Симона Жервен, я Марилена Оссель», врач начнет жалостливо качать головой. Поэтому надо молчать. Улыбаться. С аппетитом есть… И потом, может, она ошибается. Нет никаких доказательств, что Ролан убил Филиппа. Возможно, это просто бредовая идея. Мало-помалу у нее укоренилась мысль, что сама она не в состоянии разобраться в этой истории, что она одновременно судья и подсудимый и что только совершенно беспристрастный посторонний человек — но не врач — способен принять какое-то решение.
Беспристрастный человек? А почему бы не Ольга? Она ухватилась за эту мысль, словно утопающий за соломинку. Ольга так обрадуется, узнав, что ее малышка Марилена жива! Возможно, обидится, что ее обманули, — надо сделать скидку на ее характер, — но быстро успокоится, когда поймет, что Марилена о ней всегда помнила. Да, Ольга! Ольга позаботится о ней. Ольга с мужской хваткой проведет бракоразводный процесс. Но в любом случае правду ни за что нельзя раскрывать. Иначе придется предстать перед судом, вся эта грязная история появится в газетах. Филипп решился все рассказать, видимо, только для того, чтобы уничтожить Ролана. Марилена же чувствовала, что у нее не хватит на это сил. Но… пусть Ольга выберет лучшее решение. Марилена понимала, что не может жить одна, что она постоянно нуждается в чьей-нибудь поддержке. Филиппа больше нет, остается Ольга. А если бы не было Ольги… Марилену охватил страх… Без тети Ольги один выход.
Доктор разрешил посещения. Но Марилена отказалась. Сказала ему, что между ней и мужем не все гладко. Ей не хочется с ним встречаться, пока она не почувствует себя достаточно окрепшей. Она примет решение, когда выйдет из лечебницы. Призналась, что думает о разводе.
— Я вам не советую разводиться, — сказал врач. — Во всяком случае сейчас. Вы только что оправились от депрессии. Не стоит рисковать вновь. Через несколько дней я вас выпишу, но не стану скрывать, что вас еще долго будут подстерегать опасности. А развод — как раз такая вещь, которая может окончательно вас сразить. Хотите, я поговорю с вашим мужем?
— Ни в коем случае. Мне нужна помощь тети. Она подбирает бездомных кошек. Может и меня приютить. Одной кошкой больше, одной меньше!
Они рассмеялись, и проблема вроде бы решилась. Наконец Марилену выписали. На такси она доехала до дома, где ее встретила шумными проявлениями радости Мария. Но в этой слишком большой и безмолвной квартире ей сделалось не по себе. Она сразу же приняла решение, сказала Марии, что предоставляет ей недельный отпуск, а сама временно поживет в гостинице, в другом квартале… Может, она снова поселится в «Паласе». Изменив образ жизни, она надеялась изменить свои мысли.
Пока Мария одевалась и собирала чемодан, она бродила из комнаты в комнату, как по музею. Она стала сиротой, вдовой, ее все покинули, у нее нет имени и своего очага, на ней грузом висит богатство, с которым она не знает, что делать. Возможно, ей больше ничего не остается, как переезжать из одной гостиницы в другую, словно праздной и неврастеничной американской старухе. Мария пришла попрощаться с ней.
— Надеюсь, мадемуазель хорошо о себе позаботится. Оставшиеся деньги на кухне.
— Возьмите их себе, Мария. Спасибо вам.
Марилена услышала звук закрывающейся двери, спускавшегося лифта. Зачем ждать? Надо немедленно идти к Ольге. Она вышла из дома, на ходу репетируя исповедь. С чего начать? С рассказа о катастрофе? Да, вероятно. Это проще всего. Но у нее нет ни малейшего доказательства, удостоверяющего, что она действительно Марилена. Она взяла такси и всю дорогу безуспешно пыталась разрешить проблему. А если Ольга скажет: «Хватит врать. Чего ты добиваешься?», как она сможет ее переубедить? Такси остановилось, и она чуть было не попросила водителя ехать дальше. Но все-таки она вышла из машины — желание покончить со всем этим оказалось сильнее. Она пережила уже столько испытаний! А это не самое страшное!
В садике прогуливались пять или шесть кошек. Они подозрительно на нее посмотрели.
— Тетя! — крикнула Марилена, перед тем как войти в дом. — Тетя! Это я.
Она остановилась в прихожей. Вокруг нее засверкали глаза. Кошки рассматривали чужака, оторвавшего их от своих дел или ото сна.
Две из них убежали в сторону кухни.
— Тетя!
В комнате никого, если не считать растянувшегося на столе огромного котища. Ольгу Марилена нашла на кухне.
— Тише! — прошептала Ольга.
Она сидела в старом кресле и гладила серого кота, неподвижно лежавшего у нее на коленях.
— Он умирает, — проговорила она. — Ты пришла некстати… Такие вещи должны происходить без свидетелей.
Она пыталась говорить твердым голосом и как бы отрешенно, но голос звучал хрипло, как у заядлого курильщика. Марилена почувствовала себя лишней. Кот лежал с закрытыми глазами, с поднятой над зубами губой. Время от времени резкими движениями он подергивал задними лапами.
— Ну, ну, — шептала Ольга. — Я здесь… Не бойся.
Ее склонившееся лицо излучало нежность.
— Теперь уже недолго, — устало произнесла она. — Садись, Симона. Видишь, я не могу встать… Тебе лучше?
Вопрос она задала с вежливым безразличием. Марилена отвечать не стала. Она ошиблась… выбрала не тот день, не тот час, не того человека. Ольга — совершенно чужой человек. Теперь Марилена смотрела на нее с каким-то отвращением. На этажерке глухо тикал старый будильник. Из клапана скороварки с грязными краями вылетала струя пара. Стоял запах супа и аптеки.
— Ты сделала ему укол? — спросила Марилена, нарушив наконец ставшую невыносимой тишину.
— Нет, — ответила Ольга. — Мужества мне не занимать, но только не это. Я пользуюсь препаратом, который мне дал ветеринар.
Она жестом показала на тюбик с таблетками, наполовину вылезший из картонного футляра.
— Это одновременно яд и снотворное. Совершенно безвкусные таблетки и очень быстро растворяются. Добавляю в молоко, и они пьют. Действует очень быстро.
Она еле заметно пошевелила ногами, как будто укачивая животное, ощупала голову, бока.
— Ну что ж, — проговорила она, пытаясь скрыть волнение, — кажется, конец.
Поднесла кота к лицу. Прижалась лбом к его голове. Марилена сделала шаг назад.
— Куда ты? — спросила Ольга, не отрывая лба от головы кота. — Останься. В конце концов, может, ты пришла как раз вовремя. Так тяжело их убивать… Даже если знаешь, что им не выжить…
Она опустила кота на колени, на несколько секунд задумалась, потом, положив его в картонную коробку, стоящую наготове под столом, с усилием поднялась. Закрыла коробку, перевязала ее, как ценный груз.
— Могила уже вырыта, — сказала она. — Хочешь, пойдем со мной?.. Нет?.. И не надо. Ты что-то не блестяще выглядишь.
Клейкой лентой она закрепила узлы и края крышки.
— Кстати! Тебе надо показать место, где похоронен твой зять. Это довольно сложно объяснить. Одной тебе не найти. Я тебя провожу.
— Тетя… Я хотела…
— Да, конечно. Поблагодаришь меня потом. Видишь, как они меня сторонятся… Чувствуют смерть. Не подходят.
— Тетя… я не об этом…
— Возьми вон там букетик… Я обычно кладу цветы… Может, выглядит смешно, но это уж мое дело.
Марилена пошла за Ольгой на крошечное кладбище. Цветы, могила, коробка… эта нелепая старуха… а вокруг подъемные краны, стены домов, враждебное небо… Не с кем обменяться не то что словом, а просто взглядом… Ольга забросала землей узенькую траншею, утрамбовала ее лопатой, положила букетик, молча постояла.
— Видишь, Симона…
Обернулась. Рядом никого не было.
«Никакого характера, — подумала она. — Брат ее слишком избаловал».
Вернулась в дом в сопровождении двух мяукавших кошек. На кухне никого, в комнате никого. Почему она сбежала? Ну и ладно. Никуда не денется… Ольга выключила газ, поискала упаковку с таблетками. Они исчезли. Сомнений не оставалось. Их унесла эта идиотка. Зачем они ей? Может, упали на пол? Поискала, но не нашла. Ей стало страшно. Она знала, какой это яд. Симона только что вернулась из лечебницы. И вполне способна… Она унесла все, не только таблетки, но и картонный футляр с фамилией и адресом ветеринара. А это может навлечь на Ольгу большие неприятности. Быстро оделась. Она выложит ей всю правду, этой Симоне… поговорит с ней так, как она того заслуживает. Дурочка!.. «Дочь стоит своего отца, — подумала она. — Они приносят мне сплошные неприятности!»
— Так вот, господин Жервен, — сказал судебный следователь, — вы избрали совершенно абсурдную линию защиты. Изложим вкратце суть дела, и вы сами убедитесь, если трезво взглянете на вещи, что все говорит против вас. Вы женились на Симоне Жервен, наследнице значительного состояния, в то время как сами имели доход только от игры в теннис, и не хочу вас оскорблять, но…
— Согласен, — сказал Ролан. — Я зарабатываю все меньше и меньше. Ну и что?..
— Не перебивайте меня, прошу вас. В контракте записано, что ваш брак заключен на особых условиях, называемых совместным владением. А это означает, что все принадлежавшее жене отходит вам. И что же происходит? Вашу жену находят мертвой. Она отравилась? Согласно протоколу вскрытия, она приняла около дюжины таблеток, содержащих довольно редкий компонент, что само по себе уже странно. Не оставила записки, как обычно поступают самоубийцы. И еще любопытная деталь — стакан, из которого она пила, тщательно вымыт. Не логично ли сделать вывод, что это не самоубийство, а убийство? В таком случае кто дал ей выпить содержимое стакана? Разумеется, кто-то из очень близких людей. Из тех, кто имел право заботиться о ее здоровье, ухаживать за ней… кого она принимала…
— Клянусь…
— Допустим… Это не вы… Но вот что мы узнали от Марии, служанки покойной. Мадам Жервен, судя по всему, была любовницей Филиппа Осселя, вашего свояка…
— Совершенная нелепость!
— Об этом говорят факты. Мария не раз видела их обнимающимися. Кроме того, манера разговоров, поведения — все это не оставляет ни тени сомнения. Если бы господин Оссель не стал жертвой прискорбного несчастного случая, он бы смог это подтвердить и тем самым показать, что ваша жена отнюдь не намеревалась покончить с собой. Но вот ведь как: господин Оссель очень кстати исчезает. И крайне любопытное совпадение — на вашей машине следы недавнего столкновения. Правая фара разбита, правое крыло помято…
— Но, — возразил Ролан, — вы сами должны понимать, что если бы я был виновен, то немедленно бы ее починил. В таком состоянии я обнаружил ее на улице. Кто-то задел ее, маневрируя. Такое случается каждый день.
— Если бы вы сразу же ее починили, то полиция очень быстро вышла бы на вас, ведь она наводила справки в ремонтных мастерских, и вам это прекрасно известно. Вывод: вы убили соперника, который мог бы стать опасным свидетелем, а потом отравили жену, чтобы завладеть состоянием.
— Неправда! — воскликнул Ролан. — Моя жена только что вышла из лечебницы. Вы забываете, что за несколько недель она потеряла кузину, отца, зятя Филиппа… Она находилась еще в состоянии нервного потрясения и вполне могла…
— Нет, господин Жервен, нет. Все это дело являет собой единое целое. Вы убили Осселя, потом жену. Для вас это стало необходимостью. Признайтесь. От этого вы только выиграете. Если будете продолжать запираться, получите по максимуму… а это может увести вас далеко… Хорошенько подумайте, господин Жервен.
— Подумайте, — сказал мэтр Бодуэн. — Следователь прав. Если начнете отрицать, тогда как все говорит против вас, присяжные решат, что вы совершили два убийства ради денег. В этом случае я ни за что не отвечаю. Вы рискуете головой… Если же признаетесь, но объясните это ревностью… появляется шанс, большой шанс. Судите сами, вот несчастный, из любви согласившийся жить вдалеке от жены, скрывать свой брак как что-то постыдное, всячески унижаемый, и вдруг он узнает, что жена, ради которой он жертвует карьерой, изменяет ему. И с кем?.. С мужем своей кузины, погибшей меньше месяца назад! Господа присяжные! Могу утверждать, что любой мужчина на его месте… и т. д. и т. п. Схватываете? Эту тему легко развить… У нас появятся смягчающие обстоятельства, и вас осудят, скорее всего, на минимальный срок… Наследства, разумеется, вы не получите. От жертвы не наследуют, вы должны это знать. Но по крайней мере, сохраните жизнь, даю слово.
У Ролана раскалывалась голова. Он устал все время думать. Слишком уж глупо признаваться в преступлении, которого не совершал. Марилена покончила с собой. Ему это хорошо известно, поскольку он ее не убивал. Но если он скажет правду, если докажет, что Симона погибла в Джибути, а Марилена выдала себя за нее, будет еще хуже! Филипп станет самим собой: мужем Марилены, а не ее любовником. И он уже не сможет играть на чувствах, строить из себя обманутого мужа. И опять встанет вопрос о мотиве убийства, о единственном, о подлинном: о деньгах. А выдавать одного человека за другого — вообще какая-то темная история! Общественное мнение явно ополчится против него. Почему он принял участие в этом мерзком жульничестве? Разумеется, из корысти. Прокурору не составит труда доказать, что все дело — просто сведение счетов между соучастниками. Поэтому лучше представить себя благородным человеком и заявить: «Да, я потерял голову. Хотел отомстить!»
Ролан устал. Он отказался от борьбы.
— Ладно, — сказал он мэтру Бодуэну. — Признаюсь. Это до крайности несправедливо, но признаюсь.
Ему хватило сил, чтобы улыбнуться.
— Проиграл в финальной партии, — добавил он. — Пора выходить из игры… И надолго…
Ольге нравится бывать на Пер-Лашез. Она часто туда ходит. Теперь она там обрела свою семью. И потом, она обнаружила, что на этом кладбище соединены все прелести природы. Оно утопает в цветах, как парк, и непостижимо, как лес, где, бродя по полным таинственности тропинкам, неожиданно выходишь на солнечные и безмолвные поляны. На деревьях щебечут птицы. Время от времени из-за какого-нибудь надгробия появляется гибкая тень, проскальзывает между деревьями, останавливается, выжидая. Тихим голосом, стараясь не нарушать покой мертвых, Ольга подзывает: «Кис-кис-кис…» Она нашла стоявший немного в стороне и потихоньку разрушавшийся памятник — ржавый, замшелый, забытый. Толкнешь обветшалую дверь склепа и оказываешься в глубокой нише, недосягаемой для посторонних взглядов. Можно осторожно сесть на трухлявую скамеечку. Ольга приносит с собой корзинку с кусочками мяса, поджаренными рыбками. Теперь ей можно тратить столько, сколько захочется. Она богата. Очень богата, но образ жизни пока менять не осмеливается. Ей немного страшно. Кошки хорошо ее знают. Они сбегаются отовсюду, одним прыжком перемахивая через аллею, трутся о ее ноги. Мурлычат так громко, что от ног как будто отражается какой-то странный шум, как приглушенный шепот, наполненный благодарностью. Пищу она раздает поровну, самых настырных шлепает по носу, подзывает самых робких и только что подбежавших, в нерешительности стоящих у входа, вытянув шеи.
Когда запасы кончаются, она вытирает руки тряпкой, лежащей на дне сумки. Потом встает и долго прогуливается, время от времени пытаясь разобрать надписи, напоминающие, что вокруг нее лежат поэты, ученые, знаменитые военачальники. Но она не поддается игре воображения. Ее собственная история дает гораздо больше пищи для размышлений. Она вспоминает Симону. До чего же скрытная особа! Сумасшедшая! Настоящая Леу! Скрывала от всех, что замужем. Этого Ольга простить ей не может. Какое лицемерие! Какая недоверчивость! Ольга не раскаивается, нет. Когда она пришла на бульвар Перейр — ключи у нее, по счастью, были, — Симона уже приняла яд. Она тяжело дышала, лицо покрылось потом. Лежала без сознания. Что ей оставалось делать? Вызвать врача? Может, Симону успели бы спасти? Ольга не хочет об этом думать. Зачем копаться, выискивать побудительные мотивы? Какие мотивы? Она забрала картонную упаковку, где был указан адрес ветеринара. Протерла стакан, до которого нечаянно дотронулась. В последний раз посмотрела на Симону. Если ей так хочется умереть, в конце концов, это ее дело. Ольга удалилась, как тень. Себя она оправдывает тем, что тогда многого не знала, о чем ей стало известно впоследствии. Ею двигала не просто корысть. Она не отдавала себе отчет, что становится наследницей племянницы или, вернее… Если быть до конца честной, она об этом догадывалась — ведь она… она остается последней из рода Леу. Конечно, в глубине души она все прекрасно понимала. Не случайно ее охватила с головы до ног дрожь при известии о замужестве Симоны. Дура! И к тому же на условиях совместного владения… Она отреагировала точно так же, как отреагировал бы брат, если бы узнал… Вероятно, в этом-то и кроется истина. Ольга не может не признать, что, несмотря на все обиды, она повела себя как настоящая Леу. Она сохранила фамильное достояние. Эта мысль ее умиротворяет. Все становится на свои места.
По дороге она останавливается у некоторых могил, усыпанных цветами, как алтарь. То тут, то там поправляет цветочные горшки, осыпающиеся букеты. Она возвращается на аллею, ведущую к фамильному склепу. Когда-то, еще не скоро, она тоже будет лежать здесь. Она останавливается. Она не читает молитву, но дает брату обещание использовать наилучшим образом эту кучу денег, из которой она может черпать, сколько ей вздумается. Ведь на свете столько несчастных животных! Потом думает о Симоне. Почему именно она избежала смерти в катастрофе! Если бы Марилена осталась жива… Как счастливо они зажили бы вдвоем! С чувством, идущим из глубины сердца, шепчет:
— Как жаль, что ты была не Марилена!
Проказа
La Lèpre (1976)
Перевод с французского Н. Световидовой
Само собой разумеется, все наши персонажи вымышленные и были выбраны нами в силу необходимости — для развития сюжета. Зато исторический фон этого романа таков, каким сохранился в нашей памяти.
Б.-Н.Глава 1
Я хотел написать тебе длинное послание, мой дорогой Кристоф, но понял, что перейду всякие границы. А между тем ты непременно должен дочитать это до конца. Я собираюсь принять важное, очень важное решение. И хочу, чтобы ты знал его мотивы. Я не сомневаюсь в твоем расположении ко мне. Знаю даже, что ты всегда восхищался мною. Если бы для выражения этого чувства существовало более простое слово, я охотно употребил бы его, чтобы не смущать тебя, ибо ты не любишь громких фраз, как, впрочем, и я сам. Не правда ли, мы ведь всегда были настоящими товарищами — сдержанными, ненавязчивыми, как и полагается мужчинам. Но пришла пора сказать все как есть, и я хочу поведать тебе правду, всю правду об Арманде, обо мне, а может быть, и о тебе.
Поверь, мне это нелегко сделать. Ты думаешь, например, я не знаю, почему ты уже не раз рисковал своей жизнью? Да потому что не хочешь, чтобы тебя считали человеком, которому покровительствует депутат Марк Прадье. Тебе кажется, мой маленький Кристофер, что ты передо мной в неоплатном долгу. Ты стараешься доказать, что вполне достоин того, кто был — позволим себе еще раз громкое слово — героем Сопротивления. И потому ты вызываешься на самые опасные задания. Не стоит отпираться: мне об этом прекрасно известно. Сколько еще месяцев или лет продлится алжирская война? Насколько я тебя знаю, ты не упустишь случая залезть в самое пекло и в любой момент можешь погибнуть. А этого я не хочу никоим образом. И потому решил полностью тебе открыться. Если в результате ты перестанешь уважать меня, что ж, значит, я не напрасно потрачу время. Ты поймешь, что твоя жизнь стоит дороже моей и что ее необходимо спасти. Возможно даже, ты будешь счастлив не носить больше моего имени!
На этих страницах не раз будет повторяться имя Оливье Плео. Я заранее знаю, что ты по этому поводу думаешь: «Ну вот, опять Плео! Да ты ведь его убил! Не будем вспоминать о нем. Это старая история!» Нет, Кристоф, все не так просто. Мне необходимо рассказать тебе все с самого начала.
В 1944 году тебе было десять лет. Ты еще не очень хорошо понимал, что происходит вокруг. Я как сейчас вижу тебя: бледный, печальный, пожалуй, даже тщедушный мальчик. «Маленький сиротка», — шептали за твоей спиной в замке. На тебя обрушилось слишком много несчастий. И тебе было не до того, чтобы всерьез интересоваться окружающими людьми. Жюльен был для тебя чем-то вроде управляющего, а Валерия — старой доброй кухаркой, которая баловала тебя как могла. Арманда?.. Но всему свой черед, мне еще не раз придется вспомнить о ней. Словом, ты жил своей жизнью, сам по себе. Ты был маленьким чужаком, которого война забросила к нам, и тебе все еще было страшно. Ты глядел на нас, не понимая толком, что происходит, мы казались тебе странными, потому что были похожи на персонажей приключенческого романа. В замок приходили таинственные люди. О чем-то тихо шушукались. Однажды ты спросил меня: «Чем они занимаются?», а я не решился ответить: «Воюют!», чтобы не напугать тебя еще больше. Мы старались держать тебя в стороне от наших забот, от наших мучений. Поэтому и теперь, спустя тринадцать лет, ты так и не знаешь, кем мы тогда были! Образы реальной действительности подменили в твоем сознании лубочные картинки. Люди для тебя делились на хороших и плохих после всех этих ужасных лет. Тебе довольно узнать, что мы были на стороне хороших. Ты никогда не стремился к большему, а мы… По правде говоря, мы хотели забыть. В особенности я! Однако я обнаружил, что моя память, послушная моей воле, запечатлела все и все сохранила, словно я снял на кинопленку события, которые должен теперь тебе рассказать. Опишу все подробно. Потому что именно подробности имеют значение. Кто-то может осудить меня. Кто-то — оправдать. Но для меня главное — что скажешь ты.
Если бы мой рассказ предназначался широкой публике, мне следовало бы начать так: «Все решилось 1 января 1944 года или, вернее, 31 декабря 1943 года, незадолго до комендантского часа». Но прежде чем продолжать, необходимо выяснить, каким в ту пору я был. Так вот, видишь ли, я был отчаявшимся человеком. Знаю — тогда все были такими, потому что войне не предвиделось конца, потому что мы голодали и холодали, потому что… впрочем, что тут говорить. В то время все жили ненавистью. Но я впал в отчаяние по другой причине: я потерял женщину, которую любил. Да, до Арманды была другая женщина. Ее звали Эвелина.
Я познакомился с ней в сорок втором году в Париже. Она училась в консерватории. Мы обедали, если можно назвать это обедом, в одном маленьком ресторанчике на улице Святых Отцов. Я не стану рассказывать, чем была для меня эта связь. Знай только, что в двадцать четыре года я был еще очень наивен, как это часто случается с молодыми людьми, единственными спутниками которых в дни юности были книги. Бедствия сорокового года оказалось мало, чтобы заставить меня повзрослеть. Я все еще был во власти Фукидида и Тита Ливия, не понимая истинного размаха событий. Едва успев демобилизоваться, я снова с головой ушел в учение. Экзамены — вот на чем были сосредоточены все мои помыслы. А потом вдруг неожиданно появилась Эвелина — пылкое увлечение, безумная любовь. Ты, конечно, вряд ли можешь себе представить Париж того времени. У нас не было ничего, одни лишения. Мы тыкались в будущее, словно птицы в прутья клетки. Любовь заменяла мне хлеб и вино, она воплощала для меня сладость жизни и забвение всего остального. Я даже не могу сказать, была ли Эвелина красива. Я просто не думал об этом. Я читал ей стихи Аполлинера, она отвечала мне репликами Федры или Андромахи. Мы потеряли голову. Пал Севастополь. Пал Тобрук. Сдался Коррехидор. По всей планете гремела победная поступь захватчиков. А мы, как только выдавалась свободная минута, бежали в кино, в театр. Я был похож на азартного игрока, который не желает знать, что скоро наступит утро.
А между тем я чувствовал его приближение. Эвелина строила планы, от которых холодело сердце. Она делала это ради забавы. И еще для того, чтобы поддержать слабый огонек надежды, у которого так сладостно было греться. Но для меня в этих планах не оставалось места. Однажды я сказал ей: «Давай поженимся!» — «А как же моя карьера, — возразила она, — об этом ты не подумал?» Разумеется, нет, об этом я не думал. Я представить себе не мог, что Эвелина может жить вдали от меня. Ведь для меня любовь означала женитьбу. Ты, верно, улыбаешься, читая эти строки. У вас и теперь все по-другому: у молодых офицеров вошло в обычай коллекционировать любовные приключения, да ты и сам рассказывал мне о своих шалостях. Я же терял голову при одной мысли, что когда-нибудь Эвелина предпочтет мне свое ремесло. А между тем это-то как раз и случилось. О! Все произошло совсем просто. Она вошла в ресторан, села напротив меня.
— Марк, у меня потрясающая новость.
Я сразу сжался. Боль от раны я почувствовал прежде, чем был нанесен удар.
— Дюллен заметил меня. Он собирается дать мне небольшую роль… А ты как будто и не рад этому!
Я слабо запротестовал.
— Просто я удивлен. Но это и в самом деле большая удача… для тебя.
Она не заметила моего смятения. Ей так много всего хотелось сказать, что она забывала есть. Я как сейчас вижу стоявшее между нами блюдо со шпинатом, который начал остывать. Дюллен чудесный актер… Как чудесно будет работать вместе с ним… Все было чудесно… Я уже не слушал ее. Я прислушивался к себе. В душе моей царила неразбериха: обида, упреки теснили мне грудь, мне было стыдно самого себя, но я не мог отмахнуться от них… Я обещал тебе полную откровенность. Так вот, я ревновал. Эвелина станет звездой, а я так и останусь безвестным преподавателем. Это было невыносимо. К тому же я чувствовал, как горло мое сжимается от подступивших слез. После обеда — хотя ни один из нас так и не притронулся к шпинату, — выйдя на улицу, я старался не прикасаться к ней: меня всего трясло.
— Вечером увидимся? — спросил я.
— Нет, сегодня нет. Мне надо выучить текст. Давай встретимся завтра.
Каждое новое слово возводило преграду меж нами. Впрочем, преграда — это громко сказано, достаточно было легкого щелчка, чтобы сокрушить ее. Если бы я был великодушнее… Если бы она была не так эгоистична…
Мы расстались на площади Одеон. Я отправился в Люксембургский сад. Вот там-то мне довелось испытать то чувство, которое я только что, быть может, несколько высокопарно назвал отчаянием. Я вдруг отчетливо осознал полнейшую абсурдность всего окружающего. Любовь была глупостью, война — тоже глупостью, да и вся жизнь — сплошная глупость. А сам я оказался лишним, вроде сартровского Рокантена. На другой день я пошел обедать в студенческую столовую. В течение последующих дней я старался избегать Эвелину. Если бы ты был тогда рядом со мной, то наверняка хлопнул бы меня по плечу и, по своему обыкновению, сказал бы: «Папа, ты, как всегда, преувеличиваешь! Из мухи делаешь слона!»
Увы, мой маленький Кристоф. Я всегда отличался чрезмерной чувствительностью, как все, кто много болел в детстве. Я не раз попадался на этом. А что касается Эвелины, то наша размолвка длилась, конечно, недолго. И все-таки я уже не мог быть таким, как прежде. Порой в моих словах проскальзывала горечь, которая ее раздражала. Она упрекала меня за то, что я ходил грустный, со смехом называя меня «Папашей Печальником». Я познакомился с некоторыми из ее товарищей. Кое-кто из них потом прославился. Они приводили меня в замешательство своим задором, своим жизнелюбием, уверенностью в себе. Эвелина была из того же теста, что и они. И вполне естественно, что они оказывали на нее большее влияние, чем я. Я принадлежал к породе жалких учителишек, а она к созвездию Гончих Псов. Это-то я и попытался объяснить ей однажды вечером с притворным равнодушием, что вывело ее из себя. С той поры и пошли у нас раздоры: чтобы вызвать их, достаточно было пустяка. Одна из наших ссор мне особенно запомнилась. По совету своего преподавателя Эвелина работала над ролью Гермионы, голос у нее был низкий, и она в совершенстве владела им. Однако что-то легковесное, легкомысленное, столь свойственное ей, лишало стихи Расина присущей им звучности. Держа в руках книгу, я пытался поправить ее.
— Нет, — говорил я, — не так. Ты декламируешь. А это совсем не то. Гермиона не может снести упреков. Она восстает. Представь себе, что это мы с тобой ссоримся. Боже мой, неужели ты не помнишь, как это делается!
…Но и любви моей Привычка сетовать, как видно, вам милей.[22]Начни сначала. И не забудь про запятую после «сетовать».
Она швырнула текст мне в лицо.
— Хватит, надоели мне твои запятые вместе с тобой. Ничтожество!
Три недели мы с ней не виделись. Дальше не стоит рассказывать. Прошли годы, а мне все еще больно от этих воспоминаний! Ты, конечно, понимаешь, что разрыв был неизбежен. Он произошел без всяких всплесков в первый день конкурса перед зданием Сорбонны. Эвелина молча шла рядом со мной. Наверное, подыскивала слова, которые бы не так больно ранили меня.
— Я не говорю: до вечера, — молвила она в замешательстве. — Марк, вечеров больше не будет… Мы такие разные… Давай расстанемся друзьями.
Я молчал. Значит, это сию минуту. Здесь, на этом перекрестке, Эвелина уйдет из моей жизни. Сейчас я увижу, как она уходит навсегда. Расставания всегда травмировали меня. Но тут я почувствовал, что умираю. Эвелина приподнялась на цыпочки и коснулась губами моей щеки.
— Я ведь очень тебя люблю, — прошептала она.
— Эвелина!
Она улыбнулась, отступила назад, помахала рукой. И вскоре исчезла из моих глаз. Совершенно больной, я вынужден был уйти из аудитории во время письменного экзамена по латыни. Я провалился — из-за нее. Все надо было начинать сначала… сочинения, темы… Еще год тянуть лямку… целый год сгибаться под тяжестью невыносимой скуки… и сколько лет потом тащить груз безысходной тоски и одиночества!
Но… как же война, оккупанты? Я смел жаловаться, когда в каждой семье, или почти в каждой, числился пленный или погибший и ежедневно полнился список расстрелянных! Подожди! Видишь, я пытаюсь разобраться, а все это так далеко! Ну, прежде всего, из моих мало кто пострадал. Они даже ухитрялись зарабатывать в своей аптеке и довольно легко находили пропитание. Район Брива всегда славился достатком. К тому же мой отец, как многие другие в том краю, был скорее на стороне Виши, и письма, которые он переправлял мне оттуда, исполнены были благоразумных советов. Он неустанно напоминал мне, что в Париж я приехал работать. Понимаешь, я был его единственным сыном, его надеждой, его гордостью, едва ли не смыслом его жизни. И все же, держа перед тобой ответ, я снова и снова задаюсь вопросом. Если бы не Эвелина и не мои родители, выбрал бы я сторону тех моих товарищей, которые ступили на путь борьбы? Не думаю. В ту пору моим духовным учителем был Ромен Роллан. Хотя я и не помышлял сравнивать природу схватки, над которой он хотел возвыситься, с нашей войной. Я осуждал войну в целом. Случай, думалось мне, поставил нас в условия нейтралитета — этого и следовало придерживаться. Разумеется, я выбрал свой лагерь, но тут не было никакого противоречия. Я выбрал его из чисто сентиментальных соображений. Победа союзников — тогда еще достаточно неопределенная — вернет нам свободу, но это им надлежало завоевывать ее. Мы сделали, со своей стороны, все возможное. Спрашивать с нас более того они не имели права.
Таковы примерно были мои рассуждения. Однако я не заметил, что, скрываясь в башне из слоновой кости, я тем самым выбирал на деле рабство. Все это стало мне ясно лишь потом. А в сорок втором и даже в сорок третьем не вызывал сомнений только открытый грабеж, а все остальное, и в особенности ужас концентрационных лагерей, мало кому было известно. Столько ходило непроверенных слухов! Я же изо всех сил трудился в своей плохо отапливаемой комнате. Посылки, которые мать присылала мне теперь из Брива, позволяли мне как-то держаться. Зато я ужасно страдал из-за отсутствия сигарет. В июле сорок третьего я с честью выдержал экзамены. Мне следовало бы испытывать некоторую радость. Но я, обессиленный, напротив, впал в меланхолию, и ничто не могло вывести меня из этого состояния.
Отвращение мое еще усилилось каникулами. Я чувствовал себя никому не нужным, чтобы не сказать отверженным. Месяц я провел в Бриве, выслушивая сетования моей матери и выводившие меня из себя умствования отца. Затем я вернулся в Париж, где мог проводить свое время в библиотеках. Меня одолевали смутные мысли о диссертации, зародившиеся в то время, когда я работал с Эвелиной. Разумеется, о Расине написано уже немало, но мне грезился новый ракурс, который дал бы возможность пролить свет на то чувство обреченности, что незаметно подтачивает страсти, так великолепно описанные им. А кроме этого, я таким хитрым способом вновь обретал Эвелину: воспоминание о ней порой с такой силой накатывало на меня, что просто дух захватывало. К концу лета я получил назначение в Клермон-Ферран.
Это суровый город, думаю, ты с этим согласишься. Его осеняет тень мертвого вулкана, возвышающегося над ним: зимой оттуда доносится ледяное дыхание ветра, а в июне низвергаются гром и молния. Я поселился в старинном здании, расположенном неподалеку от вокзала. По счастью, моя хозяйка избавляла меня от тысячи мелких забот, отравляющих обычно жизнь холостяка. Я даже кормился у нее: благодаря родственникам, у которых в районе Амбера была своя ферма, она могла доставать овощи, а иногда и мясо. Лицей ты, верно, помнишь, ты сам учился там в течение двух лет, пока не заболел осенью 1943 года, так что мне нечего тебе о нем рассказывать. Скажу только, прежде чем приступить к описанию той самой новогодней ночи, что преподавательская деятельность разочаровала меня. А я-то предавался наивным мечтам. «У тебя будут ученики, — говорил я себе, — и твое существование обретет смысл. Все вокруг говорят о строительстве новой Франции, и ты на своем месте можешь стать хорошим строителем». А мне дали пятый класс, мои ученики мало что знали, и мне пришлось впрягаться в безрадостный труд: склонение, спряжение… Я-то думал приобщить молодое поколение к искусству классиков, к поэзии, а приходилось вдалбливать одно и то же изо дня в день отпетым сорванцам. Учительскую сотрясали подспудные распри, ибо там, как и всюду, существовали яро враждующие кланы. Я держался в стороне от всего этого, ибо мне представлялось очевидным, что наша общая судьба решалась в ином месте, далеко от нас, на равнинах России или на берегу Средиземного моря. Поэтому споры наши казались мне бессмысленными.
— Ну, старина, далеко же ты забрался!
Примерно это я услышал бы от тебя сейчас, если бы ты был рядом со мной. Что верно, то верно, я начал издалека, откуда шел такими сложными путями, потому-то и прошу тебя: потерпи. Если я стану торопиться, то сразу же собьюсь.
Итак, наступило 31 декабря. Было очень холодно. И все-таки я согласился пойти в гости к одному из своих коллег, превосходно игравшему на фортепьяно. Комендантский час должен был наступить в полночь, поэтому я мог не торопиться и спокойно вернуться домой. Уверяю тебя, я и представить себе не мог, что меня ждет. Вообрази праздничный вечер зимой сорок третьего года — знаешь, что это такое? Жили мы в жестокой нужде. Носили старую, изношенную, чиненую-перечиненную одежду, похожую на лохмотья бродяг. Нищета была страшная. Уж не знаю, ценой каких темных махинаций и хитрых уловок жене моего коллеги удалось добыть нечто вроде лепешки, с виду вполне съедобной, и неплохое белое вино. Мы сели за стол. Пили за мир и для приличия обменивались крайне сдержанными пожеланиями, ибо говорить о здоровье, успехе и счастье в ту пору, когда траур стал нашим повседневным уделом, было едва ли не святотатством. Мой друг играл Шопена. Потом мы долго говорили. Вместе разглядывали карту Европы, висевшую на стене в его кабинете. Вермахт оставил Курск, Орел, Харьков, Смоленск. Его войска медленно отступали под натиском маленьких красных флажков, прочертивших линию с севера на юг. Другие флажки — английские, французские, американские — теснятся на побережье Африки, в Сицилии и даже в самой Италии. А посреди Корсики трехцветный флажок побольше, чем другие.
Мой коллега указывает пальцем на центральную часть Франции.
— На будущий год они будут уже здесь, — говорит он.
— Дай-то Бог, — шепчет его жена.
Пора уходить. Я кутаюсь в старый шарф. Надеваю перчатки с рваным пальцем. На улице — ночь и безмолвие. Снег, выпавший несколько дней назад, засыпал дома, так что улицы с трудом можно различить. На небе полно звезд, в их блеске есть что-то зловещее — так всегда бывает, когда столбик термометра падает слишком низко. Я чувствую себя таким одиноким, бессильным, меня пронизывает печаль и холод. Время от времени я замечаю чью-то торопливо бегущую фигуру. В ту пору каждый боялся собственной тени. Я начинаю спускаться к вокзалу, и тут меня обгоняет машина, затормозившая сотней метров дальше. Открывается дверца. Какой-то человек останавливается возле входа в гараж, наверное, ищет ключи.
И в это самое мгновение решается моя судьба, причем это не громкие слова. Выбери я другую улицу или пройди здесь пятью минутами раньше или позже, и меня миновала бы длинная череда испытаний и тревог. Какой-то велосипедист проносится мимо и резко тормозит возле машины. Раздается выстрел, я вижу его вспышку. Человек, стоявший у входа в гараж, падает. Второй выстрел. Я инстинктивно кинулся вперед. Велосипедист, заслышав меня, петляя, тронулся с места, все убыстряя ход, и наконец исчез. И вот я уже возле человека, встающего на колено.
— Вы ранены?
— Кажется, нет.
Он ощупывает себя, подносит руку к левому плечу.
— Царапина, — говорит он. — Сущие пустяки. Но если бы вы не подоспели, меня пристрелили бы как кролика.
Он трогает плечо, смотрит на руку.
— Крови почти нет. Повезло. Не стоит здесь мешкать. Пожалуйста, помогите мне.
Мы толкаем раздвижную дверь. Он возвращается к машине и, ловко маневрируя, задом въезжает в гараж, а я запираю ворота. В темноте слышится стук дверцы, затем наверху зажигается лампочка. Я смотрю на человека, которого спас. Ты не знал его. Поэтому попробую описать свое первое впечатление. Прежде всего мне бросилась в глаза его добротная одежда: кожаная куртка, спортивные брюки, толстые шерстяные чулки, крепкие башмаки, словом, идеальное обмундирование для такой погоды. Роста незнакомец был невысокого, зато крепко сложен, очень живой, с большими голубыми глазами навыкате, толстощекий, с красными ушами и мелкими завитками волос. Я сразу все отметил и счел его симпатичным. Он был взволнован гораздо меньше меня. Следует также признать, что и питался он, должно быть, лучше, чем я. Он протягивает мне руку.
— Спасибо. Многие на вашем месте попросту сбежали бы. Чем вы занимаетесь?
— Я преподаю в лицее. Зовут меня Прадье… Марк Прадье.
Он рассмеялся, словно это рассмешило его.
— А я, — сказал он, — я доктор Плео. Пошли выпьем по рюмочке. Мы оба в этом нуждаемся.
В глубине гаража находится дверь, которая ведет во внутренний садик, где снег сохранил первозданную чистоту. Мы пересекаем его и проходим на кухню, там царит беспорядок.
— Извините. Прислуга моя делает, что ей вздумается. Сюда, пожалуйста.
Мы выходим в коридор, который ведет в кабинет, где он принимает больных. Ему с трудом удается снять куртку, разорванное плечо которой почернело. Я стаскиваю ее за рукав, затем помогаю ему освободиться от свитера, рубашки и нательного белья. Он подходит к зеркалу и внимательно разглядывает глубокую ранку на своем обнаженном плече.
— Что я могу для вас сделать?
— О, ничего, — отвечает он.
Кровь течет у него по руке. Он ловко вытирает ее ватными тампонами, которые я приготавливаю ему. Но вскоре мне приходится сесть. Лепешка, белое вино, а теперь еще эти терпкие, щекочущие запахи… Ноги не держат меня. А он одной рукой ухитряется наложить повязку на плечо и с некоторой долей кокетства закрепляет ее английскими булавками. Потом одевается, не спуская при этом с меня глаз.
— Послушайте, мсье Прадье, вид у вас как будто неважный.
Он подходит ко мне и без лишних церемоний ощупывает мои руки, приподнимает веки.
— Вы чертовски худы. Держу пари, что давление у вас никудышное. А ну-ка раздевайтесь.
Я чувствую, как его крепкие, сильные пальцы закатывают рукав моей рубашки. Он энергично сжимает резиновую грушу своего аппарата, хмурит брови.
— Сколько вам лет?
— Двадцать пять.
— Нельзя так запускать себя. Я вами займусь. Теперь моя очередь. Вы женаты?
— Нет.
Он открывает стеклянную дверцу шкафа, наполненного флаконами и коробками, достает одну из них и ставит на край стола.
— Эти ампулы следует принимать три раза в день перед едой. Нам надо поднять ваше давление. Какой класс вы ведете?
— Пятый.
— Эти ребятишки, должно быть, совсем уморили вас. Уж мне ли не знать. В этом возрасте я был невыносим. Пройдем в библиотеку. Там теплее.
Мы миновали вестибюль, и я очутился в просторной комнате. Признаюсь, я был несколько ошеломлен. Всюду вдоль стен — книги. Люстра, горевшая наполовину, бросала на переплеты мягкий свет. Я подхожу, не в силах удержаться.
— Смотрите! Смотрите! Не стесняйтесь.
Доктор наслаждается моим изумлением.
— Только не подумайте, что я безмерно увлекаюсь чтением, — продолжает он. — Вовсе нет! Эти книги достались мне от дяди, который оставил мне после своей смерти этот дом со всем его содержимым. Он был судебным следователем в Орлеане. Старый оригинал, который готов был цитировать Горация и Овидия при всяком удобном случае. Ну вот, опять Мари-Луиза забыла подложить дров. В конце концов я рассержусь.
Он в ярости схватил поленья, сложенные возле огромной печки, и сунул их в топку. Но тут же, сморщившись, встал, осторожно трогая свое плечо.
— Все-таки немного болит, — признался он. — Да садитесь же. У меня есть бутылка арманьяка. Думаю, вам понравится.
Он хлопочет, старается. Дышит шумно, говорит громко, все вокруг приходит в движение. Мне довольно трудно привыкнуть к его манерам, ведь я, как тебе известно, принадлежу к числу людей замкнутых, скрытных. Но в то же время я испытываю к нему доверие и вовсе не против, чтобы меня вытащили, пусть даже силком, из моей раковины. Поэтому я спрашиваю его:
— Почему в вас стреляли?
Сначала он не отвечает. Старательно наполняет рюмки. Я протестую.
— Достаточно, доктор. Видите ли, у меня нет привычки.
Он подвигает кресло поближе к печке, устраивается поудобнее, протягивает ноги к огню и берет в руки рюмку.
— Стало быть, у вас, мсье Прадье, нет никаких врагов? — произносит он наконец.
— У меня? Конечно нет. Я занимаюсь своим делом. Я никого не трогаю.
Он долго вдыхает аромат арманьяка, не торопясь, подыскивает нужные слова.
— В конце концов, — шепчет он, — у меня нет ни малейших причин скрывать от вас истину. Если она вас шокирует, что ж, значит, так тому и быть. Ну, если угодно, можно выразиться так: меня считают коллаборационистом.
Он наблюдает за мной. Я кашляю, потому что алкоголь жжет мне горло. Он громко смеется, отчего сотрясаются его живот и плечи, и тут же у него вырывается стон боли.
— Я вижу, вы не собираетесь бежать. Тем лучше. В таком случае позвольте объясниться.
Поставь себя на мое место. Я только что оказал ему помощь. Он любезно пригласил меня. Мне оставалось только слушать.
— Они придумали это ужасное слово, — начал он, — чтобы заставить нас захлебнуться позором. Сейчас я вам кое-что покажу.
Он вскакивает с удивительной легкостью, затем выдвигает ящик большого письменного стола, стоящего напротив окна, и протягивает мне два маленьких предмета и один еще не развязанный пакет. Я тотчас узнаю гробы.
— Вам известно, кому их посылают? — продолжает он.
— Да, разумеется.
— Это началось в конце октября. Первый, как вы сами можете убедиться, сделан довольно грубо. Я подумал, что речь идет о скверной шутке. Но второй отделан гораздо более тщательно. Даже ручки не забыты. Я получил его 11 ноября, в день подписания перемирия в 1918 году. Чувствуете намек! Что же касается третьего, то он прибыл позавчера. Я даже не стал распечатывать его. Откройте сами… Прошу вас!
Я верчу и так и эдак маленький пакет размером примерно с пенал. Рассматриваю почтовый штемпель, адрес, выведенный печатными буквами: «Господину доктору Оливье Плео, авеню Шаррас, Клермон-Ферран», а в углу надпись красными чернилами: «Образец».
— Возьмите перочинный нож, — предлагает доктор.
Я разрезаю веревку и разворачиваю бумагу. Появляется третий гроб. Рвение изготовителя дошло до того, что гроб покрыли лаком. Плео хватает его и долго разглядывает.
— Что и говорить, они полны предупредительности. Вы заметили?.. На крышке — крест… Это свастика.
Он открывает дверцу печки и бросает в огонь все три гроба, затем берет трубку, задумчиво начинает набивать ее, потом, опомнившись, предлагает мне коробку с сигаретами.
— Извините, — говорю я. — Уже поздно.
Я смотрю на часы.
— Черт возьми! Четверть первого… Если меня заберет патруль…
— Не беспокойтесь. Я провожу вас. У меня пропуск.
— Вы не боитесь, что…
— Они сюда не вернутся. Это маловероятно. К тому же на этот раз я возьму оружие. Так что у вас вполне есть время выкурить сигарету.
Я дал себя уговорить. Мне так хотелось курить! Тебе может показаться, что, описывая эту сцену, я несколько фантазирую. Вовсе нет. Она была точно такой, почти дословно. Я представляю ее себе с поразительной ясностью. Единственно, о чем я забыл сказать по своей оплошности, так это о том, что скрывается за словами. Плео чувствует себя неловко. Он наблюдает за мной, ищет на моем лице выражение осуждения. А я, я внимательно слушаю, стараясь понять меру его искренности. Хотя на самом деле это еще сложнее. На ум мне приходят два зверя, которые принюхиваются друг к другу на расстоянии, заигрывают друг с другом, оставаясь в то же время настороже. Плео предлагает мне огонь, закуривает свою трубку и снова садится.
— Они приговорили меня, — произносит он. — Дело, видимо, принимает серьезный оборот и близится к развязке. Это уже похоже на религиозную войну… Но вы человек умный. Вы должны меня понять.
Он улыбается, искоса поглядывая на меня, и тут я впервые замечаю у него небольшую припухлость под глазами. Возможно, этот человек пьет.
— У меня нет дара слова, — продолжает он. — Я прежде всего врач, наверное, это меня и погубило. В сороковом году страна наша была на краю гибели. Надо было во что бы то ни стало вывести ее из состояния войны и с величайшей осторожностью залечивать раны, не смыкая глаз ни днем, ни ночью. Речь шла о жизни и смерти. А Сопротивление сродни тому грубому средству, к которому прибегают костоправы, и тем хуже для больного, если он от этого сдохнет. Я против таких средств.
Он выбивает трубку, выбрасывая ее содержимое на горящие поленья, затем снова набивает и продолжает:
— Я не могу быть за. И знаете, я долго думал над этим. Чуть голову не сломал. Но сколько ни размышляй, дело с места не сдвинется. Вопрос ведь не в том, чтобы решить какую-то проблему, а в том, чтобы сделать выбор, а я по опыту знаю, что выбор диктуется не мыслью, а темпераментом. Я же создан для того, чтобы лечить, как вы, полагаю, для того, чтобы учить. Так в чем, спрашивается, мое предательство? Я никогда не был сторонником немцев. Они ведут войну, свою войну — и в настоящий момент, пожалуй, даже проигрывают ее, но это их дело. А я в больнице ежедневно веду борьбу во спасение жизни, вернее, следовало бы сказать, за выживание, потому что больных все больше и больше.
В рассуждениях его заметны пробелы. Он останавливается на полуслове и размышляет, и я отчетливо понимаю, что он пытается беспристрастно разобраться в самом себе.
— Видите ли, мсье Прадье, я по природе своей очень упрям. И уж если я что-то решил, то стою на своем. Я не приемлю разрушения, оно мне кажется ужасным. Все эти взорванные мосты, искалеченные машины, люди, которых убивают только потому, что не разделяют их взглядов, — все это ведет к тому, что исчезает сама наша сущность. Поэтому я до конца буду говорить нет, и тем хуже для меня… Еще капельку?
Я закрыл ладонью свою рюмку.
— Спасибо. Я и так уже слишком много выпил. Мне давно пора спать.
— К тому же я вконец доконал вас своей болтовней, — заметил он. — Ну что ж, в путь. Однако мне доставило бы большое удовольствие, если бы… У вас ведь сейчас каникулы. Не хотите ли прийти ко мне в воскресенье пообедать? Только никаких талонов! Благодаря друзьям у меня есть все, что нужно.
Я был очень смущен. У меня не было никаких причин отказывать ему, однако я вовсе не горел желанием выслушивать его признания. Да и потом, если на нем такое клеймо, зачем мне-то себя компрометировать?
— Разумеется, — добавил он, — все эти книги в вашем распоряжении. Ройтесь, сколько хотите. Можете взять те, что вам понравятся. Для меня это ничуть не обременительно.
Его предложение заставило меня решиться. Я согласился.
Вот, мой маленький Кристоф, каким образом я сделал первый шаг — так я вопреки самому себе был увлечен навстречу судьбе, которая теперь берет меня за горло. И странная вещь, у меня было скверное предчувствие. Это приглашение тяготило меня. Я даже собирался придумать какой-нибудь предлог, чтобы не пойти, с другой стороны, мне совсем негде было брать книги. В Клермон-Ферране так много студентов, поэтому нужных произведений я никак не мог достать. Когда я спрашивал их в университетской библиотеке, мне неизменно отвечали, что они на руках. В книжных лавках можно было найти только очень известные книги: Сент-Экзюпери, Пеги, Пурра и кое-что из творений тех, кто стал властителем дум нового режима. Вот почему в то воскресенье я, как было условлено, явился в полдень к доктору Плео.
Глава 2
Не стану утомлять тебя подробным описанием этого обеда. Я просто пытаюсь показать тебе последовательный ход событий, которые мало-помалу вели меня к гибели. Доктор был очень любезен и всячески проявлял свое дружеское расположение ко мне. Зато Мари-Луиза, его прислуга, встретила меня не слишком приветливо и показалась мне довольно ершистой.
— Она на их стороне, — сообщил мне Плео, — и за последнее время сильно переменилась. Мне кажется, лучше всего было бы предоставить ей сейчас отпуск.
Стол был сервирован на славу. Я воспользовался этим, правда, не без некоторой доли стеснения. Как бы тебе сказать? Для человека, столь искренне поведавшего мне о мучивших его угрызениях совести, доктор, казалось мне, чересчур хорошо питается. Но в то же время, стараясь не слишком набрасываться на куски бараньей ножки, которые он мне щедро накладывал в тарелку, я пытался найти ему оправдание. С его-то телосложением он вряд ли мог довольствоваться тем скудным пропитанием, к которому привык я. К тому же мне уже доводилось встречаться с такого рода людьми, которые любят одаривать и угощать, не скупясь, — при условии ответной признательности. Это мясо наверняка было подношением какого-нибудь благодарного клиента. Не переставая жевать, он расспрашивал меня о занятиях в лицее, о моих учениках.
— Больных много?
— Нет, не очень. Отиты, ангины, есть случай сухого плеврита, и это меня немного беспокоит.
— С этим шутить нельзя!
— Меня несколько удивляют методы лечения ребенка. Ваш коллега требует, чтобы окно в его комнате оставалось открытым и ночью и днем.
— Это старый, испытанный метод, уж поверьте мне. Как зовут врача? Это, случаем, не доктор Мейньель?
— Он самый.
— Он, правда, несколько устарел, но всегда проявляет крайнюю осторожность.
— Тем не менее, когда я иду в замок, мне приходится надевать все, что у меня есть, чтобы не замерзнуть. Я даю уроки мальчику, иначе он потеряет год, но уверяю вас, это тяжкое испытание.
Мальчиком, о котором шла речь, был, как ты уже догадался, именно ты. Я не мог предугадать, как повернется разговор. Но слово за слово, и Плео в конце концов, естественно, спросил:
— Вы говорили о замке… какой замок? Я что-то не представляю себе.
— В конце улицы Мон-Жоли, направо… Такое большое строение посреди парка. Я говорю «замок», потому что меня нетрудно поразить: огромное здание с одним и другим крылом, да еще с угловой башней — в моих глазах это, конечно, замок.
— Теперь я понял, — сказал Плео.
— Это владение мадам де Шатлю.
— Мне казалось, что у нее нет детей.
— Мальчик, о котором я говорю, не ее сын. Она подобрала его в сороковом, в момент всеобщей паники. Бедняжка потерял своих родителей во время бомбардировки где-то в районе Мулена. Ему было всего шесть лет, и выглядел он несчастнее потерявшейся собачонки. Вот она и взяла его. Я знаю, она пыталась разыскать его родителей через Красный Крест, но безуспешно. Семья его наверняка погибла. Зовут его Кристоф Авен. Это единственные сведения, которыми она располагает.
Прости меня, Кристоф. Я не хотел причинять тебе боль напоминанием о прошлом, которое ты, несомненно, предпочел бы забыть. Мне всегда казалось, что тебя унижало сознание того, что ты в какой-то степени дитя джунглей, подобно Маугли, приключения которого ты так любил. Но история моих взаимоотношений с Плео слишком важна, чтобы я позволил себе о чем-либо умолчать.
— Я что-то слышал об этом, — сказал он. — Ну и как вы его находите?
— Мальчик превосходный.
Он медленно осушил свою рюмку, потом взглянул на меня, и в глазах его промелькнуло что-то суровое.
— Когда пойдете туда, не говорите обо мне с мадам де Шатлю… Порою без всякого умысла, случайно назовешь в беседе чье-то имя… Стоит вам произнести мое, и к вам там будут плохо относиться.
— Отчего же?
— Она сторонница де Голля… фанатичка. Это не пустые слова. Самая настоящая фанатичка… Во всем. Вы разве не замечали?
— О, я так редко ее вижу. Ее учтивость заставляет хранить дистанцию. У меня такое ощущение, будто я нахожусь в услужении. Но почему же в таком случае ее никто не трогает?
— Неужели вы думаете, что она станет кричать о своих убеждениях на всех перекрестках? Но мне это доподлинно известно. Послушайте, мсье Прадье, отвлекитесь хоть немного от своих книг и оглядитесь вокруг. Тогда вам все станет ясно. Маленький городок, где в определенных кругах волей-неволей все про всех все знают. Есть тысячи всяких возможностей, чтобы составить себе мнение о каждом. А о том, чего не знаешь, легко догадаться. Малейшее слово взвешивается, обсуждается, анализируется. Папки с делами растут. И есть надежда, что в самое ближайшее время правосудие воспользуется ими. Положим, я чуточку преувеличиваю. Но зато не ошибаюсь в главном.
Случилось то, чего я опасался. Я начинал понимать, зачем он пригласил меня. Он испытывал необходимость не довериться, нет, но оправдать себя в присутствии человека, который казался ему беспристрастным. Он позвонил Мари-Луизе, та убрала со стола, затем принесла поднос с сыром и вареньем.
— Я никогда не скрывал своих мыслей, — продолжал он. — Я таков, каков есть, и тем хуже, если мной недовольны. Кстати, вы умеете играть в шахматы?
Вопрос был таким неожиданным, что он расхохотался при виде моего удивления.
— Нет, — ответил я. — Мне не раз пытались объяснить, но ходы фигур кажутся мне настолько сложными, что …
— Да будет вам! Я сейчас покажу… Вы увидите. Вам понравится. Дело в том, что я страстный любитель этой игры. Когда-то я даже участвовал во встречах с чемпионами. Я состоял в клубе, о, довольно давно… Он был основан в тридцатом или тридцать первом году. Потом началась война. Те, кого не раскидало в разные стороны, вернулись к старым привычкам и собираются вновь. Но…
Он умолк, наклонившись, чтобы поднять салфетку, которую уронил, а когда распрямился, лицо у него покраснело, исказившись от боли.
— Эта проклятая рана все еще болит, — сказал он. — Казалось бы, пустяковая царапина, а рука не двигается… Так вот, о нашем клубе. Он насчитывает теперь не более десяти членов, а знаете почему? Его президент занимает видный пост в легионе. Опять-таки ненависть возобладала над дружбой. Под различными предлогами, которые никого не могли ввести в заблуждение, все потихоньку разбежались. А те, кто остался, — под колпаком. В каком-то смысле это понятно, ведь мы вишисты. Причем некоторые заходят слишком далеко, и я их не одобряю. Хотя я не инквизитор. Однажды произошло событие, которое сильно повредило нам. Как-то вечером мой друг Бертуан, — я говорю «друг», потому что мы вместе учились, а это создает узы, которые очень трудно разорвать, — так вот, как-то вечером Бертуан пригласил офицера из комендатуры. Не торопитесь с выводами! Речь идет о человеке совершенно безобидном. До войны он был бургомистром маленького местечка в Руре. Там все разрушено. По сути, он еще более несчастен, чем мы. И единственное его утешение, как это ни глупо звучит, — шахматы. В этом деле он настоящий ас… Если бы вы были игроком в истинном смысле этого слова, вы бы знали, что у шахмат нет родины. Когда-то я играл с русскими, аргентинцами и даже с одним китайцем — тот был чертовски силен — и не чувствовал в них иностранцев. Мне говорят, что Мюллер — бош. Ладно. Хорошо. Согласен. Ну и что? Разве это мешает ему быть мастером? Разумеется, впечатление это производит скверное. В глазах людей я тот, кто встречается с немцами. Возможно, из-за этого в меня и стреляли. Но, объективно говоря, что ж тут такого страшного — играть в шахматы с Мюллером, который жаждет мира еще больше, чем мы? Как, по вашему мнению? Только откровенно.
Я попал в ловушку. К счастью, он не стал дожидаться моего ответа. Он встал и сказал вошедшей в эту минуту Мари-Луизе:
— Принесите, пожалуйста, кофе в библиотеку.
А потом продолжал, схватив меня за руку:
— Идемте. Я вам кое-что покажу.
Возле окна на чайном столике лежала шахматная доска.
— Взгляните. Белые должны выиграть тремя ходами. Эту комбинацию придумал как раз Мюллер. Я изучал ее, дожидаясь вас. Она восхитительна по своей простоте. Вот этот черный король стоит здесь, в квадрате b2.
Он торопливо перешел на другую сторону доски.
— Я вынужден в ответ сделать ход f15. Это неизбежно.
Он снова вернулся ко мне, глаза его были прикованы к игре.
— Тогда он очень умно делает ход слоном с4.
Он заставил меня перейти с ним на другой конец стола.
— Так вам будет понятнее. У меня, разумеется, нет выбора. Даже если я попытаюсь прикрыться, скажем, вот так (чтобы нагляднее продемонстрировать свой ход, он медленно передвинул пешку на b3), его ладья окажется здесь, и я пропал… Возможностей у меня никаких.
Он сделал несколько шагов по комнате, упершись руками в бока и опустив голову. Затем снова подошел ко мне.
— Прошу прощения, мсье Прадье… Но я и в самом деле не могу понять, почему люди, которые встречаются ради того, чтобы сыграть партию, подобную этой, — мерзавцы.
Должен сказать, что именно в этот миг я полностью уверовал в его искренность. Видишь ли, мое учительское ремесло научило меня распознавать лица людей, которые лгут; его лицо было чисто. Под этим я подразумеваю, что оно было одержимо страстью глубокой и в то же время простой. Такой именно образ запечатлелся в моей памяти. Я не смог его забыть, и вскоре этому обстоятельству суждено было сыграть очень важную роль. Кофе оказался совсем неплохим. Почти как настоящий. Плео угостил меня сигарой.
— Запасы мои подходят к концу, — сказал он. — Сигареты еще можно достать. А вот сигары…
У него в кабинете зазвонил телефон. Он встал.
— Посмотрите книги. Они в вашем распоряжении. Я сейчас вернусь.
Я начал осматривать полки. Дядя доктора был человек со вкусом. Здесь были собраны все классики — греческие, римские, французские, поэты, историки, философы. Это был кладезь, к которому я мог бы с восторгом припасть. Но я не собираюсь поддерживать отношения с Плео, сам понимаешь почему. Я листал том Сент-Бева, когда он вернулся.
— Ну как? Нашли что-нибудь интересное?
Вместо того чтобы поставить книгу на место, я положил ее на край письменного стола. Подобная мелочь может показаться пустой. В другой истории так оно и было бы. Но в моей, ты увидишь, она имеет свое значение. Плео велел принести нам ликеры. У теплой печки вновь завязалась беседа. Я сказал, что работаю над диссертацией. Плео рассказал мне, что собирался специализироваться по болезням сердца. Короче, самая обычная болтовня, но совсем не скучная. Спустя час я счел возможным уйти. Оставим в стороне обмен любезностями, рукопожатия. Я уже стоял на пороге, когда Плео заметил на письменном столе Сент-Бева.
— Вы забыли свою книгу… Возьмите ее, раз это может доставить вам удовольствие.
Он пошел за ней и сунул ее мне в руки.
— Можете вернуть ее через неделю, через две, когда пожелаете. Заходите вечером, часов в восемь. В принципе, я почти всегда дома.
Отказаться было невозможным. Я вышел на улицу, прижимая книгу к себе. Теперь мне придется вернуться. Разумеется, я мог через какое-то время принести книгу в его отсутствие, вложив любезную записку, которая избавила бы меня от всяких обязательств. Однако Плео сразу же догадался бы, что я, в свою очередь, тоже хочу держаться от него подальше и, следовательно, считаю его недостойным, а эта мысль была мне нестерпима. Ты ведь знаешь, я не люблю быть грубым. Я возвратился домой весьма недовольный собой и в полной нерешительности. Каникулы кончились. Я вернулся к своим занятиям в лицее и в ближайший четверг собирался пойти в замок к тебе на урок.
Не знаю, сохранились ли у тебя четкие воспоминания об этих уроках. Ты почти не выходил из своей комнаты и потому не знаешь, как меня встречали. Я приезжал на велосипеде. Звонил у ворот. Валерия открывала мне и шла за мной по аллее, провожая до самого крыльца. Убедившись, что я хорошо вытер ноги, она открывала, а потом бесшумно закрывала дверь в гостиную.
— Мадам сейчас выйдет.
Мне не оставалось ничего другого, как ждать Арманду. Я говорю Арманда для простоты. Ведь в ту пору Арманда для меня была всего лишь мадам де Шатлю, то есть человеком далеким, я почему-то всегда испытывал смущение перед ней. Я садился на краешек кресла. И слушал тишину. Чувствовал ли ты особую атмосферу этого просторного дома, похожего на музей, доступ в который был временно закрыт для широкой публики? В натертом до блеска паркете отражалась старинная мебель. На стенах висели портреты, взгляд которых неотступно следовал за вами. А стоило пошевелиться, как тут же раздавалось какое-то потрескивание, словно вокруг вас передвигались невидимые посетители. Высокие окна с задернутыми шторами пропускали лишь слабый неясный свет. Было печально и сумрачно, и вскоре вы начинали дрожать от холода.
Потом появлялась мадам де Шатлю, высокая, тонкая, почти всегда в одном и том же темном костюме, несколько поношенном, но прекрасного покроя. Она делала над собой усилие, стараясь казаться любезной, рассеянно спрашивала о моем здоровье и провожала меня в твою комнату. Помнишь? Чтобы не обогревать этажи, она поместила тебя в левом крыле, в конце длинного коридора. Она шла на два шага впереди и говорила, не поворачивая головы:
— Да, Кристоф чувствует себя гораздо лучше. У него нет больше температуры, но я подержу его здесь до весны. Он еще так мал. Если ему придется остаться на второй год, что ж, на то есть причины, не правда ли?
Я видел ее сбоку. Она была красива, ее светлые волосы, заплетенные в искусно уложенные косы, образовывали на затылке сложный пучок. Нос у нее был прямой, подбородок четко очерченный, а щеки немного впалые, что придавало ее облику нечто страдальческое и страстное. Не понимаю, впрочем, почему я говорю о ней в прошедшем времени. Она и теперь все та же, только стала более жесткой, «напряженной», что ли, и в то же время более сдержанной. Потом объясню почему.
Она открывала дверь и тут же отходила в сторону, а мы, мы с тобой встречались с неизменной радостью. Глаза твои блестели. Я приносил с собой немного жизни извне. Мои подарки были дороже всяких игрушек. То были новости о лицее, о твоих товарищах, о городе; мне всегда было что рассказать тебе, дорогой Кристоф. Уже тогда ты занимал в моей жизни место, которое с тех пор всегда принадлежало тебе. Но я возвращаюсь к тому самому четвергу, который стал не совсем обычным днем.
Помнишь, у мадам де Шатлю была привычка задерживаться у нас минут на десять, пока ты доставал свои тетради и книги, а я вытряхивал содержимое моего портфеля: письменные работы, учебники, красный карандаш. Она самолично проверяла, хорошо ли горят дрова, приоткрыто ли слегка окно. В тот же день вместе с другими своими бумагами я выложил на стол книгу Сент-Бева, которую собирался вернуть доктору. Мадам де Шатлю заметила ее.
— Я полагаю, — с улыбкой заметила она, — что это не для Кристофа?
Она, естественно, взяла ее, открыла и обнаружила на первой странице экслибрис. Этого было достаточно, она закрыла книгу и сказала без тени волнения:
— Я покидаю вас. Трудитесь.
Кровь бросилась мне в лицо. Теперь она знала о моих отношениях с Плео. И, наверное, подумала, что мы с ним дружим, раз он дает мне свои книги. Там значилось его имя, вернее, имя его дяди, но это ведь одно и то же. Я вспомнил совет доктора и устыдился вдруг, что меня могут принять не за того, кто я есть на самом деле. Мне во что бы то ни стало хотелось восстановить истину. Невыносимо было думать, что эта красивая молодая женщина, возможно, будет презирать меня. На этот раз урок мне казался нескончаемым. Я едва слушал, как ты, запинаясь, переводил повествование о единоборстве Горациев и Куриациев. Ты был не слишком-то силен в латыни, мой бедный Кристоф. Едва освободившись, я чуть ли не бегом бросился в гостиную, где мадам де Шатлю имела обыкновение ждать меня, чтобы сказать на прощание несколько любезных слов. Я и в самом деле застал ее там, только на этот раз она смотрела на меня еще более холодно и высокомерно, чем обычно.
— Мадам… только что… произошел досадный инцидент… Я хотел объяснить вам…
Совсем смешавшись, я не знал, с чего начать. У меня было такое ощущение, будто с каждым словом я увязаю еще глубже.
— Я и в самом деле знаю доктора Плео.
— Это прекрасный врач, — заметила она.
— Но я его знаю не в качестве врача.
— Вот как! — прошептала она с легкой иронией.
И тогда я рассказал ей все — и покушение, и завтрак, и то, каким образом Сент-Бев попал мне в руки, но по мере того, как я говорил, во мне зрела уверенность, что тем самым я, так или иначе, предавал Плео; я чувствовал себя все более несчастным, но любой ценой хотел установить свой нейтралитет. Хотя и это не совсем точно. За всем этим, кроме прочего, крылось не очень ясное, но ощутимое желание заинтересовать ее, предстать перед ней человеком, исполненным благородных терзаний.
— Я готов никогда больше не видеться с ним, — сказал я в заключение.
Ее голубые глаза были устремлены на меня, но глядела она вглубь собственной души. И когда я умолк, она даже вздрогнула.
— Итак, — сказала она, — вы пишете диссертацию. Это очень интересно… Но скажите, как вам удается оставаться в стороне от всего, что творится вокруг?
— Моя работа полностью поглощает меня.
— Да, я понимаю. И потом, сердцу ведь не прикажешь.
— Не надо так говорить.
— Но, мсье Прадье, вы не обязаны отчитываться передо мной. Вы поступили вполне лояльно, и я благодарна вам за это. Что же касается ваших отношений с доктором Плео, то это не мое дело. Единственно, что я могу вам сказать, ибо питаю к вам уважение, это то, что такого рода отношения могут повредить вашей репутации.
Поклонившись, я направился к двери. Она остановила меня.
— Он знает, что вы ходите сюда?
— Да. Случайно. Я рассказывал ему о Кристофе.
— Это жаль, очень жаль. Разумеется, вы не можете знать почему. Но я вам скажу, для того, чтобы вы имели возможность со знанием дела принять соответствующее решение. Доктор Плео — мой бывший муж.
Глава 3
Как я на это реагировал? Не помню. Четких воспоминаний на этот счет у меня не сохранилось. Зато я как сейчас вижу себя в своей комнате: я ходил из угла в угол, докуривая последние сигареты, положенные мне на декаду. Если попробовать свести воедино все, что я тогда передумал, это выглядело бы примерно так: прежде всего, я был шокирован. Мадам де Шатлю и Плео вместе! Нет, в это трудно было поверить. Они так не похожи друг на друга, и я на них даже сердился, словно они обманули меня, не сказав раньше о своем прошлом. Кроме того, в тот вечер я понял, что мадам де Шатлю значила для меня гораздо больше, чем я думал. Это было смешно! Специалист по Расину, юный глупец, который знал все о Федре и Гермионе, молодой человек, воображавший себя жертвой великой страсти, решил навести в своем сердце порядок и вдруг обнаружил, что Арманда ему вовсе не безразлична. Правда, то была еще не любовь, а всего лишь магнитное притяжение, постоянно влекущее меня к ней. Я вспоминал ее слова, вникал в интонации. В ее глазах я был, должно быть, смешон со своей диссертацией. «Сердцу ведь не прикажешь» — каким тоном она это сказала!
Мало того: она не только предостерегала меня против Плео, но ясно дала понять, что в моих интересах не ходить больше к нему. Я должен был выбирать между нею и им. Хотя я и так уже выбрал. Оставалось придумать благовидный предлог, чтобы не встречаться больше с доктором, а это было нелегко, кто лучше Плео смог бы рассказать мне об Арманде и о причинах несогласий, разлучивших их? Ибо теперь я желал знать все. Но если я вернусь на улицу Шаррас и если она узнает об этом, двери ее будут закрыты для меня. По натуре человек нерешительный, я не знал, что делать. Победило в конце концов любопытство. Я решил нанести визит доктору, но это будет последний, так я себе обещал.
Я подождал до конца недели, а в воскресенье вечером, под прикрытием снежной метели, опустошившей улицы, отправился к Плео. Позвонив, я заметил, что он смотрит в дверной глазок: Плео соблюдал осторожность. Он открыл дверь и с жаром пожал мне руку.
— Как хорошо, что вы вспомнили обо мне. Скорее раздевайтесь и проходите, вам надо согреться.
В библиотеке было тепло. Настольная лампа освещала шахматную доску. На столе стояла бутылка арманьяка, а рядом наполовину пустая рюмка.
— Как видите, я работал, — сказал Плео. — Моя книжка вам пригодилась?.. Вот и прекрасно.
— Как ваша рана?
— Все в порядке. Немного побаливает.
Он пошел за второй рюмкой. Не стану утомлять тебя, повторяя банальности, которыми мы обменивались в течение нескольких минут. Он первый затронул вопрос, не дававший мне покоя.
— Ну как мадам де Шатлю? Она еще не завербовала вас в свою свиту?
— Какую свиту?
— Я шучу. Хотя меня нисколько не удивит, если она попытается завлечь вас. Вы ведь иногда беседуете с ней?
— Очень редко. Однако в прошлый раз она мне сказала, что вы были ее мужем. Это вышло случайно. Среди моих книг она увидела Сент-Бева и сразу все поняла.
— Вы проявили крайнюю неосторожность, мсье Прадье.
Он встал и принялся ходить из угла в угол. Затем набил свою трубку, отпил глоток арманьяка и снова сел.
— Да, мы были женаты… два года… Развелись мы незадолго до войны. Воображаю, какие ужасы она вам рассказала обо мне.
— Ничего подобного.
— Как! Неужели она вам не сказала, что я пьяница… ловелас… прислужник оккупантов! Странно. Она распространяла обо мне Бог знает какие слухи. Я мог бы возбудить против нее дело за клевету.
— А по виду она никак не похожа на …
— Еще бы! Это она умеет. Всегда такая достойная. Такая сдержанная в речах. Этим-то она и опасна. Мой бедный друг! Я столько всего мог бы вам рассказать. Хотя если говорить по справедливости, то не одна она была виновата. Только, видите ли, эта женщина во всем ухитряется обвинить вас. С ней ты всегда в чем-то виноват.
Полузакрыв глаза, он поднес к губам рюмку.
— Бывали дни, — продолжал он, — когда я охотно задушил бы ее. И не понимаю, почему она, в свою очередь, не отравила меня. Я расскажу об одном случае, который может пролить свет на наши отношения, а вы судите сами. У нее был конь по кличке Цветок Любви, с которым они совершали длительные прогулки. Она прекрасная наездница. Однажды, возвращаясь с прогулки, она берет барьер. Несчастный Цветок Любви неудачно приземлился и сломал ногу. Я готов был лечить его. Я до сих пор уверен, что его можно было спасти. А она не захотела. Она предпочла забить его при помощи нашего тогдашнего управляющего. Тот, бедняга, даже плакал. Мы спорили не один час. Под конец, не выдержав, я ударил ее по щеке. И теперь, вспоминая об этом, я думаю, что это многое объясняет. Я был за то, чтобы защитить, спасти, сохранить. А ей сразу же подавай крайние меры. Чтобы не было в конюшне искалеченной лошади. Ей нужна была другая, здоровая. Так что, сами понимаете, у нас с ней ничего не могло получиться.
Он помолчал немного, о чем-то раздумывая. Потом наконец спросил:
— Как она выглядит? Кажется, я не видел ее с самого начала войны.
— Она держится с большим достоинством.
— О! В этом я не сомневаюсь. Разумеется, я встречаюсь с людьми, которые знают ее. Мне довольно часто рассказывают о ней.
Он подошел к письменному столу, выдвинул один из ящиков и, достав оттуда альбом, положил мне его на колени.
В альбоме, кроме разнообразных пейзажных видов, было несколько десятков фотографий Арманды… Арманда в костюме наездницы, в вечернем платье, в теннисном костюме, в купальнике.
— Я познакомился с ней в бассейне, — сказал Плео.
Он взял фотографию и долго разглядывал ее, покачивая головой.
— Ничего не поделаешь, мы были во всем такие разные. Ее отец командовал в Сомюре кавалерийскими частями черных… Этакий дворянчик с моноклем… Вы понимаете, что я имею в виду. А мой отец был мучным торговцем. Мы принадлежали к разным мирам. Так что…
Он бросил фотографию мне на колени.
— Мадам Оливье Плео, урожденная де Шатлю!.. Даже на слух и то сразу ясно, что дело неладно. А между тем именно она хотела этого союза, хотела с той самой горячностью, которую вкладывает во все. Я просто не знал, куда деваться!
Я закрыл альбом. Он положил его на ковер и придвинул кресло к моему.
— Она возлагала на меня большие надежды… Врач-терапевт широкого профиля — ей было этого мало. Это было посредственно, ничтожно. Ей нужен был муж более высокого класса, добившийся признания… большой специалист, чего-нибудь глава. Чтобы доставить ей удовольствие, стать кардиологом, я бросил все: друзей, развлечения. Она уже мечтала о том, как я переберусь в Руайя, возглавлю клинику… Но настал день, когда я все послал к черту. Характер у меня не слишком покладистый. При разводе, разумеется, вину признали за мной. И в довершение всего я обязан выплачивать ей пенсию! Она гораздо богаче меня, а платить приходится мне! Не так уж много, скорее из принципа, ибо, согласно закону, я должен нести наказание. Пожизненно! Как только подумаю об этом, я делаюсь сам не свой.
Он ударил кулаком по ручке кресла, потом рассмеялся.
— Но я нашел отличный способ досадить ей. Посылаю деньги по почте, ежемесячно… Я знаю, она из себя выходит. Ей так мало надо, чтобы она почувствовала себя униженной… Ладно, поговорим о чем-нибудь другом. Я, верно, наскучил вам своими историями… И все-таки мне хочется сказать вам одну вещь. Ей меня не одолеть. Ни за что, никогда. Она, конечно, ждет не дождется конца войны, чтобы увидеть, как меня будут судить… Если только до тех пор не подошлет кого-нибудь убить меня. Помните нападение в тот вечер? Кто знает, может, за этим стоит она… Я от нее всего готов ожидать… Но я уж как-нибудь устроюсь. Когда придет срок, попробую убежать, я принял все необходимые меры. Потому-то я и не стал возбуждать дела… Зачем привлекать к себе внимание.
Вдруг он схватил меня за руку, причем так неожиданно, что я чуть не расплескал арманьяк.
— Мсье Прадье… разумеется, я рассчитываю на вашу скромность. Вы же видите, я доверился вам, будто старому другу… Если она узнает, что…
Я поспешил успокоить его. И ты тоже успокойся. Я сдержал слово. С этой стороны мне не в чем себя упрекнуть. Я забыл, о чем шел разговор дальше. Помню только, что когда я собрался уходить, он, несмотря на мои протесты, сунул мне в карман пачку сигарет.
— Приходите в субботу, — сказал он. — Я дам вам продовольственные карточки. Сегодня у меня нет. Но скоро мне должны принести. Надо же как-то выходить из положения.
Я вернулся домой. Ты без труда угадаешь ход моих мыслей. Сколько я ни пытался отделить в словах Плео правду от лжи, мне это не удавалось. Он, конечно, сгустил краски, обрисовав мне портрет мадам де Шатлю, но в основном то, что он говорил, звучало правдиво, поэтому я несколько страшился снова встретиться с ней. Я ощущал себя до мозга костей маленьким чиновником, таким неловким, таким осмотрительным. Нечего было опасаться, что она станет, по словам доктора, «завлекать» меня. Хотя, говоря по совести, я об этом сожалел и с горечью твердил себе, что она, вполне возможно, откажется от моих услуг, зная о наших отношениях с ее бывшим мужем. Я настолько был в этом уверен, что крайне удивился, не получив на другой день письма с уведомлением о том, что она больше не видит необходимости в моих уроках для своего сына.
Во вторник я не без опаски снова пошел в замок. Позвонил. Один, другой, третий раз. Я уже собрался уходить, когда калитку наконец открыли. Но не Валерия. Жюльен. Я не слишком-то любил этого человека из-за его грубых манер и еще за то, что он был похож на казарменного старшину, не говоря уже о покровительственном тоне, каким он разговаривал со мной. Но на этот раз он сбросил свою маску скверного актера. Казалось, его что-то тревожило.
— Извините, что не смог открыть вам раньше, — сказал он. — Мадам неважно себя чувствует.
— Я могу прийти потом. Мне не хотелось бы ее беспокоить.
— Да нет, нет. Входите.
Я вошел в гостиную. Валерии не было. Замок Спящей Красавицы погрузился в сон. Я подождал немного. Но через некоторое время обнаружил странную вещь. В комнате пахло табаком — о, совсем немного, едва заметно. Пожалуй даже, только такой обездоленный курильщик, как я, мог это заметить. Но мадам де Шатлю не курила. И я никогда не видел ни одной пепельницы ни на столе, ни на камине. Я подошел к камину. Иногда попадаются поленья, которые, сгорая, распространяют запах, похожий на запах табака. И тут я обнаружил на мраморной доске нечто вроде обуглившейся табачной пробки, которая падает из трубки, когда ее выбивают о каблук. Тотчас же страшная мысль пронзила меня: у нее есть любовник! Это было нелепо. А между тем какой-то мужчина курил в гостиной трубку. Это мог быть только кто-то из своих. Но уж конечно не Жюльен. Он всегда был преисполнен почтения, к тому же я не представлял себе мадам де Шатлю в роли леди Чаттерлей. Может быть, какой-то родственник? Или друг? Однако это было более чем странно. Мне ни разу не доводилось встречаться здесь ни с кем из посторонних. Сообразив наконец, что мадам де Шатлю, видимо, так и не придет, а стало быть, она в самом деле больна, раз нарушает установленный порядок, я пошел к тебе.
— Твоя мама плохо себя чувствует?
Но ты, ничего не подозревая, сказал в ответ:
— Мама? Нет. Она только что была здесь.
Эта неразгаданная тайна мучила меня весь урок. Уходя, я не увидел ни Валерию, ни Жюльена. Дойдя до калитки, я обернулся. Фасад замка был погружен во мрак, за исключением кухни, где горел свет. К несчастью, я из тех упрямых людей, которые бесконечно пережевывают одни и те же мысли. Весь вечер я перебирал всевозможные гипотезы. Я даже забыл проверить сочинения и чуть было не отправился к Плео, чтобы расспросить его обо всем. Сколько бы я ни твердил себе, что мадам де Шатлю имеет полное право принимать, кого ей вздумается, я почему-то был уверен, что все мои предположения неверны. Я обнаружил какую-то тайну, которую Валерия должна была знать, Жюльен, впрочем, тоже, хотя он так искусно обманул меня. Все это было непонятно и страшно раздражало меня. Мне не терпелось как можно скорее снова увидеть мадам де Шатлю, приглядеться к ней, чтобы отыскать на ее лице следы счастливой любви. Я с нетерпением дожидался четверга, и от этого каждый час тянулся с ужасающей медлительностью. На землю падал мелкий ледяной дождь, смешанный со снегом. Жюльен и на этот раз не торопился открывать мне.
— Мадам де Шатлю лучше себя чувствует?
Сначала он несколько удивился, потом, видно, вспомнил.
— Ей все еще нездоровится, — сказал он. — В такой холод недолго простудиться. Мсье Кристоф ждет вас.
Поэтому я сразу прошел к тебе в комнату. Мне не хотелось расспрашивать тебя, и мы начали диктант. Потом настала очередь латинского перевода. Время от времени я прислушивался; у меня сложилось впечатление, будто кто-то ходит у нас над головой. Хотя я знал, что наверху никто не живет. Наверное, у меня разыгралось воображение или же ветер гуляет вдоль старых стен, думал я. А ветер и в самом деле дул все сильнее, так что напряжение временами падало, и электричество вот-вот готово было погаснуть. Я был встревожен, подавлен — такое со мной случается всегда, если надвигается буря. Я дал тебе задание, которое ты должен был приготовить к следующему разу, и ушел, раздосадованный тем, что придется пускаться в путь под проливным дождем. В вестибюле меня дожидалась Валерия.
— Вам нельзя сейчас выходить, — сказала она. — Вы промокнете до нитки прежде, чем успеете дойти до ворот. Жюльен убрал ваш велосипед.
Я открыл дверь — посмотреть, что делается на улице. В лицо мне хлестнул дождь, и в этот самый момент погасло электричество. Я слышал, как в темноте Валерия советовала мне не двигаться с места.
— Пойду поищу свечу, а потом вы подождете в гостиной, пока это кончится.
Прошло несколько минут, затем слабый язычок пламени задрожал во мраке. Я шагнул навстречу Валерии, чтобы взять у нее из рук подсвечник, и чуть было не наткнулся на чью-то высокую фигуру, это прикосновение заставило меня отскочить назад.
— Sorry![23] — прошептал мужчина.
Я едва успел заметить очень молодое лицо — освещенное сверху, оно походило на негатив фотографии. Незнакомец, прикрыв пламя свечи рукой, бесшумно удалился. Я был в ужасе. И даже вздрогнул, когда услыхал позади себя голос мадам де Шатлю.
— Надо же было вам его встретить, — прошептала она.
И в голосе ее звучало такое отчаяние, что я сразу же понял, в чем дело. Она прятала англичанина, скрывавшегося от гестапо. Бежавший пленник? Сбитый летчик?.. В любом случае я видел то, чего ни в коем случае не должен был видеть. Я был смущен. Снова стало темно.
— Зачем он пришел? — добавила она. — Мы ведь ему говорили…
Я не осмеливался произнести ни слова. И чувствовал себя страшно виноватым. Я был чужим, возможно, даже врагом. К нам подошла Валерия с двумя свечами. Мадам де Шатлю взяла одну из них.
— Он видел его? — с тревогой спросила Валерия.
— Конечно, видел.
— Боже мой! Что скажет Жюльен?
Они разговаривали так, как будто меня не было. Мне вдруг стали невыносимы их тайны.
— Извините, — сказал я. — Мне пора уходить.
— Ну нет! — воскликнула мадам де Шатлю. — Идите сюда, мсье Прадье.
Она провела меня в комнату, где я прежде никогда не бывал, это была столовая, выглядевшая весьма торжественно, там стоял длинный стол, а вокруг него — стулья, обитые кожей, с большими блестящими шляпками гвоздей. Она поставила подсвечник на сервант, полки которого были уставлены старинными тарелками, и с живостью повернулась ко мне.
— Вы догадались… Не отпирайтесь. Да… Это летчик, он был сбит под Туром. Что вы намерены теперь делать?
— Ничего.
— Мы в ваших руках. Вы можете донести на нас.
— Я, мадам, донести на вас?!
Она не предложила мне сесть. Я стоял перед ней как подсудимый.
— Вы принимаете меня за подлеца, — сказал я в ярости.
— Ах! Простите меня, мсье Прадье. Вы обещаете мне молчать? Я все вам объясню. Садитесь, прошу вас.
Руки ее дрожали. Передо мной была несчастная, испуганная женщина.
— Мы все здесь участники Сопротивления, — продолжала она. — Жюльен — бывший унтер-офицер. Это он доставляет к нам людей, которые прячутся, — летчиков, вроде Джона, политических деятелей, евреев, подвергающихся гонениям. Мы переправляем их в Испанию тайным путем, этого пока еще никто не раскрыл. Малейшая неосторожность грозит нам тюрьмой, а вы знаете, что значит тюрьма в настоящий момент.
— Знаю.
— Вы в этом уверены? У нас были товарищи, которых уже пытали, расстреливали. Вот что нас ожидает, если вы…
— Но я даю вам слово.
— Этого мало, — сказал кто-то у двери.
— Ах, это вы, Жюльен, — молвила она. — Входите. Валерия рассказала вам?
— Да, и теперь по милости этого господина мы попали в хорошую переделку… А ведь я вас, кажется, предупреждал. Его следовало удалить сразу же, как только вы узнали, что он ходит к Плео. Уроки могли подождать.
Он подошел ко мне и поднял свечу, чтобы лучше видеть меня.
— На вас и в самом деле можно рассчитывать?
Я возмутился. Все эти подозрения становились нестерпимы.
— Мадам, — запротестовал я, — скажите ему, что я порядочный человек.
— Жюльен, — прошептала мадам де Шатлю, — я думаю, ему можно верить.
Жюльен поставил подсвечник на сервант и погрозил мне пальцем.
— Вы будете в ответе, если с нами что-нибудь случится. Осторожнее, молодой человек. Не забывайте, речь идет о вашей жизни. Теперь вы волей-неволей наш. А тот, кто хочет остаться в стороне, — уже предатель.
— Полно, Жюльен, успокойтесь, — вмешалась мадам де Шатлю.
Она впервые улыбнулась мне, и эта улыбка решила все.
— Поверьте, я вовсе не в стороне, — с горячностью сказал я. — Но что я могу поделать, я всего-навсего учитель!..
— Среди нас немало учителей, — заметил Жюльен. — И уверяю вас — они неплохо со всем справляются. Никто, конечно, не требует, чтобы они взрывали мосты. Зато они очень помогают нам в деле пропаганды. Вам никогда не приходило в голову, что вы можете, например, распространять газеты?
— Меня никто никогда об этом не просил.
Они с мадам де Шатлю обменялись взглядом.
— Вы и вправду из ряда вон, — заметил он и, положив мне руку на плечо, довольно бесцеремонно подтолкнул меня.
— Так вас, стало быть, надо приглашать драться! Вы дожидаетесь, пока за вами придут и попросят? Ну что ж, я готов: прошу вас, как мужчина мужчину.
Я был не в состоянии ничего ответить. Посуди сам: всего полчаса назад я рассказывал тебе о согласовании и определении в латыни, а теперь от меня, можно сказать, требовали, чтобы я с оружием в руках сражался против оккупантов!
Мадам де Шатлю настойчиво смотрела на меня. Она наверняка поняла, что я чувствовал, и потому сказала:
— Никто не имеет права насильно заставить вас что-то делать, мсье Прадье.
А потом, обращаясь к Жюльену, добавила:
— Дайте ему время подумать. Это слишком важное решение.
Я понял, что если и дальше буду медлить, то уроню себя в ее глазах. Представь себе эту сцену, которой колеблющийся свет свечи придавал фантастический оттенок: три наших лица, похожие на лики, начертанные мелом на фоне тьмы. Взгляды в этот миг были исполнены патетической силы. Словно дело происходило в катакомбах в момент принесения клятвы.
— Ну как — да? — спросил Жюльен.
— Да.
— Долго же вы заставили себя ждать! — воскликнул он.
— Будет, Жюльен, — с упреком в голосе сказала мадам де Шатлю. — Спасибо, мсье Прадье. Вы поступили мужественно.
— А Кристоф знает?
— В общих чертах. Он слишком мал. Главное, он знает, что надо молчать. Я держу его дома, чтобы он не поддался искушению рассказать своим приятелям компрометирующие нас вещи.
В вестибюле неожиданно зажегся свет, и Жюльен включил люстру. Мы были ослеплены, испытывая некоторое стеснение при ярком электрическом освещении. Наступило тягостное молчание.
— Что касается доктора Плео, — начал я.
— Да, — подхватила она. — Лучше будет, если вы перестанете ходить к нему.
— Не согласен, — отрезал Жюльен. — Я, напротив, предлагаю, чтобы мсье Прадье ни в чем не менял своих привычек. Здесь всем известно, что он не занимает активной позиции. Так пусть все будет, как было. Плео даже может служить ему прикрытием, а может оказаться для нас источником нужных сведений, если мсье Прадье проявит известную долю ловкости.
— Вы предлагаете мне вести двойную игру? — изумился я.
— Черт побери, старина, каждый делает, что может. Вам представился случай попасть в дом явного коллаборациониста. Так воспользуйтесь им.
— Мне кажется, доктор Плео не так уж опасен.
— А что вам еще надо? Разве вы не знаете о его связях с комендантом Мюллером? А его друг Бертуан? Разве он не начальник фашистской полиции? Мало того, Плео отказался выдать соответствующие справки ребятам, которые хотели уклониться от угона на принудительные работы. Результат: их отправили в Германию, и неизвестно, вернутся ли они оттуда. Нет, тут дело ясное: Плео заслуживает дюжины пуль. И он свое получит, будьте уверены. Он уже получил. Я спокоен. Его час придет. И возможно, благодаря вам. Если вы проявите смекалку, — а мы в этом не сомневаемся, — будет очень странно, если вы не добудете у него полезных для нас сведений.
— Это верно, Жюльен прав, — сказала мадам де Шатлю. — Я понимаю ваше отвращение. Но нам не приходится выбирать. Подумайте еще. Вы совершенно свободны. Каждый волен поступать по своему усмотрению.
Она протянула мне руку.
— Лично я очень рада тому, что вы с нами, мсье Прадье. Чувствуйте себя здесь как дома.
Жюльен проводил меня, вывел мой велосипед. Дождь почти перестал, но ветер свирепствовал, как никогда.
— Постарайся не простудиться, — сказал мне Жюльен. — И не бойся. Все наладится само собой, вот увидишь. Себя жалеть нечего, лучше пожалей тех бедных ребят, которые сегодня ночью отправятся на задание.
Я наскоро перечитал написанное. Да, все произошло именно так, как я описал тебе. Я ничего не опустил. Разве что разговор наш я передал не совсем точно: ведь столько лет прошло. Под конец, я это хорошо помню, Жюльен уже говорил мне «ты». Бедный и славный Жюльен, его убили несколько месяцев спустя неподалеку от Монлюсона, где он возглавлял группу партизан! Наши отношения складывались далеко не всегда гладко, но я о нем сильно горевал. Итак, я вернулся домой в страшном волнении, которое мне даже трудно передать тебе. Я был рад и в то же время встревожен, раздражен, меня одолевали сомнения, я ног под собой не чуял, словно актер, оробевший перед выходом на сцену.
На другой день я решил не ходить в лицей. Мне надо было побыть одному, чтобы сменить, так сказать, кожу, принять новый облик без посторонних глаз. Так я внезапно очутился в том мире, где на каждом шагу меня подстерегала опасность.
Глава 4
Ты понятия об этом не имеешь. Мне даже кажется, что сам ты не без удовольствия кинулся в бой, ибо по своему темпераменту ты — вояка. К тому же ты прошел подготовку в Сен-Мексанском военном училище. У тебя есть оружие, и ты умеешь им владеть. Мои же ощущения были сродни ощущениям зайца в день открытия охоты. Разумеется, виной тому пока было только мое воображение. Опасность была еще далека. Но мне надлежало относиться к ней всерьез и рассматривать арест как вполне реальную возможность. Если кто-то из беглецов, скрывавшихся время от времени в замке, будет арестован, меня тоже могут схватить как человека из окружения мадам де Шатлю. Во всяком случае, такой риск существовал. Поэтому мне следовало быть наготове, чтобы не струсить в нужный момент.
Вначале, мне кажется, это больше всего мучило меня. Я старался истребить в себе свойственное каждому из нас чувство привязанности к завтрашнему дню, незыблемую веру в будущее. Мне следовало учиться жить в настоящем, словно в мыльном пузыре, где дышать можно с превеликой осторожностью. Я прекрасно сознаю, что это была своего рода игра с определенными правилами. Но я был так молод! В двадцать пять лет я все еще был мальчишкой, к тому же страсть к Эвелине преисполнила меня гордыни, а кроме того, мне вскружило голову то обстоятельство, что я будто бы вступил в ряды секретной организации. Хотя на самом деле ничего такого не было. Я, как обычно, ходил в лицей, и никто мной не интересовался. Однако это не мешало тому, что в собственных глазах я значительно вырос и по-новому смотрел теперь на окружающий меня крохотный мирок. Я испытывал гордость, читая в газетах о том, что «террористы» вывели из строя паровоз или трансформатор. И дрожал за себя, когда узнал об арестах патриотов. Что же касается Плео, то я, как было условлено, регулярно навещал его. Он встречал меня с неизменным дружеским расположением. Говорил всегда с открытым сердцем. Разговоров наших я, конечно, не записывал, но кое-что помню до сих пор.
— Более всего меня выводит из себя то, — любил он повторять, — что нас принимают за подлецов. Возможно, вы об этом ничего не знаете, но я потерял почти всю клиентуру. Я уже не даю консультаций. Довольствуюсь работой в больнице. К счастью, у меня есть немного денег. Страна эта на краю гибели, мсье Прадье. И если бы я не опасался, что кое-кто из моих друзей может не понять меня, то уже давно бы сложил свои чемоданы.
— И куда бы вы поехали?
— Далеко… В какую-нибудь совсем новую страну… В Аргентину, например! Или в Бразилию!.. Туда, где нет необходимости отчитываться в каждом своем слове. У меня вот где сидят и Франция, и Виши, и Лондон, арманьяк и бургундское!
А я тем временем, вспоминая слова Жюльена о «дюжине пуль», старался подтолкнуть его поскорее принять решение об отъезде. Почему? Да потому что нельзя хладнокровно смотреть на человека, который ходит взад-вперед у тебя перед глазами, набивает трубку, и думать про себя: «Через несколько месяцев он умрет, а я ничего не сделал, чтобы помочь ему!»
Мне хотелось бы объяснить тебе природу тех чувств, которые я испытывал к Плео. Но у меня не получается. Этот человек был щедрым, тут нет сомнений. Щедрым и добрым. Но было в нем и этакое гурманство по отношению к жизни, которое побудило его, должно быть, совершить не одну низость. Пари готов держать, что он занимался мелкой спекуляцией на черном рынке. Я чувствовал, как он увязает в сетях позорного пособничества. Но если говорить откровенно, он был мне очень симпатичен, несмотря на все его недостатки, которые, впрочем, я мало знал. К тому же мне хочется подчеркнуть, что он ни разу не попробовал втянуть меня в круг близких ему людей, хотя прозелитизм в ту пору был в порядке вещей. Он тщательно оберегал мою свободу, тогда как в замке, напротив, Жюльен твердо решил прибрать меня к рукам. Это был странный период моей жизни. Я являлся в замок. Тотчас же после урока мадам де Шатлю надолго задерживала меня. Насколько раньше она казалась мне холодной и высокомерной, настолько теперь она была любезной и внимательной. Она расспрашивала меня о детстве, о моей учебе. Я вынужден был, чуть ли не против воли, рассказать ей об Эвелине, — это ее страшно заинтересовало. Ей хотелось знать все.
— И с тех пор вы ни разу с ней не встречались?
— Нет.
— Но хоть иногда-то вы, верно, думаете о ней?
— Нет. (Это было неправдой, но я догадывался, что такой ответ доставит ей удовольствие.)
— До чего же мужчины могут быть жестоки! — со смехом сказала она.
Ибо, несмотря на все свои заботы, она умела смеяться. Иногда она даже подшучивала надо мной, правда, очень мило. Например, спрашивала:
— Как ваше сердце?
— О! Полностью излечилось.
— Это правда?
— Честное слово.
— В добрый час. Потому что теперь мы не имеем права оглядываться назад.
Я покидал ее, с каждым разом все более поддаваясь ее чарам. Стоявший на страже Жюльен тащил меня на кухню.
— Ну что? Как Плео?
— Все так же.
— Кого ты видел у него?
— Никого.
— Ну и простофиля же ты. Он никому при тебе не звонил?
— Нет.
— А ты уверен, что он не опасается тебя?
— Уверен.
— Ладно. Попробуем с другого конца. Нам известно, что он каждый день от четырех до семи ходит в свой клуб играть в шахматы. Ты должен научиться играть в шахматы. И пусть он тебя пригласит!
— Как это? В шахматы играть очень трудно.
— Ничего, попробуй. Ты ведь умница. Вот и покажи, на что ты способен. Нам надо знать, что там затевается в этом клубе.
Он наливал мне стаканчик белого вина, и я снова шел к Плео. Потом возвращался в замок. Плео очень плохо отзывался о своей бывшей жене, а мадам де Шатлю на чем свет поносила бывшего мужа, ибо теперь она давала волю откровенности. Слова их источали яд. Ни один из них не желал складывать оружия.
— Он все так же пьет? — спрашивала она меня.
— Я ни разу не видел его пьяным. Но что верно, то верно — бутылка всегда у него под рукой.
— Война, видно, ничему его не научила. Полагаю, он стал прятаться после того, как в него стреляли. Верно, знает, что его ждет. А в любовницах у него все та же высокая блондинка, которую видели то там, то тут… ее зовут, кажется, Гертруда?
— Не знаю. Он весьма сдержан на этот счет.
— Это он-то сдержан! Ни за что не поверю. Просто, может быть, прогнал ее, а другую еще не нашел. Не думаю, чтобы он изменился. Раньше я не могла даже держать прислугу.
А он, со своей стороны, стал насмехаться, когда я как-то случайно произнес имя Жюльена.
— Где это она его откопала, беднягу? Мне его жаль. Представляю, как он стоит перед ней на задних лапках и ждет подачки.
Но на самом деле на задних лапках стоял не Жюльен, а я! И вскоре я влюбился всерьез. Это было неизбежно. Незаполненность моего существования, частые встречи с этой красивой молодой женщиной, которая принимала меня теперь как друга, и, наконец, ощущение риска, которому я подвергался из-за нее… В силу всех этих причин я мало-помалу принял ее сторону и стал разделять ее обиду, так как понимал: чтобы найти путь к ее сердцу, надо придерживаться ее мнения.
Однако Жюльен понял это раньше меня. Он тоже всеми силами старался угодить ей, и я быстро уловил, что именно он диктовал свою волю им всем. Я говорю «всем», ибо мне стало известно, благодаря какому событию он сумел занять в жизни мадам де Шатлю то место, которое занимал. Тайна была у них законом для всех. Я говорю «для всех», потому что мне доводилось встречать в замке странных людей, которые через несколько дней пропадали, как, например, тот самый Джон, упавший с неба и исчезнувший без следа. У некоторых из них были довольно странные имена, вернее прозвища или подпольные клички: Фронтиньян,[24] Монлюк…[25] Когда я расспрашивал о них Жюльена, он таинственно прикладывал палец к губам.
— Уймись. Чем меньше будешь знать, тем лучше для тебя.
Однако его уловки не ускользали от меня. Так, например, он не упускал случая подогреть недобрые чувства, которые испытывала мадам де Шатлю по отношению к Плео. Это был как бы способ ухаживать за ней. Хотя, пожалуй, это слишком громко сказано. На деле Жюльен скорее походил на преданного пса, чем на воздыхателя. И потому нередко показывал мне свои клыки. Правда, не без оглядки на свою хозяйку, опасаясь рассердить ее, но в то же время давая мне понять, что я всего лишь молокосос, втянутый чуть ли не силой в подпольную борьбу. Он довольно скоро отказался от своей идеи ввести меня в круг друзей доктора, но во что бы то ни стало хотел так или иначе использовать меня, возможно, для того, чтобы проверить. Зная к тому же, что мадам де Шатлю полностью поддерживала его в этом, он, не стесняясь, относился ко мне как к «необъезженному» новичку, ему, видно, нравилось это слово, и он любил повторять его, поскольку оно напоминало ему то время, когда он служил в кавалерии.
Он уводил меня в подсобное помещение, где у него была оборудована комната, похожая на монашескую келью, и там пытался учить меня уму-разуму. Он объяснял мне структуру своей организации: низовая ее ячейка состояла из шести человек, то есть шестерки. Над ними стоял руководитель, возглавлявший группу из тридцати человек, в которую входило пять шестерок, — и так до самого верха, причем отдельные ячейки этой пирамиды были строго изолированы одна от другой.
— Таким образом, в случае провала ущерб будет ограничен определенными пределами. Представь себе, если кто-то не выдержит и заговорит под пыткой, — он выдаст лишь самую малую часть всей сети.
Пытка! Это слово болью отдавалось во мне, вызывая внутреннее смятение, которое мне с превеликим трудом удавалось скрывать.
— Ну-ну, — говорил Жюльен. — Думать об этом не следует, но готовым быть надо. Наша роль состоит прежде всего в том, чтобы собирать сведения и вести пропаганду, а кроме того, уничтожать предателей, когда представится возможность. Видишь ли, если бы мне посчастливилось оказаться на твоем месте, я бы непременно воспользовался случаем и ликвидировал Плео. В назидание другим. Уверяю тебя, после этого его дружки попритихли бы. К несчастью, в больнице до него не доберешься. А остальное время он прячется дома.
Однажды он спросил меня:
— Ты придумал себе какую-нибудь кличку? Меня, например, зовут Портос, а мадам Арманду — Элоизой. Тебе это кажется смешным, но мы ведь не в игрушки играем, и ты это прекрасно знаешь. А кличка, может статься, спасет тебе жизнь.
Так, шаг за шагом, я проникал в тайны подполья. Я ни к чему не стремился, ничего еще не решил. Я был подобен пловцу, попавшему в водоворот и не ведающему, к какому берегу его прибьет. Гордиться тут, конечно, нечем, но я обещал тебе не скрывать ничего. Итак, я стал подыскивать себе подпольное имя и, перебрав их несколько, остановился в конце концов на Пирре, так как его имя стало символом дорого достающихся побед и еще потому, что этот несчастный был убит во время осады Аргоса: какая-то старуха бросила на него с крыши черепицу. Поразительное предчувствие. Подумать только, черепица!.. Однако я должен со скрупулезной точностью продолжать свое изложение, чтобы ты сам мог обо всем судить, имея на руках неоспоримые факты. Может быть, ты помнишь о том, что в конце января в Клермон-Ферране был убит начальник гестапо, и тиски стали сжиматься. Последовали расстрелы, репрессии. Комендантский час начинался в двадцать часов. И беда обрушивалась на тех молодых людей, которые не имели при себе полного набора необходимых бумаг: удостоверение личности, карточки на хлеб, на мясо, на жиры, на табак, служебный пропуск, а может, и еще что-нибудь, о чем я уже забыл. Плео выходил из себя.
— Вот чего они добились. Ради удовольствия подстрелить полицейского скольких французов они обрекли на смерть!
Жюльен потирал руки.
— Прекрасно сработано! Пускай знают, что мы не бараны. Хотя лично я по-прежнему убежден, что лучше убивать коллаборационистов. Расплачиваться приходится не так дорого, потому что фрицам на это наплевать, а эффект ничуть не меньше.
Мадам де Шатлю поддерживала его.
— Гражданских теперь больше нет, — говорила она, — так же как нет невиновных и не втянутых в борьбу.
Мне не очень импонировали инквизиторские черты ее характера. Плео не солгал мне. Она нередко обнаруживала пугавшую меня суровость. Думаю, она, не дрогнув, могла бы командовать подразделением, выделенным для расстрела. А между тем ей была свойственна и нежность. Она проявила немыслимую заботу обо мне.
— Марк, вы недостаточно тепло одеты.
С некоторых пор она стала называть меня Марком, без тени нежности, разумеется, а просто выказывая мне дружеское расположение, как и положено братьям по оружию, да простят мне такую смелость. Она отыскала для меня шарф с варежками. В то время как Плео следил за моим давлением и снабжал меня укрепляющими лекарствами, его бывшая жена, по странной иронии судьбы, добывала для меня шерстяные вещи, проявляя заботу о моем здоровье. Свою благодарность мне приходилось делить между двумя противниками. Ах! Уверяю тебя, положение было не из приятных, в особенности с того момента, когда оба они заметили, что каждый из них стремится использовать меня, дабы получить какие-то сведения о другом.
— Попробуйте объяснить ей, если представится случай, что я не изменю своих убеждений, — просил меня Плео.
А она в ответ:
— Втолкуйте ему, что его никто не в силах будет спасти!
Я старался смягчать удары, но за моими недомолвками они сразу же угадывали то, что я желал скрыть. И в конце концов я невольно превратился в разносчика оскорбительных выпадов.
— Видите ли, мсье Прадье, если бы я не был честным человеком, я бы непременно донес на нее. Она и в самом деле становится опасной. А если бы вы не были столь умны, она бы уже давно обратила вас в свою веру, признаюсь, меня удивляет, как это она до сих пор вверяет вам крошку Кристофа.
Он осторожно прощупывал почву, задаваясь, видимо, вопросом: а не переметнулся ли я в другой лагерь?
Я торопился успокоить его.
— Она думает, что я хожу к вам исключительно из-за вашей библиотеки. Она принимает меня за совершенно безвредного интеллигента. Впрочем, так оно и есть.
Однако я лгал, ибо к тому времени Жюльен уже доверил мне первое задание. Правда, довольно безобидное! Мне было поручено незаметно разложить по полкам в учительской экземпляры «Комба». Хотя, должен заметить, текст, напечатанный в газете, был достаточно смелым. Там напоминалось об успехах союзников и предвещалась их высадка, которая в определенный момент должна смести оккупантов. Передовая статья грозила предателям жестокой карой. Воспользовавшись окном в своем расписании, я поспешил избавиться от этих листков, которые жгли мне руки. Я складывал их вчетверо и рассовывал по полкам, причем некоторые никак не влезали. Проходили минуты. Прислушиваясь к малейшему шороху, я вспотевшими руками продолжал свой посев, сознавая риск, на который шел, и в то же время испытывая неведомый мне дотоле самозабвенный восторг. Покидая учительскую, я чувствовал себя взломщиком. Тебе это, возможно, кажется глупым, но мне удался, так сказать, налет «наизнанку». Вместо того чтобы унести, я принес. Вот и вся разница, но переживания, удовлетворение содеянным и самим собой, я думаю, были те же. Я стал удачливым нарушителем закона.
На другой день в лицее начался целый переполох. Была пущена по рукам бумага, грозившая «виновным» (это множественное число чрезвычайно меня обрадовало) примерным наказанием. «Есть, однако, отчаянные орлы!» — сказал кто-то из моих коллег. Выражение это мне очень понравилось. И я почувствовал себя «орлом». Жюльен сразу же заметил это и строго призвал меня к порядку.
— Не заносись, слышишь? Один неверный шаг — и конец. Так и на виселицу угодить недолго.
Он обладал даром находить слова, которые буквально парализовали меня. Я тут же представил себе виселицу и выстроившихся солдат. Понадобилось время, чтобы прогнать этот образ и установить равновесие между неоправданной самоуверенностью и паническим страхом. А Жюльен тем временем настойчиво продолжал тренировать меня.
— Сегодня вечером пойдешь в Центральную книжную лавку. Знаешь, где это? Хорошо. Наверное, знаешь и мсье Гастона… того, что работает в отделе учебников. Так вот, скажешь ему, но чтобы никто не слышал: «Сегодня прекрасная погода». Он ответит: «Только бы она подержалась» — и вручит тебе объемистый пакет, который ты привезешь сюда на своем багажнике.
— Это все?
— Если бы ты знал, что в пакете, ты бы не болтал попусту. Единственное, что могу тебе сказать: в твоих интересах проскользнуть незамеченным.
Я отправился в книжную лавку. Мсье Гастон был старичок в очках, с бородкой, серый халат делал его похожим на мыша, деловито сновавшего вдоль длинного стола, как всегда заваленного школьными учебниками. Ну и борец! Мне и прежде не раз приходилось иметь с ним дело. Я пожал ему руку, а потом произошла сцена, которая в тот момент вовсе не показалась мне смешной. Вместо того чтобы доверительно прошептать: «Сегодня прекрасная погода», я во всеуслышание заявил, словно констатируя радостный факт: «Сегодня прекрасная погода». На что он вежливо ответил:
— Давно уж пора бы. — Потом, вздрогнув, сдвинул пальцем очки на нос и прошептал: — Повторите, пожалуйста.
— Сегодня прекрасная погода.
И тогда этот старичок, на лице которого лежала печать лишений и забот, радостно улыбнулся и, сложив руки, сказал:
— Только бы она подержалась! — Затем шепотом добавил: — Будьте осторожны!
И положил передо мной тщательно упакованный пакет, по объему равный двум толстым словарям, но по весу много тяжелее. Я так никогда и не узнал, что в нем было. Когда я привез пакет в замок, Жюльен не стал открывать его при мне, сказал только:
— Ну-ну, не такой уж ты простофиля.
Потом потащил меня за собой в свою комнату и снова стал учить уму-разуму.
— Если заметишь, что за тобой наблюдают, следят или, того хуже, — явятся с расспросами к твоей квартирной хозяйке, ты немедленно — слышишь, немедленно — отправишься по адресу, который я тебе укажу. Тебя переправят в маки. Сразу забудь обо всем: никакого лицея, никакого Кристофа, ничего. И не вздумай тащить с собой чемодан. Ни в коем случае. Пойдешь в Шамальер, найдешь там бакалейную лавку Шаблу. Спросишь мсье Бенуа. Он-то и займется тобой.
— Значит, вы думаете?..
— Ничего я не думаю. Я просто пытаюсь предвидеть. Если с тобой что-нибудь случится, мадам Арманда не простит мне. Ты умеешь стрелять из пистолета?
— Нет.
— Не знаю, чему вас только учат!
— Во время войны я был в нестроевой службе.
— Намучились там, видно, с тобой! Я дам тебе оружие. Так тебе будет спокойнее. Иногда достаточно мелкого калибра — 6,35, чтобы выпутаться из беды.
Несмотря на все мои страхи, я мало-помалу привыкал к своей двойной жизни. Теперь я с самым естественным видом умел глядеть по сторонам или же наблюдать за улицей, ловя ее отражение в витрине. Я забыл о своем прошлом, даже не вспоминал об Эвелине. Время от времени я писал родителям привычные слова, стараясь успокоить их. Работать почти перестал. Отложил в сторону Расина. Уроки наводили на меня тоску. У меня было одно желание: поскорее вернуться к мадам де Шатлю, чтобы ее взгляд проник мне в самое сердце, затопив его светом, словно солнце. Ради ее удовольствия я часто придумывал какие-нибудь детали, касающиеся Плео. Например, рассказывал, что он худеет, что он явно боится, что шахматы перестали интересовать его.
— Ах, эти шахматы! — воскликнула она однажды. — Сколько зла причинили они нам! Подумайте только, ведь он играл даже заочно, по переписке. И всегда был рассеян, а стоило хоть немножко отвлечь его, он становился зол как собака.
— Но зачем вам было выходить за него замуж? Разве вы не знали его привычек?
— Знала. Я часто думала об этом, Марк. Так вот, мне кажется, что предчувствие несчастья притягивает людей не меньше, чем надежда на счастье. Головокружение. Зов бездны! А может быть, и неосознанная потребность ненавидеть, столь же сильная, как и потребность любить!
Я выбрал эти фразы из множества других, о которых не упоминаю, потому что они особенно поразили меня. Главное, чего я добиваюсь, это дать тебе возможность сориентироваться, помочь тебе разобраться, понять то положение, в котором я очутился. С одной стороны, я был влюблен в Арманду, но влюбленность моя носила налет мечтательности, несовместимой с серьезностью переживаемых нами событий; с другой стороны, будучи другом Плео, я оказывал ему плохую услугу, хотя и не предавал его; и, наконец, став участником Сопротивления, я, оставаясь как бы на уровне любителя, все более и более втягивался в эту беспощадную борьбу, не осознав еще до конца всю ее суровость. Между тем трагедия надвигалась. Но виноват я был не больше, чем те рыбешки, что попадают в сеть. Именно это я по мере возможности пытаюсь растолковать тебе.
После операции «книжная лавка» последовало несколько незначительных заданий, выполненных без особых осложнений. А затем произошел случай с передатчиком, и тут я чуть было не попался. Жюльен тщательно проинструктировал меня. Я должен был пойти в маленький гараж на проспекте Эдуард-Мишлен и сказать хозяину: «Газогенератор Портоса сломался». Тогда он даст мне чемодан с передатчиком, который мне следовало отнести в замок. «Это будет большая тяжесть, — предупредил меня Жюльен, — очень большая. О велосипеде и думать нечего, учитывая качество покрышек. Представляешь, если они лопнут по дороге?.. Тебе придется тащить груз в руках. А хватит ли у тебя сил?»
Он набил старый чемодан землей, и я таскался с ним по парку под его неусыпным оком. «Держись прямее!.. Левую руку вдоль тела… Когда останавливаешься отдохнуть, делай вид, что сморкаешься, что-то ищешь в карманах… А когда снова двигаешься в путь, не показывай, что подымаешь пуды железа, Боже ты мой!..»
Испытание было тяжелым, но так как мадам де Шатлю наблюдала за мной из гостиной, я собрал все свои силы и в конце концов стал походить на человека, который возвращается откуда-то домой, но не может идти быстро из-за несколько обременительного багажа. Жюльен с точностью определил мой маршрут: площадь Карм-Дешо, улица Якобинцев, улица Монлозье, площадь Жода, улица Блатен… Короче, ты представляешь это себе не хуже меня.
В то утро, по счастью, не шел снег. Я, словно детскую считалку, твердил про себя: «Газогенератор Портоса сломался…», наслаждаясь нелепостью этой абсурдной формулы. Город еще не просыпался, не торопясь сбросить с себя оцепенение зимнего утра. Лишь время от времени мне попадалась машина немецкой армии. Над вокзалом высоко в небе клубились пары локомотивов. Я чувствовал себя уверенно и довольно бодро.
В гараже меня ждал хозяин. Он без лишних слов вручил мне чемодан, и я ушел. Я прекрасно знал, что если меня поймают, то я пропал. Быть застигнутым с передатчиком в руках означало пытку и смерть. Но обо всем этом я думал несколько отрешенно, словно о прочитанных в романе приключениях некоего Марка Прадье. Не подумай только, что я отличался храбростью! Мне случалось не раз задаваться вопросом: «А что они, в сущности, делают? Бьют кулаком или ногами? А может быть, избивают дубинкой?» Ходили слухи и о других пытках, которые я плохо себе представлял. Взять хотя бы ванну — что это на деле означает? Голова моя работала, но тело мое, мои нервы не принимали в этом участия. Я дошел до площади Карм-Дешо и тут заметил солдат, задержанные машины. Я сразу же распознал полицаев. Меня охватила паника, настоящая паника, та самая, от которой холодеет под ложечкой, а в голове образуется пустота. Я пробовал размышлять. Вероятнее всего, речь шла о самой обычной проверке документов. Проспект Республики был перекрыт, бульвар Дюма — тоже. Но улица Якобинцев, уходившая влево, казалось, была свободна. Я двинулся туда, не убыстряя шага и стараясь с легкостью нести чемодан, тяжесть которого чуть не выворачивала мне руку.
— Эй! Стоять!
Взяв меня на мушку автомата, полицай двинулся ко мне. Выхода у меня не было. Из черного «ситроена», стоявшего в нескольких шагах от меня, вышли еще два человека, тоже вооруженные. Должно быть, я позеленел. Дыхание стало прерывистым.
— Ваши документы.
Я достал их, предварительно осторожно опустив чемодан на тротуар.
— Откуда идете?
— С вокзала.
И тут меня осенила безумная идея. Я нахмурил брови, делая вид, что рассердился.
— Я друг доктора Плео. И иду как раз к нему.
Полицай заколебался, потом пошел посоветоваться с одним из тех двоих, должно быть унтер-офицером. Они следили за мной издалека, о чем-то совещаясь. У меня рубашка прилипла к телу. Я едва стоял на ногах. Полицай вернулся, отдал мне документы.
— Все в порядке.
Я схватил чемодан, вовремя вспомнив наставления Жюльена: «Не показывай, что подымаешь пуды железа», и удалился на дрожащих ногах, охваченный то ли ужасом, то ли радостью.
Глава 5
— Бедный Марк, — сетовала мадам де Шатлю, — мы нагружаем вас такими трудными заданиями, знаю, вам это тяжело. Но у нас никого не было под рукой, а передачи надо возобновить во что бы то ни стало.
— Он справился, показал себя молодцом, — с гордостью заявил Жюльен.
Мы отобедали в той самой столовой, где окончательно решилась моя судьба. Ты часто вспоминал потом о нашей первой общей трапезе. Именно тогда ты обнаружил, что я стал, по неизвестным пока тебе причинам, тем новым персонажем, которого твоя приемная мать против своего обыкновения окружала вниманием. На уроках в твоем присутствии она по-прежнему называла меня мсье Прадье. А тут вдруг я превратился в Марка, и Жюльен сидел за столом вместе с нами, к тому же ели мы великолепное жаркое, словно отмечали какое-то важное событие, смысл которого ускользал от тебя. Ты старался не пропустить ни слова. Кто был этот Плео, имя которого то и дело повторялось в наших разговорах?
— Вот видишь, — говорил мне Жюльен (еще одно обстоятельство, достойное удивления, — он был со мной на «ты»!), — мы недооценивали истины. Плео заигрывает с фашистской полицией. Он дружит не только с Бертуаном. С оккупационными войсками — тоже. Иначе тебя арестовали бы. Постарайся понять. Коллаборационизм — это все или ничего. Тут не может быть середины. Либо ты с ними, либо ты против них. Тебе порой кажется, будто мы чересчур жестоки. Ничего не поделаешь, приходится!
Мадам де Шатлю предложила мне еще мяса:
— Чтобы прийти в себя после всех этих волнений. И поверьте мне — Жюльен прав. Если вам внезапно пришло в голову сказать, что вы друг Плео, значит, в глубине души вы уже чувствовали: он заодно с ними.
— А иначе чего ему прятаться? — подхватил Жюльен. — Таких типов, как он, и следует убивать: сами прячутся, а других подставляют.
Признаюсь, вернувшись домой, я стал сильно колебаться. Честно говоря, я мог бы простить доктору многие слабости. Но стать его сообщником — нет. В этом вопросе я хочу абсолютной ясности: я уже говорил тебе, что любил мадам де Шатлю. Это истинная правда. Но если я соглашался выполнять опасные задания, то уже не только ради того, чтобы возвыситься в ее глазах. Я не хочу, чтобы ты считал меня дураком. С каждым днем мне становилось яснее, что я приношу пользу. Наконец-то я на что-то годился. Вряд ли стоит и дальше развивать эту тему. Я дал себе слово рассказать обо всем без прикрас, неукоснительно следуя истине. Скажем, так: я выбрал нужный лагерь и был в этом уверен, поэтому теперь у меня появилось желание по-новому взглянуть на Плео. Какое-то время меня действительно интересовала его затянувшаяся ссора с бывшей женой — согласен, но то был период, когда я нащупывал свой путь. Отныне с этим было покончено. С другой стороны, я не обладал способностями шпионить, к тому же мне казалось смешным сообщать Жюльену кое-какие мелкие наблюдения, которыми никто не мог воспользоваться. Плео оставался все тем же. Он по-прежнему был со мной очень приветлив. Иногда мне хотелось крикнуть ему: «Да уезжайте же наконец! Спрячьтесь где-нибудь! Бросьте ваших друзей. Они вас погубят!» Я стал реже заглядывать к нему. Тогда он сам явился ко мне. Я проверял тетради, когда он постучал в дверь.
— Я проходил мимо, — сказал он. — Не хочу беспокоить вас. Но я вам кое-что принес.
Он положил на стол рядом с моими книгами маленький пакетик, который я хотел было развернуть, но он остановил меня.
— Это котлеты. Их здесь четыре. Ваша хозяйка пожарит их вам. У нее наверняка осталось немного растительного масла.
Представь себе мое смущение. А он без всяких церемоний снимал перчатки, прохаживался по комнате, подходил к окну, возвращался к печке, трогал ее.
— Для работы у вас не слишком жарко. Проклятое время! Проклятая страна! Вы позволите?
Он набил трубку и сел в кресло, стоявшее в ногах кровати.
— Вас совсем не видно. Много дел? Диссертация?
— Да, диссертация… лицей, ну и все остальное.
— Вы по-прежнему ходите в замок?
— Хожу к мальчику.
— Прекрасная Арманда будет в ярости. Вряд ли она не поставит вас в известность. Я попал в чертовски трудное положение. Молодой Готье… хотя вам это, разумеется, ни о чем не говорит. Готье владеют здесь двумя большими отелями. Они занимают довольно видное положение. А я имел несчастье признать их сына годным для военной службы. О! Эта целая история. Два года назад я оказался причиной маленького скандала. В одном из их отелей я провел ночь с молодой дамой. Муж красавицы узнал об этом… В общем, что тут говорить… Но я отплатил им тою же монетой. Когда их сына призвали для отправки на принудительные работы, я счел его пригодным. Это единственный их сын. Мне казалось, что работа на заводе пойдет ему на пользу… этакий сопляк, а принимал себя за пуп земли, честное слово! Но ему не повезло. Только что получено сообщение: он погиб во время бомбардировки… Отец, естественно, наипервейший голлист! И теперь он наверняка считает меня убийцей. Признаю, мне это крайне неприятно.
Я начинал понимать, зачем он принес мне эти котлеты. Ему хотелось услышать слова утешения, а кроме того, он думал, что с моей помощью узнает мнение Арманды, то есть, иными словами, мнение своих противников. Впрочем, он прямо так и сказал без всяких обиняков:
— Когда пойдете туда, упомяните в разговоре дело Готье. Вы окажете мне услугу. Вас это не затруднит?
— Нисколько. Но чем это вам поможет?
— Возможно, мне придется принять какое-то решение.
С этими загадочными словами он выбил над ведром с углем свою трубку и встал. Вид у него и в самом деле был озабоченный. Чтобы хоть что-нибудь сказать, я спросил его весьма глупо:
— Ну, а как шахматы? Вы по-прежнему играете?
— О! Шахматы, — молвил он. — Мюллера перевели. Остальные ходят нерегулярно. Опасность носится в воздухе.
— Сердце больше не лежит?
— Вот именно. Ни сердце, ни в особенности голова. — Он кивнул на пакет, лежавший на столе. — Прекрасные котлеты! Со сметаной и шампиньонами — одно объедение… Вот несчастье! Ну стоит ли умирать ради какого-то Данцига!
Он пожал мне руку, надел перчатки, приоткрыл дверь и, подозрительно оглядев лестницу, прошептал:
— Мсье Прадье, вы все еще думаете, что мне следует уехать?
— Более, чем когда-либо.
— Спасибо.
Он тихонько закрыл дверь. Увидеть его мне довелось лишь дней через десять, в клинике. В тот же вечер у нас с тобой был урок. Кажется, мы переводили как раз то место, где Марий останавливает нашествие тевтонских племен. Таинственное совпадение. Мадам де Шатлю вышла за покупками. Но Жюльен ждал меня у дверей.
— Я попробовал накачать твое заднее колесо, — сказал он мне. — Но ему, видно, крышка, а чтобы достать другое, придется встать пораньше.
Он увлек меня в парк. Я как сейчас вижу небо с красными отблесками над Пюи-де-Дом. День становился длиннее. Снег растаял. Легкий западный ветер, все еще немного колючий, возвещал о наступлении марта.
— Ты в курсе дел твоего дружка Плео?
— Никакой он мне не дружок.
— Да знаю. Просто к слову пришлось. Так вот, он продал свой дом. Потихоньку. Одному коммерсанту из Бриуда. Я узнал это от одного из наших друзей, который работает в отделе оформления имущества… И не только дом. Все. Мебель, книги и даже свой старый «ситроен». Это подтвердил мне наш парень из префектуры, потому что теперь на продажу требуется разрешение префектуры. Если ты еврей, то не имеешь права. Банда негодяев.
— Ну и что?
— Как это «ну и что»? Это доказывает его намерение смыться. Однако! Неужели он воображает, что мы позволим ему надуть нас, особенно после гибели младшего Готье! Хотя и об этом ты ничего не знаешь. Между нами говоря, потеря невелика. Парень был нестоящий! И все же это не резон, чтобы отправлять его на бойню. Принудительные работы — это все равно что угон в Германию. Так что без крови не обойтись. Твоему Плео недолго торжествовать.
Он понизил голос и взял меня под руку.
— Особенно теперь, когда мы получили оружие… Иди… Я тебе покажу. Пока что оно спрятано здесь.
Он повел меня к бывшей конюшне, где все еще пахло кожей и лошадьми. Отодвинув старые ящики, он вытащил три объемистых мешка.
— Я еще не успел вырыть яму. Займусь этим сегодня ночью. Но погляди-ка!
Он открыл один из мешков, набитый какими-то твердыми предметами.
— Представляешь! Два автомата, одиннадцать пистолетов, гранаты.
Он достал из мешка пистолет, подержал его в руках, проверяя, насколько он тяжел, прицелился куда-то в парк, на который опускалась ночь.
— Конечно, этого мало, чтобы отправить гостей обратно в Берлин. Но главное — начало.
Он присел на корточки и стал рыться в мешке, счастливый, как ребенок, получивший рождественский подарок.
— Хочешь, и тебе дам?
— Я никогда в жизни не держал в руках пистолета, — сказал я.
— Я тебя научу. Тут никакой хитрости нет. Вот, взгляни, — калибр 7,65. Он не тяжелый. И в руках держать удобно. — Он вытащил обойму и вновь легко защелкнул ее. — Чтобы пуля попала в ствол, надо потянуть назад. Смотри хорошенько… Гоп… все в порядке. Потом ставишь предохранитель. Вот так. Ясно? Давай бери. Бери, тебе говорят. Ты должен уметь защищаться.
Я схватил оружие кончиками пальцев, словно это была змея.
— Попробуй положи в карман.
Я попробовал не слишком уверенно.
— Очень неудобно, — заметил я.
— А на пояс?
— Не могу же я так ходить в лицей, словно бандит какой.
— Н-да, я не подумал об этом. Погоди! А вот этот маленький пистолет калибра 6,35 подойдет? Тут и думать нечего. Этой штукой уложить человека на близком расстоянии ничего не стоит. А места почти не занимает. Ладно. Отдаю тебе. Только он весь в масле. Сначала надо почистить. Вот увидишь, еще благодарить будешь.
По мере того как все эти мелочи приходят мне на память, я чувствую, меня охватывает суеверный ужас. Все произошло так, словно некий злой дух решил посмеяться надо мной, собрав воедино разрозненные нити моей несчастной судьбы. В конце концов, это несправедливо! Но хватит медлить, пора рассказать тебе все. Я собирался уже уходить, когда вернулась мадам де Шатлю. Она была крайне возбуждена.
— Гибель Готье-сына наделала много шума. В городе только об этом и говорят. Люди возмущены поступком Плео. Ах! Если бы я была мужчиной!
Она смотрела на меня. Я весь съежился и вдруг заторопился уйти. Я всеми силами гнал мысль, которая, верно, пришла сейчас ей в голову. Настолько она была нелепа. Нет. Я, должно быть, ошибся. Поспешно простившись с ними, я сел на свой велосипед. Не может же она в самом деле потребовать от меня свершить казнь над доктором потому лишь, что я легко мог вступить с ним в контакт.
Работая педалями, я со всех сторон обдумывал этот вопрос, но был совершенно спокоен, не сомневаясь в том, что неправильно истолковал ее взгляд. Сама по себе идея была не лишена смысла. Плео не опасался меня. Когда я приходил к нему, он всегда бывал один. Стреляя в упор из маленького пистолета, который должен вручить мне Жюльен, убить его не составляло труда, я был уверен в этом. И никаких следов. Я принялся обыгрывать эту идею, подобно романисту, придумывающему сцену. Вечером в постели я подправлял ее, добавляя кое-какие новые краски. Под конец, очень довольный собой, я шел к Арманде, чтобы сообщить ей: «Я убил твоего мужа», и она падала в мои объятия. На этом я уснул.
На другой день я, разумеется, пожимал плечами, вспоминая свои досужие вымыслы, которые оставили тем не менее неприятный осадок в моем сознании. Какая нелепость. Ведь никто не просил меня об этом. И никогда не попросит. То были всего лишь капризы любви с ее приливами и отливами. Да, бывали моменты, когда я сердился на мадам де Шатлю и Жюльена за то, что они подчинили меня своей воле. Тебе, верно, кажется, что я слишком мудрствую. Мой бедный Кристоф! Какому наказанию я тебя подвергаю. Хватит ли у тебя духу дочитать до конца это послание? Быть может, ты получишь его, вернувшись после очередной операции в горах Ореса, и отложишь со словами: «Марк надоел мне. Он свое отвоевал. Пусть же и мне даст теперь спокойно воевать». Поэтому попробую рассказывать быстрее.
Новость я узнал двумя или тремя днями позже, когда раскрыл местную газету, которую моя хозяйка приносила мне по утрам. На первой странице было набрано крупным шрифтом: «Доктор Плео подвергся нападению и ранен террористами». Плео попался точно так же, как и в первый раз. Он приехал из больницы около половины первого и, повернувшись спиной к улице, открывал ворота своего гаража. Он не заметил подстерегавшего его велосипедиста и был ранен в ногу. Истекая кровью, он все-таки сумел добраться до дома и позвонить. Его сразу же отправили в клинику, но в какую — газета умалчивала. Жизнь его, похоже, была вне опасности. Газета, разумеется, требовала принятия энергичных мер «против злоумышленников, которые продолжают сеять волнения и чья беззастенчивость растет день ото дня».
Взволнованный, я, как только смог освободиться, тут же помчался в замок. В вестибюле стоял чемодан. Между тем мадам де Шатлю сохранила полное спокойствие.
— Вы, конечно, в курсе, — сказала она. — На всякий случай я отправляю Кристофа к моей матери в Каор. Мало ли что может случиться. Если доктор Плео считает меня в ответе за то, что произошло, нас могут потревожить.
Она слабо улыбнулась.
— Самое смешное, что мы тут ни при чем. И пока даже не знаем, кто это сделал. Возможно, кто-то действовал в одиночку и к тому же весьма некстати, потому что теперь у доктора будет постоянная охрана. Подите проститесь с Кристофом.
Остальное ты, конечно, помнишь. В глубине души ты был вовсе не прочь совершить это путешествие, уехать из этого большого печального дома. Но не показывал своих чувств. Жизнь уже научила тебя носить маску безразличия. Ты преспокойно поцеловал меня в щеку, и Жюльен отвез тебя на вокзал.
Мадам де Шатлю оставила меня обедать. Мы сидели вдвоем в огромной столовой, где свободно могла расположиться целая дюжина гостей. Есть нам не хотелось.
— Оливье (она впервые называла Плео по имени) теперь опасен для нас, — сказала она. — Ему представился отличный случай отомстить. Два покушения, чуть ли не одно за другим, — поставьте себя на его место. Он наверняка постарается навлечь на меня неприятности. Не думаю, что он донесет на меня, — у него нет доказательств. Хотя что такое доказательства в настоящий момент!.. Но он может направить подозрения на наш дом. В таком случае нам придется прекратить все наши дела, а это настоящая катастрофа.
Она протянула мне блюдо с земляной грушей.
— Вся наша сеть под угрозой, — продолжала она. — Оливье должен исчезнуть. Он находится в клинике Святой Маргариты, это все, что я знаю. Не могли бы вы оказать нам услугу, Марк?
— Конечно!
— Навестите его. Вас-то ведь пропустят. Заметьте расположение внутри, запомните номер палаты. Когда мы будем знать это, можно принять какое-то решение. В сороковом году Жюльен был мастером по неожиданным налетам. Может, он что-нибудь придумает. А меня, признаюсь, события выбили из колеи.
Она протянула руку через стол и схватила мою.
— Марк… не судите обо мне плохо. Я всегда слишком много требую от тех, кого люблю. От Оливье в свое время я, наверное, требовала больше, чем он мог дать. Я не выношу разочарований. А теперь — тем хуже для него. Вы ведь согласны со мной? Из-за него все мы подвергаемся серьезной опасности. Разве это не правда?
Я был ее пленником.
— Да, — сказал я, пытаясь вложить хоть немного пыла в свой ответ.
— В таком случае необходимо действовать, и чем скорее, тем лучше.
Жюльен согласился с этим, когда присоединился к нам в гостиной, где нам подали скверный кофе. Ты уехал в Каор. Отныне мы были свободны и могли без всяких помех разрабатывать план военных действий.
— Я немного знаю эту клинику, — сказал Жюльен. — Ее держат святые сестры. Когда они уходят на службу в часовню, туда, должно быть, можно проникнуть, не привлекая особого внимания. Какие-нибудь десять минут! Мне понадобится не больше десяти минут, чтобы ликвидировать его, но для этого я должен располагать четким планом. На тебя можно рассчитывать?
— Конечно.
Как далеко заставят меня зайти эти двое? Сердце у меня сжималось при мысли о готовящемся убийстве. Что я такое говорю? Об убийстве, которое я готовил вместе с ними. О, я знаю! Ты солдат. Жизнь других для тебя ничего не значит. Но «другие» — это бойцы, неизвестные тебе люди. Я же должен был встретиться с Плео лицом к лицу. Он протянет мне руку. Улыбнется мне, потому что я его друг, я тот, кто спас ему жизнь. А теперь я собирался погубить его. Направляясь в клинику, я забыл обо всем остальном: о его слабостях, может быть, даже о подлости, о его связях с фашистской полицией. Я был просто несчастным человеком, которого вынудили пойти. И я шел приканчивать раненого!
У входа в клинику я наткнулся на полицая, однако вид его формы нисколько не устрашил меня, напротив, я даже обрадовался. Если клинику охраняют, значит, налет не удастся. Полицай потребовал у меня документы, потом позвонил по телефону.
— Тут пришли к доктору Плео… Учитель… по имени Марк Прадье.
Долгое время он молча слушал, потом указал мне, куда идти.
— Второй этаж. Шестнадцатая палата.
Думай, что хочешь. Но теперь я сердился на Плео за то, что его так охраняли, словно он опасался именно меня. Второй полицай сидел справа от вестибюля, в застекленном кабинете. Мне пришлось во второй раз предъявить свои документы. Мало того, он проверил мои карманы, чтобы удостовериться, что у меня нет оружия.
Видно, они и в самом деле дорожили своим Плео! Полицай проводил меня до самой палаты и остался в коридоре, в нескольких шагах от двери, которую только что открыл мне. Вид у доктора был неважный. Он был очень бледен, но голос его не утратил силы.
— Входите, мсье Прадье. Я очень рад. Присаживайтесь.
Я придвинул стул к его изголовью.
— Ну вот, видите. Они опять промахнулись, пуля прошла насквозь, не причинив большого вреда. Видно, меня не так-то легко ухлопать. Если бы я не потерял столько крови, то был бы уже на ногах. Правда, нога некоторое время не будет сгибаться. Это называется — дешево отделаться. Но я знаю кое-кого, кому сейчас невесело.
Он подвинулся ко мне и понизил голос:
— Я полагаю, вам известно, кто это сделал?
— Нет.
— Полноте! Все ясно как на ладони. В первый раз еще могли быть какие-то сомнения. Разумеется, пистолет держала не она сама, но она всегда была в наилучших отношениях с семейством Готье. Так что все это легко увязывается. Но если в ее распоряжении имеются наемные убийцы, представляете, что это означает?
Он снова лег на спину, у него перехватило дыхание.
— Лежите спокойно, — сказал я.
— Это означает, что она играет активную роль в Сопротивлении. Я, как видно, недооценивал ее. Мне казалось, что она сердится на меня по чисто личным причинам. А это гораздо глубже.
Тут вмешался полицай.
— Не утомляйтесь, доктор, прошу вас, — сказал он с порога.
— Да нет, — возразил Плео. — Ничего. Он нисколько не мешает мне, напротив.
Я встал. Он снова заставил меня сесть и повернулся, хотя и не без труда, на бок.
— Я хочу доверить вам одну вещь, — прошептал он, наблюдая из-за моего плеча за охранником. — Я собираюсь уехать… Пока это еще не окончательное решение, но, во всяком случае, я долго все обдумывал. Вы, может быть, помните? Ведь это вы подсказали мне такую идею. С тех пор я много об этом размышлял.
— Не говорите больше ничего, — зашептал я в ужасе. — Я не хочу знать.
— Да бросьте, — прервал он меня. — Вы же не станете меня выдавать, да и потом, когда придет время, мне могут понадобиться ваши услуги. А главное, пусть знает, что последнее слово все равно останется за мной, слышите? Верно вам говорю. Это не пустые угрозы. И я хочу, чтобы вы передали ей мое предупреждение. Пускай и она дрожит, в свою очередь. В данный момент полиция ищет виновного среди моих бывших больных. Мне довольно произнести лишь имя Арманды. Ее тут же арестуют, станут допрашивать… и одному Богу известно, что тогда откроется. Пока что я не собираюсь называть ее имени. Но вечно молчать не буду.
— А если она не имеет никакого отношения к этому нападению?
— Не смешите меня, мне больно смеяться.
Полицай вошел в палату и положил руку мне на плечо.
— Свидание окончено. У меня строгое предписание.
— Вы еще придете? — спросил Плео.
— Обязательно.
— Не сюда. Ко мне. Там мы сможем поговорить как следует. Еще раз спасибо.
Представляешь себе, как я был взволнован. Это был поединок не на жизнь, а на смерть, и я, к несчастью, оказался между двумя врагами. Причем противники настолько хорошо знали друг друга, что у меня не было никакой возможности обмануть их, сказать, например, мадам де Шатлю, что Плео не собирается будто бы мстить ей; или сказать Плео, что его бывшая жена не хочет ничего предпринимать против него. Они на расстоянии угадывали намерения друг друга, и оба наверняка готовы были идти до конца. В тот же вечер я отправился в замок.
— Ну как, можно? — спросил Жюльен издалека, едва увидев меня.
— Нет. Его охраняют.
— Ах ты, черт! Вот невезение.
Я в подробностях рассказал им о своей беседе с Плео, смягчив немного некоторые места.
— Короче, — подвела итог мадам де Шатлю, — он воображает, что это мы.
— Да, примерно так.
— И в клинике действительно ничего нельзя предпринять, — сказал Жюльен.
— Ничего.
— Что ж, придется тогда у него дома. Другого выхода нет.
Наступило долгое молчание. Каждый из нас обдумывал сложившуюся ситуацию, из которой, казалось, не было выхода.
— Если мы просто будем ждать, — заметил Жюльен, — полицаи могут нагрянуть со дня на день. Я даже удивлен, почему он до сих пор не выдал нас.
— О, это в его манере, — сказала мадам де Шатлю, — заставить страдать исподтишка!
— Значит, когда он придет домой, — продолжал Жюльен. — Вот только неясно… Ведь он никого не принимает… Хотя как же…
Он повернулся ко мне.
— Тебя-то он принимает!
— Вы хотите, чтобы?..
Снова молчание. Идея прокладывала себе дорогу. Я следил за ее развитием по их лицам. Зажав руки между колен, я пытался сдержать охватившую меня панику.
— Достанет ли у тебя смелости?.. — прошептал Жюльен.
— Только не это, — сказал я. — Все, что хотите, только не это!
— А что же делать…
Я услыхал, как в вестибюле бьют часы. Шесть редких ударов, похожих на удары моего сердца. Я слышал все. Слышал, как Жюльен медленно потирает руки, как копошатся черви в деревянной обшивке стен, слышал тишину в доме и кровь, мою кровь, стучавшую в висках.
— Вам известна цель, Марк, — сказала мадам де Шатлю. — Но если вы не чувствуете себя в силах…
— Ничего, — вмешался Жюльен. — У него хватит силы, только ему надо дать время прийти в себя.
Я смотрел на своих палачей, которые, в свою очередь, с важным видом смотрели на меня. Ах! Как бы мне хотелось в ту минуту быть настоящим мужчиной!
— Ступай отдохни, — сказал Жюльен. — На сегодня довольно.
Глава 6
Я пишу эти строки и почти физически ощущаю твое удивление. Ты задаешься вопросом: «Как же ему удалось прикончить Плео, если он такой впечатлительный?» Терпение. Я подошел если не к самому драматическому месту в своем рассказе, то, во всяком случае, к самому деликатному. Настал момент, когда все имеет значение, и молчание, может быть, даже больше, чем слова. Мне хотелось бы дать тебе почувствовать то, что мне довелось пережить после этого, час за часом. Это было невыносимо. Моя первая реакция походила на бегство. В течение нескольких дней я избегал ходить в замок. Я до одурения кружил по кругу в своих рассуждениях. Убить? Невозможно. Прежде всего, я не сумею. Пощадить Плео? Невозможно. Я понял, что он заговорит. Посоветовать Арманде укрыться где-нибудь? Невозможно. Она станет презирать меня. Сказать Жюльену: «Сделайте это сами!» Невозможно. Доктор постарается обезопасить себя. Что же остается? Я перестал есть. Не мог спать. Превратился в скрипучий механизм и обучал чему-то своих учеников только в силу привычки. Дома я больше лежал, так как ноги отказывались держать меня. В глубине души я уповал на какую-нибудь болезнь, которая избавила бы меня от необходимости принимать решение.
Ах! Значит, я не ошибся, предположив, что мадам де Шатлю пришла тогда в голову мысль, будто я могу свершить казнь, убив Плео. Черт возьми! Влюбленный, стало быть, на все готов, так, что ли? Если любишь меня, делай, что надо. А не сделаешь — значит, не любишь. Мне случалось посылать ее ко всем чертям. В конце концов, разве я не доказал свою добрую волю? Да, но если случится несчастье и ее арестуют, я никогда не осмелюсь взглянуть на себя даже в зеркало. А если я буду слишком долго собираться в замок, они решат, что я трус. Пойми меня хорошенько, мой дорогой Кристоф. В моих терзаниях не было никакой подлости. Просто я был не способен стрелять в беззащитного человека, не мог встать у него за спиной и целиться в затылок, ибо, отгоняя прочь ужасные картины, я не мог тем не менее не кинуть, так сказать, взгляда в их сторону. И тогда начинал буквально стонать. В такие минуты я ненавидел себя. Я уходил из дома. Шагал по улицам куда глаза глядят. А когда возвращался, Плео снова был тут как тут. Он ожидал меня, невидимый, но ощутимый, словно призрак, с которым мне предстояло противоборствовать весь вечер, всю ночь, находя успокоение лишь в краткие мгновения лихорадочного сна.
Но в конце концов я все-таки отправился в замок. Я шел туда, словно под прицелом автомата. Жюльен упаковывал пакеты.
— Осторожность никогда не повредит, — сказал он. — Если заявятся фрицы, могут рыться сколько угодно. В доме пусто. Не бойся. У нас есть план отступления. Но может, они и не придут.
Он не решился сказать: «Это зависит от тебя»; меж тем я понял тайный смысл его слов и пришел в еще большее замешательство.
— Кстати, — продолжал Жюльен, — у меня кое-что есть для тебя… Поди сюда.
Я последовал за ним в его комнату. Он вытащил из шкафа какую-то тряпку, развернул ее и протянул мне маленький пистолет.
— Теперь он в полном порядке, — сказал Жюльен. — Можешь вертеть его как угодно. Не испачкаешься.
Он силой вложил его мне в руку.
— Ну хватит, не стой как пень. Он тебя не укусит. У тебя есть задний карман? Положи его туда… Видишь, почти совсем незаметно. А теперь иди. Не мешает? Прекрасно. Давай испробуем его.
Испытывая отвращение, я с опаской, нехотя последовал за ним. Жюльен, напротив, не чувствовал ни малейшего стеснения и был счастлив, словно готовился к предстоящему пикнику. Он увлек меня в подвал, третий по счету, самый дальний и самый глубокий.
— Здесь нас никто не услышит. Я снимаю предохранитель и крепко держу оружие — помни про отдачу. Она не такая уж сильная, но новичка всегда застает врасплох. Смотри на меня. Совсем не обязательно вытягивать руку, как это делают в кино. Наоборот. Локоть слегка согнуть, но не напрягаться. Представь себе, что держишь в руках пульверизатор или зажигалку.
Он нажал на спусковой крючок. Сухой щелчок выстрела заставил меня вздрогнуть, но должен признать, что, несмотря на отзвук, в нем не было ничего оглушительного.
— Теперь ты… Можно начинать. В обойме шесть пуль. Оставь себе две или три, этого вполне хватит.
Я чуть было не заартачился. Уж очень он был уверен в моем согласии. Но Жюльен уже поднял мою руку на нужную высоту, поправил пистолет.
— Стреляй.
От удара рука моя дернулась вверх. Дым щипал глаза. Но в общем в этом испытании не было ничего ужасного. Я нервно рассмеялся.
— Единственная трудность, — говорил Жюльен, — правильно послать пулю. Тут не надо колебаться. Либо в сердце, либо в голову. В сердце? У тебя нет навыка. Заденешь ребра, в лучшем случае — легкое, и через месяц этот малый опять очухается. Мой тебе совет — стреляй в голову. Встань немного наискосок и целься в висок. За разговором люди обычно ходят туда-сюда. У него нет никаких оснований следить за каждым твоим движением. Уверяю тебя, он ничего не почувствует. А если проявишь сообразительность, сойдет за самоубийство. Это было бы идеально. Никакого расследования, никаких подозрений, никаких арестов. Короче говоря, проще пареной репы. Ну что, справишься?
Я развел руками, выражая таким образом свою растерянность. Я уже ничего не понимал. Темень, запах пороха, ужас того, что предстояло совершить, — словом, меня тошнило от всего.
— Пошли наверх, — сказал Жюльен. — Держи пистолет при себе, чтобы привыкнуть. А у себя в комнате поупражняйся. Надо, чтобы ты всегда чувствовал его в кармане, словно это пачка сигарет или ключи… Кстати о сигаретах, вот, возьми пачку. Это «Кэмел». В последнее время нам кое-что сбрасывают с парашютами. Хорошая сигарета прочищает мозги.
Мы поднялись на свет. На последней ступеньке лестницы Жюльен остановил меня.
— Марк, — сказал он очень серьезно, — мы знаем, что требуем от тебя невозможного. Но в настоящий момент ребята, которые погибают, тоже совершают невозможное и все-таки идут до конца. А Плео самый настоящий предатель. И еще одно слово: не торопись. Дождись удобного момента, а если он не представится, никто не будет на тебя в обиде. Бывают случаи, когда сомнения достойны всяческого уважения.
Он обнял меня за плечи и дал последний совет:
— Если дело обернется скверно, садись на велосипед и гони к нам. Здесь все готово. Чтобы уйти отсюда, нам хватит и четверти часа.
Мне очень хотелось увидеть мадам де Шатлю, но она была в городе. Низко опустив голову, я шел вверх по улице Блатен с этим нелепым пистолетом в кармане. «Бывают случаи, когда сомнения достойны всяческого уважения», — сказал Жюльен. Стало быть, я мог выждать какое-то время, они не сразу сочтут меня трусом. Имел же я право дать себе некоторую отсрочку.
Я распечатал пачку «Кэмел», но закуривать не стал, потому что запах этого табака сразу выдал бы меня прохожим. Я перешел площадь Жода и, истерзанный своими тревогами, направился к собору. Религия никогда не играла значительной роли в моей жизни, но в тот вечер я испытывал потребность собраться с мыслями под этими сводами, к которым возносилось столько молений. Я преклонил колена у одной из колонн. «Господи, я осмелился войти сюда с пистолетом в кармане! Мне внушили мысль о насилии. Быть может, мне придется убить кого-то. Я хотел бы, чтобы в твоих глазах я был солдатом, а не преступником!» Так, не раскрывая рта, я довольно долго говорил с Господом. Вокруг меня женщины молились, взывая о мире, о возвращении узников… А я, я просил силы убить человека. Я вышел, возмущенный собственным лицемерием. В течение нескольких дней я боролся с самим собой, то обуреваемый внезапной решимостью совершить героический поступок, то впадая в такое уныние, что почти готов был обратить оружие против себя самого. Пистолет я спрятал под рубашками и время от времени доставал, чтобы посмотреть на него. Я вертел его с отвращением, потом клал на место и запирал на ключ дверцу шкафа, словно хотел помешать ему выйти оттуда. У меня было такое чувство, будто я живу рядом с маленьким хищником, очень коварным и опасным. Только в лицее я находил некоторое успокоение. По природе своей нелюдимый, я охотно задерживался теперь в учительской, где болтунов всегда хватало. Мне хотелось хоть как-то оттянуть момент возвращения домой, где ко мне безмолвно взывало спрятанное под бельем оружие. Однако не мог же я до бесконечности откладывать свой визит к Плео. Я уверил себя, что мне следует сначала провести нечто вроде разведки. Без всякого пистолета. С пустыми руками! Но, конечно, держаться настороже, чтобы представить себе необходимую последовательность движений, которые мне вскоре предстояло осуществить. Я явился и позвонил у двери доктора. Мне пришлось долго ждать, я догадывался, что он изучает улицу сквозь закрытые ставни. Наконец он открыл мне.
— Входите скорее. Идите вперед, дорогу вы знаете, а мне трудно быстро передвигаться.
Я заметил, что он хромает и что ему приходится опираться на палку.
— Я как раз собирался писать вам, только некому было отнести мое письмо. Прислуга меня бросила. От меня все бегут как от чумы.
— Как же вы питаетесь?
— Устраиваюсь кое-как. У меня есть некоторые запасы, банки консервов. К тому же осталось недолго. Я уезжаю, друг мой. Это решено. Да садитесь же.
Доковыляв до кресла, он тоже сел.
— Да, — продолжал он. — Мне надоело служить мишенью. Я взвесил все «за» и «против». Сомнений нет: война подходит к концу. Через несколько месяцев город будет в руках Сопротивления. Моя песенка спета. Но я вовсе не собираюсь дожидаться, пока кто-нибудь придет сюда и убьет меня дома.
Я молчал. Если бы он знал, несчастный, что убийца был уже тут, в нескольких шагах от него.
— Мои друзья предпочитают остаться, — продолжал он. — Это их дело. А я хочу исчезнуть, только незаметно. Я все приготовил. Мой дом продан вместе со всем содержимым.
— Вас станут разыскивать.
— О! Я буду далеко. Кажется, я уже говорил вам о Южной Америке. Так вот, я еду в Бразилию, чтобы начать там новую жизнь. Я достал себе фальшивые документы. Сейчас это нетрудно: столько людей умирает. Бумаги хоть и фальшивые, но не поддельные. Меня будут звать Антуан Моруччи, так звали беднягу, который умер в тюрьме месяц назад. У меня есть деньги и есть возможность без всякого риска перебраться в Испанию. А там я все улажу. Уж поверьте мне. Я все предусмотрел. Это стоило мне недешево, зато должно получиться.
— Когда же вы рассчитываете уехать?
— Через два дня.
— Уже!
Я не мог сдержать этого восклицания. Всего два дня, и он от нас ускользнет. И нет никакой возможности убить его! Сожаление, досада, облегчение, радость!.. Я испытывал так много противоречивых чувств, что вынужден был встать и пройтись по комнате, чтобы немного успокоиться. И тут, очутившись за спиной Плео, я обнаружил, что Жюльен говорил правду. Если бы у меня был пистолет, я преспокойно мог бы всадить ему пулю в висок. Клянусь, что в эту минуту я чувствовал себя достаточно сильным, чтобы выстрелить. Но длилось это не долго. Какая-то мерзкая слабость заставила меня безропотно опуститься в кресло.
— И вы, разумеется, собираетесь донести на нее? — спросил я.
Концом своей палки он чертил на ковре таинственные знаки.
— Представьте себе, нет, — сказал он наконец. — Я долго думал об этом. Видите ли, я уже здесь чужой. С Плео покончено. Я словно влез в кожу совершенно другого человека. Арманда теперь не в счет. Пусть это выглядит странно, но я отринул свое прошлое, свою страну, все, что давило на меня. Когда человеку столько всего не удалось, ему лучше забыть. А вы как думаете?
Я не мог высказать ему то, что думал. А думал я, конечно, о том, что для меня наступило избавление. Раз он решил не трогать Арманду и раз он собирался покинуть Францию, зачем было его убивать? Эта очевидная истина явилась мне как озарение. Но тут же возникли возражения. Ибо я всегда готов сомневаться.
— Вас узнают, как только вы выйдете на улицу. А это вам может дорого обойтись.
Он весело помахал палкой.
— Ничего подобного, — воскликнул он. — Потому что вы мне поможете.
— Я?
— Вы не откажете мне в этом, мсье Прадье. Вы единственный человек, кому я могу довериться. К тому же мне так мало от вас нужно. Вот что я намерен сделать. Если я сяду в поезд здесь, среди бела дня, об этом сразу же станет известно. Кроме того, я не могу пройти незамеченным со своей негнущейся ногой. В конце концов, даже если предположить, что я доберусь до вокзала, мои друзья тут же все поймут. Они решат, что я их бросил, что я выдохся, что я вообще негодяй. А это неправда. Но как заставить их понять, что я ставлю крест на своей жизни?
Нет. Я поеду в Париж ночным поездом, а сяду в Риоме. Вечером, в половине одиннадцатого, на вокзале никого не будет. А уж из Парижа доберусь до Испании. Говорю вам, у меня есть на что жить. Об этом я не беспокоюсь, хватит надолго. Единственная проблема — как добраться до Риома. Но и она будет решена, если вы согласитесь отвезти меня туда, потому что сам я из-за негнущейся лапы не могу вести машину.
— Так на машине?
— Да. Мы возьмем мою, а вы потом приведете ее обратно. Только не говорите, что вы не умеете водить.
— Конечно умею.
— Тогда все в порядке. Полчаса туда, полчаса обратно. Я дам вам ключи, так как машину необходимо снова поставить в гараж. Понимаете почему? Никто не должен знать, что я ею пользовался. Иначе станут допытываться, кто меня отвозил. А так вам ничто не грозит. И никто не догадается, что вы помогли мне, — ни шайка Бертуана, ни Арманда. Сегодня столько вокруг людей, о которых никто ничего не знает, — исчезли, и все тут! Обо мне, конечно, поговорят, но тем дело и кончится. А вас я ничем не хочу компрометировать, ни в коем случае. Застигнутый врасплох, я колебался. Но раз Арманде не грозит больше опасность и раз Плео надумал убраться ко всем чертям, чего мне разыгрывать из себя мстителя? Скажу Жюльену: «Его нет дома. Никто не знает, где он!» — и отдам ему пистолет.
— И вы никогда не вернетесь во Францию? — снова спросил я.
— Никогда. Это конченая страна. Так что вы решаете? Мне нужно знать сейчас, я должен уладить еще кое-какие мелкие дела.
Я был зол на него, зол на себя, а главное, устал от долгой борьбы с самим собой и потому склонил голову в знак согласия. Я говорил себе: «Через несколько лет, после победы, когда утихнет вся эта ненависть, а Плео, возможно, умрет, станет ясно, что я был прав, или, по крайней мере, я сам буду уверен в том, что поступил правильно».
О! Я понимаю, ты удивлен. «Значит, ты не убивал его!» Спокойно, прошу тебя. Я еще не кончил свою историю, мне еще многое предстоит сказать. А пока мы остановились на том, что я согласился отвезти Плео на вокзал в Риом. Он назначил мне свидание через день в половине десятого. Не стану рассказывать тебе о муках совести, которые терзали меня в оставшиеся часы. Я упорствовал, убеждая себя в том, что выбрал самое гуманное решение, а между тем меня все время одолевали сомнения. Я вынужден был признать, что внезапный отъезд Плео вполне меня устраивал. Но не становился ли я таким образом его сообщником? На это я ответствовал, что изгнание само по себе является тяжким наказанием и что жалость моя служит в конечном счете делу Правосудия. Я был жертвой обстоятельств, о которых вряд ли можно судить хладнокровно, я не мог поступить иначе. Итак, перехожу к фактам, попробую изложить их без всяких прикрас.
В условленный час я явился к Плео. Пистолет лежал у меня в кармане. Даже теперь мне трудно объяснить, зачем я его взял. Может быть, потому, что спускалась ночь? А может быть, чтобы придать себе смелости? Не знаю, во всяком случае, идея эта оказалась пагубной. Дул сильный западный ветер, пустынные улицы выглядели мрачно. Плео был доволен. Скверная погода облегчала нашу задачу.
— Я включил газогенератор, — сказал он мне. — Все в порядке.
Он приготовил не очень большой чемодан, положил на него свои перчатки и фуражку. Одет он был, как обычно: куртка и спортивные брюки. Он предложил мне выпить посошок.
— Если что-то вам здесь нравится, возьмите себе.
Я отклонил подарок. Он ковылял из одной комнаты в другую, бросал последний взгляд на то, что оставлял. В одной руке он держал бутылку коньяку, в другой — свою палку. Время от времени он прикладывался к горлышку.
— Больше всего я буду жалеть о своих шахматах. Старинные друзья!
Когда настало время уезжать, он постоял несколько минут посреди библиотеки, — уж не знаю, какие мысли носились у него в голове. Затем провел рукой по лбу и прошептал:
— Пошли!
Он запер ключом дверь, выходившую в сад, потом я караулил, пока он укладывал чемодан и заводил машину, — это всегда давалось ему с трудом. Вокруг — ни души, однако ночь была такой темной, а ветер завывал так громко, что вряд ли я мог заметить притаившегося в засаде врага. Наконец Плео вывел «ситроен» и закрыл ворота. Затем посадил меня за руль и отдал связку ключей.
— Эта проклятая нога не дает мне ходу. Я уж думал, что не справлюсь. Ну, в путь.
Я давно не водил машину, а газогенератор еще прибавлял трудности. Однако, проехав на малой скорости с километр, я почувствовал себя увереннее и прибавил газ.
Плео откинул голову на спинку сиденья и закрыл глаза. Из-за козырьков, выкрашенных в синий цвет, которыми были прикрыты фары, свет пробивался с трудом, и я ничего не различал, кроме дрожащих бликов. Не проехав и полпути, я уже весь взмок от страха сделать неверный поворот, руки мои дрожали. Тем не менее я беспрепятственно добрался до первых домов Риома и через пять минут уже остановился у вокзала. Плео открыл глаза.
— Вот мы и приехали. Благодарю вас, мсье Прадье. Я этого не забуду.
И еще добавил несколько слов, которые до сих пор звучат у меня в ушах:
— Вы снова спасли мне жизнь.
Я помог ему выйти. Подал ему палку и чемодан. На площади никого не было. Лишь ветер свистел вокруг машины. Слабый огонек светился внутри вокзала. Место казалось мрачным.
— Я помогу вам отнести чемодан, — предложил я.
Речь шла не о вежливости или доброте. Мне просто не терпелось избавиться от него. Он отказался.
— Документы на машину в ящике для перчаток. Ах да! Подождите. Я должен отдать вам кое-что.
Он расстегнул куртку и достал из внутреннего кармана плотно сложенные листки.
— Это мои продовольственные карточки. У меня есть другие, на новое имя. Доставьте мне удовольствие.
Он силой засунул их в карман моего плаща.
— Ну что ж, мсье Прадье, настало время прощаться. Желаю вам всего хорошего. Вы были мне настоящим другом. Еще раз спасибо.
— Доброго пути, — сказал я в свою очередь, а про себя подумал: «Только не вздумайте возвращаться!»
Он подхватил свой чемодан и исчез во тьме. Где-то в ночи слышалось громыхание поезда. Я глубоко вздохнул. Конец кошмару…
Так он уехал? Да, мой бедный Кристоф. Уехал. Позднее я был с лихвой вознагражден за подвиг, которого не совершал. Я стал героем. Ну как же, человек, который убил предателя Плео! Увы! Я никого не убивал. Но подумай сам. На том этапе моей печальной истории я еще ни в чем не был виноват. Я твердил себе это долгие годы спустя. Ведь тогда, на той продуваемой ветром площади, я и подумать не мог, что стою на краю катастрофы. По воле жестокой судьбы, сам того не ведая, я очутился в ловушке. Правда, ловушка еще не захлопнулась. Что я собой представлял в ту пору? Ровным счетом ничего. Безвестный учитель без всякого будущего. Рядовой участник Сопротивления без особых заслуг. Влюбленный без надежды на взаимность. Ничем не примечательный человек. Я и собирался оставаться таковым. Никто никогда бы не узнал, что я помог Плео бежать, и Плео вскоре был бы забыт. Итак, я включил мотор — этого жеста оказалось достаточно, чтобы решить мою судьбу.
Из Риома я хотел выехать через бульвар Клемантель. Двигатель работал ровно. Сам я, откровенно говоря, не думал конкретно ни о чем. Мне хотелось спать. Безумно хотелось спать. И вдруг у выезда на дорогу в Клермон-Ферран я наткнулся на полицейский контроль.
На обочине стоял фургончик, трое полицаев в касках, с автоматами в руках преградили мне путь. Я затормозил. Один из них направил на меня свет карманного фонаря. Пока я опускал стекло, он успел изучить салон машины.
— В чем дело? — спросил я.
— Выходите.
— Но я…
— Выходите.
Он доставил меня к фургончику.
— У машины врачебный номер, — сказал он остальным.
— Обыщи ее, — приказал офицер. — А вы предъявите документы.
Он изучил их при свете своего фонаря. Внутри у меня все похолодело, я уже знал, что произойдет дальше.
— Вы учитель, мсье Прадье. И почему-то разгуливаете ночью на машине врача.
К нам подошел третий, держа автомат наготове.
— Я одолжил ее на время, — сказал я в ответ.
Повысив голос, он спросил того, кто изучал содержимое отделения для перчаток в салоне «Ситроена»:
— Нашел что-нибудь?
Полицай высунул голову из дверцы.
— Автомобильные документы на имя доктора Плео. Кроме того, есть Ausweis.[26]
— Странно, — заметил старший. — Придется его забрать. Ну, живо. Руки скрестить над головой — и в фургон. Поль, следи за ним.
— Но я же ведь ни в чем не виноват.
— В дежурной части разберемся, — сказал тот, кого назвали Полем, и ткнул дулом своего автомата мне в спину.
Едва успев сесть, я побелел от ужаса, почувствовав в заднем кармане маленький пистолет. Я пропал. Я погиб. Ехали мы совсем недолго. Я снова очутился в Риоме. Они привели меня в бывший магазин, переоборудованный в дежурную часть, где из-за раскаленной докрасна печки нечем было дышать. На стенах висели плакаты. И кроме того, портреты Дарлана[27] и маршала,[28] а на гвоздях были развешаны каски и портупеи. За деревянным столом, сожженным во многих местах окурками от сигарет, сидел полицай с обнаженной головой и злобным, налитым кровью лицом, он не торопясь, пристально разглядывал меня, а его подчиненный тем временем излагал суть дела.
— Вы обыскали его? — спросил он.
— Нет еще.
— Так обыщите. А вы — руки вверх.
Полицай бросил сначала на стол мой бумажник, который остался у него. Потом обнаружил в моем плаще продовольственные карточки на имя Плео.
— Та-ак, — сказал офицер. — Посмотрим, что будет дальше.
А дальше были ключи от дома доктора, затем мои собственные.
— Сколько же у вас ключей, мсье Прадье?
Затем, после моего носового платка и коробки спичек, появилась едва начатая пачка «Кэмел».
— «Кэмел»! — сказал этот ужасный человек. — Как интересно.
Полицай ощупал мои брюки и вскрикнул:
— Шеф! Угадай, что он с собой носит!
Потом осторожно положил на кучку моих вещей пистолет. Офицер любезно улыбнулся, взял оружие, удостоверился, что пистолет на предохранителе, и сунул кончик мизинца в ствол. Палец стал черным.
— Значит, пистолетом пользовались совсем недавно. — Он молниеносно вытащил обойму и вытряхнул ее содержимое на стол. — Одна пуля в стволе. Три в обойме. Следовательно, вы стреляли дважды. Хотел бы я знать, в кого. Дайте ему стул, Поль. Он на ногах не стоит. Итак?.. В кого же?
— Ни в кого.
Сзади я получил такую оплеуху, что у меня перехватило дыхание.
— Довольно, — приказал офицер. — Мсье Прадье наверняка расскажет нам, почему он разгуливает в такой поздний час в чужой машине, да еще с пистолетом в кармане. Послушайте, мсье Прадье, вы, я думаю, человек разумный. Поставьте себя на наше место. Никто из нас не желает вам зла. Нам просто любопытно узнать, вот и все. Говорите!
Я уже понял, что мне нечего было рассказывать. Даже если я расскажу им правду о Плео, они все равно не поверят мне — из-за пистолета. К тому же у меня вдруг появилось непреодолимое желание молчать. Было ли это мужеством? Честное слово, не знаю. Скорее всего такое поведение соответствовало моей натуре. Нанести удар — это было, пожалуй, свыше моих сил, но терпеть — на это я был способен, и меня обуяло упрямое, отчаянное желание узнать, сколько времени я смогу продержаться, ибо они наверняка станут пытать меня.
— Где доктор Плео?.. Мы хорошо его знаем. Он лечил меня. Это отличный доктор, и мне будет очень жаль, если… Вы должны понять меня, мсье Прадье… Поль, позвони, пожалуйста, доктору.
Поль снял трубку, набрал номер. Наступило глубокое молчание, и, несмотря на мое пылающее ухо, в котором шумело, я услышал слабые стоны, доносившиеся из соседней комнаты. Там, видимо, томился другой узник. Офицер взял сигарету «Кэмел» и, закуривая ее, спросил:
— С черного рынка?.. Или с парашюта?.. Другого выбора нет. Но в любом из этих случаев вы обязаны отчитаться. Впрочем, мне известно, сколько может получать учитель, так что черный рынок исключается. Но в таком случае… Вы связаны с партизанами? Посмотрите, как все нанизывается одно на другое. На доктора покушались уже дважды. Вполне логично предположить, что вам поручили сделать это в третий раз. Вы убили его двумя пулями вот из этого пистолета. Затем погрузили Плео в его собственную машину и отправились куда-нибудь на природу — спрятать труп.
Он улыбался.
— Нас обвиняют в грубости. Однако мы тоже умеем рассуждать. Итак, я спрашиваю вас: где вы бросили тело?
— Я не убивал его, — воскликнул я. — Уверяю вас.
— Хорошо, хорошо. Напрасно вы так горячитесь. Мы просто беседуем, и ничего больше.
Тут вмешался Поль.
— Никто не отвечает, — сказал он.
— Так я и думал, — заметил офицер. — Было бы странно, если бы ответили. Вы слышали, мсье Прадье? Никто не отвечает. А это означает, что доктора Плео нет дома, он отсутствует среди ночи. Причем его Ausweis и его продовольственные карточки находятся у вас. Поэтому вам, мсье Прадье, не остается ничего другого, как чистосердечно признаться.
Тут он неожиданно обогнул стол и, схватив меня за отвороты плаща, выкрикнул мне в лицо:
— А ну признавайся, гнусная тварь! Ты за кого нас принимаешь? Говори живее, не то я тебе всю морду разобью. Где доктор? Ты не решаешься сказать, что убил его, а сам дрожишь от страха. Почему, спрашивается? Да потому что ты в самом деле его убил.
Он с такой силой толкнул меня, что стул опрокинулся, и я грохнулся на пол.
— Встать! — приказал он. — Мсье, видите ли, желает изображать из себя патриота. Вот потеха-то. Ну что ж, значит, повеселимся, запри его вместе с судьей. Завтра утром обоих отправим в Клермон-Ферран. Уж там-то они у нас попляшут!
Полицай пинком ноги швырнул меня к стене, а потом ударом кулака отправил в соседнюю комнату. Это помещение было похоже на первое. В углу лежал человек с окровавленным лицом, руки его были связаны за спиной. Когда дверь захлопнулась, я подошел к нему. Смотреть на него было страшно. Меня охватил неописуемый ужас: через несколько часов я сам стану таким же жалким. Один глаз у него совсем заплыл, рот был разодран, и что самое невероятное — тело его, казалось, не могло больше заполнить ставшую слишком просторной одежду, он был похож на огородное пугало, из которого вытряхнули солому. И хотя в голове у меня еще шумело от удара, я опустился возле него на колени и тут только заметил, что он смотрит на меня правым глазом… веко распухло, но взгляд сохранял ясность и твердость, свидетельствуя о несломленной воле. Я ничем не мог ему помочь. У меня не было даже носового платка, чтобы стереть кровь и пот с его лица. Тогда я сел на пол рядом с ним и положил руку ему на плечо. Он слабо застонал. Красные пузырьки лопались у него на губах.
И потянулись нескончаемые минуты. По недосмотру они оставили мне наручные часы. Я следил, как убывает ночь, и вскоре совсем пал духом. Спасения не было: в конце концов, когда они забьют меня до полусмерти, я может быть, не выдержу и отвечу на их вопросы, только что это даст? Что я могу ответить? Что Плео переменил имя и теперь зовется Моруччи? Они засмеют меня. Что мне дали этот пистолет с тем, чтобы я убил Плео, но я им не воспользовался? А две пули, которых недоставало? Это были пробные выстрелы. Довольно, мсье Прадье, хватит дурака валять! Итак, я заранее был обречен на молчание. Сколько бы я ни вопил о правде, они все равно сочтут меня за упрямца и пустят в ход все свое дьявольское умение. Этой ночи, Кристоф, одной этой страшной ночи было бы довольно, чтобы оправдать меня на суде, если таковой бы свершился.
Опустившись возле незнакомца, я ощущал его лихорадочную агонию, надежда оставила меня, тело мое сводило судорогой, потому что я не смел пошевелиться из опасения лишить его братской поддержки, помогавшей ему бороться со смертью, а сам считал минуты, отделявшие меня от пытки. Неясные мысли лениво сменяли одна другую. Если бы не было Эвелины, если бы я не приехал в Клермон-Ферран, если бы не встретился ни с Армандой, ни с Плео, если бы не наткнулся на того английского летчика, если бы… если бы… Перебирая все свои несчастья, я порою впадал в забытье. И вдруг вспоминал, где я нахожусь. И тогда обливался холодным потом, спина моя липла к стене.
Я пытался представить себе свою смерть. Потом без всякого перехода решал вдруг, что если избегну ее, — хотя на это не было ни малейшей надежды, — то переменю профессию. Никакого учительства, никакой латинской грамматики. И тут на память мне внезапно стали приходить сложнейшие ее правила. Должно быть, временами я немного бредил. Из соседней комнаты не доносилось ни звука. Быть может, наши тюремщики спали? А может, ушли? Я слишком устал, чтобы попробовать проверить это. К тому же я был прикован к своему бедняге соседу, который, недвижно лежа бок о бок со мной, смахивал на мертвеца. Какой тут побег!
Вдруг зазвонил телефон. Я опустил раненого — тот глухо застонал — и подался вперед, пытаясь разобрать слова. Голоса я не узнал, хотя явственно слышал его.
— Да, это я… Они уехали вчера вечером… Фургон должны пригнать к пяти часам… Нет, судья не заговорил… Другой… сами увидите… Не исключена вероятность, что это он убил Плео… Храним его для вас… Нет, его пока не тронули… Как только вернется фургон, доставим вам обоих… Нет, ничего особенного… О! Нас будет трое. Бояться нечего… Хорошо. Пока!
Мужчина повесил трубку и шумно зевнул. Было без десяти пять. Оставалось еще десять минут смертельной тревоги и ожидания. Несчастный рядом со мной упал на бок и тихонько стонал. Я приподнял его, пытаясь найти для него менее болезненное положение, но из-за наручников это было нелегко. Он, должно быть, очень страдал. Губы его шевелились.
— Пить!
Мне тоже хотелось пить. За стакан воды я отдал бы что угодно. Рукавом плаща я осторожно провел по изуродованному лицу, чтобы хоть немного снять застывшую маску крови, которая все еще немного сочилась. Смотревший на меня глаз закрылся и открылся несколько раз в знак признательности.
— Меня зовут Марк Прадье, — прошептал я.
Так, плечом к плечу… но нет! Не хочу взывать к твоей жалости. Лучше подведу итоги. В пять часов за нами пришли и, не слишком церемонясь — одного волоком, другого пинками, — бросили в фургон. Вокруг все еще было темно… Остальное принадлежит Истории. О партизанском налете рассказывалось не раз. Партизаны перехватили фургон на развилке дорог. Я услыхал первые выстрелы. Помню, машину занесло и она врезалась в какую-то стену. Посыпались стекла, раздались крики, потом автоматная очередь: меня ранило в руку, задело грудь — это были мои последние воспоминания. В себя я пришел много времени спустя на ферме, где меня оперировал совсем юный, но весь заросший бородой мальчик, говоривший кому-то, кого я не видел:
— Рука пропала, но ведь учитель вполне может обходиться без левой руки.
Избавлю тебя от описания моих мытарств. После этой фермы была другая, потом третья. Переезжали мы ночью. Впоследствии я узнал, что нахожусь в районе Аржантона, где и оставался до полного выздоровления. Пуля, угодившая мне под мышку, задела ребро, но не причинила большого вреда. Зато на левой руке у меня не хватало трех пальцев. Долгое время я дрожал за судьбу мадам де Шатлю. Узнать что-нибудь было нелегко. Наконец мне сказали, что ей удалось вовремя бежать. Беднягу Жюльена вскоре после этого убили. А тот, кого полицаи называли «судьей», выжил. В действительности он был заместителем генерального прокурора в Риоме. Он стал моим другом. Рене Лонж. Ты наверняка слышал от меня это имя. Теперь он занимает важный пост в кассационном суде.
Итак, я считал себя спасенным. Но увы! Все еще только начиналось, ибо отныне я стал человеком, который убил предателя Плео. Легенда эта распространилась по всей округе Клермон-Феррана. За мою голову обещано было вознаграждение, так что я превратился в этакого новоявленного Робин Гуда. А проще говоря — меня разыскивали. Я и не подозревал, что мой арест и партизанский налет наделали столько шума. Рене Лонж, оказалось, был одним из руководителей движения Сопротивления в Оверни. Его-то и хотели освободить партизаны. Они удивились, обнаружив рядом с ним меня. Но пока меня выхаживали, переправляли из одного укрытия в другое, Лонж, придя в себя после перенесенных пыток, заговорил. Сам находясь чуть ли не при смерти, он тем не менее слышал, как меня допрашивали, слышал и телефонный разговор. Он был убежден, что я убил Плео. А спустя несколько недель в этом были убеждены все.
«И ты ничего не сказал? Не восстановил истину?»
Нет. Я ничего не сказал. Прежде всего, я не знал об этих разговорах. Я медленно возвращался к жизни. Учился пользоваться своей искалеченной рукой, на которой с тех пор всегда носил перчатку. Я мало с кем встречался. Не следует забывать, что страна была раздроблена на отдельные округа, которые почти ничего не знали друг о друге. Новости распространялись с трудом. О том, что я герой, мне стало известно много времени спустя, после высадки союзников. Плео исчез навсегда. Как же быть? Дать объявление в газеты? Или отыскивать людей и каждому по очереди втолковывать: «Я никого не убивал!» А может быть, написать Лонжу, чтобы все окончательно прояснить? Но в тот момент я не знал, где он находится. Не знал даже, чем ему обязан. Война покалечила меня, я постарел, устал. Словом, заплатил свое. Кому-то хотелось, чтобы я превратился в того, кем не был? Ладно. Какое это имеет значение! Чем скорее все забудется, тем лучше.
И я промолчал, Кристоф! Иногда меня о чем-то спрашивали. Некоторым хотелось знать, как я убил Плео, где спрятал его труп. Я уходил от ответов. Давал понять, что не хочу вспоминать об этом. Люди думали: «Он столько выстрадал! И вполне заслуживает, чтобы его оставили в покое!» Увы, молчание порой губит нас. Назад дороги нет. Ты обречен молчать снова и снова. Вначале — чтобы избежать скандала: чего-то ждешь, откладываешь на потом. А потом молчишь, опасаясь, что тебя будут презирать. Вот уже тринадцать лет я сам презираю себя.
Глава 7
Ложь посредством умолчания — я не знаю ничего более унизительного. Каждую минуту сознаешь, что предстаешь в ложном свете. Тащишь за собой уродливую тень. И в конце концов сам становишься чьей-то тенью. Я перестал быть самим собой с того момента, как вернулся в Клермон-Ферран, а это случилось, если память мне не изменяет, в августе 1944 года. Пять месяцев я провел в маки, где старался оказывать всевозможные услуги, которых можно было ожидать от молодого парня, сильно пострадавшего, но преисполненного благих намерений. В основном я занимался вопросами интендантской службы. Поэтому в Клермон-Ферран я привез военную форму, пистолет, полевой бинокль, брошенный немецким офицером, а главное, репутацию хорошего организатора. Несмотря на мою сдержанность, меня включили в городской Комитет освобождения. Я не принимал никакого участия в проходивших тогда судебных процессах по чистке, пытаясь по мере возможности держаться в стороне. Однако я не мог не участвовать в различных манифестациях, где меня нередко выталкивали в первые ряды, так как я покарал предателя и носил на собственном теле следы борьбы. Сегодня ты вряд ли можешь себе представить то кипение, то бурление, что охватило тогда всю страну. Это было чудесное начало всего. Каждый держал в руках новые карты и ждал возможности сорвать банк. Я, наверное, упустил бы свой шанс, если бы не вмешалась мадам де Шатлю.
Сейчас мне придется более подробно говорить о ней, хотя это и нелегко. История нашей женитьбы никому, кроме нас, не интересна. Но ты ничего не поймешь в дальнейшем рассказе, если я не посвящу тебя кое в какие детали. Еще в апреле я узнал, что она уехала к тебе в Каор. Я пытался пересылать ей письма. Она сама старалась подать о себе весть. Разлука, страх перед будущим, возбуждение, в котором оба мы пребывали, — все это только подогревало мои чувства. Она вернулась в Клермон-Ферран раньше меня, чтобы привести в порядок замок, разграбленный в ее отсутствие. Друзья рассказали ей, что случилось с Плео, поведали о моем аресте, о моих ранениях, а возможно, прибавили к этой картине и кое-что от себя. В глазах Арманды я стал человеком, который пожертвовал собой ради общего дела, а кроме того — и не исключено, что это было главное, — отомстил за ту, кого любил! Она вообразила себе, что по долгу чести обязана воздать мне любовью за любовь. Возможно, для вступления в брак требовалось что-то иное, но Арманда так уж устроена, что ей необходимо кем-то восхищаться. Я настаиваю на этой ее черте именно потому, что она в какой-то мере объясняет последующую драму.
Мы соединились брачными узами 11 января 1945 года — это была торжественная церемония. Моим свадебным подарком стало славное партизанское прошлое, а Арманда, со своей стороны, приносила в дар связи, богатство и надежды, которые она возлагала на меня. Ты наверняка помнишь снежную бурю, разразившуюся в тот день. Я не мог заставить себя не думать о Плео, которого спас год назад в такой же холодный вечер. Где он теперь? Меня окружали почтенные люди. Моим свидетелем был Лонж. Мэр в своей торжественной речи, которую я мысленно опровергал, счел необходимым восславить мой характер, твердость моей души, мое мужество. Рядом со мной Арманда, такая элегантная, с притворной скромностью на челе и с упоением в душе внимала этому панегирику. «А что, если он вернется?» — вопрошал я себя. Было ли то предчувствием? Или просто желанием, как это часто случалось со мной, наказать себя, причинить себе боль? Яркий свет, гирлянды, которыми украсили зал, затем поздравления — все меня ранило. Но длилось это не долго. Радость преодолела страх, и, признаюсь, я испытывал чувство гордости, когда хозяином входил в замок.
Вскоре под нажимом Арманды я взял длительный отпуск и окунулся в политику. Вначале я колебался между радикалами и партией МРП. Но в конце концов выбрал последнюю. Почему? Мне казалось, что я буду меньше чувствовать свою вину, если присоединюсь к народной партии, если буду служить ее делу со всей преданностью, на какую только способен. Положение у меня было очень солидное. Я был известен своею умеренностью, а по тем временам это качество весьма ценилось, ведь страсти все еще кипели. 21 октября 1945 года меня избрали депутатом от Пюи-де-Дом.
Я с величайшим старанием принялся за дело. Нам пришлось переехать в Париж. Вот почему мы поместили тебя в интернат. Судя по всему, ты никогда не сердился на нас за это, впрочем, Арманда часто навещала тебя, и все-таки я благодарю тебя, мой маленький Кристоф. С этого момента Арманда решила, что я непременно должен стать министром. А почему бы и нет, в самом деле? Другие члены парламента, чуть постарше меня, уже занимали командные посты. И обладай я умением если уж не вести интригу, то, по крайней мере, ловить удобный случай, я очень скоро сумел бы добиться завидного положения. Но я к этому не стремился. Вернее, запрещал себе питать надежды. Я считал, что не имею на это права, и ты понимаешь почему. Меня вполне устроил бы пост председателя какой-нибудь комиссии, но не более того. Арманда была в ярости.
«У тебя есть все, чтобы преуспеть, — говорила она. — Ты выдержал конкурс. Умеешь хорошо говорить. Твоим заслугам в Сопротивлении многие завидуют. Так почему же ты сидишь в своем углу? Пора встряхнуться. Сделай это ради меня». Так, по злой иронии судьбы, я переживал то, что довелось пережить в свое время Плео. Только он наотрез отказался следовать путем, на который его толкали. А я пытался лавировать. Отговаривался отсутствием опыта. Пробовал растолковать ей, что члену парламента, если он хочет быть на высоте, необходимо разбираться в самых разнообразных и трудных вещах: в экономике, в финансовых и правовых вопросах. На это она возражала мне, что существует министерство национального просвещения, а уж это мое прямое дело.
Иногда я просыпался ночью и без всякого снисхождения требовал у себя ответа. Да, Арманда права. Мои заслуги вполне реальны. Мне нечего стыдиться их. Почему же в таком случае я всегда испытывал смущение, если кто-нибудь из коллег с подчеркнутым уважением обращался ко мне или если какой-нибудь привратник кланялся с особым почтением? А дело объяснялось просто: мне не давал покоя Плео. Стоило его кому-то узнать — это было маловероятно, но вполне допустимо, — и новость, передаваясь из уст в уста, в конце концов достигнет Франции, обрушившись, словно бомба. Если бы у меня хватило благоразумия остаться учителем, потери были бы невелики. Ну, а теперь? На том посту, который я занимал! Думается, не было утра, когда бы я не вставал с мыслью: «А что, если это случится сегодня?» И день мой был отравлен.
Между тем время шло. Политическая борьба все более захватывала меня. Арманда помогала мне всеми силами. Она вела мои секретарские дела, так как молодой человек по имени Пьер Белло, которого я нанял, оказался не на высоте. Такое товарищество хотя и раздражало порою, но, если вдуматься, имело свои положительные стороны. Могу признаться тебе: мы никогда не были пылкими любовниками. Для этого Арманда была чересчур рассудочной, ей не хватало чувственности. Зато она обладала здравым смыслом, и ее мнение часто было весьма полезно мне. В работе мы всегда ладили, за исключением тех случаев, когда она бралась решать за меня. В пятьдесят первом году я выставил свою кандидатуру в Париже и был избран. Именно тогда, если ты помнишь, мы поселились на авеню Бретей. Ты только что получил аттестат. Успех сопутствовал нам, ибо примерно в это же время я вошел в правительство Плевена в качестве помощника министра по вопросам изящных искусств. Пост этот вполне устраивал Арманду. То было начало волнующей светской жизни. Писатели, на которых прежде я смотрел издалека, да еще с каким почтением, теперь пожимали мне руку со словами: «Дорогой министр». Арманда умела устраивать приемы. Ее салон посещали журналисты, как правых, так и левых убеждений, писатели, мои коллеги, приходившие к нам обедать и запросто обсуждавшие дела страны, поэтому, выкуривая перед сном последнюю сигарету, Арманда, случалось, говорила мне: «Это правда, что Лагард рассказывает об Аденауэре?» или же: «Я вполне представляю себе Фуко во главе „Комеди Франсез“.» Она принимала активное участие в выборах в академию, со страстью защищая того или другого, отмечая, что во время войны этот не отличался храбростью, а тот, кто, возможно, менее талантлив, был угнан в Германию. Она ни разу не упустила случая упомянуть в беседе: «Когда мой муж был в маки… Когда меня разыскивало гестапо…», так что нас стали считать своего, рода арбитрами в делах Сопротивления. Если бы тогда ты последовал нашим советам, то окончил бы юридический факультет, и Арманде ничего не стоило бы пристроить тебя в какой-нибудь министерский кабинет. Но нет! Ты всегда поступал по-своему, и теперь я этому рад. Скандал не коснется тебя… Да, Арманду наградили орденом.
— Ты как будто не рад, — сказала она после церемонии.
— Конечно рад, дорогая. Что ты выдумываешь?
Уже тогда она догадывалась, а впрочем, и всегда, верно, чувствовала, что я скрываю от нее что-то. Ибо мне никогда не удавалось придать своему лицу выражение, которое отвечало бы моему положению счастливого человека, коим мне надлежало быть. И если мне случалось порою расслабиться под воздействием удачно складывавшихся обстоятельств, лицо Плео тут же всплывало в моей памяти. Я отдал бы что угодно, лишь бы выведать, где он находится. Мы хорошо знали посла в Бразилии, а еще лучше его первого советника — очаровательного молодого человека, весьма неравнодушного к Арманде. Я часто думал, что с его помощью… но не мог придумать, под каким предлогом к нему обратиться. Конечно, о том, чтобы разыскивать Плео официальным путем, и речи не могло быть. Не стану описывать тебе мои мучительные колебания и планы, которые я вынашивал, чтобы тут же отказаться от них. А потом вдруг представился случай совершенно неожиданный. Мне несколько раз доводилось встречаться с Мартином Варезом, генеральным секретарем Французского альянса.[29] Однажды я оказал ему важную услугу и смог поближе с ним познакомиться, оценить его по достоинству. Так вот он собирался в поездку по Латинской Америке, чтобы активизировать деятельность местных отделений, захиревших после войны. Он рассказал мне о своих намерениях. Я обещал ему поддержку и сказал как бы между прочим, что один из моих друзей хотел бы навести справки о своем дальнем родственнике, некоем Антуане Моруччи, который уехал в Бразилию и, возможно, открыл врачебный кабинет в Рио-де-Жанейро. Он все записал, так как был очень аккуратным человеком. Мало того, он сразу понял, что я прошу его сделать это как можно незаметнее. Проходили недели…
Тут я открываю скобки, чтобы рассказать тебе о незначительном факте, который, как и многие другие с виду ничего не значащие факты из моего недавнего прошлого, займет впоследствии важное место. Я встретил Эвелину. Вернее, Эвелина сама явилась ко мне в секретариат. Белло пригласил ее в кабинет. Эвелина сильно переменилась, и не похоже было, чтобы она купалась в золоте. Мы оба были одинаково смущены. Она извинилась, что побеспокоила меня, и не решалась говорить мне «ты». Мы обнаружили не без некоторой грусти, смешанной со стыдом, что стали друг другу чужими. Она сказала, что ей не повезло, впрочем, я так и предполагал. Ей удалось получить несколько небольших ролей в пьесах и фильмах, которые не пользовались успехом. «Бедная моя девочка, — думал я. — Теперь ты начинаешь понимать, что у тебя нет таланта!» А хотела она, черт возьми, чтобы я попросил за нее директора одного театра, который никак не решался принять ее в труппу.
— Это в вашей власти, мсье Прадье.
— Ты можешь называть меня Марком.
Она заплакала. Я чувствовал, что наступает момент, когда она станет просить у меня прощения. Это была ужасно неприятная сцена, тем более что я вовсе не горел желанием просить за нее. Такого рода благодеяния сразу же дают пищу злым языкам. И все-таки я обещал ей сделать необходимое, при условии что она не станет кричать на всех перекрестках о том, будто я ей покровительствую. Побежденная, смиренная, униженная, она, не переставая всхлипывать, соглашалась с каждым моим словом. А я чувствовал себя все более неуютно, потому что вопреки собственной воле разыгрывал перед ней всемогущего, преуспевающего господина, который расчетливо отмеряет свои милости из опасения скомпрометировать себя. Мы оба выглядели неприглядно, в особенности я, ведь мне пришлось сказать ей:
— Не пиши мне. Оставь свой номер телефона. Мой секретарь сообщит тебе, если мне удастся чего-нибудь добиться, хотя я в этом и не уверен. Я ведь не Господь Бог.
Она ушла, и в течение нескольких лет я о ней ничего не слышал, до самого того дня, когда… но об этом позже. Итак, вернемся к Плео. Варез сдержал слово. Он прислал мне из Рио длинное письмо, в котором в основном описывал успехи Французского альянса. Но было там и несколько строк, касающихся Антуана Моруччи. Тот и в самом деле подвизался некоторое время в медицине. Затем в результате какого-то темного дела переменил профессию и теперь занимается импортом-экспортом. А попросту говоря, прозябает и пользуется довольно скверной репутацией. Больше Варез ничего не знал, но и этого было вполне достаточно. Мне довольно было знать, что Плео по-прежнему там. Я снова мог дышать.
Потом разразился правительственный кризис, и я потерял свой пост. Если бы я постарался, мне, возможно, удалось бы войти в состав нового кабинета министров. Арманда развила бурную деятельность. Ей объяснили, что новое правительство продержится недолго и что радикалам надо дать хоть маленькое удовлетворение. Знаю, тебя политические игры не интересуют. Поэтому поспешу перейти к описанию тех нескольких лет, которые отделяли нас от 1957 года. Эти годы, как я теперь понимаю, прошли для меня вполне спокойно. Если бы ты не провалился на экзаменах в Сен-Сирском военном училище и если бы с вечным своим упрямством не отказался от нашей помощи, мы с Армандой избежали бы тогда нескольких стычек: она всегда упрекала меня в том, что я недостаточно занимаюсь тобой, а заодно и в том, что уделяю недостаточно внимания ей. Некоторые члены парламента, из числа наших друзей, добились назначения за границу. Они путешествовали в свое удовольствие, тогда как мы прозябали в Париже, что вызывало у Арманды раздражение и зависть. Но если не принимать во внимание нескольких довольно бурных ссор, наша супружеская жизнь протекала в основном в добром согласии. Теперь я был депутатом от Парижа и муниципальным советником седьмого округа. Арманда — урожденная де Шатлю, как любил говорить Плео, — чувствовала себя в своей стихии. И хотя она была женой депутата, причислявшего себя к левому крылу, — а может быть, как раз именно поэтому, — ее принимали в тех кругах, которые, хоть и держались несколько в стороне от режима, совсем не прочь были пофлиртовать с ним. В 1955 году меня назначили референтом по вопросам бюджета в министерство национального просвещения, и благодаря Варезу, который был мне полностью предан, а кроме того, имел верный друзей в Рио, я мог вести наблюдения за Плео. Я все более убеждался в том, что он не появится здесь вновь, и, следовательно, я мог безбоязненно продвигаться на пост министра национального просвещения. Кризисы, как ты помнишь, следовали один за другим: сначала независимость Марокко, потом Туниса, а вскоре началось алжирское восстание. Палату депутатов сотрясали бурные перевороты. Мои личные заботы отошли на второй план. Признаться, я даже забывал иногда, что тебя отправили в Алжир, а между тем ты получил звание лейтенанта, и мы очень гордились этим. Однако чувствовалось, что надвигаются важные события. 21 мая правительство Ги Молле подало в отставку. Я чуть было не поддался искушению войти в команду Буржес-Монури. Меня отговорила Арманда. Да я и сам понимал, что это правительство еще более неустойчиво, чем предыдущее. Оно и в самом деле набрало всего двести сорок голосов.
«Ты человек новый, — сказала мне Арманда. — Поверь мне, осенью ты станешь министром».
Близилось время отпусков. Я взял несколько дней, надеясь отдохнуть в Клермон-Ферране. Замок нуждался в ремонте. Крыша сильно пострадала зимой, а рабочих найти было нелегко. Оставшийся в Париже Белло пересылал мне текущие дела, но принимать своих избирателей из седьмого округа я приезжал сам.
В тот день — это было 12 июня, у меня слишком много оснований помнить эту дату, — так вот в тот день буря омыла улицы, и небо сияло такой нежной голубизной, какую можно увидеть только в Париже. Я прошел прямо к себе в кабинет, минуя приемную, и вызвал Белло. Он сказал, что просителей мало. Я отпустил его на все утро, и привратник начал пускать всех по очереди. Обычное дело! Занимаясь этим ремеслом, надо научиться встречать людей радушной улыбкой, приветливыми жестами, не обращая внимания на то, что зачастую они приходят по пустякам. Вошел последний проситель. Я едва взглянул на него.
— Садитесь, прошу вас. Одну минуточку, я запишу.
Наконец я положил ручку и поднял голову.
Это был Плео. Я умолк на полуслове. Да, это был точно он, только изможденный, постаревший, неопрятный, с лицом, заросшим всклокоченной бородой с проседью, с мешками под глазами и покрасневшим носом. Застегнутый доверху плащ не мог скрыть его нищенского одеяния. Случилось то, чего я опасался с самого начала, с той лишь разницей, что в моих кошмарах мне являлся образ делового, преуспевающего человека, приехавшего на родину провести несколько недель отпуска, — словом, нечто вроде туриста, снедаемого тоской, но имеющего на счету в банке кругленькую сумму. А передо мной сидел довольно потрепанный тип, эмигрант-горемыка — из тех, кто путешествует на нижней палубе, жалкий попрошайка. Меня охватил ужас.
— Прошу прощения, — начал он. — Мне, должно быть, не следовало…
Голос его тоже изменился — хриплый, дрожащий, он выдавал злоупотребление табаком и спиртным. Я открыл дверь в приемную — пусто. Было около полудня, и из служащих почти никого уже не осталось. Заперев дверь на ключ, я вернулся на свое место.
— Боже мой, Плео, вы ведь обещали мне…
— Я не виноват, — сказал он. — Мне не оставалось ничего другого… там для меня все кончено.
— Вы отдаете себе отчет, в какое положение вы меня ставите?
Он опустил голову. Должно быть, он уже привык к грубым окрикам. Я сбавил тон, понимая, что гневом делу не поможешь.
— Послушайте, неужели вы не могли мне написать из Рио?
Я понял, что он немного успокоился, словно зверь, почуявший, что его не прогонят прочь.
— У меня не было времени, — прошептал он униженно.
— Вас разыскивала полиция?
Он выпрямился, и на какой-то миг передо мной предстал прежний Плео.
— Ну что вы, конечно нет. Я не преступник.
— И давно вы в Париже?
— Три дня.
— А зачем пришли ко мне?
— Я никого другого не знаю. К кому же мне обратиться?
— Надеюсь, в Клермон-Ферране вы не появлялись?
— Нет… конечно нет. Я не доставлю вам неприятностей, мсье Прадье.
— Жилье у вас есть?
— Да… 54-бис, улица Луи-Блана. Это в десятом округе… маленькая меблированная комната… Некоторое время я могу продержаться.
Я записал адрес. Это было далеко от меня, в довольно населенном квартале, где его вряд ли могли узнать.
— Послушайте, Плео… Я хотел сказать, Моруччи… Надеюсь, вы не меняли больше имени?.. Хорошо… Сейчас я очень занят, а нам надо обстоятельно поговорить. Я зайду к вам сегодня же… скажем, часов в пять.
Мне не терпелось выпроводить его, чтобы спокойно обдумать создавшееся положение. Мне надо было побыть одному, выкурить сигарету, выпить стакан воды, вообще вспомнить привычные повседневные жесты, которые успокаивают и могут рассеять призрачное наваждение. Я чуть ли не вытолкал его вон из кабинета.
— Я рассчитывал на лучший прием, — запротестовал он. — Можно подумать, что вы меня боитесь!
— Да нет же. Но вам следовало предупредить меня… Сегодня мы непременно увидимся.
Я закрыл за ним дверь и прислонился к стене. Итак, Плео явился-таки! Но, по счастью, наполовину разрушенный. К тому же он полностью зависел от меня, и если пришел ко мне, то для того, чтобы выпросить немного денег. А если собирается шантажировать меня?.. Эта мысль повергла меня в смятение. Обескураженный, я упал в кресло. Мне заранее было ясно, что я бессилен против него, ибо не раз уже бессонными ночами я обдумывал его возможное возвращение, перебирая средства, способные нейтрализовать его. Таких, по сути, не было. На вторую половину дня у меня было назначено две встречи, одна с Пелисье на набережной д’Орсэ и другая — с Дьелефи, специальным корреспондентом «Франс суар» в Алжире, где обстановка осложнялась с каждым днем; однако вести беседу я был не в состоянии, поэтому я позвонил им обоим и попросил извинить меня. Затем позвонил в Клермон-Ферран Арманде и сказал, что меня, наверное, не будет дома, когда она вернется. Она сразу же почувствовала, что мне не по себе.
— Ты заболел?
— Нет. Небольшая мигрень.
— Не забудь про коктейль у Бюссьеров в восемь часов.
— Я приду.
— С Кристофом ничего не случилось?
— Да нет, успокойся. Все в порядке. Просто я должен встретиться с одним из своих коллег, поэтому немного задержусь. Вот и все.
Я повесил трубку. Отныне в ее присутствии мне следовало особенно следить за собой. Я оказался между двух огней — между Плео и Армандой, что меня ждет? Я предпочитал не думать об этом. Съев бутерброд в каком-то баре, я бродил из кафе в кафе, дожидаясь пяти часов. Я мог располагать некоторой суммой денег, не вызывая подозрений Арманды. Если Плео будет не слишком привередлив, этой суммы окажется достаточно. Главное — как можно скорее отправить его за границу. В пять часов я вошел в дом, где он поселился. Привратница показала мне его комнату. Я сразу понял, что люди моего уровня не частые гости в этом доме. Орденские ленты в моей петлице тут же привлекли всеобщее внимание. Что делать! Я постучал в дверь Плео.
Комната, где он меня принимал, напомнила мне студенческие годы. Железная кровать, чемодан у окна, выцветшие обои, старенький шкаф, под одну из ножек которого была подложена картонка, зеленая скатерть с бахромой, прикрывавшая ободранный стол, — все говорило о скудости и одиночестве. Занавеска скрывала, очевидно, нечто вроде кухни, так как в комнате стоял запах жареного. Плео предложил мне единственное кресло, а сам сел на кровать.
— Тут не блестяще, — сказал он, окидывая взглядом комнату; затем, взявшись за отвороты пиджака, потерявшего от долгой носки всякую форму, продолжал: — Вы спрашиваете, почему я вернулся. О! Это целая история. У меня были взлеты и падения. Под конец — одни падения. Я распростился с медициной… за отсутствием клиентуры. Пришлось податься в импорт-экспорт, так и там мой компаньон обвел меня вокруг пальца. Если бы я вовремя не спохватился, мне бы вообще головы не сносить. В этой стране середины нет: ты либо богач, либо бедняк.
Я заметил, как у него дрожат руки. Они выдавали то, что ему хотелось бы скрыть: он был алкоголиком, причем отъявленным.
— Когда я понял, что мне уже не подняться, — продолжал он, — я испугался. Из французских газет, которые мне иногда доводилось читать, я узнал, что в прошлом году вас снова избрали, что вы муниципальный советник. Это-то и побудило меня вернуться. Я стал экономить и с трудом набрал нужную сумму, чтобы оплатить проезд, и вот я вернулся на родину — вы не можете себе представить, как я рад. Вы мне поможете, правда? Я полагаю, все эти истории с чисткой закончились, ведь прошло тринадцать лет. Если я назову себя, если даже пойду на то, чтобы меня судили, могу я надеяться на вашу помощь? И что мне грозит в таком случае?
— Тюрьма — это несомненно, а кроме того, поражение в правах, что лишит вас возможности работать во многих областях, в том числе и в медицине.
Он тихонько засмеялся, пожав плечами.
— Вы хотите запугать меня, мсье Прадье. Но посудите сами — такой старикашка, как я… Какой от меня вред? Мне пятьдесят три года, а годы изгнания, как известно, следует считать вдвойне. Я ничего не требую, хочу только спокойно жить в каком-нибудь захудалом краю.
— Вас считают мертвецом.
— Я так и предполагал.
— Да, но вы не знаете, что это я вас убил.
И я рассказал ему о моем аресте, объяснил, каким образом обстоятельства обернулись против меня, как затем все поверили в то, что я убил отъявленного коллаборациониста. Слушая мой рассказ, Плео, казалось, съеживался, усыхал на глазах. Он обладал достаточной сообразительностью, чтобы сразу же понять всю важность моих откровений.
— Я этого не знал, — прошептал он. — Я всегда делаю одни глупости. В общем, если я признаюсь в том, что я Плео, то вы пропали. Все подумают, что мы с вами заодно.
— Вот именно.
— Мой бедный друг. Я очень сожалею. Но что же будет со мной?
Он стиснул руки. Искренность его не вызывала сомнений.
— Ах! Вам в самом деле следовало убить меня!
Вздыхая, он смотрел на меня с растерянным видом.
— Придется искать работу… любую, конечно. Мне не привыкать.
Воцарилось молчание. Оно длилось долго. Я не стал говорить ему об Арманде — не хотелось подвергать его еще и этому испытанию. Мне было жаль его, себя, всех нас. Я не видел никакого исхода.
— Хотите выпить? — спросил он наконец.
— Нет, спасибо.
Он вытащил из шкафа бутылку и наполовину наполнил картонный стакан.
— Можете рассчитывать на меня, мсье Прадье, — сказал он. — Молчать-то я еще умею. Клянусь, вам нечего меня опасаться.
Глава 8
Я просидел у него больше часа. Я мог бы уйти раньше, но все еще не в силах был поверить, что он здесь, передо мной, и что я переживаю событие первостепенной важности. Он стал рассказывать о своих злоключениях в Рио, но я едва слушал его, хотя не сводил с него глаз. Он, словно яд, проникал в мою кровь. Потом я постепенно успокоился. Он был тут. Ладно! Может, это и к лучшему.
Лучше уж конкретная опасность, чем неясные, мучительные страхи, которые терзали меня с давних пор. Да и потом, какая опасность? Если он обещает молчать, чего мне бояться? Я узнал его с первого взгляда только лишь потому, что никогда, можно сказать, не расставался с ним. Потому что он постоянно присутствовал в моих мыслях. Ну, а другие?.. Смерть его была настолько бесспорной и в какой-то мере непреложно доказанной, что никто, встретив его на улице, не обернется ему вслед, подумав: «Я уже где-то видел этого человека!» Никто, разве что Арманда. Да и то! Вот почему в моем сознании начал созревать план. Ни в коем случае нельзя было оставлять его на свободе, без присмотра, давать ему волю. Самое лучшее — поместить его в определенное место, где я мог бы постоянно следить за ним, чтобы в нужный момент помешать ему совершить какую-нибудь оплошность. Вот только где найти такое место?
Я машинально кивал головой, чтобы показать ему, какое живое участие вызывает у меня его рассказ, а сам тем временем размышлял. Куда его деть? Какое пристойное занятие ему найти? Но в первую очередь его совершенно необходимо было прилично одеть. Именно с этого следовало начать. Я не мог позволить себе давать рекомендацию такому жалкому оборванцу. Ибо мне непременно придется вмешаться, иначе его ждет безработица. Найти хорошее место было трудно, а без работы он скатится еще ниже. Кроме того, он не мог предъявить соответствующих документов, не выдавая себя. Следовательно, нечего и думать определить его куда-нибудь в фармацевтическую лабораторию или на химический завод. К тому же нельзя было забывать о его возрасте. Лучше всего ему подошло бы какое-нибудь занятие, достойное пенсионера, или что-нибудь в этом роде. Но что? Я безуспешно ломал себе голову, а действовать надо было немедленно. Я прервал его, спросив:
— Чем бы вы хотели заняться?
— Об этом я как-то не думал, — ответил он. — Мне казалось, что я легко могу вернуть себе настоящее имя. Но если вы говорите, что это невозможно, не рискуя…
— Это и в самом деле невозможно!
Я достал бумажник и протянул ему несколько ассигнаций.
— Но я не просил милостыни!
— Это не милостыня. Это аванс… чтобы помочь вам встать на ноги. Вам надо купить одежду, и потом, сбрейте вы эту бороду, она вас старит. Постарайтесь выглядеть получше… Ах да! Вот еще что. Не сердитесь на мои слова, но пьете вы, пожалуй, чересчур много. С этого момента постарайтесь держать себя в руках. Обещаете?
— Я попробую.
— И еще. Вы по-прежнему играете в шахматы?
Он печально улыбнулся.
— Давно уже отказался.
— Совсем?
— О! Почти. Разве что иногда одну-другую партию. И то ради того, чтобы доказать себе, что не совсем разучился.
— Так вот, здесь — никаких шахмат. Случай может свести вас… Я знаю: один шанс из ста тысяч. Но лучше не искушать судьбу.
— Вы не разрешаете мне пить, не разрешаете играть… а еще что? Вам не кажется, что это слишком?
Он в раздражении встал. Я заставил его снова сесть.
— Послушайте, Плео. Меня едва не стали пытать, могли угнать в Германию — и все благодаря вам. Из-за вас я покалечил вот эту руку. Теперь только потому, что вам угодно было ни с того ни с сего вернуться, я должен пожертвовать всем, чего добился, и вы еще считаете, что я слишком много требую!
— Ладно, — сказал он, — хорошо. Вы, конечно, правы. Но это тяжело. Там я был лишним. Здесь стану узником. Дайте мне время привыкнуть.
— Не делайте глупостей. Я дам вам знать, как только найду для вас работу. А вы меня не подгоняйте. Никаких звонков. Ничего. Сидите спокойно и ждите.
— Слушаюсь, шеф, — молвил он, жалко улыбаясь.
Мне стало не по себе. Я вышел. С минуту я прислушивался. Я был уверен, что он уже держал в руках бутылку, но не стал открывать дверь, чтобы застать его врасплох. Это был озлобленный человек, и обращаться с ним надо было осторожно. Я остановил такси.
— Ты знаешь, сколько времени? — спросила Арманда.
Я рассеянно поцеловал ее в висок.
— Меня задержал Дьелефи. В Боне[30] опять покушения.
— Этому конца не будет. Поторапливайся.
Я разделся и стал бриться, наблюдая в зеркало за Армандой, надевавшей вечернее платье, которого я еще не видел, и выбиравшей драгоценности, которые должны были придать ее лицу и рукам праздничный вид. А я, сколько бы ни старался носить костюмы хорошего покроя, всегда буду выглядеть неестественным рядом с ней. И виной тому моя «ученая голова», как ты говоришь, посмеиваясь надо мной. Но напрасно в тот вечер я вопрошал свою ученую голову. Она не могла подсказать мне ни одной стоящей идеи. Куда можно определить Плео? В торговлю? Но торговля предполагает связь с клиентурой, то есть постоянный контакт со многими людьми. Не годится. Я продолжал искать.
— Ты слышишь? — кричала Арманда.
Я выключил бритву.
— Сегодня утром я видела в Клермон-Ферране Лубейра.
— Лубейра?
— Ну да, Лубейра. Ты что, забыл? Он говорит, что придется перекрывать часть крыши. Это довольно дорого обойдется.
— Сколько?
— Он еще не составил смету. Но похоже, около миллиона.
Миллион! Цифра обрушилась на меня, словно рухнувшее дерево. Я, конечно, не собирался регулярно давать деньги Плео, но если придется помогать ему хоть бы вначале…
— Подождать нельзя?
— Нет. Надо торопиться, пока погода хорошая.
Весь вечер я пребывал в задумчивости. Правда, политическая обстановка никого не располагала к веселью. Все чувствовали, что правительству долго не продержаться. Кабинет Эдгара Фора? Маловероятно. Кто-то взял бумагу и начал перебирать возможные варианты. Но кто станет во главе? Запас лидеров истощился. Такие игры раздражали меня, и я украдкой поглядывал на часы. Идея осенила меня по дороге домой в машине. У нас был «ситроен», впрочем, он и сейчас есть, водит его Арманда, потому что мне трудно держать руль — из-за руки. И вдруг я вспомнил о Вийяре, занимавшем должность директора в больших гаражах в Сен-Клу. Огромное дело с многочисленным обслуживающим персоналом. Когда-то я оказал Вийяру услугу в какой-то истории с налогами. Ты снова пожимаешь плечами. Ну как же, «мои комбинации!». Ты не прав. Сам ты абсолютно чист, потому что в армии все просто. Один командует, другой подчиняется. Но член парламента находится в центре своего рода паутины, состоящей из переплетения чьих-то интересов и отношений, которые он вынужден использовать, если хочет сохранить свое влияние. Вийяр был обязан мне. Поэтому он заранее знал, что когда-нибудь я обращусь к нему. Таковы правила игры. Он нисколько не удивился, когда на другой день я ему позвонил.
— Мой секретариат полностью укомплектован, — сказал он. — Но есть тут один помощник кладовщика, он только что перенес операцию и вряд ли вернется. Вашему другу подойдет это?..
— Это не мой друг, — уточнил я. — Я едва знаю его — один из многочисленных просителей, не более того, но мне хотелось бы оказать ему услугу. В чем состоит эта работа?
— О, дело нехитрое. Нужно доставать отдельные детали, которые требуют клиенты. На каждой из них есть этикетка, поэтому ошибиться невозможно. К этому легко привыкнуть.
— А платят прилично?
— Я не помню на память цифры. Но скажем, что это в пределах разумного.
Я лихорадочно соображал. Бедняга Плео! Когда-то известный врач, а теперь помощник кладовщика! Однако он уверял меня, что готов согласиться на любую работу!
— Сохраните для меня это место, — сказал я. — Как только мне дадут ответ, я сразу же позвоню вам, на это уйдет не больше двух суток.
Я хотел связаться с Плео в тот же день. Но у меня было совещание, на котором я задержался дольше, чем предполагал. Вечером мы ужинали в городе. Освободился я только на следующее утро. Я взял случайно подвернувшееся такси. Конечно, я мог бы пойти на ближайшую стоянку, но не решился — из предосторожности. Остановить машину я велел за несколько сот метров от дома, где жил Плео. Ах! Мой бедный Кристоф, то было начало настоящей подпольной жизни! Хотя полиция за мной и не гналась, узнать меня было совсем нетрудно — из-за этой руки в неизменной перчатке, из-за этой варежки, делавшей ее похожей на гусиную лапу! А если я, на свою беду, встречу кого-нибудь из знакомых? Он сделает вид, будто не замечает меня, и быстро пройдет мимо, но у него наверняка возникнут вопросы. «Прадье? В этом квартале? Странно!» Так рождаются слухи, которые быстро становятся злыми.
Взгляд направо, взгляд налево, как учил меня в свое время славный Жюльен, приобщая меня к тайнам подпольной борьбы. Я торопливо вошел в дом, кивнув бдительной привратнице, стоявшей на своем посту, и остановился у двери Плео. Он открыл мне. В руках у него была развернутая газета.
Ошеломленный, я не мог отвести глаз от его лица. Теперь он был чисто выбрит, а без бороды и усов, несмотря на мешки под глазами, морщины — неизбежные отметины времени, он выглядел точно таким, каким я помнил его по тем временам, когда он говорил мне: «Входите скорее!» Он помолодел на тринадцать лет и был трагически узнаваем.
— Видите, — сказал он, — я изучаю объявления.
Но было еще одно обстоятельство, которое сразу привело меня в ярость. Последовав моему совету, он был одет во все новое, однако вместо того, чтобы выбрать нейтральный костюм и одеться, как подобает человеку, который желает быть просто приличным, он купил очень элегантный серый с цветной искоркой костюм, бледно-голубой галстук и замшевые серые ботинки.
— Вы с ума сошли! — воскликнул я.
— В чем дело? Что я такого еще сделал?
— Этот костюм…
— Ах! Вы заметили. А что, правда, хорош? Если бы вы знали, до чего приятно вновь стать цивилизованным человеком. Там всегда приходилось очень следить за собой.
— Но вы уже не там. И разумеется, истратили немалую сумму.
— Да, порядочную.
Я сел, совсем пав духом.
— Послушайте, Плео. Вам следует хорошенько вбить себе в голову, что вы уже не врач, не коммерсант, вообще никто. Теперь вы так, силуэт, тень, самый заурядный человек в толпе. Иначе вас рано или поздно опознают. Неужели это так трудно понять?
Он показал мне газету.
— Я подумал… Тут требуется агент по реализации трикотажных изделий в восточной части Франции.
— И вы собираетесь ходить по домам с их образчиками! Ежедневно вы будете встречаться с десятками людей и в один прекрасный день непременно наткнетесь на одного из своих бывших больных. Ну как же так, Плео? Разве вы забыли, что в Клермон-Ферране во время войны полно было беженцев из Эльзаса и Лотарингии?
— Это правда, — прошептал он. — Я забыл. Все это так далеко!
— Где там далеко! Напротив, совсем близко. Сделайте одолжение, купите себе самый обычный костюм в темных тонах… И кроме того, хватит. Я нашел вам работу помощника кладовщика.
— Что я должен делать?
Я объяснил ему и дал адрес гаражей в Сен-Клу.
— Директор в курсе. Вы придете к нему и представитесь. А этот роскошный серый костюм оставьте на выходные дни. Кстати, что вы делали по воскресеньям в Рио?
— Ходил на скачки.
Я вздрогнул.
— Шутки в сторону! Никаких скачек. Будете ходить в кино… И потом, отпустите снова бороду. С бородой и усами, пожалуй, будет лучше. А еще посоветую темные очки. Сейчас как раз лето.
— Почему бы уж тогда не маску! — с горечью заметил он.
Мы расстались очень недовольные друг другом. Я начинал понимать, что Плео доставит мне массу хлопот. У него появились скверные привычки, от которых не так-то легко избавиться. А кроме того, влезть вот так — с ходу — в шкуру мелкого служащего, бедолаги, которому в жизни ничего больше не светит, — наверное, это было ему не по силам. Да и что это даст? Если бы у меня хватило мужества убить его тогда, как этого хотела Арманда, сейчас не возникло бы всех этих трудностей. Убить его! Эта мысль буквально вспыхнула в моем мозгу. Она была настолько глупа, что я даже сказал вслух: «Самый настоящий идиотизм!» — и отмахнулся от нее, словно от табачного дыма. Я остановил такси. На переднем сиденье рядом с шофером лежала развернутая газета. Внимание мое привлекли заголовки, набранные крупным шрифтом: «Стычки на линии Мориса…[31] Курс франка продолжает падать…» Я с облегчением погружался в повседневные заботы.
Обедал я у Липпа — Арманда любила там бывать. Ей нравилось это заведение, где встречались многие политические деятели, которые приветствовали нас, проходя мимо, или же подходили пожать руку. К нам подсел Мильсан. Ты не раз видел его у нас в доме, но именно его, конечно, не помнишь. В ту пору он служил у Миттерана, занимавшего министерский пост. На язык довольно злой, в обществе он был очарователен и всегда в курсе всех сплетен.
— Надеюсь, вы готовитесь к бою, — сказал он мне. — Нынешнему правительству скоро крышка. Больше двух месяцев ему никак не протянуть. Уже поговаривают о новом правительственном кабинете, который сумеет объединить все течения, за исключением коммунистов и пужадистов.[32] Вы тоже, бесспорно, войдете. Представитель МРП в министерстве национального просвещения — в особенности вы при всех ваших заслугах — это сразу заставит замолчать профсоюз учителей.
Мои заслуги! Он повторял слова Арманды. А я тем временем думал о Плео. Наверное, следовало дать ему немного больше денег. Если он потребует аванса в гараже, это будет катастрофа. Я едва притронулся к еде. Мне хотелось следовать за Плео повсюду, чтобы держать его под неусыпным надзором. Где он питается? С кем разговаривает? Быть может, выпив лишнее, он пускается в опасные излияния? Нелепая фраза несчастного Жюльена жужжала у меня в голове, точно муха, прилетевшая на скверный запах. «Целься в висок!» Я отодвинул свою тарелку.
— В чем дело? — шепотом спросила Арманда. — В последнее время ты стал какой-то странный.
— Ничего подобного. Я в полном порядке.
После обеда я присутствовал на одном из заседаний. И только там понял всю разрушительную силу зла, овладевшего мной. Я принимал участие в спорах и в то же время наблюдал за всем происходящим издалека, словно зритель в театре. Бидо, по своему обыкновению, кипел страстью и казался загадочным. Я слушал, но был не способен принять для себя то или иное решение. Речь, помнится, шла о «праве преследования». Имеем ли мы право преследовать феллага[33] на тунисской территории? То была жгучая проблема, и мнения о возможном ее решении резко разделились. А у меня из головы не шел Плео. Оставить его жить во Франции было чистым безумием. Даже при условии, что он будет вести себя тихо, что никто его не узнает, одного его присутствия будет достаточно, чтобы превратить мою жизнь в кошмар, и в конце концов я не выдержу. Я разрывался между двумя непреодолимыми желаниями: держать его при себе или послать ко всем чертям. Разумеется, лучше всего было бы отправить его в какую-нибудь соседнюю страну, откуда регулярно кто-то — но кто? — мог подавать о нем вести. Впрочем, даже если вообразить, что такая возможность представится, разве угроза, которую он собой являет, от этого уменьшится? Ведь если вдуматься хорошенько, то степень моей безопасности измеряется не километрами. Само его существование угрожало мне гибелью. Совещание закончилось ничем. Лурмель, депутат от Кемпера, потащил меня в ближайшее кафе.
— Нам никогда из этого не выбраться. Никто никого не хочет слушать. А мое мнение таково: если уж попал в осиное гнездо, то главное — не раздражать ос. Самое разумное — уйти потихоньку.
— Это означает?..
— Ах! Не смею сказать об этом вслух. Но посудите сами: с одной стороны — независимое Марокко, с другой — Тунис, ускользающий из-под нашей власти… Как видите…
Я стал резко возражать — прежде всего из-за тебя, а также из-за всех этих парней, которые дерутся там и которых мы не имеем права предавать, но в глубине души меня мучили сомнения. И здесь я хочу отметить, что алжирский вопрос стал предметом наших ссор с Армандой.
Как ни странно, к этому примешивались старые идейные разногласия. Разве Плео не говорил в свое время: «Нужно уметь сочетать и то и другое. Жизнь не любит крайностей, экстремистских решений. Арманда, к несчастью, всегда была экстремисткой». И он был прав. Арманда уважает силу, любит радикальные решения. Ей чужды колебания — мятежников следует уничтожить, и все тут. Я же, напротив, полагаю, что если представится возможность вступить в переговоры, то было бы безумием такую возможность упустить. Не стоит развивать дальше эту идею. Она сама тебе пишет, и ты не хуже меня знаешь, что она думает по этому поводу. Но самым поразительным в то время было появление Плео, который снова встал меж нами, Плео — призрак из 1944 года и Плео начала июля 1957 года; о существовании этого последнего она еще не подозревала, хотя он представлял собой не призрачную, а вполне реальную опасность, способную в любую минуту разрушить нашу жизнь.
В течение недели я был так занят, что у меня не хватило времени снова заглянуть на улицу Луи-Блана. На конец, как-то вечером, воспользовавшись тем, что Арманда пошла к кому-то в гости смотреть фильм, теперь уже не помню какой — кино никогда особенно не интересовало меня, — я решил навестить Плео. Он лежал на кровати в нижнем белье, неопрятный, с заросшим, неухоженным лицом.
— Что-нибудь случилось? Вы больны?
— Нет.
Он постучал кулаком по лбу.
— Вот здесь что-то не так.
— Вам не нравится работа?
Он усмехнулся.
— И вы называете это работой? Скорее уж занятие для дрессированной собачонки. Мне дают заказ, и я иду искать в ящиках контакты прерывателя, глушители, дюритовые шланги, а так как сейчас многие в отпусках, я иногда бездельничаю целыми часами. И если они меня все-таки держат, то это, полагаю, исключительно ради вас.
Он приподнялся на локте, чтобы видеть мое лицо.
— В Клермон-Ферране я был лишним. В Рио я был лишним. И здесь опять я, выходит, лишний. Что же это за жизнь? Я вернулся лишь потому, что надеялся на амнистию. Но если бы мог предположить… Бывают минуты, когда мне кажется, что самое лучшее для меня — головой в воду… Хотя наверняка отыщется какой-нибудь идиот и вытащит меня.
— Хотите, я поищу что-нибудь другое?
— Я буду откровенен с вами, мсье Прадье. Более всего мне хочется, чтобы вы оставили меня в покое. И если мне захочется пить, я буду пить. Захочется играть в покер — буду играть в покер. Хочу, чтобы за мной, наконец, никто не следил!
Он несколько раз с силой ударил кулаком по подушке.
— Осточертело все, осточертело… и сам я себе надоел, и вы мне надоели, и это идиотское ремесло. Дали бы наконец хоть сдохнуть спокойно.
Он повернулся ко мне спиной. Обиженный и страшно обеспокоенный, я бесшумно удалился. Уже выйдя на лестницу, я услыхал, что за мной кто-то бежит. Это был он. Он схватил меня за руку.
— Мсье Прадье… Прошу вас… Извините меня… Тоска напала. Не стоит обращать внимания. Вернитесь.
Он чуть ли не силой втащил меня обратно в комнату.
— Иногда теряешь голову. Как подумаю, что я был всеми уважаемым врачом!.. Мне следовало остаться в Клермон-Ферране. В конце-то концов, что со мной могло случиться?
— Вас могли расстрелять.
— Неужели!.. Впрочем, возможно, вы и правы. Что стало с моими друзьями… из клуба?
— Бертуана казнили. Других приговорили к тяжкому наказанию.
— А Арманда? — спросил он.
Вопрос застал меня врасплох. Сказать ему правду не представлялось возможным. Он был не в состоянии спокойно выслушать ее. Мы бы сцепились, я это чувствовал.
— Мадам де Шатлю?.. Честное слово… Я точно не знаю. Я так давно не был в Клермон-Ферране.
— Впрочем, какое мне дело? — сказал он. — А вы, мсье Прадье? Я даже не спросил вас, женаты ли вы и есть ли у вас дети?
Он прошелся по комнате, сунув руки в карманы и опустив голову.
— Я думал только о себе, — продолжал он. — Я сам себе противен. Но что я могу поделать? Кому я нужен? А?
Он остановился передо мной.
— Знаете, какая мысль не дает мне покоя?.. Я мог бы стать знахарем. Законом это не запрещено. Кое-кого я смогу подлечить. Диагноз поставить я сумею, это, в общем-то, не забывается. Взять хотя бы вас, к примеру. Да у вас на лице написаны все признаки острой депрессии. А вы, конечно, никогда не обращались к врачу.
— У меня нет времени.
— Моя идея вам кажется нелепой?
— А почему вы не осуществили ее в Рио?
— Потому что там на каждом углу колдуны, маги и знахари.
— Давайте говорить серьезно, — сказал я, встав и положив руки ему на плечи. — От работы, предполагающей многочисленную клиентуру, придется отказаться раз и навсегда. Стоит ли еще раз объяснять, почему?
— Вас смущает мое лицо? Но лицо можно изменить. Для этого существуют хирурги.
— И вы сами за это заплатите? Хочу вас сразу предупредить: я не богач, а расходы у меня огромные. Да и потом, кто, кроме проходимцев, станет перекраивать свое лицо. Будет вам, Плео! Какого черта, в самом деле, держитесь!
Еще несколько минут я пытался успокаивать его пустыми словами. А сам все отчетливее понимал, что оба мы зашли в тупик. И все-таки, когда я уходил, он немного повеселел. Я же чувствовал себя совсем опустошенным, словно отдал ему все свои силы, всю энергию. Я даже подумал было сказать Арманде правду. Помнится, я остановился в каком-то кафе, пытаясь подвести некоторый итог, определить размеры надвигающейся катастрофы: а) Арманда устроит шумный бракоразводный процесс, б) из партии меня с треском выгонят, в) начнется расследование моей деятельности во время Сопротивления, г) Плео арестуют и будут судить — это неизбежно, — да и меня в покое не оставят, д) я не только потеряю депутатский мандат, мало того, — меня исключат из всех ассоциаций, в которые я вхожу. Даже место учителя найти будет нелегко. Я рисую тебе эту картину, чтобы ты понял, в какое ужасное положение я попал. И мне хочется верить, что в тот момент, когда ты будешь читать эти строки, ты не отвернешься от меня, возмущенный обманом, который я будто бы совершил. Ведь если я сумел правильно все объяснить, то ты понял, что это вовсе не было обманом. Еще менее того — двурушничеством. Это… не знаю, как лучше сказать… Это была маска, которая в силу сложившихся обстоятельств оказалась у меня на лице, а сейчас те же самые обстоятельства заставляют меня срывать ее вместе с кожей, мясом, нервами, вместе со всем, что еще так недавно являло собой образ честного человека.
Глава 9
Прошло две недели. Дальше я выдержать не мог. Я позвонил Вийяру, чтобы узнать, справляется ли Антуан Моруччи со своей работой.
— Вроде бы все в порядке, — ответил он. — Единственно, в чем можно его упрекнуть, — это частые отлучки. Как только у него выпадает свободная минута, он выходит через заднюю дверь и бежит в соседнее кафе… Мы делаем вид, что не замечаем. Но не следует злоупотреблять этим!
Я не хотел звонить Плео, потому что телефон находился в маленькой комнатушке на первом этаже, так что привратница могла слышать наш разговор. Писать ему я тоже не мог — еще, чего доброго, бросит мое письмо где-нибудь на виду! А уходить тайком мне было довольно трудно, так как у меня вошло в привычку записывать все предстоящие встречи в блокнот, чтобы мой секретарь или Арманда в любой момент могли связаться со мной. К счастью, наступило время отпусков, и Париж опустел, поэтому время мое было теперь не так ограничено. При первой же возможности я сбежал. Арманда снова уехала в Клермон-Ферран наблюдать за ремонтом, Я взял такси и вышел на углу улицы Лафайета. Было уже поздно. Являться к Плео в десять часов вечера не слишком деликатно. Мне не хотелось, чтобы он думал, будто я слежу за ним. К тому же я вовсе не собирался упрекать его в чем-либо. Просто я испытывал необходимость в постоянном контакте с ним и намеревался доказать свое дружеское участие, чтобы хоть как-то поддержать его. Но Плео не оказалось дома. Привратница дышала на улице свежим воздухом, и я спросил ее, скоро ли вернется мсье Моруччи.
— Не думаю, — сказала она в ответ. — В последнее время он приходит не раньше двух часов ночи. Чем он занимается, не мое дело. Но все мы были бы ему очень признательны, если бы он не так громко шумел.
Я ушел. Представь себе мое беспокойство. Куда он мог запропаститься и где проводит свои вечера? Какая-нибудь девица? Или же… ведь он говорил мне что-то о покере? Может, он пристрастился к картам? Но на какие деньги он играл? Как расспросить его об этом, не проявляя нескромности, ибо имел же он право на личную жизнь и вовсе не обязан был поверять мне свои секреты.
В ту ночь я почти не спал. Я все более отчетливо понимал, что Плео в конце концов полностью ускользнет от меня. Он был не из тех людей, кто позволяет опекать себя, впрочем, в последний раз он яснее ясного дал мне это понять. Разумеется, он обещал молчать, но можно ли ему верить? Самое разумное — принять неизбежное: в один прекрасный день истина все равно откроется. Также уже теперь следовало заранее смириться, отказавшись от всякого политического продвижения. Разве Плео не говорил, что у меня «на лице написаны все признаки острой депрессии»? Вот вам и решение, во всяком случае, наилучшее решение в данный момент. Я пойду на консультацию к профессору Марти. И сразу же поползут слухи, что состояние здоровья не позволяет мне занять новый высокий пост. Но как быть с Армандой? Она-то ни за что не смирится! Я уже представлял себе, как она начнет таскать меня по невропатологам. Будет пичкать всевозможными лекарствами — то одуряющими, то стимулирующими, подталкивая меня всеми средствами к министерскому креслу, которого так давно домогалась! А что произойдет, если Плео узнает о том, что Арманда — моя жена? Я почувствовал, как от страха у меня засосало под ложечкой.
На другой день тревога моя несколько улеглась — так уходит с отливом вода, оставляя за собой зыбучий песок, а мне остались неясные опасения. Я не хотел больше думать о Плео и с яростью набросился на работу. Мне предстояло закончить доклад относительно предполагаемого бюджета министерства национального просвещения. Я забыл Плео. Но, увы, вскоре мне позвонил Вийяр.
— Я в большом затруднении. Ваш подопечный Антуан Моруччи, случайно, не болен?
— Не знаю.
— Вот уже три дня он не выходит на работу. Мог бы написать, извиниться. Но от него ни слова. Как мне быть? Дать ему отпуск — это нелегко, ведь он работает у нас совсем недавно, что скажут другие?
— Я попробую связаться с ним и сразу же сообщу вам. Спасибо.
Я описываю все так подробно, рискуя утомить тебя, с единственной целью: чтобы ты понял, почему я решил покончить с Плео. Плео давил на меня, как давит море на береговую плотину. Угрызения совести, положение, которое я занимал, мои моральные устои — все это, если хочешь, служило своего рода преградой. Но преграда эта начинала постепенно сдавать, и, если ее сметет, ничто уже не в силах будет помешать мне прибегнуть к крайним мерам. Тем более что, как ты помнишь, тринадцать лет назад я уже наполовину склонился к такому решению. В каком-то смысле я уже убил Плео.
Гнев, охвативший меня после телефонного звонка Вийяра, воскресил былые обиды. Мне хотелось как можно скорее встретиться с ним и высказать все, что я по этому поводу думаю. Но пришлось ждать еще два дня и отменить званый обед, чтобы в семь часов застать его дома. Встреча была короткой, но бурной. Сначала Плео отказался дать какие-либо объяснения. Но потом вынужден был признаться:
— Я не могу больше выносить кладовщика. Он с таким видом дает мне указания!.. Если я, например, не хочу вступать в профсоюз, имею я на это право или нет? Он следит за каждым моим шагом и наставляет, наставляет. Нечего меня поучать, я уже вышел из этого возраста.
— Послушайте, Плео, везде, на всякой работе есть свои неудобства.
— Я слышать больше не хочу о политике. Вы же видите, до чего она меня довела!
— Вы не хотите. Это слово не сходит у вас с языка. Вы не хотите получать указания. Не хотите того, не хотите этого. Позвольте вас спросить, чего вы в таком случае хотите?
— Хочу, чтобы мне вернули мое имя и дали право работать по специальности.
Опять все сначала. Я всерьез стал беспокоиться, а не тронулся ли он в уме? Он усадил меня в расшатанное кресло, сам сел напротив, на кровать, и положил руки мне на колени.
— Нельзя ли все-таки попробовать?.. Можно сочинить какую-нибудь историю, чтобы вас это никак не коснулось. Если бы вы знали!.. Я только об этом и думаю. В чем меня могут обвинить, если я поручу адвокату открыть дело? Разве привлекали к ответственности моих коллег, признававших годными для отправки на принудительные работы молодых людей, которые к тому же имели полную возможность скрыться?.. А что мне могут поставить в вину, кроме этого? Разве инакомыслие — это правонарушение?
С какой неотступной надеждой ловил он на моем лице хоть малейший признак колебаний, который повлек бы за собой полнейшую мою капитуляцию.
— Вы можете возразить мне, — продолжал он, — что если я объявлюсь, то тем самым погублю вас. Но разве это и в самом деле так? Я в этом далеко не уверен. В конце концов, я полагаюсь на ваши слова. А если вы ошибаетесь?
Я резко и грубо оборвал его:
— Нечего толочь воду в ступе. Если вас не пугает скандал, поступайте, как знаете! Но поверьте мне, потом вы горько пожалеете об этом.
Встав с кресла, я направился к двери.
— Не сердитесь на меня! — воскликнул он.
— Когда-то вы дали мне слово, что никогда не вернетесь. У вас нет чести, Плео.
Да, я бросил ему этот нелепый упрек, потому что утратил всякое чувство меры. Однако мои слова задели его за живое.
— Честь, — молвил он с видом оскорбленного достоинства, поколебавшим меня, — это роскошь, которую не всякий может себе позволить, в особенности если у человека не осталось ничего, как, например, у меня. Но я прошу прощения, мсье Прадье. Завтра я вернусь в гараж.
— И речи быть не может. Я найду для вас что-нибудь другое.
Так мы наперебой старались доказать друг другу свою добрую волю, взаимное понимание. Он стремился продемонстрировать свою покорность, а я хотел убедить его в том, что прекрасно понимаю его трудности. И оба мы сознавали, что после краткой передышки неизбежно возникнут новые разногласия.
Казалось, он уступил.
— Спасибо, — говорил он. — Не обижайтесь. У меня скверный характер. Мне нужно такое занятие, чтобы за мной никто не следил, чтобы я был один. Только вот какое — понятия не имею.
Я тоже не имел понятия. Позвонив Вийяру, я сообщил, что мсье Антуан Моруччи заболел и не сможет вернуться к нему, а сам тут же без промедления принялся за работу, если можно назвать «работой» брожение ума, пытающегося отыскать возможный выход. Как быть с Плео? Подобно плохому поэту, который ищет ускользающую рифму, я безуспешно листал справочник профессий. Но сколько я ни старался, мне ничего не удавалось найти. Вдохновение не приходило. Я записался на прием к профессору Марти. Он долго обследовал меня, но ничего серьезного не нашел.
— Вы несколько переутомлены, но если я порекомендую вам отдых, вы же первый станете смеяться, а? К тому же люди вашего склада нуждаются в напряженной деятельности.
— Недавно мне сказали, что у меня все признаки острой депрессии.
— Очень верно подмечено. Но такое суждение чересчур поверхностно. В данный момент никаких поводов для беспокойства нет. Я пропишу вам кое-что для вашего… Ну, скажем, для восстановления вашего равновесия. Следите за сном. Советую также легкую гимнастику по утрам… небольшие прогулки. Но главное — постарайтесь отвлечься от своих забот. Признайтесь, вы ведь из тех, кто бесконечно терзается одним и тем же. А этого следует избегать любой ценой. Нечего мудрствовать впустую. Надо соблюдать умственную гигиену.
Я чуть было не пожал плечами. Кто может вылечить меня от Плео? Кто избавит меня от него? И как мне не перемалывать одну и ту же мысль — она безумна, ну и что? Ибо в моем-то положении, при всей той ответственности, которая лежала на мне, было просто немыслимо, чтобы… Но в то же время я не мог представить себя в роли убийцы Плео. Как же мне было не думать о нем? Я пытался найти для него приемлемое занятие, а это вызывало у меня умственный зуд, своего рода антонов огонь, не дававший мне ни минуты покоя. Иногда я пытался урезонить себя: «Это твое наказание. Ты солгал, а теперь расплачиваешься. И это только начало, потому что Плео, доведенный до крайности, может пойти против тебя, если ты не сумеешь опередить его!»
Арманда, обладавшая поразительным чутьем, не могла не догадываться, что у меня неприятности. Но она по опыту знала, что когда мне станет невмоготу одному нести их бремя, я все равно доверюсь ей. А пока она ограничивалась тем, что смотрела на меня по-особому: с беспокойством и в то же время подозрительно, лишь умножая этим мои страдания. В ее присутствии я становился похож на мальчишку, которому требуется подпись в дневнике с плохими отметками. Это было невыносимо, и я в конце концов не выдержал. С фальшиво отрешенным видом, выдававшим меня с головой, я попробовал подойти к больному вопросу окольным, но дерзким путем.
— Меня кое-что беспокоит.
— Это заметно.
— О, не думай, ничего серьезного. Пожалуй, это неприятно, только и всего… Как бы ты поступила на моем месте? Мне порекомендовали одного человека… среднего возраста и с довольно трудным характером. К тому же он мало что умеет. На мой взгляд, ему подошла бы работа какого-нибудь сторожа, только, конечно, не ночного. Более высокого уровня, но все-таки что-нибудь такое, для чего не требуется особой квалификации.
Я играл с огнем, испытывая при этом смутное облегчение. Чтобы Арманда, сама того не ведая, помогала мне пристроить Плео — да это был бы настоящий реванш. Правда, я не сумел бы ответить, над чем именно. Возможно, меня побуждало к этому простое, хотя и не вполне осознанное желание сделать признание, сбросив с себя таким образом часть бремени. Мы как раз обедали дома вдвоем. Арманда чистила апельсин, и я любовался ей одной свойственной манерой снимать кожуру.
— Я думаю, это не так уж трудно, — заметила она. — Если, конечно, этот господин согласится носить форму.
— Форму?
— Да, если иметь в виду, скажем, должность сторожа в музее.
Плео в роли хранителя музея! Что за мрачный юмор! Впрочем, почему бы и нет? К тому же решение исходит от нее. Правда, тут есть что возразить, но сама по себе идея была неплоха.
— Почему ты смеешься? — спросила она.
— Потому, что идея очень уж оригинальна. В таком случае потребуется музей, где было бы довольно спокойно и не слишком много посетителей — вряд ли мой протеже способен давать исторические справки.
— Обратись к Вильруа. Он тебе многим обязан.
Я согласился с ней, но еще долго колебался, прежде чем позвонить. Удерживала меня прежде всего шутовская сторона дела. Тут было на что обидеться такому легко уязвимому человеку, как Плео. И потом, определить его в музей значило выставить на всеобщее обозрение… Хотя нет! Кто обращает внимание на сторожа? Глазам и без того открывается много заманчивого. Во всяком случае, справки навести не мешало. Я позвонил Вильруа, директору музеев морского ведомства. Арманда была права: он не мог мне отказать.
— Я возьму его на временную работу. От него не потребуется ничего сверхъестественного: следить за ребятишками, чтобы они не трогали модели, ну и, конечно, быть пунктуальным… Присылайте его ко мне. Я сам ему объясню, что нам от него надо… Я счастлив оказать вам услугу.
Оставалось только убедить Плео. Но напрасно я опасался: против всякого ожидания, он не стал упираться, хотя и не был в восторге. Более всего его угнетала форма.
— Я буду похож на лакея. И мне, конечно, станут совать чаевые.
— Ничего подобного. Будете наблюдать издалёка, для порядка. Возможно, время от времени вам придется давать какие-нибудь справки… В основном, как я себе представляю, туда приходят пожилые люди, которые обожают корабли… Никто не станет обращать на вас внимания… Вам следует представиться завтра же.
Вид у него был печальный, подавленный.
— Что ж, попробую еще раз, — сказал он. — Но делаю это исключительно ради вас. Не для себя. Если бы речь шла только обо мне!..
Он как-то неопределенно махнул рукой — мол, ничего не поделаешь — и едва ответил на мое рукопожатие, когда я уходил, так что в последующие дни я ожидал всего самого худшего. Я не решался обратиться к Вильруа, чтобы получить какую-либо информацию. Он счел бы странным проявление с моей стороны такого внимания к какому-то Моруччи. Не помню, сколько времени прошло до того события, за которым последовал кризис.
Сейчас октябрь, а встреча, с которой все началось, произошла двадцать пятого августа. Как странно! А мне казалось, что это случилось гораздо раньше. Наверное, за эти несколько недель я постарел на целые годы. В самом деле, это было совсем недавно, всего два месяца назад. Доказательство тому — наши поездки в замок, которые в то время мы совершали в конце каждой недели, уезжая на субботу и воскресенье. Палату депутатов распустили на каникулы. Государственные дела шли своим чередом. Я всеми способами, как ты догадываешься, пытался уклониться от поездок в Клермон-Ферран, где на каждом шагу меня подстерегали воспоминания, связанные с Плео, так что об отдыхе и думать было нечего. Чем он, интересно, занимался, пока мы с Армандой обсуждали планы реконструкции старинного жилища?
— Когда ты станешь министром, — говорила она, — ты поймешь, как хорошо, что у нас здесь столько комнат для гостей. Наступит хорошая погода, и нам придется устраивать большие приемы по выходным.
Как мне хотелось сказать ей: «Дорогая моя, я никогда не буду министром!»
В течение недели я по нескольку раз тайком ездил в Трокадеро. Музей морского ведомства расположен в чарующем месте. Там царит божественная тишина. Лишь кое-где мелькнут порою ревностные поклонники морского дела, но тут же замрут в благоговейном молчании перед моделями кораблей, недвижно застывшими, но вот-вот, казалось, готовыми выйти в море и сдерживаемыми лишь колдовскими чарами. Словом, истинное преддверие рая. Некрополь несбыточных снов. Воображение блуждает, теряясь средь леса мачт, нагромождения снастей. Ступаешь на цыпочках от корабля к кораблю, словно в ослеплении сердца идешь на встречу с собственным детством. С первых шагов я поддался этому волшебству. Однако ни разу не забыл, что явился сюда исключительно ради Плео. Я искал его глазами издалека, высматривая между трехпалубниками, клиперами и бригами. И как только замечал его разгуливающим руки за спину, со скучающим видом, сразу же поворачивал, успокоенный, назад. Я получал небольшую передышку и мог подумать о своих делах. Но однажды Плео застал меня врасплох. Я остановился возле модели одного корвета, восхищенный его поразительной красоты линиями. И вдруг совсем рядом услышал шепот:
— Мсье Прадье… Мне надо поговорить с вами…
Я обернулся. Это был он, смущенный, неловкий в своей форменной одежде. Я был в полной растерянности.
— В чем дело?
— Не могли бы мы где-нибудь встретиться?
— Только не говорите, что вам здесь не нравится.
— Нет. Тут другое.
— Время терпит?
— Да, конечно. Но…
— Сейчас я очень занят. Послушайте, Плео, как-нибудь вечером я к вам заеду. Постарайтесь быть дома. Мы все хорошенько обсудим на свободе. Согласны?
Я не стал дожидаться ответа. Я слишком боялся, что кто-нибудь увидит, как я с ним беседую. А раз никакой спешки нет… Тут в моих воспоминаниях какие-то провалы, туман. Знаю только, что у меня не хватило мужества собраться с духом и пойти к нему все обсудить, как было условлено. Да и потом, что нам обсуждать? А просто выслушивать жалобы Плео — премного благодарен! Я сыт ими по горло. Итак, наступило двадцать пятое августа, годовщина освобождения Парижа. Кроме участия в других обязательных церемониях, во второй половине дня я должен был председательствовать на собрании в мэрии нашего округа. Освободиться я надеялся не ранее пяти часов и в соответствии с этим назначил Арманде свидание в кафе на углу улицы дю Бак. Оттуда мы должны были направиться в ратушу на официальный прием. Я готовился к своей маленькой речи с присущим мне тщанием, ты это знаешь. О Сопротивлении я всегда говорил с величайшим уважением. Жюльен до сих пор живет в моей памяти. Я снова и снова проверяю себя. Нет, в моем выступлении, говорю это со всей искренностью, не было и намека на лицемерие. Да, я тоже был подпольщиком. И не моя вина, что я до сих пор им остался!
Церемония закончилась раньше, чем предполагалось. Я устал, и мне хотелось немного прийти в себя. Я быстро отделался от назойливых собеседников, которые при подобных обстоятельствах считают своим долгом непременно пожать вам руку и наговорить разных глупостей. Один из них проводил меня все-таки до дверей кафе. Уф! Наконец-то. Я сел за столик и заказал виски.
И вдруг я увидел его. Да. Плео был там. Он сидел напротив меня. Я едва сдержал себя, чтобы не обругать его. Он, видно, почувствовал, как я зол, ибо поспешил успокоить меня.
— Прошу прощения, мсье Прадье… Не хочу докучать вам. Но сегодня у меня свободный день, а тут я случайно узнал, что вы должны… Но вы же видите, я дождался, пока вы останетесь один.
— Что там у вас еще стряслось? Вам надоела ваша работа?
— Нет. Напротив, я начинаю привыкать. Хотя это гораздо тяжелее, чем кажется на первый взгляд. В особенности сначала. Все время на ногах…
Он умолк, чтобы заказать себе пива.
— После того ранения, — продолжал он, — я чувствую слабость в ноге. Но что поделаешь!
— Итак?.. Говорите скорее. У меня назначена встреча.
Я страшно нервничал и все время поглядывал на часы. К счастью, Арманда почти всегда опаздывала. У меня было время отделаться от него. Иначе это может обернуться катастрофой… Ах, Боже ты мой, ну почему я его не убил! Он наклонился ко мне.
— Я боюсь, как бы меня не узнали.
— Что?
— Вы говорили, что посетителей там будет не много. Это не так. В музей ходят многие. Не скажу, что толпами, но народ всегда есть. И мне показалось, что недавно я заметил там одного из своих прежних больных… Не могу теперь припомнить его имени, но…
— Вы в этом уверены?
— Нет. Он стоял довольно далеко от меня. И все-таки… Я хотел сразу предупредить вас, но вы запретили мне писать и звонить вам.
— Он смотрел в вашу сторону?
— Нет. Но я чувствую — дело кончится тем, что я столкнусь нос к носу с кем-нибудь из своей прошлой жизни. Эта мысль не дает мне покоя. Я опасаюсь не столько за себя, сколько за вас. Боюсь, что вы снова сочтете меня бесчестным человеком. Этого упрека я не могу снести, я его не забыл.
— Будет вам. Стоит ли вспоминать об этом.
Я уже давно понял, куда он клонит. Неужели он выдумал всю эту историю, чтобы запугать меня? А может, он превратился в одного из тех людей, которые никак не могут прижиться и прыгают постоянно с одной работы на другую? Хотя на этот раз он, казалось, был искренен.
— Давайте все-таки подумаем хорошенько, — сказал я и посмотрел на часы. Скоро пять.
Я взглянул на Плео. Арманда сразу же его узнает. Я места себе не находил от волнения.
— Мне надо спокойно все обдумать. Вы можете оказать любезность? Ступайте сейчас домой и ждите меня завтра вечером.
— Но… вы мне верите, мсье Прадье?
— Да.
Я чуть было не добавил: «А теперь уходите, да поживее!» Но момент обижать его был явно неподходящий. Я заплатил за оба заказа и подал гарсону знак унести наши стаканы. Затем приподнялся и протянул руку Плео.
— До завтра.
Он тоже встал и замер в нерешительности. Его смущала моя холодность.
— Не сочтите за грубость, — сказал я, пытаясь изобразить любезную улыбку, — но я и в самом деле очень тороплюсь.
И в этот самый момент появилась она. Если Плео пойдет к выходу, он непременно встретится с ней. Голова у меня пошла кругом.
— Скорее, — шепнул я. — Сядьте где-нибудь в глубине. Попросите газету. Спрячьтесь. Потом я все объясню вам. Только прошу вас, как можно скорее.
Плео сразу же понял, что рискует скомпрометировать меня, если его увидит человек, которого я ждал. Он тотчас же направился в глубь зала. Арманда искала меня глазами. Я помахал рукой, чтобы привлечь ее внимание, она улыбнулась в ответ. Она не заметила Плео. Но я, я не терял его из виду. Он сел таким образом, чтобы, повернувшись к нам спиной, иметь возможность спокойно наблюдать за нашим отражением в зеркале.
— Я готов, — сказал я. — Мы уже можем идти.
Она села на то место, которое только что покинул Плео.
— Мне хотелось бы выпить чашку чаю, — сказала она. — И тебе это тоже не повредит. Если бы ты сейчас себя видел!
— Верно. Я очень устал. Жара… толпа…
Она открыла свою сумочку, достала надушенный платочек и, склонившись над столом, ласково стала вытирать пот, выступавший у меня на лбу. А я тем временем думал: «Он ее, конечно, узнал и по этому платку, и по ее нежному жесту наверняка обо всем догадался. Если бы Арманда была моей любовницей, она не стала бы так афишировать себя, особенно в этом квартале. Теперь он понял, что она моя жена. Этого нельзя не понять. Только бы он не двигался! Только бы ему не пришла в голову мысль подойти к ней ради бравады! Только бы…»
Но нет. Гарсон принес ему свежий выпуск «Франс суар», и он тут же спрятался за раскрытыми листами. Заметив мой взгляд, Арманда повернула голову и увидела газету.
— Ты еще не читал «Франс суар», — сказала она, — не успел, конечно. Вот, я захватила с собой. В передовой пишут о тебе.
И она положила на стол сложенный номер газеты. Развернув ее, она протянула газету мне.
— Тут пишут, что правительству нужны новые люди, и приводят в числе других твое имя. Вспоминают все твои заслуги.
Ничто, решительно ничто меня не минует. Плео как раз держал перед глазами статью. Из нее он мог узнать, кем я благодаря ему стал, а в зеркале он видел Арманду, которая, поднявшись со своего места, подошла и села рядом со мной, потом, обняв меня за плечи и склонив ко мне голову, с сияющим лицом стала комментировать статью.
Глава 10
В течение всего вечера я ног под собой не чуял. По счастью, Арманда не заметила Плео. А между тем, когда она пошла поправить свою косметику, она едва не коснулась его. Он мог уловить запах ее духов. Я ставил себя на его место. И чувствовал все, чего не мог не чувствовать он: гнев, возмущение, зависть, унижение и, вне всякого сомнения, — желание отомстить. Ну почему я сразу же не сказал ему, что женился на Арманде? И почему тогда не сказал Арманде, что он жив? Все эти умолчания делали меня виновным, к тому же я, как ты помнишь, нимало не старался рассеять недоразумение. Мне не хотелось огорчать одну, не хотелось расстраивать другого. И потом, я терпеть не мог ни перед кем отчитываться. А теперь то, что, как мне казалось, я имел право скрывать, оборачивалось обманом, хитрой проделкой, ловким маневром и, если называть вещи своими именами, — мошенничеством.
Председатель местного отделения ветеранов Бутейе остановил нас как раз в ту минуту, когда мы выходили из кафе. Приветствия. Пустая болтовня. А вдруг появится Плео? Напрасно пытался я увлечь этого несносного человека на стоянку такси вместе с нами, куда там! И все-таки в конце концов он отвязался. Плео остался в кафе. Я взял Арманду под руку.
— К черту этого Бутейе!
— Ты был не слишком-то любезен.
— Он меня раздражает.
— Да тебя с недавних пор все раздражают.
Я открыл дверцу такси. «К ратуше!»
— Даже малыш Белло, — продолжала Арманда. — Он мне тут как-то сказал: «Не знаю, что с патроном. На все ворчит, всем недоволен».
— Да нет же, уверяю тебя.
— О! Я прекрасно вижу: тут что-то не так. Ты едва притрагиваешься к еде. Плохо спишь. Возможно, ты даже не замечаешь этого, но очень часто бываешь нелюбезен.
— С кем?
— Хотя бы со мной.
Я взял ее руку. Стал гладить. Сколько времени еще осталось ждать, пока небо не рухнет мне на голову? Но ты, конечно, хочешь знать, что было потом. Сейчас, сейчас. Итак, мой визит к Плео. Только сначала ты дожжен хорошенько понять, что события, случившиеся тринадцать лет назад, загнали меня теперь в капкан, из которого нельзя было выбраться. И в самом деле, что я мог поделать? Плео держал меня в своих руках. Мое положение, да что там — моя жизнь была всецело в его власти. Если ему вздумается написать Арманде или позвонить ей, кто ему помешает? Не мог же я взять его под стражу. Напрасно искал я выход, возможность устранить Плео. Выход был только один. И в течение всего этого отвратительного вечера я изучал его со всех сторон, взвешивал все «за» и «против», продолжая между тем рассеянно отвечать своим коллегам, друзьям и прочим важным лицам, которые в один голос спрашивали меня, соглашусь ли я в случае серьезного кризиса принять министерский портфель.
Очутившись наконец дома, я под каким-то предлогом заперся у себя в кабинете. Открыл ящик, где с давних пор лежал пистолет, который я хранил со времен маки. Он был завернут в шерстяной лоскут. Я взял его, положил на свой бювар и долго смотрел на него. В какой-нибудь волшебной сказке он непременно заговорил бы со мной и даже, наверное, стал бы подбивать меня на убийство. Но я жил не в сказке, а наяву. И потому положил пистолет на место, а на другой день отправился к Плео. Он казался спокойным, даже каким-то умиротворенным.
— Вы видели ее? — спросил я.
— Да… Вы обманули меня, мсье Прадье.
— Как?
— Ладно уж, я все понял. Что толкнуло меня уехать в сорок четвертом? Вспомните-ка… В ту пору я думал, что вы на моей стороне. А вы были с ними.
— Плео… Даю вам слово!
— Не лгите. Вы все обдумали с Армандой, устроили так, чтобы я исчез из вашей жизни. Полагаю, что она уже тогда была вашей любовницей.
— Но это же абсурд!
— О! Я знаю, о чем говорю. Я вам мешал. Все эти неудавшиеся, ну или почти неудавшиеся покушения были так, для отвода глаз, а? Чтобы заставить меня уйти со сцены. Ловко вы меня провели. Разумеется, если бы я остался и если бы меня осудили, вам бы не удалось сделать такой блестящей карьеры. Разве можно жениться на бывшей жене коллаборациониста! Это изъян. Даром это не проходит. Вы видите, мсье Прадье, я вовсе не сержусь. Я только говорю то, что есть.
Я был потрясен. Этот несчастный с безумной изворотливостью, присущей неврастеникам, на ходу придумывал роман ужасов, на первый взгляд, увы, вполне правдоподобный.
— Плео! Клянусь вам…
Он встал передо мной.
— Вы клянетесь мне, что ничего этого не хотели. Все произошло совершенно случайно. Вы случайно похвастались тем, что убили меня. И случайно женились на Арманде.
Я показал ему свою руку в перчатке.
— А это?
Он пожал плечами.
— Несчастный случай. Признайтесь, что вы сумели использовать его.
— Я не позволю вам, Плео!.. Но давайте сначала сядем. И попробуем поговорить спокойно.
— Вот именно, — усмехнулся он. — Вскроем нарыв раз и навсегда. Вы позволите?
Он зашел за занавеску, которая отгораживала место, служившее ему кухней, и вернулся оттуда с бутылкой коньяку и стаканом.
— Вам я не предлагаю. Вы человек добродетельный и строгих правил!
Он уселся на кровать.
— Валяйте. Я вас слушаю.
— Восстановим факты. Вы уехали по собственной воле. И доказательство тому — то, что вы продали свой дом, не предупредив меня об этом.
— Я был волен делать, что хочу. Это касалось только меня.
— А я был волен жениться на женщине, которая для вас была уже никем, не спрашивая на то вашего позволения. Разве это не касалось только меня? Так признайте же — тут не было никакого умысла.
Он наполнил свой стакан дрожащей рукой.
— Все равно без меня вы не добились бы ровным счетом ничего. Достаточно мне написать… не знаю кому… ну, предположим, главному прокурору… и на депутата Прадье вместе с его мадам тут же будут показывать пальцем.
Он отхлебнул глоток и задумчиво смаковал его.
— Прекрасная мадам Прадье, — прошептал он. — Прадье и притом урожденная де Шатлю, не забывайте!.. Но стоит мне потребовать, чтобы она собственной персоной явилась сюда и попросила меня молчать… Она это сделает. Уверяю вас, она это сделает. Гордость гордостью, но бывают случаи, когда приходится поступаться ею, а? Не так-то просто отказаться от почестей и всеобщего почитания… А я, что я такое? Мне великодушно предлагают быть чем-то вроде подручного или занять должность музейного сторожа. Завтра мне найдут место мусорщика… Хватит, с меня довольно. Вы прекрасно знаете, мсье Прадье, что так дальше продолжаться не может. Вы так высоко. А я так низко. Это слишком несправедливо!
Мне стало страшно. За его внешним спокойствием таилось столько решимости. Он без колебаний готов был причинить нам зло. К тому же, несмотря на все неверные доводы, которые он выдвигал, я вынужден был признать, что в какой-то мере он прав. Суд надо мной! В течение всех тринадцати лет я пытался представить себе, как это будет. И мог бы подсказать Плео немало других аргументов.
— Что вы предлагаете? — спросил я. — Только не пытайтесь примешивать Арманду к этому спору. Уверяю вас, она считает вас мертвым.
— Вы и в самом деле умеете молчать, мсье Прадье. И я вас полностью одобряю. Еще бы, если бы она узнала правду, тут нечем особо гордиться. Так что я вполне вас понимаю: будь я на вашем месте… Итак, не стоит поднимать скандал. Попробуем избежать ее гнева. Начнем переговоры.
— Что вы имеете в виду?
Он осушил свой стакан, явно ощущая себя хозяином положения.
— Я полагаю, — продолжал он, — Арманда оказала на вас несомненное влияние. В конце концов всегда начинаешь думать, как твоя жена, или … уходишь. Вы, стало быть, считаете меня негодяем. Так нет же, ошибаетесь. Я предлагаю вам честную игру. Франция? Я сыт ею по горло. Как посмотришь, куда ведут ее правители… ладно, оставим это. Но в чем я не сомневаюсь — дышать мне будет легче где-нибудь в другом месте. И вы поможете мне уехать.
— Опять!
Слово вырвалось у меня само собой. Он криво улыбался.
— На этот раз, — сказал он, — вам не придется провожать меня в Риом. И полицаев не будет. Нет. Я уж сам как-нибудь. А вас прошу всего-навсего дать мне некоторую сумму денег.
— Но это же шантаж!
Он резко встал, с грохотом поставив стакан с бутылкой на стол.
— Боже мой, Прадье! Попытайтесь понять. Если я останусь здесь, это все равно плохо кончится. Прежде всего мне осточертели дурацкие занятия, которые вы мне предлагаете. И потом, в конце-то концов, это может оказаться сильнее меня. Я не вынесу того, что Арманда пользуется моим молчанием. Целыми часами в этом вашем проклятом музее я буду перемалывать одно и то же, тут поневоле свихнешься. Если я хочу остаться честным и жить при этом так, как мне нравится, тут нечего зря голову ломать. Выход только один — я должен уехать.
— Куда?
— В колонии… пока они у нас еще есть. Куда, точно не знаю. Но в диких местах наверняка требуются врачи. Разве я виноват, что единственная профессия, которая мне доступна, — это медицина. А вы никак не можете взять это в толк.
Он принялся шагать, нагнув голову, — такая у него была привычка.
— Африка, — продолжал он, — это все равно, что Саргассово море. Там все обломки теряются. И там я наверняка встречу немало таких же, как я, людей, которые нигде никому не нужны. Тогда вы сможете вздохнуть свободно. Оттуда не возвращаются. Мне только потребуется ссуда, аванс. Это не милостыня. Деньги я вам верну.
— Сколько вам нужно?
— Ну, скажем, триста тысяч, чтобы добраться до Дакара и успеть разобраться, что там к чему. На это потребуется некоторое время.
— Триста тысяч! — воскликнул я. — Да весь вопрос, есть ли они у меня!
— У вас, может, и нет. Но Арманда богата.
Я лихорадочно думал. Попросить у Арманды под каким-нибудь предлогом денег? Ни за что. Это может возбудить ее любопытство, а она ни в коем случае не должна догадаться о том, что Плео жив. Кстати, ты, верно, не знаешь условий нашего брачного контракта, в котором было оговорено раздельное владение имуществом. Арманда распоряжалась своим достоянием по собственному усмотрению и, должен сказать, прекрасно справлялась с этим.
Но был у нас и общий счет — на текущие расходы. Мы регулярно клали туда деньги и брали их в соответствии с необходимостью. Я не помнил точной суммы, которая оставалась к тому времени у нас в банке. Знал только, что она сильно убавилась в связи с выплатой за ремонт нашему архитектору. Снять со счета триста тысяч франков было рискованно. Правда, Арманда никогда не проверяла счетов. Она предоставляла мне заниматься так называемой «бумажной волокитой». Поэтому то, что я снял эти деньги, наверняка останется незамеченным. К тому же у меня не было выбора. Отправить Плео далеко, очень далеко — это, конечно, наилучшее решение. Там после хорошей попойки он может рассказывать все, что ему вздумается. Никто и слушать его не станет. И я капитулировал.
— Хорошо, — сказал я. — Вы получите ваши деньги.
— Я верну вам их, — с жаром сказал. Плео. — Не хочу быть перед вами в долгу.
— Когда вы собираетесь ехать?
— Как можно скорее. Не беспокойтесь. Как только я получу эти триста тысяч франков, я тут же распрощаюсь с музейным начальством, расплачусь с домовладельцем, и вы никогда больше обо мне не услышите. Мне кажется, я опытный игрок и мог бы неплохо рассчитать свои ходы, доставив вам массу неприятностей! Но я не хочу оставлять после себя скверные воспоминания.
В словах его не было и тени иронии. Его распирала гордость, он упивался собственным благородством.
— Вы хорошо живете с Армандой? — спросил он.
По выражению моего лица он понял, что на этот раз зашел слишком далеко.
— Мне все еще случается думать о ней, — продолжал он. — Теперь я лучше понимаю свои недостатки. Дай Бог, чтобы с вами она была счастлива.
Он налил себе немного коньяку и выпил залпом.
— Мсье Прадье, что за комедия наша жизнь! Помните, тринадцать лет назад я собирался тайком покинуть Клермон-Ферран. Теперь вот уезжаю отсюда. И опять тайком, и опять с вашей помощью! Любопытно все-таки! Надеюсь, однако, что на этот раз с вами не случится ничего плохого.
В эту самую минуту я отчетливо осознал, что он принесет мне несчастье. Позднее я понял, что не ошибся. Но в тот момент я гнал от себя эту мысль, мое предчувствие, казалось, не имело под собой почвы. Напротив, когда я вернулся домой, меня охватило такое чувство, какое обычно испытывает молодой человек, только что выдержавший трудный экзамен. Тебе этого не понять. Но со мной такое случалось не раз. Ощущаешь, что стал вдруг гораздо легче, начинаешь различать цвета окружающих предметов, лица встречных людей. Будущее где-то здесь, совсем рядом, подобно нескончаемым скверным улицам ночного Парижа. Конечно, оставалось еще решить проблему денег. Но даже если предположить худшее, даже если это послужит поводом для размолвки с Армандой, ничего непоправимого не произойдет: ведь Плео исчезнет. А надо будет — займу где-нибудь.
Однако радость моя длилась недолго. Дома меня дожидалась Арманда. Я сразу понял, что дело плохо, но не успел и рта раскрыть, как она тут же набросилась на меня:
— Итак, твои любовницы даже здесь не оставляют тебя в покое?
— Мои любовницы? — Я был ошарашен. — Честное слово, ты теряешь голову.
— Тебе звонила Эвелина.
— Эвелина?.. Ты имеешь в виду Эвелину Мишар?
— Разумеется. Если только ты не коллекционируешь Эвелин!
— Послушай! Объясни, в чем дело.
— О! Все очень просто. Эта потаскуха звонила тебе сюда. Какая наглость! Она хотела поговорить с тобой. Дело, по ее словам, срочное и притом личное. «Передайте, что звонила мадемуазель Эвелина Мишар». Скажите, пожалуйста, «мадемуазель». Прошу тебя, не изображай из себя святую невинность. Я уверена, что ты сейчас от нее. Посмотри, на кого ты похож. Худой. Глаза ввалились, как у самого настоящего гуляки. От тебя пахнет женщиной.
Она подошла ко мне и, ухватившись за отвороты моего пиджака, с отвращением понюхала их.
— Мне стыдно за тебя. Думаешь, я ничего не вижу! А я давно уже наблюдала за тобой. Ты вечно в облаках. Вечно о чем-то мечтаешь. Даже Белло и тот заметил. Святая простота! Ему кажется, что ты слишком переутомляешься на работе. Если бы он знал правду! Ты похож сейчас на Оливье. Но тот, по крайней мере, был откровенен.
Она едва повысила голос, зато внутри вся кипела. Я кожей ощущал исходившие от нее волны ярости. В таком состоянии я ее никогда не видел. Я отошел от нее с чувством гадливости. Зрелище разъяренной фурии всегда претило мне. Я не спеша закурил сигарету, чтобы показать ей, насколько я спокоен и до какой степени ее обвинения мне безразличны.
— Могу я вставить хоть слово? — спросил я. — Я и в самом деле виделся с Эвелиной, но это было несколько лет назад. Она явилась ко мне в качестве просительницы, причем весьма смиренной. Она сочла меня достаточно влиятельным человеком, чтобы добиться для нее ангажемента. Вот и все. С тех пор я ни разу не слышал о ней. И если она звонила, то, вероятно, потому, что снова оказалась на мели и не знает, к кому обратиться. А теперь позволь мне принять душ. Я устал.
— Ты ее пустишь?
— У меня нет причин выставлять ее за дверь.
Она испытующе смотрела на меня. А я продолжал с холодной иронией:
— Что же касается других моих любовниц — ведь по-твоему, я коллекционирую любовные приключения, — так вот что касается их, то я очень сожалею, но они существуют только в твоем воображении.
Это была наша первая серьезная размолвка. Я чувствовал, что она оставит свой след. Мы оба, и она и я, были из числа обидчивых.
— В таком случае, — сказала она, — почему же все это время ты казался таким озабоченным, таким далеким?
— А ты думаешь, обстановка располагает к веселью? Курс франка падает с молниеносной быстротой. Алжир ускользает от нас.
Мне было совсем не трудно развивать до бесконечности эту тему. С помощью такой дымовой завесы я мог скрыть истинные свои тревоги.
— Предположим, что я ошиблась, — сказала она.
— Нет, позволь! Это не гипотеза. Это реальность. Ты ошиблась.
— Признайся, что за последний месяц ты вел себя довольно странно.
— Не знаю. Я не заметил. Извини, если доставил тебе беспокойство. Я не хотел этого.
Казалось, делу конец. И, однако, мы оставались настороже. Другие на нашем месте протянули бы друг другу руки, попробовали бы улыбнуться. Но она стояла, прислонившись к камину, а я опирался на спинку стула. Нас разделяло довольно большое пространство, где лежал ковер, и это напоминало no man’s land,[34] пограничную полосу. Я не решался переступить ее. Она — тоже. И вскоре она удалилась почти бесшумно.
Я заперся в ванной. В тот вечер я лег спать в твоей комнате, чтобы показать, как я обижен. Хотя понимал, что выгляжу смешным, потому что у Арманды были некоторые основания считать мое поведение странным. И все-таки ревность ее возмущала меня, ибо я всеми силами боролся с Плео как раз для того, чтобы спасти нашу совместную жизнь.
На другой день она не вышла к завтраку. Было еще слишком рано заключать перемирие. Я отправился в банк. На счету у нас было немногим более восьмисот тысяч франков. За вычетом трехсот тысяч оставалась вполне достаточная сумма, чтобы с лихвой хватило на текущие расходы. Через некоторое время надо будет оторвать корешки, и следов не останется. Я рассовал пачки денег по карманам и в тот же вечер помчался к Плео. Мне не терпелось покончить с ним. Разумеется, с моей стороны было крайне неосторожно столь часто появляться в этом доме, охраняемом день и ночь неусыпным стражем — вездесущей привратницей. Но я шел туда в последний раз. По крайней мере, мне так казалось!
— Вот нужная сумма, — сказал я Плео.
Он стал пересчитывать деньги.
— Вы мне не верите?
— Верю. Но уговор есть уговор. Взамен я даю вам свое слово. И потом, мне приятно держать в руках ассигнации. Вы не знаете, что значит быть бедным. А я теперь знаю.
— Я не могу дать вам больше.
— Этого мне хватит. Попробую жить экономно, вот и все. А для начала сяду на пароход в Бордо. Это обойдется дешевле.
— Когда?
— Сегодня пятница. Судно уходит во вторник, я справлялся. Стало быть, из Парижа я уеду в понедельник вечером ночным поездом. Все готово. В музее я предупредил. Можете не беспокоиться.
— Не беспокоиться, — молвил я. — Так ли это? Послушайте, Плео. Обещайте писать мне. Сначала из Бордо. Буквально несколько слов. Затем из Дакара или откуда-нибудь еще, где вы решите обосноваться. Письма адресуйте ко мне на работу с пометкой «лично». Текст самый безобидный с неразборчивой подписью.
— Боитесь Арманду?
— Осторожность не повредит… Ну что ж, Плео, желаю вам удачи.
Такова была в общих чертах эта сцена. Перелистывая свое послание, которое становится похожим на роман с описанием моей жизни, я замечаю, что в нем слишком много сцен и что можно, пожалуй, было бы написать покороче. Но мне хотелось восстановить в какой-то мере последовательный ход событий, чтобы тебе стали понятнее истоки той лавины, которая в конечном счете сметет меня. Если бы я просто изложил отдельные факты, собрав их воедино, моя невиновность не была бы столь непреложной. А я хочу установить ее со всей очевидностью, чтобы ты мог судить обо мне беспристрастно.
Покидая Плео, я думал, что закончен последний акт и занавес опущен. Плео уедет, и жизнь снова войдет в свою колею. Призрак, который преследовал меня в течение долгих недель, уходил в небытие. На этот раз я в этом не сомневался. Он был прав: Африка его не выпустит. И вот в тот самый момент, когда я собирался наконец вздохнуть с облегчением, мы получили известие о том, что ты ранен. Но так как письмо было написано твоею рукой и ты сам писал, что рана не тяжелая, я не слишком беспокоился, зато Арманда считала, что ты нас обманываешь. Пришлось пустить в ход все мои связи, чтобы получить официальное подтверждение: ты был ранен в ногу и, как только поправишься, приедешь на побывку.
Страх за тебя сблизил нас с Армандой. По молчаливому уговору об Эвелине речи больше не возникало. В этой связи, чтобы ничего не упустить, хочу сообщить тебе, что Эвелину принял мой секретарь и что она получила рекомендацию, которой добивалась. Но вернусь к Арманде. Она думала, что ты проведешь с нами несколько недель, и настаивала на скорейшем окончании работ в замке, надеясь, что ты согласишься пожить там какое-то время, подышать живительным горным воздухом. Я поддакивал ей. Хотя заранее знал, что ее ждет разочарование, потому что из армии тебя отпустят в лучшем случае дней на десять, учитывая тот оборот, какой принимали события. Но я не хотел противоречить ей, страшно довольный наступившим затишьем.
Плео, должно быть, уже вышел в море. Он ничего не написал мне из Бордо, но это меня ничуть не удивило. Однако его молчание начинало тревожить меня, я чувствовал что-то неладное. Я считал себя глупцом. Разве мало мне было других забот? Правительство, подвергавшееся все более сильным нападкам, оказалось в критическом положении. У меня состоялась короткая встреча с Робером Шуманом, и он дал мне понять, что вскоре, видимо, вынужден будет обратиться к людям, еще не побывавшим у власти. Намек был ясен. Это-то и побудило меня снова заглянуть на улицу Луи-Блана. Разумеется, Плео был теперь далеко, все осталось в прошлом. Но я всегда отличался суеверием. Мне хотелось самому удостовериться в том, что после него не осталось ничего лишнего.
Мне необходимо было убедиться, что он исчез без следа… Потом уже я мог бы со спокойной совестью заняться неотложными делами.
— Мсье Моруччи? — переспросила привратница. — Стало быть, вы ничего не знаете.
— А что я должен знать?
— Он пытался покончить с собой.
— Подождите! Вы имеете в виду Антуана Моруччи?
— Да. Он перерезал себе вены и горло бритвой.
Я чуть было не лишился чувств.
— Но… Когда? — прошептал я.
— В прошлый понедельник. Видели бы вы, в каком состоянии была комната! Все в крови. Хорошо еще, девушка, жившая в соседней комнате, услышала стоны. Вызвали полицию. Его отправили в больницу.
— В какую больницу?
— А-а, черт побери, я не спросила. Чем скорее избавишься от таких жильцов, тем оно лучше.
— Он умер, вы не знаете?
— Ничего я не знаю. Да и знать не хочу. После него столько пришлось убирать. Неужели вы думаете, что нам больше делать нечего!
Я сунул ей в руки деньги и зашагал в ближайший бар, где одну за другой проглотил две рюмки коньяку. Я был в отчаянии, и меня как проклятого мучила жажда.
Глава 11
Ощущение у меня было такое, будто я вывалялся в грязи, будто я подцепил какую-то дурную болезнь, покрылся струпьями и чесоткой, словно Плео заразил меня своей неустроенностью в жизни, толкнувшей его на самоуничтожение. Плео прилип ко мне, у меня от него пошел зуд. Я подхватил этот вирус в ту новогоднюю ночь сорок четвертого года, когда протянул ему руку помощи. И теперь я был поражен проказой, так же как и он. Подобно ему, я был осужден. Он первым оказался отринут живыми, теперь пришла моя очередь. Мне тоже не оставалось ничего другого, как перерезать себе вены.
И все-таки нет. Пока еще я не дошел до такой крайности. Что, в сущности, произошло? Что вообще происходит в тех случаях, когда кто-то пытается покончить с собой? Проводят наспех расследование. И если речь идет о горемыке, живущем, вроде Плео, в скверном доме и не имеющем определенных средств к существованию, никто ни на чем не настаивает. Полиции нет никакого резона проявлять особый интерес к этому никому не ведомому господину по имени Моруччи. Личные печали, и точка. Дело наверняка закрыто, если только у него не обнаружили трехсот тысяч франков. Это было единственное темное пятно, которое требовало незамедлительного прояснения.
Ближайшими больницами оказались Сен-Луи и Ларибуазьер. Сначала я кинулся в Сен-Луи. Разумеется, я не мог себя назвать. Поэтому мне отвечали кое-как: люди были завалены работой и не имели времени на разговоры со мной. Антуан Моруччи? Нет. Никакого Моруччи не поступало. Я помчался в Ларибуазьер — там мне больше повезло. Впрочем, слово это неуместно, ты только представь себе, как я, совершенно потерянный, метался по коридорам, где сновали врачи, санитары, посетители; что я мог сказать, если бы встретился вдруг с кем-нибудь из своих знакомых? А переступив порог общей палаты, я чуть было не повернул назад. Мне казалось, что все взоры обращены ко мне, со всех сторон за мной следили чьи-то глаза — любопытствующие, смиренные, завистливые, недобрые, они беззастенчиво разглядывали меня, как бы пробуя на ощупь ткань моего костюма и едва ли не касаясь моего крепкого, здорового тела. Я сунул левую руку в карман — ту самую руку в перчатке, которая выдавала меня с головой, как будто на ней было написано мое имя, — и стал переходить от одной кровати к другой, отыскивая Плео.
Наконец я обнаружил его в самом конце палаты. Шею его закрывала плотная повязка. Кисти рук были забинтованы. Он лежал на спине, и кожа его была серого цвета — цвета смерти. Он так был похож на прежнего Плео, что мне почудилось, будто я перенесся в те времена, когда после второго покушения он поверял мне в клинике Клермон-Феррана свои планы, связанные со скорым отъездом. Я сел рядом с ним. Он открыл глаза и, казалось, ничуть не удивился.
— А-а! Это вы, — прошептал он. — Извините. Я промахнулся.
Голос его был неузнаваем — хриплый, прерывистый, словом, ужасный.
— Подвиньтесь поближе, — молвил он.
Я наклонился к нему. Лицо его исказилось от боли, когда он поворачивался на бок.
— Старик рядом… Он все подслушивает… Спасибо, что пришли… Я этого не заслужил…
— Вам нельзя утомляться!
— Подождите!.. Мне надо рассказать вам… Деньги…
Мне хотелось откашляться вместо него, прочистить горло.
— Деньги… У меня их нет.
— Вы потеряли их?
Он протянул руку, забинтованную всю целиком, только пальцы оставались свободными — побелевшие, исхудавшие, с чересчур длинными ногтями, вцепившимися мне в запястье.
— Я проиграл их… проиграл… Простите.
Он умолк, переводя дыхание, словно после длительного забега.
— Перед отъездом, — продолжал он, — мне хотелось попытать счастья… потому что… триста тысяч франков… это совсем немного.
На лбу его выступил пот. Я вытер его своим платком.
— Нет, — сказал он. — Неправда… Я просто люблю играть… Я пристрастился к этому в Рио.
— Поэтому вы возвращались домой так поздно?.. Я узнал об этом от вашей привратницы.
— Да… Я ходил в маленький клуб, где принимали всякого… Мне следовало остерегаться. Но знаете, покер… стоит только начать… Налейте мне, пожалуйста, немного воды.
Я пожалел, что пришел с пустыми руками. Я ненавидел этого человека, а между тем мои чувства к нему смахивали на жалость, словно нас соединяло какое-то тайное родство. Я налил ему воды. Он пошевелил рукой, давая понять, что хочет еще что-то сказать.
— У меня осталось тридцать тысяч и билет, — прошептал он. — Так что можно ехать подыхать.
— Но разве вы в состоянии теперь уехать?
— Конечно! Здесь меня продержат дней восемь — десять. Потом… я уеду. Это все, что я могу для вас сделать, и я это сделаю.
Он закрыл глаза, лицо его выражало невыразимую муку. Затем он взглянул на меня с каким-то спокойным отчаянием.
— Если бы я мог… я бы снова это сделал… Но убить себя, оказывается, так трудно!..
Слова эти буквально парализовали меня, словно и мне тоже предстояло ступить на этот неведомый путь, откуда он вернулся, потерпев поражение.
— Да будет вам говорить глупости, — сказал я. — Вам надо молчать. Ах да! Еще один вопрос. Полиция допрашивала вас?
— Да. Для проформы. Меня все ругали… и полицейский… и врач… и санитарка… Никто не любит дезертиров.
— А… о вашем прошлом никто ничего не пытался узнать?
— Нет.
— Отдыхайте, лежите спокойно. Я позабочусь о вас… Да, да, старина. Ничего не поделаешь. Вам нельзя возвращаться на старое место. Я найду вам другую комнату, а там видно будет.
Я сжал его руку. На глазах его выступили слезы. Он был еще слишком слаб, чтобы владеть собой.
— Подлец я, — сказал он, не сдержавшись, довольно громко, так что несколько голов повернулись в нашу сторону.
— Тише! Не волнуйтесь. Я приеду за вами, как только вас выпишут.
А что мне оставалось делать? Разве я мог поступить иначе? Он и на этот раз добился своего. Я столько всего для него сделал, что теперь мне некуда было отступать. Пусть в конце концов меня узнают, ну и что? Я стал фаталистом. Недавние предосторожности показались мне вдруг смешными. И потому я отправился на поиски старшей медсестры. Я просил ее позаботиться о больном. Говорил ей, что Моруччи пережил много горя и заслуживает особого внимания. Она с удивлением смотрела на орденские ленты, украшавшие мою грудь, несомненно задаваясь вопросом, почему этот господин, с виду такой важный, проявляет интерес к такому ничтожному бедняку, как этот Моруччи. Но, видишь ли, мой мальчик, бывают в жизни моменты, когда на все хочется махнуть рукой.
Помнишь Рене Лонжа, того самого, благодаря которому меня спасли партизаны? Выйдя из больницы, я хотел позвонить ему и договориться о встрече. Хотел все ему рассказать. Сбросить наконец с себя груз прошлого! Какое искушение! Я чуть было и правда не позвонил ему. Но потом, по здравом размышлении, понял — хотя это и без того было ясно, — что он ничем не в силах мне помочь. Напротив, долг совести повелит ему сообщить властям о Плео. Нет! Мы с Плео были один на один, лицом к лицу. И никто ничего не мог решить вместо меня.
Прежде чем вернуться к работе, я целый день предавался бесплодным размышлениям. Плео сказал, что должен покинуть Францию как можно скорее. Другого выхода не было. Оставалось решить вопрос с деньгами, ибо они снова ему понадобятся. Занять, конечно, было совсем не трудно. Но очень скоро станет известно, что Прадье, член парламента, человек выше всяких подозрений, личная жизнь которого была прозрачна, как стекло, нуждается в средствах. Все в конце концов становится явным, — помнится, я уже говорил тебе это, — да иначе и быть не может в той среде, где за тобой следят, где тебя окружают всякого рода хищники, которые только и ждут удобного случая, чтобы вцепиться в горло. Я уже не говорю о спецслужбах, которые всегда начеку!
Я дал себе два или три дня передышки. И конечно, опасность возникла там, где я ее совсем не ждал. С этого самого момента события покатились одно за другим с ужасающей быстротой. Я занялся изучением проекта реформы по проведению экзаменов на степень бакалавра, и тут ко мне в дверь постучала Арманда.
— Можешь уделить мне минуту?
По выражению ее лица я сразу понял, что дело неладно.
— Я подумала, — начала она, — что неплохо было бы послать мальчику немного денег. На его жалованье особо не разгуляешься, а мне хочется, чтобы он ни в чем не нуждался. Как их там кормят, в этом госпитале?
— Прекрасная идея.
— Не правда ли?
Я чувствовал какой-то подвох, а ее злая ирония лишь усиливала мои опасения.
— Так вот я зашла в банк, — продолжала она. — Ты не возражаешь?
Из коробки, которую я всегда держу открытой на письменном столе, она взяла сигарету и не спеша закурила ее. Я уже обо всем догадался. Сейчас снова начнется баталия. Я предпочел атаковать первым.
— Ты попросила счет, — сказал я.
— Да. И увидела, что с него снято триста тысяч франков. А так как это не я…
— То, кроме меня, некому, — закончил я вместо нее. — Да. Мне нужны были деньги.
— Зачем?
— Да потому что у меня есть любовницы, ты же это прекрасно знаешь.
Мне вдруг захотелось спровоцировать ее, довести до крайности. Я был в отчаянии. Казалось, Плео нашептывает мне на ухо: «А ну! Чего ее жалеть? Какое мое дело, говорите? Но разве вы не вольны распоряжаться своими деньгами? Нет, ей обязательно нужно совать свой нос во все!»
— Опять эта Эвелина, — сказала она. — Я прекрасно видела в тот день, что ты лжешь.
— Я не желаю ничего обсуждать, — крикнул я. — Повторяю тебе в последний раз: твои подозрения просто смешны.
— Куда же в таком случае ушли деньги?.. Имею же я право знать. Тебе не кажется?
— Сожалею, но сказать ничего не могу.
— Мой бедный Марк! Как ты неловок! Куда проще было бы признаться, что ты изменяешь мне.
Честно говоря, я в себя не мог прийти от изумления. Эта женщина, такая умная, такая образованная, познавшая жизнь со всеми ее неожиданностями, вдруг стала думать и рассуждать, словно какая-нибудь мидинетка. А может быть, я сам ничего не понимал в женщинах? Но это столкновение казалось мне столь несуразным и сам я считал себя настолько выше всяких подозрений, что не мог толком ничего ответить. Только неуверенно протестовал.
— Нет. Дело совсем не в этом.
— А в чем же тогда?
Тут она проявила такую интуицию, что я совсем опешил.
— Тебя кто-то шантажирует?
— Не говори глупостей.
— Если у тебя нет другой женщины, можешь ты мне объяснить, куда ушли эти деньги — сумма немалая. Если ты собираешься одолжить их кому-то из своих друзей, зачем скрывать от меня? Я умею хранить тайны.
И так как я продолжал безмолвствовать, она холодно добавила, как будто ставила диагноз:
— Вот видишь. Все-таки женщина. Я ее знаю?
— О! Оставь меня наконец в покое!
— Итак, я угадала. Я ее знаю. Это, случаем, не Мари-Клер Дюлорье? Я заметила, как она вертится около тебя.
Голос ее дрогнул, правда едва заметно, но я успел сообразить, что она страдает, — это было ясно, а я, погрязнув в собственных заботах, сам того не желая, вел себя, оказывается, довольно гнусно. Однако она уже взяла себя в руки.
— Послушай, Марк. Если это мимолетное увлечение, перестань с ней встречаться, и не будем больше вспоминать об этом. Но прекрати с ней видеться немедленно, если не хочешь, чтобы пошли сплетни. Я этого не вынесу. Если же это серьезно, скажи мне об этом прямо. Я приму необходимые меры.
Не сводя с меня глаз, она медленно загасила в пепельнице сигарету. А я не мог вымолвить ни слова, — так же, как тогда, когда прошел слух, будто Плео убит. Всем своим существом я чувствовал, что никакое объяснение не поможет: так трудно докопаться до истины. Именно поэтому я и взялся писать тебе это длинное послание. Либо долгая исповедь, включающая все детали, тысячи мелких повседневных горестей, либо ничего. Но как бы там ни было, Арманда неминуемо станет моим врагом.
— Итак, решено, — сказала она. — Ты ничего не хочешь мне сказать? Ладно. Как знаешь. Но, надеюсь, ты отдаешь себе отчет, что я этого так не оставлю.
С этой неясной угрозой она удалилась. Сам понимаешь, какой была наша жизнь в последующие дни. Прежде всего, меня выдворили из спальни. В тот же вечер я обнаружил, что все мои вещи — белье, одежда, пижамы, обувь — все, решительно все перекочевало в комнату для гостей. В присутствии посторонних Арманда улыбалась, брала меня за руку, словом, изображала из себя безупречную супругу. Но как только мы оставались одни, воцарялось молчание. Я был на карантине. Она избегала малейшего соприкосновения со мной, словно я был заразный. В машине я садился на заднее сиденье. За столом она оставляла между нами пустое место. Короче, началась подспудная война — обычное дело в семьях, где царит раздор. И все это по вине Плео!
Между тем я продолжал заботиться о нем, потому что теперь надо было во что бы то ни стало отправить его на край света. Либо он уедет, либо мне придется убить его. Я уже говорил тебе, что эта идея не раз приходила мне в голову, он она еще не завладела моими нервами, всем моим существом. Пока это был только образ, возникший в моем сознании, как в те времена, когда Жюльен пытался настроить меня против Плео. Тогда это была своего рода мечта о могуществе, ведь Плео был полностью в моей власти. А теперь я был во власти Плео. И если он не поспешит уехать, я не смогу оставить его в живых. Мне вдруг со всей очевидностью открылась эта непреложная истина, эта настоятельная необходимость. Надеюсь только, что прибегать к этому крайнему средству не придется. Кризис миновал, и отныне Плео станет послушным. На этот раз я сам посажу его в поезд. Собственными глазами удостоверюсь в его исчезновении. Потом помирюсь с Армандой. Я еще не знал, как это сделать, но был уверен, что, избавившись от Плео, переменюсь к лучшему без всяких дополнительных усилий — так шкура зверя обретает в определенных условиях былой блеск и красоту.
Итак, я продолжал заботиться о Плео. Нашел ему комнату в отеле в предместье Сен-Дени, неподалеку от больницы. Я нарочно выбрал довольно неудобный номер, чтобы у него не появилось желания осесть здесь. Я снял еще сто тысяч франков с нашего счета — прежде всего в силу необходимости, но из бравады тоже. Я даже надеялся, что Арманда, — если, конечно, она заметит это обстоятельство, — подумает: «А может быть, он не виноват? Может быть, ему и правда надо было помочь кому-нибудь из коллег, попавшему в затруднительное положение? Может быть, он дал слово хранить тайну?» Мне хотелось заронить в ее душу сомнение.
Тут как раз мы получили от тебя письмо, где ты сообщал, что тебе дали отпуск на двенадцать дней и что ты прибудешь в Марсель двадцать пятого сентября. У меня оставалось очень мало времени на то, чтобы разделаться с Плео, ибо я хотел полностью освободиться к моменту твоего приезда. Ради тебя мне хотелось быть веселым, свободным от всяких забот. Если хоть немного повезет, то так оно и случится. Я снова пошел в больницу. Плео почти выздоровел. Повязки с него сняли. Он сидел возле своей кровати и читал газету. Увидев меня, он радостно улыбнулся и в порыве дружеских чувств пожал мне руку.
— Послезавтра меня выписывают, — сказал он. — Я возрождаюсь к жизни. Посмотрите.
Он показал мне свои запястья, где чернели следы от порезов, и попробовал двигать пальцами.
— Мне разрешают немного гулять. Силы возвращаются ко мне. И относиться ко мне стали лучше…
Я прервал его.
— Вы не совершили никакой неосторожности? Не делали опасных признаний?
— Послушайте, вы же меня знаете! Как я мог? Вы были ко мне так добры. Из-за вас я и пытался…
Он провел пальцем по горлу.
— Разве я мог показаться вам на глаза после того, как проиграл ваши деньги?
— Оставим это!
Признательность, которую я читал в его глазах, была для меня пыткой. Мне вспомнилось то, что он когда-то рассказывал мне… конь… Цветок Любви… которого забили, потому что он навсегда остался бы хромым. Должно быть, у него был точно такой вот взгляд, когда управляющий приближался к нему, пряча свое ружье, — влажный взгляд, исполненный благодарности и надежды.
— Послезавтра я зайду за вами и отведу в отель. Но хочу предупредить заранее: там не блестяще.
— Это не имеет значения. Я ведь недолго здесь пробуду. Рассчитываю уехать следующим пароходом.
— Я посажу вас в поезд на Бордо.
— Не доверяете больше?
— Согласитесь, на это есть причины!.. В последний момент я дам вам сто тысяч франков. Вы меня совсем выпотрошили, Плео.
Он опустил голову.
— Не знаю, что вам на это сказать, мсье Прадье.
— А ничего не говорите.
— Могу я проводить вас?
— Пожалуйста.
Почему я был так резок? Наверное, потому что боялся, как бы кто не увидел меня рядом с ним. На рукавах его пиджака все еще виднелись плохо отмытые пятна. Вид у него и в самом деле был неважный, поэтому я даже вздрогнул, когда он самым естественным образом взял меня под руку, как это делают обычно больные, едва начиная ходить после выздоровления. Шагал он не очень твердо, слегка волоча ноги. На нас оглядывались, и мне было стыдно, а если быть точным, мне было стыдно того, что я стыжусь. Так держаться за свою респектабельность. По милости Арманды, которая оказала на меня огромное влияние, я превратился в самого настоящего буржуа. В вестибюле я собрался было распрощаться с ним, но он запротестовал:
— Я провожу вас до ворот. Я вам так признателен.
И вот мы, ковыляя, пересекаем двор. У выхода он берет меня за руки и долго жмет их. Мы похожи на старых друзей, обуреваемых одними и теми же чувствами.
— Я никогда не забуду, — шепчет он.
Нет ничего смешнее этих публичных излияний. Я отстраняюсь. Вернее, ускользаю от него. Вот шельма! Заставил меня испить чашу до дна.
Я с опозданием явился в парламент, где не помню уж какой депутат неистово клеймил правительство за нерешительность в алжирском вопросе. Под стук пюпитров и громкие крики я незаметно пробрался на свое место.
— Плохие дела, — заметил мой сосед. Нам нужен Пине.
Мы продолжали беседовать вполголоса. Не стану пересказывать тебе наши разговоры, ведь ты всегда с презрением относился к политиканам. Если бы тебе предстояло сделать выбор, ты, я думаю, оказался бы в стане пужадистов, не в упрек тебе будь сказано.
Домой я вернулся поздно. Ужинал один. Арманда слушала в гостиной музыку. Выпив успокоительное лекарство, я пошел спать. Но сон не шел ко мне. Если я откажусь занять пост в новом правительстве, мне никогда не помириться с Армандой. А жить с ней в ссоре я вовсе не хотел. С другой стороны, Плео скоро уберется, избавив тем самым меня от сомнений, о которых я уже тебе говорил. Стоит ли в таком случае отказываться от блестящей карьеры, тем более в тот самый момент, когда опасность уходит прочь? Взвешивая все «за» и «против», я незаметно уснул.
Через три дня я присутствовал на заседании нашей секции и даже выступал. Поди разберись тут. Я чувствовал себя прекрасно, свободным от всяких страхов и готов был идти ва-банк. Все меня поздравляли. Я вдруг уверовал в себя. Вернувшись домой к обеду, я, честное слово, испытывал желание пойти на мировую с Армандой. По пути я задержался в кабинете, чтобы разобрать личную свою почту. Внимание мое привлек маленький пакет. Заинтригованный, я вертел его и так и эдак. Он что-то напоминал мне. И вдруг меня словно молнией озарило. Гробы! Маленькие гробы, которые получал Плео. Они снова возникли передо мной в ярком, беспощадном свете. Я все вспомнил с поразительной точностью. Крохотные ручки! Свастику! Сердце мое дрогнуло, и я упал в кресло. Нет, это невозможно. В своем ли я уме? Неужели прошлое имеет надо мной такую власть!
Дрожащей рукой я разрезал веревочку. Меня обеспокоил адрес. Эти тщательно выведенные буквы должны были помешать опознать руку, которая их вывела! Похоже на анонимное письмо. Я развернул бумагу, в нее была завернута коробочка, в каких обычно продают драже. Я открыл ее и застыл в полном смятении. На крохотной подстилке из ваты лежала шахматная фигура: черный король. Что это могло означать?
Я взял короля и поставил его на свой бювар. В полном одиночестве стоял он на белом бюваре — такой нелепый, никчемный и в то же время зловещий, ибо с бесспорной очевидностью предвещал мне шах и мат. Черт побери — Плео! Это он прислал мне его. Больше некому. Но почему? Почему? Я совсем спятил. Плео ведь в больнице. Как он мог достать там эту фигуру? К тому же еще одна деталь вызывала сомнения. На пакете стоял почтовый штамп шестого округа, а Плео не разрешали пока выходить. В таком случае кто же? Арманда? С какой целью? Если ей стало известно, что Плео жив, тогда понятно. Хотя что тут понятного? Хотела таким образом предупредить меня? Предостеречь? Все это казалось бессмысленным. Оставалась только одна гипотеза, причем самая вероятная: кто-то узнал Плео и давал мне это понять. Я погиб.
После обеда у меня было назначено несколько встреч. Я их, разумеется, отменил. Я был не в состоянии вести серьезную беседу. Я чувствовал себя в западне, в безысходном тупике, загнанным на дно своей норы и даже не знал охотника, который идет по следу. Я бился часами, пытаясь отыскать разгадку. Даже если Плео опознали, даже если меня видели вместе с ним, кто мог установить существовавшую между нами связь? Кто знал, что Плео был прекрасным шахматистом? А главное, кто мог воспользоваться этим черным королем, чтобы дать понять мне, что я погиб, что партия проиграна?
Нет. Кроме Арманды, никто. Все мои предположения неизменно приводили к ней. Но это так мало походило на нее! Если бы она обнаружила, что Плео жив, я, по правде говоря, не знал, что бы она сделала, но воображение без труда рисовало мне ужасную сцену. Да мало сказать сцену! Она сочла бы себя осмеянной, смертельно оскорбленной. И наверняка тут же придумала бы какую-нибудь месть, достойную нанесенного оскорбления.
Я сунул в карман этого мрачного короля — прекрасно выточенную, красивую черную фигуру — и все время трогал его, пытаясь убедить себя, что надо мной нависла угроза — непонятная, но вполне реальная. Надо было действовать. А действовать — это означало ускорить отъезд Плео. Только так я мог ответить на выпад, направленный против меня.
Я позвонил в транспортное агентство. Ближайший пароход отправляется в Дакар третьего октября. Срок долгий. Но я подумал, что мой неведомый враг, имея доказательства нашей связи с Плео, должен был знать и то, что Плео находится в больнице. За мной, видимо, наблюдали, следили. Поэтому уедет Плео днем раньше или позже, значения уже не имело! Но самое удивительное, представь себе, было то, что я не мог угадать истину. Она буквально бросалась в глаза, а я продолжал терзаться догадками. И даже отправившись за Плео, я все еще мучительно искал ответа. На улице я все ему рассказал. Я говорил тебе: его отель находился неподалеку от больницы, поэтому путь пешком не мог утомить его, хотя он был еще довольно слаб. Я показал ему шахматную фигуру.
— Хочу сразу же заверить вас: я тут ни при чем, — сказал он.
— Может быть, Арманда?
— Не думаю. Скорее бы уж она бросилась на вас, все когти наружу. Нет, не представляю себе. Но это крайне тревожно… И вот что мне кажется: может, мне лучше остаться? Помочь вам в случае необходимости защититься. Ведь в конце-то концов, я один во всем виноват.
— И речи быть не может. Вы отплываете третьего октября.
Я оставил его в отеле. А несколько часов спустя от тебя пришла телеграмма: ты был в Марселе.
Глава 12
Бедный мой Кристоф! Как неудачно все вышло! Удастся ли нам разыграть для тебя счастливую комедию?
— Надеюсь, — сказала Арманда, — в присутствии мальчика ты сумеешь держать себя в руках. Я не хочу, чтобы по твоей вине его отпуск был отравлен.
Момент был явно неподходящий, чтобы посвящать ее в тайну черного короля. Впрочем, такого момента никогда не будет. Если, паче чаяния, Плео для нее по-настоящему мертв, зачем мне так некстати открывать ей истину? Зачем разубеждать ее — в конце концов, пусть думает, что у меня есть любовница. Это позволит мне по праву принять вид незаслуженно оскорбленного человека. Так, накануне твоего приезда мы устанавливали неписаные правила игры в прятки, где каждый из нас по очереди становился то обидчиком, то обиженным. И это неизбежно должно будет проскальзывать в наших взглядах, полных скрытых намеков, в немой мольбе, предостерегающих жестах, целом наборе условных знаков, причем Арманда, несомненно, отлично справится со всем этим, в то время как я то и дело буду попадать впросак, совершать промахи, непоправимые ошибки.
Видишь, в каком состоянии я находился, когда пришел встречать тебя к поезду. Арманда сразу же оказалась на высоте положения. И ты никак не мог заподозрить, что у нас серьезные разногласия. Наверное, ты уже забыл наш первый ужин, а я забыть не могу. Она была так оживленна и, казалось, вся во власти радостной встречи с тобой. Она засыпала тебя вопросами, что было вполне естественно; но почему она все время обращалась также ко мне, словно призывая принять активное участие в разговоре? А то вдруг начинала оправдывать меня.
— Марк так устал! — говорила она. — Ты не находишь, что он изменился? Напрасно я уговариваю его поберечь себя, он все равно делает по-своему, как обычно.
Я пытался улыбаться.
— Не слушай ее. Работы у меня, конечно, много, но я держусь.
— Он будет министром, — продолжала она. И, повернувшись в мою сторону, добавила тоном, исполненным непередаваемой нежности, но с каким-то жестоким блеском в голубых глазах: — Не возражай, Марк. Это дело решенное. Ты вполне заслужил это! Правда, Кристоф, он это вполне заслужил?
Ты, сияя, говорил «да» — счастливый, довольный тем, что опасность осталась далеко позади. Ты на все говорил «да». Потому что жизнь снова тебе улыбалась, потому что не было больше ни феллага, ни засад, ни стычек. Потому что вокруг ты видел лица тех, кто любит тебя больше всего на свете. Война… ты не хотел говорить о ней. Я не раз пытался расспросить тебя об этом в те дни, что ты провел тогда с нами. Мне интересно было услышать мнение бойца, его впечатления. Но ты отвечал только: «Это трудно! Гораздо труднее, чем ты думаешь!» И я прекрасно видел, что мои треволнения кажутся тебе ничтожными. Зато при встрече с тобой я вспомнил то, что мне довелось испытать в свое время в маки: жизнь тогда ни во что не ставилась, мы входили в горящие деревни, где еще пахло убийством. Ты и я, мы оба были солдатами, очутившимися вдали от линии фронта в минуту затишья. Ты вскоре вернешься туда, в горы Ореса. А моим фронтом был Плео и этот смешной кусочек дерева, который я хранил в своем кармане.
Мне хотелось посвятить тебе себя целиком. Увы, события разворачивались с невероятной быстротой. 30 сентября правительство пало. Президент республики обратился к Плевену с просьбой сформировать новый кабинет министров. Заседания следовали одно за другим. Телефон трезвонил не переставая. Я видел тебя урывками, мы едва успевали сказать друг другу несколько слов.
— Разве это жизнь, мой бедный Марк, — говорил ты. — И все это ради призрачного величия, которое продлится не больше двух месяцев.
Ты смотрел на меня с каким-то скрытым волнением — так смотрят, отчаявшись, на безнадежно больного человека. Между тем я не забывал о Плео. Близилась дата его отъезда. 2 октября, вечером, я зашел к нему в отель.
— Итак, никаких перемен? Завтра утром я заеду за вами и отвезу на вокзал. Будьте готовы.
— Не беспокойтесь, мсье Прадье. Положитесь на мое слово.
Несколько успокоенный, я наскоро поужинал.
— Ты опять уходишь? — спросила Арманда. — Неужели тебя не могут оставить в покое хоть ненадолго?
Кого она имела в виду? Другую женщину? Неужели Арманда все еще думает, что у меня есть любовница? Но по правде говоря, я уже не задавался никакими вопросами. Меня завертел вихрь встреч, дискуссий, переговоров. С социалистами дела продвигались туго. Одно из наших заседаний закончилось около часа ночи. Плевен не хотел сдаваться. Он готов был пойти на уступки Ги Молле, но основные министерские посты решил оставить за МРП. Если он одержит победу, я вполне могу рассчитывать на министерство национального просвещения.
Домой я вернулся совершенно разбитый, но тщательно проверил будильник, чтобы не упустить Плео. Еще несколько часов, и я от него избавлюсь. А потом?.. Что ж, потом вряд ли кому удастся отыскать его в африканской глуши. Мой неизвестный мучитель останется ни с чем. Я понимал, что рассуждаю как ребенок и напрасно недооцениваю опасность. Но сначала надо выспаться!
На другой день в восемь часов утра я был уже в отеле. Я попросил таксиста подождать у входа и поднялся на третий этаж, где жил Плео. Номер двадцать девять. Я постучал в дверь. Никакого ответа. Я повернул ручку. Дверь отворилась. В комнате было довольно темно. Сгорая от нетерпения, я нащупал выключатель.
Плео спал. Я подбежал к кровати и схватил его за плечо. Но он, не открывая глаз, весь отекший, взъерошенный, продолжал спать тяжелым, похожим на обморок сном. На ночном столике стояла бутылка из-под виски и лежала коробочка с лекарством. Спиртное со снотворным! А еще врач! Ведь спиртное усиливает действие транквилизаторов, он что, забыл об этом? Или сделал это нарочно? Я крепко тряхнул его. Этот кретин опоздает на поезд.
— Проснитесь, Бога ради!.. Эй! Плео!
Я уже не помнил, что он звался Моруччи! Намочив полотенце, я стал хлестать его по лицу. Он заворчал и попытался уткнуться головой поглубже в подушку. Я сбросил с него простыни и попробовал приподнять его.
— Плео!.. Вставайте!.. Вставайте!..
Послышались удары в стенку и крики откуда-то издалека:
— Да успокойтесь вы наконец!
Я растерянно стоял, склонившись над этим огромным распростертым телом. Взглянув на часы, я понял, что уже поздно. И в довершение всего Плео перевернулся на бок, свернулся калачиком и захрапел. Совсем выбившись из сил, испытывая непреодолимое отвращение, я сел на край кровати. Он будет спать непробудным сном еще целую вечность. В общем-то, я прекрасно понимал, что произошло. Ему не хотелось уезжать. Быть может, он не сознавал этого до конца и был вполне искренен, когда клялся, что хочет исчезнуть. Но… Но ему было страшно!
Он страшился того, что ожидало его там. Страшился еще более низкого падения. Нищеты. Бродяжничества. Вот почему он хватался за меня, словно утопающий. Но если утопающий парализует движения своего спасителя, тот имеет полное право отбросить его — пускай идет ко дну. Теперь, пожалуй, я оказался в положении человека, вынужденного прибегнуть в законной самозащите. Хоть это, по крайней мере, не вызывало сомнений. Нечего больше увиливать. Я еще раз взглянул на него — не человек, а отребье — и вышел.
На площадке второго этажа я остановился. Я мог бы задушить его, накрыв ему голову подушкой. Но решение мое только еще созревало. Нужно было время, чтобы оно окрепло. К тому же у меня может не хватить сил — из-за покалеченной руки. Да и потом, наверняка найдется средство получше, чтобы избавиться от него без особого риска, а сейчас внизу стояло такси, на котором я приехал сюда, в отель.
Так ни на что и не решившись, я спустился вниз.
Убить его, да, убить. Но как? В моем-то теперешнем положении! Ты — дома. Арманда все время настороже. Да и мои друзья не оставляют меня в покое. Впрочем, с политическими чаяниями покончено раз и навсегда. Преступник не может быть министром. В этом вопросе на сделку с совестью я не пойду. А в остальном — полная неясность. Не доехав нескольких сот метров, я вышел из такси.
— Патрон, вид у вас совсем больной, а болеть вам сейчас никак нельзя! Звонили из Матиньонското дворца.[35]
— Кто?
— Мортье. Дела, как видно, плохи. Плевен, говорят, отказывается. Значит, встанет вопрос о Пине. Если это подтвердится, Пине должен будет подумать о социалистах и может отдать им в качестве компенсации министерство национального просвещения.
— Ладно! Будь что будет, мой дорогой Белло. Мне все равно. Все равно. Писем много?
— Порядочно. Я начал разбирать… Ничего нового. Прошения, пригласительные билеты… Я отложил в сторону то, что адресовано лично вам.
— Хорошо, я посмотрю.
Я прошел к себе в кабинет. Стал тереть глаза, щеки. Чувствовал я себя полной развалиной. Меня наградили орденом за то, что я совершил казнь над предателем, так, по крайней мере, думали. Но если я убью его теперь, меня упекут в тюрьму. Чушь какая-то! Смешно, а хочется плакать.
Я машинально распечатывал конверты. Лонж любезно уведомлял меня о женитьбе своего сына. Почему прошлое так настойчиво преследует меня?.. Письмо от нашего архитектора из Клермон-Феррана. После бури в нескольких местах стала протекать крыша замка. Ну это забота Арманды… Две-три брошюры… А под ними… Ах, мой бедный Кристоф! Я сразу же узнал старательно выведенные печатные буквы. Наступление продолжалось. Я разорвал конверт.
На стол упала маленькая фотография. Кто-то успел запечатлеть Плео, с жаром пожимающего мне руки в больничном дворе. Нас легко было узнать, особенно его, снятого анфас при хорошем освещении. Мы были похожи на старинных друзей, исполненных друг к другу самых нежных чувств. Это был обвинительный документ. Сомнений не оставалось: моим преследователем была Арманда! Разве не говорила она: «Я этого так не оставлю»? Вообразив, будто я тайком встречаюсь с Эвелиной, она, должно быть, обратилась в какое-нибудь частное сыскное агентство. Выследить меня не составляло труда. Мой преследователь подстерегал меня. Велико же было его разочарование — никакой женщины! Только этот больной во дворе Ларибуазьер. А изумление Арманды при виде этой фотографии? Мне казалось, я читаю ее мысли. Прежде всего, отблагодарить агентство и отменить слежку. Избежать возможного расследования, которое могло привести к пагубным результатам. Затем предупредить меня, проинформировать, что ей все известно, но что она, однако, не желает скандала — из-за тебя, из-за твоего отпуска. Все это мы выясним потом, после твоего отъезда. А пока мне полагалась шахматная фигура — чтобы я мучился, и фотография, которая должна была доконать меня. Все это показалось мне страшно жестоким, а кроме того, свидетельствовало о такой высокой степени самообладания, что я ужаснулся.
Я открыл окно, чтобы глотнуть немного свежего воздуха. И еще раз, одну за другой, стал перебирать мысли, которые возникли у меня при виде этой фотографии. Нет. Я не ошибся. Арманда знала. Я представлял себе ее ярость, ее возмущение и, конечно, охватившую ее панику. У нее не было времени, как у меня, осознать весь комплекс событий, которые повлечет за собой появление в Париже Плео. Она преодолевала лишь первый этап — минуты безумного страха. «Его узнают. Разразится страшный скандал. Если он вернулся, то, конечно, для того, чтобы шантажировать нас. Доказательство тому — триста тысяч франков, снятые со счета, и это только начало». Но мало того, фотография свидетельствовала в ее глазах не только о том, что Плео жив — хотя и это само по себе было для нее ужасным открытием, — она говорила также о том, что мы с ним как бы заодно и связаны, по-видимому, чудовищным сговором, объединявшим нас против нее…
Тут я, возможно, несколько преувеличивал. И все же!.. Если тогда я способствовал бегству Плео, стало быть, я был на его стороне. А это означало, что я разделял его взгляды, его злые чувства. Разве Арманда могла допустить, что между мною и Плео возникла в какой-то момент эта странная мужская симпатия, не принимавшая в расчет ни политических разногласий, ни тем более родовой ненависти. Этого она никогда не поймет. Мое рукопожатие могло означать лишь одно: я был его союзником. Что бы я ни говорил, она останется при своем мнении: я ее предал. Не стоит даже пытаться что-либо объяснить, как-то оправдаться. Она замкнется в своем невротическом упрямстве. Теперь мне стало яснее, почему она прибегла к такому странному методу и без лишних комментариев послала мне сначала шахматную фигуру, а потом фотографию. Это исключало всякую возможность каких-либо споров и было красноречивее любых слов, например, таких: «Ты хочешь изловчиться и найти себе оправдание. Бесполезно! Я все знаю. Ты мерзавец».
И мне предстояло встречаться с тобой, с ней — да, с ней, которая знала, что я знаю. Она станет смотреть на меня с отвращением и любопытством, наблюдая, достаточно ли хорошо играю я свою роль лицемера. Тебе оставалось провести с нами еще несколько дней. В течение этого времени ее вражда тайно будет расти, а после твоего отъезда прорвется наружу, и жизнь станет невыносимой! А ты — заметь, я вовсе не упрекаю тебя за это, — ты смеялся, шутил. Порою твоя веселость казалась мне немного наигранной, ты словно чувствовал, что мы нуждаемся в утешении, и хотел уверить нас, что в Алжире тебе не грозит никакая опасность. Ты был молодым офицером на побывке, который мечтает только об одном — развлечься. Вы с Армандой часто уходили, впрочем, меня это вполне устраивало, так как я страшился остаться с ней наедине. Минута объяснения неизбежно наступит — трагическая минута. Над нами собиралась гроза. Порою уже блистали молнии. Например, мне вспоминается тот обед, когда ты, сам того не подозревая, чуть было не навлек самое худшее.
— Ну что, — спросил ты, — как там с министерским портфелем? Дело движется?
Тебе нравилось подшучивать надо мной. Ты понятия не имел, как мне тяжело было это слышать.
— Не знаю, — ответил я. — Надо подумать. Даже если бы мне точно об этом сказали, я бы так сразу не решился. Это тяжкое бремя.
Обедали мы, если ты помнишь, у Фуке. Тебе доставляло удовольствие близкое соседство кинозвезд и продюсеров, которых Арманда представляла тебе, когда они подходили поздороваться с нами. Я пытался переменить разговор, но ты продолжал настаивать:
— Если ты станешь министром, мой полковник просто взбесится. Он консервативен до ужаса.
Тут вмешалась Арманда:
— Марк непременно станет министром. Он обязан это сделать, хотя бы ради нас.
Слова ее вполне могли сойти за безобидную реплику, сказанную без всякого умысла. Она сидела справа от тебя, и ты видел ее только в профиль. А я сидел напротив и видел ее глаза. Она бросила на меня такой настойчивый, такой пронзительный взгляд, что я тотчас понял намек и не стал продолжать разговор. Но в течение всего обеда я размышлял. Итак, ради нее я обязан стать министром. Разве это не походило на сделку? «Ты — мне, я — тебе. Ты выдвигаешься на первый план и о прошлом — ни слова. Но берегись. На твоем пути к власти стоит Плео. Следовательно…»
А может быть, я не прав, включив это «следовательно» в наш спор. Ах! Я обдумывал это слово со всех сторон. Оно означало: «Следовательно, необходимо избавить нас от него. Сейчас он еще опаснее, чем раньше. С такими типами, как он, войне конца не будет!» Я ошибался? Нет. Немного позже, наверное на следующий день или дня через два, мы зашли в лифт напротив нашей двери. Казалось бы, мелочь, но и она имеет свое значение. Ты забыл свои сигареты.
— Подождите меня, я сейчас.
— Возьми мои, — сказал я.
Но ты уже ушел. Мы с Армандой стояли лицом к лицу в тесной кабине. Молчание становилось невыносимым. Ты вот-вот должен был вернуться. Мы слышали твои шаги в прихожей. Времени на разговор не оставалось, но оба мы чувствовали, что что-то сказать все-таки надо, так как впервые за долгое время мы оказались в такой непосредственной близости, совсем одни, словно очутились в спальне или ванной комнате. Она решилась первой и, пока ты, стоя спиной к нам, запирал дверь на ключ, тихонько сказала:
— Надеюсь, ты сделаешь все необходимое, или это придется сделать мне.
— Арманда…
— Молчи.
Ты вошел в лифт и отдал мне ключи.
И это все. Мы поехали в Лидо, ты разглядывал в бинокль танцовщиц, а я тем временем обдумывал фразу Арманды, словно речь шла о какой-нибудь дипломатической депеше. Все необходимое? На деле это означало смерть Плео. А в переводе звучало так: «Надеюсь, ты убьешь Плео, иначе это придется сделать мне!» И, размышляя над этим, я пришел к следующему неоспоримому выводу. Требование Арманды было вполне законно. Я не скажу, что это она меня создала. Но она во многом способствовала моему политическому успеху, и теперь я уже не имел права останавливаться на полпути. Теперь главное — успех. Я буду самым презренным существом, если отступлю перед актом элементарного правосудия. Она была не из числа тех женщин, что терзаются бесполезными угрызениями совести. Вперед, прямо к цели! Плео всегда был лишним.
Ах! Какие это были скверные дни! Мысленно я вел трибунал, которого удалось избегнуть Плео. Причем я сам был ему и судьей, и обвинителем, и защитником. Я собирал обличающие его факты и не мог противопоставить им ничего, кроме наших с Армандой интересов. Приходилось прибегать к уловкам: Плео, дескать, не заслужил отсрочки наказания, которой воспользовался в свое время, и так далее — все в таком же духе. Избавлю тебя от перечисления тех упреков, которые я выдвигал против него. И по странному совпадению он, словно угадав или почувствовав переживаемый мною кризис, написал мне. Да! Я получил от него коротенькую записку, составленную именно так, как я рекомендовал ему, то есть очень осторожно. Ни подписи, ни адреса. Буквально несколько горестных строк.
«Я в отчаянии. Клянусь, я сделал это не нарочно. Знаю, что вы на меня очень сердитесь. Но что мне теперь делать? Я боюсь вновь поддаться искушению и вернуться к своим скверным привычкам, а главное — боюсь наговорить лишнего. Когда я выпью, я болтаю невесть что. Если бы вы смогли провести со мной несколько дней — проводить до Бордо и сесть вместе со мной на пароход, — в таком случае, мне кажется, я бы сумел продержаться до конца. Ну, а потом? Потом я мог бы постепенно уничтожить себя. Это уже не имеет никакого значения. Но я прошу у вас невозможного. Поэтому…»
Далее несколько слов были густо замазаны чернилами, и мне не удалось их прочесть. Как быть?.. Что он там замышляет?
При других обстоятельствах это письмо наверняка растрогало бы меня. Но теперь оно, напротив, вызвало только гнев. Терпению моему пришел конец, то была последняя капля. Быть может, в тот самый момент, когда я читал его письмо, он, напившись, рассказывал первому встречному, что его положение скоро изменится к лучшему, что он знаком с высокопоставленными лицами… Увиливать дальше не было никакой возможности. Я высчитал, что ты должен уехать через четыре дня. После твоего отъезда я решил приступить к действиям. У меня было время обдумать и детально подготовить казнь Плео. Пока ты с нами, Арманда будет вести себя тихо. Она и в самом деле держалась достойно. Никаких словесных намеков. Разве что иногда я ловил на себе ее настойчивый или презрительный взгляд. То было затишье перед бурей. Я не стал менять своего распорядка времени. Продолжал ходить на все заседания палаты депутатов. Но слушая речи ораторов, мысленно готовил свое преступление. В отеле, где жил Плео, ютились в основном люди, уходившие на работу с раннего утра. Поэтому в начале дня там должно быть пусто, к тому же за конторкой, как я заметил, никогда никого не было. Попытаюсь попасть ему в висок, как некогда советовал мне Жюльен, и оставлю оружие рядом с ним. Тогда это может сойти за самоубийство. Следствие сразу же установит, что совсем недавно Моруччи покушался на свою жизнь. Полиции ежедневно приходится подбирать несчастных вроде него, которые вешаются, угорают, топятся или травятся. Одним больше — кому это интересно? Что же касается шума, то мимо отеля шел довольно густой поток грузовиков и автобусов. Звук выстрела наверняка затеряется в грохоте предместья. Да и выбора у меня все равно не было! Я машинально присоединил свои хлопки к аплодисментам моих коллег, хотя чему хлопали, понятия не имел. Отныне я жил словно во сне…
И вот теперь я подхожу к самому главному месту в своем рассказе. Ты собирался уехать в Марсель последним поездом, в двадцать два тридцать, и мне хотелось провести с тобой всю вторую половину дня, но я вынужден был пойти на заседание, где утомительно долго обсуждались неурядицы в сельском хозяйстве. Затем Робер Шуман пригласил меня на деловой обед вместе с несколькими друзьями из моей парламентской группы. Правительственный кризис затянулся. Никто уже не знал, кому в конечном счете удастся разрубить этот гордиев узел. Я обещал проводить тебя на вокзал. Извини, что рассказываю о том, что тебе и без того известно. То ты неизбежно видел только одну сторону вещей. Ты не мог угадать, что я был близок к свершению акта, который оставит неизгладимый след в моей жизни. Я снова вижу тебя у двери вагона. Ты стоял один.
— А где Арманда?
— Она уехала в Клермон-Ферран. К вечеру ей позвонила старуха Валерия. В последние десять дней так лило, что в правом крыле замка начался потоп.
В глубине души я был рад. Больше всего я боялся того момента, когда мы с ней останемся одни, опечаленные твоим отъездом и обреченные вновь взвалить на свои плечи бремя совместной жизни. К тому же отъезд Арманды развязывал мне руки. Я не забыл твою доброту в минуту расставания, мой дорогой Кристоф.
— Вот увидишь, все будет хорошо, — сказал мне ты. — Я уверен, что ты своего добьешься. Мне так хочется, чтобы вы оба были счастливы!
Я был очень взволнован.
— Береги себя. Будь осторожен!
— Не беспокойся, папа.
Подали сигнал к отправлению. Я удерживал твои руки в своих, словно черпал в этом прикосновении мужество, которое поможет мне быть твердым до конца. Помню, как ты стоял на ступеньке, когда поезд тронулся, как махал на прощание рукой, пока ночь не поглотила тебя.
Потом я вернулся домой и достал пистолет. Все патроны были на месте. Я положил его на письменный стол и сидел, глядя на него, до самого утра. Я знал, что, если усну, у меня уже недостанет сил сделать то, что я задумал. Как долго длилась ночь! Но не дольше, чем те, что последовали за ней, так как… Впрочем, сам увидишь. Мне хочется рассказать тебе обо всем по порядку.
Семь часов. Я выпил крепкого кофе и две таблетки аспирина. Восемь часов. Я уже не в силах был ждать. Мне во что бы то ни стало надо двигаться, действовать. Ожидание истощало мои силы. Я проверил пистолет. Положил его в карман. Затем спустился вниз и некоторое время шагал, прежде чем взять такси. Девять часов. Я выхожу на углу улицы Лафайет. Я уже в трехстах метрах от отеля. И тут замечаю небольшую группу людей. Похоже, они столпились перед отелем. Удар в самое сердце. Если бы я осмелился, я побежал бы бегом.
Да, это как раз перед самым отелем. Человек двадцать что-то живо обсуждают, как бывает после какого-нибудь происшествия. Я подхожу ближе. На пороге стоит полицейский. Я спрашиваю, что случилось, у женщины, которая держит под мышкой батон хлеба.
— Сегодня ночью здесь совершили преступление, — отвечает она.
Молодой парень, разносчик, оборачивается ко мне и любезно поясняет:
— Какого-то старика убили из револьвера.
— Может, самоубийство?
— Нет, ничего похожего. Консьержка сказала, что оружия не нашли.
— А не знаете, как его зовут?
— Мне говорили, да я забыл… Какое-то корсиканское имя… Наверняка сведение счетов.
Конечно! Это действительно сведение счетов, только совсем в ином смысле, чем он думал. Я уже понял. Между тем мне хотелось самому во всем убедиться. Я ждал, затерявшись в толпе, прислушиваясь к разговорам. И в конце концов кто-то произнес его имя: Моруччи.
Я медленно пошел прочь. Заглянул в соседнее кафе. Горло у меня что-то сдавило, и я едва смог заказать коньяк. В ушах звучал голос Арманды: «Надеюсь, ты сделаешь все необходимое, или это придется сделать мне». Она не догадалась оставить оружие возле трупа. Придумала только эту внезапную поездку в Клермон-Ферран. Ни с чем не сообразную поездку. Даже если бы затопило весь замок, она все равно поехала бы тебя провожать. Итак, она опередила меня. И сколько бы я ни убеждал ее, что готов был устранить Плео, она ни за что не поверит мне. В ее глазах я навсегда останусь трусом, полным ничтожеством! Тряпкой! Жалким человеком! Слезы выступили у меня на глазах — наверное, от коньяка. А может быть, от отчаяния.
Глава 13
Теперь, Кристоф, ты знаешь все. Несколько слов о расследовании. Сообщаю тебе то, что мне самому удалось узнать из газет. Согласно медицинскому заключению, Плео был убит пулей в сердце накануне вечером, между восемнадцатью и двадцатью часами. В комнате ничего не тронули. Полиция полагает, что речь идет о самом банальном деле, связанном с преступной средой. Никаких фотографий. Ни одной сенсационной статьи. Смерть безвестного бродяги не могла взволновать общественное мнение. В этом отношении я мог быть спокоен.
Ну, а как с Армандой?.. В том-то все и дело. Это и есть моя истинная трагедия. Сначала Арманда позвонила мне — предупредить о том, что ей придется задержаться в Клермон-Ферране на несколько дней, так как разрушения оказались значительнее, чем она предполагала. Но сам подумай: она никак не могла поступить иначе. Ей надо было хоть немного прийти в себя, обрести спокойствие после столь жестокого потрясения. Между тем голос ее звучал ровно. Она спросила, удалось ли мне повидаться с тобой до отъезда. У нее даже хватило присутствия духа справиться о результатах парламентского заседания, на котором я присутствовал. Непостижимо!
Я вырезал несколько газетных заметок, касающихся дела Моруччи, присоединил к ним шахматную фигуру с фотографией и, завернув все это в пакет, положил на ее туалетный столик. Теперь настал мой черед дать ей понять, что я все знаю. К чему приведет нас эта подспудная война? Возможно, даже к окончательному разрыву. Я и представить себе не мог, что может случиться иначе. А выходит, я снова ошибся.
Через четыре дня она вернулась. Я обедал со своими коллегами, мы долго спорили. Ги Молле отказался сформировать новый кабинет министров. И тогда Феликс Гайар согласился провести повторные консультации с различными политическими партиями. Говорили, что он собирается создать правительство, в котором будут представлены все направления — от социалистов до независимых. Ладно. Хорошо. Все это уже не имеет никакого значения. Домой я пришел около четырех часов. Она была там. Она даже не сочла нужным предупредить меня о своем возвращении. Я застал ее в гостиной с развернутым пакетом на коленях.
— Надеюсь, ты не ждешь поздравлений, — сказала она. — Что сделано, то сделано. Не будем больше говорить об этом.
Я потерял дар речи. Стало быть, она возлагает на меня ответственность за убийство Плео! Она подменила меня, но считала себя невиновной. Получалось так, будто она держала пистолет — вместо меня, а истинным виновником преступления был я. Потрясающая логика!
— Нет! — воскликнул я. — Это было бы слишком просто!
Она вдруг встала и с презрением заявила:
— Оливье, возможно, был пустой человек, но он, по крайней мере, всегда знал, чего хотел. Уж он бы не стал дожидаться тринадцать лет…
— Но…
— Я не хочу ничего обсуждать. Чтобы о нем и речи больше не было. Никогда, слышишь!
Она бросила пакет на диван и вышла.
И в течение двух недель, ты понял, Кристоф, — двух недель, — мы встречаемся только за столом. Мы садимся друг против друга. Она болтает без всякого стеснения. Передает мне солонку или нож. Словом, ведет себя так, как раньше. И я же еще оказываюсь виноватым. В ее глазах я тот, кто был другом Плео. И таковым останусь. Ибо существуют взгляды. Они-то и дают мне понять, что я в собственном доме кто-то вроде нежеланного гостя и что меня терпят только из-за молвы, из-за чужого мнения. В последний момент я отклонил предложение Феликса Гайара, который счастлив был бы доверить мне министерство по делам ветеранов войны. Узнав об этом, она слегка пожала плечами.
— Только этого не хватало! — заметила она.
Я мог бы привести множество других деталей, одни тягостней других. Как-то вечером, доведенный до крайности, я сказал ей:
— Тебе не кажется, что нам лучше разойтись?
— Женщина, которая разводится один раз, — ответила она, — просто несчастна. Но женщину, которая разводится второй раз, можно назвать шлюхой.
А теперь возвращаюсь к своей проблеме. Так не может больше продолжаться, ты сам понимаешь. Для меня выхода нет. Исчезновение Плео ничего не решило. Потенциальный преступник, я вынужден жить с преступницей фактической. А само преступление мы безжалостно перекидываем друг на друга, и конца этому не видно. Так может длиться годы. Я этого не выдержу. Я навязал тебе это долгое повествование, чтобы попытаться доказать свою невиновность. Но теперь я сомневаюсь — так ли это? Теперь я спрашиваю себя, не плутовал ли я, не старался ли повлиять на тебя, словно тебе предстояло сделать выбор между той, кто стала твоей матерью, и тем, кто заменил отца. Ибо в конечном счете получается, что если ты сочтешь невиновным меня, то вина, стало быть, ложится на нее. А если ты прощаешь ее, если считаешь, что она не могла действовать иначе, значит, ты осуждаешь меня. Я должен все знать, ибо мне предстоит принять крайне важное решение. Я дошел до такого состояния, когда выход остается только один. Тебе решать, мой дорогой Кристоф. Ты офицер. Ты знаешь, что такое честь. И я полагаюсь на тебя. Не отвечай мне, если сочтешь, что доля моей ответственности слишком велика. Я и так все пойму. Но как бы ты ни решил, я благодарен тебе и обнимаю от всего сердца.
Не забудь уничтожить это послание.
Марк.
Разумеется, я все рассчитал заранее. Ведь я привык рассчитывать. Время, которое потребуется, чтобы этот пакет дошел до тебя… время, пока придет ответ… если таковой будет!.. Даю себе сроку дней двенадцать. Думаю, до тех пор смогу продержаться.
Глава 14
Кристоф собрал листки, разбросанные вокруг.
— До чего же у них все сложно, что у одного, что у другой, — прошептал он.
Он взял пакет и бросил его в очаг. Комната, где он находился, была почти разрушена. Деревню бомбили, и батальону приходилось ютиться в руинах. Он закурил сигарету, потом поджег краешек пачки листков. Сильный ветер с гор, задувавший в щели не затворявшейся плотно двери, помог разгореться пламени, над которым взлетали клочки почерневшей бумаги. И вскоре не осталось ничего, кроме кучки пепла, которую Кристоф разбросал ногой.
«Ну что ему сказать, — думал он. — По части писания я не силен. Ему следовало бы это знать». Открыв походную сумку, он достал оттуда блокнот и шариковую ручку. «Хорошо еще, что у меня есть стол и ящик. Где ему понять». Он долго раздумывал, прежде чем написал первую строчку:
Старина Марк…
Как бы это выразиться получше? Ну почему не сказать прямо: «Это я убил Плео». Нет, тогда он, пожалуй, подумает, что я хочу выгородить Арманду. Придется, видно, написать поподробнее. Как будто у меня есть время!
Он начал так:
Арманда все рассказала мне за два дня до моего отъезда. Вот как я узнал… Она ревновала, чего там. И наняла детектива. Нормально. Благодаря ему она обнаружила Плео. Потом сама стала следить за тобой. Так она узнала, где он живет. Видишь, как все просто! Она с ума сходила от злости, от унижения. Сам знаешь! А ты — я прекрасно видел, как ты мучаешься. И не сомневался, что вы наделаете глупостей…
От своего окурка он прикурил другую сигарету и задумался.
«Если я скажу ему, что люблю их обоих, вид у меня будет дурацкий! Хотя это сущая правда. Я обязан им всем. И если убил Плео, то потому, что хотел вернуть им покой. Какая разница — одним больше, одним меньше! А найти в Париже оружие — это всякий может. Марку следовало бы поговорить на эту тему со своим коллегой из министерства внутренних дел. Слишком уж много оружия в обращении. Дело кончится плохо! Ладно. Надо писать дальше».
Он почесал за ухом колпачком шариковой ручки.
«Не буду же я ему объяснять, как я все это сделал. Так я никогда не кончу. Нечего ходить вокруг да около. Надо так прямо и сказать: после обеда Арманда в самом деле поехала в Клермон-Ферран. Она не убивала. Ты — тоже. Кончайте этот цирк. Чего вам не хватает? Неужели так трудно быть счастливым, когда все есть?»
Он снова взялся за письмо, стараясь следить за буквами, так как ручка немного подтекала.
Так вот, прошу тебя: никаких опрометчивых поступков. Никто из вас не виноват — ни ты, ни она. Это я…
В дверь постучали.
— Войдите. И пяти минут не дадут посидеть спокойно!
Солдат отдал честь.
— Прошу прощения, господин лейтенант. Жулен не может, придется вам пойти вместо него.
Кристоф ударил кулаком по столу.
— Это так не пройдет! Уж я скажу этому Жулену.
— О! Да вы не волнуйтесь, — заметил посыльный. — Речь идет о самом обычном обходе.
— Хорошо, хорошо. Спасибо.
Кристоф взглянул на недописанное письмо, вырвал листок, скомкал его и швырнул в огонь.
— В конце концов, — сказал он вслух, — это может подождать до завтра!
Он застегнулся на все пуговицы, подтянул пояс и вышел.
По просьбе родных извещаем о гибели в возрасте двадцати трех лет лейтенанта пехотной службы КРИСТОФА АВЕНА, павшего на поле брани при исполнении боевого долга 6 ноября 1957 года.
(«Фигаро»)
СМЕРТНЫЙ ЧАС:
Смерть бывшего заместителя госсекретаря МАРКА ПРАДЬЕ.
Парламентарий, пользовавшийся всеобщим уважением, которому прочили блестящее будущее, покончил с собой. Судя по всему, причиной этого фатального исхода послужила трагическая гибель лейтенанта Кристофа Авена, которого он любил как родного сына. Ведется следствие.
(Из газет)
Примечания
1
Минутка — специальное устройство, включающее освещение на лестничной клетке. (Здесь и далее примеч. перев.)
(обратно)2
Катары — приверженцы ереси XI–XIII вв., распространившейся главным образом в Италии, Фландрии и Южной Франции преимущественно среди ремесленников и крестьян. Считая материальный мир порождением дьявола, они осуждали все земное, призывали к аскетизму, обличали католическое духовенство.
Камизары — участники крестьянско-плебейского восстания 1702–1705 гг. в Лангедоке, вызванного усилением государственных поборов из-за Войны за испанское наследство и преследования гугенотов. (Примеч. ред.)
(обратно)3
«Словно труп» (лат.) — эти слова принадлежат Игнатию Лойоле, основателю ордена иезуитов. Они означают строгую дисциплину и безусловное подчинение вышестоящим членам.
(обратно)4
Оробиндо Гош (1872–1950) — индийский философ из Калькутты.
Гурджиефф — персонаж романа современного французского писателя Луи Повелса. (Примеч. ред.)
(обратно)5
По желанию (лат.). (Прим. перев.)
(обратно)6
Цистерцианцы — члены католического монашеского ордена, основанного в 1098 г. Ведут аскетический образ жизни, сознательно подвергают себя суровым испытаниям. (Прим. ред.)
(обратно)7
ОАС — фашистская организация ультраколониалистов, существовавшая в Алжире и во Франции в 1960-х гг. Основана во время национально-освободительной борьбы алжирского народа (1954–1962) с целью не допустить предоставления Алжиру независимости. Здесь речь идет о террористическом акте 26 марта 1962 г., когда в столице Алжира погибло 46 человек, а 200 были ранены. (Прим. ред.)
(обратно)8
Марфа и Мария — добродетельные сестры, давшие приют Христу во время его странствий. Марфа приготовила обильное угощение, а Мария внимала речам Христа. (Прим. перев.)
(обратно)9
Генон Рене (1888–1951) — французский философ, востоковед. (Прим. ред.)
(обратно)10
Олдос Хаксли (Гексли) (1894–1963) — английский писатель. Его интеллектуальные романы разоблачают духовную несостоятельность фрейдизма и авангардизма. (Прим. ред.)
(обратно)11
Раймон Абелио (род. 1907) — французский писатель, эссеист. (Прим. ред.)
(обратно)12
Экхарт Иоганн (Майстер Экхарт) (ок. 1260–1327) — немецкий мистик. (Прим. ред.)
(обратно)13
Упанишады — основа всех ортодоксальных религиозно-философских систем Индии. Их содержание подчинено практическим целям духовного освобождения. (Прим. ред.)
(обратно)14
Ромен Роллан (1866–1944) — французский писатель, музыковед, общественный деятель.
Вивеканда Свали (1863–1902) — индийский мыслитель, гуманист, религиозный реформатор и общественный деятель. (Прим. ред.)
(обратно)15
Филокалия — античный трактат о красоте. (Прим. ред.)
(обратно)16
Иллюминизм — доктрина некоторых мистиков. (Прим. ред.)
(обратно)17
Веданта — наиболее распространенное индийское религиозно-философское течение, одна из шести ортодоксальных систем.
Суфизм — мистическое течение в исламе. (Прим. ред.)
(обратно)18
Кающиеся грешники Севильи — одно из религиозных братств в Испании. (Прим. ред.)
(обратно)19
Сен-Пьер — город на Реюньоне. Таматаве — город на востоке Мадагаскара, в настоящее время называется Туамасина.
Антананариву — столица Мадагаскара.
Диего-Суарес — город на севере Мадагаскара, в настоящее время называется Анцеранана. (Примеч. ред.)
(обратно)20
Речь идет о Центральной художественно-промышленной школе, элитарном высшем учебном заведении Франции, готовящем инженерные кадры. (Примеч. ред.)
(обратно)21
«Сент-Эмильон» — бордоское красное вино. (Примеч. ред.)
(обратно)22
Расин. Андромаха. Перевод И. Я. Шафаренко и Б. Е. Шора.
(обратно)23
Виноват! (англ.).
(обратно)24
Фронтиньян — город на юге Франции.
(обратно)25
Монлюк, Блэз де Лассеран Массанком (1502–1577) — французский маршал.
(обратно)26
Удостоверение, пропуск (нем.).
(обратно)27
Дарлан, Франсуа (1881–1942) — французский адмирал, ближайший помощник маршала Петена.
(обратно)28
Имеется в виду маршал Петен.
(обратно)29
Французский альянс — учебный центр, который был создан в 1883 г. для распространения французского языка и культуры за границей.
(обратно)30
Бон — город на северо-востоке Алжира.
(обратно)31
Линия Мориса — укрепленная полоса на границе с Тунисом во время национально-освободительной войны алжирского народа (1954–1962 гг.).
(обратно)32
Пужадизм — крайне правое политическое движение во Франции середины 50-х г.
(обратно)33
«Головорезами» — по-арабски «феллага» — французы называли алжирских повстанцев.
(обратно)34
Ничейная земля (англ.).
(обратно)35
Матиньонский дворец — резиденция премьер-министра в Париже.
(обратно)





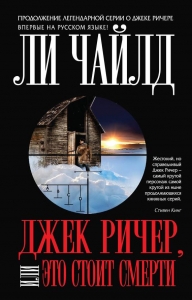


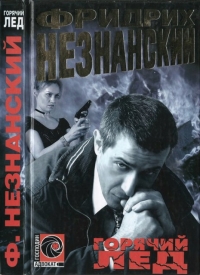
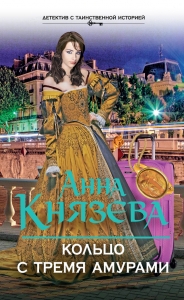

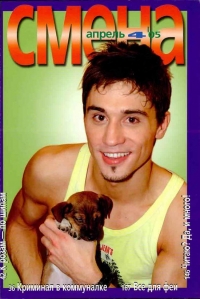
Комментарии к книге «Операция «Примула»», Буало-Нарсежак
Всего 0 комментариев