Жак Экспер Гортензия
Показания г-на Бернара Дюпуи,
25 июня 2015 г. Выписка из протокола.
Мы[1], Фредерик Суссен, лейтенант полиции, сотрудник судебной полиции в составе Бригады по борьбе с уголовными преступлениями г. Парижа, 75001, письменно подтверждаем, что Бернар Дюпуи прибыл для дачи показаний 25 июня 2015 г. в 14.00.
Мое имя – Бернар Дюпуи. Я родился 28 марта 1930 года в городе Люневиль, департамент Мерт и Мозель; в настоящее время – комиссар в отставке, проживаю в городе Бордо, 33200, в доме № 186 по улице Пастера. В течение трех лет я занимался расследованием дела о похищении Гортензии Делаланд, родившейся в Париже 7 мая 1990 года и похищенной из дома ее матери на улице Мучеников, № 42-бис (75009, Париж), в четверг 11 марта 1993 года. […]
Мадам Делаланд после этого ужасного события находилась в шоке, однако, несмотря на свое состояние, она отказалась поехать в больницу, прежде чем мы возьмем у нее показания, и здраво и взвешенно изложила нам все детали произошедшего. Она без малейшего сомнения назвала имя преступника и предоставила о нем всю информацию, которой располагала.
Потерпевшая была крайне слаба: открытые раны на икре и ступне, а также на задней стороне черепа требовали врачебного вмешательства. Не меньше нуждалась женщина и в помощи психолога, хотя это никак не отразилось на ее показаниях – логичных и четких.
Я хорошо помню момент, когда ее забирала скорая: она словно утратила самообладание и разрыдалась, умоляя вернуть ей дочь и не переставая повторять, что та была единственным смыслом ее существования. […] Мне пришлось заверить потерпевшую, что мы быстро найдем ребенка, что это вопрос нескольких часов. После этого она успокоилась и безропотно отдала себя в руки медиков. У меня и сейчас стоит перед глазами эта картина: мадам Делаланд лежит на носилках, прижимая к груди бежевого плюшевого медвежонка, в то время как санитары с трудом протискивают их по узенькой лестнице. […]
Сначала мне действительно показалось, что раскрыть дело будет легко. Личность похитителя была установлена, и теперь все решало время. С момента похищения прошло уже несколько часов, и мы немедленно организовали проведение оперативно-разыскных мероприятий по определению местонахождения подозреваемого. Срочность в подобных делах крайне важна, и необходимо как можно скорее выйти на след преступника, поскольку успешный исход операции целиком зависит от действий, предпринятых в первые часы после покушения. […] Разослав ориентировки, мы тщательно осмотрели квартиру, но ничего существенного не обнаружили. В безупречно убранной детской присутствовали явные следы похищения: одеяло было сдвинуто, белье помято, на подушке осталась вмятина от головки ребенка, который там спал еще несколько часов назад, и мы даже собрали с нее несколько светлых волосков, очевидно принадлежавших Гортензии Делаланд, чьи многочисленные фотографии нам предоставила мадам Делаланд. […]
Осмотрев квартиру, мы перешли к опросу соседей. […] Все они подтверждали сказанное Софией Делаланд. Она жила одна вместе с дочерью, которую очень любила, на взгляд некоторых жильцов, даже чрезмерно. […]
Дело это – просто невероятно, я до сих пор не в состоянии осмыслить то, что недавно узнал. […]
1 София
Свинцовые облака вновь накрыли Париж зловещей тенью, уже и Монмартр почти скрылся из виду. В такую погоду у меня неизменно портилось настроение. Казалось, через мгновение город погрузится в непроглядную тьму, хотя не было и семи вечера. Подумать только – в прошлое воскресенье мы перешли на летнее время! Вот и первая тяжелая капля упала за воротник моей серой полотняной блузки. Стоило поторопиться, чтобы не попасть в грозу, – она неумолимо надвигалась, была рядом. К счастью, и дом мой находился недалеко – крошечная квартирка на улице Мучеников, где я жила уже много лет.
Как всегда по вечерам, выйдя из метро на станции «Анвер», я направлялась по улице Трюден, потом сворачивала налево, чтобы забежать в ресторанчик азиатской кухни, где покупала пять немов[2] – мой ежевечерний рацион, не считая яблок «Гренни Смит», которыми я по субботам запасалась в лавке «Фруктовый сад» на Монмартре. Я спешила подняться в свою квартиру на четвертом этаже дома номер 42-бис, никогда не прибегая к услугам лифта. В моем возрасте – через три месяца мне исполнится пятьдесят один – небольшая зарядка не помешает. И потом, я не выношу замкнутого пространства, тем более такого крохотного, как кабина лифта. Установили его четыре года назад, и, насколько я помню, пользовалась я им всего два-три раза. Мне всегда было страшно застрять и остаться в нем навеки.
Каждый мой вечер в точности повторял вчерашний, и завтрашний должен был пройти так же. Но мне и не требовалось ничего другого, меня вполне устраивала эта монотонность, она мне подходила. А вот в выходные была просто беда. Выходные тянулись бесконечно, хотя я и заставляла себя после обеда проделывать путь до площади Тертр[3] – и по субботам, и по воскресеньям, в любое время года, несмотря на проливной дождь или адскую жару. Мне нравилось бродить среди уличных художников, которые всегда меня дружески приветствовали. Ходила я туда с незапамятных времен (и правда очень-очень давних), и все меня узнавали, приветливо кивая головой. Они не заговаривали со мной, но улыбались, и этого было довольно. Да и кто я для них? Странноватая пожилая дама, которая все уик-энды проводит среди бродяг. Может, они даже слегка меня побаивались?
Меня развлекало нескончаемое паломничество туристов, особенно тех, кто заказывал портреты, а то и карикатуры, за которые они не задумываясь отваливали кучу денег. Возвращалась я обычно по улице Лепик и потом выходила на бульвар Пигаль. О, я поименно знала местных зазывал, которые старались завлечь в свои «заведения» случайных простаков или подвыпивших прохожих. Могла я назвать по памяти и всех старых шлюх, чья судьба была еще печальнее моей. Порой они перекрикивались с товарками, и я легко запомнила имена. Не уверена, что и они меня не заприметили – даму без возраста, которая по выходным неизменно посещала их владения.
Дама без возраста – это я. Невидимка. Без имени.
Вот кем я стала – ничем.
Я даже не призрак. Призраки в конце концов кому-нибудь да покажутся. Я – ничто, и уже очень давно. Но, прямо скажу, мне на это наплевать.
Больше того – меня это полностью устраивает.
Вернувшись домой к шести, я задергивала шторы и, растянувшись на диване, ждала времени ужина. По выходным у меня наготове была заморозка – каждого блюда хватало на два дня. Потом я какое-то время читала и ровно в десять отправлялась в кровать. Мне даже не приходилось смотреть на часы – старые наручные часы матери, умершей восемнадцать лет назад. Тогда я тайком, чтобы братья не увидели, сняла их с ее руки и спрятала в кулаке, до того как закрыли крышку гроба. Братья считали, что маму надо в них похоронить.
Что сказать о братьях? Старший – Пьер – умер во сне в результате остановки сердца. Вдова рассказывала, как она, проснувшись, обнаружила рядом мертвого мужа, чье тело еще не успело остыть. На погребении Пьера я не присутствовала, хотя и любила его больше, чем младших братьев – Филиппа и Сержа. Не пошла потому, что это стало бы для меня слишком большим испытанием. Не из боязни увидеть его в гробу – нет, а из страха встретиться с остальными, живыми. Со всей нашей семьей: отцом, обоими братьями с их женами и кучей шумной ребятни.
Я не выдержала бы их вопросов: «Чем ты занималась все эти годы?», не вынесла бы взглядов, физически ощущая тяжесть их мыслей о моей загубленной жизни. Нет, я не собиралась ни вызывать у них сочувствие, ни терпеть их жалость.
Всего этого я больше не хотела. Вот почему уже так давно все мосты сожжены.
Вернее, почти все: порой и до меня доходили кое-какие новости. Браки, рождения детей, поездки родственников друг к другу, но все это происходило далеко от Парижа, в провинции, куда я никогда не ездила, несмотря на регулярные приглашения. Признаюсь, в свое время родные мне очень помогли, поддержали в трудные времена, когда я в этом особенно нуждалась. Мне действительно не в чем их упрекнуть. И все же я продолжала жить вдалеке от них. Продолжала быть ничем.
Капли застучали чаще, самое время было спрятаться под козырек подъезда и раскрыть маленький черный зонтик.
Прибавив шаг, я мечтала поскорее прийти домой, где, стоя у окна, смогу с наслаждением наблюдать, как городом овладевает гроза.
Итак, я возвращалась на улицу Мучеников, безразличная ко всем этим людям, которые спешили, сновали рядом со мной, порой касаясь или задевая меня. Вдруг кто-то обошел меня столь энергично, что зонтик вырвался из моих рук и упал на тротуар. Этот кто-то обернулся. Молодая белокурая женщина. Кажется, она огорчилась. Я услышала, как она извинилась, пытаясь подобрать мой зонтик, уже отнесенный ветром в сторону.
Незнакомка повторила извинение, улыбнувшись дружеской, такой славной улыбкой:
– Простите, мадам! У вас все в порядке?
Я была не в силах выговорить ни слова. Так и стояла – молча, неподвижно, и не сводила с нее напряженного взгляда, пока она приближалась, протягивая зонтик.
– К счастью, вроде бы не сломался, – произнесла она, а потом подняла на меня взгляд, встревоженная моей немотой: – Я вас не ударила? С вами ведь все хорошо?
– Да, да, – только и удалось мне выговорить.
– Раз так, я, пожалуй, пойду? – спросила она, поправляя плащ, и стала удаляться.
Что я могла сказать? Мне, мол, известно, кто она? Или что я ее узнала? Что вне всякого, даже самого мизерного, сомнения эта молодая женщина – моя дочь? Ребенок, похищенный у меня двадцать два года назад…
Тогда Гортензии было два года и десять месяцев. Совсем скоро должно было исполниться три.
Я продолжала стоять в оцепенении, словно находилась под гипнозом, и смотреть ей вслед, пока мокрая от дождя белокурая головка не исчезла за углом улицы Трюден.
Только теперь я осознала, что не должна просто так дать ей уйти, я не могла потерять ее снова.
И тогда я побежала в надежде ее догнать. Гортензия все узнает!
На улице Мучеников я попыталась разглядеть ее в беспорядочной толпе людей, разбегавшихся кто куда в поисках укрытия. Мне самой дождь был нипочем, я его попросту не замечала. Наконец я увидела ее на углу Наваринской улицы и еле сдержалась, чтобы не закричать – громко, изо всех сил:
– Гортензия!
Показания г-на Сержа Делаланда,
родившегося 8 февраля 1971 г.,
представителя страхового агентства в Витре,
35506, 27 июня 2015 г. Выписка из протокола.
[…] София была старше меня на семь лет. У меня сохранились воспоминания о ней как о заботливой сестре, любившей со мной заниматься, ведь я был, так сказать, последышем в семье. Жизнерадостная, доброжелательная, но, увы, вряд ли хорошенькая, да к тому же еще и толстушка. Похоже, с годами она стала комплексовать на этой почве и по мере взросления окончательно замкнулась. Сделалась молчаливой, угрюмой, а нередко и агрессивной. Подруг у Софии было мало, в школе над ней посмеивались, так что дом был ее единственным убежищем, хотя в ту пору она часто конфликтовала с нашей матерью. […] Жить с ней было мукой, и, мне кажется, после ее отъезда на учебу в Ренн все вздохнули с облегчением. Позже она совсем перебралась в Париж, и с тех пор мы виделись очень редко. […]
С рождением дочери София полностью изменилась. Она снова сблизилась с семьей. Как же гордилась сестра, что стала матерью! Казалось, будто она сама не верила своему счастью. София утверждала, что ей не было дела до того, что отец девочки их оставил – ее и маленькую Гортензию. Она жила только дочерью. В любви Софии было что-то чрезмерное, однако видеть ее счастливой доставляло всем нам удовольствие. Больше, пожалуй, было просто невозможно любить своего ребенка. Баловала она дочку страшно, проводила с ней все свободное время. Воистину Гортензия стала смыслом ее жизни.
Да и малышка была просто восхитительна: улыбчивая, веселенькая. Вся семья ее обожала. Родители сходили по ней с ума, и я помню, как они сражались с Софией за право время от времени брать ее к себе. […]
Когда сестра потеряла Гортензию, для всех нас это стало большим потрясением. Мы как могли старались поддерживать сестру. Но мало-помалу она совершенно от нас отдалилась. София отвергала наше участие, и невозможно было понять почему. Мать довольно долго пыталась ее подбадривать, урезонивать, что ли, но все впустую. Сопротивление дочери приводило ее в отчаяние, и отец всегда говорил, что именно уход Софии из семьи свел мать в могилу. […]
Что касается меня, то я уже много лет не встречался с сестрой и не имею о ней никаких новостей. […]
2 София
Я только что уложила Гортензию. Пройдет меньше двух месяцев, и моей дочери исполнится три года. С каким же нетерпением мы обе этого ждали, и я – даже больше, чем она. Каждый вечер мы вместе считали дни: их оставалось всего пятьдесят семь.
Трехлетний юбилей обещал подарить нам столько радости, был таким прекрасным поводом преподнести ей подарки. С самого ее появления на свет я праздновала день рождения Гортензии дважды в году – каждые полгода. Понимаю, это может показаться неоправданным и чрезмерным, но мне так хотелось показать дочурке, как сильно я ее люблю!
Как обычно, мы должны были встретить этот день вдвоем, только вдвоем. Да и кто был нам нужен, чтобы почувствовать себя счастливыми, испив каждую капельку этого чудесного дня?
Никто.
Конечно, и на этот раз я собиралась одарить ее, как фея. Подарки заготовлены были давно: иллюстрированные альбомы, выбранные среди изданий «Школы досуга»[4], милая цветастая блузочка и нарядный розовый ободок, который так подошел бы к вьющимся белокурым волосам моей уже кокетливой крошки. Но главный подарок был куплен вчера. Прежде чем забрать дочку из яслей, я зашла в магазин и приобрела для нее новую куклу, «гавайскую принцессу», – уже пятую по счету Барби, которой было суждено присоединиться к остальным, выстроившимся на полке над ее кроваткой. Каждый день перед сном мы вместе выбирали одну из них, счастливицу, которой предстояло провести ночь с ее хозяйкой и плюшевым медвежонком.
Помню, что вначале я засомневалась, а стоило ли ее покупать? Истинная дочь своих родителей- учителей, передавших мне левацкие убеждения, смела ли я заражать мою девочку пагубным духом приобретательства? Но в итоге я сдалась, это я-то, без конца твердившая, что на свете полно других кукол, помимо Барби! В попытке отвратить от них дочку я показывала ей замечательных резиновых голышей, деревянные игрушки, пазлы – все, что, на мой взгляд, больше подходило для ее возраста. Но в Гортензии уже проявлялся характер. Малышке было чуть больше года, но она уже бойко щебетала, была такой веселой… Ее глаза загорались каждый раз, когда она видела Барби в витринах магазинов игрушек, и у меня не хватало мужества ей отказать. Вот, представьте, какой я была мамашей: в один прекрасный день я купила ей сразу двух Барби! Просто из удовольствия доставить радость.
Совсем как моей дочке, мне очень хотелось, когда я была маленькой, заполучить одну из этих невероятно прекрасных куколок-моделей. Но родители оставались непреклонными. «Только не это американское дерьмо», – прозвучал приговор отца. И в детстве я так и не стала обладательницей Барби. Может, потому я и решила наверстать упущенное вместе с моей Гортензией. Вспомнилось, какой это был восторг, когда она обнаружила на своей кроватке Барби-принцессу. Она все повторяла: «Спасибо, милая мама!» и еще – «Я тебя люблю, люблю, люблю», пока вынимала ее из коробки.
За два месяца я распланировала наш праздник по минутам и даже взяла один день в счет отпуска. Подарки Гортензия увидит утром, как только проснется. Малышка откроет их один за другим, закончив Барби. Потом она захочет поиграть с новой куклой, ее одеждой и кабриолетом, входившими в комплект. Затем мы отправимся в «Макдоналдс» на бульваре, а когда вернемся, задуем три свечки на превосходном воздушном торте с клубникой. А в час послеобеденного отдыха я почитаю дочке одну из подаренных книжек, чтобы ей лучше спалось.
Стрелки на больших кухонных часах приближались к десяти вечера. Отлично помню, как я снова проверила по почтовому календарю[5] число дней, отделявших нас от торжества. На этот раз мои подсчеты были предельно точны: ровно пятьдесят семь дней и три часа.
К несчастью, всему этому не суждено было сбыться… И купленная заранее «гавайская» Барби так и осталась в коробке. И по сей день, двадцать два года спустя, она по-прежнему там. Коробку я не открыла.
Прежде чем снова взяться за книгу («Утраченные иллюзии» Бальзака, можно ли забыть?), я пошла проверить, уснула ли дочка. Во сне она взяла в ротик лапу медвежонка, выбрав ему в пару, перед тем как лечь, Барби-наездницу. Погладив белокурые волосы и поцеловав ее в щечку, я уже собиралась выйти, тихонько притворив за собой дверь, но тут взгляд мой опять, как это случалось почти каждый вечер, задержался на вставленной в рамку вышивке, висевшей над кроваткой, – выполненный крестиком орнамент из букв, образующих ее прелестное имя. Я собственноручно вышила его ко дню рождения дочери, когда ей исполнился год, потратив на это больше месяца.
Когда я, успокоенная и умиротворенная, вернулась к книге, раздался короткий стук во входную дверь. Обув тапочки и поправив халат, я пошла открывать.
До сих пор не могу понять, как я могла совершить такую ошибку? Роковую ошибку. Почему не посмотрела в глазок, не спросила, кто бы это мог быть в столь поздний час?
Прими я эти простые меры предосторожности, ничего бы не случилось. Я велела бы ему убраться прочь, пригрозила, что вызову полицию, и, возможно, он бы не осмелился. Но я открыла – непростительно, бездумно, и дальше все произошло так быстро, что я уже ничего не могла сделать.
На лестничной площадке стояла кромешная тьма. Когда я его увидела в проеме двери, было уже слишком поздно. Я хотела захлопнуть дверь, но он оттолкнул меня с такой силой, что рамка с фотографией Гортензии, висевшая в прихожей, упала на пол, больно оцарапав мне ногу. Пока я боролась, пытаясь не пустить его в квартиру, я поскользнулась и упала, так что осколки вонзились мне в икру и стопу правой ноги.
В больницу – с момента нападения прошло довольно много времени – я попала в почти невменяемом состоянии. Мне сделали укол, наверное, что-то успокоительное. Не разрешив, чтобы мне зашили раны на ноге, я хотела их оставить открытыми – пусть болят так же нестерпимо, как моя душа, пусть будут свидетельством его чудовищной жестокости! И теперь, двадцать два года спустя, эти стигматы еще различимы. Со временем я перестала их замечать, но часто машинально поглаживала пальцем эти небольшие вздутия омертвевшей плоти.
Пробивая себе путь в прихожей, он с такой силой меня толкнул, что я ударилась головой о стену. На какое-то время я потеряла сознание, а когда пришла в себя – не знаю, сколько минут или часов прошло с тех пор, – я увидела его прямо перед собой. Нет, не его я увидела первым: прежде я увидела спящую дочурку, которую этот негодяй прижимал к груди. Она спокойно посасывала лапку плюшевого медвежонка; глаза дочери были закрыты, словно происходящее никак ее не касалось.
Я сразу поняла, что он собирался сделать. Захотела крикнуть, но во рту мгновенно оказался кляп. Рванулась, чтобы встать, но почувствовала, что не могу двинуться, примотанная к стулу широкой клейкой лентой. Он издевался надо мной, видя мои тщетные попытки освободиться, и с лица его не сходила улыбка удовлетворения. Потом он проговорил, играя золотистыми локонами Гортензии:
– Смотри на нее, смотри! Сейчас мы исчезнем, и ты больше никогда не увидишь свою дочь. Она даже не будет знать о твоем существовании. Не бойся, я не собираюсь умирать вместе с ней. Напротив, мы будем жить. Ведь Гортензия – и моя дочь тоже. Тебе хотелось иметь ребенка лишь для себя, вычеркнуть меня из ее жизни. Но отныне в жизни Гортензии не будет тебя. Мы уйдем, и ты никогда нас не найдешь, никогда!
Он вышел со спящей Гортензией на руках. В мою память навсегда врезался тихий звук закрывшейся за ними двери.
В тот момент я собрала все силы, и мне удалось опрокинуть стул наземь. Несмотря на боль от впившегося в ногу стекла, я стала бить ею об пол. Каждый новый удар причинял мне невыносимые страдания, из глаз лились слезы, а крики умирали в заткнутом кляпом рту. Вероятно, через несколько минут, которые показались мне вечностью, из квартиры снизу пришли соседи, которые, освободив меня, вызвали полицию. Машинально я взглянула на часы: с того времени, как он проник в квартиру, прошло полчаса. Обессилевшая от боли и тревоги, я снова лишилась чувств.
Полицейским я сказала, что его имя – Сильвен Дюфайе. Этот человек похитил мою дочь.
Сильвен Дюфайе. Он был единственным мужчиной, который что-то значил в моей жизни. Я не была девственницей, когда ему отдалась, но ощущение было именно таким.
Впервые я безумно влюбилась. Каждый раз, когда я об этом размышляла, я не могла понять, как я была способна дойти до такой глупости! Как поверила всему тому вздору, что он городил?
Показания г-на Патрика Лубе,
58 лет, преподавателя,
19 июня 2015 г. Выписка из протокола.
[…] В то время, когда произошло это событие, мы с супругой Мартиной занимали квартиру справа на третьем этаже дома № 42-бис. В настоящее время мы живем в департаменте Валь-де-Марн. […] Было приблизительно 22.30, когда наше внимание привлек шум, доносившийся из квартиры над нами, которая принадлежала мадам Делаланд. […] В доме мы почти с ней не встречались, так как она выходила очень редко. Нам было известно, что мадам Делаланд жила вдвоем с очаровательной дочкой, которой она, судя по всему, очень гордилась. Пару раз мы пытались пригласить ее к себе на чай или пропустить стаканчик, но она всегда отказывалась. В общем, мы считали ее нелюдимой, излишне скромной, хотя и довольно любезной. […]
Итак, мы услышали доносившиеся сверху ритмичные удары, будто кто-то с силой бил ногой в пол. Жена забеспокоилась первой, и мы поднялись посмотреть, что там происходит. Позвонили. Никто не ответил, однако удары не прекращались. Оказалось, что входная дверь не была заперта на ключ. Переступив порог квартиры, мы увидели нашу соседку лежавшей на полу. Мадам Делаланд, привязанная к стулу, из всех сил стучала ногами об пол. Раны на ее ноге кровоточили, да и в прихожей повсюду была кровь. Я до сих пор не могу забыть ее взгляд – уставившийся в одну точку и выражавший нечеловеческое страдание. Как только жена освободила ей рот, она принялась кричать: «Помогите! Дочь, моя дочь!» Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами, поскольку тогда мы испытали настоящий шок.
Я перерезал скотч кухонным ножом – она была примотана к стулу широкой лентой, порвавшейся в нескольких местах от неудачных попыток освободиться. Она мгновенно вскочила на ноги, очень возбужденная и встревоженная, но отнюдь не утратившая самообладания; она показалась нам скорее… полной решимости. Мадам Делаланд сообщила, что ее дочь Гортензия была похищена, и попросила нас вызвать полицию, что я немедленно же исполнил. Мы попробовали было уложить ее на диван, но она отказалась и продолжала стоять. Нога сильно кровоточила, но это, по-видимому, ее нисколько не заботило – она то и дело выглядывала в окно, намереваясь бежать и преследовать похитителя. Моя жена делала все возможное, чтобы ее успокоить, предлагая ей сесть и ждать полицейских, однако мадам Делаланд ее отпихивала и повторяла, что этот человек – настоящее чудовище, мерзавец, и прочее. Она не переставала кричать «Гортензия! Гортензия!», «Любовь моя, любовь моя!», возмущалась, что полиция долго не едет, называла себя «дурой», «никудышной матерью», и видно было, что она на себя очень сердита. Это все производило довольно странное впечатление, и в итоге мы так и не поняли, что же все-таки произошло. […] Весь этот шум переполошил и остальных жильцов, да иначе и быть не могло. Один из них, по-моему, господин Балан со второго этажа, явился с плюшевым медвежонком. Он объяснил, что подобрал его на лестнице. Мадам Делаланд выхватила у него игрушку, прижала к лицу, вдыхая запах, словно старалась вобрать в себя ее дыхание, а потом произнесла очень спокойно, словно была не в себе: «Бедная моя малышка, она ушла без своего Жеже[6], как теперь она будет без него, совсем одна?» […]
3 София
Будь жизнь справедлива, она не допустила бы того, что наши с ним дороги пересеклись. Уберегла бы меня, и я не прожила бы свою жизнь так, как прожила. Жизнь пустую. Загубленную. В таком случае моя Гортензия никогда бы не родилась, согласна, но разве это не было бы благом?
Нет, жизнь не справедлива. И я – тому доказательство.
Для начала стоит сказать, что Сильвен был невероятно красив. Именно об этом мне до сих пор больнее всего вспоминать. Я могу в мельчайших деталях воспроизвести в памяти его лицо. Не лицо, а само совершенство, с безупречными чертами, при мысли о котором меня начинает душить ненависть. Сильвен был брюнетом с голубыми глазами, высоким и стройным. В этом человеке чувствовалась порода, таился какой-то небрежный соблазн, что особенно подчеркивалось его непринужденной, но стильной манерой одеваться. В день, когда я его увидела впервые, на Сильвене были черные джинсы, черная футболка и куртка того же цвета. Модные тогда кроссовки, небесно-голубые, будто специально подобранные к его глазам, вносили неожиданную цветную нотку в этот мрачноватый ансамбль. И потом его улыбка – открытая и до того неотразимая, что ты кожей чувствуешь – перед тобой отличный парень. Душа-человек, с кем тебя ждут незабываемые моменты. От Сильвена, естественно, не отрывали глаз, не скрывая своих надежд, все девицы в округе. Я-то держалась в сторонке – наблюдала, наслаждаясь спектаклем и спрашивая себя, кому из них удастся в конце концов запустить в него коготки. Навскидку я дала ему двадцать семь. И оказалась права. Сама я была двумя годами моложе.
В отличие от Сильвена, я не была из тех, кто привлекает восхищенные взгляды и собирает возле себя толпу поклонников. Не то чтобы я была некрасивой – по-настоящему некрасивой я стала со временем, просто тогда я была неприметной. Средненькой. Среднего роста – метр шестьдесят один, среднего веса – пятьдесят пять килограммов, из среднего звена на работе – служащая в Министерстве национального образования. В любовных делах я тоже оказалась средней – серьезных отношений у меня ни с кем не было, волнующих и роковых мгновений тоже, все было средним – мгновения, оргазмы с такими же средними мужчинами, как и я.
Короче говоря, я была из породы женщин, у которых нет ни единого шанса преуспеть с такими, как Сильвен, и я прекрасно это понимала. Вот почему без малейшей горечи я лишь любовалась им да наблюдала за хороводом его поклонниц.
Он пришел ко мне сам.
Как-то раз мы вместе оказались за городом. Анна, моя коллега по министерству, и ее муж решили устроить вечеринку по случаю новоселья. Они только что купили дом – так, ничего особенного, по-моему, – на холмах Кламара[7], «с садиком на двести один квадратный метр». Этот добавочный один метр и «вбил последний гвоздь», как без конца повторял Жермен, очевидно считая свое высказывание верхом остроумия.
Анна не упускала удобного случая, чтобы посетовать, что уж она-то, разумеется, предпочла бы «сидеть в Париже», «но ведь, ребята, сами понимаете». Двое малышей-погодков весь вечер осаждали мать, оглушая нескончаемыми воплями приглашенных. Помню, тогда я еще подумала, что, если у меня когда-нибудь будут дети (что маловероятно), я ни за что не позволю им отравлять существование моим гостям. Впрочем, сами приглашенные меня тоже страшно раздражали: все наперебой восторгались этой глупой гусыней Анной, которая восседала в гостиной, давая грудь младшему чаду с таким важным видом, будто тот был королевским отпрыском, а она – королевой-матерью. Я же находила и это прилюдное обнажение, и всеобщее восхищение неуместными. «Этот лишний метр будет отдан в полное распоряжение детей!» – не унимался ее придурковатый муж.
Мы с Анной вместе работали, но слишком мало друг друга знали, и, когда она приглашала меня вместе с остальными коллегами, у меня возникло ощущение, что ей не очень-то этого хотелось. Признаюсь, я никогда не считалась заводилой или душой компании, но не ходила и в занудах. Была же я из числа тех, имя кому – легион и чье отсутствие никогда никого не волнует. Однако из чистого желания досадить Анне, помню, я приняла ее приглашение с энтузиазмом. Зато теперь я только и думала, как бы поскорее смыться, не пропустив последнюю электричку в Париж.
И тут ко мне подошел он.
– Кажется, ты скучаешь? – заметил он. – Здорово, не так ли, с милым на пару приобрести вот такой шалашик за городом?
В голосе его звучала ирония, но почему-то я ответила со всей серьезностью:
– По мне – так вовсе не здорово.
– Ну, раз так, может, удерем отсюда?
Мы вышли вместе, не попрощавшись ни с хозяевами, ни с гостями, страшно довольные, как нашкодившие подростки. Открывая передо мной дверцу своей машины, «Фиата Панды», он представился:
– Я – Сильвен, а ты?
Когда я пробормотала свое имя, он небрежно бросил:
– Едем, скоро я верну тебя в цивилизацию.
Стыдно признаться, но именно в тот момент – говорить об этом мне и сейчас больно – я угодила в сети его очарования. И даже, думаю, случилось нечто большее. Я влюбилась. Могла ли я знать тогда, что до улицы Мучеников меня промчит с ветерком гнуснейший из подонков…
Раскованный, свободный, Сильвен болтал всю дорогу и, казалось, был в восторге от того, что я сидела рядом. Машину он вел превосходно, выверенным было каждое его движение, а я любовалась им – например, тем, с какой обольстительной небрежностью он зажигал сигарету. Обычно я не выносила запах табака, но с ним ничто меня не раздражало. Он задавал много вопросов: о моей жизни, вкусах, о том, люблю ли я путешествовать. И, представьте, я отвечала ему едва ли не восторженно, очень откровенно, и это я – всегда такая закрытая! Никогда, ни разу в жизни такой мужчина, как он, даже просто не задерживал на мне взгляда. Я чувствовала только одно – что почва уходит у меня из-под ног, и до такой степени была им околдована, что даже ни разу не спросила себя, как могло случиться, что столь средняя девица привлекла его внимание.
И, уж конечно, я тут же ответила согласием на его предложение вместе позавтракать в следующую субботу. Больше скажу, я даже сама предложила ему совершить прогулку до площади Тертр. И уж точно, что я ни секунды не сомневалась, прежде чем в тот же вечер переспать с ним.
Ночью, когда Сильвен заснул, я прижалась к его спине, вбирая в себя блаженное тепло его тела. Внезапно меня охватило невероятное ощущение счастья. Это был единственный раз, когда я не задала партнеру ни одного вопроса. Зато я не переставала задавать их себе. Например: почему он выбрал именно меня? Во время завтрака тот же вопрос я прочла в глазах официантки. Но мне было наплевать. В момент, когда я расплачивалась по счету, я с легкостью выдержала ее насмешливый взгляд, и мне хотелось крикнуть: «Да, он – мой, мой, мерзавка!» Думаю, что впервые в жизни, когда мы в обнимку выходили из ресторана, я чувствовала себя непобедимой. Я правила миром.
4 София
И вот наступил момент, когда я решила ему сказать. Больше ждать было невозможно.
Вместе мы были уже год, семь месяцев и двадцать пять дней. Я могла бы добавить к этому точное число часов, минут и секунд. Учтено было каждое мгновение, проведенное с ним. Само по себе его присутствие уже было чудом, и я жила в постоянном страхе, что потеряю Сильвена и все вдруг исчезнет. Из головы не выходила мысль, что именно такая судьба меня ждет рано или поздно, вот почему я жила одним днем, ценя это хрупкое равновесие, которое держалось на волоске.
Вот почему с тех пор, как я узнала, что беременна, во мне родилась надежда. Появление ребенка, нашего ребенка, могло привязать Сильвена ко мне окончательно и навсегда. Эта безумная надежда теплилась в глубине моего сердца.
На улицу Мучеников он переехал через неделю после нашего первого свидания, того дня, когда я ему отдалась. Сильвен спросил, хочу ли я, чтобы мы жили вместе, и я не поверила своим ушам. Разумеется, я сразу сказала да, не помня себя от счастья. Сначала мне казалось, что он войдет в мою жизнь постепенно, шаг за шагом, соблюдая осторожность. Однако все вышло иначе. В то субботнее утро он появился у меня с большим матерчатым чемоданом коричневого цвета.
Отказавшись от моей помощи, он больше часа, не торопясь, разбирал и раскладывал вещи: одежду, диски рок-групп, папки и несколько книг. Мне пришлось сложить часть своих книжек в стопку (в то время я читала запоем), чтобы освободить для них место.
Когда я теперь об этом вспоминаю, все кажется мне нереальным. Как я могла быть настолько наивной, на грани идиотизма, не знаю. Я словно не видела, что происходит, или же не хотела видеть. Очень скоро, через несколько недель, у меня уже было ощущение, что я не у себя дома. Моя квартира превратилась в его квартиру. Сильвен находился там когда и сколько хотел, обставил ее по своему вкусу, приглашал друзей, иногда поздно ночью, каких-то маргиналов, любителей травки, которых я не выносила, – квартира после их посещений превращалась в конюшню, но ради него я старалась все терпеть.
Однако самым страшным в этом совместном существовании, где моя роль сводилась к приготовлению пищи и раздвиганию ног, если у Сильвена возникало желание, когда я ждала его вечерами и по выходным, а он исчезал, не предупреждая и не давая о себе знать, самым страшным было то, что я и пикнуть не смела. Я никогда ни на что не жаловалась, хотя уже было ясно, что он нигде не работал и жил за мой счет. Послушать его, так ему регулярно поступали деньги благодаря успешному бизнесу, но он не давал мне ни гроша на оплату квартиры и текущие расходы. Напротив, это ему всегда требовались средства на тот или иной «проект», и я выделяла их ему из своих скромных сбережений, счастливая уже тем, что он во мне нуждался. Да, Сильвен был настоящим виртуозом по части обольщения: как только он чувствовал, что игра в одни ворота начинала меня раздражать или тревожить (это бывало так редко!), он тут же являлся с обворожительной улыбкой и букетом чайных роз, моих любимых, или маленьким подарком – дешевым украшением, шарфиком либо чем-то еще… Он вел меня в ресторан, говорил ласковые слова, подбадривал меня, занимался со мной любовью, и мои облегчение и благодарность были настолько огромны, что я мгновенно забывала и о его отлучках, и о грубости. Я тут же начинала себя упрекать, чувствовала свою вину, что, дескать, слишком многого от него требовала. Сильвен говорил, что любит меня… и я, безмозглая ослица, в это верила. Но поняла я все это, увы, слишком поздно.
В ресторане я всегда первой доставала кредитную карту. А он посмеивался: ладно, будь по-твоему, в следующий раз я тебя приглашу. Да только мне было наплевать, главное – я снова видела его счастливым.
Умный, очаровательный, лукавый – я постоянно представляла его в окружении друзей и девиц, которые только и думали, как бы его у меня отобрать. Им, вероятно, казалось, что это легче легкого, и они не могли понять, что он делал рядом с такой, как я. И, кстати, я была с ними солидарна: этого красавца я не заслуживала.
Стыдно признаться, но придется: эта жизнь меня вполне устраивала. Единственное, чего я боялась, – что не сегодня завтра он уйдет так же внезапно, как появился. Верить, что он навсегда останется со мной, было все равно что верить в чудо.
Я мало что знала о его жизни. Да и вовсе ничего не знала, как я впоследствии убедилась. Не была знакома с его родителями («они живут в богом забытом уголке, в Лотарингии»), братьями или сестрами («я старший из троих детей в семье, но мы редко видимся»). Все это оказалось ложью.
О друзьях мне было известно одно – их имена.
Ни разу у меня не возникло подозрения, что Сильвен говорил со мной о придуманной жизни. А может, я просто не хотела ничего знать? Для меня имел значение только он. Семья и все прочие, какое мне было до них дело? Я безумно боялась его потерять, этим все сказано.
Свою беременность пять месяцев я хранила в тайне. Пять месяцев – это был рубеж. Дольше мне не удалось бы скрывать правду, он обязательно бы заметил. Мне хотелось, чтобы Сильвен узнал о ней из моих уст, а не потому, что заметил, и в то же время момент признания вызывал у меня панический страх.
Неделями ломала я голову, как преподнести ему эту новость и, главное, как он потом себя поведет? Может, обрадуется все-таки, несмотря ни на что? А может, даже испытает восторг, подобно мне? Больше всего на свете я боялась услышать, что он не хочет этого ребенка, боялась упреков, что я заманила его в ловушку.
Итак, я стояла на пороге безмерного счастья в ожидании ребенка, который должен был появиться, и в то же время умирала от страха.
Однажды, когда настроение у него было игривое, как мне показалось, я наконец решилась. И реакция Сильвена была настолько ужасной, что и сегодня, когда я вызываю в памяти эту сцену, мне приходится делать над собой усилие. Кошмарную сцену, окончательно выбившую у меня опору из-под ног.
В первое мгновение он сжал меня в объятиях, стиснул сильно, молча. Я решила, что он взволнован от моего неожиданного признания, от радости, как знать? Растроганная, я залилась слезами.
Тогда Сильвен рассмеялся:
– Детишек, по правде сказать, я терпеть не могу, надо было тебе браться за дело по-другому!
Смех его, вместо того чтобы встревожить, почему-то меня ободрил. Я все еще продолжала верить в свою сказку и засмеялась вместе с ним, перед тем как взять в рот его член. Молния брюк больно царапала мне лицо, пока он держал меня за волосы, грубо, жестко, цедя сквозь зубы мерзкие словечки…
В тот момент для меня было важно одно: он меня не бросил. Но мое облегчение долго не продлилось. Почти сразу Сильвен пришел в настоящее бешенство по пустячному поводу – ничего, дескать, стоящего не было на ужин. Пока он осыпал меня бранью, я словно оледенела и лишилась дара речи. У меня до сих пор звучат в ушах оскорбления, которые он бросал мне в лицо: тварь, лгунья, идиотка, грязная шлюха, которая обвела его вокруг пальца, сделав ему ребенка, уродина, которую он никогда не любил, годная лишь как подстилка – да ему нужны были только жилье да бабки! И тем не менее я бы переварила все эти грязные слова, я уверена. Если что и причинило мне настоящую боль, так это фраза: «Ты даже не понимаешь, что ты – последняя из баб, от кого мне хотелось бы иметь ребенка, знай – больше ты меня никогда не увидишь!»
И я поняла, что на сей раз он сказал правду. В этот самый момент.
Я смотрела, как он уходил, не в силах выговорить ни слова. И сейчас я еще слышу оглушительный стук хлопнувшей двери.
Через несколько дней, когда я вернулась с работы, оказалось, что большой коричневый чемодан, лежавший сложенным на верху шкафа, исчез. Его вещи и он сам испарились вместе с чемоданом. Ключи от квартиры валялись на полу в прихожей, к тому же он забрал остаток наличных денег, которые я держала в своей комнате, в шифоньере, под стопкой простыней.
Тогда я окончательно осознала, что все было кончено. Он бросил меня, и рожать мне предстояло в одиночестве.
За несколько секунд огромная, не ставившая никаких условий любовь к нему обернулась глубочайшей ненавистью.
С тех пор я уже никогда его не ждала.
Я вычеркнула Сильвена из своей жизни.
5 София
Роды прошли легко, несмотря на кесарево сечение и внушительный шрам. Гортензия появилась на свет меньше чем за два часа, почти не доставив мне страданий.
Акушерка сказала, что это добрый знак:
– Значит, ребенок никогда вас не огорчит. Посмотрите, как она прелестна. Девчушка уже улыбается!
Моя мама решила ее поддержать, явно преувеличивая:
– Да, она – вылитая София!
Оставив это замечание без внимания, я пристально посмотрела на малышку, которую положили мне на грудь. Если не считать тонких белокурых волосиков, которые, несомненно, передались от меня, ее тонкие правильные черты лица напоминали проклятого Сильвена, которого я месяцами тщетно пыталась забыть. Ах, как бы мне хотелось, чтобы она вовсе на него не походила!
– А где же отец этого маленького чуда? – поинтересовалась акушерка игривым тоном.
Не успев задуматься, я услышала свой голос:
– У нее нет отца, он умер.
Не знаю, почему это пришло мне в голову. Мама, застигнутая врасплох, сочла необходимым прибавить:
– В автокатастрофе, он погиб на месте.
Конечно же, она не хотела новых расспросов. Момент был неподходящий, чтобы рассказывать о мерзавце, который меня бросил.
Акушерка вскоре ушла, чтобы мы побыли в кругу семьи, как она глупейшим образом выразилась.
К счастью, мама с первых же дней приняла мою сторону. Она настояла на том, что будет присутствовать при родах.
– Если этот негодяй тебя покинул, то уж семья всегда будет с тобой, дорогая! – заверила она меня.
Я никогда не посвящала маму в детали того, как развивались наши отношения с Сильвеном, и мне удалось ее в конце концов убедить, что я нисколько не нуждаюсь в этом подонке и стану прекрасной матерью для моей Гортензии.
– Такой же, как ты была для меня, – заключила я, чтобы сделать ей приятное, а заодно положить конец разговору.
– Ну что ж, тогда я очень счастлива, – вздохнула она.
Отец, как всегда в таких случаях, был категоричен:
– Пусть только попробует сюда явиться! – заявил он и с тех пор не произносил имени Сильвена, называя его исключительно «дерьмом», «паразитом» и «сволочью».
А ведь Сильвен с самой первой встречи с моей семьей завоевал ее расположение. Мать, отец, братья с их женами – все были от него без ума. Он очаровал их всех, и эта мгновенная и взаимная приязнь – ну, я оказалась полной идиоткой, что тут скажешь, – наполняла мое сердце несказанным счастьем. Никто не осмеливался спросить, во всяком случае у меня, каким образом мне удалось заполучить такого парня, но я уверена, что этот вопрос задавал себе каждый. Когда я им объявила, что на Рождество приведу друга, все они рассчитывали увидеть некую посредственность, бесцветного типа, которого мне удалось подцепить среди министерских коллег. Я же предстала перед ними с великолепным образчиком мужчины, «необычайно, необычайно симпатичным». В присутствии моих родственников он то и дело осыпал меня поцелуйчиками, проявлял нежную заботу, постоянно шутил, был предупредителен и внимателен к остальным гостям. У меня такое поведение Сильвена сразу должно было вызвать подозрения, так как наедине со мной проявления привязанности день ото дня становились все более редкими. Но могла ли я в чем-то сомневаться, если гордость от обладания им делала меня слепой? Я считала, что справедливость восторжествовала и мне воздалось сторицей за годы страданий, когда все считали меня жалкой уродиной, неспособной заинтересовать кого бы то ни было. Блистательное присутствие Сильвена рядом со мной доказывало, что я была достойна гораздо большего, чем они полагали.
После исчезновения Сильвена из моей жизни вопрос о нем больше никогда не стоял. Малышка Гортензия росла чудесным ребенком, до краев заполнив мое существование.
Восхитительная девчушка, другого и не скажешь. Изящные черты, голубые глазки, сияющая улыбка. К моему огорчению, она все больше и больше походила на своего «прародителя», да, именно так я его называла, никогда не употребляя слова «отец». Когда же при мне произносили имя «Сильвен», к горлу всегда подкатывала тошнота. Увы, я смогла передать дочери только соломенно-белокурый цвет волос.
Однажды мама воскликнула:
– Боже, да она просто вылитый Сильвен!
Моя реакция была ужасной:
– Никогда не произносите его имя при мне, и главное – при ней! Дочь принадлежит только мне, мне одной! У нее нет отца, ее отец умер, его никогда не существовало.
– Но ведь придет день, когда ей нужно будет узнать… – пробовала возразить мама.
И тогда я зарычала ей в лицо, как разъяренная тигрица:
– Это касается только меня, но уж никак не тебя! – Я была настолько разгневана, что, продолжай она в том же духе, дала бы ей пощечину.
Мама пробормотала какие-то извинения, но я вышла, громко хлопнув дверью, с испуганной, дрожавшей Гортензией на руках.
Я не давала о себе знать целых две недели. Урок был усвоен, и, видя отчаяние мамы, которая не могла примириться с разлукой, я взяла с нее клятву никогда больше не говорить о Сильвене. Мы даже расцеловались с мамой, чего не делали со времен моего детства.
Да, семья всегда поддерживала меня в несчастье.
Я сама решила порвать с ней все связи и больше не видеться.
6 София
Никто не в состоянии представить, насколько полным было мое материнское счастье. Трудно подобрать слова, чтобы его описать. Я жила в постоянной радости – спокойной, безоблачной, абсолютной, которая питалась нашей взаимной любовью.
Каждое мгновение жизни дочери было мгновением этого счастья, ни на минуту я не покидала ее и в своих мыслях. Ни в ком и ни в чем я не нуждалась, а уж тем более в другом мужчине.
Я была очень счастлива с ней одной, моей дочерью.
Семья моя между тем делала все возможное, чтобы окружить нас заботой, старалась поддерживать меня в трудные моменты (я хочу сказать, материально, хотя, если честно, я ни в чем не нуждалась по-настоящему!). Скрепя сердце я иногда оставляла им внучку на несколько дней, когда по какой-либо причине закрывались ясли. Они говорили, что, несомненно, это пойдет мне на пользу, что я нуждаюсь в отдыхе, что, мол, наконец-то я займусь собой.
Родители приезжали за ней в Париж и тем же вечером уезжали в Пемполь[8]. Да, по правде говоря, я не очень-то любила оставлять их у себя ночевать. Они уверяли, что будут лелеять Гортензию, как принцессу, окружат ее нежной заботой. А мне стоило воспользоваться временной свободой, чтобы погулять, сходить в кино или театр, или еще лучше – поужинать с друзьями. У них это стало навязчивой идеей, чтобы я общалась с коллегами, завязывала новые знакомства. Разумеется, они надеялись, что рано или поздно я встречу того, кто изгладит из моей памяти мрачные воспоминания о неудавшейся любви. Видно было по всему, что они считали мою привязанность к Гортензии не совсем нормальной.
Но какова бы ни была моя вина в том, что произошло в дальнейшем, никто не был вправе упрекать меня в том, что я питала к Гортензии «чрезмерную» любовь или что моя любовь была слишком эгоистичной. Никто не может дать слишком много любви своему ребенку.
Когда я приезжала забирать Гортензию, я им лгала. Говорила, что эти несколько дней принесли мне огромную пользу, что я воспользовалась ими на всю катушку. Рассказывала содержание спектаклей, которых не видела, истории о друзьях, с которыми не встречалась, сообщала меню придуманных ужинов. Родители настаивали, чтоб я оставляла у них Гортензию почаще, и на словах я никогда не возражала:
– Договорились, тем более что дочка вас обожает.
Порой отец пускался в откровения.
– Мы с матерью очень рады, – говорил он, – что ты сумела оставить в прошлом историю с этим мерзавцем. Не скрою, мы побаивались, что все обернется куда хуже. Когда он сбежал, ты казалась раздавленной, на тебя было жалко смотреть, доченька. Честно скажу, мы испугались, очень испугались… Ну а теперь все страхи исчезли: ты расцвела, как роза. Можно сказать, что малышка Гортензия – твоя новая большая любовь!
Я благодарила его со счастливой улыбкой и твердила, что все у меня прекрасно.
– О нем я больше никогда не думаю. Одной мне гораздо лучше. В моей жизни ему места нет.
И я была убеждена, что именно так и было.
Однажды, чтобы сделать родителям приятное, я решила остаться с Гортензией у них на ночь – с субботы на воскресенье, прежде чем вернуться в Париж. Хотя, признаюсь, моей единственной мечтой было поскорее добраться до дома с моей дочуркой, по которой я стосковалась. Но, видели бы вы, как радовались бедные старики…
Да, то, что сделал мне потом этот мерзавец, похитив у меня Гортензию, полностью разрушило мою жизнь. Но не только мою – их жизнь тоже. Его гнусное преступление, ибо это было именно преступление, погасило теплившийся в них огонь, который было невозможно разжечь вновь. Мало-помалу горе изглодало мою мать, и она умерла четырьмя годами позже.
Отец ее пережил. Сейчас он уже стар и немощен, но у него прекрасная поддержка в лице моих братьев. Между тем, когда мы с ним виделись в последний раз лет двенадцать назад, я прочла в его усталом взгляде, что он никогда не забывал Гортензию. Он так и умрет, унося в сердце воспоминания о пропавшей внучке. И еще ненависть к моему палачу, которая его никогда не оставляла.
Ночевка у родителей потребовала от меня колоссальных усилий. Ведь неделя, проведенная в одиночестве, тянулась никак не меньше месяца. И теперь мне не терпелось как можно скорее остаться вдвоем с моей дорогой девочкой.
Обычно бывало так: я приезжала по утрам, мы завтракали и отправлялись в путь. Я не просто приезжала забрать дочку – я каждый раз сбегала вместе с ней.
В ту ночь я не спала. Лежа рядом с ней и почти физически ощущая блаженство и сладостный покой этих минут, я не осмеливалась закрыть глаза, ведь это помешало бы мне любоваться моей Гортензией, которая мирно посасывала лапку медвежонка Жеже. Поправляя соскользнувшее одеяльце, я представляла ее сны, мечтала о нашей будущей жизни вдвоем.
В общем, мое счастье заключалось только в дочери. Потеря Гортензии сломила меня, нанесла такую глубокую рану, что я не смогла от нее оправиться.
С работы я тоже старалась сбежать пораньше. Не успевали часы показать шесть вечера, как я собирала вещи, никогда не задерживаясь на собраниях, даже если этого требовала необходимость, когда другие сотрудники оставались. В голове было одно: поскорее забрать дочку из яслей и остаток вечера посвятить ей.
У нас были свои привычки, которые ничто не могло нарушить.
Первым делом мы немного играли с Барби, неизменно, потом какое-то время я перечитывала ей любимые книжки. Когда наступал банный час, мы вместе принимали ванну – обе мы просто обожали это занятие. Затем я оставляла ее одну поиграть с куклами, опять же с ними, с Барби, пока я готовила ужин. Никогда никаких полуфабрикатов или блюд из кулинарии. Только свежайшие продукты и здоровое питание. Я была помешана на качестве овощей, рыбы или мяса, была способна обойти весь Париж в поисках самого лучшего, чтобы купить все это Гортензии. Рацион яслей не внушал мне особого доверия, и частенько я давала дочери с собой завтрак, что очень раздражало воспитательниц. Однако я настаивала с такой непреклонностью, что они не осмеливались противоречить. Гортензия всегда заканчивала ужин стаканчиком молока, после чего я отводила дочку в ее комнату и смотрела, как она рисует. Потом обычно читала ей книжку, начатую накануне. Когда наступало время спать, мне даже не приходилось напоминать – она сама ложилась в кроватку с медвежонком в руках и, как всегда, просила поцеловать ее на ночь. И я покрывала Гортензию поцелуями всю – от лба до нежных пяточек, пощекотав ее легонько кончиком носа, чтобы она засмеялась. Когда я гасила свет, дочка тотчас засыпала. Время сна наступало в восемь часов.
Только после этого я принималась за работу. Сделав все, что было нужно по хозяйству, я наскоро перекусывала чем попало. Затем устраивалась на диване и читала до половины одиннадцатого.
Убедившись, что Гортензия не проснулась, я переносила маленькую спящую красавицу в свою постель, и мы проводили ночь вместе, дыша одним дыханием.
И в тот вечер все было бы так же, если бы Сильвен не явился, чтобы ее у меня похитить.
С тех пор, вот уже больше двадцати лет, после нескольких месяцев бессонницы, чуть не превратившей меня в зомби, я всегда засыпала в одно и то же время, приняв снотворное. Только к сердцу я прижимала не дочку, а ее розовую, истертую до дыр от моих прикосновений пижамку, вместе с которой я погружалась в забытье без сновидений и кошмаров.
Ночи я проводила уже не в своей постели, а в ее кроватке, свернувшись клубком, словно от нестерпимой боли.
Показания капитана жандармерии Пеллетье,
8 июля 2015 г. Выписка из протокола.
Мы, капитан Ив Пеллетье, сотрудник Следственного комитета жандармерии Ренна, письменно подтверждаем, что 1 июля 2015 года мы встретились с господином Дени Делаландом, родившимся 20 мая 1938 года в местечке Локмине, департамент Морбиан. Встреча состоялась в доме престарелых «Зеленые дубы» в Витре, 35506, на которой также присутствовали его сын Серж Делаланд и доктор Женевьева Лафорж, в соответствии с распоряжением следственного судьи Венсана Робера, представителя Парижского суда большой инстанции.
Мы констатируем, что, проводя дознание, испытали определенные трудности, связанные с состоянием здоровья господина Дени Делаланда, страдающего старческим слабоумием, которое проявилось в его неспособности давать четкие и логичные ответы на поставленные вопросы. Нам удалось прослушать показания свидетеля в течение двенадцати минут, когда он, как нам показалось, находился в здравом уме. Господин Делаланд подтвердил глубокую, даже исключительную, привязанность, которую питала София Делаланд к своей дочери Гортензии Делаланд. Мать, по его словам, ухаживала за ней наилучшим образом. В его памяти внучка осталась очень живым и прелестным ребенком. Он уточнил, что по мере того, как девочка подрастала, София все больше противилась тому, чтобы она посещала своих дедушку и бабушку, что сильно расстраивало его супругу, ныне покойную. Он уже не помнил, когда видел внучку в последний раз. Мы цитируем: «Похищение ее этим негодяем крайне болезненно отразилось на семье, очень привязанной к ребенку», – что и привело, по его словам, к преждевременной смерти жены. Учитывая усталость свидетеля и его плачевное физическое состояние, а также по требованию врача, мы, капитан Пеллетье, вынуждены были прервать допрос в 11.22. […]
7 София
Чудесное равновесие нашей жизни с Гортензией сразу было нарушено, как только Сильвен вновь в нее вошел.
Нет, не в тот кошмарный вечер, когда он отнял у меня дочь. Сильвен уже появлялся за четыре недели до того, как Гортензии должно было исполниться два с половиной года. За пять месяцев до похищения. Годы спустя после его ухода с улицы Мучеников.
Почти слово в слово я помню то, что рассказала тогда об этом событии капитану Дюпуи. Этот человек всегда проявлял ко мне сочувствие, моя страшная судьба, похоже, его по-настоящему взволновала.
Словно предупрежденная шестым чувством, я сразу его увидела. Сильвен ждал меня возле министерства, на той стороне улицы, устремив на меня свой пронзительно-голубой взгляд. На его губах играла улыбка – дружеская, немного виноватая, а на лице застыло выражение заискивающего животного. Он почти не изменился: по-прежнему был строен, со смородиново-черными волосами до плеч, все так же неотразимо притягателен.
Я не притворилась, будто его не заметила, а наоборот, посмотрела ему прямо в глаза, запрещая приближаться. Несколько секунд я постояла перед ним, а затем круто развернулась и решительной походкой направилась к метро. Не знаю, как мне удалось обуздать свое волнение – я была потрясена. Один его вид вспышкой молнии вызвал к жизни все мои унижения и обиды. И речи быть не могло ни о каких уступках, он мог рассчитывать только на мое презрение.
Понимая, что Сильвен станет меня преследовать, я мысленно к этому подготовилась. И правда, с верха лестницы он меня окликнул:
– София!
Тон его был резким, почти приказным. Не услышав ответа, он меня догнал и схватил за руку.
– Мне нужно с тобой поговорить, – произнес он уже мягче, – это очень важно.
Я попыталась высвободиться, но тщетно, Сильвен держал меня крепко. Он приблизился ко мне вплотную, и я опустила взгляд, чтобы его не видеть. Ни единого слова не вырвалось у меня, ни «отпусти» или «оставь меня, я не хочу тебя видеть».
Пришлось подождать, пока он сам кончит говорить и меня отпустит. Я наклонила голову и стояла, не отводя взгляда от билетика, который трепетал, словно старался сохранить равновесие, на выступе ступеньки. Улетит – не улетит?
Но я не забыла ни слова из того, что он мне сказал тем вечером. Он, дескать, раскаялся, говорил он плаксивым тоном, он не должен был меня бросать, просто все уж так сложилось, навалилась куча дел, да и не готов он был тогда к отцовству. Сильвен называл себя безмозглым, несколько раз повторил, что «поступил, как мудак». Да, он понимал, конечно, что я вправе его ненавидеть и не хотеть больше с ним встречаться, но он надеялся все исправить и рассчитывал на мое прощение. А в конце произнес:
– Я очень хочу увидеть свою дочь. – И я почувствовала в его голосе сомнение, словно он принуждал себя, прежде чем добавить: – Прошу тебя!
В этот момент Сильвен отпустил мою руку, и я, воспользовавшись этим, быстро зашагала прочь. Не удостоив его ни взглядом, ни ответом.
И я не обернулась, когда он закричал мне вдогонку:
– Я ее отец и имею право с ней видеться!
Или он сказал «имею на нее право»? От одной этой мысли я задрожала всем телом и подумала: «Никогда!»
Решение было принято, и я не изменила его до конца.
Позже, гораздо позже, я стала спрашивать себя, а что было бы, не окажись я столь категоричной? «Возможно, тогда он бы ее не похитил», – сказала мне как-то мама, когда мы с ней об этом заговорили. В те времена, когда еще нам удавалось поговорить… Но мысль эта только вначале мучила меня, даже сейчас я твердо уверена: забрать у меня дочь – вот что было его целью. Только мне известно, до какой степени этот человек любил причинять зло другим, каким он на самом деле был негодяем. И никто не смог бы убедить меня в обратном. Ему не нужна была дочь – отомстить он хотел именно мне. Вот только за что?
Увы, для размышлений времени у меня оказалось больше чем достаточно. Конечно, он видел себя лишь в роли повелителя, а я стала ему противиться. Бедняжка Гортензия сделалась инструментом в его руках, чтобы он мог расправиться со мной. Однако в итоге я пришла к выводу, что речь шла не только о мести. В чем он мог меня упрекнуть по-настоящему? Только в том, что я запретила ему видеться с ребенком, на которого он не имел ни малейшего права, брошенным им еще во чреве матери? Нет, этот человек был настоящим безумцем, ринувшимся на поиски жертвы, чтобы удовлетворить свои садистские наклонности. После того как он меня соблазнил, я месяцами оставалась игрушкой в его руках, считая, что испытываю сильную и вечную любовь. И я стала его жертвой, когда он лишил меня дочери. Существовать Сильвен мог, только питаясь страданиями других, и ему потребовалось в конце концов мое полное уничтожение. Выбор судьбы пал на меня – наши с ним пути пересеклись, но я готова поклясться, что была не единственной его жертвой.
И все же я никогда не жалела, что запретила ему встречаться с дочерью. Гортензия была моей – не Сильвена. Он не заслуживал ее, не заслуживал того, чтобы называться отцом. Однажды он уже исчезал, а значит, лучше всего ему было снова исчезнуть, и на этот раз навсегда. Сильвен нам с дочерью был не нужен, для него в нашей жизни больше не было места.
Гортензия росла без отца и ничуть не нуждалась в нем. У нее была я, и мы вдвоем были счастливы. Ни разу не спросила она меня, где ее папа. А ведь она повидала их, пап, достаточно, например, когда они приходили в ясли за своими детьми, и те крепко обнимали их за шею. Сколько раз я с горечью наблюдала такие сцены. Но никогда, клянусь, она не задала мне такого вопроса. Разве это не доказательство, что в папе никакой нужды не было?
Вот что я ему сказала, когда мы встретились с ним во второй раз на следующий день. Как и накануне, он ждал меня, стоя на тротуаре, на противоположной стороне улицы. Я направилась к нему, не обращая внимания на его умоляющий взгляд, полный надежды. Мне были прекрасно известны все его ловушки, и я не собиралась в них попадаться. Посмотрев ему прямо в глаза, я произнесла тоном, не допускавшим никаких возражений:
– Убирайся и не пытайся больше пробраться в нашу жизнь. Ты для нас не существуешь – ни для меня, ни для Гортензии.
И тогда это чудовище разрыдалось. Очередная уловка – но я осталась холодной, как мрамор. Презрительно улыбнувшись, я сказала, что он жалок, и оставила его там, с его крокодиловыми слезами, которые нисколько меня не тронули, а лишь вызвали отвращение.
– Плачь на здоровье, я и так потеряла с тобой уйму времени, а сейчас я очень тороплюсь, мне нужно забрать из яслей дочь.
Несмотря на то что сцена была впечатляющей – посреди улицы, рядом с моей работой, я уверена, что никто не обратил на нас внимания.
Так уж устроен Париж: люди идут каждый своим путем и никому нет ни до кого дела.
Развернувшись, я поспешила к метро, настолько удовлетворенная, что бросила его там стоять с открытым ртом, что даже не подумала, что, возможно, этот человек представлял опасность. В тот момент он получил свое, а я бежала, чтобы поскорее увидеться с моей дорогой Гортензией.
Сильвен сумел мне отомстить, да еще как.
– Мне не следовало так поступать, – признавалась я позже комиссару Дюпуи. – Очень сожалею, что возбудила в нем ярость, это было непростительной ошибкой.
Комиссар тогда нашел верные слова, может быть, из сочувствия к моему отчаянию, и его голос дышал искренностью:
– Время не повернуть вспять, мадам Делаланд… Но этот Дюфайе, судя по вашим рассказам, производит впечатление, так сказать, психопатической личности. Каков бы ни был повод, рано или поздно он причинил бы вам зло. Вы не должны ни в чем себя упрекать.
По сей день я благодарна ему за эти слова и за то, что он пытался найти мою дочь и этого мерзавца и сделал для этого все, что было в его силах.
И все же могла ли я не сердиться на него, потерпевшего поражение в этих поисках, равно как и я?
8 София
К тому времени, как Сильвен попытался снова войти в нашу жизнь, Гортензии было два года и пять месяцев. Разумеется, я с ней этого не обсуждала, ведь дочь была слишком мала, и не стоило ее пугать.
Скоро ей предстояло перейти из яслей в детский сад – я записала Гортензию в садик на Бретонской улице. Как же дочка этим гордилась, она никак не могла дождаться заветного дня, хотела отправиться туда немедленно, не дожидаясь сентябрьского начала занятий. Гортензия говорила, что теперь она – большая и что ей до смерти надоели вечно вопящие младенцы.
– Я не люблю малышей, от них всегда плохо пахнет. Игры у них дурацкие, и потом – там я самая старая! – заключила она последним решающим аргументом.
Гортензия сказала «старая», а не «большая», и я расхохоталась. Она так порывисто меня обняла, что я до сих пор ощущаю прикосновение ее маленьких ручек, обвивших мою шею, и нежный аромат марсельского мыла[9] (другого я не покупаю, это – самое лучшее).
Дочка говорила уже совсем как взрослая, поверьте, и меня это так радовало, что я всячески ее в этом поддерживала. Она уже начинала читать и считать, я каждый день понемногу ее учила, и она обожала наши занятия.
Я была уверена, что Гортензии стоило посещать садик с двухлетнего возраста, и даже попробовала ее туда устроить, объяснив, что дочка учится читать и считать и уже умеет писать свое имя. Но директриса как-то странно на меня посмотрела и отказала. Кажется, она приняла меня за честолюбивую мамашу, только и мечтавшую об успехах своей дочери.
Но я, клянусь, хотела только ее счастья. Да и какой в том грех, если мать гордится ребенком и старается его развивать?
Своими соображениями я поделилась с воспитательницей старшей ясельной группы. Звали ее Изабелла, и она была примерно моего возраста.
Все последующие годы Изабелла оставалась моей лучшей подругой. Единственной. Целых двадцать два года она старалась мне помочь всем чем могла, поддерживала все мои усилия в поисках дочери, не давала опустить руки. Правда, потом она переехала жить на юго-запад страны, так что мы стали видеться редко, точнее, перестали видеться вовсе. В последний раз она наведывалась в столицу лет десять назад, но я знала, что всегда и во всем могла на нее рассчитывать, и мы поддерживали постоянную связь, которая для меня была жизненно необходима. Мы подолгу общались с ней по телефону, только Изабелле могла я рассказать о своем одиночестве, а она говорила мне о муже, который окончательно свихнулся и для которого она делала все, на что была способна. Как-то раз она сказала мне, что на Рождество ей пришлось выдержать настоящий бой с родственниками, которые собирались поместить мужа в клинику для душевнобольных, чему она решительно воспротивилась. А ведь ей давно стоило бы освободиться от этого несносного субъекта, у которого случались приступы агрессии и который сбегал от нее всякий раз, как у него начиналось обострение. Жизнь для Изабеллы превратилась в ад, но она никак не могла с ним расстаться. «Мы с Андре так сильно любили друг друга! Жаль, что он не сохранил о нашей любви никаких воспоминаний и смотрит на меня как на незнакомку. Даже хуже – как на врага».
Изабелла мне писала письма, один раз в год – в январе. Письма ее я хранила в коробке из-под обуви, они являлись для нас особыми посланиями, напоминавшими нам, что мы обе не должны отрекаться от своей борьбы. Она почти никогда не упоминала о моем потерянном ребенке, но я понимала почему, это читалось между строк, полных любви и преданности. Письма Изабеллы неизменно заканчивались фразой: «Желаю тебе прекрасного Нового года». И я ощущала в стандартной формуле ее призыв не терять надежду, даже если силы для надежды иссякли.
Так было до сегодняшнего дня, ибо жизнь моя вновь озарилась светом, раз я нашла свою дочь.
Той осенью, дело было в ноябре, я предупредила Изабеллу, что Гортензии грозит опасность. Изабелла была настолько милой и любезной, что, сама не зная почему, я рассказала об этом именно ей. Трудно объяснить некоторые свои поступки, но я почему-то сразу ей доверилась.
Я попросила ее немедленно мне сообщить, если она заметит возле яслей подозрительного незнакомца, высокого брюнета, или в случае если кто-нибудь явится и попросит разрешения увидеться с Гортензией. Показала я ей и одну из немногих сохранившихся у меня фотографий Сильвена.
– Остерегайтесь этого человека, – сказала я. – Если увидите, сразу же дайте мне знать. И главное, не позволяйте никому приближаться к Гортензии.
Как я и думала, Сильвен предпринял такую попытку. Однажды утром Изабелла заметила человека, который вел себя странно, очень странно. Он прохаживался взад-вперед перед яслями, предусмотрительно оставаясь на противоположной стороне улицы. В точности исполнив мою просьбу, она немедленно мне позвонила. По ее описанию, это был высокий худощавый мужчина лет тридцати с темными волосами, выбивавшимися из-под шапки. Вне себя от тревоги, я тут же отпросилась с работы, сославшись на недомогание, и поспешила в ясли забрать дочку, чтобы поскорее отвести ее домой.
Когда я за ней пришла, подозрительного незнакомца уже не было, но начиная с этого дня мы подружились с Изабеллой.
Я заставила Изабеллу пообещать мне, что она не будет спускать глаз с Гортензии, поскольку знала, что Сильвен возобновит свои происки.
– Хотелось бы мне увидеть лицо этого подонка, – произнесла она.
– Осторожнее, это опасный обольститель. Полное дерьмо…
Но я не сказала, до какой степени Гортензия была на него похожа, это причинило бы мне слишком много боли.
Несколько дней спустя после этого случая я позвонила своей начальнице и сказала, что заболела. Пришлось солгать, но мне хотелось убедиться, что в яслях моя дочь в безопасности, и я весь день провела в слежке. Во второй половине дня, после тихого часа, когда ребятишки высыпали наружу, чтобы поиграть во внутреннем дворике, я увидела, как Сильвен приблизился к ограде, окружавшей здание. Прячась от воспитательниц, он пытался подозвать Гортензию. Вне себя от бешенства, я выскочила из своего укрытия так внезапно, что он отпрянул от ограды и убежал, так ничего и не добившись. Когда Изабелла ко мне подошла, он давно уже скрылся из виду.
Снова я принялась ее умолять не позволять ему приближаться к дочери и заговаривать с ней. Изабелла слово держала: она заставляла Гортензию уходить внутрь, несмотря на ее протесты, стоило ей заметить поблизости незнакомых людей. Весь день она почти не расставалась с моей дочкой до тех пор, пока я за ней не приходила. Если же Изабелла бывала свободной по вечерам, она иногда провожала нас до дома, весело приговаривая по пути: «Наша сила – в единстве!»
Сильвен стал ее навязчивой идеей, совсем как это было со мной.
Иногда Сильвен преследовал нас на улице, случалось и такое. Ужас готов был парализовать меня, но я старалась овладеть собой, чтобы суметь ему противостоять. Оставив Гортензию позади, в нескольких шагах, я приказывала ему убираться вон, грозила, что вызову полицию и обращусь к прохожим за помощью. Поначалу он пытался меня убеждать, взывая к своему праву отца. Но я оставалась непреклонной, даже когда он, жалкий тип, прибегал к слезам. Наши столкновения были краткими, обычно он обзывал меня «грязной сукой» и старался преградить мне путь. Но все было напрасно, он понимал, что должен отступить, чем все в конце концов и завершалось.
Тогда я возвращалась за дочкой, застывшей на месте и дрожавшей от страха. Малышка ничего не понимала, конечно, и обрушивала на меня поток вопросов. Но разве могла я сказать ей правду? Да я и не хотела. Я говорила, что это сумасшедший, но что ей нечего бояться. «Таких ненормальных, как этот дяденька, в Париже полным-полно», – твердила я, чтобы ее успокоить, и снова повторяла, что она никогда не должна разговаривать с теми, кого не знает. Покупка в булочной слойки с шоколадной начинкой обычно смягчала неприятное происшествие, Гортензия успокаивалась и вскоре о нем забывала.
Однажды дочка, правда, заставила меня по-настоящему страдать. «Он очень симпатичный, этот сумасшедший дяденька», – сказала она. Я сильно разозлилась, и в тот раз Гортензия лишилась слойки.
Прошло еще несколько недель, и Сильвен перестал нас преследовать. Зато непрестанно нам названивал, в любой час дня и ночи. Не надеялся ли он, что однажды трубку возьмет Гортензия? Поначалу я боялась снимать трубку, хотя и не переносила звонившего впустую телефона. Всегда это была одна и та же песня: он хотел узнать новости о «своей дочери», интересовался, спрашивала ли она о нем, надеялся услышать ее голос, поговорить с ней «хоть секундочку», умолял, унижался. Я бросала трубку, повторяя, что он не ее отец, а иногда взрывалась: «Да когда ты оставишь нас в покое!» Потом часами держала на столе снятую трубку. В итоге я сменила номер, и звонки прекратились.
Какой же я была идиоткой, поверив, что одержала победу, сломила его сопротивление… Когда я поделилась всем этим с Изабеллой, она выразила сомнение, что меня в какой-то степени насторожило.
– Такого рода люди легко не сдаются.
Как же она оказалась права!
В одно воскресное утро, раздвигая шторы, я снова увидела Сильвена: он стоял на противоположной стороне улицы с куклой в руке и не сводил взгляда с наших окон.
Даже не одевшись, как была – в халате, я тут же сбежала по лестнице и ринулась к нему, как фурия. Увидев меня и почувствовав реальную угрозу, он сразу исчез. Поднявшись к себе, я немедленно позвонила Изабелле, которая стала меня убеждать, что пришло время подать жалобу в комиссариат.
Туда я и отправилась следующим утром, оставив Гортензию на попечение Изабеллы, явившейся ко мне по первому зову.
Я почти ничего о нем не знала: где он жил, работал ли, знала только имя – Сильвен Дюфайе – да номерной знак машины, случайно застрявший в моей памяти. Но, может, он меня обманывал и в этом? Было ли имя подлинным?
Полицейский, к которому я попала на прием, мне не понравился с первого взгляда. Явно женоненавистник, высокомерный и подозрительный, он поинтересовался, является ли действительно этот Дюфайе отцом ребенка и признает ли свое отцовство, ибо «в таком случае это все меняет». А в конце беседы и вовсе заявил:
– Так почему вы все-таки против того, чтобы он виделся с дочерью?
Вот тут меня и прорвало.
– Человек, преследовавший нас неделями, оставивший меня беременной, – бросила я в лицо этому ничтожеству, – это он-то отец? Гортензия моя, и только моя дочь, никаких прав на нее у Дюфайе нет! Я посоветовала полицейскому заниматься его работой и сделать все возможное, чтобы защитить нас – меня и мою дочь. Тот, естественно, нахмурился, но по крайней мере принял жалобу, больше не вдаваясь в детали.
– Если отец, простите, тот человек снова появится, немедленно нас предупредите, – со вздохом произнес он и, когда я уже уходила, добавил: – Все это очень прискорбно.
Только гораздо позже я узнала, что происходило тогда в комиссариате девятого округа.
У полицейских на руках ничего не было, кроме номера автомобиля, но благодаря ему они и отыскали Сильвена. «Фиат» принадлежал одному из его двоюродных братьев, у кого он как раз и жил в то время в южном пригороде Парижа. Полицейские пригласили Дюфайе для беседы, и, как я узнала потом, он явился в участок абсолютно добровольно. Сильвен сказал, что ничего не понял из этой бессмысленной истории, что, мол, он никогда и никого не преследовал. Последние годы, объяснил он, ему пришлось провести за границей в силу «производственной необходимости». По этой причине он не мог заниматься воспитанием дочери, поскольку из-за длительной командировки был вынужден с нами расстаться. «Я никогда никому не делал ничего плохого, это не мой стиль, по природе я, скорее, пацифист, знаете ли», – заявил он с беспримерной наглостью. Он, дескать, и понятия не имел, откуда взялись мои «измышления», но, к несчастью, он и был вынужден со мной расстаться потому, что у меня начали проявляться признаки психического расстройства. Увы, со временем мое положение только усугубилось… Сильвен даже уверил полицейских, что «давно перевернул эту страницу» и мы с Гортензией его больше не интересовали. «Может, когда-нибудь в будущем мне и пришло бы в голову познакомиться с дочерью, но уж никак не в ближайшее время». И он даже пригрозил, что подаст встречную жалобу, если я не перестану на него клеветать. Единственным его преступлением, по словам Сильвена, было то, что он вступил в связь с сумасшедшей. Он даже уточнил, негодяй, словно бросая мне вызов: «Я-то готов признать мою дочь, я ей так и сказал, но вот она, она никогда на это не согласится!»
Полицейский, взявший у него показания, был именно тем неприятным человеком, который беседовал со мной, когда я подавала жалобу (чертов Моранди, никогда его не забуду!). Моранди объяснил ему, что, не имея никакого законного права на Гортензию, он должен перестать упорствовать и отказаться от намерения с ней видеться.
– Что это значит – упорствовать? – возмутился Сильвен.
И он позаботился о том, чтобы обеспечить себе алиби на те часы, что упоминались в жалобе о преследовании. Все было шито белыми нитками, но кто стал бы его проверять?
У Сильвена был редкий дар вызывать к себе симпатию, играя роль жертвы, и Моранди сказал, что он, конечно, все понимает, однако советует ему держаться от нас на расстоянии хотя бы первое время и не показываться в местах, где мы бываем. В итоге полицейский едва ли не попросил у него извинения за причиненное беспокойство.
Поблагодарив, Сильвен заверил, что постарается следовать его советам, будет держаться подальше, и больше в участок его не вызывали.
Узнав все это от одного из коллег Моранди уже после похищения Гортензии, я сделала все возможное, чтобы полицейского наказали за допущенную халатность, и добилась своего.
Моранди позвонил мне сразу же после разговора с Сильвеном.
– Думаю, он усвоил урок. Ваш бывший больше не станет вам докучать.
Что за лицемерие! Я его поблагодарила и поскорее положила трубку, чтобы он не успел попросить меня проявить бо́льшую снисходительность к Сильвену. Заверениям его я, разумеется, не поверила. Вне всяких сомнений, полицейский тоже поддался обаянию этого мерзавца, чьи способности мне были известны.
Иными словами, я не потеряла бдительности, скорее наоборот. Единственной моей союзницей по-прежнему оставалась Изабелла, которая продолжала наблюдать за всеми, кто приближался к зданию яслей.
Сильвен перестал звонить, я больше его не встречала, он уже не ошивался ни возле яслей, ни на улице Мучеников. Изабелла не переставала меня успокаивать:
– Вероятно, в его жизни появился кто-то другой. Может, он и вовсе уехал из Парижа.
Но я-то его хорошо знала, этого упрямого негодяя, и всегда оставалась начеку, ни на секунду не забывая об опасности. Увы, если не считать того злосчастного вечера…
Да, я была настороже, несмотря на обнадеживающие речи Изабеллы, а может, именно из-за них: «Со мной Гортензия в полной безопасности», «я храню ее как зеницу ока». В итоге я приняла решение забрать дочку из яслей. Я была обязана удвоить бдительность – от этого человека можно было ожидать чего угодно.
– Как же ты уладишь дело с работой? – встревожилась Изабелла.
И я солгала, чтобы ее успокоить:
– Мне удалось найти приходящую няню на дневные часы, пока не подойдет время моего отпуска и Гортензия не поступит в детский сад.
На самом же деле дочка проводила дни в одиночестве и никогда не капризничала. Какой умницей, развитой и находчивой она была для своего возраста! Малышка со всем на удивление ловко справлялась, играла, читала книжки или рисовала. Обычно я забегала домой к обеду, кормила ее и давала задание раскрасить картинки к моему приходу. Я называла это уроками, и Гортензия относилась к ним со всей серьезностью. Да и с работы я старалась улизнуть пораньше, часто уходила сразу после обеда, сказавшись больной. Потом подошло время отпуска, а после я снова брала больничный… Лишних вопросов мне никто не задавал, да и, по правде сказать, на работе я уже мало кого интересовала.
Теперь мне кажется, что эти дни, проведенные с Гортензией, были самыми светлыми и безмятежными в моей жизни. Подумать только, она сама мне читала книжки! Конечно, малышка знала наизусть их все, сотни раз прочитанные вместе, но с тех пор как я забрала ее из яслей, прогресс в ее развитии был разительным, так что я ни разу не пожалела о своем поступке.
С того дня, как я направила жалобу в комиссариат, прошли месяцы. Отныне я была убеждена, что она спокойно покрывается пылью, валяясь среди сотен таких же бессмысленных документов. В конце концов и я забыла о Сильвене, поверив в то, что он никогда нас больше не потревожит.
Как можно было допустить глупость и безответственность, открыв входную дверь и не думая об опасности? И сейчас, двадцать два года спустя, этот вопрос, который я продолжаю себе задавать, по-прежнему причиняет мне страдание.
Показания старшего капрала Жан-Франсуа Моранди,
58 лет, 15 июля 2015 г. Выписка из протокола.
[…] Сильвен Дюфайе (мы установили подлинность имени, в чем сомневалась мадам София Делаланд) явился точно в назначенное время для проведения дознания по поводу жалобы, поданной госпожой Софией Делаланд. […] Я готовился увидеть перед собой неуравновешенного субъекта, сломленного отказом госпожи Делаланд в ответ на его просьбу разрешить ему видеться с дочерью. Должен сказать, что к тому времени я сам недавно развелся, и жена всячески противилась тому, чтобы я встречался с детьми. Их у меня было трое, трое малолетних детей… Не исключаю того факта, что личные обстоятельства могли повлиять на мое отношение к данному делу. Однако Сильвен Дюфайе мне показался доброжелательным и прекрасно владеющим собой человеком, в то время как мадам Делаланд, с которой я беседовал, когда она подавала жалобу, произвела на меня впечатление особы странной, даже истеричной… Сильвен Дюфайе допустил, что он мог быть биологическим отцом Гортензии. Спокойным, готовым к сотрудничеству – таким он выглядел, во всяком случае внешне. За те три четверти часа, что длился наш разговор, он изложил свою версию произошедшего и, надо сказать, был убедителен.
Я нашел, что подательница жалобы многое преувеличила, говоря о преследовании, и, принимая во внимание явно параноидальный склад ее личности, принял осознанное решение не давать ход этому делу. […]
Когда ребенок был похищен, жалоба, разумеется, вновь всплыла на поверхность. Мадам Делаланд захотела свести со мной счеты, и мне поставили в упрек, что я не оказался провидцем. Конечно, я и сам себя винил, но мне пришлось дорого за это заплатить: моя карьера была загублена из-за профессиональной ошибки. Меня загнали в девяносто третий[10], и звание старшего капрала я получил не так давно, за несколько месяцев до выхода на пенсию. […]
9 София
Я совсем выбилась из сил. Дождь это или пот струйками бежал по моему лицу – не знаю. Побагровевшая, с мокрыми волосами, наверняка я выглядела ужасно. Нет, прежде чем что-нибудь сделать, я должна была собраться, привести себя в порядок. Я не могла показаться Гортензии в таком виде, она приняла бы меня за сумасшедшую.
И все-таки я ее нашла – все ликовало внутри у меня, нашла! Я не должна снова ее потерять, это было бы уж слишком несправедливо.
Прежде всего обуздать свое волнение. Я принялась глубоко дышать, этому я научилась еще много лет назад, когда имела глупость последовать совету Изабеллы и начала посещать курсы йоги. Она уверяла, что занятия принесут мне пользу, но я очень быстро их бросила. Мне было скучно, и потом, я с трудом выносила сочувственные взгляды инструкторши, которой Изабелла с такой недальновидностью рассказала о моем несчастье. Бедняжка инструкторша так старалась мне помочь, столько трудилась, и все же я послала их куда подальше – и ее, и эти дебильные курсы. Однако я успела освоить навыки контроля дыхания. В моменты стрессов, а они с тех пор случались нередко, признаюсь, это мне помогало. Но настолько сильного стресса, как теперь, у меня, пожалуй, не было уже много лет.
Не спуская с Гортензии глаз и наблюдая, как она быстрым шагом удалялась, собираясь свернуть за угол улицы Трюден, я начала выравнивать дыхание. Глубокий вдох. Задержка дыхания на несколько секунд. Медленный выдох, воздух выходит тоненькой струйкой. Повторила еще раз. Больше и не потребовалось, я обрела что-то вроде спокойствия. Я была готова. Теперь я могла за ней идти.
И я устремилась по ее следу, делая большие шаги и постепенно ускоряя ход. Наконец я снова увидела Гортензию перед собой, метрах в ста, после чего она свернула на Наваринскую улицу.
Сейчас я ее догоню, пройду вперед, потом обернусь и все ей скажу. Да, так и сделаю. Найду простые, искренние слова. Гортензия будет поражена, разумеется, не поймет сразу, но не сможет остаться нечувствительной к моему тону, голосу. Я просто в этом уверена.
Она не сможет не узнать свою мать.
Я почти бежала, вот она – рядом, я могла до нее дотронуться, Гортензия была так близко, что я ощущала легкий фруктовый аромат ее духов. Вдохнула его с наслаждением, затем сделала несколько глубоких вдохов, пришла пора переходить к действию, медлить больше нельзя.
Но, когда я уже готовилась ее обогнать, Гортензия вдруг резко свернула и забежала в отель-ресторан «Моя любовь». От неожиданности я остановилась и потеряла несколько секунд. Когда я крикнула «Гортензия!», дверь уже захлопнулась. Она меня не услышала. Да и крикнула ли я на самом деле?
В отчаянии я стояла как столб посреди мокрого тротуара. Интересно, с кем у нее было назначено свидание в этом ресторане? Таков был первый вопрос, пришедший мне в голову.
Через окно я смотрела, как Гортензия сбросила промокший плащ, повесила его на крючок вешалки, потом достала из сумочки щетку и провела ею по белокурым волосам. Как же я любила их когда-то ласкать и причесывать! Потом она небрежно, быстро, поцеловала двух девушек, на которых были такие же, как и на ней, короткие джинсовые юбки. У одной из ее подружек в руках был поднос с пустыми стаканами, и она тут же ушла. Мужчина, стоявший за стойкой, подзывал Гортензию к себе, постукивая о наручные часы. Мне ничего не было слышно, но я догадалась, что он делал ей внушение за опоздание. Махнув рукой, он дал ей понять, чтобы она поспешила взяться за работу. Гортензия исчезла в глубине зала, через несколько секунд появилась вновь, взяла со стойки блокнотик и уверенным шагом направилась к столику, стоявшему возле окна. Я попятилась, отошла немного в сторону, по-прежнему не сводя с нее глаз. Ни одно ее движение от меня не ускользало. Улыбающаяся, внимательная, она записала заказ и повторила его довольно громко. Клиенты – две парочки лет под тридцать – небрежно кивнули, подтверждая, почти не глядя на нее, словно моей дочери для них не существовало. Она подошла к стойке и вернулась с графином воды и бутылкой белого вина, ловко ее открыла и налила в бокал одному из мужчин. Тот попробовал и одобрительно кивнул, после чего она налила всей четверке.
Итак, моя дочь работала официанткой. В модном ресторане, который находился в нескольких шагах от моего дома.
Мне стало не по себе, и я оперлась рукой на стекло, оставив на окне жирный отпечаток.
Я часто проходила мимо этого ресторана и любила наблюдать за публикой, в которой не было недостатка. Сама я туда никогда не заходила. Таким, как я, там не место, и потом, я привыкла есть только дома. В моей квартире, где меня уже давно никто не навещал, нам хорошо вдвоем – мне и моему одиночеству.
В последний раз я была в ресторане вместе с ним. Сильвену захотелось, по его словам, отметить очередной счастливый вечер, проведенный со мной, и мы решили поесть морепродуктов в ресторане традиционной кухни на площади Клиши.
Я парила в облаках, как и всегда, не испытывая к нему ни малейшего недоверия. Как у нас уже было заведено, я сама расплатилась по счету: на этот раз он сказал, что забыл взять бумажник. Перед уходом, когда Сильвен надевал куртку, я заметила этот самый бумажник, выглядывавший из брючного кармана. Да, собственно, какая разница! Мне хотелось лишь одного – поскорее оказаться дома и дождаться момента, когда он меня, стиснув в объятиях, повалит на кровать.
С тех пор я не хожу в рестораны еще и потому, что не выношу воркования этих людей, которые кажутся такими счастливыми друг с другом, хотя каждому есть что порассказать.
Вряд ли наши дороги с Гортензией пересеклись случайно. Рано или поздно я обязательно заметила бы ее в этом отеле-ресторане, который находился совсем близко от моего дома.
Наконец такой шанс мне представился, и не когда-нибудь, а сегодня.
И мне нельзя его упустить.
Слезы текли по моему лицу, и я их не вытирала. Слезы счастья сливались с дождем, который еще усилился, пока я возвращалась.
Сейчас я поднимусь к себе. Переоденусь. Позвоню Изабелле. Не важно, что она будет говорить, какие выскажет сомнения. Я накрашусь, наведу красоту, впрочем, слово «красота» уже давно лишено для меня всякого смысла. И почти сразу же пойду назад, полная решимости и спокойствия, чтобы рассказать дочери историю нашей жизни. Открыть ей истину.
Я сгорала от желания снова ее увидеть.
Словно мы расстались вчера. Стерев одним движением долгие годы страданий, отныне я принадлежала лишь своему вновь обретенному счастью.
И, открывая дверь в квартиру, я все еще плакала от радости.
10 София
Сколько раз мне казалось, что дочь где-то поблизости? Сотни раз, больше? Особенно в первые месяцы, в первые годы после похищения. Стоило мне заметить маленькую девочку со светлыми волосами, как я уже не сомневалась, что это она – моя Гортензия. Происходило это постоянно и где угодно – на улице, в метро или магазине. Безумие надежды завладевало мной, и больше я себе не принадлежала, видя только этого ребенка, напоминавшего ту, которую у меня отняли.
Я не могла сопротивляться и бросалась вдогонку. Сколько раз я приближалась в моей неутолимой надежде к чужим детям, почти касаясь их, безразличная к тем, кто был с ними рядом и смотрел на меня с подозрением и готовностью немедленно вмешаться? Несколько секунд я не отрывала от них взгляда, прежде чем убедиться в ошибке. Разочарование было настолько сокрушительным, что я и не помышляла об извинениях. Отвернувшись и почти всегда плача, я убегала, не раз услышав в спину: «Сумасшедшая!» Но разве могло это меня задеть? Я была безутешна.
В то время я исходила Париж вдоль и поперек, оттягивая момент возвращения домой и надеясь случайно встретиться с ней или хотя бы с моим палачом.
Как-то октябрьским субботним днем, ближе к вечеру, когда я выходила из «Галери Лафайет»[11], я действительно поверила, что нашла свою дочь. Я придержала дверь, чтобы пропустить вперед арабку лет пятидесяти. Белая чадра наполовину скрывала тонкое лицо женщины, которая пробиралась с трудом, обремененная множеством пакетов да еще громоздкой прогулочной коляской. Когда женщина со мной поравнялась, я невольно опустила глаза и взглянула на коляску. В ней сидела девочка, одетая в прелестное голубое пальтишко. Я готова дать руку на отсечение, что моя Гортензия была как раз такого возраста. Льняные локоны, голубые глаза, милая улыбка – это была она!
На этот раз, лишенная сомнений, я заставила себя сдержаться, чтобы не перейти к действию незамедлительно. Не так уж это было бы трудно – оттолкнуть женщину, схватить дочь и броситься со всех ног прочь, унося ее в объятиях. Но вокруг было полно людей, меня быстро бы догнали, Гортензия могла испугаться, а я не собиралась пугать дочь в момент нашего воссоединения. Я просто двинулась вслед за ними в сутолоке улицы Лафайет, несколько раз обгоняла их и оборачивалась, чтобы полюбоваться личиком дочери и убедиться, что это не сон.
Женщина свернула на улицу Рише, потом остановилась на улице Каде перед новым зданием со стеклянными дверями. Я вошла вслед за арабкой в холл, придержав за ней дверь, и сделала вид, что ищу нужное имя в интерфоне. Краешком глаза, не переставая наблюдать за ней, я увидела, как она, достав малышку из коляски, взяла ее на руки. Потом женщина вошла в лифт, прежде разместив там свои пакеты. Едва дверь лифта закрылась, я сразу к нему приблизилась и проследила, на каком этаже он остановится. Как только лифт остановился, я бросилась к служебной лестнице и взбежала на шестой этаж. Я сразу же определила квартиру – это была вторая справа, я до сих пор это помню – по шуму и голосам, раздававшимся за дверью. Звонкий голос принадлежал, как я решила, молодой женщине, которая радостно поприветствовала ребенка. Я услышала, как она поцеловала девочку и с беспокойством спросила, не замерзла ли она. Тоненькие переливы голоска Гортензии были точь-в-точь такими, как раньше, когда мы вместе играли.
Последние сомнения исчезли. Я позвонила.
Дверь мне открыла молодая блондинка с девочкой на руках. От возбуждения щечки Гортензии покрывал нежный румянец. На лице женщины отразилось удивление, как только она меня увидела, затем она любезно улыбнулась, отчего моей уверенности поубавилось. Не давая ей времени что-либо сказать, я произнесла твердым голосом:
– Вы вернете мне Гортензию!
– Гортензию?
Она была скорее удивлена, чем напугана этим чудовищным заявлением. Арабка встала позади блондинки в воинственную позу, и я увидела, как она схватила со столика бронзовую статуэтку. Тогда я, повернувшись к ней, сказала:
– Вмешиваться не в твоих интересах. – И продолжала настаивать: – Вы немедленно вернете мне дочь, или я вызову полицию!
Решительным жестом, но без всякой паники молодая женщина передала девочку-Гортензию няньке и сделала той знак удалиться. Арабка наградила меня ненавидящим взглядом черных глаз и скрылась с ребенком и статуэткой в глубине квартиры. Было слышно, как в двери повернулся ключ.
Но, когда блондинка отдавала малышку и та повернулась в профиль, я успела заметить на ее шейке довольно большую темную родинку.
На безупречно чистой, белоснежной коже Гортензии не было никаких родинок.
Я зарыдала в голос.
– Да чего вы все-таки хотите, мадам? – спросила мать девочки, по-прежнему не теряя самообладания.
Другая на ее месте пришла бы в бешенство, позвала на помощь или просто захлопнула дверь перед моим носом. Хороша же я тогда, наверное, была – вспотевшая, с блуждающим взглядом и растрепанными волосами.
Сохраняя полную достоинства невозмутимость, молодая женщина быстро окинула меня взглядом с головы до ног и вместо того, чтобы поскорее выпроводить, что я бы сделала на ее месте, предложила мне проследовать за ней в гостиную. Подчинившись, я рухнула на диван, полностью разбитая, и принялась бормотать сумбурные извинения.
– Все в порядке, Джемиля! – проговорила она громким голосом через несколько мгновений, когда мои рыдания начали стихать. – Вы можете вернуться с Виргинией и, если вам не трудно, подайте нам чай.
Молодая женщина взяла дочку на колени; ребенок испуганно махал ручонками, и мать принялась его ласкать, чтобы успокоить, и попросила меня рассказать, что произошло, подвинув ко мне чай, принесенный нянькой. Если не считать Изабеллы, я ни в ком еще не видела столько душевной теплоты. Не в состоянии больше сдерживаться, я поведала ей о своем несчастье, говорила больше получаса, и она ни разу меня не прервала.
Рассказ мой не вызвал у нее сомнений: казалось, он живейшим образом ее взволновал, до того, что она взяла мою руку в знак поддержки. Она даже предложила мне дождаться мужа, кажется, адвоката, который, по ее словам, мог дать мне дельный совет. Но я предпочла уйти, потрясенная, умирающая от стыда, и уже сожалела о своей ненужной откровенности. В дверях она меня обняла, протянув визитку с номером телефона и заставила пообещать, что я буду держать ее в курсе и как-нибудь приду в гости. «Меня зовут Таня», – сказала мне она.
Когда дверь лифта закрылась, я услышала, как маленькая Виргиния спросила тонким голоском:
– Что это за дама, почему она плачет?
А мать ответила с нежностью:
– Ах, она очень несчастна, бедняжка.
Визитку я выбросила и никогда больше там не появлялась, не в силах вновь окунуться в эту атмосферу семейного счастья.
С того дня я перестала видеть дочь в каждой встреченной белокурой девочке во время моих прогулок. Полиция уже много недель, а потом и месяцев тщетно пыталась найти Сильвена. Теперь он наверняка находился далеко, возможно, уехал из Парижа или даже страны.
На счастливую случайность я больше не полагалась.
И тем не менее разве не случай свел нас вместе в тот вечер на улице Трюден? Или это было вмешательство судьбы?
Не важно. Главное, я нашла Гортензию. Я себя не обманываю, я твердо знаю. Откуда, скажете, такая уверенность?
Материнский инстинкт – неоспоримая реальность, это нечто, затаившееся в глубине моего существа, мне подсказывало, что моя дочь рядом.
Черты ее – черты лица того ребенка, которого я воспитывала с любовью. Лицо Гортензии – лицо той взрослой девушки, которую я лелеяла в своем воображении, видела во сне, – всегда одно и то же лицо, неизменно.
И потом, еще одна деталь, которую только я могла узнать. В тот момент, когда Гортензия отдавала мне зонтик, на ее лице на долю секунды мелькнула вопросительно-лукавая гримаска, которую я так хорошо знала. Гримаска, которая появлялась у нее всякий раз, когда она протягивала мне куклу и заставляла ее поцеловать.
Это была она, я могла поклясться чем угодно. И будь я проклята, если я снова ошиблась.
11 София
Мне не хотелось больше думать обо всех этих годах, прошедших в поисках и ожидании. И особенно не хотелось признаваться себе, что я уже почти утратила всякую надежду. Разумеется, Гортензия забыла о мимолетном эпизоде с женщиной без возраста, об этой безымянной тени, в которую я превратилась. Но теперь я снова жила.
С аппетитом налегая на десерт, я видела перед собой только Гортензию, мою дочь. В тот вечер я себе ни в чем не отказывала: заказала полный ужин с закуской, горячим блюдом и яблочным крамблом на десерт, который был восхитителен (разве не казалось мне в тот день все по-особенному вкусным?). Обычно я не пью вина, однако тем вечером заказала полбутылки Пойака[12] за целых двенадцать евро.
Я купалась в своем блаженстве, расслабленная, чуточку захмелевшая. Какое замечательное слово «захмелевшая», так обычно говорят не о пьяных, а о тех, кто уже не совсем принадлежит себе от выпитого.
Итак, я именно захмелела. Тщетно пыталась я стереть с лица глуповатую улыбку, которая вновь и вновь появлялась на губах, и я ничего не могла с этим поделать. Наверное, выглядела я чудаковато, казалась подвыпившей простушкой, странной кумушкой неопределенного возраста, неизвестно как затесавшейся сюда, где в основном проводила время золотая молодежь. Захмелевшая простушка… Но мне было на всех наплевать, честное слово.
Дело близилось к полуночи, но мне хотелось, чтобы этот вечер никогда не кончался.
Когда я вошла в ресторан, я уже знала, что собираюсь делать. Перед этим я долго говорила с Изабеллой по телефону. Она была очень возбужденной от услышанного и слегка посмеивалась над тем, что была вынуждена оставить мужа в туалете одного со спущенными штанами на целых полчаса. Ведь то, что я ей сообщила, было «неслыханно», «волшебно». Зная Изабеллу, я могла от нее ожидать осторожной реакции – удивления, сомнения, ведь действительно вся эта история была настолько необычной и прекрасной… Нет же, она выслушала меня почти с восторгом, и я запомнила некоторые ее высказывания: «как же я рада за тебя» (что естественно); «скоро ты ему отомстишь за все, наконец-то» (это правда!); и особенно это – «пусть тебя не заносит, не испугай ее». Пока мы разговаривали и спорили с Изабеллой, ей удалось окончательно меня убедить, что не стоило спешить с признанием.
– Ты нашла свою дочь, это невероятно, потрясающе. Но, умоляю, не бросайся с места в карьер. Ты должна потихоньку ее приручить, иначе рискуешь снова ее потерять, на этот раз навсегда. Ведь ты ее совсем не знаешь. Только представь, как бы ты сама отреагировала, если бы кто-нибудь встал перед тобой и заявил: «Привет, я твоя мать, мы не виделись с тобой двадцать два года, и, возможно, ты никогда обо мне не слышала. Но все это не важно. Главное, я знаю, что ты моя дочь. Давай обнимемся, детка!» Да она примет тебя за одержимую или психопатку и будет права!
Изабелла убедила меня. Мы решили, что вместе будем продумывать каждый ход.
Но когда ресторан почти опустел и обычных клиентов сменили ночные завсегдатаи, которым не спится, и они приходят сюда пропустить последний стаканчик, соблазн сделать признание овладел мной с прежней силой. Мне пришлось приложить невероятные усилия, чтобы запретить себе ринуться с объятиями к дочери.
Весь вечер я просидела в укромном уголке, в глубине зала. Мой столик Гортензия не обслуживала, зато я могла смотреть на нее сколько хотела. Я наслаждалась каждым ее появлением передо мной.
Бог ты мой, как же она была прекрасна и грациозна!
Интересно, обратила ли она внимание на невысокую неприметную даму, сидевшую в самом плохо освещенном уголке зала? Нет, она не бросила в мою сторону ни одного взгляда. Да у нее, по правде говоря, и возможности не было прохлаждаться. Какая же она все-таки молодец, моя доченька!
Ни минуты отдыха, беготня от столика к столику, бесконечные просьбы и претензии, и все это с улыбкой. Тут пережаренное мясо, там слишком холодное блюдо, туда графин воды, сюда соль, перец, сделать музыку потише, закрыть окно… Гортензия всем улыбалась и успокаивала нетерпеливых, которым казалось, что их слишком медленно обслуживают. Сколько же внутренней силы требовалось, чтобы не только сохранять выдержку перед гостями, но и освобождать все эти столики от грязной посуды, на которых клиенты оставляли ей крошечные чаевые… Я наблюдала, как Гортензия весело переговаривалась с другими официантками, может быть, они судачили о каких-нибудь особенно неприятных клиентах. Судя по их заговорщическим взглядам, когда они потихоньку обменивались шуточками, как девчонки-подростки, они наверняка обсуждали свои «мелкие пакости», которые только что совершили на кухне, до того как направиться к столику с любезным выражением лица и подносом в руках. Я вполне допускала, например, что они могли плюнуть в тарелку, прежде чем обслужить какого-нибудь зарвавшегося хама!
Но и другое я приметила: как Гортензия старалась почаще наполнять бокалы, чтобы раскрутить гостей на очередную бутылку. О, да она большая умница, моя дочка!
Итак, сидя в своем уголке, где меня обслуживала некая Юлия, кстати, очень хорошенькая, только слишком уж накрашенная, на мой вкус, я наслаждалась ужином, не упуская ни единого жеста, ни одного движения моей Гортензии.
Я не могла ею налюбоваться, так она была прелестна – тоненькая, изящная. Мне приходилось без конца урезонивать себя, припоминая наставления Изабеллы, чтобы не поддаться непреодолимому желанию встать и открыть ей, кто я на самом деле. И кто – она.
Шел уже первый час ночи, я прекрасно продержалась весь вечер, однако теперь нужно было уходить. Но я уже знала, что завтра приду снова и сяду за столик вверенной ей части зала. Завтра я просто с ней заговорю, пока не открывая правды.
– Через какое-то время ты с ней познакомишься, – советовала Изабелла. – И помни, ни в коем случае нельзя ускорять события. Главное, чтобы она была там и ты не потеряла ее снова.
Но когда прелестная Юлия с утомленным личиком положила передо мной счет, который я попросила (пятьдесят два евро, однако!), я увидела, что Гортензия надела плащ и, обращаясь к сослуживцам, произнесла:
– Всем пока! До завтра!
Одна из официанток ответила ей, приветливо помахав рукой, а босс за стойкой, важный, как папа римский, заметил:
– Спокойной ночи, Эмманюэль. И не забудь, смена начинается в восемнадцать тридцать, минута в минуту.
– Идет, минута в минуту! – весело подхватила дочь.
Она окинула взглядом зал. Готова поклясться, что на мгновение он задержался на мне, и она улыбнулась. Мне не удалось улыбнуться в ответ, Гортензия уже убегала – было видно, что она куда-то спешит. Может быть, мне только показалось, и все же я хотела в это верить.
Через окно, усеянное дождевыми каплями, я видела, как она подбежала к скутеру. Водитель в шлеме с матовым козырьком, не вставая, протянул ей второй шлем. Перед тем как Гортензия его надела, он фамильярно потрепал ее по щеке. Оставив на столике три купюры по двадцать евро, я поспешила на улицу: в это время она как раз усаживалась сзади мужчины, обхватив его за талию. Скутер тронулся и помчался к концу улицы. У меня всегда было хорошее зрение, да и улица была ярко освещена, и, несмотря на мелкий дождик, бивший меня по лицу, я прищурилась, чтобы разглядеть номерной знак. Но увидела лишь две буквы – «В» и «Т», а цифр не различила. Мне только и удалось, что проводить глазами мою дочь, исчезнувшую в ночи с незнакомцем. Что она, интересно, сейчас говорила тому, кто, не посмотрев на непогоду, приехал за ней на работу? И куда они направлялись?
И мне снова показалось, что Гортензия посмотрела в мою сторону, прежде чем скутер свернул налево.
Эмманюэль, так ее назвал босс.
Мерзавец Сильвен даже не оставил ей настоящего имени.
Когда я вернулась домой, мысль эта, вместо того чтобы выбить меня из колеи, лишь подстегнула сочувствие к моему несчастному ребенку.
Мне не терпелось пересказать все события этого вечера Изабелле. Даже если пришлось бы ее разбудить.
То-то же она удивится, когда узнает, что этот негодяй дал моей Гортензии имя собственной матери.
12 София
Эмманюэль Дюфайе вызвали в полицию через двое суток после похищения. Она пришла одна. Так я узнала, что его мать была вдовой. Поль, его отец, умер от рака четырьмя годами раньше. В то время, когда мы жили вместе, отец Сильвена был уже серьезно болен, однако я ничего не знала и даже не была с ним знакома.
А мне тогда очень хотелось познакомиться с его родителями, но Сильвен говорил, что почти не поддерживает с ними отношений. На самом деле он был единственным сыном в семье – братьев у него не было, но зато имелась сестра, и жили его родители вовсе не в захолустной лотарингской деревушке, а в Жиф-сюр-Иветт[13], в Эсоне. Он уверял меня, что, несмотря ни на что, он с родственниками отлично ладит и однажды мы с ним обязательно у них побываем. Мать якобы была социальным работником, а отец – врачом. «Славные старики, – говорил он, – жаль, что мы так редко видимся». В самом начале нашей связи я задавала ему много вопросов, ведь со своими родителями я его познакомила почти сразу, и мне казалось естественным проявлять интерес к его родне. Ответы Сильвена всегда были односложны: разумеется, совсем скоро он все организует, родители будут счастливы со мной познакомиться и тому подобное. Вот только момент подходящий никак не наступал: слишком уж далеко, ему сейчас некогда, они только что отправились в путешествие… Предлоги, чтобы отложить визит, следовали один за другим, и со временем я перестала об этом думать.
Порой я спрашивала себя, а так ли уж я этого хотела? В конечном счете его семья меня мало интересовала. Для меня был важен только он. Что Сильвен оказался лжецом, манипулирующим людьми, паразитом, живущим за чужой счет, мошенником – я ничего этого не видела.
Прояви я чуть больше любопытства, его вранье быстро бы вскрылось, и тогда, возможно, ничего бы этого не произошло.
Стоявшая передо мной женщина с непроницаемым лицом была высокой и стройной. Элегантной, как и ее сын, ухоженной. Увяла она уже позже, много лет спустя. Худа она была до болезненности, а длинные черные волосы, забранные в хвост, придавали ее облику строгую законченность. При виде его матери я поразилась ее сходству с Сильвеном, и в сознании мгновенно вспыхнуло: перед тобой – враг.
Помню ее первые слова, произнесенные почти с презрением:
– Ах, бедное мое дитя…
– Помогите, умоляю вас! – Я и правда умоляла.
Там, в коридоре комиссариата, до того как полицейский увел ее на допрос, я подошла, чтобы ее обнять. И она обхватила меня руками – слишком слабо, слишком неубедительно, словно уже успела войти в роль «несчастной матери, неспособной повлиять на события». Затем она отошла назад, держа меня за кончики пальцев, и, пока я бормотала «помогите мне, помогите!», продолжая рыдать, не сделала ни единого жеста, чтобы выразить сочувствие.
Наоборот, вперив в меня колдовские глаза, она проговорила таким сухим тоном, что внутри у меня все похолодело:
– Мне ничего не известно. Я даже не подозревала о вашем существовании, сын о вас никогда не рассказывал.
Чистой воды ложь, вот что это было, однако она продолжила, и слова ее прозвучали обвинительной речью:
– Как же так получилось, что вы до сих пор не удосужились меня навестить?
Взбешенная ее агрессивностью, я выпалила первое, что пришло мне в голову:
– Сильвен говорил, что у него нет никого из близких, что все вы погибли в автокатастрофе, и он воспитывался в приюте, где-то под Мецем[14].
Все это было, конечно, сказано очень по-детски, даже глупо, но ее нападки меня сильно обидели, и теперь я с удовольствием наблюдала, как моя ложь угодила в цель. Ее это точно задело, и я порадовалась своей мелочной победе. Но я снова совершила ошибку и очень скоро в этом убедилась. Вместо того чтобы сделать ее союзницей, я заполучила врага, да еще какого!
При первом взгляде на нее в коридоре участка, напряженную, угрюмую, я уже понимала, что ей нельзя доверять. Интуиция редко обманывает. Мне бы стоило действовать похитрее.
Конечно, у меня ни в чем нет уверенности, поскольку эта тварь уже умерла и похоронена, но я думаю, она знала, где находились Сильвен и Гортензия. И что она неустанно поддерживала сына все эти годы.
Умерла Эмманюэль Дюфайе от рака, как и муж. Так ей и надо, стерве, подумала я, когда узнала эту новость.
На похороны, однако, я приехала – это случилось четырнадцать лет тому назад – в Жиф-сюр- Иветт, отдаленное парижское предместье, где жила его семья и вырос Сильвен. Лотарингия оказалась чистой выдумкой. Отец его всю жизнь проработал в аэропорту Орли, а единственным занятием матери было воспитание этого ублюдка и его младшей сестры, которая потом обосновалась в Бельгии. Такой же отталкивающей, как и ее мать. Яблоко от яблони…
Во время погребения я старалась держаться в отдалении, лелея безумную надежду, что Сильвен явится отдать ей последний сыновний долг. Накануне перед сном, обдумывая в деталях свой план, я на самом деле в это верила. Я представляла его стоящим в первом ряду на церемонии, а рядом с ним – Гортензию. Мысленно я видела и себя, как я выбегаю вперед из немногочисленной группы собравшихся, громким голосом заявляю о похищении и увожу свою дочь. Засыпая, я представляла личико Гортензии-подростка. К тому времени я еще не опустила рук окончательно.
Я терпеливо дождалась, пока кладбище опустеет. Может, он тайком придет сюда после церемонии? На холоде мне пришлось провести несколько часов, а когда уже поздним вечером я поняла, что пора уходить, я подошла к могиле и стала яростно топтать ее ногами, обратив в пыль букеты, положенные у изголовья. Потом я присела и справила малую нужду прямо над ее телом. Вот до чего я дошла. Тем же вечером дома я откупорила бутылку шампанского и отпраздновала этот день. Представьте, мне нисколько не стыдно признаваться в этом и сейчас.
Пока она была жива, я не оставляла в покое «стерву Дюфайе», иначе я ее не называла. До самого конца эта ограниченная и непробиваемая дура не изменила поведения и продолжала упорствовать, что ничего не знает. Я регулярно атаковала ее дом в Жиф-сюр-Иветт, и она неизменно повторяла, что ей неизвестно местонахождение сына, что она обратится в полицию, просила наконец оставить ее в покое. Она называла меня истеричкой, говорила, что я всего этого заслуживала, и где бы ни был ее сын, чего бы он мне ни сделал, ясно, что действовал он во благо дочери.
Приходила я к ней именно потому, что была уверена в ее лжи. Разве может мать годами не иметь новостей от сына? Мне было ясно, что она его прикрывала, и я продолжала свои вторжения. Сколько дней и ночей я провела, спрятавшись за изгородью и следя за всеми, кто входил в ее дом и выходил оттуда, сколько раз портила им семейные праздники, когда неожиданно врывалась на День матери или Рождество! Я все еще надеялась увидеть там Гортензию и отобрать ее у них. И ни у кого из этой семейки я не вызывала ни малейшего сочувствия. Они гнали меня, будто я была воровкой, и самой непримиримой оказалась «стерва Дюфайе». Однажды она и ее дочь вцепились мне в волосы, чтобы выкинуть меня на улицу.
Часто она бросала мне упреки, что это я отобрала у нее сына и вынудила Сильвена скрываться, став изгоем. Разве я была жертвой? Нет, самой настоящей преступницей. Да как она смела говорить такое о несчастной матери, всего лишь надеявшейся вернуть похищенное дитя!
Так продолжалось годами, пока ее не подстерегла смерть. Видя Эмманюэль от праздника к празднику, то на День матери, то на Рождество, я не могла не заметить, как стремительно она худела, теряла силы, разрушаемая своими грехами. Перед самым концом худоба ее была просто чудовищной, и убралась она за несколько недель.
В то время меня снова окрылила надежда. Может, перед уходом в порыве человечности она захочет исповедаться? Как я была наивна…
Помню, как я проникла в ее палату в больнице. Как только я ее не умоляла: «скажите, перед тем как покинуть этот мир», «сделайте доброе дело», «не ради меня, ради дочери, она так во мне нуждается» – я плакала, просила, становилась на колени перед ее кроватью. Сложив руки, я молилась за ее спасение и прощение. Она не должна предстать пред Господом с такой страшной тайной! Но Эмманюэль ни глаз не открыла, ни рта, хотя я и была уверена, что она все слышала. Прежде чем выйти из палаты, я плюнула ей в лицо и прокляла ее.
Она осталась замурованной в своем молчании до самого конца.
Комиссар Бернар Дюпуи с заметным южным акцентом вкратце изложил мне показания «стервы Дюфайе».
– По ее словам, ей ничего не известно. Она несколько месяцев не видела сына. Последняя встреча с ним состоялась седьмого сентября прошлого года. Он пришел, чтобы забрать одежду, и оставался там меньше часа. Разумеется, мы постараемся это проверить и допросим его сестру.
Тогда, помню, меня сразу удивило, что они не вызвали их обеих одновременно и не сравнили показания. Я просто кипела от злости.
– Не отпускайте эту женщину, молю вас, комиссар. Уверена, он непременно свяжется с ней или с сестрой; не исключено и то, что он скрывается у одной либо у другой. Вы ведь поняли, что она стремится прикрыть сына?
– Да нет, я скорее увидел перед собой мать, находящуюся в полной растерянности, – с сомнением в голосе произнес он, прежде чем продолжить: – Не отчаивайтесь, мадам Делаланд. Поверьте, мы обязательно их найдем. Не так-то легко бесследно исчезнуть с маленьким ребенком. Скоро вы будете об этом вспоминать как о страшном сне, доверьтесь мне.
И он спросил, словно ждал подтверждения:
– Вы ведь мне доверяете?
– А у меня есть выбор? – вздохнула я.
– Прекрасно. Мы бросим все силы на это дело. Ему от нас не уйти.
Похищение ребенка всегда считалось одним из самых тяжких уголовных преступлений, и полиция отнеслась к делу со всей серьезностью. Я сразу же подчеркнула тот факт, что Сильвен был лишь биологическим отцом моей девочки. Он никогда официально не признавал ее дочерью, а следовательно, в глазах правосудия и в соответствии с законом не считался ее отцом и не имел на нее никаких прав.
– Ему будет предъявлено обвинение в похищении и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего лица, – уточнил комиссар Дюпуи, – а это тянет лет на пятнадцать в лучшем случае.
Дюпуи был доброжелателен, убедителен, и я сразу прониклась к нему симпатией. Конечно же, дочка очень скоро ко мне вернется, а этот негодяй сгниет в тюрьме.
Полицейские открыто не обсуждали этого при мне, но они опасались другого окончания истории. Вероятность того, что Сильвен похитил мою дочь, чтобы ее убить, а после наложить на себя руки, была слишком велика. В подобных случаях дело чаще всего шло по такому сценарию. Такая версия была в их глазах наиболее правдоподобной, и они немедленно принялись ее разрабатывать.
Во время допроса матери Сильвена они имели целью выяснить, что это была за личность, способная из чувства мести похитить у женщины ее трехлетнего ребенка, который, в сущности, был ему абсолютно чужим… «Стерва Дюфайе», разумеется, говорила о нем как о человеке искреннем и доброжелательном, немного экстравагантном, но уж никак не страдающем психическим расстройством. «Самоубийство? Еще чего! Мой сын любит жизнь, он настоящий эпикуреец», – заверяла она. Для нее версия самоубийства была совершенно неприемлема.
Она описала его как неотразимого соблазнителя, которого все обожали: друзья и особенно женский пол – победам которого не было счета. Все это было зафиксировано в протоколе: «Девицы возле него крутились, когда он еще был подростком. Вряд ли он хранил кому-то верность, но он был настолько красив и очарователен, что ему всё прощали». В протоколе оказались фразы, которые меня по-настоящему ранили, когда я их прочла. «Я едва поверила своим глазам, когда увидела женщину, с которой он вступил в связь. Она настолько заурядна, даже не симпатична, совсем не похожа на его прежних подружек. Не понимаю, что он в ней нашел». Она даже выразила сомнение: «В конце концов, кто сказал, что ребенок от него?» К счастью, комиссар Дюпуи мгновенно поставил ее на место: «Все члены семьи госпожи Делаланд свидетельствуют об этой связи, так же, как и соседи. Они проживали вместе год с лишним, так что существует большая вероятность, что именно ваш сын похитил маленькую Гортензию, мадам Дюфайе. Это тяжкое преступление, и ему грозит самое суровое наказание, равно как и тем, кто окажется его соучастником».
По словам комиссара Дюпуи, на мать Дюфайе его доводы произвели впечатление, и ее уверенность заметно поубавилась. Тогда она рассказала ему о первом побеге Сильвена в пятнадцатилетнем возрасте, о заброшенной учебе и все более частых отлучках. А уж после того как ему исполнилось восемнадцать, он стал пропадать на несколько месяцев. «Мы подолгу его не видели, потом он появлялся как ни в чем не бывало. Сильвен проводил с нами несколько дней, такой же милый и прелестный, как всегда, и никто не смел его упрекать. Мы были так счастливы, что видим его снова, и только спрашивали себя, долго ли он с нами пробудет. Сильвен придумывал разные истории, говорил, что уезжал по делам за границу, то в Англию, то в Америку, в Бразилию или Россию. Говорил, что все у него складывалось в жизни как нельзя лучше. Ни я, ни отец не настаивали, чтобы узнать правду, поскольку знали: начни мы его упрекать или ловить на лжи, он рассердится и пригрозит, что покинет нас навсегда. Для нас было очень тяжело оставаться в неведении, и, когда он снова появлялся, мы не задавали лишних вопросов. И потом, какие причины были не верить ему, он был так мил с нами, зачем ему нас обманывать? Когда мой муж умер четыре года назад, он взял на себя все заботы о похоронах и очень меня поддержал, помог мне пережить этот страшный период. Без его поддержки я не знаю, что бы со мной было теперь. Сын мой, может, и большой оригинал, но сердце у него доброе. Я не могу допустить, что он совершил подобное. Не лжет ли эта женщина, чтобы ему навредить? Правда ли то, что она узнала его в похитителе?»
С самого начала и на протяжении долгих лет она выгораживала своего сына, пыталась настроить следователей против меня, переложить на меня ответственность за эту трагедию: «Если бы эта женщина не вцепилась так в свою дочь, считая ее исключительно своей собственностью, не повела бы себя так жестоко по отношению к сыну, с ней ничего бы этого не произошло. Конечно, он мог быть ветреным, порой непредсказуемым, мы часто покрывались холодным потом от его поступков, мы все, даже его сестра! Не всегда мы его понимали. Никто не совершенен. Но допустить, что он похитил ребенка из мести, нет, это уж слишком! Если кто и виновен в этом происшествии, то мать Гортензии. Может быть, для него это осталось единственной возможностью видеть дочь и реализовать свое право отцовства». Дюфайе категорически отрицала злой умысел сына: «Сын мой не то чудовище, которое она описывает. Вот посмотрите, пройдет несколько дней, он вернет ей малышку, и все, надеюсь, как-нибудь уладится».
С момента похищения прошло уже двое суток, а следствие не сдвинулось с мертвой точки. Полиция не нашла ни единой зацепки. Все вокзалы, аэропорты, таможни и пограничные службы были оповещены, но оттуда не поступило ни одного сигнала.
Даже если я и продолжала уверять комиссара Дюпуи, что доверяю ему, благодарила за то, что он делал все, что было в его силах, то теперь я уже понимала – дело затянется. Сильвен тщательно подготовился, прежде чем нанести мне удар, и обеспечил себе надежное укрытие. Я чувствовала себя полностью разбитой, абсолютно беспомощной. Этот человек оказался настоящим извращенцем, решившим через ребенка причинить мне наибольшее зло.
Однако для следователей, как я вскоре убедилась, это преступление было просто заурядной семейной историей, которая приняла нежелательный оборот. Уже много позже я догадалась, что они остановились на версии «убийства-самоубийства» и не занимались поисками мужчины, сбежавшего вместе с ребенком. Они готовились со дня на день обнаружить их трупы.
Я никогда в это не верила. Моя дочь, находившаяся неизвестно где, оставалась живой. Все эти долгие годы она была жива, я ощущала это кожей.
И вот доказательство – я нашла ее!
В тот день, когда комиссар ознакомил нас с показаниями «стервы Дюфайе», мы с родителями вернулись ко мне домой, где нас уже ждал мой брат Пьер. Близкие как могли старались подбодрить меня, внушить мне надежду, да и себе тоже. В минуту тяжелых испытаний наша семья выступила единым фронтом.
Мама уверяла меня, что полицейские обязательно найдут мужчину с ребенком, раз следствие ведется с таким размахом, что это вопрос нескольких дней. Но родителям плохо удавалось скрывать свою тревогу, хотя передо мной они старались не говорить о возможности непоправимого. Они без конца говорили о своей ненависти к этому ничтожеству, как называл его отец. «Утрата» внучки (мама произнесла именно это слово!) их подкосила, но мне следовало оставаться сильной, настаивал отец.
Вместе мы поужинали, тщетно пытаясь говорить о чем-нибудь другом. Телефон, стоявший на столике в прихожей, притягивал наши взгляды как магнит, словно обещая нам освобождение от этой муки. Безжалостный, он молчал.
Мне хотелось остаться одной. Чужое присутствие было сейчас для меня невыносимо, оно раздражало, давило на меня. Но я не могла никого огорчать, не смела увеличивать их страдания, и поэтому я не отказала маме, когда она предложила остаться у меня на ночь.
Как только ужин закончился, раздался телефонный звонок. Мы с мамой одновременно вскочили, потом она спохватилась и села на место. Ведь подойти к телефону должна была я. С мамой мы обменялись быстрым взглядом, на мгновение обретя надежду, что сейчас узнаем новость, которую с нетерпением ждали.
Я шла медленно из страха, что бешено колотившееся сердце выскочит из груди. Родители и Пьер затаили дыхание. Я взяла трубку.
– Это вы, комиссар Дюпуи?
Оказалось, что на Монмартре только что обнаружили «Панду» Сильвена с открытыми окнами и ключами на переднем сиденье. Полицейские ее как раз осматривали.
Сдерживаться я уже не могла.
– И это все? – меня буквально взорвало. – Вам понадобились два дня, чтобы найти машину! Сколько же дней потребуется, чтобы найти мою дочь?
С яростью я бросила трубку, его объяснения меня не интересовали.
Отец немедленно перезвонил. Я слышала, как он шептал в трубку:
– Прошу прощения за дочь, комиссар. Ее можно понять, нервы не выдерживают.
Сначала они о чем-то спорили, потом комиссар наконец нас проинформировал, что полицейские не нашли никаких отпечатков и автомобиль был брошен по крайней мере несколько дней назад.
– Короче, – сказал он напоследок, – эта находка не вывела нас на след. – Но ему не хотелось закончить разговор на этой грустной ноте: – Мы не успокоимся и продолжим поиски, пока не схватим это дерьмо.
Я вышла, оставив родителей и брата в своей квартире. Только оказавшись на улице, я поняла, что у меня на ногах домашние тапочки. Впрочем, какая разница? У меня было единственное желание – никого не видеть.
И я долго бродила в одиночестве по старинным улочкам Монмартра.
Показания Бернара Дюпуи,
комиссара полиции в отставке,
25 июня 2015 г. Выписка из протокола.
[…] Гипотеза о похищении с целью убийства, за которым последует самоубийство Сильвена, легла в основу версии, на которой сосредоточилось все внимание моих коллег, а в особенности следственного судьи Габорьо – женщины жесткой и суровой. Дело еще больше осложнилось тем, что не прошло и года, как ее сменил судья Дозье, молодой и неопытный. Чтобы вы могли получить представление о том, в каких условиях приходилось работать, скажу, что за то время, пока я вел расследование, мне пришлось иметь дело с тремя следственными судьями, а всего их сменилось пятеро. Все это очень затрудняло ведение и без того чрезвычайно сложного дела. Каждый раз приходилось начинать заново, поднимать досье, просматривать показания и документы, которым было уже много лет. […]
Я был одним из немногих, кто не поддерживал эту версию. Она никак не вязалась с описаниями личности Дюфайе, которые дали его мать, сестра и даже сама София Делаланд. Нам удалось отыскать двух женщин, которые имели с ним связь в девяностых годах, и множество случайных подружек. Все они заявили, что ни разу с тех пор его не видели. Расследование этого дела считалось первоочередным, и мы проводили его очень тщательно, не пренебрегая самыми незначительными фактами. Свидетельницы в один голос характеризовали его как человека, уверенного в себе, жизнелюбивого и не походившего на потенциального самоубийцу. Их показания были проанализированы тремя экспертами-психиатрами в целях составления психологического портрета Сильвена Дюфайе. Как это часто бывает, их выводы оказались различными, между тем один из экспертов считал его социопатом, или, как теперь чаще говорят, нарциссическим извращенцем. […] Итак, все мои коллеги полагали, что его уже давно не было в живых. Однако мадам Делаланд продолжала утверждать, что этот извращенец хотел ей отомстить и заставить ее страдать за то, что она не позволила ему видеться с дочерью. В то время, должен сказать, я полностью разделял ее точку зрения. […]
Следственный судья Габорьо упорно отстаивала версию убийства-самоубийства. А я, признаюсь, просто кипел от бешенства. Сколько времени и сил было растрачено впустую! Не хочу ни в кого бросать камень, но все же скажу: будь все иначе, мы не столкнулись бы сегодня с тем, с чем столкнулись. Но историю, как говорится, не перепишешь. […]
С самого начала расследование пошло по неверному пути, были допущены ошибки, и я согласен нести за это свою долю ответственности. Должен признать: без этих ошибок трагедии можно было избежать. […]
Показания г-жи Стефании Дюфайе, 54 года,
29 июня 2015 г. Выписка из протокола.
[…] Я служу в Европарламенте в Брюсселе, являясь чиновником высшего звена. В браке состою более двадцати пяти лет и имею четверых детей. […] Брат Сильвен старше меня на три года. С самого детства в нас было очень мало общего. Сильвен всегда был оригиналом, своенравным и взбалмошным, а я – полной его противоположностью: спокойной и уравновешенной. Мне нравилось учиться, я окончила магистратуру по конституционному праву, а он так и не прошел бакалавриат. Еще подростком Сильвен стал регулярно отлучаться из дома, к огромному огорчению наших родителей. В восемнадцать лет он испарился на целых два года, и мы ничего о нем не знали. Потом в один прекрасный мартовский день, я помню как сейчас, он вдруг появился, словно ничего не произошло. Родители были настолько счастливы, что почти его не упрекали, слегка пожурив за то, что он не давал о себе знать. Таков уж он, мой братец, ему кто угодно простит все на свете. Сильвен с малых лет был неотразимым обольстителем: стоило ему улыбнуться, и сердиться на него было невозможно. […]. Он исчезал, возвращался, снова сбегал, объясняя свои отлучки делами, которые вынуждали его скитаться по миру. Мы знали о его жизни ровно столько, сколько он нам рассказывал. И родители притворялись, что верят ему. Мне кажется, они попросту боялись, что однажды он исчезнет навсегда, ведь его возвращение всегда приносило им огромное облегчение.
После известного события полиция довольно долго подозревала, что Сильвен скрывается у меня. Не раз меня допрашивали, грозили, что привлекут за соучастие в похищении и «предоставление убежища преступнику». Но я лишь повторяла то, что говорила уже сотни раз: я не прятала у себя Сильвена, больше ни разу его не видела, и мне ничего о нем не было известно.
Я действительно не знаю, где он. А знай я это, сказала бы без колебаний. Мне и самой хотелось знать правду. Я и сейчас не могу спокойно спать, до сих пор вижу кошмары. […]
До этой невероятной истории с похищением я ничего не знала о существовании этой женщины, Софии Делаланд, и ее дочери Гортензии. Брат никогда не рассказывал нам ни о ней, ни о ребенке. Все это здорово портило нам жизнь, особенно моей матери. София являлась на каждое семейное торжество, обвиняла нас, требовала сказать ей, где прячется Сильвен, отказывалась поверить, что мы не имеем об этом никакого понятия. Сначала мы пытались ее успокаивать, потом стали выпроваживать силой и не один раз вызывали полицию, чтобы от нее избавиться. На многие годы София Делаланд превратила нашу жизнь в ад, и мы в конце концов перестали собираться вместе на праздники, будь то Рождество или что-то еще, лишь бы только избежать ее прихода. […]
ВОПРОС: И вы совсем не испытывали к ней сочувствия?
ОТВЕТ: Сначала – да, безусловно, тем более что родители хотя и были удивлены, но очень обрадовались появлению внучки. У меня тоже есть дети, я часто представляла себя на ее месте, понимала ее состояние, могла ли я не сочувствовать? Помню, что родители пытались предложить ей помощь. Но она все отвергала, называя их лжецами. Мало-помалу ей удалось настроить нас против себя, мы стали ее бояться и даже ненавидеть… Мы почти желали, чтобы Сильвен никогда не попался.
ВОПРОС: Считаете ли вы, что ваш брат был способен похитить дочь и скрыться с ней?
ОТВЕТ: Могу ответить только то, что говорила в прошлый раз. Да, я над этим много размышляла. Сильвен был настолько непредсказуем, что от него можно было ожидать чего угодно. И тем не менее я убеждена, что если он на самом деле и совершил этот проступок, то только в интересах Гортензии, чтобы вырвать ее из когтей своей невменяемой подруги. И еще: мой брат ни за что на свете не причинил бы вред ребенку, а уж тем более собственной дочери.
13 София
Изабелла Маршан и по сей день осталась моей единственной подругой. Мне даже хочется сказать – единственным человеком, привязывающим меня к жизни.
С коллегами по министерству с некоторых пор я почти не поддерживала отношений. Наши контакты свелись к минимуму, и они лишь терпели меня, ставшую человеком-тенью, которая все еще работала в своем укромном уголке, всегда безгласная, печальная, с непроницаемым лицом, прилежно исполнявшая в своем состоянии зомби нехитрые доверенные ей задания. Они только и слышали от нее, что «добрый день» по утрам и «добрый вечер», когда она ровно в восемнадцать тридцать покидала свое рабочее место на антресоли. Я знала, это читалось в глазах моих коллег, что они меня жалели. Возможно, они спрашивали себя, как я могла с этим жить, приходить в министерство, и так день за днем. Вспоминаю, как однажды утром, когда я направлялась к столу с кофемашиной, до меня долетели обрывки разговора. Трое-четверо сотрудников одобрительно кивали в ответ на высказывание милейшего господина Аттиа из отдела коллежей, который с большой убежденностью произнес: «На месте этой бедолаги я бы давно пустил себе пулю в лоб».
Бедолагой, разумеется, была я, стоило посмотреть на их лица, когда я прошла мимо.
Кажется, я внушала им страх.
И я их понимала. Они не знали, куда им деваться, когда я находилась рядом, ведь я была живым, чудовищным и ежедневным доказательством того, что несчастье может обрушиться на любого в любой момент. Поэтому я всегда обедала на рабочем месте (обычно это был простой салат, принесенный в контейнере Tupperware), чтобы не портить им аппетит в столовой.
По той же причине я обосновалась в маленькой комнате на антресоли, которую всегда закрывала на ключ. В ней было промозгло, особенно зимой, но я ни на что не жаловалась. Зато там я сидела одна, мне нестерпимо было находиться в опенспейсе, как теперь говорят, залитом светом. Большую часть времени я обходилась без верхнего освещения, что безумно раздражало мою начальницу Марго Трапенар, когда она в редких случаях спускалась со своего третьего этажа в мой «кабинет». Рука ее сразу же тянулась к выключателю, свет ей был необходим. «Так вы окончательно испортите себе глаза!» – замечала она в оправдание. Обычно она приходила, чтобы положить стопку папок на краешек моего стола со стикерами, где давалась инструкция, как и что сделать: похоже, она не хотела задерживаться и предпочитала не вести со мной диалога. Марго возвещала: «Там все написано», тыча пальцем в наклейку, и сматывала удочки – чем скорее, тем лучше.
Ее, представьте, я тоже понимала.
С тех пор как меня перевели в отдел Марго, прошло восемь лет, надо же было меня куда-нибудь пристроить. Я не идиотка и отлично соображала, что для людей вроде нее я могла быть лишь тяжким грузом и ничем другим. Если подсчитать, сколько времени мы общались за эти восемь лет, окажется, что не больше нескольких часов. После выполнения ее заданий в конце дня или недели – все зависело от их количества – я поднималась к Марго и возвращала ей папки. Обычно я говорила: «Вроде бы готово». Она отвечала: «Спасибо, мадам Делаланд». И на этом всё. Иногда бывало и такое, что мне было нечем заняться до конца рабочего дня, но я неизменно уходила с работы ровно в восемнадцать тридцать.
Давно миновало то время, когда министерские коллеги проявляли ко мне действенное и живое сочувствие.
Многие годы моя битва за дочь была их кровным делом, мои надежды и разочарования – их надеждами и разочарованиями. Они организовали нечто вроде комитета поддержки, который в первое время собирался несколько раз в месяц.
Коллеги помогли мне заручиться поддержкой наших сменявших друг друга министров, готовили обращения к национальной и столичной прессе, рассылая повсюду фотографии Гортензии.
Только благодаря коллегам мне удалось добиться возобновления поисков, когда следователи, зашедшие в тупик, уже готовы были спустить дело на тормозах или того хуже – закрыть. Вот почему назначение нового следственного судьи, сменившего госпожу Габорьо, стало для нас настоящим праздником. Произошло это через год после похищения Гортензии и бесконечных и бесплодных обещаний следователей найти мою дочь.
Долгое время мне удавалось поддерживать свой имидж неутомимого и мужественного борца. Именно такое впечатление я производила на сослуживцев: несмотря на разочарования и провалы, я никогда не опускала рук.
В самые тяжелые моменты, когда я уже готова была сдаться и говорила себе: «Кончено, никогда я ее не верну, все потеряно!», происходило какое-нибудь обнадеживающее событие, появлялась новая зацепка или возникало предчувствие, заставлявшее меня поверить снова.
Тогда опять возрождался к жизни наш комитет, с еще большим рвением. «Как в сороковые!»[15] – любила повторять Анна, возглавлявшая отдел программ для начальных школ. Та самая Анна, у которой я побывала на новоселье в Кламаре, впервые встретив там Сильвена. С Жерменом они давно развелись и продали дом своей мечты с садиком на двести один квадратный метр…
Должна признать, что все они выбивались из сил, чтобы мне помочь. Анна заставила меня нанять частного детектива из агентства «Мужель и Кº», «верного человека», по ее словам, настоящего профессионала. С его помощью ей удалось прищучить мужа с любовницей, и она как следует «попортила ему кровь». Я вверила свою судьбу этому человеку через три с половиной года после похищения Гортензии. Славный комиссар Дюпуи был переведен в провинцию, а его преемник не проявлял особой заинтересованности в деле. Так что я пожертвовала этому Мужелю все имевшиеся у меня тогда сбережения, а заодно и все мои надежды.
Мужель оказался крепким краснолицым мужчиной, красившим волосы то в рыжий, то в черный как вороново крыло, то в соломенно-желтый цвет. Как это могло меня не насторожить? Он заявил без обиняков: «Мужель и Кº» не знает поражений. Дайте мне три месяца, и я найду вашу девчонку, где бы она ни находилась, а этого мерзавца упеку в тюрьму!»
Тщательно изучив собранные полицией материалы, однажды вечером он заявился ко мне домой в сопровождении сильно возбужденной Анны.
– София, я принесла шампанское. Давайте же, господин Мужель, поскорее сообщите ей радостную весть!
Краснее обычного, Мужель затребовал бокалы и откупорил бутылку, выстрелив пробкой в открытое окно. Он явно старался продлить удовольствие. Анна ликовала.
– Я нашел их, София! – провозгласил он. – Они на Мартинике.
Он залпом выпил содержимое бокала и перешел к подробностям, причем излагал их с такой уверенностью, что я уже не сомневалась – мы у цели.
Сильвен, оказывается, теперь носил имя Франсуа Отмюль, моя дочь стала Кариной, а жил он с некой Натали. «Местная негритянка», – уточнил Мужель. После похищения Гортензии он несколько дней пробыл в Меце, у приятеля по фамилии Уркад, затем перебрался в Бельгию, в Монс, где оставался еще несколько месяцев. Это полностью подтверждало версию полицейских, которые в то время искали его след за границей, неподалеку от местожительства его сестры. Мужель отправил агента к этому Уркаду, но тот отказался сотрудничать, что, по убеждению «профессионала», было доказательством правильности его предположений. По версии Мужеля, как только Дюфайе понял, что полиция вышла на его след, он сразу же улетел на Малые Антильские острова с фальшивым паспортом, возможно, как раз на имя Отмюля. Ныне он проживал в Ле-Труа-Иле[16], работая кем придется на круизных судах или яхтах туристов – то шкипером, то коком.
Он показал мне довольно размытую фотографию темноволосого мужчины и ребенка. «Мой агент не мог подойти ближе, иначе его бы обнаружили», – извинился он за качество. На мгновение у меня мелькнула мысль, что мужчина, кажется, низковат для Сильвена, а ребенок со стрижкой каре больше походит на мальчика, но я ее тут же отбросила. Итак, когда я признала, что это они, «без малейшего сомнения», Анна снова наполнила бокалы.
– Гениально! За это стоит выпить! Я же говорила, что господин Мужель – ас в своем деле!
Затем Мужель изложил возможные сценарии наших действий. Либо мы передаем данные следователям, и те ставят в известность местную полицию, правда, на это уйдет время и есть значительный риск, что Сильвена предупредят и он смотается раньше, чем мы вздохнем с облегчением (вы ведь знаете, мадам Делаланд, как это бывает, все местные – родственники), либо мы отправляемся прямо туда, берем его с поличным и передаем в руки полиции.
Мужель и Анна склонялись ко второму решению, и им не составило труда убедить меня в своей правоте. Ведь на самом деле – следователи до сих пор не пришли ни к какому результату. Видимо, пробил час, когда стоит взять инициативу в свои руки, и да свершится правосудие!
В ту ночь я не спала, не сводя глаз с лица дочери на фотографии, и думала только о нашей встрече, когда я ее обниму и выплесну всю ненависть в лицо своему палачу.
Сотрудникам я не стала ничего рассказывать, только поделилась новостью с Изабеллой, которой сразу позвонила. Она стала меня предостерегать, история показалась ей подозрительной, а детектив мог действовать исключительно из корыстных побуждений. Короче говоря, у нее возникло дурное предчувствие.
И, как всегда, она оказалась права. Когда мы тремя днями позже прилетели в Ле-Труа-Иле, выяснилось, что Отмюль испарился вместе с женой и ребенком.
Мужель был в ярости. После всего, что им удалось сделать с его агентом на Мартинике, потом все потерять! Он приписал свою неудачу чрезвычайной изворотливости Сильвена.
– Хитер, подлец, ничего не скажешь! Наверняка у него были дружки-информаторы повсюду, в аэропорту, например, а может, и кто-то из продажных полицейских, даже скорее всего. Знаете, София, там, на Островах, все продается и покупается.
Неизвестно почему, Мужель вбил себе в голову, что они скрывались в Венесуэле.
– Они-то считают, что там будут в полной безопасности. Но, поверьте, мадам Делаланд, они не ускользнут – у меня там полно своих людей, жаль, что на это уйдет немного больше времени, чем я рассчитывал, но сейчас важно действовать, и немедленно!
Изабелла умоляла меня положить этому конец.
– Возвращайся в Париж, ты напоролась на мошенника.
Но я осталась глуха к ее призывам. Я снова заплатила Мужелю и попросила его продолжить поиски.
– В Венесуэлу, к черту на рога, хоть весь мир обыщите!
Путешествие, естественно, результатом не увенчалось, и я в конце концов вняла увещаниям Изабеллы и заявила Мужелю, что больше не желаю иметь с ним дело. Столкнувшись с его сопротивлением, я даже обозвала его темной личностью, что ему совсем не понравилось. Анне же я сообщила, когда вернулась в Париж, что Мужель ошибся, приняв за Сильвена неизвестно кого, и теперь я на мели.
– Какая досада, – первое, что она сказала, выслушав меня, а потом добавила, как всегда улыбающаяся и энергичная: – Не отчаивайся! Мы обязательно найдем твою дочь.
Нельзя отрицать, что Анна проявила редкое упорство. Это опять она двумя годами позже предложила задействовать в наших поисках телевидение.
– Эта передача имеет сенсационный успех, они достигают невероятных результатов! – убеждала она меня.
Отлично помню вечер, когда я пришла на телестудию в сопровождении десятка сослуживцев. Разумеется, со мной были Анна – как обычно, в первых рядах, а также Гийом, Жан-Ив, Вероника, Сидони, Жюльен со своей женой Селиной, Лоренс, Моника и Патриция… Вот уже много лет эта верная десятка, образовав вокруг меня кольцо, во всем меня поддерживала.
Изабелла пойти не смогла, в это время как раз проявились первые признаки болезни ее мужа, и у нее было неспокойно на душе, она не хотела оставлять его одного. Честно говоря, Изабелла не очень-то любила моих коллег. Их энтузиазм она находила нездоровым и утверждала, что все они, и Анна в первую очередь, имели корыстный интерес в этой так называемой поддержке. Анна, по ее мнению, использовала мою трагедию, чтобы повысить собственную самооценку. В те редкие моменты, когда она с ними пересекалась, Изабелла почти не скрывала своей неприязни.
– Ты их подстегиваешь, стимулируешь, – говорила она, – им скучно, а твоя история добавляет перца в их существование. В один прекрасный день все это им надоест, и они выкинут тебя, как дырявый носок.
Сколько раз она призывала меня потихоньку отдалиться от этой слаженной группы!
– Напрасно ты на них рассчитываешь. Вспомни эпопею с Мужелем, мало денег он из тебя выкачал? Да, они великие мастера тратить твои сбережения, а во всем остальном…
Боевая десятка заняла свои места среди публики, вверив меня съемочной группе. Это действительно была очень популярная телепередача, позволившая многим людям встретиться с родственниками, связь с которыми была утрачена много лет назад. Возможно, в моих глазах все это выглядело убедительно, раз уж я решилась прийти на телевидение, но верно и другое: в то время я еще готова была пойти на что угодно, только бы найти дочь, не то что встать перед камерой и обратиться к миллионам телезрителей.
– Надо все испробовать, – неожиданно одобрила проект Изабелла. – Как знать, может, твою глупую гусыню Анну на сей раз посетила здравая мысль?
Перед моим уходом мы с ней до последней секунды повторяли то, что я должна была сказать и как должна была себя вести.
– Будь самой собой, – советовала Изабелла. – Отдайся своим чувствам, – говорила она. – Захочешь плакать – плачь. Смотри, не проявляй никакой ненависти к этой скотине, отнявшей у тебя дочь. Расскажи всей Франции о своих страданиях. Твоя трагедия должна никого не оставить равнодушным, и обязательно найдется кто-нибудь, кто выведет тебя на след.
Съемочная группа выбивалась из сил, представляя мою историю таким образом, чтобы вышибить слезу у зрителей, и очень скоро я перестала сдерживаться и разрыдалась. Как раз в тот ужасный момент, когда на экране возникло лицо восьмилетней Гортензии – столько ей было в то время лет.
– Перед вами уникальный продукт, – выпятив грудь, объявил телеведущий, – разработанный американцами! Впервые эта ультрасовременная технология используется на французском телевидении, и именно благодаря ей мы смогли реконструировать лицо Гортензии Делаланд! Если кто-нибудь из вас узнал Гортензию, звоните нам как можно скорее! – Несколько раз повторив номер телефона, он добавил торжественным тоном: – Анонимность звонка гарантируется, даю слово. Только, пожалуйста, позвоните. Пора положить конец голгофе несчастной Софии!
И тогда из глаз моих полились слезы. Не от того, что он сказал, и даже не от того, что я увидела искусственно созданное лицо моего ребенка, уже почти подростка. То, что меня добило окончательно, было внезапное осознание того, сколько неповторимых, прекрасных мгновений жизни с ней было у меня украдено. Скольких мгновений материнского счастья лишил меня Сильвен навсегда. Я не увидела ее поступления в садик – «школу для больших девочек», не увидела, как она научилась читать, плавать, возможно, танцевать. Да, как я могла забыть, конечно же, еще играть на пианино! Гортензия была такой грациозной, талантливой и любознательной. Мне вдруг стало отчетливо ясно, что, даже найди я ее сейчас, я буду для нее чужой. Мне нужен был тот трехлетний ребенок, а не эта девочка, веселая и беззаботная, выросшая вдали от матери и прекрасно без нее обходившаяся все эти годы… В течение нескольких, показавшихся мне вечностью, секунд ведущий выставил на всеобщее обозрение мое горе, отдал его на растерзание миллионам оценивающих глаз, и мне казалось, что камеры вот-вот обрушатся на меня всей своей тяжестью.
– Сильвен, если вы сейчас нас смотрите, пожалуйста, не останьтесь равнодушным к слезам Софии! – счел нелишним прибавить ведущий.
Я видела, что кое-кто из публики полез за платком, и не только в моей группе поддержки. Этого я уже не могла выдержать. Нарушая все на свете правила, не попрощавшись, я вскочила с места и бросилась за кулисы. Отталкивая людей, которые пытались меня задержать, уклоняясь от дружеских объятий Анны, которая какое-то время меня преследовала, я убежала от всех, подальше от этого проклятого телецентра в Ла-Плен-Сен-Дени[17], и вернулась домой, одна и пешком, неспособная выносить дольше жестокое и абсолютно бесполезное шоу.
Звонки, десятками поступавшие на студию, неизменно заводили в тупик; большинство исходило от фантазеров, ненормальных либо тех, кто, оставшись не у дел, любыми путями стремился к рекламе.
– В итоге идея оказалась не такой уж и хорошей, – вздохнула Изабелла. – Как только речь зашла об Анне, сразу можно было предположить…
С этого дня я стала все больше отдаляться от сослуживцев, погружаясь в одиночество. Все они уже давно ушли из моей жизни. Анна была единственной, кто продолжал работать в министерстве, но мы с ней больше не разговаривали. Однажды, не выдержав ее натиска, я попросила оставить меня в покое.
– Мне не нужна твоя жалость, – сказала я, – и помощь не нужна. Ты принесла мне больше зла, чем пользы. Я не хочу больше слышать твой голос и предпочитаю отныне не иметь с тобой дела.
Не обращая внимания на ее стенания, я дала ей такую жесткую отповедь, что в конце концов она отступила.
С тех пор каждый раз, когда мы встречались, она отводила взгляд.
Но долго еще я не могла отказаться от надежды, не могла отречься. Ходила по местам, указанным в адресованных мне письмах, где говорилось, что такой-то видел «похитителя», «негодяя, отобравшего у вас дорогую крошку». По мнению моих корреспондентов, в большинстве своем анонимных, мне стоило немедленно предупредить полицию. Я так и поступала, и, уж конечно, это ни к чему не приводило. Возможно, это были чьи-то жестокие игры, разборки между соседями или сведение семейных счетов: одна женщина, например, описала в качестве похитителя собственного мужа…
В 2003 году я даже доверилась одному ясновидящему, радиэстезисту – специалисту по биолокации. Помню, как все выходные напролет мы с ним бродили по марсельским улицам. Маятник, задействованный в качестве индикатора, упорно показывал на этот город, едва господин Капель подносил его к карте Франции. Над Марселем маятник принимался плясать как одержимый, явно указывая на квартал Панье, возле старого порта. Повинуясь маятнику, мы исходили весь район, улицу за улицей. Чем больше Капель упорствовал, тем больше я ему верила. Вернулись, как и следовало ожидать, ни с чем. Этот шарлатан облегчил мой кошелек на три тысячи евро.
Мало-помалу, с течением времени, руки у меня окончательно опустились, и в итоге я смирилась: дочь я больше никогда не увижу.
От всех этих лет страданий, от всех тех, кто хотел мне помочь, у меня осталась одна Изабелла. Она – единственная, кто понимал меня по-настоящему и продолжает понимать.
Изабелла не просто верная и преданная подруга, она – мой проводник по жизни, я всегда к ней прислушивалась. Даже не могу представить, во что бы я превратилась без нее.
Вот почему вечером я обязательно расскажу ей об этом невероятном ужине, который прошел в нескольких метрах от моей дочери. Она заслуживает того, чтобы разделить мою радость.
14 София
Меньше чем через год после исчезновения моей дочери Изабелла уехала из Парижа, уволившись из яслей девятого округа. Теперь она живет в провинции, далеко от меня, став настоящей пленницей больного мужа, поэтому мы больше не видимся. Но регулярно перезваниваемся. С течением времени мы все реже и реже говорили о похищении, да и какой в этом был толк?
Когда я решила перевернуть эту страницу жизни и отказалась от поисков, Изабелла сразу поняла, что больше не стоило затрагивать больную тему. Уже за одно это я была ей благодарна.
Я обрубила все связи с теми, кто пытался мне помогать. Пресловутый комитет поддержки давно канул в Лету, тогда он именовался довольно странно: «Никогда не забудем Гортензию». Изабелла считала это название высокопарным и нелепым.
Отныне я держусь на расстоянии от родственников. В былые времена родители и братья из кожи вон лезли, чтобы меня поддержать. Моя битва за дочь была их битвой.
Но теперь эта отстраненность, размежевание по моей инициативе, похоже, всех устраивает. Мама и брат Пьер умерли. Отец – в бретонской деревушке, в доме престарелых, где я ни разу его не навестила. Что толку ворошить прошлое? Его жизнь сошла на нет после пропажи Гортензии и смерти мамы. Два других брата живут далеко от Парижа, как и Изабелла. Раньше мы обязательно собирались всей семьей хотя бы раз в год, обычно на Пасху. Но я уже давно к ним не присоединяюсь. Во время семейных сборищ у меня всегда было впечатление, что я портила им праздник. Прежде всего я была живым напоминанием о Гортензии. Да и легко ли им было видеть, в кого я превратилась с годами – в женщину без возраста, еще более невзрачную, чем прежде. Нет, я только омрачила бы их радость от встречи. Никто бы не затрагивал опасной темы, и недосказанное витало бы между нами зловещим облаком.
На последнем семейном торжестве, в котором я принимала участие, отец не удержался от горестных слов:
– Меня скоро не станет, я так и умру, не узнав, что стало с малышкой, жива ли она…
В тот день я поняла, что все они думали об одном, не осмеливаясь заговорить в моем присутствии: Сильвен не просто исчез вместе с дочерью, он ее убил.
После этого страшного вывода без поддержки Изабеллы я просто бы не выжила.
– Потеряв жену, твой отец стал тенью самого себя, прости ему, – неизменно повторяла она в редкие мгновения, когда мы о нем говорили. – Скоро его страданиям придет конец, и он наверняка попадет в рай, которого достоин!
Она всегда умела находить нужные слова, придававшие мне силы.
Больше я не поддерживала отношений и с судьями, кажется, по моему делу их сменилось пятеро. Недоумки. Может, и грубо сказано, но именно их действия больше всего тормозили следствие.
Разве мое нетерпение не было оправданным? Так же как мои возмущение и гнев, направленные на судей, полицейских, адвокатов и весь мир?.. Как много их было, тех, кто занимался моим делом, а где результат? Не стану перечислять имена, кому надо – поймет.
Сколько времени тратилось в пустой болтовне, затверженных формулировках и безответственных заявлениях… За исключением комиссара Дюпуи, всех их отличали в начале следствия некомпетентность, а позднее – безразличие. Взять хотя бы следственного судью Габорьо, на нее первую было возложено дело, и я была вынуждена терпеть ее почти целый год. Каждый знает, что для подобных преступлений важно сделать верный ход в самом начале, с первых дней расследования. Ее уверенность, которой она не скрывала даже в моем присутствии, что стоило («к несчастью») искать трупы, а не мужчину в бегах, заставила нас потерять драгоценные часы; именно бездействие Габорьо и расслабило следственную группу.
Изабелла пришла в ярость, когда я пересказала ей эту сцену.
– «Трупы»? Да как она смеет говорить при тебе о трупах? Что за дерьмо эта твоя Габорьо!
Через несколько дней после этого случая Габорьо просто вынудила меня подать прошение о ее отстранении, что и произошло после долгих месяцев нашей ежедневной грызни. Сменил ее некий Дозье, молодой и ограниченный карьерист, для которого это было первым серьезным делом. Дозье тупо следовал по пути старшего товарища, доверившись ее опыту и возрасту, а еще больше – обширным связям. Я уверена, она постоянно инструктировала эту марионетку, так что из-за их совместной ошибки следствие топталось на месте годами.
Когда я вновь обрету свою дочь, все они за это ответят.
Я все время поддерживаю пламя своего гнева: никто и ничто не будут забыты.
Нет, я никогда не верила – разве что допуская в качестве одной из версий – ни в смерть Гортензии, ни в смерть обоих, и подруга разделяла мое мнение.
И вот теперь, когда мы получили такое блестящее подтверждение нашей правоты, мне не терпелось поскорее позвонить Изабелле, для чего я даже, представьте, поднялась к себе на лифте!
Войдя, я сначала провела пальцем по личику Гортензии на фотографии, висевшей в рамке на стене с левой стороны. Она висит на прежнем месте, я храню ее вот уже двадцать два года в неизменном виде, с разбитым стеклом, тем самым, что оставило на моей ноге неизгладимые шрамы.
Потом я схватилась за телефон, номер мобильного Изабеллы я знала наизусть. После первого же сигнала она ответила.
– А я ждала твоего звонка, дорогая! – первое, что она произнесла, не дав мне раскрыть рта.
– Не разбудила?
– Ты и правда думаешь, что я могла уснуть? Не глупи, я с нетерпением ждала, когда ты мне позвонишь. Ну, давай выкладывай, я очень надеюсь, что ты не наделала глупостей.
Я постаралась сразу ее успокоить: конечно же, я в точности следовала ее советам, ведь мы вместе все обдумали. Оставалась в укромном уголке и не пыталась ускорить ход событий.
– Хотя мне и было нелегко, сама понимаешь! Гортензия была так близко от меня. Это все походило на…
– Сон… – продолжила она с нежностью.
– Именно, а между тем все было реальным.
Долго сдерживаемые эмоции захлестывали меня, голос срывался.
– Поплачь, дорогая, дай себе волю.
Она слушала мои бессловесные рыдания, пока слезы наконец не иссякли.
– Расскажи мне о ней, – услышала я вновь ее приветливый голос.
И я начала описывать ей вечер в мельчайших деталях. Говорила о дочери – прелестной, изящной, оживленной, с ее чудесной улыбкой. Рассказывала обо всем, что Гортензия делала вплоть до того момента, как она уехала с мужчиной, который ждал ее возле ресторана, и о своей уверенности, что в тот момент она мне улыбнулась.
Я была неиссякаема, мое счастье выплескивалось наружу, и мне показалось, будто Изабелла тоже плакала. За двадцать два года она ни разу не усомнилась в том, что моя дочь найдется, вот почему я так ее любила.
Было уже очень поздно, но я не чувствовала усталости. Я могла бы продолжать разговор часами, однако Изабелла первая предложила закончить.
– Завтра я приеду в Париж как только смогу, и мы вместе пойдем в ресторан. Если бы ты знала, как я хочу поскорее ее увидеть, ты даже не представляешь…
– Что не представляю?
– Как долго я этого ждала…
– А с кем ты оставишь Андре?
– Не думай об этом… Найду кого-нибудь на время за ним присмотреть. Он даже не поймет, что я не рядом, – грустно заметила она. – Знаешь, однажды утром Андре мне сказал: «Добрый день, мадам! Вы были знакомы с моей первой женой?»
Разговор снова ее захватил, и она продолжила со смешком:
– Лишь бы ему давали жрать да задницу подтирали!
– Изабелла, что ты несешь, ведь он – твой муж!
Из-за хохота мы были не в состоянии говорить. Я воскликнула:
– Как же здорово иногда вот так посмеяться, давненько мы…
– Ну и пользуйся моментом, дорогая София, ты это заслужила.
– Спасибо, Изабелла, тысячу раз спасибо.
– Скоро увидимся, милая. И я приглашу тебя в ресторан.
– Приезжай поскорее, Изабелла, ты должна увидеть мою дочь собственными глазами!
– Не беспокойся, такого случая я не упущу…
После беседы с Изабеллой я улеглась на узкой кровати моей девочки, по привычке подтянув колени к груди. И вдруг вопреки ожиданию передо мной возник образ Анны, той самой женщины, которая в свое время прикладывала столько стараний, чтобы вернуть мне радость жизни.
Показания г-жи Анны Андреани, 55 лет,
9 июля 2015 г. Выписка из протокола.
[…] Сколько раз я пыталась наладить отношения с Софией Делаланд, но она неизменно отталкивала протянутую ей руку. Я это связывала с влиянием на нее Изабеллы Маршан, которая многие годы делала все возможное, чтобы отдалить нас друг от друга. Говоря «нас», я имею в виду не только себя, но и других моих коллег в Министерстве национального образования, вместе с которыми я создала комитет поддержки сразу после этого чудовищного случая. Произошедшее с Софией несчастье глубоко взволновало всех, и мы мобилизовались, чтобы принять деятельное участие в ее многолетней борьбе. Без наших совместных усилий и давления на следователей дело было бы уже давно прекращено и забыто, уверяю вас.
Ни разу София не поблагодарила нас, но, разумеется, никто не держал на нее зла. Ответственность за это лежала все на той же Изабелле Маршан, которая, кстати сказать, ничем не заслужила такой безоглядной преданности со стороны Софии. […]
Частный детектив, которого я ей порекомендовала, был настоящим профессионалом, компетентным и опытным, а отнюдь не мошенником, каким его сочла мадам Маршан. Это она подтолкнула Софию к тому, чтобы в один прекрасный день отказаться от дальнейших поисков. Да, мы знали, что София испытывала финансовые трудности, и тогда мы решили скинуться и помочь ей, о чем она упомянула в своих показаниях. Но к этому времени она уже не могла трезво оценивать ситуацию, вдобавок Изабелла Маршан все время подпитывала ее паранойю. Последняя стремилась полностью завладеть ее сознанием, стать единственной близкой подругой Софии, и мало-помалу та разорвала отношения с теми, кто по-настоящему желал ей добра, так что наша группа вскоре распалась. Из-за всего этого пострадала и моя личная жизнь: я перестала уделять детям достаточно внимания, и мое супружество разбилось вдребезги. […]
По неизвестной мне тогда причине София находилась под сильным воздействием госпожи Маршан, а комитет играл лишь роль подпорки, но и это еще не всё. Как-то раз в министерстве я вошла в кабинет Софии и сделала попытку ее предостеречь от дурного влияния подруги. Едва выслушав меня и даже не удостоив взглядом, она попросила меня убраться вон. С тех пор, когда мы с ней встречались на работе, она шарахалась от меня как от зачумленной.
Теперь мне многое стало понятно. […] По моему мнению, мадам Маршан несет большую часть ответственности за все, что произошло потом, а также за последние события. […]
15 София
Заказ я сделала заранее, попросив на девятнадцать тридцать зарезервировать столик возле окна, выходившего на улицу, – ту часть зала вчера вечером обслуживала Гортензия.
Принявший заказ был не очень-то любезен. По голосу я сразу узнала мужчину, который вчера отчитывал Гортензию за опоздание. На месте дочери я послала бы его куда подальше, с этой его спесью зарвавшегося хозяйчика. Стоило ли из-за ничтожной получасовой задержки выговаривать девушке, трудившейся до изнеможения! Нет, он мне не понравился с самого начала. Надо обязательно сказать Гортензии, что никогда не стоит церемониться с подобными типами.
Высокомерным тоном он заявил, что в таких заведениях, как «Моя любовь», не приветствуется заказ столика на единственного человека. Да еще имел наглость уточнить: «Точно, что кроме вас никого не будет?» Как будто это преступление – ужинать в одиночестве! Но мне было все равно. Я всегда была одинока. И этот хам не мог испортить мне вечер, который я должна была провести вместе с дочерью.
Как и накануне, в Париже шел дождь.
Спрятавшись за зонтиком, я увидела, как она вышла из станции метро «Анвер» в том же плащике, застегнутом доверху, и с непокрытой головой, хотя не переставал сыпать противный мелкий дождик. Быстрым шагом она прошла по Наваринской улице, нырнув в ресторан ровнехонько в шесть тридцать вечера.
Идти по следам Гортензии было для меня таким удовольствием, что на следующий день я решила снова пойти ее встречать.
Утром после завтрака я позвонила Изабелле, и та дала мне очередной совет:
– Будь очень осторожной. Ты должна завоевать дочь, а не привести ее в ярость.
Ах, как я боялась опять ее потерять!
– Никуда она от нас не денется, не опасайся, – уверяла Изабелла, и это «от нас» звучало как гарантия, обещание, что она будет мне опорой во всем.
Изабелла сообщила, что приедет в Париж послезавтра, и посоветовала мне пока не светиться возле ресторана, чтобы не обращать на себя внимание. Но ей хватило ума не настаивать. Пропустить целый день было свыше моих сил – мне необходимо было видеть дочь, чувствовать ее рядом, снова и снова твердить себе: смотри, как она прекрасна, твоя девочка! И мечтать о той минуте, когда мы воссоединимся.
Рабочий день в министерстве показался мне бесконечным. В том состоянии, в каком я пребывала, я кое-как пробежала глазами порученные мне задания, неспособная думать ни о чем другом, кроме Гортензии.
Столик в нужном месте я получила.
Гортензия приняла заказ, по своему обыкновению, приветливо улыбаясь. Несколько бесценных минут она была в полном моем распоряжении, принадлежала своей матери. Записав, она повторила хорошо поставленным голосом, почти торжественным тоном, что странно контрастировало с ее нежным и тонким лицом:
– Свежий редис с маслом, стейк-филе, прожаренный, с картофелем фри и лимонный пирог, правильно?
Я почти физически ощутила ее мысль: ничего себе аппетит у этой миниатюрной дамочки!
– Да, все верно, мадемуазель.
– Желаете что-нибудь выпить?
– Воды, пожалуйста. – На мгновение я заколебалась: – Как вас зовут?
– Эмманюэль, к вашим услугам, мадам!
Поставив закуску, она неожиданно поинтересовалась:
– Вам нравится?
Застигнутая врасплох, я пролепетала:
– Что нравится? Редис?
– Да нет же, мое имя! – с очаровательным смешком произнесла она.
– Какое имя?
– Эмманюэль.
– Ну, разумеется, простите, вылетело из головы… Прекрасное имя…
И тут меня охватила бешеная ненависть к этому проклятому имени, которым ее наградил Сильвен. Я сгорала от желания немедленно сообщить дочери, что на самом деле ее звали Гортензией. Но я попыталась овладеть собой, сосредоточившись на содержимом тарелки. Сердце неистово стучало. Я не съела, а смела свой редис до последнего кусочка.
– Не правда ли, здесь замечательный редис? – спросила она, унося пустую тарелку. – Подавать горячее?
– Да, спасибо.
Не рискуя пожирать ее глазами, пока она суетилась, бегала от столика к столику, я пожирала свой стейк с гарниром, пока не осталось ни крошки. То же было и с десертом: съела все подчистую, до последней ложки, до подступившей к горлу тошноты.
Один голос во мне нашептывал поскорее все ей выложить, немедленно, не дожидаясь другого случая. Но второй – голос Изабеллы, голос разума, призывал к терпению.
Представляю, какое неприятное впечатление я произвела на мою дочку: женщина без возраста, ничтожная и унылая, такая нелепая среди шумной молодежи. Я увидела, как возле стойки она перекинулась несколькими словами с Юлией, хорошенькой официанткой, которая обслуживала меня накануне. Мне показалось, что они смотрели в мою сторону, и меня охватило беспокойство, уж не меня ли они обсуждали? Не издевались ли над моим жалким видом? Не сводя с них взгляда, я заметила, что Гортензия недоуменно пожала плечами.
Не в силах это выдержать, я поднялась с места и направилась к выходу, оставив на столике три купюры по двадцать евро и не дожидаясь сдачи. Я не просто уходила, а убегала: мне больше нельзя было там оставаться ни секунды.
Парочка лет тридцати бросилась вперед, чтобы завладеть моим столиком, еще не убранным. Им повезло.
В то мгновение, когда я открывала дверь, за спиной вдруг раздался голос:
– Мадам!
Я обернулась. Гортензия протягивала мне зонтик:
– Вы чуть не забыли!
Схватив его, я быстро пробормотала:
– Спасибо, Гортензия!
Она улыбнулась.
– Нет, я Эмманюэль!
У меня не было сил на извинения. Вот он, подходящий момент, чтобы сказать правду. Но слишком рано, да и духу мне не хватало. Гортензия взяла меня за руку, так что я не могла не обернуться. Собрала все силы, чтобы скрыть свое смятение, так что перед ее глазами был лишь мой профиль. Она прошептала:
– Большое спасибо за чаевые.
– Не за что, – удалось мне выговорить.
Она все еще держала меня за руку, но потом отпустила.
– Надеюсь увидеть вас снова, – произнесла она.
Клянусь, останься я еще на пару секунд, и она бы меня поцеловала. Я снова пробормотала:
– Обещаю, я обязательно приду.
– Супер! Тогда – до скорого!
– До скорого!
– И не забудьте, спросите Эмманюэль!
Ну почему я не смогла продлить эти блаженные секунды? Почему вместо этого поспешила скрыться, ничего не сказав и не обернувшись?
На улице я даже не раскрыла зонтик. Усилившийся дождь был мне нипочем. Напротив, я наслаждалась, подставляя ему лицо.
Когда я дошла до угла улицы, откуда меня уже нельзя было увидеть из ресторана, у меня так сильно закружилась голова, что пришлось опереться на припаркованный автомобиль. Там, между двумя приступами рыданий, меня вырвало в сточную канаву. Согнувшись в три погибели, задыхаясь, я смотрела, как потоки воды уносили то, что я проглотила недавно с такой поспешностью.
Вернувшись домой, даже не сняв плаща, я схватила трубку телефона, чтобы позвонить Изабелле. В мельчайших деталях я рассказала ей, как прошел вечер, как я боролась с собой, чтобы не поддаться искушению все ей рассказать, как любезна была со мной Гортензия, предложившая встретиться снова.
– Ты оказалась на высоте, дорогая, – поздравила меня подруга.
– Ну а теперь что мне делать?
Совет ее напоминал приказ:
– Теперь ты должна с ней подружиться. Постарайся лучше ее узнать. Стань ее приятельницей, вызови на откровенность…
– Так ты приедешь послезавтра?
– Обязательно! Я уже нашла сиделку для Андре, так что не беспокойся. Давай попробуй заснуть.
– Изабелла!
– Слушаю.
– Огромное спасибо за все, что ты делаешь, без тебя…
– Что без меня? Поблагодаришь в тот день, когда обнимешь свою дочь.
Последние слова Изабеллы я повторяла про себя, когда открывала дверь в комнату Гортензии. Я осторожно прилегла на краешек кровати, чтобы все оставалось в порядке. Как же хорошо и спокойно я себя чувствовала.
Уснула я, произнося имя дочери, эхом звучавшее в моей голове. Гортензия, Гортензия, Гортензия… Какое замечательное имя я для нее выбрала! Как у той куклы, Гортензии, с которой я никогда не расставалась, когда была ребенком.
Показания мадемуазель Юлии Мале, 22 года,
29 июня 2015 г. Выписка из протокола.
[…] Я работаю официанткой в ресторане «Моя любовь» уже в течение двух лет, чтобы иметь возможность оплачивать учебу. Работа трудная, а шеф – довольно строгий. […] Эмманюэль поступила к нам полгода назад, в сезон праздников, когда потребовалась дополнительная помощь, так как наша бригада не справлялась. Сначала мы не поняли, почему Максим (наш босс) взял ее, пусть и на испытательный срок, ведь никакого опыта у нее в ресторанном деле не было. Подумали, что кто-то ее толкает, ведь она не первая и не последняя… И потом, Эмманюэль красива, а для такого заведения, как наше, это очень важно. Но пока мы все пребывали в уверенности, что испытательным сроком все и закончится, оказалось, что она очень быстро всему научилась и прекрасно адаптировалась. […]
Мы с ней сразу поладили. Девушкой она оказалась своеобразной, но прямой и очень естественной. Эмманюэль немного старше меня, и мы не стали близкими подругами, встречаясь только на работе. Но все ее полюбили, хотя она и не стремилась ни с кем завязать приятельских отношений. Она держала дистанцию и не говорила лишнего. Я знала о ней только то, что живет она возле площади Республики. Например, мы ничего не знали о мужчине, который на скутере забирал ее после работы. Он никогда не появлялся в ресторане, оставался снаружи и всегда был в шлеме. Мы думали, что это ее парень, но каково же было наше удивление, когда оказалось, что это ее отец. […] Согласитесь, что это немного странно.
Не менее удивительно было и то, что она успела побывать во многих странах. От нее ни о чем подобном я ни разу не слышала. […]
Но самым поразительным в ее истории были отношения с этой немолодой дамой. Пожилая дама впервые появилась в ресторане, по-моему, в марте и с тех пор приходила почти ежедневно. Эта женщина совсем не походила на остальных завсегдатаев, всегда заказывала столик в той стороне, которую обслуживала Эмманюэль, и всегда была одна. Ни у кого не вызывало сомнений, что она являлась к нам только ради Эммы. Как-то, помню, я спросила у Эммы, знакома ли она с этой дамой? Та ответила, что не знакома, никогда не видела ее прежде, но что она очень мила с ней. Мы посмеялись, сказали, что, должно быть, Эмма ей приглянулась, наверняка она старая лесбиянка… А надо сказать, та просто не сводила с Эммы глаз. В другой раз я поговорила с Эммой уже серьезнее, что меня настораживает пристальное внимание к ней этой женщины, что она даже внушает мне страх, и посоветовала ей быть настороже. Но, похоже, она никак на это не отреагировала.
После второго разговора мы больше к этому не возвращались. Честно сказать, все это казалось необычным, но, в конце концов, это было личным делом Эммы. […] Но я до сих пор не могу прийти в себя от того, что я недавно узнала. Невероятная, неслыханная история, и я очень-очень ей сочувствую. […]
16 София
Проснулась я внезапно, как от толчка. С недоумением посмотрела на детский будильник с Винни- Пухом, стоявший слева на ночном бледно-розовом столике. Родители подарили его внучке по случаю ее второго Рождества, и с тех пор он отлично работал. Заводила я его каждый день, без исключения.
Через десять минут наступит полночь, значит, я проспала целый час.
К счастью, я не раздевалась.
Я быстро встала, направилась к выходу, подхватила рукой плащ. Он промок до нитки, но я его надела. Взяла зонтик – он защитит меня от порывов ветра, с силой бьющего в окна. Но главное, он поможет мне спрятаться.
Бегом спустилась по лестнице. Под плащом на мне серые вельветовые брюки и белая хлопковая блузка. Влажный холод снаружи мгновенно пробрал меня до костей. Но времени возвращаться за свитером не было. И я даже не рискнула раскрыть зонтик, настолько свирепым оказался ветер. Делать нечего, я пошла в чем была.
Быстрыми шагами я пересекла улицу Мучеников и свернула на Наваринскую.
Подойдя к ресторану, я услышала звук вхолостую работавшего мотора – сегодня было столько машин, что скутер стоял во втором ряду, фары еще горели. Мужчина, поджидавший мою дочь, на этот раз слез с машины, не проявляя, однако, нетерпения. Дождь и ветер были ему, похоже, нипочем, он стоял, опустив руку на руль, и не пытался укрыться от непогоды, хотя и был защищен только шлемом.
Медленно двигаясь вдоль тротуара по противоположной стороне улицы, я стала за ним наблюдать. На мужчине была свободная черная куртка из непромокаемой ткани, и с места, где я находилась, он в ней казался особенно мощным (тем более такой мелкой особе, как я).
Спутник дочери был высок ростом, но скорее худощав, чем плотен, хотя под курткой угадывался сильный и мускулистый торс. Возраст его я определить не смогла. Лет тридцать, по-видимому.
На улице было полно людей, и мужчина, надеюсь, меня не заметил.
Не останавливаясь, я дошла до места, где он стоял, и на этот раз успела как следует разглядеть регистрационный номерной знак скутера. 584 ЕВТ 92. Чтобы не забыть, я принялась его твердить про себя: 584 ЕВТ 92. 584 ЕВТ 92… Потом, спрятавшись под козырек дома, на всякий случай записала номер у себя на ладони.
Насколько я помню, у Изабеллы сохранились кое-какие знакомства (как она любила говорить) в полиции. Теперь они могли нам пригодиться, как это уже не раз бывало в прошлом. При необходимости Изабелла звонила своим знакомым, консультировалась с ними, и мне порой этого хватало, чтобы успокоиться.
Конечно, обычно дело касалось всякой мелочовки, уточнения той или иной процедуры, все в таком роде… Но я никому не позволила бы сказать что-нибудь плохое об Изабелле. Например, Анна себе в этом не отказывала. Без постоянной поддержки моей подруги я бы не выкарабкалась ни за что на свете, вот в чем истина. Изабелла оставалась со мной в самые тяжелые моменты, а одному богу ведомо, сколько их у меня было. Верная, часто даже более воодушевленная, чем я сама, если появлялась надежда, Изабелла с ее душевной щедростью и оптимизмом помогала мне выстоять. Какой у нее был во всем этом интерес? Я часто задавала себе этот вопрос. Мое счастье должно было стать и ее счастьем, если бы мне удалось найти дочь. Она имела законное право на часть этого счастья, она его заслужила ничуть не меньше, чем я.
Все эти бесконечные годы Изабелла с такой самоотверженностью делила со мной страдания и разочарования, что я перед ней теперь в неоплатном долгу.
Теперь, когда на руках у меня был номерной знак (нужно расспросить Гортензию об этом молодом человеке, как знать, может, они женаты… о моем зяте!), мне следовало поскорее уйти. Гортензия могла выйти с минуты на минуту. Нельзя допустить, чтобы она меня застала в таком виде да еще в столь поздний час. То-то же она удивится, решив, что я за ней шпионю. Это станет провалом, который сведет на нет нашу близость, возникшую этим вечером, и которую, наоборот, следует упрочить всеми силами.
Несмотря на решимость уйти, я отчего-то медлила. Неужели он все-таки заметил меня – маленькую жалкую старушку? Представляю, что подумала бы Изабелла, увидев меня в таком виде. Я стала тихонько себе приказывать: «Ну-ка давай, вперед, ты напоминаешь старую сову, тебе всего пятьдесят один, а выглядишь ты лет на шестьдесят пять!» Но годы испытаний тяжелым грузом легли мне на плечи, согнули мою спину, состарили.
Сзади послышался стук шагов, и я, потеряв бдительность, обернулась. К счастью, меня заслонял припаркованный у противоположного тротуара фургон. Когда Гортензия подошла к своему приятелю, тот уже был в седле, и вчерашняя сцена в точности повторилась. Не подняв матового козырька, он протянул второй шлем моей дочери, а другой рукой провел по ее щеке. Чисто дружеский жест, быстрый, небрежный. Едва Гортензия успела сесть, как он тронулся с места.
Я стояла неподвижно, мою неприметную фигурку полностью закрывал собой фургон. Отчего же мной вновь овладело чувство, что Гортензия обернулась и посмотрела в мою сторону, едва скутер скрылся за углом? Словно она искала меня глазами в темноте и подавала знак: «Я тебя видела».
Пытаясь рассуждать здраво, я говорила себе: это самообман, ничего такого быть не могло, приди в себя, будь реалистом. Я посмотрела на ладонь: от дождя запись почти стерлась. Остались только одна цифра и две буквы. Я закрыла глаза, сконцентрировав внимание и призвав на помощь память.
584 ЕВТ 92.
17 София
Мне так и не удалось произнести «Эмманюэль». Она настаивала, требовала, чтобы я называла ее по имени. Это превратилось у нас во что-то вроде игры, и я этим воспользовалась, чтобы уйти от имени, не желавшего выходить из моего рта.
Снова я переступила порог ресторана «Моя любовь» спустя полторы недели.
– Дочь работает в ресторане «Моя любовь», а мать живет на улице Мучеников – вот оно, твое краткое жизнеописание, – сказала мне как-то вечером Изабелла.
Она так и не выбралась в столицу, несмотря на все свое нетерпение. Никого приличного, кто присмотрел бы за мужем, она так и не нашла. Несколько работников, которых к ней направила служба социальной защиты, до нее не добрались – все они уволились из-за нищенской зарплаты. Андре становился агрессивнее день ото дня и, когда она делала попытку кому-нибудь его препоручить, закатывал страшные скандалы, безобразно ругался и доходил до того, что буквально мог наложить в штаны, жаловалась она.
– Иногда он меня настолько выводит из себя, что я закрываю его на ключ в комнате и сматываюсь, чтобы немного подышать воздухом. Думаю, он даже не осознает толком, что делает, – добавила она с виноватым смешком.
Невозможно было пристроить Андре и в лечебное учреждение хотя бы на несколько дней.
– Тогда надо помещать его туда с концами, на что я пока не могу решиться, ведь когда-то я была с ним очень счастлива. Как я могу его бросить сейчас, когда он страдает этой чертовой болезнью?
Я принималась ее утешать и пересказывала ей во всех подробностях наши встречи с Гортензией.
– Прости, что не могу тебе помочь, – сетовала Изабелла, – мне так бы хотелось быть рядом…
В ответ я старалась ее подбодрить:
– Что ты, даже говорить с тобой – для меня огромное счастье!
Изабелла извинялась и за то, что не смогла установить имя владельца скутера. За это время знакомства с полицейскими в О-де-Сен[18] она подрастеряла.
– Но я пока не всем позвонила, попробую связаться еще кое с кем… – обещала она.
С каждым днем между тем я становилась все ближе к дочери, не раскрывая моей тайны. У меня было такое чувство, что она постепенно привязывалась к странной даме, каждый вечер являвшейся ужинать в ресторан ровно в половине восьмого. Когда в девять часов я уходила, Гортензия провожала меня до двери, целовала в щеку и неизменно произносила, делая упор на имени:
– Эмманюэль желает вам спокойной ночи!
Игру мы не оставляли ни на минуту. Когда она приносила мне то или иное блюдо, и я ее благодарила, она шутливо замечала:
– Говорите: «Спасибо, Эмманюэль», дорогая София!
Ибо с некоторых пор я перестала быть «мадам Софией», как я обычно представляюсь, когда делаю заказ, – теперь я стала просто «Софией», и это подтверждение нашей близости приводило меня в восторг.
Мало-помалу я старалась соединить в одно целое крошечные обрывки ее простенькой жизни без всяких происшествий, как она говорила.
Оказалось, что Гортензия снимала квартиру-студию на улице Оберкампф (восемьсот евро в месяц, не считая налога!), что у нее был диплом по англоязычной литературе, полученный в Сорбонне, но что преподавать она не собиралась.
– Официанткой я куда больше зарабатываю, да и нет у меня тяги к учительству, – призналась она мне.
В отеле-ресторане «Моя любовь» она работала уже полгода, но у нее имелись кое-какие связи, и порой она подрабатывала в «Косте».
– «Кост» – просто супер! Вот где настоящий заработок!
Поскольку я и понятия не имела об отелях «Кост», ей пришлось дать разъяснение.
– Чаевые там королевские, особенно не скупятся русские и арабы. Одна моя приятельница работает в одном из их отелей-ресторанов на улице Монтеня, так вот – она загребает в месяц четыре тысячи евро, и притом чистыми!
Во всяком случае, я с удовлетворением убеждалась, что моя дочка, не в пример мне, твердо стоит на земле.
Кино Гортензия просто обожала, особенно шедевры мировой классики.
– А я уже целую вечность не была в кинотеатре, – пришлось мне сказать. Не могла же я сообщить, что в последний раз была там с ее гнусным отцом.
– О, как-нибудь мы вместе сходим в Синематеку[19], – пообещала она. – Вы придете в восторг!
Предложение дочери заставило меня задрожать от счастья, и, кажется, она это заметила, на губах ее заиграла обворожительная улыбка.
Гортензия много читала, особенно на английском, потому что была фанатом американской литературы. Изредка выбиралась куда-нибудь с друзьями, но ночных клубов терпеть не могла (моя малышка любила тишину, она и в детстве была такой!).
Если она и знала английский как родной, то благодаря тому, что в детстве много путешествовала за границей вместе с отцом. В день, когда она сделала это признание, я получила жестокий удар. Слова дочери меня настолько потрясли, что я тут же смолкла и упустила шанс узнать больше. Ведь потом я могла спросить Гортензию о матери! Но она продолжала, не обращая внимания на мое смятение, говорить о своей страсти к театру.
– Больше всего на свете я хотела бы стать актрисой. Но теперь слишком поздно! Может, когда-нибудь, в другой жизни…
И я услышала свой глухой голос:
– Никогда не поздно воплотить в жизнь свою мечту.
В этот момент я говорила о себе. Подумаешь, не стала актрисой, ну и что? Не хотелось бы мне, чтобы она вращалась в этой нездоровой среде, где тебя готовы сожрать живьем.
– Вы – славная, София.
Я вся сжалась, и тут мне в голову закралась опасная мысль: «Ты еще посмотришь на эту «славную Софию», когда она предстанет перед твоим отцом, мерзавцем, отнявшим у меня все! Я заставлю его расплатиться по полной, не сомневайся, доченька!»
Наверное, лицо у меня вытянулось, и она нахмурила брови:
– Вы – очень славная, я уверена. Сразу видно.
– Ну, раз ты говоришь…
Но признание Гортензии, что она до сих пор одинока, повергло меня в уныние.
– Да нет, никого. Скоро уже два года, как я одна. – И она рассмеялась, весело, как всегда: – Единственный мужчина в моей жизни – отец!
Замерев от ужаса, я чуть было не спросила: а кто же тот мужчина, что приезжает за тобой по вечерам? Но я промолчала, опасаясь задать этот вопрос: не хватало только, чтобы она догадалась о моей слежке.
Изабелла, которой я в тот же вечер все рассказала, пришла к тому же выводу:
– А что, если это действительно он?
О себе я постаралась много не говорить: живу одна, работаю в Министерстве национального образования… да и что еще могла я рассказать?
У нас будет время побеседовать о моей жизни, после того как она узнает правду. Когда Гортензия поймет, каким чудовищем оказался ее отец, которого она так почитала.
С той минуты я возненавидела его еще больше.
Он заплатит, клянусь, за все, что с нами сделал.
Гортензия все время упрямилась: ну почему я не хочу называть ее по имени? Неужели оно мне настолько не нравится? Видя, с какой серьезностью дочь к этому относится, я ответила, чуть не плача, что оно навевает мне печальные воспоминания. И, чтобы не допустить расспросов, заметила:
– Это очень давняя история… – Мой голос задрожал, прежде чем я смогла продолжить: – Очень давняя история… Эмманюэль…
Ведь мне так хотелось ей нравиться, так хотелось доставить удовольствие моей девочке, что это желание перекрывало всё.
– Супер! Видите, оказывается, это совсем не трудно!
В тот день я впервые дрогнула в ее присутствии, впервые отступила. И получила награду – Гортензия обняла меня и нежно поцеловала. У этого поцелуя не было ничего общего с теми мимолетными поцелуйчиками, которыми мы обменивались при нашем прощании у двери. Я вдохнула аромат ее духов, сладостный, как запах моей малышки, ее бархатистой кожи, которого я никогда не забуду.
– Зовите меня Эммой, если вам больше нравится! – милостиво разрешила она сквозь смех. Хотя на самом деле это совсем не важно.
– Правда, в жизни много куда более важных вещей, дорогая Эмма.
– Отлично, вы меняетесь прямо на глазах, милая София!
Но тут ее позвали к другому столику, и наша беседа завершилась.
Однако ни мое признание, ни уговоры не сломили ее упрямства. Ставя передо мной десерт, Гортензия возобновила игру.
– Ну, давайте же, София! Дурные воспоминания и существуют для того, чтобы поскорее их выбросить из памяти. – Она проговорила: – ЭМ-МА-НЮ-ЭЛЛЛЬ, забавно протянув звук «л».
Рассмеявшись, я стала сопротивляться:
– Да ни за что на свете!
– Я вас рано или поздно достану!
– Никогда!
А внутри у меня все кричало: Гортензия!
Но – еще не время.
Завтра, возможно, у меня и хватит сил.
Покидая ресторан, я предложила дочери прийти ко мне на чай завтра, в субботу.
– Сможете часам к пяти? Устроим чаепитие? – спросила я дрогнувшим голосом.
– «Чаепитие»? С детства не слышала такого! – весело отозвалась она. – Согласна, договорились: завтра, в субботу, я приду на чаепитие ровно в пять, даю вам слово Эмманюэль!
18 София
В половине шестого утра я уже была на ногах. С тех пор как я жила одна, я привыкла мало спать, и мне ничего не стоило встать пораньше. Обычно я долго валялась в кровати, набираясь мужества, чтобы начать новый день. Но только не тем утром.
Меня все считали женщиной хозяйственной, аккуратной, любившей порядок во всем, внимательной к мелочам до чрезмерности. И я старалась соответствовать этому образу, да и по сей день, пожалуй, осталась такой. Но тем субботним утром, оглядев свою квартиру, я впервые поняла, до какой степени я все тут запустила за последние годы, даже не отдавая себе отчета. Комнаты выглядели просто ужасно: на мебели лежал толстенный слой пыли, повсюду высились груды посуды, которой я не пользовалась, несвежее постельное белье… Время и одиночество сделали свое дело, и я перестала замечать стопки недочитанных книг, громоздившиеся где попало, въевшуюся повсюду грязь, клочья отклеившихся обоев…
Невозможно было привести сюда дочь. Вот почему я встала ранним утром и попыталась придать моему жилищу божеский вид. Я отчистила раковину в ванной, возможно, она захочет помыть руки. Открыв окна во всю ширь, впустила потоки свежего воздуха, чтобы избавиться от сырости и затхлого запаха, успевшего все пропитать. Полной грудью я вдыхала воздух, напоенный ароматами жизни большого города, испытывая непередаваемые, внезапно вернувшиеся ко мне ощущения.
Детской, комнатой Гортензии, я собиралась заняться в последнюю очередь, оставить ее на десерт.
Нельзя ни в коем случае допустить, чтобы Гортензия, попав туда, очутилась в мавзолее, сохраненном в неприкосновенности с того момента, как у меня похитили ребенка. Хотя именно так оно и было: за все эти годы я ни к чему не прикоснулась. Правда, я часто засыпала в ее узенькой кроватке, до судорог сжимая одну из потрепанных мягких игрушек, чтобы мысленно вернуться в то счастливое время.
Около восьми я широко раскрыла окна маленькой комнаты – не помню, когда я в последний раз это делала. В детскую хлынул поток солнечного света, и только теперь я поняла, что давно следовало бы навести здесь порядок. Увидь Гортензия детскую такой, она пришла бы в ужас.
Перед моими глазами была не просто комната ребенка, которая долго оставалась закрытой, а склеп, куда никто не входил двадцать два года.
До той субботы я этого не осознавала. Напротив, я была убеждена, что не стоило ничего трогать: ни бежевого плюшевого медвежонка, ни кое-как сложенных на комоде Барби. Раньше мне и в голову не приходило, например, выбросить куклу, подаренную моими родителями, у которой дочь выколола глаза. Помню, я тогда ее сильно отругала, но Гортензия с детской непосредственностью дала объяснение своему поступку:
– Пусть она тоже не видит, как дама со второго этажа. Это же несправедливо! Я хочу, чтобы моя кукла была как она.
В то время на втором этаже действительно жила супружеская чета слепцов. И я ей все простила, умиленная и растроганная тем, с каким своеобразием она познает мир; мы даже немного поиграли с ней в слепых.
Отобрав сломанные или уж слишком старые игрушки, я сначала хотела их выбросить, но так и не решилась, а лишь аккуратно расставила их по местам. Барби, выстроившись в безупречную шеренгу, вернулись на полку. Этих она точно вспомнит – дочка питала к куклам-моделям настоящую страсть. Из десятков приколотых к стенам рисунков, часть которых обесцветились от сырости, я оставила самые красивые, а остальные сложила в стопку и убрала в ящик комода. Вот она обрадуется, что так замечательно рисовала, когда была совсем малышкой! Достав любимые книжки Гортензии, которые мы проглатывали вместе, я тщательно разложила их на комоде.
И последний штрих – застелила кроватку красивым ярким одеялом.
Комната дочери вновь обрела жизнь, оставшись неизменной.
Я закрыла окна, задернула зеленые бархатные шторы и заперла дверь на ключ.
Теперь в детской все было готово для моего ребенка.
Покончив с хозяйственными делами, я выпила кофе и начала готовиться к нашей встрече. Нанесла скромный макияж, чтобы скрыть темные круги под глазами, и надела давно забытое в шкафу жемчужно-серое платье, то, в котором я снималась на телестудии. Платье оказалось мятым, и мне пришлось его выгладить. С самого утра я считала часы, даже минуты, оставшиеся до прихода дочери. Время тянулось бесконечно, никогда еще суббота не казалась мне такой долгой, а ведь это был особенный день.
Я вышла на улицу, чтобы купить цветы и маленькие песочные печенья, зажгла ароматические свечи, которые наводнили комнаты душистым запахом. У меня было ощущение, что я начала жизнь сначала, словно генеральная уборка бесследно уничтожила годы, проведенные в аду.
В полдень я позвонила Изабелле. Она взяла с меня обещание, что я буду действовать осторожно.
– Не заговаривай о похищении, пока не выберешь подходящий момент, не торопись. У тебя будет достаточно времени, чтобы раскрыть Гортензии правду. Не упусти свой шанс!
Но в тот субботний день я с трудом ее выслушала. Все мое внимание было приковано к стенным часам – время шло так медленно! Оставалось целых пять часов до ее прихода. И в сотый раз за это бесконечное утро я мысленно представила момент нашей встречи.
Чудесное мгновение ее возвращения домой.
Сначала я ее поцелую, сказав: «Как мило, что вы нашли возможность прийти!», поблагодарю за маленький подарок, который она принесет (цветы, может быть, шоколадку?), и приглашу пройти в гостиную. Увидев меня такой – в нарядном платье, тщательно причесанной, Гортензия обязательно скажет, что я очень элегантна, что у меня чудесная светлая квартира и что мне повезло с районом, где такое множество магазинов. Короче, сначала мы будем просто болтать на общие темы. Потом я угощу ее чаем, предложив на выбор разные сорта песочного печенья, купленного сегодня утром в «Монопри»[20]. Блюдце с печеньем я придвину к ней поближе, и она не сразу даст себя уговорить, но потом обязательно съест одно, а потом и второе. «Мне нужно думать о фигуре», – пошутит она. А я тоже засмеюсь в ответ. Затем я попрошу Гортензию немного рассказать о себе: о ее сослуживцах, начальнице, может, о планах на будущее. На месте сориентируюсь – как далеко я смогу зайти в своих расспросах.
После чая я покажу ей свою квартиру. Начнем мы с кухни, по пути заглянем в ванную, с утра сверкающую чистотой и благоухающую лавандой. Я покажу ей свою спальню – скромную, почти без мебели, не считая нескольких книжных полок. А закончим мы детской. До сих пор я и словечка не скажу ей о нашем прошлом, о моей жизни без нее, о моих бесплодных поисках и надеждах. Но когда она увидит маленькую кроватку с бежевым медвежонком на подушке, своим Жеже, увидит на полке шеренгу Барби, возможно, из глубин ее памяти (я этого жаждала всем сердцем) всплывут давние воспоминания.
Тогда я возьму ее за руку, усажу рядом с собой на кроватку и скажу как можно спокойнее:
– Присядь, я хочу сказать тебе что-то очень важное.
Сдвинув брови, она насторожится, возможно, смутится, удивленная моим намерением. Но я продолжу без всяких колебаний:
– Твое настоящее имя – Гортензия. Ты – моя дочь!
Она немедленно отреагирует:
– Да что вы такое говорите, София?
Но я не отпущу ее руки, не исключено, что пролью несколько слезинок, однако доведу рассказ до конца. Расскажу ей все – от вечера похищения до нашей встречи двумя неделями раньше, о том, сколько усилий я приложила, чтобы ее найти, о моментах надежды, чудовищных разочарований и, наконец, о моем примирении с судьбой после стольких лет безнадежных поисков. Я покажу Гортензии ее детские рисунки, книжки, опишу нашу недолгую, но счастливую жизнь вдвоем.
Но пока – до прихода Гортензии осталось меньше двух часов – я не хотела думать о ее реакции. Не примет ли она меня за свихнувшуюся старуху, не сбежит ли от меня? Нет, это невозможно, такого не могло произойти.
Она непременно мне поверит, мы обнимемся и заплачем вместе.
Но, конечно же, Гортензия задаст кучу вопросов, ведь мое признание представится ей немыслимым, невероятным. Тогда я покажу ей документы, которые сохранила: отчеты полицейских, протоколы, а также фотографии Сильвена и ее собственные – в младенчестве и двухлетнем возрасте.
Пусть и не сразу поверив, она сопоставит факты и обрывки своих воспоминаний, возможно, по-другому взглянет на свою жизнь и поймет, что все услышанное является правдой. Беспощадной и жестокой.
И тогда от избытка нахлынувших чувств она привлечет меня к себе и произнесет единственное слово, которого я ждала столько лет: «Мама!»
В глазах Гортензии отразится сострадание, она разделит со мной боль навсегда потерянных лет, заключит меня в объятия и будет повторять до умопомрачения: «Мама, моя мама»…
А когда эмоции улягутся, она мне расскажет, как проходила ее жизнь без меня, без ее мамы. Она решительно потребует объяснений от «нашего палача» (ибо отныне она так и будет называть Сильвена). И пообещает, что больше никогда со мной не расстанется, ведь всю жизнь она чувствовала, как ей меня недоставало, даже если и не понимала этого: «Мне не хватало тебя, но теперь все прояснилось…»
Весь вечер Гортензия проведет со мной и останется ночевать. Мы будем разговаривать долгие часы, ведь нам еще столько предстоит наверстать, столько друг о друге узнать. Целую жизнь нам с ней придется выстроить заново.
Часы пролетят незаметно, мы досидим до глубокой ночи, и я уложу Гортензию в ее детскую кроватку. И перед тем как закрыть глаза, в то время как я нежно поцелую ее в лоб, дочка прошепчет:
– До завтра, мама…
А я отвечу:
– Спи спокойно, доченька, моя Гортензия…
Убедившись, что она заснула, я вернусь в свою спальню. Счастливая. Безмерно счастливая.
Но потом придет час отмщения.
И мы вместе его уничтожим, нашего палача.
Оказалось, что я заснула, когда ненадолго прилегла на свой древний диван. Встала я рывком, вся в поту. Кухонные часы показывали три минуты шестого. Вот-вот моя дочь будет здесь. Я быстро умылась, надела серое платье, поправила волосы и проверила, хорошо ли расставлены на стеклянном столике в гостиной чашки и блюдце с песочным печеньем, тем самым, что она так любила в детстве.
Минуты, секунды бежали одна за другой. Уже было половина шестого. Я подошла к окну, пытаясь разглядеть ее в толпе, заполнившей тротуары моей улицы, где недавно открылись новые магазины. А что, если эти проклятые три минуты сыграли роковую роль? Может, дочь звонила, а я не услышала, и она ушла? Да нет, вряд ли Гортензия так быстро бы отступилась. Я начала бояться худшего, уж не произошел ли с ней несчастный случай?
Не узнала ли она правду обо мне?
Вот уже и шесть. Я позвонила Изабелле, просто потому, что не могла сейчас оставаться без дела. С приходом дочери у меня было связано столько надежд, нет, она не могла так со мной поступить! Изабелла пыталась меня успокоить, советовала запастись терпением, не отчаиваться. Все было напрасно. Я бросила ей, словно дочь не явилась по ее вине:
– Гортензия никогда ко мне не придет, знаю!
– Наверное, появились неотложные дела.
– Она бы позвонила. Нет, все кончено!
Не в состоянии продолжать разговор, я положила трубку. В тот момент, когда я уже собиралась выйти из дома, раздался звонок. Я бросилась к телефону, но это оказалась всего лишь Изабелла с упреками, что я с ней не попрощалась. Пробормотав извинения, я пообещала ей перезвонить.
– Только не расстраивайся и не делай глупостей, дорогая! – проговорила она.
– Хорошо.
Что я еще могла сказать Изабелле, единственному человеку, который за меня переживал?
Сбегая по лестнице вниз, я пропустила одну ступеньку и подвернула ногу, невольно вскрикнув от боли: должно быть, повредила связки.
Прихрамывая, я кое-как добрела до ресторана «Моя любовь». По крайней мере теперь я выясню, почему она не смогла прийти.
В шесть с четвертью я устроилась за стойкой, чтобы ее дождаться, в почти пустом зале и заказала у ее босса минеральную воду «Перье».
– С лимоном? – спросил он.
– Да, спасибо.
– Сегодня вы что-то рано, – произнес он, поставив передо мной стакан. – На ужин останетесь? У меня есть несколько свободных столиков.
– Возможно.
– Решайте побыстрее, сейчас заказы пойдут один за другим.
Я старалась изо всех сил быть любезной, хотя на самом деле готова была влепить ему пощечину.
– Хорошо, закажите мне столик.
– Отлично! В обычном месте?
– Да.
Прошло еще несколько минут. Стакан был пуст.
– Желаете еще что-нибудь?
Я не ответила, продолжая наблюдать за входной дверью. Одна за другой приходили официантки. Узнав меня, они улыбались и здоровались. Приветливые девушки, а ведь я наверняка казалась им странной: старуха, которая каждый вечер одна-одинешенька ужинает в модном ресторане.
Уже без четверти семь. Не выдержав, я обратилась к ее боссу:
– Гортензия сегодня запаздывает?
– Гортензия? – удивился он.
– Простите, Эмманюэль…
У меня сердце упало, пока я произносила это мерзкое имя.
– Эмманюэль сегодня вечером здесь не работает, она никогда не выходит по выходным. Будет только в понедельник.
В голову мне пришел единственный вопрос: «Почему она соврала и так меня унизила?»
Понедельник… Вряд ли у меня получится дождаться понедельника.
Я вышла. Но оказалось, что я забыла расплатиться, и мне пришлось тут же вернуться, чтобы оставить на стойке десять евро, и я услышала, как ее босс сказал, что, мол, не стоило труда. Да что он о себе возомнил, идиот? Принял меня за нищенку, которая уходит не заплатив?
Мне хотелось одного – скорее позвонить Изабелле; у нее наверняка найдутся слова, которые помогут мне победить отчаяние, облегчат обрушившуюся на меня страшную тяжесть – предательство дочери. Слова Изабеллы помогут вытравить из памяти то, что я себе навыдумывала об этом незабываемом дне.
19 София
Но Изабелле не удалось справиться с моей тревогой. Слова подруги лишь подстегнули мою обиду. И грубым тоном, каким я никогда с ней не говорила, я велела ей перестать нести всякую хрень. Надо же было довести меня до такого! Вообще-то я терпеть не могу бранных словечек – хорошие манеры и вежливость родители прививали нам с раннего детства. И мне до смерти не забыть, как сурово наказывали нас с братьями за промахи.
Именно так я собиралась воспитывать дочь, если бы это чудовище не вырвало ее из моей жизни. Помню, как однажды я наградила Гортензию звучным шлепком, когда она, уронив куклу, произнесла слово «дерьмо». Это был единственный раз, клянусь, когда я подняла на дочь руку. После этого, видя ее слезы, я почувствовала себя настолько виноватой, что всю ночь не сомкнула глаз.
Тем вечером грубость вырывалась у меня сама собой:
– Хватит, прекрати, перестань нести всякую хрень!
Разве я могла выбросить из головы то, что во второй раз теряла свою дочь? Вот что я пыталась до нее донести:
– Ясно как день, что Гортензия рассказала о нашей встрече Сильвену. Кто знает, что этот негодяй придумал, чтобы отговорить ее прийти. Другого быть не может. Появись у нее срочное дело, она извинилась бы, позвонила, ведь она всегда такая любезная и предупредительная.
Молчание Гортензии подтверждало мои худшие опасения: Сильвен не только убедил ее не приходить, но и впредь сделает все возможное, чтобы я никогда ее больше не увидела. Вероятно, он уже подыскивал ей новую работу в другом ресторане, а может, они даже решили уехать из столицы.
– Ты прекрасно знаешь, на что способен Сильвен, он пойдет до конца, чтобы причинить мне как можно больше страданий.
Изабелла, по ее утверждению, отлично все понимала, но я не смогла вынести, когда она начала призывать меня проявить терпение и дождаться понедельника. Упорствуя, подруга настаивала на том, что у Гортензии «должно быть, появилось срочное дело, и она забыла меня предупредить.
– Послушай! Я ровно двадцать два года ждала свою дочь. Двадцать два! И ты хочешь, чтобы я сохраняла спокойствие? Как будто впереди у меня вечность! Нет, ты не можешь понять…
Все это было бесполезно, да и несправедливо по отношению к Изабелле. Я осознавала, что не права, но меня уже понесло:
– А я считала тебя своей подругой…
Слова мои повисли в пустоте. На месте Изабеллы я бы немедленно бросила трубку. Можно ли спорить с человеком, которого гнев сделал глухим? Но Изабелла ответила спокойным голосом:
– Я никогда не оставлю тебя, дорогая.
– Да никому я уже давно не дорога! Гортензия – форменная эгоистка, ей нет до меня дела. Но я-то, я – ее мать, боже ты мой!
Произнеся это, я повесила трубку.
В полном изнеможении дотащилась я до кровати. Ночь прошла в кошмарах, во мне постоянно звучал голос Гортензии, говорившей, что я ей не мать, что ее герой – отец, что я ей не нужна, что я – чужая, раз покинула ее в раннем детстве. Дочь называла меня безумной старухой, твердила, что не любит меня и никогда не полюбит. А когда, уставясь на меня пустыми глазами, она спросила, за что я его убила, я проснулась, обливаясь холодным потом.
В воскресенье мое мучение продолжилось, весь день я вспоминала самые страшные моменты своей жизни, не давая себе ни минуты покоя.
На этот раз я не пошла на прогулку до площади Тертр, как делала это раньше. Оставшись дома, я закрыла все окна, задернула шторы и просто ждала, подгоняя время, неспособная даже шевельнуться. Кажется, я за весь день ничего не съела. Несколько раз звонил телефон. Думая, что это может быть дочь, я срывалась с места. Но каждый раз это оказывалась Изабелла, которая оставляла сообщения на автоответчике, беспокоясь обо мне и умоляя ответить. Но я больше не брала трубку и время от времени стирала ее послания, всегда одни и те же: «София, молю, только не наделай глупостей! Постарайся успокоиться. Все вовсе не так страшно, как ты думаешь…» – и прочая чепуха в том же роде.
Я ничуть не нуждалась в ее поддержке, советах и озабоченности. Мне хотелось оставаться наедине со своим горем. Долгие часы я не сводила глаз с фотографии Гортензии под разбитым стеклом, которую я положила возле себя.
Слез больше не было.
Когда наступил вечер и разразилась гроза, забарабанив каплями в закрытые ставни, мне пришла в голову мысль: а не пора ли покончить со всем этим? Вновь зазвонил телефон и голосом Изабеллы стал меня искушать: «Только не наделай глупостей!»
Никогда, даже в самые худшие времена, я не помышляла о смерти. В периоды тяжелой депрессии всегда неожиданно возгоралась искорка, которая привязывала меня к жизни. И еще: мне не хотелось доставить ему такого удовольствия, покончив с собой. Я брала себя в руки, твердя, что Сильвен ни за что на свете не одержит такой победы.
Но в тот вечер мужество меня оставило. Сильвен торжествовал победу. И мне это было безразлично.
Бросив последний взгляд на комнату Гортензии, я закрыла ее на ключ, потом отправилась в ванную. Антидепрессанты, от которых я с недавних пор отказалась, поджидали меня в шкафчике, под раковиной.
Сколько их, интересно, было у меня в руке? Двадцать, не меньше. Значит, чтобы выпить все, нужно сделать три захода.
Потом я легла на кровать, положила на грудь разбитую рамку и стала ждать блаженного оцепенения.
И не все ли равно, что я внезапно почувствовала сильную боль в желудке – мне было на удивление легко и спокойно. Наконец-то время пришло.
20 София
Первое, что я услышала при пробуждении, был равномерный пульсирующий звук у меня над головой. Подняв глаза, я увидела внушительного размера прибор, отображавший биение моего сердца. Не отрывая глаз от дисплея, я смотрела, как с безупречной ритмичностью вздымаются и опускаются вниз зубцы кривых линий. Я была жива и находилась в больничной палате, погруженной в темноту, – за окном чернела ночь. Мне сразу же захотелось отделаться от прозрачной пластиковой трубки, соединявшей мою правую руку с капельницей.
Но другая, незнакомая рука помешала мне это сделать. У меня не было сил сопротивляться ей, и я погрузилась в сон.
Когда я снова открыла глаза, уже наступил день.
Рядом со мной сидела женщина, чьи темные длинные волосы были стянуты в хвост. Мне она показалась красивой, даже очень красивой. Но выглядела женщина уставшей: лицо ее осунулось, глаза покраснели. Взгляд незнакомки светился добротой и сочувствием. Кто она? Где я нахожусь? Я не могла найти для себя ни одной зацепки в этом нереальном мире.
Темноволосая женщина, очевидно, прочла вопрос в моих глазах.
– Дорогая, это же я, Изабелла!
Голос я узнала сразу, мы по нескольку раз в неделю перезванивались, но с тех пор, как она переселилась в провинцию с больным мужем, она ни разу не приезжала в Париж. Я не видела ее уже много лет. «Она все так же хороша», – мелькнуло у меня в голове. Изабелла с нежностью погладила меня по руке.
И сразу мне все вспомнилось. Мое отчаяние, с трудом проглоченные таблетки, треск выломанной соседями двери, склонившиеся надо мной пожарные[21], озабоченные жильцы, наблюдавшие, как меня на носилках спускали вниз по крутой извилистой лестнице. Давящие ремни, сжимавшие мое тело и не дававшие ему соскользнуть. Вспомнилось, как я пыталась одернуть подол ночной рубашки, чтобы прикрыть мои костлявые ноги, потом вой сирены скорой, от которого у меня чуть не полопались барабанные перепонки. И как я сказала сидевшему передо мной мужчине:
– Дайте мне умереть, я это заслужила.
И его ответ:
– Никто не заслуживает смерти, мадам. Сейчас мы вами займемся.
Я видела его ободряющую улыбку, и потом все – провал, черная дыра. До того момента, как я проснулась в этой неизвестной палате и увидела подругу возле своей кровати.
Позже я узнала, что именно Изабелла спасла мне жизнь.
Мое молчание ее обеспокоило, и она позвонила моему соседу (вдовцу с шестого этажа, с которым я ни разу и словом не обмолвилась), найдя его номер в телефонной книге. Был уже час ночи, и ей не без труда удалось его убедить спуститься ко мне и позвонить в дверь.
– Никто не открыл, – отчитался он Изабелле по телефону, – но из-под двери пробивается свет.
– Вы уверены?
– Уверен.
Когда я узнала, что вдовец с шестого – бывший военный, помню, как мы смеялись с Изабеллой над его надраенными башмаками.
– Наверное, у него и дома полный порядок, отличная партия для тебя, он займется и твоим хозяйством, дорогая! – шутила подруга.
Изабелла попросила его спуститься вновь и попытаться войти.
– Закрыто на ключ, – отрапортовал старый вояка.
Через четверть часа приехавшая команда спасателей взломала дверь.
Ну что можно сказать о преданности и самоотверженности моей подруги, которая в понедельник утром примчалась в Париж, оставив несчастного Андре на соседку?
– Спасибо, спасибо… Если бы не ты, меня бы уже не было на свете.
Я крепко ее обняла, и мы обе заплакали. Изабелла не задала мне ни одного вопроса, да в этом и не было нужды. Поступок мой был продиктован отчаянием, безысходностью. Она мне поверила, когда я поклялась, что больше этого не повторится.
– Честное слово, Изабелла, я сама не поняла, как это случилось, страшная глупость.
И только потом мы заговорили о Гортензии.
У нее была для меня чудесная новость. В понедельник вечером того же дня, как Изабелла приехала в столицу, она отправилась ужинать в отель-ресторан «Моя любовь» с целью, как она сказала, разведать что-нибудь об исчезновении Гортензии. Оказалось, что моя дочь вышла на работу и никуда не делась, чего я опасалась больше всего. Изабелла слегка поддразнила меня, сообщив, что даже перекинулась с ней несколькими словами.
– Да не бойся ты так! Я ничего ей не сказала.
«Только этого не хватало», – подумала я, не выразив своей мысли вслух.
– Она просто восхитительна, София! И на тебя похожа – те же белокурые волосы. Представляю, как ты была счастлива увидеть ее снова…
Я кивнула, старательно делая хорошую мину, но где-то внутри меня упорно сверлил тревожный вопрос: все-таки почему Гортензия не пришла в субботу, когда я так ее ждала? Изабелла пожала плечами:
– Ну что ты вбила себе в голову, милая? Наверное, она просто забыла. Ведь это свидание не было для нее настолько важным, как для тебя. Она еще молодая, ты же знаешь молодежь…
Изабелла посоветовала мне продолжать мои усилия, увидеться с Гортензией и открыть ей правду, больше с этим не затягивая.
– После произошедшего, – сказала она, намекая на мою попытку самоубийства, – ты не должна оставаться один на один со своей тайной. Как только поправишься, пойдешь и поговоришь с ней. Уверена, если поначалу это и станет для Гортензии неожиданностью, она будет счастлива вновь обрести свою мать.
В больнице я оставалась пятеро суток. Когда меня выписали, Изабелла настояла на том, чтобы несколько дней провести со мной и убедиться, что я в порядке. Муж ее находился в надежных руках, а я сейчас в ней особенно нуждалась. «Не будем спорить!» Изабелла отказалась от моей постели, которую я ей предложила, и спала на диване в гостиной. Однажды она спросила, почему дверь в комнату Гортензии была заперта на ключ? Я сухо ответила, что там нечего смотреть, неприятно удивленная ее любопытством. Явно разочарованная, Изабелла, однако, не настаивала и продолжала со рвением заниматься всем на свете: хозяйством, покупками, едой и даже несколько раз за ночь приходила ко мне в комнату проверить, все ли у меня хорошо. Но необходимости в этом не было: я прекрасно себя чувствовала и больше не имела намерения расстаться с жизнью. У меня были совсем другие планы.
Двумя днями позже, ближе к вечеру, мы пошли прогуляться до Наваринской улицы. И вдруг издалека я заметила Гортензию.
– Ну и везет же тебе! – воскликнула Изабелла.
Я не поняла, что она подразумевала под везением, но кивнула головой, соглашаясь.
– А не поужинать ли нам сегодня в ресторане? – предложила она.
Но я отказалась – я не собиралась ни с кем делить мою Гортензию.
В пятницу Изабелла решила вернуться домой.
– Уезжай со спокойной душой, я – в норме, уверяю тебя.
– Будешь звонить мне каждый день, согласна?
Пришлось пообещать. Я бы и не то пообещала, лишь бы она поскорее уехала. И не потому, что Изабелла на меня давила, напротив, она мне помогала всегда с большой деликатностью, была неизменно деятельной и внимательной. Просто я уже давно жила одна и привыкла делать что хочу. Ей действительно лучше было уехать.
После выписки из больницы мое сознание прояснилось, теперь я мыслила более здраво. Попытка самоубийства, бесспорно, была глупостью, но она имела и положительную сторону – открыла мне глаза на многие вещи. Теперь я точно знала, что нужно делать.
Отомстить, сказал бы кто-то. Я же предпочла другую формулировку: свершить акт правосудия.
21 Гортензия
Я заметила Софию, мою одинокую клиентку, когда она входила в ресторан. Она показалась мне усталой и осунувшейся, даже постаревшей. В светлых волосах то тут, то там посверкивали седые пряди. «Наверное, она перестала краситься», – промелькнуло у меня в голове. Если бы как-то вечером она не назвала мне свой возраст, я бы дала ей гораздо больше.
Обрадованная, что снова ее увидела, я улыбнулась. София ответила мне приветственным жестом. Я показала рукой на стол, один из тех, что я обслуживаю.
– Столик ждет вас!
Софию я не видела целых две недели. В понедельник, после выходных, когда я должна была прийти к ней на чаепитие, я сразу заметила ее отсутствие. Ведь я не пришла. Неужели она на меня сильно рассердилась? Тогда меня неожиданно пригласил к себе отец. Поискав листочек, где был записан номер ее телефона, я не нашла его, хотя собиралась обязательно ее предупредить. Ладно, подумала я, извинюсь, как только увижу ее снова. В тот день мы ужинали с подругой отца. Не очень-то я ее жалую, эту подругу: уж слишком напористо лезет она в его жизнь. Часто она кажется мне назойливой. Но отец все делает, чтобы мы сблизились, вот я и стараюсь, чтобы его не огорчать.
В тот понедельник, когда я проходила по улице Мучеников, я вспомнила о нашей несостоявшейся встрече и дала себе слово, что угощу ее аперитивом, как только она появится в ресторане. Весь вечер я держала ее столик свободным сколько могла, но в восемь Максим заставил меня отдать его двум болванам, которые терпеливо ждали места, потягивая у стойки апероль, новый модный коктейль. Знали бы вы, в каком количестве Максим готовит его каждый вечер. Мы, девчонки, между собой называем этот коктейль «Апероль-хер». Бросить потихоньку друг дружке: ««Апероль-хер» для шестерых!» – неизменно поднимает нам настроение.
Со временем я выбросила Софию из головы. Но увидев ее в тот вечер снова, я, как ни странно, испытала чувство огромного облегчения.
Словно испытывая сильную слабость, София медленно направилась к своему столику. Я сделала шаг навстречу, чтобы взять ее под руку, но она меня легонько оттолкнула. «Не нужно», – прошептала она. И я не стала настаивать. Может быть, она нездорова? Подавая меню, я сразу же извинилась, что заставила ее зря хлопотать в субботу. Придумала и объяснение:
– Мне пришлось навестить подругу, которой разбили сердце. Такая досада – я потеряла ваш номер телефона и не смогла предупредить. Ведь вы не обиделись, не так ли?
– Конечно же, нет. А как твоя подруга, ей лучше?
Пришлось опять соврать:
– Да нет, еще не поправилась.
– Скажи ей, что сердечная боль когда-нибудь обязательно проходит.
Мне пришлось сбегать на кухню, а когда я вернулась, София подала мне стикер, где снова был записан ее номер.
– Смотри, больше не теряй!
– Ни за что!
Как бы то ни было, а выглядела София неважно. Я спросила, не заболела ли она? Опять пришлось немного слукавить:
– Я забеспокоилась, что вы не приходите столько времени.
– Не стоило волноваться, детка. Мне нужно было поехать отдохнуть, я навестила родственников в Бретани.
– Обожаю Бретань! А в каком месте вы были?
– Кот д’Армор, это в Пемполе. Знаешь?
– Нет, я бывала только на юге. Зато какое-то время мы жили с отцом на крохотном островке залива Морбиан. Какая же там красота! Но, к сожалению, мы оставались там недолго. Мой отец – тот еще непоседа!
Увидев, как она напряглась, я все же продолжила:
– Я тогда была совсем маленькой, но все отлично помню. Мы жили там как настоящие хиппи. Здорово было… Тогда я еще не ходила в школу, но отец уже научил меня читать.
– Кажется, твой папа – большой оригинал. Расскажи мне о нем побольше. Ты ведь жила и за границей?
– Да, но много позже.
– Вижу, тебе есть что вспомнить. А вот я мало путешествовала.
– Ой, а мы – напротив, только и делали, что бродили по свету. Отцу не сиделось на месте, как я уже сказала.
– Как его зовут, твоего отца? – неожиданно спросила София.
– Антуан.
– Антуан… а дальше?
– Дюран. Почему вы спрашиваете?
– Антуан Дюран… простое имя, самое обыкновенное, каких тысячи… – произнесла она, словно говоря сама с собой. – Так, значит, ты теперь Эмманюэль Дюран?
– Да, и всегда была ею.
И снова я заметила, что лицо Софии исказилось. Но она тут же сменила тему.
– Итак, что тут у нас вкусного приготовили сегодня вечером?
– Блюдо дня – говяжья вырезка с маринованным луком. Хотите попробовать, София?
– Да нет, пожалуй, – это мне ни о чем не говорит… Эмманюэль. – Она улыбнулась, но тон голоса был сухим, жестким. И она заявила, даже не глянув в меню: – Только лук-порей под маринадом и клубничный сорбет.
– Как, вы не закажете горячего блюда? Телячье рагу с черносливом – просто супер!
– Нет, я не очень проголодалась.
Не удержавшись, я сказала, что выглядит она похудевшей и усталой. Но София, пожав плечами, возразила с недоумением:
– Как раз напротив, я великолепно себя чувствую.
Не поверив ни одному ее слову, я не стала утверждать обратное. Я знала ее уже достаточно и успела понять, что она не из тех, кто охотно делится своими проблемами. И конечно, забыла предложить ей аперитив. В любом случае она бы отказалась, уверена.
Мне пришлось отойти: оставались и другие столики, а Максим терпеть не может, когда долго разговариваешь с клиентами. Нанси, обслуживавшая столы в глубине зала, возгласила:
– Два «Апероль-хера», шеф!
Тот закатил глаза, а потом бросил мне:
– Ну что, вернулась твоя старуха?
Я выразила удивление:
– Да она не больше моя, чем твоя.
– Ладно, ладно, постарайся выпроводить ее побыстрее, мне к половине девятого нужен столик.
– Слушаюсь, шеф!
– Вот это другой разговор, всегда бы так.
«Ну что за сволочь», – подумала я. Видимо, это читалось у меня на лице, раз он тут же прицепился:
– Не вздумай хитрить со мной, Эмманюэль! Знаешь, сколько девиц мечтают здесь работать – воз и маленькая тележка!
Взяв на заметку его слова, я помчалась на кухню за луком-пореем под маринадом.
Да, этот гад способен подложить мне свинью не сегодня завтра. В один прекрасный день я пошлю его ко всем чертям, но ни в коем случае не доставлю ему удовольствия выставить меня за дверь. Отец мне всегда говорил, что нужно самому распоряжаться своей судьбой и никому не позволять что-то себе навязывать. Сколько раз он мне это твердил, словно символ веры:
– Свобода, Эмманюэль, – ничего нет в жизни прекраснее свободы! Свобода – мое кредо.
Детство, а затем и юность прошли у меня под этим флагом. Как только отцу надоедало одно место, мы перебирались на другое.
И мне это нравилось. Нравилась богемная жизнь, недолгие сборы, в спешке застегнутые чемоданы, брошенные, ставшие вдруг ненужными вещи. Я часто вспоминаю залитые солнцем долины, куда мечтаю однажды вернуться. Случалось, что мы попадали туда, где мне не нравилось, и я требовала, чтобы мы уехали. Но я никогда не имела права голоса. Решал только он. Всегда.
Были еще женщины, которых он посещал, которых, казалось, он обожал и которых иногда я так успевала полюбить, что была готова называть их «мамой», над чем он всегда смеялся. В отличие от меня, он знал, что все эти страстные привязанности не продлятся долго. И всех их он оставлял, даже не попрощавшись и без малейшего сожаления. В детстве, помнится, меня это удивляло. Но потом это вошло в привычку, и я перестала хотеть называть кого бы то ни было мамой. Всем им было предназначено рано или поздно уйти из нашей жизни.
– Мы не сбегаем, а отправляемся на поиски новых приключений! – весело объяснял он мне.
И меня это устраивало. Так что я знала – в один прекрасный день я хлопну дверью этого заведения, даже если я там проработала всего полгода.
За все это время я так и не обзавелась друзьями. Да они и не были мне нужны. У меня был он, и мне этого хватало.
Именно поэтому я ни к чему и ни к кому не привязывалась.
Пока я относила тарелку, к которой она едва притронулась, наши взгляды встретились. В глазах Софии я прочла любопытство. Казалось, она спрашивала себя, почему молодая женщина вроде меня проявляла интерес, пусть мизерный, но все же интерес, к ней – неприметной пожилой даме.
Да я и сама не понимала почему. Только отчего-то мне хотелось бы, например, сесть напротив, поспорить, послушать что-нибудь о ее жизни, узнать, чем она занимается сейчас, что с ней было в прошлом. Какая тайна скрыта за этим печальным и хрупким обликом?
Кто София на самом деле?
Вот почему в тот вечер я обрадовалась ее приходу и почувствовала облегчение.
И я твердо решила, что больше ее не потеряю.
22 Гортензия
Все то недолгое время, что София провела в ресторане, я чувствовала на себе ее тяжелый взгляд. Мне казалось, будто она за мной наблюдает и от нее не ускользает ни одно мое движение.
– Видно, твой босс не очень сговорчив, – сказала мне она, когда я ставила перед ней клубничный сорбет.
– Да я на него плюю.
– И правильно делаешь. Я тоже не выношу людей, которые строят из себя высокое начальство.
– Придурок.
– Согласна, на вид он полный придурок!
Мы одновременно и весело рассмеялись. Максим, наверное, догадался, что мы говорили о нем, но, когда я подошла к стойке, оказалось, что он, не видя меня, сверлил взглядом Софию. И она выдержала его презрительный взгляд. Не уверена, но, по-моему, именно он первым отвел глаза.
Эта миниатюрная женщина тогда меня удивила. По-видимому, она обладала незаурядной силой воли.
Положив на столик тридцать евро, София с усилием поднялась с места. К сорбету она даже не притронулась. Максим в этот момент мне шепнул:
– На втором полно посуды, давай срочно освобождай! У меня тут два педика ждут уже целую вечность!
А времени-то было всего восемь пятнадцать.
София с трудом пробиралась между столиками, направляясь к выходу. Вдруг она покачнулась и ухватилась за спинку стула, тут же извинившись перед сидевшей на нем клиенткой. Я бросилась к ней.
– Обопритесь на меня, София, я вам помогу!
– Спасибо, – пробормотала она.
Видимо, у нее что-то болело. Не вмешайся я вовремя, она могла упасть. Я спросила, возвращается ли она домой.
– Нечего беспокоиться, ведь это в двух шагах, я справлюсь.
– Нет, я вас провожу.
Попросив ее подождать минутку, я пошла отпроситься у Максима.
– Мне нужно довести ее до дома.
– В рабочее время?
– Она плохо себя чувствует. Да и живет в пятидесяти метрах отсюда, я мигом вернусь.
– Так и быть, но все же не испытывай мое терпение, Эмманюэль, всему есть границы.
Мне захотелось ответить, что мне плевать на его терпение. На моем месте отец давно дал бы ему в рожу.
– Тебе захотелось вызвать сюда скорую? Как думаешь, понравится это твоим клиентам?
– Ладно, я же сказал! Но поторопись, ты мне нужна.
– Договорились, скоро буду.
На улице дул свежий ветер, и она немного пришла в себя. Но я наотрез отказалась отпускать ее одну.
– Как хочешь, но я не могу стать причиной…
– Причиной чего?
– Недовольства твоего босса, а возможно, и увольнения.
– Не волнуйтесь, София! Я же говорила – мне плевать на этого урода!
Мы снова расхохотались. Она шла с трудом, и я старательно ее поддерживала. Войдя в здание, я вызвала лифт.
– Теперь можешь уйти, все хорошо.
– Вы уверены?
– Конечно, доченька моя.
Странно как-то прозвучало это «доченька моя». Но в тот момент я прислушивалась, чтобы лифт остановился на ее этаже и дверь в квартиру закрылась, и потому не обратила на это внимания.
Только на обратном пути, когда я возвращалась в ресторан, эти два слова опять зазвучали в моей голове. Ласковое «доченька» тронуло меня до глубины души.
23 Гортензия
Насколько я себя помнила, отец всегда оберегал меня от всего на свете, можно сказать, даже пас. Однажды, я тогда уже была подростком, он признался, что не смог бы перенести, если бы со мной что-то случилось. «Я бы не пережил этого», – добавил он вполне серьезно.
Но и сегодня мне не удается его убедить, что девочка выросла и не требует такой тщательной опеки. Например, он не хочет, чтобы поздним вечером я ездила одна в метро. «Неподходящее место для молодой и красивой девушки двадцати пяти лет», – порой замечает он полушутя-полусерьезно, оправдывая свои приезды за мной на работу или заказ такси, когда он бывает занят. «Со мной ты всегда в безопасности».
Надеюсь, так и будет впредь. Все эти годы, проведенные в разных уголках планеты, он постоянно держал меня перед глазами, как он тогда говорил. А я издевалась, называя его еврейской матерью. На что он всегда отвечал, что, кроме меня, для него никого не существовало, что только ради меня у него был смысл жить и бороться. Мое детство с ним, на взгляд «нормальных людей», проходило хаотично и беспорядочно. Но, повторяю, мне нравилась эта бродячая жизнь, где ни один день не походил на другой, и я очень сожалела, когда однажды он принял решение вернуться в Париж.
– Ты там родилась, пришла пора тебе там обосноваться.
Возвращение во Францию обернулось для меня непростым погружением в реальную жизнь. Мы вернулись три года назад, и первые месяцы были самыми трудными. В столице я не могла найти себе места, все было чересчур сложно, люди агрессивны, неинтересны. Парижская жизнь мне казалась слишком пресной по сравнению с той, которую я знала прежде.
Мне так и не удалось завести друзей. Языковые курсы в Сорбонне, на которые я записалась, меня нисколько не увлекали. Отец советовал мне потеснее сойтись с моими сокурсниками, но они совсем меня не привлекали. Парни были самодовольны, высокомерны, полны нелепых амбиций, да и девицы строили из себя невесть что.
С некоторыми из парней у меня завязывались кратковременные отношения, но всех я почти сразу бросала. Чем больше они проявляли ко мне интерес, тем скорее это случалось. Но мне нравились мужчины и нравилось заниматься с ними любовью. Первая интрижка у меня была в пятнадцать лет, а в семнадцать я переспала с мужчиной, это произошло на пляже городка Морро-де-Сан-Паулу, в северной части Бразилии. Отец так об этом и не узнал.
Французы проигрывали в сравнении, они были банальны, лишены фантазии.
Я много раз просила отца вернуться: здесь мне все было чуждым, настаивала я. Но он утверждал, что рано или поздно я оценю по достоинству европейскую жизнь. «И потом, я же рядом», – отшучивался он.
Однажды вечером, когда мы вместе жили в Буа-Коломб[22], отец вдруг заявил, что пора бы мне начать самостоятельную жизнь, он даже нашел для меня подходящую квартиру-студию на двенадцатом этаже.
– Мне нелегко с тобой расставаться, – признался он, – но ты уже слишком взрослая, чтобы продолжать жить со стариком-отцом.
Я всплакнула, стала уверять, что не хочу его покидать. Но решение было принято, а его решения всегда были приказом. И на этот раз я, как всегда, подчинилась.
Отец был не из тех, кому говорят нет.
Но я догадывалась, почему он захотел меня отдалить. У него поселилась женщина – манерная, ухоженная, типичная француженка. Немолодая, около пятидесяти, но все еще красивая, должна признать. Стройная, подтянутая, с крепкой грудью (не обошлось без коррекции, уверена), кокетливая и всегда прекрасно, хотя и чуточку вульгарно, одетая, с крашеными черными волосами, явно чтобы скрыть намечавшуюся седину. Отцу всегда нравились такие бабы.
Раньше меня присутствие подружек отца никогда не стесняло, обычно они мне нравились. А эта еще и прикладывала массу усилий, чтобы мне угодить. Между тем она мне не приглянулась с первого же взгляда. И чем больше она лезла из кожи, стараясь проявлять ко мне любезность и внимание, тем больше меня отталкивала. Я находила ее расчетливой и наглой, и меня совсем не устраивало, что она влезла между мной и отцом, разрушив нашу близость. Едва переехав к нам, она сразу же стала себя вести как хозяйка.
Но самым неприятным было даже не то, что я видела ее постоянно, а отношение к ней отца. Казалось, он очень ею дорожил, и я не выносила, когда он при мне ее целовал или обнимал. Но я ни разу не сделала ни единого замечания по ее поводу, и он продолжал притворяться, что все у нас идет нормально.
Детская неуместная ревность – я согласна, но только я все время видела в ней соперницу, отобравшую у меня отца. Однако я не собиралась с ней сражаться, и главное, не хотела дать ей понять, что ее боюсь. Так что я без лишних разговоров переехала в снятую для меня квартиру-студию, говоря себе, что в самом скором времени романтическая история завершится. Знакомая песенка, утешала я себя. Скоро ты надоешь отцу, старушка, как и все прочие.
Отец был доволен моим согласием.
– Теперь ты задышишь полной грудью. Только не думай, что папаша сбросит тебя со счетов, дочка! – шутил он. И, нежно целуя, добавлял: – Ты навсегда останешься любовью моей жизни, ведь сама знаешь.
Подруга во всем его поддерживала, и в ее словах слышался вызов:
– Ну и повезло же тебе, Эмманюэль. Жить одной в квартире! В твоем возрасте я была вынуждена делить кров с родителями, а мне так хотелось независимости.
Все это произошло два года назад. Но и по сей день они вместе. Отец вопреки моим ожиданиям, похоже, не собирается ее бросать. Уж не знаю почему. Возможно, из-за их особой манеры вспоминать прошлое: иногда у меня возникает впечатление, что они знакомы сотню лет. Когда я однажды спросила об этом отца, он лишь пожал плечами и сказал, мол, хорошо, если бы так и было, после чего резко сменил тему. С тех пор я старалась держаться от них подальше, несмотря на все усилия отца нас сблизить, и предпочитала встречаться с ним, когда ее не было рядом. Знаю, это ее расстраивало, но что я могла с собой поделать? Слишком уж счастливым он выглядел рядом с ней, и эта привязанность отца меня больно ранила.
Переезд на новую квартиру состоялся в субботу, рано утром. Отец решил меня домчать на скутере. Она как раз накрывала стол, где стояли только две тарелки.
– К завтраку буду, дорогая Изабелла!
24 Гортензия
В квартире Софии пахло лавандой, кругом царили порядок и чистота. Везде было убрано, но без души – ради самой уборки. Мебель у нее старая, но удобная, казалось, каждый предмет – на своем неизменном месте. Два чучела животных тоже произвели на меня не совсем приятное впечатление. Зато сама София ожила: она казалась посвежевшей, вернувшей себе уверенность.
– После завтрака я кое-что тебе покажу.
Произнесено это было голосом, в котором сквозила нежность. Я подумала, что она готова поделиться со мной чем-то для нее очень важным, так мне подсказывала интуиция.
– Покажите сейчас! – попросила я, заинтригованная.
– Нет, всему свое время, спешить некуда. – И прибавила с загадочным видом: – Я открою тебе большую тайну, но не теперь. Расскажи еще что-нибудь о себе.
Настаивать я не стала и продолжила начатый разговор. На ум приходили все те же истории, которые я уже рассказывала, но София словно не замечала повторов и слушала так же внимательно. Да и я не очень-то об этом заботилась, ведь воскрешать в памяти воспоминания о счастливых годах, проведенных с отцом, было для меня ни с чем не сравнимым удовольствием.
Я навещала Софию уже в третий раз, три субботы подряд. Первые два раза на чай, а сегодня она пригласила меня с ней позавтракать. Как и в предыдущие визиты, она принялась засыпать меня вопросами: буквально все ее интересовало. Но настроение у нее постоянно менялось – она то веселилась от души, то вдруг становилась серьезной. Помню, как она прервала мой рассказ восклицанием:
– Нелегко же тебе пришлось, доченька!
Взгляд ее потемнел, наполнился бесконечной печалью. Что, интересно, вызвало такую реакцию? Я говорила о Лусии, служившей в полиции, на которой отец собирался жениться в Белу-Оризонти[23], – настолько, по его словам, он был влюблен.
– Как же я обрадовалась! – объяснила я Софии. – Отец сразу получил мое благословение от чистого сердца. Из всех женщин, с которыми мы тогда жили, Лусия больше всех мне нравилась. Она стала для меня настоящей матерью, да я так и звала ее – мамой.
Лицо Софии исказила гримаса, на нем появилось растерянное, отстраненное выражение. Я взяла ее за руку.
– Что-то не так, София?
– Да нет, все хорошо. Просто немного душно.
Я почувствовала, что она лжет. Воспоминания о бразильской красотке Лусии, которую отец хотел взять в жены, очевидно, выбили ее из колеи. Мне совсем не хотелось ее огорчать, но я все же продолжила как ни в чем не бывало:
– Но, разумеется, никакой свадьбы не было, как и всегда. В один прекрасный день, вскоре после этого, мы сорвались с места и укатили в Рио, даже не попрощавшись.
Губы ее тронула улыбка.
– Ну а там, в Рио, появилась новая подружка. Очередная мама!
Произнесла я эти слова шутливым тоном, но заодно хотела ее испытать. Как я и ожидала, София снова замкнулась в себе.
Допивая жасминовый чай, я с нетерпением ждала момента, когда она раскроет мне обещанную тайну. Во время наших встреч я много рассказывала о себе, но о самой Софии почти ничего не знала – она всегда выкручивалась, чтобы не отвечать на вопросы прямо.
– Моя жизнь совсем не интересна, твоя куда занимательнее, – говорила София в таких случаях.
От наполовину закрытых ставен в гостиной, освещенной лишь настольной лампой, стоял полумрак. Все здесь было погружено в убаюкивающее, мертвенное оцепенение, нарушаемое лишь шумом вентилятора. Зато снаружи город испепеляло беспощадное майское солнце. Никогда еще в это время года на Париж не обрушивалась такая жара. Было тридцать два градуса, когда я ровно в полдень позвонила в дверь. София не любит, когда опаздывают, и я была рада доставить ей удовольствие своей пунктуальностью. Встретила она меня приветливой улыбкой. Даже в легком платье я пришла мокрая как мышь. Она тут же предложила мне принять душ, и я долго наслаждалась, подставляя тело прохладным струям. После душа София протянула мне тонкий, слегка отдающий корицей пеньюар.
В таком виде я и приступила к завтраку в ее компании. На плечиках возле окна сушилось выстиранное платье.
Я сама удивлялась тому, насколько мне нравилось сюда приходить. У Софии мне всегда было хорошо. Но в эту субботу мне хотелось лишь одного: чтобы она поскорее рассказала мне о себе, о своей жизни. Ведь она же обещала сообщить что-то важное! Болтая с ней обо всем и ни о чем, я сгорала от нетерпения.
София почти на тридцать лет старше меня, следовательно, у нас не так уж много общего, а между тем взаимная симпатия возникла с первой же встречи, вернее, с первого ее ужина в ресторане. С тех пор я иногда провожала свою новую приятельницу до дома, не обращая внимания на грозные взоры Максима. Обычно мы немного болтали при входе на лестницу, потом она поднималась на свой этаж, и я слушала, чтобы хлопнула дверь, и только тогда возвращалась. Смотрела, как из открытого окна гостиной она махала мне рукой, посылая воздушный поцелуй, а уж потом скрывалась за углом.
Трудно объяснить почему, но с каждым днем мой интерес к этой женщине возрастал, и я привязывалась к ней все больше. Чем-то София меня привлекала, и я не собиралась доискиваться до глубинных причин. И в дни, когда она не приходила в ресторан, то есть когда я не работала, мне ее немножко не хватало. Чувствительность и хрупкость Софии меня трогали, а ее тайны завораживали.
И если я так дорожила ее общением, то именно из-за этих тайн.
Я никому не рассказывала о нашей странной дружбе даже отцу, хотя обычно я от него ничего не скрывала. Знала, к чему это могло привести: ему не понравилась бы моя близость со старой отшельницей, и он стал бы снова меня уговаривать проводить больше времени со сверстниками.
Нет, София была моим «частным владением», и я не собиралась делить ее ни с кем. Неужели мне все еще требовалась мама, это в моем-то возрасте? Словно ее присутствие заполняло пустоту, образовавшуюся внутри меня. И мне даже казалось порой, что с ней происходит то же самое.
Когда я вошла, квартира Софии благоухала ароматом запеченной в духовке курицы.
– Не сомневаюсь, что ты любишь жареную курицу, – сказала она. – Особенно ножки, не правда ли?
Да, так и было. С детства мое любимое блюдо – курица-гриль.
София угостила меня картофельным салатом (сорт «ратт»[24], лучший картофель на свете! – объяснила она) и черносмородиновым сорбетом. Выглядела она веселой и довольной.
– Баловать тебя – истинное удовольствие, – проговорила она. – Представь, ты вернула мне любовь к готовке.
– А вы ее утратили?
– Увы, – ответила она с такой усталостью, что мне захотелось обнять ее за плечи. Но я не осмелилась: может, из страха, что она меня оттолкнет, а я не хотела ничем омрачать эти драгоценные минуты.
Поставив чашку на стеклянный столик, я встала.
– Ну же, София, как насчет большой тайны?
– Ах да, – притворилась она, будто удивлена, тоже поднимаясь с места. – Ступай за мной.
Проходя по темному коридору, я невольно потянулась к выключателю, однако София остановила мою руку. В конце коридора находилась та самая комната, куда я в прошлую субботу по ошибке толкнула дверь, выйдя из ванной. Комната оказалась закрытой.
Остановившись перед дверью, София достала из кармана ключ и повернула его в замке.
– Входи, – произнесла она мягко.
Сердце мое бешено колотилось, я понимала, что там, за этой дверью, была жизнь Софии, ее истина. На лбу у меня выступили капельки пота.
Взявшись за ручку, я уже собиралась войти, как вдруг резким жестом она меня остановила.
– Нет, не сейчас, – сказала она холодным тоном.
– В чем дело, София?
– Нет, сегодня я не осмелюсь… Как-нибудь в другой раз.
– Не осмелитесь? – удивилась я.
Ничего не ответив, она снова закрыла дверь на ключ, опустив его в карман серого шелкового блейзера. Я не настаивала. Неожиданное отступление Софии еще больше разожгло мое любопытство. Что она там скрывала? Может, мне стоило проявить упорство? А ведь еще несколько минут назад София мне казалась такой близкой и родной!
В момент, когда дверь приоткрылась, в погруженной в полумрак комнате я скорее угадала, чем увидела, небольшую кровать. Вернее, кроватку. Это была детская.
– Как пожелаете, София! В другой так в другой…
Не стоило на нее давить. Наверное, с комнатой у Софии были связаны тяжелые воспоминания, и однажды она обязательно со мной ими поделится. Вопрос времени и терпения.
Неужели она все-таки испытывала ко мне недоверие? Я иногда чувствовала в ней какую-то сдержанность, необъяснимую скованность. Словно ее признание могло стать точкой невозврата. И она предпочла его отложить.
Глаза Софии вновь подернулись печалью, но она смягчила ее улыбкой.
– Пойдем все же выпьем чай, – предложила она.
– Хорошо, – ответила я, скрыв разочарование. – Но только быстро, мне пора уходить.
Взяв успевшее высохнуть платье, я отправилась в ванную, чтобы переодеться. Потом, стоя, выпила в гостиной чай. Мысль о том, что я могла опоздать, вдруг стала для меня непереносимой.
– Ты даже не присядешь?
Я посмотрела на часы – почти три.
Было видно, что она сгорала от любопытства, желая узнать, что я собираюсь делать дальше: ей было известно, что вечером я не работала.
– Встреча с дружком? – шутливо поинтересовалась она.
– Ничего-то от вас не скроешь, София!
– Тогда тебе повезло!
– Можно и так сказать…
На моем лице появилась вымученная улыбка. София старалась меня разговорить, но я и не думала обсуждать с ней невзгоды своей любовной жизни, рассказывая, как мне трудно было завязать сколько-нибудь стоящие отношения. Между тем у меня действительно была встреча с мужчиной – моим отцом. Мы договорились с ним вместе поужинать. Лишь бы он не притащил с собой свою подружку…
Я хотела отца только для себя одной, как в детстве.
На пороге, когда я уходила, София расцеловала меня в обе щеки.
– И как зовут этого счастливчика?
– Какого счастливчика?
– Твоего возлюбленного.
– Ах, вот оно что! Это мой секрет. У каждого свои секреты.
Я видела, что София с трудом держала удар, на мгновение она заколебалась. А что, если она передумает и все-таки впустит меня в запретную комнату?
– Хорошего вечера, доченька! Во вторник я приду поужинать в ресторан.
– Тогда до вторника!
Я поспешила уйти, но, пока ждала лифт, меня не покидало тягостное ощущение, что София наблюдает за мной через глазок.
В кабине лифта я, не справившись с внезапно подступившими слезами, горько разрыдалась.
25 София
Интересно, услышала она меня или нет? Едва дыша и стараясь не производить шума, я прижалась к двери и уставилась в глазок. С жадным наслаждением созерцала я свою дочь, стоявшую на лестничной площадке в ожидании лифта. По нетерпеливым движениям Гортензии было заметно, что ей хотелось, чтобы он пришел как можно скорее. Она и в детстве была такой: сердилась, нервничала, когда что-то ее не устраивало. И правда, я уж слишком ее баловала. Но дурное поведение малышки обычно недолго длилось, я быстро ее успокаивала. Шлепок, легкий удар по пальчикам, и капризы мгновенно прекращались. В семье Делаландов детям не давали слишком много воли.
Небесно-голубое платье мне понравилось, чего я не могла сказать о пестрой бандане, и в особенности об огромных серебряных кольцах в ее ушах. Они совсем ей не шли. Порой я находила в манерах дочери вульгарные черточки, присущие Сильвену. Мне подумалось, пока я оглядывала Гортензию с головы до пят, что, получи она мое воспитание, у нее была бы теперь совершенно другая внешность – куда более изящная.
И уж точно ей не пришлось бы прислуживать в ресторане, чтобы заработать себе на хлеб. Я бы такого не допустила. Отправила бы дочь в одно из лучших учебных заведений Парижа, и сейчас она занимала бы прочное положение в обществе, которым я могла бы гордиться.
Это было еще одной причиной, по которой я не собиралась прощать человека, из чистого эгоизма пустившего под откос жизнь моей дочери, навязавшего ей, по сути, цыганское существование. Мысли о судьбе моей несчастной Гортензии не давали мне покоя с того самого момента, как я ее нашла. Моя дочь заслуживала лучшего. Да, мне предстояло немало потрудиться, чтобы изменить такое положение вещей. Но это меня не пугало, остаток жизни я собиралась посвятить только ей.
Внезапно Гортензия исчезла из поля моего зрения, нырнув в кабину лифта (в наши дни молодежь окончательно разучилась ходить по лестницам…).
В этот субботний день, по обыкновению проснувшись в шесть утра, я твердо решила, что сегодня непременно открою ей правду. Лежа в кровати дочери, я разработала детальный план и представляла, что произойдет, когда после завтрака я отведу Гортензию в ее детскую.
Воображаемое воссоединение с дочерью словно придало мне сил. Я еще несколько минут подремала, затем резко встала, находясь в сильном возбуждении от нетерпения.
Проведя последнюю инспекцию – все ли в порядке в детской, – я накрыла в гостиной стол и поставила на небольшой круглый столик вазу, куда собиралась поместить букет чайных роз, которые Гортензия мне дарила в каждый свой приход. Сняла со стены, как я это делала всегда, когда ждала дочь, рамку с разбитым стеклом и фотографией, спрятав ее в детской комнате. Потом приготовила завтрак. И наконец уселась возле окна и стала ждать Гортензию. И когда заметила пробиравшуюся сквозь толпу изящную фигурку в легком платье, почувствовала себя невероятно счастливой.
Почему в последний момент машина дала задний ход? Ведь я так тщательно все рассчитала, столько мечтала о блаженстве, которое ждало нас обеих.
Но тогда у меня вдруг мелькнула мысль: я готова, а вот она – нет. За завтраком у дочери вырвалось несколько фраз, которые меня смутили, посеяли сомнение.
Поэтому я почти с облегчением проводила ее взглядом из окна, увидев, что она вышла из здания и быстрым шагом направилась вверх по улице Мучеников.
Отныне время работало на меня. Во вторник я не появлюсь в ресторане. Приду лишь в среду. Пусть подождет.
«Имей терпение», – всегда говорила мне Изабелла.
Обязательно сегодня же ей позвоню. Ведь она постоянно призывала меня к осторожности, советовала не спешить и не открывать тайны раньше срока. Как же она была права, моя бесценная подруга! Мне нужно было непременно ей об этом сказать.
26 София
Если бы дочь не остановилась перед обувной лавкой, что неподалеку от моего дома, ничего бы этого не случилось.
В такие магазины у нас ходит лишь молодежь квартала, там все сто́ит не меньше восьмидесяти евро, что ее, по-видимому, нисколько не останавливает. В лавке всегда полно народу, похоже, сейчас нет ничего проще, чем разбогатеть, продавая за бешеные деньги вот такую обувь, которая развалится после первого же дождя. Давно миновали времена, когда пара обуви могла прослужить тебе несколько сезонов. Признаюсь, с годами меня все больше тяготит наше общество потребления, в котором, очевидно, моя дочь чувствует себя как рыба в воде. В будущем я приложу все усилия, чтобы сформировать у нее понятие об истинных ценностях.
Взять хотя бы нашу улицу Мучеников – ведь она меняется год от года, теперь ее наводняют десятки молодых парочек с детьми, и особенно с их чертовыми колясками. Раньше, когда я прогуливала в коляске Гортензию, я следила, чтобы никого не задеть, а уж тем более стариков, которые чувствовали себя здесь вполне комфортно. Теперь же улица полностью принадлежит молодым и их горланящему потомству.
– Нужно идти в ногу со временем, – часто говорила мне Изабелла, – ты чересчур старомодна.
Выглянув из окна, я наблюдала за дочерью, остановившейся перед витриной обувной лавки. В прошлую субботу, когда я провожала ее до метро, она показала мне пару туфелек, серебристых балеток, которые, честно скажу, я нашла некрасивыми и, судя по виду, неудобными. Но я притворилась, что пришла в восторг, не желая ее огорчать.
– Как же они тебе пойдут, дорогая!
Эти самые балетки были в тренде, однако стоили дорого, объяснила мне Гортензия. Нет, она сказала по-другому: «стоят сумасшедших денег» – еще одно из новомодных выражений. Но ведь и правда, смешно покупать туфли за сто двадцать евро, которые и сезона-то не прослужат.
И все же Гортензия затащила меня в лавку. Продавщица, разумеется, нашла, что они замечательно на ней смотрятся. Нажав на носок туфельки, как это делают маленьким девочкам, она сначала возгласила: «Как раз ваш размер!», а после поинтересовалась сладким голоском: «Ну что, будете брать?»
– Пока не решила, я подумаю, – ответила Гортензия.
Продавщица настаивать не стала. «Подумаю» означало «не буду покупать», уж она-то клиентуру знает. Молча взяв туфли, продавщица уложила их в коробку, забыв о своей медовой любезности. Мы только зря отняли у нее время. Я почти физически ощутила ее мысль: «Если нет денег, нечего ходить в такие магазины, как наш». С тех пор каждый раз, когда я проходила мимо обувной лавки, я испепеляла взглядом эту нахалку, которая мнила о себе неизвестно что, а на деле была лишь жалкой торговкой.
– Они для меня слишком дорогие, – вздохнула Гортензия, когда мы вышли из магазина.
С какой радостью я бы ей их подарила! Средств у меня было достаточно: в министерстве я получала ежемесячно две тысячи шестьсот пятьдесят два евро, а какие у меня могли быть траты? Но, во-первых, цена действительно была неимоверно завышена, а во-вторых, не сочтет ли дочь странным, что я делаю ей такой подарок? Нет, не пришло еще время баловать ее, как в детстве. И я просто пошутила: пусть, мол, наберется терпения и дождется распродажи. Увидев, как помрачнело ее личико, я вдруг подумала, а не ждала ли она от меня совсем других слов: «Давай-ка я тебе их подарю»?
Мы молча продолжили путь к метро. На этот раз наше прощание перед входом к станции «Анвер» было менее сердечным, чем обычно.
И тут у меня возникло сомнение: так ли уж бескорыстен ее интерес ко мне? Неужели Гортензию, как в свое время и ее дерьмового отца, привлекали во мне только деньги?
Нет, самое время было все ей открыть и покончить с этой игрой в прятки. Когда она узнает правду, история с балетками мгновенно забудется. Наша любовь будет взаимной, нерасторжимой. Целую неделю я провела, мысленно наслаждаясь этой прекрасной перспективой.
Но мне совсем не понравилось, когда Гортензия недавно произнесла слово «мама», говоря о бразильской девице!
Я – единственная, кому по праву принадлежит этот титул.
Сегодня я даже не предложила проводить ее до метро. Словно кошка между нами пробежала, и у меня не было ни малейшего желания идти ее провожать.
Я знала, что легко могла бы развеять свои сомнения, просто купив ей эти проклятые туфли. И тогда стало бы ясно…
С моего наблюдательного поста я видела, как она колебалась какое-то время, несомненно, со сладострастием взирая на чертовы балетки, потом все же решилась и вошла. Через несколько минут она появилась снова, уже в серебристых туфельках. Я была слегка разочарована: не думала я, что моя дочь настолько расточительна и безрассудна! Уж эти качества точно не от меня. Они передались ей от Сильвена – тот всегда был готов промотать чужие денежки.
И тут меня осенила новая мысль. Несмотря на страшную жару, я схватила плащ, висевший на вешалке при входе, – он должен был послужить мне камуфляжем, ибо неизвестно, как далеко меня могла завести очередная блажь.
Я решила проследить за дочерью. Мне просто необходимо было узнать, куда она дальше пойдет. Ведь я ничуть ей не поверила, когда речь зашла о встрече с возлюбленным. Иначе Гортензия обязательно заговорила бы о нем, но вместо этого с уст ее не сходили панегирики в адрес отца. С первых минут нашего знакомства я поняла, что личная жизнь моей дочери – безжизненная пустыня, и виноват в этом только он, Сильвен.
У меня возникла твердая уверенность, что она отправилась на встречу с ним.
27 Гортензия
О купленных туфлях я ничуть не жалею. Правда, сто двадцать – это больше того, что я зарабатываю за вечер, но, как говорит отец, нет зла в том, что делаешь себе добро. Он похвалит меня, не сомневаюсь, скажет, что туфли великолепны. Впрочем, что бы я ни купила, он все находит великолепным.
Мне нравится его восприятие жизненных ситуаций, он ко всему относится легко. Словно ничто (кроме меня, разумеется) не имеет для него настоящей ценности.
За годы, проведенные вместе, я не раз имела возможность в этом убедиться. Жизнь без привязанностей, только я и он.
В памяти моей всплыл тот день, когда я спросила его, где моя мама. Мне тогда было пять с половиной лет, дело близилось к вечеру, мы гуляли с ним по кромке пляжа (но где это происходило – не помню). Отец взял меня к себе на плечи, потому что я сказала, что не хочу намочить ноги, но в действительности я боялась, что меня увлекут за собой огромные волны.
Он опустил меня на песок. Мы уселись рядом, на вершине небольшой дюны. Отец взял меня за руки.
– Я знал, что однажды ты спросишь…
– Где она, моя настоящая мама? – настаивала я.
– Не перебивай, Эмманюэль, и слушай. То, что я сейчас расскажу, может тебя огорчить.
Я захотела что-то вставить, но он закрыл мне рот большой красивой ладонью.
– Когда ты была совсем маленькой, мама нас бросила. Вот почему ты совсем ее не помнишь. В один прекрасный день взяла да и ушла от нас, без всяких объяснений.
– Она что, меня не любила?
Отец немного помедлил, прежде чем ответить:
– Именно так, дорогая, она тебя не любила. Не любила так, как люблю тебя я…
Посадив меня к себе на колени, он сказал, что ее звали Натали. Тогда я стала уверять его, что мне не нужна мама, раз у меня есть он, что я очень сильно его люблю. И сейчас вижу его довольную улыбку.
Несколькими годами позже, когда мне было уже шесть-семь лет, я узнала от отца, что она погибла в дорожной аварии. После этого мы больше не возвращались к разговору о моей дурной матери.
Покупка балеток немного утешила меня, заставив забыть о неприятном чувстве, которое я сегодня испытала у Софии. С той минуты, когда она с непроницаемым лицом закрыла дверь таинственной комнаты прямо перед моим носом, мне стало не по себе. И я постаралась уйти как можно раньше, не дав ей возможности проводить меня до станции «Анвер». Это у нас уже вошло в привычку, стало субботним ритуалом. Обычно я соглашалась, чтобы ее не обижать, но на сей раз я решительно этого не хотела.
Короче говоря, мне не терпелось поскорее от нее уйти. Пусть себе сидит одна в своей квартире, где можно умереть от скуки. Она говорила, что прожила в ней больше тридцати лет, это же просто невероятно! Там нет жизни, нет души, не чувствуется хозяйки, все разложено по полочкам, все слишком стерильно.
– Я – фанатка чистоты, – сказала она мне с полной серьезностью. – Есть две вещи, которые я ненавижу, – пыль и беспорядок. – И еще прибавила, светясь от гордости: – С детства я была такой: когда мама делала уборку, я шла за ней с тряпкой и потом показывала, что она вся в пыли.
Потом она рассмеялась:
– Обожаю мыть посуду. Мне и в голову бы не пришло купить посудомоечную машину, она плохо моет!
Когда она упомянула о матери, я стала ее о ней расспрашивать. Лицо Софии сразу стало суровым, и она ответила мне почти резким тоном:
– Мама давно умерла, через восемьдесят восемь дней будет ровно девятнадцать лет.
– Простите, София. Наверное, вам очень ее не хватает, – пробормотала я смущенно.
– Дочери всегда ее не хватает. Но я не хочу сейчас об этом говорить, – холодно проговорила она.
Я поняла, что лучше сменить тему, но ее слова насчет ведения хозяйства не выходили у меня из головы. А ведь я как-то пригласила ее к себе в гости. Если однажды это произойдет, мне придется как следует попотеть. Ведь я, как и отец, чувствую себя хорошо только в беспорядке.
Когда я впервые пришла к Софии, мне сразу бросились в глаза два чучела, стоявших на комоде в гостиной. Ястреб и ласка. С устрашающе раскрытыми клювом и пастью. Она сказала, что смоделировала их – именно это словечко она употребила – без чьей-либо помощи.
– Когда-то это было моей страстью. Технику изготовления чучел я освоила благодаря соседу-таксидермисту. Я могла бы сделать это занятие своей профессией, но родители хотели, чтобы я обязательно работала в государственном учреждении. В свое время я набила соломой больше тридцати чучел разных животных. Потом я все их раздарила, оставив только эти два. И прибавила, взяв их в руки по очереди:
– Хочешь, я и тебе подарю?
С трудом скрывая отвращение, я отказалась. Просыпаться каждый день, видя такое страшилище, это уж слишком!
На всех предметах мебели у Софии расстелены вышитые салфетки. На стенах висят репродукции шедевров Лувра, купленные, по ее словам, лет десять назад в сувенирной лавке музея. Там же разместились четыре вышитые крестиком картины с изображением животных: собаки, кота, медвежонка и кролика. В прошлый раз я спросила, из чистой любезности, хотя эта живность никак не могла мне понравиться, трудно ли расшивать такие картины и много ли времени отнимает это занятие? София сухо меня поправила:
– Запомни, дорогая, – говорят не «расшивать», а «вышивать». – И добавила: – Не я их вышила, это подарок моей лучшей подруги.
С удивлением я узнала, что у нее, оказывается, имелась подруга, хранившая ей верность больше двадцати лет. Начав ее расспрашивать о ней, я не сомневалась, что София сразу сменит тему, как это бывало уже не раз, когда я интересовалась ее личной жизнью. Несмотря на наши частые встречи, я до сих пор ничего о ней не знала, если не считать нескольких малозначимых эпизодов. Каждый раз мои вопросы натыкались на каменную стену.
Однако, к моему изумлению, София охотно заговорила о своей прекрасной и единственной на свете подруге, этой чудесной женщине, которая ни разу ее не разочаровала, в отличие от многих других людей. Жила она на юго-западе страны, все свое время посвящая больному мужу, у которого, насколько я поняла, было что-то вроде ранней болезни Альцгеймера.
– Бедняге нет и шестидесяти, а он уже не всегда ее узнает, несчастную мою Изабеллу!
«Забавно!» – подумала я и сообщила, что подругу отца тоже зовут Изабеллой. Мгновение она смотрела на меня с недоумением, потом резко сказала:
– Надо же, – и, улыбнувшись, договорила: – Любопытное совпадение…
Не закончив фразы, она ушла на кухню заваривать нам кофе. Больше в тот день мы не говорили об Изабелле.
Мне пришлось остановиться на лестнице перед входом в метро, потому что я никак не могла найти в сумке проездной билет. Вдруг визг тормозов за спиной заставил меня оглянуться. И тут я насладилась разыгравшейся передо мной сценой ссоры двух водителей, которые крыли друг друга последними словами. Это же просто завораживающее зрелище, когда из-за какого-нибудь пустяка люди слетают с катушек! Еще немного, и они перешли бы к рукопашной.
Вот тогда-то я ее и заметила, когда обернулась. София шла по бульвару метрах в пятидесяти от входа на станцию. Я бы узнала ее из тысячи прохожих, эту приземистую фигурку, чуть склоненную вбок голову, сутулые плечи.
Должно быть, она умирала от жары в своем сером прорезиненном плаще.
Наверняка София по своему обыкновению выбралась на прогулку до Монмартра. И сегодня мы отправились бы туда вместе, как уже не раз это делали, если бы не мой поспешный уход.
Я смотрела, как она переходит дорогу, не обращая внимания на поток машин и пробивая себе путь вперед, как всегда, упрямая и решительная.
София то и дело смотрела по сторонам, но меня не увидела.
И я не подала ей никакого знака, исчезнув в метро.
«Каждому своя дорога», – поется в песенке, которую я мурлыкала себе под нос, двигаясь к противоположному концу платформы.
28 София
Я имела полное право гордиться собой: мне удалось проследить за Гортензией до станции «Буа-Коломб», оставшись незамеченной. Раньше я там никогда не бывала. Признаюсь, я вообще плохо знаю парижские окраины.
Мне не раз хотелось прекратить слежку и вернуться: риск, что она меня обнаружит, был слишком велик. Ведь чем больше мы удалялись от центра, тем труднее мне было бы объяснить свое присутствие, попадись я ей на глаза. Заготовлены были и объяснения: я ехала к приятельнице, чтобы провести с ней вечер, и «ты не представляешь, как я удивилась, встретив тебя!». Нет, она нашла бы это странным, лучше было просто извиниться и сказать правду. Сказать, что сама не знала, «что на меня вдруг нашло, какое-то помутнение рассудка», и я последовала за ней – «прости меня, старую идиотку». Моя откровенность и смущение должны были ее растрогать.
Самым трудным оказалось то, что пришлось ехать с ней в одном трамвае, дабы не упустить ее из виду, но, к счастью, Гортензия сразу уткнулась в свой телефон. Всю дорогу она настолько была им поглощена, что никого и ничего не видела. И вскоре я уже шла за дочерью вдоль широкой улицы с высокими зданиями старой постройки.
Просто невероятно, до чего нынешняя молодежь привязана к своим смартфонам! Гортензия двигалась по улице, переходила дорогу, не отрывая глаз от телефона, словно под гипнозом. Порой она останавливалась, вынуждая меня замедлить ход, и принималась набирать какой-то текст в лихорадочном темпе. Нет, когда мы снова будем вместе, я обязательно освобожу ее от этой глупой зависимости. Поневоле я вздыхала, понимая, что мне придется нелегко, но, должна признаться, сама эта перспектива грела душу.
Пройдя где-то метров пятьсот, мы очутились перед террасой далеко не роскошного табачного бара[25] «Авиатор». Мне показалось, что именно туда дочь и направлялась, поскольку она убрала в сумку телефон и прибавила шагу.
Мне пришлось слегка притормозить. Было всего двенадцать минут шестого, и, несмотря на чудовищную жару, от которой плавился тротуар, я благоразумно подняла воротник плаща.
Гортензия быстро вошла внутрь, даже не оглядев подставленные солнцу столики террасы. Нетерпение дочери было очевидным.
Войти туда вслед за ней было бы немыслимо, и я, продолжив путь, медленно двинулась вдоль витрины бара. Я увидела, как дочь прямиком прошла в глубину зала и наклонилась к сидевшему за столиком мужчине, поцеловав его в щеку. Сначала я смогла разглядеть только широкие плечи и лысину, но в тот момент, когда я уже почти миновала бар, он повернулся в профиль.
Чем ближе я подходила к своей цели, тем больше я мысленно готовилась к встрече с ним. Уговаривала себя, тренировала дыхание, почти торопила события, чтобы поскорее с этим покончить.
Но, увидев его, я была раздавлена.
Удар был такой силы, что я зашаталась. Он был гораздо мощнее того, что я испытала, когда несколькими неделями раньше на улице Трюден впервые узнала в незнакомке дочь. Однако на этот раз речь не шла о всплеске эмоций, от которого меня тогда буквально парализовало.
Приступ внезапно подступившей тошноты вынудил меня уйти оттуда как можно скорее, и мне пришлось опереться рукой о фонарный столб. На этот раз мной овладели беспредельная ненависть и отвращение, вихрем, до головокружения, пронеслись передо мной самые страшные картины этих бесконечно долгих лет моих страданий. Непереносимо тяжелые воспоминания вновь вызвали тошноту, и меня вырвало прямо на улице. Я постаралась отдышаться и едва сдержалась, чтобы не закричать, изо всех сил сопротивляясь безудержному желанию броситься на него, ударить, осыпать проклятиями. Призвать мою дочь и весь мир в свидетели…
Когда он повернулся в профиль, подставив щеку моей девочке, а та нежно его поцеловала, я узнала своего палача. Нашего с Гортензией палача.
Того, кто скрывался под именем Антуан Дюран.
Когда Гортензия впервые пришла ко мне на завтрак, я постаралась подвести ее к разговору об отце. Даже заставила себя произнести «твой папа». Мне нужно было знать о нем все. И слушала, как дочь в течение получаса, длившегося вечность, расточала похвалы в адрес этого негодяя. По ее словам, он вобрал в себя все самые лучшие человеческие качества, работал багетным мастером (это он-то, у которого руки росли неизвестно откуда) и жил за городом.
– И где же? – поинтересовалась я.
– На западе, за Нантером[26].
Я постаралась придать лицу приветливое выражение, за которым скрывалось другое: час возмездия близок! Дочь была готова продолжать описывать мне свою жизнь с ним, но дольше выносить этого я не могла и перестала задавать вопросы. Уж слишком это было мучительно.
Да и теперь я знала все, что хотела.
На моем лице снова заиграла улыбка, что очень удивило Гортензию. Но я объяснила, что ее рассказы о счастливом прошлом доставили мне огромное удовольствие. И дочь пообещала, что в самом скором времени нас познакомит.
– Не стоит торопиться, – сказала я.
– Он очарует вас, вот посмотрите! – с уверенностью произнесла она. – Все женщины его обожают.
Я решила сменить тему и предложила ей съесть еще кусочек яблочного пирога.
– Ведь я на диете! – вырвалось у нее.
– Но ты же совсем худышка…
– Пару килограммов нужно сбросить, – возразила Гортензия с серьезным видом.
«Когда ты ко мне вернешься, – пришло мне в голову, – про диеты можешь забыть, всем этим глупостям, вредным для здоровья, я положу конец».
Подумать только, а ведь было время, когда я потеряла двадцать килограммов.
Это произошло четырнадцать лет назад. Дочери тогда было одиннадцать лет, долгие поиски ее ни к чему не привели, все следы были потеряны. Я тогда ополчилась на весь мир и, в частности, на следственного судью Даниэллу Катрепуэн, которая с недавних пор вела мое дело. Высокая худощавая женщина, очень ухоженная, с выпирающими ключицами и пронзительными черными глазами, ни разу не появившаяся в одном наряде дважды. Секретарша, которая ее недолюбливала, как-то сказала, что муж судьи, на десять лет ее старше, очень состоятельный человек.
Помню, как обнадежила меня первая встреча.
– Наконец-то дело поручено женщине! – сказала она вместо приветствия. – Кто, как не женщина, да еще и мать, способна понять глубину вашего отчаяния?
Я не стала напоминать, что первым следственным судьей тоже была женщина, эта круглая дура Габорьо, которая с ослиным упрямством отстаивала версию убийства-самоубийства.
У судьи Катрепуэн были две дочери, и однажды она заметила:
– Я бы не вынесла того, что вам сделал отец Гортензии.
Меня затрясло:
– Ради бога, мадам судья, не произносите слово «отец», говоря об этом человеке.
– Разумеется, разумеется, – смутилась она. – Я прекрасно вас понимаю… София…
С этого момента она стала называть меня по имени и настояла, чтобы я тоже называла ее Дани, «по-дружески».
Я в нее поверила, и потребовалось время, чтобы я поняла, до какой степени она некомпетентна.
Спустя несколько месяцев, видя, что дело не сдвигается с мертвой точки, я упрекнула ее в медлительности, и наши отношения мгновенно и безвозвратно испортились.
– Боюсь, мадам Делаланд, вы не осознаете, сколько усилий мы приложили, чтобы, по сути, открыть дело заново, и как упорно трудилась следственная группа последние полгода. Ваше дело вопреки тому, что вы утверждаете, относится к числу приоритетных, и мне жаль, что вы нам не доверяете.
– Но ваши усилия не дают результатов, стоит ли тогда выбиваться из сил, дорогая Дани, – съязвила я.
Она с высокомерным видом захлопнула лежавшую перед ней раскрытую папку.
– На сегодня достаточно. Когда появится что-то новое, я с вами свяжусь.
Взбешенная, я все же оставила за собой последнее слово:
– Да, свяжетесь, конечно, когда рак на горе свистнет! Вы не только никчемный судья, но и самая настоящая дрянь!
Не оставив ей времени для ответа, я бросилась к выходу, несмотря на протесты моего адвоката, и выбежала из кабинета, изо всех сил хлопнув дверью.
Выйдя вслед за мной в коридор, адвокат, мэтр Маркантони, упрекнул меня в неосмотрительности:
– Не стоило так нервничать, мадам Делаланд. Теперь с судьей будут сложности. – И прибавил громким голосом, вероятно, чтобы она услышала: – Мадам судья делает все, что в ее власти. Вам стоило бы перед ней извиниться.
– Никогда! – ответила я еще громче.
После этого случая мне пришлось расстаться с этим адвокатом, который представлял мои интересы с начала расследования. Я ничуть не сожалела, что высказала всю правду этой лицемерке, но в одном адвокат оказался прав: несмотря на мои бесконечные попытки напомнить ей о принятых обязательствах, эта шлюха чувствовала себя настолько оскорбленной, что окончательно забросила расследование и отказывалась меня принимать.
Но отступать я не собиралась. Прошло полтора месяца с того дня, и я приковала себя цепью к ограде Дворца правосудия при поддержке Изабеллы, которая не меньше меня возмущалась поведением следственного судьи. К несчастью, у ее мужа в то время были совсем плохи дела, и она не смогла приехать и помочь в моей борьбе.
Я улеглась на коврик, положила на грудь плакат с надписью «Забытая правосудием и брошенная судьей Даниэллой Катрепуэн» и начала голодовку.
Меня тут же окружила толпа незнакомых людей, которые выражали сочувствие и поддерживали мой протест, так что полицейские не осмеливались увести меня силой. Стоило им приблизиться, как мои сторонники заслоняли меня и шумно протестовали прямо перед камерами.
Восемнадцать дней я только пила витаминизированную воду, воздерживаясь от еды, и похудела настолько, что создалась прямая угроза моей жизни. Но моя голгофа (немногие знают, что такое многодневная голодовка) того стоила. Похищение дочери вновь подхлестнуло интерес журналистов, придало делу новый импульс. Помню, например, заголовок в тогдашней «Франс-суар»: «Жить без дочери – ни за что! Несчастная мать бьется не на жизнь, а на смерть». У меня взял интервью для телерепортажа сам Патрик Пуавр д’Арвор![27] Судя по количеству писем, которые я тогда получала и которые до сих пор бережно хранятся в шкафчике Гортензии, моя акция взволновала всю Францию.
Я покажу ей все это, когда мы снова будем вместе, чтобы она поняла, на что только я не шла ради нее.
Мне пришлось терпеть невыносимые муки, чтобы добиться своего. Насколько я знаю, в дело вмешался министр юстиции, лично назначив нового следственного судью – некоего Раймона Ласу. «Это старый вояка, можно не сомневаться, что он сделает все возможное!» – обнадежил направленный ко мне представитель министерства. Я потребовала, чтобы судья лично явился ко мне, прежде чем я прекращу голодовку.
– Трудно что-то гарантировать, ведь прошло столько времени, – объяснил мне тот, склонившись ко мне по ту сторону ограды, – но, обещаю, мы начнем все с самого начала.
Почему-то его слова вселили в меня надежду, и я согласилась на госпитализацию, к огромному облегчению моих сторонников, которые с напряженным вниманием следили за развитием событий, и, уж конечно, моей дорогой Изабеллы.
И действительно, судья Ласу задействовал все имевшиеся в его распоряжении силы и средства, он предпринял поиски по всем направлениям, проявив столь высокую активность, что я снова поверила в возможность встретиться с дочерью. К несчастью, три месяца спустя после того, как он начал работать, у него случился инфаркт, и Ласу был вынужден передать дело другому судье, который уже не проявлял подобного рвения.
– Этому делу уже столько лет, а следователи завалены текущей работой, – говорил он в свое оправдание.
Все начатое старым воякой Ласу повисло в воздухе, и давнее дело о похищении было отложено в долгий ящик.
Показания г-жи Даниэллы Катрепуэн,
родившейся 14 октября 1968 г.,
вице-председателя Версальского суда,
30 июня 2015 г. Выписка из протокола.
[…] Прекрасно помню эту женщину, очень напряженную и непростую в общении. Она постоянно находилась в нервном возбуждении, была нетерпимой и требовательной. […] Мои предшественники предупреждали насчет ее душевного состояния и неуравновешенности. «История с дочерью сделала из нее параноика», – сказал мне один судья, и, должна признать, он оказался прав. […]
Об этом деле я услышала задолго до того, как получила назначение, и была потрясена им, как и большинство людей в то время. С первой же встречи я старалась завязать с потерпевшей дружеские, доверительные отношения. Но я просчиталась. Обиженная на весь белый свет, она ополчилась и на меня, словно я была виновницей ее несчастья. Клятвенно заверяю, что любой судья на моем месте стремился бы всей душой добиться ясности в этом тяжелом деле. Мне пришлось фактически все начать с нуля, я заново допросила свидетелей и вплотную подошла к сотрудничеству с Интерполом. Короче, я сделала для нее больше, чем для кого-либо другого в подобных делах, можете поверить. Однако, по ее мнению, расследование продвигалось слишком медленно, и не прошло нескольких месяцев, как она устроила мне сцену, проявив крайнюю агрессивность. […]
Продолжать общение с ней было невозможно. Думаю, она со временем частично утратила адекватность мышления и купалась в своем несчастье, взяв на себя роль жертвы. В конце концов я пришла к выводу, что она уже не могла обходиться без своих страданий. Как-то раз после одной из наших встреч я невольно задала себе вопрос, а будет ли она счастлива, если все-таки найдет свою дочь? Особенно если посмотреть на это в свете недавних трагических событий…[…]
Но, отвечая на ваш вопрос, скажу следующее: для меня это была потерявшая над собой контроль, сломленная горем женщина, и только этим я объясняю ее резкость и грубые выпады в мою сторону. Никогда, уверяю вас, у меня не возникало впечатления, что я имею дело с умалишенной. […]
29 София
Спрятавшись от солнца в тени трамвайной остановки и положив сумку на колени, я сидела уже больше часа, не сводя глаз с входов в табачный бар. Мое стеклянное укрытие было сплошь покрыто цветными росписями, что, к сожалению, не давало мне возможности видеть их перемещение внутри зала. Время от времени я вставала во весь рост и поглядывала туда издалека.
Однажды во время прогулки с Гортензией до площади Тертр я заметила на одном грузовичке безобразную надпись в том же стиле. Гортензия объяснила, что это – теги[28].
– Какое чудно́е название, – удивилась я тогда. Только молодежь способна давать такие нелепые имена.
– Вы словно из другого мира, София! – воскликнула она с очаровательным смешком, от которого каждый раз таяло мое сердце.
Но я сдержалась, хотя мне и захотелось ответить: «Да, я из другого мира – мира двадцати двух лет страданий».
А сказала просто:
– Я слишком стара для всего этого.
– Не говорите глупостей! Вы еще молодая.
И она, наклонившись, поцеловала меня в лоб. Кстати, Гортензия выше меня почти на голову. Она тоненькая и высокая, а я – низкорослая и крепко сбитая, и трудно догадаться, видя нас рядом, что мы – мать и дочь. Не буду скрывать, я испытываю чувство гордости, что, имея посредственную внешность, произвела на свет столь грациозное и красивое существо. Когда Изабелла впервые увидела ее в ресторане, она с трудом поверила, что это моя дочь, и не сразу пришла в себя. Насколько я понимаю, она преувеличила наше сходство, чтобы сделать мне приятное. Никакого сходства на самом деле нет, Гортензии передались по наследству только мои волосы, белокурые и такие густые, что не продерешь расческой.
С раннего детства я знала, что далеко не красавица. Но, представьте (вот идиотка!), я верила Сильвену, когда он, сюсюкая, называл меня очаровательной и говорил, что без ума от меня.
Проклятые теги очень мешали мне наблюдать за двумя входами в бар, так что через пару часов слежки я забеспокоилась, не пропустила ли я момент, когда они оттуда вышли. Покинув свое убежище, я направилась к бару, чтобы заглянуть внутрь и самой во всем убедиться. На террасе в то время никого не было, и мне не составило труда разглядеть их в зале. Они не двинулись с места. Я даже услышала, как Гортензия громко хохотала. Поскорее отвернувшись, я прибавила шаг из страха, что они меня заметят. Интересно, что такого забавного он ей рассказывал? А меня он на долгие годы лишил смеха моей дочери! Во мне вскипала кровь при мысли о том, что они так близки, моя дочь и эта сволочь. «Ничего, в день, когда Гортензия узнает правду, вряд ли она будет смеяться», – мысленно произнесла я, чтобы придать себе сил.
Но тут же подумала: а уж не надо мной ли они смеялись? Но я прогнала эту мысль. Нет, невозможно. Только не она, не моя дочь, это было бы слишком несправедливо.
Развернувшись, я побрела обратно на остановку. Он мне заплатит сполна за этот смех. Я снова села, потеснив толстую женщину с ребенком на коленях, и опустила руку в сумку. Он был на месте.
Пистолет мне дала Изабелла двадцать два года назад, когда Сильвен вновь неожиданно вторгся в мою жизнь. Оружие досталось ей от отца, и когда я его увидела, мне долго пришлось просить подругу, пока та наконец не уступила.
– С оружием я буду чувствовать себя в большей безопасности, – сказала я Изабелле, заверив, что никогда к нему не прибегну.
Не так давно она спросила меня о пистолете, у меня ли он еще. Я соврала, сообщив, что давно от него отделалась. Реакция Изабеллы меня удивила:
– Жаль! А я-то надеялась, что ты влепишь ему пулю промеж глаз, если однажды столкнешься лицом к лицу с этим гадом!
В тот день мы вволю над этим посмеялись.
Изабелла и не догадывалась, что со дня похищения Гортензии пистолет всегда был в моей сумке наготове.
Уж кому, как не мне, было знать, на что способен этот человек.
И тут, лаская рукой гладкий ствол, я подумала, смогу ли я им воспользоваться, если Сильвен снова станет мне угрожать? Чтобы выстрелить в человека, требуется мужество, даже если он чудовище, каких земля еще не носила.
Сердце билось так сильно, что я поневоле закрыла глаза. Я чувствовала, как по лбу стекают капли пота.
– С вами все в порядке, мадам?
Открыв глаза, я увидела обращенные ко мне лица толстой женщины и мальчишки. Наверное, я выглядела ужасно, раз ребенок таращился на меня скорее с испугом, чем с любопытством.
Мое короткое «Спасибо, все хорошо» означало «Тебе-то какое дело?». Женщина больше вопросов не задавала. Закрыв сумку, я спиной почувствовала ее взгляд, ибо рывком встала с места, увидев, что Гортензия и ее отец вышли из бара.
Я смотрела на них не отрываясь.
Дочь поцеловала его с нежностью, а тот ласково потрепал ее по щеке. Надо ли говорить, что все это мне не понравилось. Но вот они расстались, и Гортензия пошла в моем направлении. Только бы она не вздумала поехать на трамвае! Покинуть убежище я не могла – она обязательно меня бы заметила, то есть я очутилась в ловушке. Снова сев на лавку и низко опустив голову, я поправила солнечные очки и вся съежилась, словно надеялась стать невидимкой.
А тут еще дура-соседка вмешалась в дело:
– Мадам, с вами точно все хорошо?
Я пробормотала:
– Да пошла ты к черту!
К счастью, после этого она замолкла.
Передо мной уже витал терпкий аромат духов дочери. Несколько мучительных секунд я готовилась к самому худшему, сердце бешено колотилось, потом я повернула голову. Гортензия прошла мимо остановки и теперь была уже далеко, справа от меня. Я вздохнула с облегчением – она меня не увидела.
Еще дальше, в сотне метров, но уже слева, я различила фигуру Сильвена и его лысину. Потом он свернул вправо, и я мгновенно приняла решение: нельзя терять его из виду, обязательно нужно узнать, где он живет. Перед тем как уйти с остановки, я бросила взгляд на Гортензию и увидела, что та остановилась, словно засомневалась, куда пойти. Вдруг она повернула назад, перешла через дорогу и побежала в сторону Сильвена, что-то ему крича. Вскоре оба скрылись за углом улицы.
Я быстро встала, повесила на плечо свою черную сумку из кожзаменителя под крокодила, задев при этом мальчишку, снова поправила солнцезащитные очки и пошла по их следу.
Теперь я была готова ко всему, ощущая бедром приятную тяжесть пистолета. Сзади раздался голос толстой женщины:
– Не смотри, сынок, на эту старуху, она – злая!
30 Гортензия
В моей жизни бывали моменты, когда я могла простить отцу все, что угодно. Расстреляй он выходивших из школы детей, придуши беззащитных старушек, укради последнее у прикованного к постели инвалида – простила бы и это. О чем я ему и сказала, после чего мы оба залились хохотом. С важным видом отец сделал мне признание, что не далее как вчера воспользовался беззащитностью девяностолетней карги, предварительно накачав ее «другом насильника»[29], а потом мы принялись выдумывать преступления одно отвратительнее другого, проявив такую изобретательность, что на глазах у нас от смеха выступили слезы. Наша чудесная близость с отцом – это самое ценное, что есть у меня в жизни…
Наконец мы немного успокоились, когда поняли, что эта невинная игра привлекла внимание других клиентов. Но нам понадобилась еще четверть часа, прежде чем мы решились уйти из бара.
Для меня нет ничего дороже таких вот моментов, когда на всей планете нас только двое – он и я. Тогда мне кажется, что я единственная, кто имеет для него значение в этом мире.
Он способен пожертвовать жизнью ради меня, я уверена.
Часто, когда я засыпала, ко мне приходил один и тот же сон. Отец нес меня на руках. Сначала он шел, потом переходил на бег. Сзади были слышны голоса рассерженной толпы, они становились все громче. Жестокие, переполненные ненавистью люди пытались нас догнать. Я очень боялась, что отец меня покинет, но на его лице сияла ободряющая улыбка. И тогда, чтобы уйти от преследования, мы поднялись ввысь и полетели над домами, лесами, океанами. И я так была счастлива, что хотела одного – чтобы этот дивный полет никогда не кончался. Но тут отец говорил, что я тяжелая и у него больше не было сил скрываться от погони, и мы опускались на крону огромного дерева, наблюдая с высоты за вопящей внизу толпой, выкрикивавшей мое имя. Отец шептал, что теперь мы спасены, и в этот момент я просыпалась, вне себя от счастья.
В детстве я любила в объятиях отца рассказывать ему этот сон. И спрашивала иногда, что он мог означать. Покрывая меня поцелуями, отец говорил, что сон означал, что мы счастливы вместе, что никто другой нам не нужен и что это будет длиться вечно, пока мы оба будем живы. С наивностью ребенка я переспрашивала:
– Всю жизнь вместе?
– И даже дольше, детка! – провозглашал он.
Не знаю почему, но как только отец ушел, в моей памяти всплыл этот сон. Мы едва расстались, а мне его уже не хватало. Правда, он предложил мне пойти к нему, но я не захотела, он и не настаивал, зная, что я предпочитаю не встречаться с Изабеллой. Мне, в общем-то, не в чем ее упрекнуть, она всегда была ко мне внимательной, но, когда мы оказывались втроем, меня не покидало ощущение, что я теряла отца. Это был уже не совсем тот человек, который говорил, что только я имела для него значение. Я понимала, что Изабелле удалось занять огромное место в его жизни, куда большее, чем у подруг из прошлого.
Уже много лет я не видела этого сна. Порой вечером я молилась, чтобы он ко мне вернулся. Но все напрасно. Наутро я так и не могла вспомнить толком, что видела во сне.
«Может быть, сегодня или завтра…» – напевала я давно забытую песенку, подходя к трамвайной остановке. Как бы мне хотелось, чтобы сейчас он оказался рядом, и мы вместе бы ее спели, как в детстве. Я обернулась, чтобы махнуть ему рукой – пусть вернется! Но поздно, он уже свернул вправо. До здания, в котором жил отец, оставалось всего метров двести-триста. Что ж, не судьба. В этот момент я услышала звук приближавшегося трамвая. Но я в него не села. Я знала, отец не рассердится, что я передумала, а напротив, будет доволен, что я решила провести вечер с ними. Да и других планов у меня не было. И тогда я вернулась, перешла улицу, не обращая внимания на машины, потом еще ускорила шаг и почти побежала, так сильно захотелось снова его увидеть! Громко крикнув его имя, я наконец поняла, что он меня заметил.
Отец подождал, пока я с ним поравняюсь, и с улыбкой произнес:
– Прекрасно, дорогая, Изабелла тоже будет очень рада!
Невозможно объяснить, почему (позже я пойму, что сработало шестое чувство) в этот момент я обернулась и посмотрела по сторонам.
И тут я заметила, как в подъезд дома на противоположной стороне улицы юркнула чья-то фигура.
Видение было мимолетным и не привлекло бы моего внимания, если бы у меня не возникло вдруг ощущение, что кто-то старался спрятаться. И я разглядела тень, которую отбрасывала таинственная фигура, замершая на пороге дома и считавшая, что ее никто не видит. Мне показалось, что я узнала в этой тени серый плащ Софии. Конечно, хорошо было бы в этом убедиться, но отец меня уже торопил.
Что она могла делать здесь, рядом с домом отца?
Когда мы поднялись на шестой этаж, я, едва поздоровавшись с Изабеллой, бросилась к окну. Высунувшись наружу и обшарив улицу взглядом в поисках серого плаща, я ничего не увидела и решила, что мне померещилось.
– Что ты там высматриваешь, даже не поцеловав Изабеллу! – упрекнул меня отец, и я снова была очарована его красивым голосом. – А не пригласить ли мне вас, девчонки, в ресторан? – с небрежной веселостью бросил мне он.
Изабелла восторженно захлопала в ладоши, я же никак не могла отделаться от чувства тревоги, которое внезапно сдавило мне грудь.
Это тревожное чувство не оставляло меня весь вечер и всю ночь тоже.
31 Гортензия
Никогда я не считала Софию лгуньей. Загадочной – да. Скрытной – возможно. Кем угодно, только не лгуньей.
А между тем она мне нагло врала, теперь я в этом убедилась.
Вчера она не явилась в ресторан, как обещала в прошлую субботу. Я напрасно прождала Софию весь вечер, храня для нее столик. Отсутствие ее сильно меня огорчило, вернее, выбило из колеи. Неужели она снова исчезнет на несколько недель, как уже делала это раньше? Не в силах вынести неопределенности, прямо посреди рабочего дня я вышла из ресторана и побежала к ее дому. Сквозь толстые шторы окон пробивался свет, и это меня немного успокоило. Но с тех пор как я увидела ее в субботу за городом, в Буа-Коломб, меня одолевали вопросы. Последние четыре ночи я с трудом засыпала, перебирая в голове десятки гипотез и пытаясь объяснить, почему она там оказалась.
Порой мне удавалось себя убедить, что все произошедшее – плод моего воображения. Странная фигура в подъезде находилась слишком далеко, чтобы как следует ее рассмотреть, и потом, что София там забыла? Шпионила за мной? Но ведь это бессмыслица. Наши отношения, какими бы своеобразными они ни были, результат обычного стечения обстоятельств. Что нас объединяло? Капелька любопытства да тоска по общению, вот и все. Она – бездетная, одинокая, а я – диковатая, без привязанностей, соблазненная поисками матери, в тот момент, когда отец готовился меня оставить… Отчего это вдруг взбрело мне в голову, что София за мной следила? Нет, стоит мне переступить порог ее запретной комнаты, как флер тайны спадет и все окажется куда банальнее.
Улыбнувшись, я подумала, что обвинять эту миниатюрную безобидную женщину в заговоре – верх нелепости.
Но потом тревожное чувство вернулось. Нет, не просто так, от одиночества сблизилась со мной София. У этой женщины что-то было против меня и моего отца. Она желала нам зла.
В субботу вечером мне даже пришлось выпить таблетку успокоительного.
Утром рассудок, как и положено, одержал верх: все это я себе навыдумывала, и мои тревоги ничего не стоили. Неудивительно, что София испытывала ко мне нежность – ведь по возрасту я годилась ей в дочери, вот и все.
Однако сомнения никуда не делись, просто отступили на время. Мне требовалась ясность. Иногда мне казалось, что я действительно становлюсь параноиком. Но обуздать свои страхи мне так и не удалось.
Вот почему я была так разочарована во вторник и поэтому в среду вечером, стараясь не замечать убийственных взглядов Максима, все же отвоевала для нее столик, хотя народу набился полный зал.
София показалась мне очень оживленной: она улыбалась, заказала и закуску, и горячее блюдо, и десерт. После паштета по-сельски она с наслаждением умяла телячье рагу, все, до последнего кусочка, а когда подошла очередь шоколадного мусса, смаковала его долго, бесконечно, и я подумала, что впереди меня ждет серьезная взбучка от шефа.
Для старой дамы аппетит у нее этим вечером был отменный. Говорю «старой» не потому, что ей много лет. София – далеко не старая, но выглядит такой из-за своих манер, одежды, унылого вида, бесцветного лица и глубоких морщин вокруг глаз. В день, когда она назвала мне свой возраст – пятьдесят один год, – я не могла в это поверить. Я дала бы ей на десяток лет больше. Но, если честно, она скорее кажется женщиной без возраста.
– Вам почти столько же лет, сколько моему отцу, – заметила я, чтобы скрыть смущение.
– Да, я знаю.
– Откуда вы можете знать? – с недоумением произнесла я.
– Простая логика, – поспешила она сказать, словно я застигла ее врасплох. Замешательство Софии тогда меня удивило.
Но теперь оно меня тревожит.
За ужином нам не удалось поболтать вволю – у меня было много работы, и я настояла на том, что провожу ее, когда она закончит еду.
Было уже около десяти, когда мы подошли к ее дому.
Я сказала, что она выглядит усталой.
– Во всем виновата жара, – ответила София, – я плохо сплю.
– В прошлую субботу вы тоже неважно выглядели.
– Неужели?
– По крайней мере мне так показалось.
Увидев, как она нервничает, набирая код, я не удержалась и спросила:
– Вы ходили куда-нибудь?
– Когда?
– В субботу, после моего ухода.
– Нет, не ходила. А почему ты спрашиваешь?
– Да просто из любопытства. Беспокоюсь о вашем здоровье, ведь обычно вы прогуливаетесь до Монмартра… Стоит позаботиться о себе, особенно в такую жару.
– Ты права. В субботу я почувствовала себя уставшей и осталась дома. Начала варить себе суп, да так и не закончила, а улеглась спать. И сразу провалилась в сон.
Кодовый замок после трех попыток наконец сработал. Она обняла меня, едва коснувшись губами щеки. Потом спросила:
– В субботу придешь ко мне на завтрак?
– Конечно.
– Тогда до субботы!
Пугливой тенью она метнулась в темноту коридора, не удосужившись даже зажечь свет.
Дверь захлопнулась. А я продолжала стоять еще несколько секунд, опустив руки и не сводя глаз с двери. Я была твердо уверена – София мне солгала.
32 София
В прошлую среду Гортензия страшно меня раздражала. Зачем понадобилось провожать меня до дома, словно я – беспомощная старуха? Когда я взглянула на ее босса, мне показалось, что тот пришел в бешенство от ее внезапного ухода. И немудрено: ресторан был битком набит, и официантки изнемогали от работы.
Но я остереглась делать ей замечание. Гортензия, я убеждалась в этом все больше и больше, очень чувствительна. В ней многое осталось от избалованного ребенка, за что стоит поблагодарить этого мерзавца, который, видимо, во всем ей потакал. Для меня же главное в воспитании детей – это не только справедливость, но и строгость, если необходимо.
Мне снова пришел на память день, когда мы отправились с ней в бассейн торгового комплекса «Форум-де-Аль», через несколько дней после того, как этот негодяй вновь появился в нашей жизни. Уже тогда я предпочитала не показываться на людях в купальнике, но дочка так любила купаться, что я не могла отказать ей в этом удовольствии. Поход в бассейн стал ее наградой за хорошее поведение. Устроившись с книгой на трибуне, я оставила дочку плескаться в лягушатнике, который ей строго-настрого было запрещено покидать. Обычно через какое-то время Гортензия подходила ко мне и просила поплавать с ней. Я, конечно, уступала, и мы вместе развлекались, обрызгивая друг друга водой.
Но в тот раз я чувствовала себя усталой, и мне не захотелось бросать книгу и лезть в лягушатник. Когда я снова подняла глаза, дочери там уже не было. Как безумная, я со всех ног бросилась к большому бассейну и нашла дочь на руках у инструктора по плаванию. Без его вмешательства Гортензия могла утонуть, по крайней мере так мне сказал директор бассейна строгим тоном, словно обвиняя меня в том, что я – плохая мать! Инструктор-то и вытащил Гортензию, которая барахталась среди взрослых пловцов, этих идиотов, которые ничего вокруг не замечали. «К счастью, Матье увидел, как девочка подходила к большому бассейну, вы должны поставить за него свечку, мадам!»
Я чувствовала себя совсем разбитой от пережитого ужаса и осуждающих взглядов родителей, которые стали свидетелями происшествия. Гортензия рыдала, повторяя, что она ни в чем не виновата, что ее толкнули и потому она упала в бассейн. В тот момент я не стала ее ругать, и мы быстро пошли одеваться. В метро она поняла, что я сильно рассердилась. Я крепко держала ее за руку, чтобы она шла рядом и не пыталась вырваться. Когда Гортензия попробовала ко мне приласкаться, я ее оттолкнула. Дочка все время твердила извинения, но это еще больше меня раздражало. Вернувшись домой, я немедленно отправила ее в постель, лишив ужина и всех ее Барби, которых я забрала в свою комнату.
Строго отчитав дочь и сказав, что она непослушная девочка, которая причиняет матери много страданий, я велела ей прекратить хныкать подобно младенцу.
– Что было бы со мной, если бы ты потерялась? Ты и правда хочешь сделать меня несчастной?
Потом, прежде чем погрузить детскую в полный мрак (Гортензия очень боялась темноты), я вынесла окончательный приговор:
– Раз так случилось, ты будешь наказана – больше ты никогда туда не пойдешь. Это послужит тебе уроком!
Дочка поняла, что я не шутила, и с тех пор уже не просилась в бассейн.
Вчера, несмотря на злобные взгляды босса, она настояла на том, чтобы проводить меня до дома, и все из-за того, чтобы задать мне несколько глупых вопросов. Почему, скажите на милость, ей так уж захотелось узнать, куда я ходила в субботу после обеда?
Необычное поведение Гортензии меня сильно взволновало. Зачем устраивать мне допрос, что, интересно, она собиралась выведать? Заметить она меня не могла, ведь я действовала с такой осторожностью! И следила за ними всегда издалека, прячась за стенами домов. Правда, я чуть не попалась, когда они переходили на другую сторону улицы, но тогда я тут же забежала в подъезд красного кирпичного здания. И оттуда увидела, как они, громко о чем-то беседуя и смеясь, скрылись в доме напротив. Несколько секунд потом я не выходила из подъезда, не спуская глаз с дома Сильвена. Увидев, как в одной из квартир на шестом этаже отодвинулись шторы, а потом открылось окно, я невольно отступила назад: мне показалось, что я различила лицо Гортензии. Я еще долго ждала, прежде чем покинуть свое укрытие, а затем постаралась как можно скорее уйти, отложив свой план на потом.
Главное сделано – я узнала, где он живет.
Придя домой, я сразу позвонила Изабелле и рассказала ей о своем приключении.
– Ты хоть понимаешь, как ты рисковала? – забеспокоилась она.
– Не волнуйся, отныне удача будет на моей стороне, – ответила я.
Призывы Изабеллы к осторожности меня раздражали. Особенно когда она меня спросила изменившимся голосом, уверена ли я в том, что это был он? К сожалению, я была вынуждена признать, что видела его только со спины и в профиль и что теперь он лысый. А ведь я не раз описывала ей густую черную шевелюру Сильвена. Но все равно сомнения подруги выводили меня из себя.
– Ты мне не веришь? – резким тоном спросила я.
– Да нет, конечно, верю! – прокричала она, но ее протест звучал фальшиво.
– Ладно, раз уж ты принимаешь меня за сумасшедшую, мне лучше прекратить этот разговор.
Я положила трубку. Телефон потом звонил еще несколько раз, но я предпочла не отвечать, настолько я была разгневана. Пусть лучше займется своим паршивым мужем.
В воскресенье, пожалев о случившемся, я не удержалась и позвонила, намереваясь извиниться и сказать, что встреча с моим палачом через двадцать два года выбила меня из колеи. Я была уверена, что Изабелла все поймет.
Но, как ни странно, она не ответила ни на один из моих вызовов, ни на голосовые сообщения. В конце концов, на грани нервного срыва, я перешла к угрозам:
– Изабелла, если ты мне не перезвонишь в течение пяти минут, я вычеркну тебя из своей жизни!
А в последнем сообщении, что я оставила в пять минут первого ночи, я положила конец нашим отношениям.
– Теперь ясно, Изабелла, что между нами все кончено. Больше я никогда тебе не позвоню и не оставлю сообщений… Ты мне не подруга. Желаю счастья и тебе, и твоему дебильному мужу. Подтирай ему задницу и дальше, только на это ты и способна!
Грубость мне, вообще-то, не свойственна, но в данном случае она была намеренной. По моему мнению, Изабелла не имела никакого права покидать меня в столь решающий момент. Старая истина получила новое подтверждение: в этой жизни можно рассчитывать только на себя.
Теперь я ждала Гортензию на завтрак со спокойной душой. Уже были приготовлены салат из помидоров и фруктовый салат на десерт, в духовке запекалась курица (если бы я потакала ей в детстве, мы только курицу бы и ели). Все складывалось прекрасно: выбор блюд был великолепен, и совсем скоро мне предстояло встретиться с Гортензией. Дочь вновь будет рядом, принадлежа только мне одной. И притом был известен адрес нашего палача. Отныне время работало на нас, у меня на руках были все козыри.
Я перестала сердиться на Гортензию за ее бестактное поведение в прошлую среду. Молодежь редко задумывается о последствиях своих поступков (разве я была другой в ее возрасте, достаточно вспомнить, с какой легкостью соблазнил меня этот мерзавец!).
Как ни удивительно, я гораздо меньше, чем думала, переживала разрыв с Изабеллой. Похоже, я полностью смирилась с ее отсутствием. То, что случится потом, будет касаться только меня.
В жизни всегда нужно рассчитывать лишь на себя самого.
33 Гортензия
Перед тем как сесть завтракать, София задернула шторы, чтобы уберечь квартиру от полуденного солнца. Она казалась спокойной, веселой и счастливой от того, что принимает меня у себя; легкая неприязнь, которую я почувствовала в ней в среду вечером, исчезла без следа. Стол был отлично сервирован и выглядел очень элегантно. Я была напряжена, но, когда она открыла духовку, чтобы полить водой курицу, и до меня донесся чудесный аромат, у меня потекли слюнки.
– Почти готова, – возвестила она. – Ты проголодалась?
– Да, София, курица на вид изумительна.
– Еще бы, двенадцать евро за кило…
Тон ее изменился, сделался резким, что меня немного озадачило. Больше не сказав ни слова, она убрала с круглого столика вазу, куда обычно ставила розы, которые я ей приносила. Но на этот раз цветы вылетели у меня из головы.
Я почти заставила себя прийти к Софии, в голове крутились тысячи вопросов, которые вряд ли мне удастся ей сегодня задать.
Неприятное впечатление, которое произвела на меня ее ложь, никак не хотело меня отпускать. В тот вечер мне было настолько не по себе, что я даже не смогла вернуться на работу. Для Максима была придумана история о том, как Софии стало совсем плохо и пришлось вызывать скорую. Не думаю, что он мне поверил, однако на этот раз он не рычал по его обыкновению и не грозил, что выгонит к чертовой матери, а удовольствовался мирным замечанием:
– Надоела мне твоя старуха, скажи наконец, когда мы от нее избавимся?
Я не переставала думать о событиях прошлой субботы, пытаясь дать логическое объяснение поступку Софии. Но мне это не удавалось. Если все-таки тогда я видела ее, почему она за мной следила? Но я постаралась себя успокоить: даже если я и не ошиблась, какая разница? Обычное любопытство пожилой женщины, которой нечем заняться. Застигнутая на месте преступления, не могла же она признаться, что шпионила за мной, ей оставалось только выкручиваться да лгать. Но мое волнение, вернее тревога, не отпускало меня, и я никак не могла от нее отделаться.
Изо всех сил я старалась не показывать виду, что испытываю неловкость. Однако София, накладывая мне в тарелку курицу с чудесной золотистой корочкой, не преминула заметить:
– Ты совсем ничего не съела, доченька, у тебя тарелка полная. Что-то тебя беспокоит?
– Нет, все замечательно. Может быть, от жары нет аппетита.
– Оставь жару в покое, Эмманюэль. Ты ведь знаешь, что мне можно рассказать все.
Вместо объяснений я задала вопрос:
– В среду вы плохо выглядели и казались продрогшей, вам нездоровилось?
– В моем возрасте всегда что-нибудь болит, не забывай, что мне пятьдесят один год.
– Разве это старость? Вы еще молоды.
Улыбка сошла с ее лица.
– Ну, раз ты говоришь… – затем после недолгой паузы добавила, как бы беседуя сама с собой: – Пятьдесят один год, прожитый впустую, если не считать…
Фраза повисла в воздухе. Закончит она ее, в конце концов?
– Если не считать, что? Расскажите, пожалуйста!
– Если не считать…
В словах Софии было столько горечи, что внезапно воздух словно зарядился ее болью, и меня накрыла волна сострадания к этой женщине с невидимыми миру ранами. Несмотря на всю мою настороженность, я почти забыла о вопросах, мучивших меня уже неделю. Горе Софии сделалось моим горем.
Не желая упускать этот момент, я взяла Софию за руку и нежно ее погладила. Она опустила глаза, и я чуть не разрыдалась. Заговорила я с необычайной мягкостью в надежде ее поддержать:
– Нет ничего прекраснее жизни, – изрекла я очередную банальность. – Всегда повторяю это себе, когда теряю самообладание.
– Мою жизнь вряд ли назовешь прекрасной.
Встав из-за стола, я подошла и обняла ее. София прижалась ко мне, теперь уже рыдала она.
– Не плачьте, пожалуйста! – Все, что я могла сказать.
Через мгновение она высвободилась из моих объятий, вытерла мокрые от слез щеки обшлагом рукава.
– Давай доедим курицу, а то совсем остынет.
– Вы в порядке?
– Ну конечно, в порядке. Извини, накатило что-то, и я расчувствовалась. Видишь, все уже прошло.
София смахнула последнюю слезинку и широко улыбнулась.
– Я в отличной форме, не волнуйся, – проговорила она.
Я снова села и взялась за куриную ножку. Но я не собиралась на этом успокаиваться, особенно в столь подходящий момент.
– Вы были когда-нибудь замужем?
– Какая же ты любопытная, Эмманюэль! Нет, никогда. – Потом бросила на меня лукавый взгляд: – Но в моей жизни были мужчины, ведь я тоже была молодой!
Не знаю почему, но я ей не поверила, и смешок Софии показался мне притворным. Однако стоило поддержать игру, может, она пустится в откровения? Я слишком уж мало о ней знала.
– Значит, вы были еще та шалунья?
– Не стоит преувеличивать.
– Могу дать голову на отсечение, что да! И у вас никогда не было детей?
София спокойно ответила, словно этот вопрос не имел большого значения:
– Была дочь, но она исчезла.
– Исчезла? Что вы хотите сказать?
– Умерла.
– Умерла?! – невольно вырвалось у меня.
– Все это было очень давно. Такова жизнь. Давай поговорим о чем-нибудь другом…
У меня все похолодело внутри от признания Софии, я чувствовала себя раздавленной. Однако я продолжила:
– Но ведь это ужасно! Сколько вам, наверное, пришлось страдать.
Наступила тишина. Потом я тихонько спросила:
– Как ее звали?
– Тебе действительно интересно?
– Конечно.
– Гортензией, любопытная девочка.
– Гортензия… Красивое имя.
Я потянулась к ней, чтобы снова взять ее руку, разузнать подробности страшной трагедии. Но София отшатнулась и встала с места.
– Не хочу сегодня об этом вспоминать. Ради бога, не будем портить себе такой замечательный день. Когда же ты доешь свою курицу? Уверена, она совсем холодная.
С трудом заставила я себя проглотить еще кусочек. Признание Софии полностью отбило у меня аппетит.
– Да нет, все отлично, она еще теплая.
– На десерт у нас фруктовый салат, но у меня осталось немного фисташкового мороженого. Что предпочитаешь?
Я выдавила из себя улыбку.
– Фруктовый салат, я его обожаю.
София выбором осталась довольна.
– Он превосходно мне удался, вот увидишь. Я добавила туда листики свежей мяты.
Она снова замкнулась в себе, и я поняла, что сегодня уже ничего от нее не добьюсь, она и так много сказала. В следующий раз, возможно, она еще что-нибудь мне откроет. Вспомнив о запертой комнате, я подумала, что наконец-то ее тайна раскрылась: в ней хранились воспоминания об умершем ребенке Софии и ее прошлой жизни, полной страданий.
Вот о чем я размышляла, пока София, что-то мурлыча себе под нос, готовила нам кофе. И я могу поклясться, что напевала она детскую считалочку.
34 Гортензия
После кофе все пошло наперекосяк.
Все испортилось.
Мы допивали по первой чашке, и София спросила, хочу ли я вторую. Я согласилась. Надо сказать, ее песочное печенье и кофе – божественное сочетание. София покупает их в пятнадцатом округе. «Для тебя я еду через весь Париж», – обычно говорит она, когда раскладывает их на блюдечке жьенского фарфора возле моей чашки. За исключением последней субботы, каждый раз я уношу пакетик с собой, «маленький недельный запас», как она шутливо замечает.
Преодолев тяжелый момент, когда она рассказала о смерти дочери, мы закончили завтрак очень приятно, болтая о том о сем. Вернее, главным образом обо мне. Софию интересовало буквально все, и притом у нее был уникальный дар раскручивать собеседника, вызывая его на откровенность. И я почти добровольно сообщила ей размер своей зарплаты, выдуманные имена последних любовников (имя Сатурнен привело ее в восторг, «еще тот, наверное, бабник был твой дружок?»), но потом, как всегда, разговор перешел на мою жизнь с отцом.
София спросила, как бы между прочим:
– А та женщина, подруга отца, о которой ты говорила, какая она?
– Вполне симпатичная, но я редко с ней вижусь.
Ответила я кратко, потому что не хотела о ней говорить. Но София не унималась.
– И это все? Ты не из болтливых, дочка. Красивая? Сколько ей лет?
– Раньше подружки бывали моложе. За пятьдесят, но она отлично сохранилась, надо признать. Расцвет осени, как говорят, – пикантная, с хорошими манерами, всегда прекрасно одетая. Очень привлекательная, хотя и, на мой вкус, слишком увлекается косметикой.
– Похоже, ты ее недолюбливаешь.
– Вовсе нет.
– Маленькая лгунья! – с улыбкой произнесла она.
У Софии хорошо работает интуиция, она права – мне с трудом удается скрывать неприязнь к Изабелле.
– Как ее зовут?
– Изабелла.
– Ах, да, вспомнила. А дальше?
Тон у нее был наигранно-непринужденный, в словах чувствовалась фальшь.
– А дальше – не знаю.
И это чистая правда, хотя и полная нелепость, как я только сейчас поняла: мне не известна фамилия женщины, которая живет с отцом уже больше двух лет. Значит, мне просто и не хотелось этого знать. Пусть навсегда останется чужой.
То ли мне показалось, то ли на самом деле София вздрогнула. Я могла и ошибиться. Но вот к ней вернулось прежнее бесстрастное выражение лица, холодное, немного пугающее. Она уставилась мне прямо в глаза.
У меня не было желания продлевать разговор об Изабелле, но София, безразличная к моему смущению, продолжала расспрашивать, и мной вновь овладела тревога.
– Как твой отец встретился с Изабеллой?
– Точно не знаю, мне кажется, они знали друг друга и раньше, когда он еще жил в Париже.
– Вот оно что? Интересно! Сколько уже времени они знакомы?
Я чувствовала себя как на допросе, не понимая, зачем ей все это было нужно, но подчинилась, словно находилась под гипнозом. Если я заручусь ее доверием, может, и она раскроется?
– Отец не рассказывал мне подробностей. Когда мы вернулись в Париж, он нашел ее, и с тех пор мы жили вместе.
– Нашел здесь, в Париже?
А то ты этого не знала! Мне захотелось ее подловить:
– Нет, в Буа-Коломб, знаете, где это?
– Ну конечно, за Нантером.
– Вы там бывали?
– Нет, никогда. Да и что я там забыла? Я не выезжаю из Парижа, разве что в Бретань, повидаться с родственниками, да и то все реже и реже.
– Да, помню, в Пемполь, верно? А у вас есть братья или сестры?
– Есть, но я не хочу о них говорить. Как-нибудь в другой раз. Лучше расскажи, чем занимается Изабелла, кем она работает?
Далась же ей эта Изабелла! Что за болезненное любопытство ко всему, что имеет ко мне отношение! Но послать Софию подальше я не решилась. Я уже знала: стоило ей вбить что-то в голову, и она не отступит, словно хищник, вцепившийся в жертву. И свернуть ее с пути невозможно.
– По-моему, работает в банке, но не уверена.
– Кажется, банкирша тебя мало интересует. Ведь ты ее не любишь, признайся? Она сделала тебе что-то плохое?
– Да нет, ничего не сделала. Просто у меня отсутствуют гены привязанности, скажем так.
София сузила глаза до щелочек, замолчала, потом снова заговорила глухим голосом, словно вопрос, который она готовилась задать, стоил ей немалых усилий:
– Она, говоришь, красива?
– Да, скорее, очень привлекательна.
– Держу пари – высокая блондинка.
– Вовсе нет, брюнетка. Притом жгучая. Прекрасные волосы, но она часто их забирает в хвост. Скажите, София, что это за нездоровое любопытство, почему она вас настолько заинтересовала?
– Я по своей природе любопытна, а потом, ведь это касается твоей жизни, как я могу не интересоваться? – спокойно проговорила она, снова улыбнувшись. – Ты мне очень дорога, Эмманюэль, ведь ты знаешь. Итак, насколько я поняла, твой отец по-настоящему влюблен, верно?
– Думаю, да. Но я стараюсь не лезть в их отношения.
– Так вот: ты ее не принимаешь потому, что она отняла у тебя отца.
Кровь во мне вскипела:
– Никто никогда не отнимет у меня отца, София!
Она встала и, не произнеся больше ни слова, подлила нам кофе, который оказался чуть теплым. Постоянно чувствуя на себе ее взгляд, я стала молча его пить. У меня было впечатление, что я угодила в расставленную ловушку. Но вскоре я сбросила оцепенение:
– Пожалуй, я пойду.
– Уже? – удивилась она. – А я-то надеялась, что мы вместе прогуляемся до холма Перепелов[30]. Погода прекрасная…
Уступать нельзя. Я встала из-за стола. У меня было только одно желание – поскорее уйти. Пришлось соврать:
– Очень жаль, София, но мы с подругой договорились сходить в кино.
– На какой фильм?
Застигнутая врасплох, я пробормотала:
– Точно не знаю – она выбирала, какой-то старый фильм с Хамфри Богартом.
Но София не сдавалась.
– Вы с ней встретитесь где-то здесь, в нашем квартале?
– Нет, на улице Сент-Андре-дез-Ар.
Мой ответ прозвучал неубедительно, но, кажется, ее удовлетворил.
– Ладно, тогда беги, не хочу, чтобы ты опаздывала… но в следующую субботу пройдешься со мной до Монмартра, договорились?
Перспектива вновь сюда вернуться мне отнюдь не улыбалась, и все же я заставила себя ответить бодрым тоном:
– Договорились!
София обняла меня и поцеловала. Я вынуждена была покориться.
На этот раз я спустилась по лестнице – мне не хотелось чувствовать на себе взгляд Софии через глазок двери. Опять я была выбита из колеи: мной все больше овладевало неприятное ощущение, что она скрывает какую-то тайну, в которой я играю определенную роль. Вот только какую?
Выйдя на улицу Мучеников, я сделала над собой усилие, чтобы не посмотреть на окно, из которого, вне всяких сомнений, она за мной наблюдала.
В голове крутились ее последние слова. Открывая входную дверь, чтобы меня проводить, София произнесла задумчиво:
– Изабелла… Как ни странно, мне никогда не нравилось это имя. А тебе?
Мне не хотелось это обсуждать, и я ответила нейтральным тоном:
– Обычное имя, как все остальные.
– Как все остальные, говоришь? Только не для меня.
35 София
Малышка Гортензия сегодня спустилась по лестнице (она уже не ребенок, знаю, но мне доставляет удовольствие называть ее «малышкой», особенно теперь, когда мне известны подлинные масштабы нашего несчастья). Я едва успела закрыть дверь, а ее уже и след простыл. Ноги у меня были ватные, голова кружилась так, что я не нашла в себе сил подойти к окну, чтобы посмотреть ей вслед. Вместо этого я рухнула в мое старое, изношенное кресло. Я так и не оттерла пятен крови под правым подлокотником, и они хорошо заметны на серой обивке. С годами они не стерлись, просто почернели. Даже с закрытыми глазами я могла без ошибки провести пальцем по каждому из них. Когда я, привязанная к стулу, упала на пол, выбиваясь из сил, чтобы освободиться и привлечь внимание соседей, я с такой силой стучала ногами об пол, что кресло опрокинулось и испачкалось в крови.
Я не могла прийти в себя от того, что мне сегодня открылось.
Какой же сволочью оказалась Изабелла!
Потрясение было настолько сильным, что несколько минут я была не в состоянии ни двинуться, ни заплакать, чувствуя лишь, как в груди нарастает волна ненависти. Невозможно в это поверить. Снова целый пласт моей жизни рассыпался в прах, оставив после себя пустоту. Все эти годы я испытывала к Изабелле безграничное доверие, пользовалась ее привязанностью, дружбой, любовью, преданностью, всегда следовала ее советам…
Верила ей.
А все оказалось враньем с единственной целью заманить меня в ловушку.
Мне не хватало дыхания, головокружение не проходило, хотелось исчезнуть, ничего больше не чувствовать. Это было слишком страшно, непереносимо. Понять, до какой степени я была обманута, доверив свои надежды, свою жизнь этой женщине. Двадцать два года напрасных, заранее обреченных поисков пронеслись перед моими глазами.
Так, значит, это была она в Буа-Коломб, чей неясный силуэт промелькнул в окне квартиры на шестом этаже? Чем больше я об этом думала, тем сильнее убеждалась в своей правоте: теперь я узнавала и ее походку, и посадку головы, и роскошные черные волосы.
Понемногу я начала приходить в себя, прочувствовав подлинную глубину ее предательства. Я отдала ей все, и она лишила меня всего. Мое поражение – ее победа.
Наконец все прояснилось. Изабелла с самого начала была сообщницей Сильвена. С его красотой ему нетрудно было ее соблазнить в то время, когда он крутился возле яслей, подстерегая дочку. Не сомневаюсь, что ему удалось убедить ее в своих благих намерениях. И эта дура ему поверила. Он обрисовал ей меня как чудовище, недостойную мать, лишившую его возможности видеться с дочерью. Уверена, Изабелла встала на его сторону, и они вместе разработали дьявольский план, чтобы отнять у меня Гортензию. Ее внимание ко мне, послания, подбадривания, все это служило одной цели – заручиться моим доверием. Именно Изабелла помогла ему убежать и спрятаться на первое время. Кому бы пришло в голову разыскивать его у подруги, не отходившей от меня ни на шаг после похищения? Ну и ловкачка же она! Я ни разу не засомневалась в ее искренности, когда она изображала мою наперсницу. А со временем Изабелла отдалила от меня всех, кто помогал мне, чтобы оказаться единственной, с кем я поддерживала отношения. Единственной.
Наверняка они с Сильвеном издевались надо мной, когда она подтолкнула меня вместе с этой глупой гусыней Анной к унижению в телепередаче, и позже, когда я попалась в лапы проходимца-ясновидящего. В памяти всплывали наши диалоги, я вновь услышала, как неустанно она призывала меня не терять надежду, внушала, что рано или поздно моя дорогая дочка вернется. Возникли тысячи подробностей, ее обещания, притворное сочувствие… вспомнилось и то, как однажды, много лет назад, у нее из бумажника выпала фотография Сильвена. Тогда я удивилась, потому что не видела раньше такого снимка. Но я безоглядно поверила Изабелле, когда та сказала, что я сама ей дала его, чтобы она при необходимости могла узнать Сильвена.
У меня до сих пор стоят в ушах ее восторженные восклицания, когда я рассказала о моей встрече с Гортензией на улице Трюден. Наверняка я была предметом их постоянных насмешек. Я прихожу в бешенство при мысли, что столько лет была их игрушкой, забавой. И она контролировала меня, чтобы защитить его. Теперь я понимаю: она все это выдумала – отъезд из Парижа, заботу о больном муже, которого я никогда не видела. И которого, возможно, и вовсе не существовало. Или, еще хуже, которого она бросила подыхать потихоньку там, в провинции. Очень вероятно, что они никогда не теряли связи, что Изабелла регулярно навещала его, когда они жили с Гортензией за границей. И когда Сильвен вернулся во Францию, они воссоединились, продолжая наблюдать за мной, своей марионеткой.
Отныне все встало на свои места. Разве не подтолкнула эта садистка меня к самоубийству своими бесконечными предостережениями: «Только не наделай глупостей»?
Гнев мой рвался наружу, я не могла молчать. В этот момент я ненавидела ее даже больше, чем Сильвена. Схватив телефонную трубку, я высказала Изабелле все, что было у меня на сердце. Времени для защиты я ей не оставила, не дала возможности вновь мной манипулировать. Пусть знает, что мне известна правда, пусть почувствует мое отвращение. После этого я с яростью швырнула трубку, не желая слушать, ведь она ничего не могла мне сказать, кроме новой лжи.
Весь вечер я не двинулась с кресла, не обращала внимания на трезвонивший телефон. Ближе к полуночи я прослушала последнее сообщение Изабеллы, в котором ничего не было, кроме очередного вранья. Она, видите ли, не понимала, о чем идет речь, и говорила, чтобы я перестала ей угрожать, иначе ей придется подать жалобу в полицию. От ярости у меня перехватило дыхание. И я оставила ей очередное сообщение ночью, в котором обещала, что непременно с ней разделаюсь, оскорбляла ее и осыпала ругательствами. Разве за содеянное Изабелла всего этого не заслуживала? Высказав все, что у меня накипело, я почувствовала облегчение. Я встала с кресла и отправилась в комнату Гортензии, взяв с собой разбитую рамку с фотографией. В детской, где каждый предмет был полон воспоминаниями о моем ребенке, я окончательно успокоилась. В мозгу выстраивались всевозможные сценарии мести. Не стоит ли мне завтра же нагрянуть к этим негодяям, застав их врасплох? Я представляла их дрожащими от ужаса у моих ног, когда я появлюсь и наставлю на них пистолет. Сначала я выстрелю каждому в ноги, потом в живот и буду наслаждаться их страданиями, пока они не подохнут. А может, стоит заявить на них в полицию? Я так и видела, как они медленно идут в наручниках, руки за спину, пряча лица от камер, преследуемые ордой репортеров, под рев рассерженной толпы. А я, стоя в отдалении, за всем этим наблюдаю. Торжествую победу. Рядом со мной моя дочь, и мы очень счастливы.
Поглощенная мечтами о мщении, я почти забыла о ней, моей бедной девочке. Они причинили ей столько вреда! Не пришло ли время открыть Гортензии правду? Чтоб и она смогла им отомстить.
И я снова возблагодарила судьбу за то, что встретила ее на своем пути несколькими неделями раньше.
Улыбнувшись, я поцеловала фотографию дочери, вставленную в рамку. Разбитое стекло слегка царапнуло мне губы. Нащупав крошечную ранку, я поднесла палец ко рту, ощутив вкус теплой крови. Я закрыла глаза и вспомнила момент нашей первой встречи, когда я, узнав ее, стояла как соляной столб. Потом вновь увидела ее на скутере, позади этого монстра, когда она обернулась и посмотрела на меня.
И тут мне пришла в голову чудовищная, вызвавшая тошноту мысль. Я постаралась ее прогнать, но она сопротивлялась – зловещая, беспощадная. А что, если эта чудесная случайность вовсе не была случайностью? Да нет, это невозможно, кто угодно, только не моя девочка. Гортензия не могла быть их сообщницей, уж слишком это было бы… кошмарным. Я попробовала овладеть собой, будя в памяти воспоминания о чудесных моментах нашей близости за эти несколько недель, о том, как я боролась со своим раздражением, которое, увы, накапливалось по отношению к ней. Нет, я гнала прочь эту мысль. Сообщница? Нет, будь она их сообщницей, разве заговорила бы она об Изабелле?
Гортензия, как и я, – их жертва, невинная добыча двух палачей.
Я заплакала.
Мне стало страшно.
Свернувшись калачиком на кровати моей девочки, я наконец справилась со своим кошмаром. Только в позе зародыша я могла обрести подобие покоя.
36 София
Всю ночь я не спала, прокручивая в голове то, что узнала вчера. Как же я сердилась на себя за то, что доверилась Изабелле! Одного похищения им не хватило. Откуда взялось у них такое желание доставить мне еще больше боли? Почему Изабелла? Сколько бы я ни старалась найти причину, мне не удавалось – я никогда не причиняла ей зла. Каким же извращенным сознанием нужно было обладать, чтобы преследовать человека с такой жестокостью!
Утром решение было принято: я не стану к ним приходить и доносить на них в полицию не буду. И уж точно ничего не скажу Гортензии. Прежде всего я отделю правду от лжи, чтобы все понять. А потом разберусь с этими негодяями по своему усмотрению.
Теперь я понимала, что, раскрыв карты Изабелле, я совершила недопустимую ошибку. Как ее исправить? Не попробовать ли извиниться? Да нет, худшее уже свершилось. Как они, интересно, отреагируют? Не исчезнут ли они вместе с Гортензией, снова ввергнув меня в безнадежное одиночество? И чего они добивались? Чтобы я покончила с собой? Или хотели вволю насладиться моими мучениями?
И дрожь ненависти вновь пробежала по моему телу, стоило мне вспомнить Изабеллу в больнице, у изголовья кровати.
Перед всеми этими вопросами я была абсолютно бессильна. Но самым болезненным из них был вопрос о том, какая роль предназначалась Гортензии. Я не могла поверить, что дочь была их сообщницей, а предпочитала думать, что она тоже стала жертвой этой парочки монстров.
Оставаться в квартире дольше было невыносимо, я задыхалась. Мне нужно было поскорее выйти и глотнуть свежего воздуха.
Когда я подходила к площади Тертр, над Парижем уже вставало великолепное солнце. И у меня появилось ощущение, что ничего прекраснее я в жизни не видела.
Усевшись на каменных ступенях уличной лестницы и постепенно приходя в себя от благословенного тепла наступавшего дня, я наблюдала за пробуждением города. Мысли снова унесли меня к дочери, и мне захотелось, чтобы она была сейчас рядом. Как прежде, когда мы поднимались с ней по улице Лепик до самой вершины Монмартрского холма: дочка мирно дремала, пока я с трудом тащила коляску по крутому склону (эта тяжеленная коляска в сложенном виде стоит теперь в углу детской).
Здесь мерзавец Сильвен впервые меня поцеловал.
И мне вдруг вспомнилось все.
Прошла неделя с тех пор, как мы познакомились. Сильвен с такой настойчивостью просил меня о новой встрече, что я сразу согласилась.
Я сама предложила ему пройтись до Монмартра, когда мы закончили завтракать. Перед свиданием я как следует поработала над прической и оделась покрасивее, отчего чувствовала себя немного не в своей тарелке. Сильвен же выглядел как обычно – раскованным и естественным в своих джинсах и черной рубашке. Слегка загорелый, с длинными волосами, собранными в хвост по тогдашней моде, он был очень красив, и я гордилась, что иду с ним рядом. Он угостил меня клубнично-малиновым мороженым, а мне не терпелось скорее показать ему своих любимых художников. Оказалось, что Сильвен предпочитает карикатуристов. В конце концов после долгих уговоров я согласилась заказать свой портрет одному из них, поляку. Краснея от смущения, я все же высидела сеанс, хотя на меня со смешками таращились проходящие туристы. На рисунке я получилась носатой, щекастой и с коротенькими ножками. Но портрет очень позабавил Сильвена, и он мило поддразнивал меня: «Смотри, какая ты красотка!»
Вот идиотка: я все принимала за чистую монету, а когда он привлек меня к себе, чуть не задохнулась от счастья.
Все происходило здесь, неподалеку от места, где я теперь сидела.
Я точно знаю, сколько раз мы останавливались на обратном пути, чтобы поцеловаться. Знаю, потому что каждый поцелуй приветствовала громким счетом, как маленькая девочка. Еще один. Еще. Десятый. Одиннадцатый. И двенадцатый – перед самой моей дверью. Так что я и на секунду не задумалась, когда он попросил:
– Покажешь свою квартиру?
Квартиру он нашел классной, да еще и в суперском квартале, ценность которого год от года будет расти. На ужин я подала ему фаршированные помидоры, которые он счел потрясающими.
Мне очень хотелось, чтобы Сильвен остался на всю ночь, но он ушел еще до рассвета.
В воскресенье и последующие дни я чувствовала себя несчастной и нервничала как никогда раньше. Он не давал о себе знать. Разбитая и обозленная, я тем не менее с восторгом бросилась в его объятия, когда Сильвен явился ко мне в среду вечером с букетом чайных роз. Ни извинений, ни оправданий не последовало, так было и дальше – каждый раз, когда он исчезал, я его ни о чем не спрашивала. Я была счастливой только от того, что он вернулся.
Призрачная надежда появилась у меня, когда я призналась ему, что забеременела. Но я ошибалась, Сильвен просто ушел и больше не появлялся, и тогда я его возненавидела за то, что он нас бросил, даже не оглянувшись.
Снова я увидела его спустя два года и одиннадцать месяцев (тысячу сто двадцать два дня, да, я во всем люблю точность) возле выхода из министерства. На следующий день Сильвен опять явился туда, но я с такой яростью на него ополчилась, что он немедленно скрылся. Какое-то время я выходила с работы в страшной тревоге, оглядываясь по сторонам, не подстерегает ли он меня где-нибудь поблизости. Но дни шли, Сильвен не показывался, и я поверила, что навсегда от него отделалась.
Но потом, в субботу, он возник вдруг в нескольких метрах от ступенек, где я сейчас сидела, в том месте, где мы впервые поцеловались.
Сильвен подошел к коляске, даже не поздоровавшись, и я никогда не забуду его слова:
– Какая же она миленькая, наша малышка Гортензия. Моя дочурка!
Он собирался ее поцеловать, но я оттолкнула его, осыпая ругательствами. Я бросила ему в лицо, что он не имел никаких прав на нее, а он ответил, испепеляя меня глазами:
– Ну, это мы еще посмотрим! Берегись, София, как бы тебе об этом не пожалеть…
Я поспешила вернуться домой, и он не стал меня преследовать.
Пока я вновь проживала эту сцену, в голове возник вопрос, которого я раньше себе не задавала: откуда он узнал ее имя – Гортензия?
Теперь-то ответ известен, он написан черным по белому: Сильвен уже тогда якшался с гадиной Изабеллой. Она и сказала.
Бешенство вновь овладело мной, и, очнувшись от своего забытья, я поднялась со ступенек. Мне нужно обязательно вернуться в Буа-Коломб, и поскорее. Четкого плана не было. Просто я знала, что мне необходимо туда попасть.
Что-то властное неумолимо завладевало моим существом, росло с каждой минутой. Желание отомстить.
Показания г-на Петра Манковича,
художника, площадь Тертр,
25 июня 2015 г. Выписка из протокола.
[…] Я, поляк по национальности, родился 26 июня 1958 года во Вроцлаве. Женат, имею троих детей. […] Уже более тридцати лет я работаю на площади Тертр в качестве художника-карикатуриста. Во Францию я приехал в 1984 году, вынужденный покинуть Польшу из-за политических репрессий.
Я сразу же узнал свою подпись на рисунке, обнаруженном вами в квартире госпожи Софии Делаланд. Выполнен он был двадцать четыре года назад, как об этом свидетельствует дата, проставленная на обороте. […] Женщина, которую я нарисовал, всегда мне была известна под именем госпожи Софии. Фамилии ее я не знаю. Вот уже более двадцати лет она по выходным подходит ко мне, чтобы поздороваться. Порой она интересуется, как я поживаю, или спрашивает о моих детях. Но она никогда не рассказывала мне о своей жизни. […] Раньше, когда-то очень давно, она приходила вместе с ребенком, маленькой девочкой. Но потом она стала появляться одна, но я никогда не спрашивал ее об этом. Должен сказать, она всегда мне казалась грустной, но приятной, всегда очень любезной. […] В мае 2010-го я выполнил для нее – по фотографии – портрет девочки, который вы мне показали. Помню, как она улыбнулась, когда увидела его. Она сказала, что это подарок для ее дочери, которой исполнилось двадцать лет. Похоже, портрет ей очень понравился. […]
ВОПРОС: Вы можете припомнить день, когда вы сделали портрет самой Софии Делаланд?
ОТВЕТ: Да, я его прекрасно помню: у меня и так отличная память, а тут еще… эта парочка меня особенно заинтриговала. Из тех парочек, что вызывают недоумение, уж больно они не подходили друг другу. Она – далеко не красавица, а он настоящий плейбой. Кажется, она захотела, чтобы ее нарисовали, а он говорил, что слишком дорого, старая песенка, что, мол, уличные художники сплошь мошенники и тому подобное. Скажу вам, что мы всегда работаем честно, и за место платим дороже дорогого… Девушка витала в облаках, то и дело его целовала, он же наоборот – держался отстраненно. Если говорить откровенно, он произвел на меня впечатление альфонса, далеко не приятное.
ВОПРОС: Альфонса? Что навело вас на такую мысль?
ОТВЕТ: Да сразу было видно, что он привык жить за счет женщин! Помнится, он сказал, что подарит ей этот портрет, однако расплатилась она, что меня шокировало. Чем не альфонс – да самый настоящий! Парочка была довольно странная, но она буквально пожирала его глазами.
ВОПРОС: Вы узнаете на этой фотографии человека, сопровождавшего госпожу Делаланд в тот день, когда вы делали ее портрет?
ОТВЕТ: Кажется, он красивый мужчина, жгучий брюнет, трудно не запомнить. Впрочем, все было так давно, можно и ошибиться… То, что я узнал, просто ужасно, объясните, что все-таки произошло? […]
Утром 14 июня я пришел к семи часам – я люблю приходить рано. Заметил я ее сразу, она сидела на ступеньках уличной лестницы, той, что выходит на бульвар Барбес, в этот час там было еще безлюдно. Я подошел поближе с термосом, собираясь немного поболтать и предложить ей кофе. Но она не обратила на меня внимания, целиком поглощенная созерцанием утреннего Парижа. С того места и правда открывается изумительная панорама. Мне показалось, что вид у нее… измученный. Сказав ей что-то вроде: «Кажется, дела идут не очень, милая мадам?», – я огорчился, увидев ее такой одинокой и разбитой. […] Я хотел угостить ее кофе, но она не ответила мне ни слова, а я не настаивал. Когда людям не хочется разговаривать, самое лучшее – оставить их в покое. Может, и стоило, может, если бы мы поговорили… Да ладно, что теперь… Короче, пока я расставлял свои стулья, она куда-то исчезла. […]
37 Гортензия
В десять часов зазвонил мой телефон, и я понадеялась, что это отец. В детстве я обожала, когда он садился ко мне на кровать и ждал моего пробуждения. Ничего подобного – звонок был из ресторана «Моя любовь» от Максима, который просил меня выйти на работу в дневную смену. И даже не извинился, что разбудил. Он объяснил, что Амандина попала под машину и теперь как минимум на месяц выйдет из строя, а у него длиннющий список заказов на бранч. Пообещал заплатить в двойном размере. Я не осмелилась отказать и согласилась.
А ведь я только что заснула. Большую часть ночи пролежала с открытыми глазами, прокручивая в голове все, что мне было известно о Софии. На самом деле очень немногое. Например, она всегда расплачивалась наличными, никаких тебе чеков или карт. А ведь ресторан – дорогое удовольствие. Да и на двери у нее не было таблички. И как это я не удосужилась до сих пор спросить ее фамилию?
Мне так и не удалось понять, что все-таки со мной случилось, откуда взялось столько тревоги. Просто смешно, София – очень одинокая пожилая женщина, лишенная привязанностей, общения, немного навязчивая, конечно, но… Сколько бы я ни пыталась уговаривать себя, я ощущала реальную угрозу. В какую же ловушку я угодила, ведь мне казалось, что я полностью контролирую ситуацию?
София была опасна. Я это чувствовала.
Выпитый кофе вызвал тошноту, и меня вырвало в ванной. Посмотрев на себя в зеркало, я увидела смертельно бледную маску. Лицо безумной. И я впервые сама себя испугалась.
Обязательно нужно поговорить об этом с отцом. Он точно подскажет, что делать дальше. Позвонила ему на сотовый, но он не ответил. Рано еще, либо спит, либо на пробежке. Был соблазн нагрянуть к нему в Буа-Коломб, но теперь меня связали по рукам и ногам этим чертовым бранчем. Что я за дура, никому не могу отказать… Ладно, съезжу к нему, когда закончу работу. Вот только я предвижу, что он мне скажет. Прежде всего отругает, что я продолжаю видеться с Софией. Я так и слышу его голос:
– Удивляюсь тебе, Эмма! Тебе что, нечем заняться, кроме как посещать старух? Ты немедленно прекратишь встречаться с ней, понятно?
В прошлую субботу в баре я рассказала ему про Софию. Его реакция меня очень удивила, он сильно рассердился, что редко с ним бывает.
– Во что ты опять вляпалась, Эмма? Сделай милость, оставь в покое эту кумушку. Не понимаю, что ты рядом с ней делаешь.
Потом он затребовал, чтобы я рассказала ему все с самого начала: о моих посещениях квартиры Софии вплоть до запретной комнаты и ее страшной тайны.
Тогда он завел глаза к небу и с раздражением обозвал меня тупой ослицей.
– Зачем тебе все это, бедная моя дочь? Лучше бы ты общалась с ровесниками, чем с чокнутыми стариками, как ты предпочитаешь! Это превратилось в болезнь…
Сколько раз я уже слышала присказку: «Лучше бы ты встречалась с молодежью твоего возраста»? Да, это правда, зачастую я чувствую себя более комфортно с людьми старше меня, особенно с женщинами. Не знаю, почему-то мне с ними особенно приятно, я словно обретаю уверенность в себе. Однажды приятельница сказала мне, что так я пытаюсь компенсировать отсутствие матери, которой никогда не знала. Тогда мне показалось это глупостью, но сейчас, когда я думаю о Софии, это приводит меня в ужас.
Изабелла тоже внесла свою лепту:
– Старики молодым ни к чему. Ты красива, молода, детка моя… Бывай на людях, развлекайся, пользуйся жизнью. Молодость проходит. Посмотри-ка на меня!
Я ответила, что она до сих пор очень красива, а Изабелла, улыбнувшись во весь рот, сказала:
– Видела бы ты меня в двадцать лет. Я была бесподобна!
Отец подтвердил, а я поинтересовалась, отчасти провоцируя его:
– Да как ты можешь знать? Ты что, был знаком с Изабеллой, когда ей было двадцать?
Он улыбнулся:
– Я наверняка бы в нее влюбился.
Изабелла пообещала показать свои старые фотографии, если я буду умницей, фотографий я так и не дождалась, чего и следовало ожидать.
Если они и не могли понять, каким удовольствием было для меня общение с Софией, это нисколько не мешало им продолжать меня о ней расспрашивать. Пришлось описывать, как она одевается, причесывается, чем занимается в министерстве, что готовит мне на завтрак. Все это, казалось, очень их забавляло. Отец насмешничал, призывая в свидетельницы свою немолодую подругу:
– Старость не радость… Что ни говори, а в третьем возрасте ничего хорошего нет.
Изабелла пошла еще дальше:
– Эмманюэль, когда мы станем такими, как она, я попрошу нас усыпить в целях оздоровления общества!
– Дорогая Изабелла, тебя я могу усыпить и пораньше! – ядовито ответила я.
Обвинив их в жестокосердии, я призналась себе, что им все же удалось меня развеселить.
Почти весь ужин мы говорили о Софии. Я защищала ее, хотя и не слишком усердствуя: «она милая, я ее люблю», пока они наперебой подшучивали над ней: «Твоя матушка, должно быть, уже спит в такой час?», обзывая ее «бабулей», «чокнутой старухой» и так далее.
Однако, несмотря на все насмешки, запертая на ключ комната возбудила их любопытство.
Дав волю воображению, мы представляли, что могло скрываться в загадочной комнате, и даже строили планы, как туда попасть. Изабелла предложила подсыпать Софии снотворного в кофе, а потом завладеть ключом. Отец сказал, что нужно изготовить слепок с ключа из пластилина и обшарить квартиру, пока она будет на работе. Мы отлично развлеклись, но, когда пришло время расстаться и отец сажал меня в такси, он строго-настрого запретил мне в дальнейшем встречаться с Софией.
– Но как? Почти каждый вечер она приходит в ресторан! – возразила я.
– Делай вид, что не замечаешь ее, и ни в коем случае не соглашайся на приглашения. Предлог для отказа найти всегда можно. Послушай, вся эта история не к добру, ты только посмотри на себя – на тебя страшно смотреть в последние дни!
Но, разумеется, я не довела до их сведения, что мне показалось, будто я видела Софию в Буа-Коломб и что та за мной следила.
А мне стоило поделиться своими опасениями с отцом, теперь я очень сожалела, что этого не сделала. Отец бы меня поддержал, был бы рядом.
Пока я надевала джинсовую юбку, униформу ресторана, я уже в сотый раз вспоминала об этой комнате, запертой на два оборота ключа, в которую София захлопнула дверь перед моим носом. В последнее мгновение я успела разглядеть детскую кроватку. Неужели это действительно был зловещий мавзолей девочки, которую она потеряла?
Мне нужно непременно все рассказать отцу, даже если он рассердится. Насколько я его знаю, он немедленно пойдет и поговорит с ней, избавив меня от тревожных подозрений.
Он такой, мой отец, – всегда готов встать на мою защиту.
Но почему он все-таки не отвечает на мои вызовы?
38 Гортензия
Выйдя из дома, я вдруг обнаружила у себя идиотский рефлекс: прочесывать взглядом улицу, чтобы убедиться в том, что София не следит за мной из какого-нибудь укромного уголка. Я послала отцу вторую эсэмэску. В первой написала только «С воскресеньем! Целую, Эмма». И прибавила два смайлика – один с сердечками вместо глаз, а другой в черных очках, намекая на роскошное солнце, заливающее мою квартиру-студию.
Второе сообщение я набрала, уже сильно нервничая: «Отсутствие новостей – хорошая новость?» Пока отправляла, успела заметить, что не дописала слово «новость».
На улице – ничего не могла с собой поделать – я поминутно замедляла шаг, оборачивалась, а потом пускалась бежать. Меня не покидало ощущение, что она рядом и постоянно преследует меня. А что, если она отправилась в Буа-Коломб? Разве она не знает теперь, где живет отец?
В метро я почувствовала себя в большей безопасности, и мое поведение показалось мне диким. Ну не дура ли я, выдумала из ничего киношную историю! С презрением к самой себе я низко склонила голову. Какого черта мне продолжать общаться с этой женщиной и доводить себя до подобного состояния? Так мне и надо… Я дала себе клятву, что никогда больше не пойду к ней домой и в следующий раз, когда она явится в ресторан, буду держать дистанцию, следуя совету отца. София не должна обидеться, если я скажу, что стала работать по выходным и больше не могу приходить к ней на завтрак. Если понадобится, сообщу Максиму, что он может на меня рассчитывать по субботам и воскресеньям. Постепенно София от меня отвыкнет, да, так будет правильнее всего.
Я почувствовала себя гораздо лучше, когда выходила из метро на станции «Анвер».
Отец мне все еще не ответил. Но не было и повода для беспокойства – он часто забывал свой мобильник. Вдруг мне вспомнилось, как он говорил, что собирается на днях прогуляться до блошиного рынка. Конечно, туда он и отправился, ведь стоит замечательная погода. Утром он просто не захотел меня будить, вот и не предупредил. Но все равно он у меня еще посмотрит, когда соизволит позвонить! Ему отныне будет запрещено выходить без телефона. А он, как всегда, отшутится:
– Хорошо, согласен! Вот уж не думал, что дочь и дня не может без меня прожить!
И моим ответом будет:
– Ничего не поделаешь, ты мужчина моей жизни.
Мы зальемся хохотом, и он скажет, что приедет за мной после работы.
Третье мое сообщение было кратким: «Позвони, очень волнуюсь».
На улице Трюден мне пришло в голову, что я могла бы позвонить Изабелле, хотя я не люблю прибегать к ее посредничеству, чтобы узнать новости об отце. Она, по крайней мере, с сотовым не расстается. Неожиданно попала на автоответчик отца. Попробовала еще раз – то же самое. Сообщения я решила не оставлять.
Было уже одиннадцать часов тридцать минут, я опаздывала. Ну и пусть, не в интересах Максима сейчас спускать на меня собак. Все-таки это я делала ему одолжение, а не он мне.
И какого дьявола я согласилась сегодня работать… Раздумывая, не повернуть ли мне назад, я все же решила, что работа меня отвлечет.
Когда я приблизилась к дому Софии и посмотрела на окна четвертого этажа, то увидела, что ставни закрыты. Я представила, как она рыщет в полутьме по своей унылой квартире, безжизненной, как могила. Бедняга, подумала я, что у нее за жизнь – сущий кошмар. Заметив, что из дома Софии вышел молодой человек, я ускорила шаг. Он придержал дверь, кого-то дожидаясь, потом зажег сигарету. Вслед за ним вышла девушка, и я как раз успела юркнуть в дверь, прежде чем она захлопнулась. Что это на меня нашло? Скажу честно – сама не знаю! Очутившись в полумраке коридора, я включила свет на ощупь, но не решилась подняться на четвертый этаж. Во-первых, я не хотела ее видеть, а во-вторых, я уже здорово опаздывала. Поневоле взгляд мой задержался на дюжине почтовых ящиков, располагавшихся возле стены слева. Я постаралась разобрать написанные на них имена и фамилии. Нашлись тут и Фавье, и Трамоны, и Азары, везде либо имена, либо инициалы. Или просто «г-н и г-жа Франк-Бюжо», но нигде ничего похожего на «София» или хотя бы просто «С.» Почему до сегодняшнего дня я не замечала надписей на ящиках?
В дальнем конце коридора вдруг открылась дверь и появился мужчина лет пятидесяти, который, очевидно, поднялся из подвала. Я поневоле вздрогнула, словно меня захватили на месте преступления. Он спросил меня инквизиторским тоном:
– Ищете кого-нибудь?
Похлопав по сумке, я ответила:
– Да, ищу госпожу Софию, у меня для нее письмо.
Мужчина нахмурился:
– Госпожу Софию? Мне это ни о чем не говорит.
– Жаль, но мне известно только имя, хотя… наверное, я ошиблась домом.
– Это сорок два-бис, а вам какой нужен?
– Простите, я действительно перепутала.
– Бывает.
Очевидно, он ждал, когда я выйду. Я направилась к двери, всеми силами пытаясь справиться с волнением. Так, значит, она скрывала свои имя и фамилию? Перед тем как нажать кнопку двери, я, обернувшись к мужчине, сделала последнюю попытку:
– Эта дама живет на четвертом этаже, в квартире справа.
– Скорее всего, вы ошибаетесь.
Что мне было терять? Я принялась настаивать:
– В квартире справа на четвертом этаже никто не живет?
– Справа на четвертом живет мадам Делаланд, мадемуазель. Как, кстати, ваше имя?
Не ответив, я довольно фальшиво воскликнула:
– Да, конечно же! София Делаланд!
Я готовилась к тому, что он назовет сейчас другое имя, но он этого не сделал, а молча загородил собой лифт, давая понять, что мне не стоило подниматься. Потом произнес строгим голосом:
– Лучше вам отсюда уйти. Дайте мне письмо, я сам подсуну его под дверь квартиры госпожи Делаланд.
Неужели он собирается вызвать полицию, этот хам? Больше взбешенная, чем удивленная, я открыла дверь и выскользнула наружу. Пока дверь закрывалась, я услышала себе в спину:
– Так где же ваше письмо, мадемуазель?
Снова я умудрилась влипнуть в историю! К счастью, зазвонил мобильник: наконец-то отец решил мне позвонить! Я принялась копаться в сумке и нашла телефон лишь после пятого сигнала. Впопыхах я не обратила внимания на имя звонившего – им оказался Максим.
– Где ты застряла?
– Иду уже, через пять минут буду.
– Не вздумай меня кинуть, Эмманюэль! Народу пропасть, чтоб одна нога здесь, другая там!
– Да иду, говорю, я на улице Мучеников!
– Давай!
Отключившись, я вновь позвонила отцу. Голосовая почта запустилась, когда я уже подходила к ресторану. На самом деле, зал был набит битком. С трудом я протиснулась между стоявшими у входа клиентами и их чадами.
Максим, увидев меня, прокричал:
– Возьмись за террасу! С этим чертовым солнцем они все ринулись туда. И убери подальше телефон.
Только сейчас я заметила, что к моему уху до сих пор приклеен мобильник, и ответила на одном дыхании первое, что пришло в голову:
– Ну и жарища!
– Правда, но пусть лучше так, лишь бы не гроза. Терраса ломится от посетителей, и дождь нам ни к чему.
Для Максима ничего не существует, кроме бизнеса. От беспокойства я уже не находила себе места.
Поневоле включившись в работу, я сейчас хотела быть совсем в другом месте, а не терять напрасно время, обслуживая этих кретинов.
Показания г-на Франк-Бюжо, 63 года,
бухгалтера, проживающего в доме 42-бис по улице Мучеников,
75009, Париж, 15 июня 2015 г. Выписка из протокола.
[…] Я тогда как раз только что поднялся из своего подвала. Было ровно одиннадцать часов тридцать шесть минут, потому что я посмотрел на часы. Поведение молодой женщины, о которой идет речь, показалось мне странным, более того – подозрительным. Она сказала, что разыскивала госпожу Софию, и не смогла назвать ее фамилии. Якобы у нее было письмо для этой госпожи, и она собиралась опустить его в почтовый ящик. Но я сразу догадался, что это было неправдой, так как в руках у нее ничего не было. В наше время никому нельзя доверять. Она настаивала, и в конце концов я вспомнил, что эту несчастную госпожу Делаланд звали Софией, но она так и не захотела передать мне это пресловутое письмо, которое я пообещал подложить под дверь… Я вышел вслед за ней посмотреть, куда она идет. Перейдя на другую сторону дороги, она направилась к Наваринской улице. В тот момент я был твердо убежден, что девица задумала что-то дурное. Опасность может исходить не только от бродяжек, лейтенант. Поэтому я дождался, когда она скроется за углом Наваринской, прежде чем вернуться домой. Помню, что она, переходя улицу, звонила кому-то и даже не прореагировала, когда у нее перед носом затормозила машина. […] Раньше в нашем доме я ее не встречал. […]
ВОПРОС: Сколько времени вы живете в этом доме?
ОТВЕТ: В квартиру справа на третьем этаже мы въехали в ноябре 2005 года, прежде там жили Лубе. Это трехкомнатная квартира, такая же, как у госпожи Делаланд.
ВОПРОС: Приходилось ли вам у нее бывать?
ОТВЕТ: Мне – нет, но жена однажды к ней заходила, года два или три назад. В одной из комнат обнаружилась протечка с верхнего этажа, и жена отправилась к госпоже Делаланд. Вот только она так и осталась в дверях – та даже не пустила ее в квартиру. Правда, пообещала, что сделает все необходимое и возместит ущерб. Так и случилось, она быстро починила трубу и оплатила небольшой косметический ремонт, который нам потребовался, отдав пятьсот евро. Не знаю, воспользовалась ли она своей страховкой.
ВОПРОС: Часто ли вы встречали госпожу Делаланд?
ОТВЕТ: Да, почти ежедневно мы встречались с ней на лестнице, у нее был очень четкий распорядок дня, и она никогда не пользовалась лифтом. Но только «здравствуйте» и «до свидания», ничего другого. Она крайне редко появлялась на собраниях жильцов. София Делаланд вела очень скромный образ жизни, никого у себя не принимала, во всяком случае, на моей памяти. Поэтому я был очень удивлен, когда узнал, что она общалась с этой девицей.
ВОПРОС: Из ее квартиры когда-нибудь доносились крики или шум?
ОТВЕТ: Как я уже говорил, она жила тихо и спокойно. Иногда мы слышали, как звонил телефон, похоже, она много времени тратила на телефонные беседы, но, конечно же, о чем она говорила, мы не слышали.
ВОПРОС: Что произошло вечером 14 июня?
ОТВЕТ: Мы услышали громкий крик, потом все смолкло.
ВОПРОС: Вас это не встревожило?
ОТВЕТ: Немного. Жена даже уменьшила звук телевизора, но, поскольку мы больше ничего не услышали, то продолжили просмотр. Но были озадачены: неужели крик действительно доносился из квартиры госпожи Делаланд?
ВОПРОС: Который тогда был час?
ОТВЕТ: Начало девятого. Только что начался тележурнал. Но вскоре мы снова услышали крики и громкий шум. На этот раз у нас не возникло сомнений, что шли они из квартиры сверху. Это действительно было ужасно, жена очень испугалась. Она настояла, чтобы я не поднимался туда, а сразу вызвал полицию. […] Полицейские прибыли спустя четверть часа. Их было двое, в униформе, и мы проводили их до квартиры справа на четвертом этаже. Все это время крики и шум наверху не прекращались. Некоторые жильцы, привлеченные этой бурной ссорой, присоединились к нам на лестничной площадке. Полицейские позвонили в дверь. […] Только это мы и увидели, нам не разрешили войти вместе с ними. Но все мы поняли одно: в квартире госпожи Делаланд произошла трагедия. […]
ВОПРОС: Вы знали, что дочь госпожи Делаланд была похищена ее отцом?
ОТВЕТ: Да, как и остальные жильцы дома, хотя мы вселились туда гораздо позже. Эта история на всех произвела неизгладимое впечатление. Однако, насколько мне известно, она о ней никогда ни с кем не говорила.
ВОПРОС: Что вы думаете об этом похищении?
ОТВЕТ: Мы очень огорчились за госпожу Делаланд. Чудовищная, немыслимая история. Не дай бог кому-нибудь такое пережить. У нас не было возможности поговорить с ней об этом, да и будь она, вряд ли мы бы осмелились. София Делаланд была тихой и незаметной, как тень. […]
39 Гортензия
Все меня раздражало: официантки, которые сражались за столики, где заприметили клиентов, оставляющих большие чаевые (у девиц есть опыт, они редко ошибаются), парочки с горластой ребятней, что ни минуты не может усидеть на месте, Максим за стойкой, бросавший на меня убийственные взгляды каждый раз, когда я брала в руки свой «Самсунг». До сих пор не было ответа на мои эсэмэски и голосовые сообщения, адресованные отцу. Меня приводило в бешенство его молчание – обычно он отвечал сразу. Я начала беспокоиться по-настоящему и уже не пыталась скрыть в новых сообщениях своей тревоги. В то же время я находила себя смешной и от этого нервничала еще больше, представляя, как он будет забавляться, когда все это обнаружит. Я просила его заехать за мной после смены, называла себя последней идиоткой, говорила, что люблю его и как мне не терпелось поскорее увидеть его и услышать. «Отведи меня куда-нибудь выпить после работы и можешь издеваться надо мной сколько угодно!»
Это было последнее оставленное мной голосовое сообщение. Двадцатое за сегодняшний день, а может, двадцать первое, не знаю – я сбилась со счета.
Минут через пятнадцать я снова положила поднос на стойку и достала сотовый.
– Что ты опять возишься с телефоном! – не утерпел Максим.
– Вожусь? Да я звоню, не видишь, что ли…
– Платят тебе не за звонки, клиенты уже заждались. – Как ни странно, он не заорал по своему обыкновению, а произнес эти слова почти любезным тоном. – Да что с тобой происходит, Эмманюэль? Ты словно не в себе, есть проблема?
– Ничего не происходит. Мне просто нужно срочно кое с кем связаться. Напоминаю, что работать сегодня я не собиралась, а пришла, только чтобы тебя выручить, согласись.
– Ладно, валяй. Но не забывай о клиентах, им нет дела до твоих заморочек.
– Не волнуйся.
Снова прижав к уху мобильник, я услышала запись с голосом отца, потом ее прервал незнакомый голос, сообщив, что голосовая почта абонента переполнена.
Я с трудом сдерживала слезы.
– Скажи, Эмманюэль, – вновь принялся за свое Максим через пару минут, – что привело тебя в такое состояние? Может, я могу чем-нибудь помочь?
Не ответив, я вернулась с подносом в зал, услышав, как он пробормотал:
– Надо же, такая взрослая дылда и ударилась в панику из-за того, что не может дозвониться до папаши!
Одна из клиенток окликнула меня с террасы:
– Эй, мадемуазель, я жду графин с водой уже четверть часа, ты про меня забыла?
Да что она себе позволяет, хамка, еще и тыкает, подумаешь, вырядилась в дорогущие джинсы и лабутены! Клиентка мне была знакома, эта зануда из зануд, и притом считавшая себя неотразимой. Регулярно являлась сюда со своим парнем, и платили они строго по очереди – идеальная современная парочка, видите ли! Из девиц, которых я и в обычном-то состоянии не выношу, а уж тем более теперь… Короче, я еле сдержалась, чтобы не высказать ей, куда она может засунуть себе этот графин…
На кухне я дала волю слезам. Похоже, я дошла до предела. Больше я не могла оставаться здесь ни минуты. Я побросала все одним махом – поднос, блокнот для заказов, но тут вошел Максим и спросил, что это я делаю.
– Сматываю удочки.
– Шутишь? Ты не можешь уйти прямо посреди смены! – Он почти умолял: – Не поступай так со мной, Эмманюэль!
Оказавшись на улице, я вновь набрала номер отца. После шестого звонка включился автоответчик: «В данный момент Антуан Дюран…», затем голос отца оборвался, и мне сообщили: «Голосовая почта абонента переполнена, оставьте сообщение позднее…» В бешенстве я написала новую эсэмэску и, пока шла, не сводила глаз с экрана. Но и эта, как и все остальные, осталась без ответа.
Мне пришлось опереться рукой на одну из припаркованных машин, чтобы отдышаться. Внезапно небо над моей головой потемнело, и крупные капли забарабанили по раскаленному шоссе, от чего вверх тут же взмыл пар. Это было очень красиво. Максим оказался прав, вот тебе и гроза, и я злобно усмехнулась при мысли о девице в лабутенах: ты, кажется, умирала от жажды? Теперь открывай рот и пей сколько хочешь, причем на халяву!
Слезы полились из глаз сами собой, больше я их не сдерживала и не пыталась укрыться от неумолимо надвигавшейся грозы. В одно мгновение я промокла до нитки, но мне было все равно, я думала только об отце. А если с ним что-нибудь случилось? Что тогда будет со мной?
По тротуарам бежали люди, все они куда-то спешили: одни надеялись поскорее добраться домой, другие – до ближайшего магазина.
На углу улицы Мучеников я посмотрела на окна Софии. Как и раньше, ставни были закрыты. И тут я заметила ее, в сером плаще, под маленьким черным зонтиком, она пробиралась к своему дому сквозь плотную толпу прохожих.
Когда София уже стояла перед входной дверью, я без колебаний направилась к ней.
Показания г-на Максима Бонно, 36 лет,
менеджера отеля-ресторана «Моя любовь»,
23 июня 2015 г. Выписка из протокола.
[…] Мне сразу показалось, что Эмманюэль была не в порядке, когда заступила на смену. Явилась она с опозданием на три четверти часа – нервная, потная, небрежно причесанная. И я даже пожалел, что ей позвонил. Но поскольку она не работает по воскресеньям, а тут ей пришлось подменять официантку, попавшую в дорожную аварию, я ничего не сказал. Честно говоря, на нее было жалко смотреть. Теперь, естественно, когда стало известно, что произошло, все это объяснимо. […]
Я прекрасно понимал, что в таком состоянии она в любую минуту может послать меня подальше, а мне позарез нужна была помощь, так как в воскресенье у нас максимальный наплыв клиентов, да еще в такую прекрасную погоду. Так что мне было не до упреков. И все же через какое-то время я не выдержал и попросил ее оставить в покое телефон. Звонить во время смены я девушкам запрещаю, иначе этому конца не будет, да и клиенты это плохо воспринимают. Судя по всему, ей не удавалось до кого-то дозвониться, и она вся издергалась. После моего замечания Эмманюэль еще пуще разъярилась, сказала, что она, дескать, хотела меня выручить, только потому и пришла, и прочее. И такой у нее был вызывающий тон, что я перестал к ней цепляться. Вообще-то Эмманюэль – девушка с прохладцей, иногда даже слишком, но она умеет приспособиться, хотя и не отличается особой пунктуальностью. […] Мне удалось расслышать одно из ее голосовых сообщений: «Обязательно позвони. Мне очень страшно. По-моему, она сумасшедшая».
ВОПРОС: Вы уверены, что она употребила слово «сумасшедшая»?
ОТВЕТ: Да, уверен. Должен признаться, я никогда ее раньше такой не видел. Я решил, что у нее серьезные неприятности, и хотел проявить участие, но она только отмахнулась, сказав, что у нее все хорошо. И я оставил ее в покое, у меня и без того было полно дел: зал и терраса ломились от народа. […]
Сейчас, конечно, я сожалею, что не вмешался, но тогда, по правде говоря, я ничего не мог поделать, если принять во внимание ее нервозное состояние. Остальные девушки переглядывались, не понимая, что с ней происходит. Юлия, которая отлично с ней ладила, попробовала с ней заговорить, но она и ее отфутболила. Если честно, она уже всех начинала раздражать. […]
Последней каплей оказалось замечание, сделанное одной клиенткой, не знаю, что уж там у них произошло, но только она все бросила и умчалась без всяких объяснений. Я не успел ее остановить и был просто в бешенстве: всего-то два часа дня, может, чуть больше, – это же настоящий удар в спину…
Да тут еще внезапно разразилась гроза, дождь полил как из ведра. Началось столпотворение – клиенты с террасы ринулись в зал, и мне вовсе стало не до нее – пришлось решать более актуальные проблемы. […]
В тот день я видел ее в последний раз. […]
40 София
Дрожащими пальцами я старалась как можно быстрее набрать код входной двери: 73А89. Несмотря на шквалистый ветер (не припомню, когда такое случалось в последний раз) и то, что зонтик наполовину закрывал мне обзор, я все-таки ее заметила на противоположной стороне улицы: она стояла на углу Наваринской, возле булочной Делмонтеля[31].
До тех пор я шла очень осторожно, стараясь не задеть кого-нибудь из прохожих, сновавших во всех направлениях в поисках укрытия. Да и было от чего бежать: город накрыла ночная мгла, раздавались громовые раскаты, сверкали молнии, а из-за духоты и влажности перехватывало дыхание. Мне не терпелось поскорее прийти домой и принять горячий душ после этого ужасного утра.
Увидев ее, я невольно прибавила шаг. Гортензия стояла на тротуаре, безразличная к бушевавшей грозе, промокшая с головы до пят, вид у нее был по-настоящему жалкий. «Да она простудится», – сказала я себе.
Гортензия смотрела вверх, на окна, меня она еще не видела. Мне как раз хватило времени, чтобы отойти в сторону, когда она опустила голову. Но я была уже возле двери.
Уверена, что она тоже меня заметила, теперь я ощущала кожей, что она шла за мной. И я даже не обернулась, когда услышала за спиной сигнал автомобиля.
73А89.
Щелчок, устройство сработало, и я, скользнув внутрь, навалилась на дверь всей своей тяжестью, чтобы она побыстрее закрылась.
Гортензия опоздала – ей не хватило всего-то пары секунд, и я услышала, как она тщетно пыталась открыть дверь, барабаня пальцами по клавиатуре замка. Шансов, что она угадает код, – никаких. Обычно система блокировки включается на ночь, с девяти вечера, но по воскресеньям – на весь день. По мне, так и вовсе бы ее не отключали. В квартале год от года все больше всякого отребья. Но в прошлом году на собрании жильцов постановили иначе. Меня там не было – я никогда не хожу на собрания, не выношу, когда на меня смотрят с жалостью. Не обращая внимания на крики Гортензии и не включив в холле свет, я быстро поднялась по лестнице на свой этаж.
Еще чуть-чуть, и я бы столкнулась с ней нос к носу. А у меня не было ни малейшего желания ее видеть. Да и что я могла бы ей сказать? Нет, сейчас я нуждалась только в отдыхе, и особенно в горячем душе. Я чувствовала себя разбитой, все тело ломило, каждое движение причиняло боль. Не в моем это возрасте совершать такие путешествия на край света! Мне понадобилось ровно два часа, чтобы вернуться в Париж. Такое впечатление, что в пригороде по воскресеньям общественный транспорт больше не работает.
Из метро я вышла на площади Клиши. Дождь еще не начался, и мне захотелось прогуляться пешком. Не торопясь, я прошла вдоль бульвара, миновав «Макдоналдс», куда мы раньше часто заходили с Гортензией. Внезапно у меня возникло желание побывать там, я вернулась и вошла в кафе. Заказала я, как и тогда, «Бигмак-меню», правда, мне пришлось подождать, пока освободится более-менее удобное место.
Теперь от этой сырости наверняка снова разболятся суставы… Тоже мне нашла о чем думать… Все смешалось в моей голове. Когда я, запыхавшись, взлетела на третий этаж, мне вспомнилась Гортензия, которую я оставила под дождем, мокрую, запачканную… Странно, но именно слово «запачканная» пришло мне в голову, как только я увидела ее возле булочной, когда вода стекала с нее ручьями.
Хорошая мать позвала бы своего ребенка к себе, высушила его одежду, напоила горячим чаем. Да нет, я хорошая мать, просто момент был неподходящий для важного разговора с дочерью.
Обычно на третьем этаже я делаю передышку, чтобы затем преодолеть оставшиеся ступеньки. Их ровно девятнадцать в каждом пролете. Через дверь я услышала работавший телевизор Бюжо, моих соседей снизу. Я их почти не знаю, эта неприметная супружеская пара весь день проводит у телевизора, словно ничего другого в жизни не существует. Кажется, у них никогда не было детей. Однажды она поднималась ко мне из-за протечки в ванной, смежной с комнатой Гортензии. Но ведь я не дура и сразу поняла, что она из тех, кто вечно что-то вынюхивает. Разве позволю я кому-нибудь совать нос в мои дела? Уж не помню, что я тогда придумала, но только я не допустила визита эксперта из страхового агентства. Да и рабочему-поляку, чинившему трубу, не разрешила зайти в детскую, а сама отрезала там кусочек паласа, который начал плесневеть.
Никто, кроме меня и Гортензии, не посмеет войти в эту комнату.
Она священна.
Мне не удалось отдышаться, но я не могла ждать, пока она меня опередит, зайдя вместе с каким-нибудь жильцом и поднявшись на лифте.
Прислушавшись, я не услышала ни звука и продолжила восхождение.
Наконец-то я у себя! Закрывшись на оба замка и даже не сняв плаща и промокших туфель, я подбежала к окну. Шторы я до конца не раздвинула, а оставила небольшую щель, чтобы посмотреть, стоит ли она еще перед моим домом.
Что Гортензия здесь делала? Ведь она говорила, что не работает по воскресеньям. Ждала меня?
Если бы она поднялась, я бы не открыла.
У меня не было ни сил, ни желания ее видеть. Позже – другое дело…
Взгляд мой упирался в мрачное небо. Гроза заставит ее уйти. Наконец я вздохнула полной грудью и впервые за сегодняшний день улыбнулась.
Я была у себя, в полной безопасности, никого и ничего не боялась.
А теперь скорее в душ.
41 Гортензия
Мне нужно было окликнуть Софию сразу, как только я увидела, как она, спрятавшись под зонтиком, быстро семенит по тротуару. Тогда ей пришлось бы обернуться и подождать меня. Но тут дорогу мне перегородила машина, и я была вынуждена остановиться. Не успела я подойти к двери дома, как та закрылась. Кода я не знала: по субботам, когда я к ней приходила, кодовый замок был отключен. Я принялась наугад стучать пальцами по клавиатуре, но это было верхом глупости, а потом выкрикнула ее имя, разумеется, тоже безрезультатно.
Видела ли она меня? Или сознательно проигнорировала? Постаралась избавиться? На все эти вопросы ответа не было, оставалось только очень неприятное чувство, что она не захотела со мной разговаривать.
Отступив на несколько шагов, я вытерла лицо, с которого струилась вода, мокрым манжетом блузки и посмотрела на окна. Сквозь полузакрытые ставни свет почти не пробивался. Вдруг мне показалось, что там шевельнулась какая-то тень, не она ли? Замахав руками, я постаралась привлечь ее внимание, но тень больше не двигалась, должно быть, она просто раздвинула шторы.
На мгновение я заколебалась, что делать дальше. Можно было ей позвонить и попросить открыть мне дверь, но потом я подумала, что у меня есть и более срочные дела. Теперь я знала ее фамилию и могла кое-что разузнать.
Спускаясь к бульвару Барбес, я почти бежала.
Гроза усилилась, я чихала, дрожала от холода, но ничто не могло меня удержать от этой бешеной гонки по безлюдным тротуарам. Прохожие, сгрудившиеся под навесами магазинов, провожали меня любопытными взглядами. Я услышала в свой адрес: «Эй, мисс, давай сюда, а то растаешь!» и сальные смешки. Немудрено – белая блузка давно прилипла к телу, и сквозь нее просвечивал бежевый лифчик. Но мне было глубоко наплевать. Форменная юбка, та и вовсе превратилась в мокрую тряпку.
Чуть дальше я забилась под козырек здания, где уже стоял парень в серой джеллабе, чтобы в сотый раз проверить телефон: не связался ли со мной отец.
Мобильник отключился. Несколько раз я попыталась вернуть его к жизни, но все было напрасно. Интересно, это от дождя или кончилась зарядка? Какого черта я его положила в задний карман юбки? Выругавшись, я обратилась к парню, который молча меня разглядывал:
– Можешь одолжить телефон?
Он взглянул на меня с недоверием. Но я продолжала умоляющим тоном:
– Ну, пожалуйста! Позарез нужно, клянусь, звонок местный, всего на десять секунд!
Парнишка взял монету в один евро – спроси он десять, было бы то же самое – мне во что бы то ни стало нужно было дозвониться до отца, – порылся в кармане джеллабы и протянул пятый айфон.
– Спасибо.
И снова автоответчик женским голосом сообщил, что голосовая почта переполнена. Нет, проще всего было съездить в Буа-Коломб. Наверняка молчанию, которое приводило меня в ужас, найдется какое-нибудь дурацкое объяснение. То-то же он посмеется над моей паникой! Но сначала я займусь другим делом. Нужно выяснить, кто такая София Делаланд. А уж потом можно отправиться к отцу.
На другой стороне улицы посверкивала вывеска компьютерного клуба «Селл Кибер Бокс». Вернув парню телефон, я ринулась туда.
Сидевший за кассой мужчина, кажется, не обратил внимания на мой жалкий вид. Перед тем как войти, я немного привела себя в порядок: собрала резинкой волосы и как сумела вытерла лицо. На пальцах остались следы от помады, я провела руками о полу юбки. Вот, теперь я в полной форме, настоящая официантка! Напоследок я вытряхнула воду из серебристых туфель – балеткам конец, ну и черт с ними!
Тип двинул подбородком в сторону маленького зала:
– Все занято. Надо подождать.
Кажется, его это радовало.
– Да не психуй ты! – сказал он мне.
Несколько мужчин оторвались от экранов и принялись меня разглядывать, но им быстро это надоело, и они снова уставились на допотопные мониторы, стоявшие перед ними на столах.
Никто заканчивать, кажется, не собирался. Мое терпение лопалось, я была в бешенстве. Им что, нечем заняться, бездельникам! Казалось, что они не уходят нарочно. Я попробовала договориться с некоторыми из них, чтобы мне уступили место:
– Всего на несколько минут, обещаю.
Но напрасно я старалась, все отвечали, что еще не закончили.
Кассир попросил, чтобы я вышла из зала и подождала возле входа.
– Вы мне все тут испачкаете.
Я безропотно подчинилась, сил идти куда-то еще у меня не осталось. Прождала я больше двадцати минут, пока наконец здоровенный бородач не поднялся с места.
– Пятый, – возвестил тип за кассой.
Я поспешила сесть за пятый стол. Но бородатый игрок, видимо, передумал: этому поспособствовал усилившийся дождь. Он приблизился ко мне:
– Это мое место!
– Да нет, уже мое.
– Я пришел сюда раньше, скажи, Махмуд, – призвал он в свидетели кассира.
– Да кончай ты, Мохаммед, – ответил тот, – теперь ее очередь!
Мне было наплевать на всех этих мужиков, вперивших в меня взгляды, – я не двинусь отсюда, пока не найду, что мне нужно.
Открыв гугл, я все еще мокрыми пальцами набрала два слова: «София Делаланд».
Показания г-на Махмуда М’Барека,
менеджера компьютерного клуба «Селл Кибер Бокс»
расположенного по адресу: бульвар Барбес, 7,
75018, Париж, 1 июля 2015 г. Выписка из протокола.
Женщины клуб посещают редко, так что я хорошо ее запомнил. Как раз была гроза, и она, когда зашла, оказалась промокшей насквозь: повсюду оставляла за собой лужи, да еще подняла хай, пытаясь убедить одного из клиентов освободить ей место. Все твердила, что ей, мол, очень нужно, что это для нее крайне важно… Я буквально не спускал с нее глаз: она производила странное впечатление – вся как на иголках, и притом короткая юбчонка, прозрачная блузка – знаете, мне тут истории ни к чему… Она то и дело доставала телефон, пыталась его включить, думаю, но, по-видимому, тот не работал. […] Было где-то два с половиной – три часа дня. Я был рад, когда она освободилась, и постарался выпроводить ее поживее. Просидела она у меня минут двадцать, заплатив по разовому тарифу за час. […]
Когда она подошла к кассе платить, то попросила одолжить ей мой телефон, но я отказал, и тогда она достала купюру в десять евро. Пришлось согласиться, я видел, что она в панике, и потом, раз у нее денег куры не клюют… Видимо, тот, кому она звонила, не отвечал, и на ее лице отразилось беспокойство, она была очень встревожена. Я подождал, пока она наберет номер еще раз, после чего затребовал свой телефон и был вынужден чуть ли не вырвать его силой. Честно скажу, она была сильно не в себе, клиенты на нас таращили глаза, а в этом нет ничего хорошего – потом от психов отбоя не будет, только начни им потакать. Она обозвала меня хамом, и, не будь она женщиной, я бы это так не оставил. Но я никогда не подниму руки на женщину. Все, с меня было довольно, я велел ей убраться, да поскорее. Потом я даже вышел на улицу посмотреть, действительно ли она ушла, и увидел, что она мчится на всех парах к площади Пигаль. Гроза к тому времени стихла, дождь перестал. На бульвар вырулило такси, и она принялась размахивать руками, но такси не остановилось. И неудивительно: она была вся мокрая, словно только вылезла из бассейна! Мне даже пришлось вытереть стул, на котором она сидела. Перед окончанием смены я просмотрел ее историю посещений. […] Ничего такого, что могло бы объяснить ее состояние, я там не обнаружил. Так что подозрений у меня не возникло, клянусь богом. […]
42 Гортензия
Теперь я узнала обо всем: о разрушенной жизни Софии, потере ею дочери. Кошмар, который не закончился и по сей день.
Я все поняла. И пришла в ужас.
Сжавшись в комочек на заднем сиденье такси, я с трудом справлялась с нахлынувшими эмоциями. После того что мне стало известно, следовало бы испытывать к Софии лишь сострадание.
Но мне было страшно. Действительно страшно.
Больная на голову женщина втянула меня в жуткую историю. И пока такси пересекало площадь Клиши, я спрашивала себя, чем все это могло закончиться. Мне не терпелось поскорее очутиться в Буа-Коломб и увидеть отца. Быстрее, ради бога быстрее! Только встреча с ним могла меня успокоить.
Сердце замирало каждый раз, когда такси сбавляло скорость, хотя горел всего лишь желтый; внутри у меня все рычало от ярости, хотелось крикнуть, чтобы водитель не останавливался, пальцы барабанили по мокрым ляжкам, и я молилась, чтобы поскорее зажегся зеленый. Ей-богу, впервые мне попался таксист, скрупулезно следовавший правилам дорожного движения! То он тормозил, чтобы пропустить другой автомобиль, то из всех маршрутов выбирал именно улицу Терн, где как раз и была пробка! Я его возненавидела с первых же минут, но по-настоящему прокляла тогда, когда он окончательно застопорился на выделенке, застряв между фургоном, припаркованным во втором ряду, и разделительной полосой, которая не позволяла ему перестроиться.
Когда я вышла из компьютерного клуба, редкие такси, которые я пыталась остановить, проезжали мимо, обдавая потоками грязи. Может, лучше сразу поехать к Софии? Нет, мне хотелось видеть только отца. И как можно скорее, черт побери! Софией я займусь позже. Да и вообще, стоило ли ею заниматься? Да пошла она подальше, полоумная старуха со всеми своими фантазиями! Единственный выход – никогда больше не встречаться с Софией, покончив с ее жалкими тайнами. Мне был нужен лишь мой отец.
На стоянке площади Пигаль никто из водителей не хотел сажать меня в свою машину под предлогом, что я испачкаю им сиденье, даже когда я предлагала двойную цену. Там я промаялась с четверть часа, пока наконец не подкатил «меган» с молодым шофером, неизвестно для чего нацепившим солнцезащитные очки. Он меня сразу засек, да и длина маршрута, видимо, его устраивала. Выйдя из машины, парень бросил на заднее сиденье замызганное одеяло.
– Сядьте сюда, – приказал он. – Знаете, как ехать?
– Нет, самым коротким путем, пожалуйста!
– Попробуем, мадемуазель. Но, сами видите, какая погода, так что ничего не гарантирую.
Снова пошел дождь. Я замерзла и опять принялась чихать.
– Кажется, вы подхватили простуду!
Он начал распространяться о разразившейся в городе грозе:
– Потоки, целые потоки, никогда не видел ничего подобного, с тех пор как работаю таксистом!
Водитель все говорил, говорил, а я хотела одного – чтобы он наконец заткнулся. Потом парень спросил:
– Вы в порядке? Выглядите не очень…
– Да нет, все нормально.
– Ну, что ж, раз так…
Сдвинув очки на лоб, он принялся меня рассматривать. Я отвернулась, избегая его взгляда в зеркале заднего вида, так как не хотела, чтобы он заметил мои слезы.
Телефон по-прежнему не работал. Один раз экран на мгновение зажегся, но потом погас, на этот раз окончательно. У меня появилась мысль попросить мобильник у водителя, но я тут же от нее отказалась: зачем лишний раз слушать, что голосовая почта отца переполнена?
Таксист долго плутал по улицам за Нантером, много времени терял на уточнение маршрута по навигатору и в итоге приехал не по тому адресу, что я назвала. Потом нашел нужный и извинился. Я метала гром и молнии.
Наконец мы подъехали к дому отца. Счетчик показывал тридцать два евро. Я протянула парню две купюры по двадцать и бросилась к двери.
Через открытое окно водитель крикнул:
– Спасибо за чаевые, мадемуазель!
Но моего «пожалуйста» он не удостоился.
Показания г-на Никола Пьетта,
28 лет, водителя такси,
2 июля 2015 г. Выписка из протокола.
[…] Когда я посадил девушку в машину на площади Пигаль, она показалась мне сильно взвинченной. Пожалел, так как никто не хотел ее брать. Надо сказать, вода с нее лилась потоками, но главное, она выглядела как человек, переживший сильный стресс, то есть была вся на нервах. […] Да и сам я колебался, стоило ли ее сажать, но мой день подходил к концу, я крутился без дела уже минут пятнадцать – с этим всемирным потопом на улицах никого не осталось… И я подумывал, а не лучше ли мне тоже вернуться домой. […]
В нашей профессии нередко сталкиваешься с психопатами, но эта была еще та штучка. Не могла усидеть на месте, без конца вертела в руках сотовый, ей-богу, мне показалось, что она немного того. Теперь-то естественно, я понимаю, в чем дело. […] Мне хотелось, чтобы она немного расслабилась, и я стал с ней болтать, но она меня не слушала, кажется, она плакала, я же старался на нее не смотреть: девушка так нервничала, что я боялся, как бы она совсем не слетела с катушек. Я спешил поскорее доставить ее в Буа-Коломб, делал все возможное, но, сами знаете, везде были пробки, так что на дорогу ушло больше получаса. Гроза прошла, но дождь лил не переставая.
Как только доехали, она выскочила, даже не взяв сдачи. Я за ней наблюдал: пока девушка бежала к дому, она смотрела вверх, на окна, а потом скрылась в подъезде. Я решил выйти из машины, чтобы покурить под козырьком дома напротив.
[…]
ВОПРОС: Почему вы не сразу уехали?
ОТВЕТ: Рабочий день закончился, и я никуда не спешил. И потом, признаюсь, мне было любопытно. У меня возникло предчувствие, что должно что-то произойти. Как я и говорил, девушка была не в себе.
ВОПРОС: Что вы хотите сказать? О чем вы подумали?
ОТВЕТ: Честно? Подумал, что она приревновала хахаля и приехала застукать его с другой.
ВОПРОС: Вы что-нибудь видели из своего укрытия?
ОТВЕТ: Да нет – оттуда ничего не было видно, тем более при таком ливне.
ВОПРОС: Заметили вы кого-нибудь рядом с домом?
ОТВЕТ: Никого не заметил, да никого и не было, пока она не появилась снова. Ведь место это немноголюдное, особенно по воскресеньям. Я уже собирался отъехать, но тут вышла она.
ВОПРОС: Сколько времени прошло?
ОТВЕТ: Думаю, минут десять. Я успел спокойно выкурить две сигареты. Направилась она прямиком к моей машине, которая оставалась на прежнем месте, перед аллеей. На ней была та же мокрая одежда, но ей словно не было до этого никакого дела. Глаза ее покраснели, и я догадался, что она плакала. Уселась она на заднее сиденье, даже не спросив моего согласия, и сказала:
– Возвращаемся на площадь Пигаль, поторопись!
ВОПРОС: Почему вы не попросили ее выйти, хотя и могли?
ОТВЕТ: Скажу честно, это просто не пришло мне в голову.
ВОПРОС: Каково было ее состояние в тот момент? Она по-прежнему нервничала?
ОТВЕТ: Напротив, девушка казалась абсолютно спокойной, будто это был другой человек. Словно она приняла какое-то решение – оставалась хладнокровной, с непроницаемым лицом. И за время пути не произнесла ни слова.
ВОПРОС: А где конкретно она высадилась?
ОТВЕТ: На улице Мучеников, возле дома 42-бис. Там она и сошла.
[…]
43 София
Проведя ладонью по запотевшему зеркалу ванной, я посмотрела на отражение своего мокрого тела, покрасневшего от горячей воды. Как же давно я вот так себя не разглядывала! Лицо – все в морщинах, глаза усталые, кожа на щеках безжизненная, вялая. Шея, покрытая противным пушком, стала жирной и бесформенной, а ведь когда-то в юности была точеной: изящной и длинной. Единственным в моей внешности, чем я гордилась по праву. Потом поглядела на руки, усеянные коричневыми пятнами, на обвисшую чуть не до живота грудь, дряблый живот, изуродованный рубцом от кесарева, и на главный признак пола – серое пятнышко лобка над ляжками с проступающими синими венами. Мне немногим за пятьдесят, а тело уже такое старое.
Но и в молодости я не отличалась красотой. Когда Сильвен говорил, что я прекрасна, я шутливо называла его обманщиком. Обычно он это говорил, когда брал меня за руку и вел в спальню.
При воспоминании о его ласках у меня из груди вырвался вздох: Сильвен утверждал, что никогда так не желал ни одной женщины. Я обожала его, когда в момент наивысшего наслаждения он испускал мощное глухое рычание. Ах, как я была счастлива, безмерно счастлива тем, что была способна доставить ему удовольствие. После секса он обвивал мое тело сильными руками и тотчас же засыпал.
Проснувшись, Сильвен сразу вставал и уходил со словами: «Я скоро вернусь». И он всегда так поступал, пока на время не исчез из моей жизни.
Мне вспомнился день, когда я впервые испытала с ним непередаваемые ощущения в постели. Тогда он явился ближе к вечеру – я только что вернулась из министерства, не успев еще снять пальто. Мы не виделись с ним три дня. От него пахло вином. Я бросилась в его объятия, а он проговорил:
– Как поживаешь, единственная моя любовь?
Услышать, что я – единственная его любовь! Это привело меня в настоящий экстаз, настолько я была глупа. Мне и в голову не приходило расспрашивать, где он был и с кем, я словно жила во сне и не желала просыпаться.
Когда я спросила, голоден ли он, Сильвен ответил:
– Да, я безумно по тебе изголодался!
И тогда мы занялись любовью прямо на ковре в гостиной, и, падая, он опрокинул ногой низенький деревянный столик…
Зеркало запотело вновь, и мое тело превратилось в неясный силуэт.
Я намазала кремом плечи, грудь, потом ноги.
Мне было хорошо. Спокойствие и безмятежность. Мучившая меня после обеда головная боль прошла – хватило таблетки аспирина.
Я начала перебирать вещи, лежавшие на верхних полках добротного нормандского шкафа, доставшегося мне от родителей. Довольно громоздкий, он занимал добрую половину моей спальни, зато там поместилось всё: блузки и платья – на вешалках, свитера на полках в центральной части, носки, трусы и колготки в нижних ящиках, постельное белье и покрывала – на самом верху. Там я и нашла то, что искала: слегка выцветший от времени китайский шелковый пеньюар. Куплен он был для него – ему нравилось, когда я надевала пеньюар в минуты нежности. Это был единственный предмет, который я оставила, когда избавлялась от немногочисленных забытых вещей Сильвена, – все они полетели в мусор вместе с идиотским нижним бельем, которое я приобретала, чтобы его соблазнять. Оставила не чтобы предаваться грешным воспоминаниям, нет, я ничего не собиралась хранить в память о нем, а потому, что любила ощущение шелка на коже.
Иногда мне случалось его надевать, изредка, когда мне бывало хорошо, как сегодняшним вечером. Правда, за эти двадцать два года они были крайне редкими, эти мгновения, когда я ощущала полноту бытия.
Но этот вечер должен стать моим вечером, и мне захотелось надеть пеньюар.
Пройдясь по квартире, я с удовлетворением отметила, что все было в безупречном порядке. В прихожей я сняла рамку с разбитым стеклом. Поцеловав личико моей девочки, на этот раз, к счастью, я не порезалась.
Я прошла по коридору до комнаты Гортензии и улеглась на узенькой кровати. Там, в окружении безмолвных свидетелей нашего слишком короткого счастья, я и собиралась ждать дочь, ибо ничуть не сомневалась, что она придет.
Теперь я была полностью готова рассказать ей все.
Глаза сами собой закрылись от усталости, и, дай я себе волю, наверняка бы уснула, убаюканная шумом дождя. Однако я предпочла мысленно снова пережить каждое мгновение этого благословенного богом воскресенья.
44 София
Ну как мне на себя не сердиться – я все-таки провалилась в сон. Посмотрев на часы – старинные часы матери, снятые с ее запястья на похоронах, я увидела, что проспала минут двадцать. Больше такого я не допущу.
Я включила ночник, стоявший на прикроватном столике, тот, что Гортензия всегда просила оставить зажженным, пока она не заснет. Но я редко поддавалась уговорам. Ребенок, даже самый маленький, обязан привыкнуть к темноте и встречать ее безбоязненно. Нынешние мамаши сочли бы мою суровость чрезмерной, но разве жизнь человека не должна подчиняться строгой дисциплине, которую надо воспитывать с раннего детства?
Иногда я упрекала себя за излишнюю строгость, но такая уж я и вряд ли когда-нибудь изменюсь. Сильвен, скорее всего, потакал всем ее капризам. Но отныне он больше не навредит моей дочери… При этой мысли на душе у меня стало легко. Наконец-то я освободила от него Гортензию.
Однажды после пылких объятий я настолько расчувствовалась, что мне пришла в голову идея завести ребенка, и я спросила голосом шаловливой девчонки, кого бы он предпочел – сына или дочку? Сильвен ответил, что было еще рановато для этого, прибавив фразу, которая до сих пор стоит у меня в ушах:
– Сейчас я хочу жить только для тебя, для нас двоих. Мы еще очень молоды, подумаем об этом позже.
И я восприняла это откровение как признание в неземной любви. Потом Сильвен заключил категоричным тоном:
– Думаю, у меня нет отцовской жилки. Возможно, когда-нибудь…
Вспоминая это, я вздрогнула. Сколько было в этих словах презрения и лукавства!
Несколько недель я не вспоминала о своем желании зачать ребенка. Да и Сильвена жизнь со мной полностью устраивала. Но он начал отлучаться из дома все чаще, говорил, что ездит в командировки по провинциям, а я не хотела знать большего и ничего не спрашивала. Мне хватало того, что он ко мне возвращался.
Но потом желание обзавестись потомством вернулось. Отъезды Сильвена давили на меня тяжким грузом. Когда появится ребенок, ему придется чаще бывать дома, и тогда нас уже ничто не разлучит.
Да, говорила я себе, лежа в кроватке дочери и лаская ее уже истрепанного от моих прикосновений медвежонка, да, признаюсь – если я и захотела Гортензию, то прежде всего потому, что надеялась его удержать. Отец не сможет отказаться от собственного ребенка, я была в этом убеждена.
И ничего не сказав Сильвену, я перестала принимать противозачаточные.
Как же я обрадовалась, когда мой гинеколог подтвердил, что я скоро стану мамой! Я улыбалась, на глазах выступили слезы – отныне Сильвен мне принадлежал полностью. На всю жизнь он мой – благодаря этому зародышу, подраставшему в моем животе. В душе я ликовала, но продолжала хранить тайну, никого в нее не посвящая.
Врач спросил тогда, кто же он, счастливый папа? Думаю, в таких случаях именно это и принято спрашивать. Я ответила:
– Человек, которого я люблю.
– Так это замечательно! – воскликнул доктор. – А он тоже вас любит?
– Разумеется, – с апломбом проговорила я.
Закрыв глаза и прислушиваясь к тому, что происходило у меня внутри, я продолжила наслаждаться своим счастьем. У меня возникло безумное желание побежать к Сильвену и все ему рассказать, так сильно мне захотелось, чтобы человек, которого я любила больше всего на свете, разделил мою радость. Но я все-таки опасалась его реакции. Боялась, что он меня бросит. И не знаю точно, от чего, у меня порой перехватывало дыхание – от радости ли, что я беременна, или от этой смутной перспективы.
Поняла я это гораздо позже: причиной боязни открыться Сильвену было то, что в глубине души я уже знала, что он меня отвергнет. И я, сколько могла, отодвигала этот крах, ведь каждый лишний день его неведения был днем, когда он мне еще принадлежал.
Неожиданно зазвонил домофон, вырвав меня из вязкого облака воспоминаний. Сегодня вечером я отомщу за свое прошлое, каждое его мгновение.
Мне даже не пришлось смотреть на экран – я знала, кто звонил.
– Я жду внизу, скажите мне код.
– 73А89.
Времени мне как раз хватило на то, чтобы войти в свою спальню и надеть нижнее белье. Но я осталась в шелковом пеньюаре.
Когда лифт остановился на моем этаже, я уже была у двери. Прежде чем Гортензия успела постучать, я ее открыла.
45 Гортензия
Не успела я выйти из тесной кабинки лифта, как дверь распахнулась и на пороге я увидела Софию. Вид ее меня поразил – она была в старом шелковом пеньюаре. Со словами «входи, я тебя ждала» София посторонилась, давая мне пройти. Стараясь не касаться ее и не притронувшись к подставленной для поцелуя щеке, я прошла в гостиную. До меня донесся звук закрываемой на ключ двери, чего она никогда не делала во время прежних визитов. Тогда я вдруг осознала, что заперта с ней один на один в квартире. Кто знает, может, она была опасна?
Главное, чтобы она ничего не заподозрила, твердила я себе, пока она шла от входной двери до гостиной.
– Сегодня ты меня не поцелуешь?
– Конечно же, София!
От прикосновения к дряблой коже во мне поднялась волна отвращения. И как это я могла к ней так привязаться?
– Ты промокла до нитки, только взгляни на юбку! – воскликнула она. – Переоденешься?
– Да нет, и так сойдет.
– Простудишься.
– Говорю же, нет!
– Будь по-твоему.
Дрожащим голосом, выдавшим волнение, голосом, который я уже успела возненавидеть, София произнесла:
– Ты сегодня что-то не в своей тарелке, дочка. – Потом, после секундной паузы, окинув меня взглядом, добавила: – Давай приготовлю тебе что-нибудь горячее? В такую погоду всем не по себе…
– Чай у тебя есть?
– Моя девочка говорит мне «ты»? – улыбнулась она. – Это звучит гораздо лучше!
Впервые за время нашего знакомства я сказала ей «ты». Получилось само собой. София продолжила:
– У меня есть чай «Эрл грей» и печенье. Расслабься немного, я мигом приготовлю.
Я устроилась напротив кухни, в которой скрылась София, и услышала позвякивание ключей. Интересно, где она их прятала? Вскоре она вернулась, держа поднос с единственной чашкой.
– Вот твой чай, заварила, как любишь, – сообщила она.
Пеньюар на Софии был совсем изношенным и порванным в нескольких местах. Один из карманов разошелся по шву, и я, увидев розовевшую сквозь прореху кожу, догадалась, что надет он был прямо на голое тело. Зато мокрые седые волосы были аккуратно зачесаны назад; на шее до сих пор поблескивали капельки влаги.
Заметив, что я ее разглядываю, София произнесла:
– Под дождем я совсем продрогла и приняла горячий душ, это безумное удовольствие.
Она улыбнулась. Как я ненавидела эту ее притворно-благожелательную улыбку!
– Может, останешься поужинать? В холодильнике кое-что найдется.
Солгать мне уже было раз плюнуть:
– Да нет, нужно быстро вернуться в ресторан, шеф попросил выйти в вечернюю смену.
– Теперь ты работаешь по воскресеньям?
Я объяснила, что пришлось подменить заболевшую девушку. Она одобрительно кивнула:
– И в перерыв ты пришла навестить старушку Софию? Как мило!
Обычно, когда она называла себя старушкой, я начинала протестовать, но в тот вечер у меня не было на это ни сил, ни желания. Отпив глоток, я поставила чашку, мысленно отругав себя за неосторожность: а вдруг она подсыпала туда снотворное? Нужно быть готовой ко всему. Я спросила:
– Ну, чем ты сегодня занималась?
София воскликнула:
– Чем можно заниматься в такую погоду? Собиралась погулять, но сразу же пришлось вернуться.
Не бросить ли ей в лицо, что все это – ложь? Что я знаю о ее слежке, тайных путешествиях и замалчивании многих подозрительных вещей? А если сказать, что с самого утра я тщетно разыскиваю отца, и посмотреть на ее реакцию?
Незадолго до этого, поднимаясь на шестой этаж дома отца, я уже была спокойна: скутер стоял на обычном месте, значит, наверняка отец был у себя. Мне показалось даже, что из окон гостиной пробивался свет. По-моему, выходя из лифта, я улыбнулась – не стоило так паниковать.
Я тихонько постучала в дверь, напрягая слух, – из квартиры не доносилось ни звука. Тогда я позвонила, потом еще раз, снова и снова, долго держа руку на звонке. Ответом была тревожная тишина. Попробовала толкнуть дверь, но та оказалась запертой на ключ. Я порылась в сумке, надеясь найти связку ключей, которые отец дал мне на всякий случай, но, видимо, они спокойно лежали у меня дома, так как я никогда не приезжала без предупреждения.
И тут мной вновь овладела паника. Я постучала к соседям, вдруг кто-нибудь видел или слышал, как выходил отец? Никто мне не ответил.
Скорчившись, я села на коврик перед входом в квартиру, меня знобило от холода и беспокойства. Что делать дальше? Внезапно созрело решение: скорее поехать к Софии, может, там мне откроется правда. Если с отцом что-то случилось, она будет обязана мне сказать.
Загнав внутрь тревогу и слезы, я быстро спустилась. К счастью, такси стояло на прежнем месте. Пока мы ехали, я думала только об одном: как вырвать у Софии признание, как узнать, чего все-таки она от нас хотела.
Я старалась, я уговаривала себя не думать о худшем.
Теперь, когда я сидела у Софии, я очень надеялась, что сумею разбить ее скорлупу. Буду безжалостна к безумной старухе, если понадобится, применю силу, но обязательно попаду в запретную комнату. И наплевать мне, если она хлопнется в обморок… Вот что за мысли были у меня, когда она спросила слащавым голосом:
– Ты не пьешь чай, он тебе не понравился? Хочешь что-нибудь другое?
Я не ответила, и София вонзила в меня испытующий, почти недобрый взгляд. Не выдержав его, я отвернулась и взяла с прозрачного блюдца печенье.
– У тебя есть немного времени? – внезапно спросила она.
– Есть.
Она с трудом поднялась.
– Мне нужно кое-что тебе показать. Сейчас я приду.
Повернувшись, я проводила ее глазами. Меня душила ненависть.
София исчезла в глубине коридора. Послышался звук открывавшейся ключом двери. Тайная комната! София вернулась к столу с прижатой к груди небольшой деревянной рамкой. Отодвинув блюдце левой рукой, она, не говоря ни слова, положила ее на стол передо мной.
Стекло рамки было разбитым, с торчащими осколками. На фотографии – молодая женщина с маленькой девочкой.
София продолжала стоять возле меня. Подняв глаза, я увидела, что ее лицо залито слезами. Отразившееся на нем выражение невыносимой боли меня потрясло.
Она казалась очень искренней. И безмерно несчастной.
46 София
Ровно двадцать два года я ждала этого рокового мгновения, когда я покажу дочери разбитую рамку с фотографией, с которой никогда не расставалась.
И если я плакала, то плакала от счастья. Какая разница, что будет потом…
Со временем снимок выцвел, но исходящее от него тепло осталось. Лицо улыбающейся женщины дышит довольством и покоем. Прекрасные голубые глаза Гортензии, смотрящей в объектив, выражают смущенное удивление, вид у девочки важный и сосредоточенный. Она словно спрашивает, что это с ней сейчас происходит, и кажется хрупкой и беззащитной. Так и хочется сжать ее в объятиях, погладить по нежной щечке, насладиться вместе с ней этим чудесным, с оттенком легкой грусти, моментом…
Фотография великолепна и несет мощный заряд эмоциональной энергии. Сколько часов я не сводила с нее глаз? Каждый раз после этого я была выжатой как лимон, чувствовала себя разбитой, обескровленной, но не могла не возвращаться к ней снова и снова. Как к наркотику, без которого я уже не могла обходиться, вобравшему в себя недолгие годы моей счастливой жизни. До Гортензии мой мир был пустыней, после – небытием.
Мне вспомнилась каждая подробность того дня, когда был сделан снимок, – утром ее «дня рождения», когда ей исполнилось два с половиной года. Все заранее было рассчитано мной по минутам: завтрак в «Макдоналдсе» на Елисейских Полях (хотя я и не любила это место), прогулка до сада Аклиматасьон[32] и затем возвращение домой, где она получит подарки, в том числе и новую Барби. Дедушка и бабушка прислали ей книжки, дяди – детский несессер с туалетными принадлежностями и кукольную коляску. Гортензия привыкла к подаркам, но, на мой взгляд, самым прекрасным из них была фотография – воспоминание об этом чудесном дне. Я заранее условилась с известным фотографом, работавшим тогда на улице Кондорсе. Теперь фотоателье уже не существует – на его месте открыли магазин одежды. Как быстро все меняется…
Сеанс продлился около часа. Гортензию я нарядила в светло-розовую кофточку, красиво подвила ей волосы. Мы взялись за руки, и дочка очень мило прислонилась своей румяной щечкой к моей щеке. От нас веяло такой взаимной любовью, что господин Помма, фотограф, заметил, что мы – очень трогательная пара, а ведь сколько он повидал на своем веку мамаш с детьми, одному богу известно! В маленькой Гортензии было столько грации, столько изящества, что ни одно сердце не могло перед ней устоять.
Из сада Аклиматасьон мы вернулись ближе к вечеру. Весь день ярко светило солнце, и мы провели там незабываемые часы. Не знаю, сколько раз она прокатилась по детской железной дороге, и чем ее уж так могла привлечь «комната смеха» с дурацкими зеркалами, искажающими человеческий облик? Пришлось сказать, что дома ее заждались подарки, чтобы дочка согласилась покинуть это странное место, полное шумной ребятни. Позже я иногда приходила в этот парк, вновь проживая чудесные моменты, проведенные там с моим ребенком, и не могла сдержать слез. Посетители смотрели на меня с недоверием, наверное, принимали за ненормальную.
Мы как раз выходили из булочной (Гортензия затребовала шоколадный эклер), когда я его увидела. Сильвен стоял, подпирая дверь нашего дома и покуривая – когда-то его сигаретами провоняла вся моя квартира. Он еще нас не видел, и я легко могла вернуться и избежать встречи, но я почему-то решила дать ему отпор и пошла прямо на него. В момент, когда Сильвен нас заметил, на губах его появилась злобная усмешка, которая меня ужаснула.
– Привет, София!
От одного звука его голоса меня бросило в дрожь. Не будь рядом Гортензии, я вряд ли удержалась бы и осыпала его бранью – плевать я хотела на прохожих, которые могли меня услышать! Однако я твердо сказала, отведя взгляд в сторону, чтобы его не видеть:
– Дай пройти!
Как ни удивительно, он посторонился, и я в одно мгновение, втолкнув сначала Гортензию, влетела в холл и закрыла за собой дверь. Перейди он к действиям, я сделала бы все, что было в моих силах: ударила бы, кричала, обратилась к прохожим за помощью, попросила их вызвать полицию. Я чувствовала себя сильной, неуязвимой, ведь я отстаивала свои законные права! Но Сильвен не стал нас преследовать, и мне послышалось, как он сказал (посмел сказать!): «Мне очень жаль».
Гортензия, по-видимому, ничего не заметила – в голове у нее были только подарки – и уже быстро взбиралась по лестнице (лифта тогда еще не было).
Зайдя в квартиру, я бросилась к окну посмотреть, ушел ли он. Сильвен стоял на тротуаре напротив дома, устроив настоящее немое кино: с видом побитой собаки он выкрикивал фразы, которые я угадывала по его губам: «прости меня», «это и моя дочь тоже», «она такая миленькая», «я хочу с ней встречаться»… Глупости, которые не произвели на меня ни малейшего впечатления. Мы долго смотрели друг на друга: он с мольбой, я – с презрением. В какой-то момент он молитвенно сложил руки. Как же он был мерзок и нелеп! С четвертого этажа я крикнула: «Пошел вон! Это не твоя дочь, а моя, и только моя!» – а потом задернула шторы и сказала Гортензии:
– Ну, дорогая, пришел час подарков!
Негодяю не удалось испортить мне тот день, один из самых прекрасных дней в моей жизни. Чудесно было видеть Гортензию такой счастливой, наслаждавшейся подарками, пирогом с каштановым кремом и двумя свечками с половинкой… Вечером мы долго ласкали и целовали друг друга, а потом малышка заснула в моих объятиях.
Но спустя пять месяцев он ее похитил.
Наклонившись к Гортензии, едва ее не касаясь, я прошептала:
– Посмотри. Ты ее помнишь?
Она взяла рамку, приблизила ее к лицу, стала рассматривать с напряженным вниманием. Я положила руку на ее плечо.
– Только осторожно, не порежься.
Фотографию Гортензия изучала долго, молча. Потом подняла на меня голубые глаза, внимательно посмотрела и сдвинула брови. Я поразилась тому, насколько похожи взгляды взрослой Гортензии и ребенка на фото.
– Что это за девочка рядом с тобой?
Голос выдавал сильное волнение, на лице застыл страх. Она поняла.
И мне оставалось только ответить:
– Это ты, Гортензия… Моя Гортензия.
47 Гортензия
– Твоя Гортензия?!
Скорее крик, чем вопрос. Я прорычала эти два слова с яростью, которая внезапно вылилась наружу.
Приехали, вот оно – безумие! Теперь мне было ясно все. Рывком я поднялась с места, а София попыталась схватить меня за руку и проговорила: «Время пришло!» Но я оттолкнула ее с такой силой, что она отлетела на несколько метров, и ей пришлось ухватиться за комод, чтобы не упасть. С трудом сдерживаясь, чтобы не наброситься на нее, я решила сначала все разузнать.
– Ради бога, Гортензия… выслушай меня, – лепетала София, – мне столько нужно тебе рассказать. Время пришло! – повторила она.
– Что еще за время? Кончай бредить, у тебя крыша поехала, ты обезумела! – И почти не отдавая себе отчета, я плюнула ей в лицо со словами: – Грязная старуха!
Плевок угодил ей в самую середину носа, она не вытерла его, он так и остался, белея омерзительным пятном. Размахнувшись, я изо всех сил ударила рамку об пол. Дерево треснуло, осколки брызнули в стороны, а фотография скользнула под журнальный столик. Я проговорила с вызовом:
– Вот что я сделаю с твоей гнусной фотографией!
– Гортензия, не говори так!
По моей милости Софии пришлось опуститься на колени, и она принялась ползать, подбирая обломки. Пеньюар распахнулся, и в вырезе показались обвисшие груди, от чего меня затошнило.
Она встала, прежде чем я решилась повалить ее на пол и избить, как она того заслуживала.
– Смотри, – ныла она, – я поранилась…
В колено ей вонзился большой кусок стекла. Когда София его выдернула, из раны тут же хлынула кровь, залив полу пеньюара. Подскочив, я вырвала у нее из рук фотографию, испачканную кровавыми отпечатками пальцев.
Быстрым жестом я разорвала ее надвое.
– Зачем ты это делаешь, маленькая паршивка! – воскликнула она.
Теперь и София пришла в бешенство: с искаженным от гнева лицом она обзывала меня идиоткой, дурой, жалуясь:
– Господи, знала бы ты, сколько мук я вытерпела из-за тебя!
– Из-за меня?
– Да, из-за тебя! Вы с отцом разбили мою жизнь вдребезги!
У меня закружилась голова, и мне пришлось сесть на диван. Мысли путались, но я попыталась сконцентрироваться и почувствовала, как постепенно ко мне возвращались силы и мужество, заставившие меня сюда прийти, чтобы призвать Софию к ответу.
Она подошла ко мне. Из колена продолжала сочиться кровь, ее белый носок превратился в кровавую тряпку, так что каждый шаг оставлял на паркете темный след. Остановившись передо мной, она посмотрела на меня пристальным ледяным взглядом. Я еще раз упрекнула себя в неосмотрительности: она права, что называла меня дурой, – ослепленная беспокойством за отца, я добровольно отдала себя в ее руки. Но, собрав все силы, чтобы скрыть от Софии овладевший мной ужас, я проговорила чужим голосом:
– За что ты обозлилась на отца?
– У тебя нет отца, Гортензия, – отрезала она. – Только мать. И эта мать – я!
При этих словах я ощутила новый приступ тошноты и громко возразила:
– Никакая я не Гортензия – меня зовут Эмманюэль! И я вовсе не твоя дочь.
Мало-помалу я овладела собой, мысли прояснились. Мне стало легче: хорошо, что я лишь пригубила чай, – если она туда и насыпала снотворного, то оно не подействовало. Я приготовилась к схватке: «Нет, старая безумица, я так легко не сдамся! Можешь не сомневаться – я прикончу тебя первой».
Но она должна поверить, что сейчас я целиком в ее власти. Вздохнув, я закрыла глаза и сделала вид, что погружена в полузабытье. София уселась в кресло, слева от меня, и я почувствовала ее дыхание:
– Не время сейчас спать, детка.
Она легонько дотронулась до моего плеча, и я открыла глаза. На меня в упор смотрели стеклянные бусины ястребиного чучела с угрожающе поднятыми крыльями. Взгляд мой уперся в вышитую картину на противоположной стене: охотничья собака готовилась вцепиться в раненого оленя. Как-то раз София мне призналась, что вышивала ее по выходным, потратив на этот шедевр больше трех месяцев. Я снова закрыла глаза, чтобы ее не видеть: картина была ужасной. Тогда, помню, я лицемерно похвалила ее за качество работы и спросила, она ли вышила остальные картины? София ответила, что нет: эту она оставила потому, что она ей очень нравилась, но остальные вышила ее подруга. Я сказала, что нахожу картину с оленем слишком грустной.
– Как раз наоборот, – возразила она. – Олень ранен, и собака вот-вот на него набросится, но у него еще есть шанс спастись. Даже у затравленного зверя остается надежда.
Ответ этот сейчас прозвучал во мне с жестокой очевидностью.
Почувствовав, что София взяла у меня из рук порванную фотографию, которую я продолжала держать, я услышала ее ровный голос:
– Снимок, который ты разорвала, – память о том дне, когда мы праздновали твои два с половиной года. Мы ходили к знаменитому фотографу на улицу Кондорсе, неподалеку отсюда. Увы, этого ателье больше нет… Ты ничего не припоминаешь? – И поскольку я молчала, София продолжила: – После этого мы отправились завтракать в «Макдоналдс», а потом пошли в сад Аклиматасьон. Как ты там забавлялась, дорогая! – Она тяжело вздохнула: – Да и я тоже…
София осторожно положила руку мне на затылок, очень нежно, но мне хотелось сопротивляться, и я невольно приподняла голову, открыв глаза. Прямо перед ними была та часть фотографии, где была изображена маленькая девочка с грустным взглядом.
– Присмотрись хорошенько, – настаивала она. – Это ты, Гортензия! В день, когда тебе исполнилось два с половиной года. Ты была такая прелестная, что все мне завидовали.
И я уже не смогла оторвать взгляда от фотографии, словно завороженная этим поблекшим от времени образом. Голубоглазый ребенок с красиво завитыми кудряшками до странности походил на меня.
Вздрогнув, я ощутила, что София взяла меня за руку.
48 София
И тогда я стиснула изо всех сил влажную ладонь Гортензии и не дала ей высвободиться, когда она попыталась это сделать. Но я не позволила – не выпустила ее руки, а продолжала сжимать ее все сильнее. Мне необходимо было подчинить дочь своей воле. И Гортензия уступила.
Разве не имела я права на этот невинный жест любви по отношению к дочери? Как посмела она меня оттолкнуть после всего, что я из-за нее вынесла?
Пальцем я ласково провела по руке Гортензии, пробежалась по бороздкам голубоватых вен под прозрачной кожей.
Неожиданно вспомнилось, как весело мы смеялись, затеяв шутливую возню и крепко держась за руки. И пусть моя дочь на двадцать два года старше того ребенка, с кем я тогда играла, ее нежная тонкая кожа осталась неизменной. На свете есть то, что мать не в силах забыть.
Гортензия пристально на меня посмотрела.
– София, это невозможно!
Но я снова заговорила – очень тихо, стараясь ее убедить:
– Посмотри внимательнее… Неужели ты не узнаешь эту славную девчушку?
– Да, мы с ней похожи. Но она – не я.
– Нет, я знаю, я клянусь… Верь мне, Гортензия!
– Заткнись!
– Почему ты не веришь, откуда в тебе столько злости?
Гортензия глядела на меня с ненавистью, отрицательно качая головой, и с жалостью, чего я просто не выношу. Неужели она принимала меня за сумасшедшую? Меня, свою мать!
– Этот ребенок – не я, и я вовсе не твоя дочь.
Голос у Гортензии был резким, сердитым, полным обиды. В момент, когда я раскрыла перед ней свою душу, у дочери не нашлось для меня ничего, кроме отвращения.
Но я не собиралась отступать, я буквально вцепилась в нее глазами:
– Ты – Гортензия!
– Я – Эмманюэль!
В какое-то мгновение я подумала, что сейчас влеплю ей пощечину.
Как смела она отрицать очевидное: у нее те же глаза, что на фотографии, те же белокурые локоны, нежный овал лица. Тот же ясный, чуть меланхоличный взгляд.
Понятно, что отец манипулировал ею с самого начала. И наша встреча вовсе не была случайной. Напротив: мерзавец Сильвен тщательно разработал план вместе со своей подельницей Изабеллой, чтобы заставить меня страдать как можно сильнее. Словно того, что он со мной сделал раньше, было недостаточно! Зачем сводить со мной счеты спустя столько лет и втягивать в гнусную и бессмысленную игру еще и мою дочь! Чего он собирался добиться, сделав ее своей сообщницей?
– Ты действительно ничего не помнишь?
– Да что я могу вспомнить? – ответила она, вырвав свою руку. Мне захотелось взять ее снова, но Гортензия отстранилась. – Какие у меня могут быть воспоминания, – продолжила она, – откуда им взяться, мадам Делаланд?
Моя фамилия была произнесена с ненавистью, с презрением, таким пренебрежительно-победным тоном, что внутри у меня все похолодело. Мадам Делаланд. Гортензия знала мою фамилию. Может, она давно знала и кто я? Знала с самого начала, что она – моя дочь?
У меня перехватило дыхание.
Неужели моя собственная дочь – враг?
Я постаралась выровнять дыхание, прийти в себя. Нет, Гортензия была для меня всем, а значит, я не имела права опускать руки, только не теперь. И я спросила:
– Что он тебе обо мне говорил?
– Ты о ком?
Она, конечно, лукавила, но было то, чего дочь не знала: оттуда, где он теперь находился, ее мерзавец- отец уже ничего не мог для нее сделать. Отныне все, что должно произойти, произойдет только между нами – мной и Гортензией.
– О человеке, который тебя похитил и воспитывал вдали от меня.
– Ты говоришь об отце?
– Называй его как хочешь. Для меня он всегда останется чудовищем.
– Это мой отец-то чудовище? Да ты просто буйнопомешанная! Он на тебя плевать хотел, мой отец.
Неужели это и правда моя дочь – гадюка, готовящаяся к прыжку? Ткнув меня пальцем в середину груди, Гортензия пригрозила:
– Если ты сделала ему что-то плохое, я тебя уничтожу, жалкая тварь!
Я уже окончательно успокоилась и ответила ей тем же тоном, что и у нее – жестким и угрожающим:
– Уничтожишь? Да это уже давно сделано. Скажи, почему вы с отцом растоптали мою жизнь?!
Застигнутая врасплох этой вспышкой гнева, Гортензия широко раскрыла глаза. Время детских игр миновало. Мы перешли к рукопашной, дочка, теперь уж – кто кого…
Я обязательно должна одержать верх. Может, тогда дочь ко мне и вернется.
49 Гортензия
Всего на мгновение, на долю мгновения, я засомневалась. Слова Софии звучали искренне, трогательно… И девочка на фотографии была так на меня похожа…
Страх за отца, от которого по-прежнему не было вестей, вернул меня к реальности.
Я ненавидела себя за слабость. Откуда взялось сомнение? Как и тогда, когда я недавно ехала в такси, я ощутила бремя ответственности, тяжко давившее мне на плечи. Как я позволила этой безумной настолько со мной сблизиться? Что стало причиной – скука, любопытство, кто мне объяснит? Не знаю, что меня подтолкнуло к ней.
Женщина явно была душевнобольной, и бог знает отчего она прицепилась ко мне, к моему отцу и бедняге Изабелле. Почему они мне не перезвонили, а их дверь оказалась запертой? Что она с ними сделала? Я до сих пор отказывалась верить в худшее.
Блуждая в своем воображаемом мире, она возложила на себя миссию мстительницы и теперь, я была в этом убеждена, могла причинить мне зло. Я сама предоставила ей возможность заманить меня в ловушку. А ведь мне ничего не стоило убежать – я услышала, как она прятала ключи в ящик кухонного стола. Физически я намного сильнее этой жалкой старухи, стоило выбрать момент, взять ключи, открыть дверь, позвать на помощь соседей, обратиться в полицию…
Но мне нужно было выяснить ее намерения, узнать, что она хотела, чего добивалась. Сделав глубокий вдох, я произнесла:
– Сядь, София, нам нужно поговорить, – сказала я эти слова спокойным доверительным тоном и, поскольку она продолжала стоять с непроницаемым лицом в напряженной позе, добавила, сделав над собой усилие: – Пожалуйста…
София не сводила с меня глаз, а я ждала. Потом я хлопнула рукой по сиденью кресла, приглашая ее присесть.
– Я согласна тебя выслушать. Может быть, ты права, и я – твоя дочь. Все свалилось на меня так внезапно, что в голове сплошная каша. Мне нужно, чтобы ты мне все рассказала в подробностях.
На лице Софии отразилось сомнение, она мне не доверяла.
Наконец она заговорила едва слышным голосом:
– Дай сюда фотографию.
В руке у меня, оказывается, осталась половинка фотографии, на которой была изображена она – веселая и счастливая. Я протянула половинку Софии. Она взяла ее, подошла к комоду, достала из ящика скотч и склеила обе части, заметив с улыбкой:
– Так намного лучше.
Медленным шагом она вернулась и села, поставив склеенную фотографию на столик перед нашими глазами.
– В этом снимке вся моя жизнь…
Фраза повисла в воздухе. Послышался тяжелый вздох.
– Я никогда с ним не расставалась… Когда ты его порвала, я подумала, что разорвется мое сердце.
Притворившись взволнованной, я пробормотала:
– Прошу прощения.
На самом деле меня затошнило от этой ходульной высокопарности.
– Знаешь, каждый раз, когда я на нее смотрю, я плачу и не могу остановиться.
Я еле сдержалась, чтобы не выпалить в лицо:
– Слушай, комедиантка, а от меня-то ты чего ждешь?
Но я не должна была все испортить. Протянув руку, я заставила себя дотронуться до рукава шелкового пеньюара.
– Расскажи мне все…
– Ты действительно хочешь?
– Да, София, хочу.
– Знай, все, что я тебе расскажу, Гортензия, – истинная правда. Возможно, ты не поверишь ни единому слову и продолжишь считать меня выжившей из ума старухой. Пусть будет так, но по крайней мере я попытаюсь. Двадцать два года я ждала этого момента.
София повернулась ко мне и снова вздохнула:
– Ты должна узнать, а потом будь что будет.
Взяв фотографию, она поднесла ее к губам и поцеловала долгим поцелуем.
– Я была так счастлива с тобой…
Низко склонив голову, она обшлагом рукава вытерла набежавшие слезинки.
– Не плачь.
– Это от волнения, дитя мое.
Но я сказала почти приказным тоном:
– Давай говори уже!
50 София
Слезы на моих глазах были слезами надежды, радости. Победа была не за горами, она приближалась, у меня все получилось – вот о чем я в то время думала. Смотря на тщательно склеенную фотографию, я не вспоминала о годах счастья со своим ребенком, а представляла повернутые лицом вниз, истекающие кровью тела Сильвена и его любовницы, после того как я их убила.
Все наконец свершилось.
Решение созрело внезапно, когда ко мне подошел поздороваться один знакомый художник. Он поинтересовался, как у меня дела: «В термосе кофе, вас угостить?» Но я не ответила, поскольку мыслями находилась совсем в другом месте.
Дверь не была заперта на ключ. Я вошла, захлопнув ее ногой. В этот момент из кухни в прихожую вышла эта сука Изабелла с подносом в руках. Знакомая черная шевелюра… Без колебаний я выстрелила в упор, прямо ей в голову. Тело дернулось, словно одержимое пляской святого Витта, и она рухнула на плиточный пол. По стене размазались кровь и мозг с осколками черепа. А этому негодяю Сильвену только и хватило времени, чтобы крикнуть: «Черт! Что здесь происходит?» Он сидел ко мне спиной, развалившись на диване, и смотрел футбольный матч на огромном, во всю стену, экране. Я никогда не понимала, как это можно смотреть телевизор со звуком на полную мощность? Сильвен повернул в мою сторону свою лысую башку, хотел встать, да не успел. В него я выпустила четыре пули: две попали в спинку дивана, третья прошила ему шею, а четвертая угодила в экран. Изображение и звук тут же исчезли. Тело медленно сползло вниз и стало невидимым. Напрягая слух изо всех сил, я не услышала ни звука, в доме царила мертвая тишина. Ни тебе шума, ни реакции на выстрелы. Наверное, телевизор заглушил звуки стрельбы, и все же, сказала я себе, в этих бездушных современных башнях никому нет никакого дела до соседей.
Но к моим слезам примешивалось и разочарование – я сожалела, что не насладилась сполна своей местью. Мне следовало продлить удовольствие: долго держать их под прицелом, заставить молить о пощаде, трястись от страха. Но тогда я хотела лишь поскорее со всем этим покончить и уйти. Положив пистолет в сумку, я обошла труп предательницы, даже не взглянув на него. Звонок мобильного телефона заставил меня вернуться: я увидела его на полке в прихожей – на экране высветилось «Эмма». Я схватила его, не думая, вместе с ключами от входной двери, закрыла дверь и бросилась вон из квартиры, никого не встретив по пути. И только в трамвае, подъезжая к станции метро, я осознала, что дело сделано – я за себя отомстила. Внутри меня все кричало от счастья, я одержала победу! В трамвае же для всех я была неприметной пожилой дамой, скромной и безмолвной, забившейся на заднее сиденье; вряд ли вообще хоть кто-то обратил на меня внимание.
Когда я выходила из трамвая, телефон, который я бездумно бросила в сумку, принялся трезвонить. Снова на экране было «Эмма». А я упивалась этими голосовыми сообщениями и эсэмэсками, которые раз от раза становились все тревожнее.
Теперь я точно знала, что рано или поздно Гортензия ко мне придет.
Обшлагом рукава я вытерла влажные от слез щеки и, опустив глаза, приготовилась к рассказу. Я сумею найти слова, чтобы взволновать Гортензию и убедить, что я все сделала правильно. И не только ради себя, но (что куда важнее) и ради нее.
Уничтожив двух монстров, я совершила акт возмездия, отомстила за себя и за нее. Я была полностью удовлетворена и ни о чем не жалела, но была ли способна дочь меня понять? Сильвен, проходимец и великий манипулятор, заслужил свою судьбу. Сколько ночей я провела без сна, воображая самые изощренные виды пыток, которым я мысленно его подвергала. Выполнив задуманное, я наконец получила облегчение.
Но теперь дело за Гортензией. Нужно подобрать правильные слова, заставить ее мне поверить. Вот когда она душой вернется ко мне, это и будет настоящей победой. Если раньше Гортензия была его союзницей, то теперь должна стать моей.
То, что я собиралась ей рассказать, было настоящим испытанием для меня; необходимость ворошить прошлое причиняла мне боль. Гортензия не сводила с меня неприязненного взгляда. Глубоко вздохнув, я прикрыла глаза и выждала несколько секунд. Потом начала тихим голосом:
– Ты появилась на свет в результате кесарева сечения в госпитале Сен-Венсан-де-Поль[33] четырнадцатого округа седьмого мая тысяча девятьсот девяностого года в четырнадцать часов двадцать восемь минут. Настоящее имя твоего отца – Сильвен Дюфайе.
Встав с места, я подошла к столику и взяла заранее приготовленные документы, положив перед ней свидетельство о рождении. Роды у меня принимал доктор Карден. Твое имя – Гортензия Делаланд. Я – твоя мать.
И я повторила с мольбой:
– Твоя мама!
51 Гортензия
Ну вот, приехали! Это все, что я могла себе сказать, когда она бесцветным голосом начала свой бредовый рассказ. Все было не так, безумная старуха, – я родилась в клинике Беклера в Кламаре, действительно в 1990-м, но только в июле. Назвали меня Эмманюэль, а моя фамилия – Дюран. У меня не было ничего общего с этой Гортензией Делаланд. Мне известно, что ее у тебя похитили, я прочла в интернете. Но это история Гортензии, а не моя.
Мою мать звали Полиной. Умерла она совсем молодой под колесами грузовика, когда мне было всего пять лет. Отец мне все рассказал: оказывается, мама нас бросила, когда я была еще младенцем. Так что я ни разу ее не видела и никогда по ней не тосковала. Но отец ее страстно любил и потому покинул Францию, надеясь убежать от своего горя. Это и положило начало нашей легкомысленной бродячей жизни, полной приключений и удовольствия. Я была слишком мала, чтобы у меня сохранились какие-то воспоминания о жизни с мамой, но осталось несколько фотографий, которые однажды отец мне показал. На всех фотографиях мама улыбалась, она была красивой женщиной со светлыми волосами.
– Никогда не пойму я твоей матери, почему она нас оставила без всяких объяснений? Но все было именно так – однажды утром она просто взяла да и пропала, – сказал мне отец в один из редких моментов, когда речь заходила о маме. – Мне слишком тяжело вспоминать прошлое – это выше моих сил.
И мне было достаточно, меньше всего на свете хотела я огорчать отца, к тому же разве плохо, что он принадлежал мне одной? Вдвоем мы объехали полмира – только он и я, и эта кочевая жизнь приводила меня в восторг: стоило нам где-то пустить корни, как мы тут же снимались с якоря и перебирались на новое место. Не жизнь, а бесконечное путешествие, до тех пор, пока мы не вернулись в Париж.
Отец когда-то полностью стер прошлое, сжег за собой все мосты, порвал со всеми, кого прежде знал: с его семьей, друзьями. И ни с кем, кроме Изабеллы, не возобновил отношений. Париж был для него всего лишь этапом, очередным привалом.
– Возможно, ты здесь и останешься, – сказал он мне однажды, – но я снова пущусь в бега. «Пуститься в бега» было его любимым выражением. Он так говорил каждый раз, когда мы покидали очередное насиженное место, где нам было хорошо. Мне и в голову не приходило упрекать его за тягу к бродяжничеству, и я научилась без сожалений оставлять позади новых друзей, школу, все, к чему успевала привыкнуть. Отец был со мной, и этого хватало для счастья: он был для меня всем, был моей жизнью. Подрастая, я начала делать своего рода прогнозы, сколько мы пробудем в том или другом месте, писала на бумажке дату и прятала, а когда мы снова пускались в путь, отец весело интересовался: «Где твоя записка?» Я доставала бумажку из тайника, и мы заливались хохотом, когда я верно угадывала, а это случалось не так уж редко. Тогда отец замечал с деланой серьезностью: «О ля-ля! Воистину время уже подпирает!» Иногда мы уезжали с такой поспешностью, что даже вещи не успевали собрать и все бросали.
Вот о чем я могла бы рассказать Софии, когда она начала описывать «счастливые годы», проведенные со мной, и «наши повседневные тихие радости». По ее словам, я росла чудесным ребенком и никогда ни в чем не нуждалась.
– Вместе мы были очень счастливы, словно составляли одно существо.
Мысленно я сказала ей, что если я когда и была счастлива, то лишь с отцом. Но пусть продолжает, пусть дойдет до конца своей немыслимой истории. Я у всех вызывала восхищение, дедушка и бабушка меня обожали, а мое похищение их убило, рассказывала она. Меня распирало от негодования, я еле сдерживалась, чтобы не бросить ей в лицо, что все это – полный бред, и у меня нет ничего общего с ее Гортензией!
Чем больше София говорила, тем заметнее становилось ее возбуждение, она ходила туда-сюда, потрясая перед моим носом документами, тыча пальцем в каждую из бесчисленных фотографий:
– Смотри, Гортензия, это – ты!
Я кивала головой, соглашаясь, а на деле, чтобы заставить ее продолжать:
– Удивительно, до чего Гортензия на меня похожа!
И правда, сходство со мной было потрясающим, несмотря на то что отец всегда меня коротко стриг, чтобы не возиться с кудряшками, которые было трудно расчесывать (волосы я начала отпускать только после 18 лет). Однако больше меня смутили фотографии этого человека, Сильвена. София разложила передо мной кучу пожелтевших от времени газетных вырезок со статьями, где его называли «похитителем маленькой Гортензии». На некоторых фотографиях его легко можно было принять за моего отца, но на других он был абсолютно на него не похож. Это было очень странно. Где-то я его узнавала, а где-то передо мной был совершенно чужой человек.
Но моего отца звали Антуан Дюран, и у него не было ни малейшей связи с этим Сильвеном. Однако я старалась не прерывать Софию, чтобы она дошла до конца своей зловещей исповеди.
Сколько времени она рассказывала? Может, час, может, больше, мало-помалу я утратила чувство времени. Документы, спрятанные во всех углах квартиры, которые она то и дело подносила, уже высились горой на столике, осыпаясь на пол.
София произносила свою речь, призванную открыть мне истину, монотонным голосом, в котором сквозили резкие нотки.
Я делала вид, что сочувствую, понимаю ее боль…
И постепенно мученический путь Софии всерьез начал меня интриговать, а ее отчаянные попытки найти дочь вызвали уже не притворное сочувствие. Опять ей удалось переломить ситуацию – привлечь внимание, разбудить интерес и более того – взволновать меня. Она описывала ночь, когда было совершено похищение, показала шрамы на ноге, рассказала о голодовке, развернула передо мной десятки писем, полученных ей в то время, обо всех ее действиях, предпринятых, чтобы меня найти, но, увы, одинаково безрезультатных, вплоть до частного детектива и ясновидящего.
– Я спустила все, что имела, а под конец лишилась и надежды.
Ужасно. На глазах у меня выступили слезы. «Не плачь, не смей!» – говорила я себе. София протянула мне платок, не глядя на меня и не прерываясь.
Вид у нее был измученный, она встала, сказав, что пойдет вскипятить воды для чая.
Голова у меня шла кругом, я уже не знала, где я и что делаю. Наконец я впервые нарушила молчание, спросив, почему София настолько уверена, что именно я ее дочь, именно я – Гортензия, которую она не видела столько лет?
– На свете есть вещи, которые невозможно объяснить. Как только я тебя увидела в тот день, когда ты меня толкнула на улице Трюден, я уже это знала. Для меня это было очевидностью, я сразу узнала в тебе свою дочь. Назови это как хочешь, материнским инстинктом, голосом крови – все равно. Не думай, что у меня не возникало сомнений! Почему, как ты думаешь, я так часто приходила в «Мою любовь», хотя терпеть не могу ресторанов? Да чтобы проверить свою догадку: поговорить с тобой, пообщаться. И с каждым твоим словом во мне крепла уверенность: это была ты, ты – моя Гортензия. – На мгновение она замолчала. – Вот посмотришь, когда мы сделаем тест ДНК, он лишь подтвердит то, что я знала всегда.
София продолжала рассказывать, и мое смятение увеличивалось с каждым новым эпизодом. Сколько же невероятных совпадений и белых пятен вдруг обнаружилось в моей жизни… Я сопротивлялась изо всех сил, отказывалась верить. Но сомнение властно проникало в мою кровь, передо мной вставали вопросы, на которые я не находила ответа. Да, мы действительно жили на Мартинике. Сорвались оттуда неизвестно почему – я была тогда слишком мала – и перебрались в Венесуэлу, никогда не забуду названия этой страны. Слившись воедино, многочисленные подробности превращались в смутные, ускользающие образы. В детстве я наверняка посещала сад Аклиматасьон. Однажды я там побывала, без отца, когда мы только что вернулись в Париж: в то время мне хотелось лучше познакомиться с городом, о котором говорили во всех уголках света. Почему я отправилась именно туда, кто знает?
Сад Аклиматасьон… Пронзительными вспышками хлынули воспоминания: смеявшаяся над своим уродливым отражением девочка, которая переходила от зеркала к зеркалу, чувство страха при спуске с детской горки, протянутые ко мне руки, успокаивающий ласковый голос, так напоминавший голос Софии…
Мы и правда жили в домике у моря, и я вновь увидела, как мы бежали с отцом, рука в руке, обжигая пятки раскаленным песком, чтобы поскорее броситься в прохладную воду. Потом в памяти всплыл южный город, откуда мы почти сразу уехали, – Марсель, где, по словам Софии, она вышла на мой след, поверив радиэстезисту.
Чего только она не предпринимала, чтобы отыскать свою дочь. Меня?
Но в душе я продолжала упорно защищать отца, безнадежно перебирая в памяти детали, которые могли бы неопровержимо доказать, что он не был тем человеком, чудовищем, о котором рассказывала София.
Ибо тот, кто вверг эту женщину в ад, не мог быть никем другим – только чудовищем. Я твердила про себя: «Нет, это не он, невозможно, чтобы им оказался он». Мы делили с ним кров, были так близки, я знала его лучше, чем себя, я цеплялась за счастливые воспоминания, вспоминала его улыбку, доброту, жажду познавать мир и желание разделить ее со мной. Нет, это было совершенно невозможно… Но чем больше я отталкивала эту мысль, тем более реальной она становилась.
Мне не хватало воздуха, я задыхалась, и София подала мне стакан воды, которую я выпила залпом.
Она смотрела на меня с беспокойством, столько нежности было в ее взгляде…
И тут случилось худшее: я потеряла опору, моя защита рухнула.
Я ей поверила.
Напротив меня сидела моя мама, она говорила со мной, обнимала меня, прижимала к груди со словами:
– Гортензия, дочка, дитя мое, мы снова вместе! О, какое счастье!
Счастье Софии захлестнуло и меня, я больше не противилась, а разделила его с ней. У меня было одно желание – закричать во всю силу легких:
– Я нашла свою мать!
– Твой отец причинил нам столько зла… Чудовище…
Сокрушенная, уничтоженная, я разрыдалась – слов не было, да и что я могла сказать?
Сопротивление иссякло.
52 София
Сколько бы еще я рассказывала Гортензии перипетии своей горестной жизни, если бы она не заставила меня подняться и упасть в ее объятия. Говорила я уже больше двух часов, освобождаясь от тяжкого груза, скопившего за двадцать два года. И чем дольше я говорила, тем больше обретала уверенность в себе. Я видела, с каким вниманием Гортензия меня слушала, знала, что мои слова попадают точно в цель. И в конце концов она отступила перед очевидностью, точно перед приливом, который ничто не в силах остановить.
Для победы мне понадобились все мои силы – я чувствовала, как велико было ее сопротивление. Бедная крошка, я понимала ее муки! И вдруг, в одно мгновение, стены обрушились, и Гортензии открылась истина: я – ее мать, а тот, кого она чтила, – негодяй. Вернее, был негодяем. Отныне все это будет лишь дурным воспоминанием.
Мы долго стояли так, не произнося ни слова, и никто не хотел разжать объятий.
Этот внезапный жест признательности со стороны дочери застал меня врасплох, но постепенно я расслабилась, напряжение спало, и я лишь наслаждалась близостью Гортензии. По моим щекам струились слезы, я услышала ее шепот:
– Не надо, мама, не плачь.
«Мама», она сказала «мама»! И я зарыдала еще сильнее.
Как же я ошибалась, разуверившись в дочери!
Теперь, прижимая ее к груди, так, что было слышно биение ее сердца, я понимала, насколько велико было мое заблуждение. Моя дочка была невинна, она стала, как и я в свое время, игрушкой, жертвой этого мерзавца. Но не сообщницей.
События последних дней меня раздавили, уничтожили. Во мне крепла уверенность, что Гортензия навсегда останется под влиянием подонка, который некогда нас разлучил. Сильвен воспитал ее в ненависти ко мне, и, что бы я теперь ни предпринимала, все мои усилия окажутся тщетными. В поисках истины я потерпела поражение.
До конца моих дней я останусь их жертвой.
Очевидность такого исхода меня испепеляла, и, пока я, сидя на ступеньках лестницы, в сотый раз прокручивала в голове эти мысли, само собой созрело решение: отныне моей единственной целью будет возмездие. Охваченная безумной жаждой мести, я встала и поспешила навстречу врагу, в Буа-Коломб.
Я должна лишить жизни этого проходимца вместе с его шлюхой, годами предававшей меня. Наказав их, я накажу и Гортензию.
Когда она недавно пришла ко мне, я подумала, что у меня больше не осталось надежды. И, что бы я ни пыталась ей объяснять, я навсегда останусь для нее убийцей, а не матерью.
И что всего хуже – я перестала видеть в ней своего ребенка.
Стоило ей переступить порог моей квартиры, как я ощутила на себе всю силу ее ненависти. И меня ничуть не ввело в заблуждение ее лицемерие, когда она потребовала, именно так – потребовала, чтобы я рассказала ей историю моей жизни.
И я ей поведала все, без всякой надежды, ничего не скрывая. Мне необходимо было излить на кого-нибудь всю свою боль, так пусть уж лучше она узнает. Поверит или нет – не имело значения.
Потом, мало-помалу, фраза за фразой, я вдруг почувствовала в ней сомнение, она задавала себе вопросы, и я ощутила ее растерянность перед лицом жестокой правды. Под тяжестью неопровержимых фактов Гортензии поневоле пришлось признать, что ее обожаемый отец на деле оказался зверем, что он растоптал мою жизнь, а ее жизнь опутал сетью лжи, что он был и ее палачом тоже. Я почувствовала, что твердыня ее веры рассыпалась. Неприглядная истина предстала перед ней, и Гортензия поняла, кого ей следовало ненавидеть.
Мне удалось вернуть дочь, и двадцать два года страданий обратились в ничто.
Если что сейчас и имело для нас значение – это только наше будущее, которое мы построим вместе.
Я еще не сказала Гортензии, что мы отомщены.
Не сказала, что человек, которому она весь день посылала тревожные сообщения, уже мертв. Теперь моя задача – заставить ее принять то, что я совершила, и осознать, что моя месть была нашей общей местью. И тогда – я всем сердцем на это уповала – Гортензия меня простит.
Попасть в тюрьму я нисколько не боялась. Что могло быть важнее нашей вновь обретенной любви? Она назвала меня мамой, разве этого не достаточно? Что бы ни ждало нас впереди – Гортензия будет на моей стороне.
Вроде бы такое простое слово «мама» дочка никак не могла правильно произнести, хотя и заговорила рано. Гортензии не было еще и года, а она уже лепетала целые фразы, удивлявшие воспитательниц в яслях. Но не могла справиться со словом «мама», упорно называя меня по-другому – то «мам», то «маму». Мне порой казалось, что она делала это нарочно, ради игры, однако эта игра меня огорчала. И напрасно я ее наказывала, лишая десерта или любимых сладостей, ничто не помогало. Целыми часами я заставляла ее повторять «мама», но она продолжала говорить «мам», хотя я и настаивала на последнем звуке «а». Часто я выходила из себя, убежденная в том, что она противилась из упрямства. Уступать я не собиралась, это уже была не игра, а настоящая битва, которую я была обязана выиграть.
И вот однажды солнечным субботним днем, когда мы вместе спускались по улице Мучеников, какой-то мужчина так сильно меня толкнул, что я потеряла равновесие и упала, увлекая в своем падении маленькую Гортензию. Когда мы поднимались, я вдруг услышала, как дочка прошептала:
– Какой злой дяденька, да, мама?
Застыв на месте от изумления, я забыла о человеке, который свалил нас на землю, даже не остановившись, а ласково улыбнулась дочери:
– Вот видишь, это совсем не трудно!
Мы дошли до площади Пигаль, и я в знак благодарности покатала ее на карусели. При каждом новом круге, проезжая мимо меня, Гортензия обращала ко мне восхищенное личико и кричала изо всех сил:
– Мама, мама!
Только неделю спустя, когда он вновь возник из небытия, поджидая меня у министерства, мне открылась правда: мужчиной, жестоко толкнувшим нас с дочерью, мог быть только мерзавец Сильвен. Этот акт насилия ознаменовал собой новый, чудовищный этап нашей жизни.
Мне хотелось, чтобы эти сказочные мгновения длились вечно. Опьяненная ароматом ее духов и нежной кожи, я перебирала пальцами шелковистые белокурые пряди ее волос, пока не услышала шепот:
– Больше я никогда тебя не оставлю, мама! – И еще: – Мне горько, что я столько лет провела без тебя.
Я тоже тихо проговорила:
– Теперь нас ничто не разлучит, мы всегда будем вместе.
– Скажи, ты счастлива? – робко спросила она.
– О да, моя Гортензия.
– Отныне я – Гортензия! – торжественно провозгласила дочь.
– Да, да, да!
– Отчего ты дрожишь, тебе холодно? – забеспокоилась она.
– Дрожу, потому что не в состоянии вместить столько счастья…
– Я тоже очень счастлива, мама.
Мы так и не разомкнули объятий. И больше не разомкнем.
Вдруг со стороны комода послышался сигнал сотового, прозвучавший как-то особенно весело. Это был телефон Сильвена, лежавший на дне моей сумки. Гортензия мгновенно отстранилась, нахмурилась и удивленно на меня взглянула.
– Мобильный отца! У вас тоже такой сигнал? Невероятно!
Продолжать лгать не имело смысла. Я больше ничего не боялась, раз Гортензия перешла на мою сторону.
– Нет, это телефон Сильвена, я взяла его сегодня утром.
– Сильвена? – повторила она с недоумением. Видно, настоящее имя ее проклятого отца пока звучало для Гортензии непривычно.
– Да, Сильвена. Нашего палача. Того, кто похитил тебя, доченька!
Она была в растерянности: не стоило ли хорошенько ее встряхнуть, чтобы вернуть к реальности? Но я ждала, внимательно следя за каждым движением дочери. Гортензия спросила сдавленным тоном:
– Ты взяла телефон отца? Вот почему я не могла весь день до него дозвониться!
Гортензия отступила на шаг, будто пораженная страшным видением. Я схватила ее за обе руки, потянула к себе, но она не двинулась с места, устремив на меня пристальный взгляд.
– Что ты натворила? – проговорила она на одном дыхании, сделав короткую паузу. – Недавно я у них побывала, но мне никто не ответил…
Я пробормотала:
– Мне пришлось это сделать. Ради нас обеих…
Руки ее оставались в моих ладонях, они дрожали.
– Ты их убила?
– Да, я убила твоего отца и Изабеллу тоже. Другого они не заслуживали. Мне нужно было отомстить им за все то зло, которое они нам причинили.
Что я могла к этому добавить? Телефон звонить перестал, а мы продолжали неподвижно стоять друг против друга и молчали.
Я ждала. Неужели сейчас Гортензия в гневе бросится на меня? Но она тихо проговорила:
– Покажи мне мою комнату, я хочу ее увидеть.
– Пойдем.
Она сама отвела меня в темный коридор, в конце которого находилась детская.
Показания мадемуазель Эмманюэль Дюран,
26 лет, доставленной в госпиталь
имени Жоржа Помпиду
16 июня 2015 г. Выписка из протокола.
[…] София рассказывала мне историю своей жизни около двух часов. Я сама этого захотела. К ней я пришла с единственной целью – понять, что происходит. Сильно беспокоясь за отца, я едва владела собой.
Вначале я не верила ни одному ее слову, настолько это казалось немыслимым. Она была уверена в том, что я – ее дочь, и обвиняла моего отца в похищении. Всем, кто с ним был знаком, хорошо известно, что отец не способен и мухи обидеть, не то что совершить подобное преступление. Мой отец – сама доброта. […]
Я настолько ее боялась, что могла легко допустить, что она подложит снотворное или яд мне в чай. Ничего этого не случилось – вы сказали, что сделали анализы, – однако, почувствовав внезапную слабость, я решила, что сама, не раздумывая, бросила себя в пасть хищника. […]
Рассказ Софии был достоверен: незадолго до моего прихода я справилась о ней в интернете, откуда узнала и о похищении дочери, и обо всех предпринятых ею усилиях для поисков Гортензии. Говоря себе, что ее безумие – следствие несчастья, я считала между тем, что она ошибочно принимала меня за свою дочь – невозможно, чтобы я оказалась этим ребенком. Конечно, я не могла помнить о том, что случилось со мной в раннем детстве, но все равно эта женщина, претендовавшая на роль моей матери, несла полную чушь. […]
Однако, несмотря ни на что, история Софии была глубоко драматичной и трогательной, и я сильно разволновалась. В ней было столько берущих за душу эпизодов, что я понимала ее ненависть к тому, кого она называла нашим палачом. Ей удалось меня растрогать. Я была потрясена тем, что узнала о ее жизни, все это было настолько ужасно…
Я слушала ее не прерывая, до самого конца. Когда София показала мне кучу вырезок и фотографий, смятение мое дошло до предела. Мало-помалу все перевернулось с ног на голову. До сих пор не могу понять, что на меня нашло, как ей удалось меня убедить… Не помню, как я очутилась в ее объятиях и стала называть ее мамой… […] Теперь я тщетно пытаюсь воспроизвести в деталях тот день, припомнить слова, которые она мне говорила… София упоминала столь волнующие моменты, перечисляла факты, которые в точности соответствовали некоторым эпизодам моей жизни, и я не устояла. […] Мне даже показалось, что я узнала отца на фотографиях в газетных вырезках, которые она мне предъявила. Чем дольше она рассказывала, тем более связной и правдоподобной становилась ее история. […]
В итоге я поверила всему, что она говорила. Раньше я думала, что отец убегал от горя, причиненного уходом матери, но тут мне открылась иная правда – он скрывался потому, что совершил преступление.
Оказалось, что я и была той маленькой девочкой, которую похитило чудовище в человеческом облике. Этим чудовищем был мой отец. И я возненавидела его так же, как и она. Понимаю, сейчас это представляется невероятным, но тогда сама мысль, что он лишил меня матери, столько лет мне лгал, сделав меня своей игрушкой… Вспомнилось, как я спрашивала его о том, где моя мать, и он отвечал, что она нас бросила, когда я была еще младенцем. Вспомнились наши бесконечные переезды с места на место, его нежелание привязываться к кому-либо или чему-либо. «Никто не сможет заменить мне твою мать, только ты имеешь для меня значение». И я ему верила, потому что хотела, чтобы он принадлежал мне одной. А теперь я чувствовала себя обманутой человеком, которого любила и кому безгранично доверяла. Видя искреннюю радость Софии, я еще больше прониклась презрением к отцу за обрушенные на нас потоки лжи. […]
Мать была со мной, и я поняла, до какой степени мне ее не хватало. Словно я увидела ее в другом свете – бесконечно любящей, достойной восхищения, не отказавшейся от своих поисков, несмотря на черное отчаяние.
Я не помню точно, какова была моя первая реакция, когда я поняла, что она совершила двойное убийство. Невзирая на охвативший меня ужас, в душе я ее оправдывала. София столько страдала, что это наказание я сочла заслуженным. Разве на ее месте я не поступила бы так же? А коварная Изабелла, столько лет водившая ее за нос? Мне никогда не нравилась эта женщина, в ее отношениях с отцом было нечто такое, что сильно меня раздражало. […]
Помню, как я попросила Софию показать комнату, принадлежавшую мне в раннем детстве, надеясь, что там все встанет на свои места. По-моему, я сказала что-то вроде: «Это будет потрясающе!» […]
53 Гортензия
Я уже собиралась включить свет, но ладонь Софии остановила мою руку. Пройдя впереди нее по темному коридору, я замерла перед дверью в детскую и спросила:
– Ты взяла ключ?
– Открыто, – чуть слышно проговорила она.
– Мне не терпится туда войти, – призналась я, – вдруг я сразу все вспомню? Это будет потрясающе!
Рука Софии крепко сжала мою; я почувствовала, как ее ногти больно впились в мою кожу. Но разве мне было до боли? Она заметила уже окрепшим голосом:
– Уверена, ты вспомнишь, иначе и быть не может. В ней с тех пор ничто не изменилось, я все сохранила.
Я открыла дверь. Слабый свет, проникавший из гостиной, погружал комнату в тусклый полумрак. София была рядом, я ощущала на своей щеке ее дыхание. Когда я к ней повернулась, в ее глазах сияла надежда. Приложив ладонь к ее груди, я сказала:
– Как сильно у тебя стучит сердце.
– Я ждала этого мгновения всю жизнь. Входи!
Постепенно глаза привыкли к темноте. Напротив двери я разглядела рамку с вышивкой, на которой было только имя – Гортензия. Мое имя. У меня сжалось сердце. Потом в глаза мне бросился огромный постер с изображением феи Динь-Динь. София улыбнулась.
– Ох уж эта Динь-Динь! Ты ее обожала и устроила целый концерт, чтобы я тебе купила эту картинку. Тогда тебе не было и двух лет, мы с тобой гуляли по Бобуру[34], не помнишь?
Нет, я не помнила. Мне показалось, что я шла по лезвию бритвы. Нужно было ее остановить.
– Слушай, мама, пусть все будет естественно. Тогда я была совсем крошкой, возможно, понадобится время…
– Ты права, Гортензия. Просто я очень нервничаю. – И она прошептала, будто говоря сама с собой: – Знала бы ты, сколько раз я сюда приходила и мечтала о том, как все будет…
– Конечно, София, но давай доверимся времени…
– Не называй меня Софией! – заметила она с раздражением, которое меня удивило.
– Хорошо, мама, – поспешила я ее успокоить.
– Как же приятно это слышать! – София показала пальцем на пришпиленные к стенам детские рисунки. – Это твои, я все их сохранила.
Затем она подошла к маленькому комоду, чьи золоченые ручки мягко поблескивали в полумраке.
– Настоящий шкафчик принцессы, – произнесла она с восхищением, выдвинув верхний ящик. – Здесь – твои платьица. Все твои наряды.
В ящике было полным-полно детской одежды всевозможных цветов, аккуратно сложенной в стопки. Погрузив в нее руку, я ощутила приятную шелковистость тканей. Достала первое попавшееся платье. Может быть, мне удастся его вспомнить?
– О, это было твоим любимым, ты была готова надевать его каждое воскресенье! – воскликнула она.
Нет, бледно-розовое, с пышной юбочкой платье не будило во мне никаких воспоминаний. От него исходил сильный затхлый запах. Когда я его расправила, выяснилось, что оно было все в дырках, в руках у меня остался кусочек отделившейся ткани.
– Проклятая моль! – возмутилась София.
Я положила розовое платье на маленький плетеный стул с бирюзовым сиденьем.
– Узнаешь?
– Что?
– Стульчик… Ты часами просиживала на нем, играя в куклы.
Нет, я не помнила ни стульчика, ни кукол.
– Пожалуйста, мама, наберись терпения. Дай я все спокойно рассмотрю. Столько лет прошло…
Я понимала ее разочарование, но разве не было нормальным то, что я не могла сразу все вспомнить? Ведь с той поры минуло двадцать два года. Мне нужно было постепенно проникнуться всеми этими образами. Кто знает, вдруг что-то внезапно сработает и желаемое произойдет?
Но мои слова возымели обратное действие: София становилась все более возбужденной.
– Посмотри!
Она ткнула пальцем в полку, на которой выстроились в безупречную шеренгу по-разному наряженные Барби.
– Знаешь, до чего ты любила в них играть? Здесь – все пять штук! – торжествующе воскликнула София. – Ты сходила с ума по этим чертовым куклам, целыми днями могла ими заниматься. Вот, они все здесь. – На ее лице появилось задорное выражение: – Оторвать тебя от них было просто невозможно! Только Барби имели для тебя значение… Ну и натерпелась же я от твоих капризов!
Последние слова София произнесла так, будто эти капризы составляли особый предмет ее гордости.
– Но я, негодная мать, покупала тебе их всякий раз, когда ты требовала новую. Я не могла ни в чем тебе отказать. Да, я тебя избаловала, признаюсь, но разве ты всего этого не стоила?
И коллекция Барби мне решительно ни о чем не говорила. Напротив, мне вспомнилось, как отец однажды захотел мне купить одну, но я воспротивилась. С раннего детства у меня было предубеждение против этих кукол, и я презирала девчонок, которые любили в них играть. И уж тем более ни за что на свете я бы не хотела походить на этих куколок-моделей! Однажды кто-то из приятельниц отца подарил мне Барби, когда я уже была большой. Так вот: я выколола ей глаза, открутила голову, а ровно через два дня выбросила ее в мусорку… Неужели это было своеобразной реакцией на похищение, попыткой разделаться с тем, что напоминало о раннем детстве? Да, это все объясняет, мысленно сказала я себе и протянула руку к одной из Барби.
– Твоя любимица…
– Прости?
– Эта кукла… Маргарет. Ты всегда выбирала ее, предпочитая остальным. Вот и сейчас ты взяла именно Маргарет. Ты не могла ее не вспомнить, я уверена…
Единственной известной мне Маргарет была хорошенькая метиска, которая краткое время пользовалась милостями отца. Но я воздержалась от этого признания, чтобы не огорчать Софию, а сделала вид, что размышляю вслух:
– Маргарет… Мне кажется, я смутно что-то припоминаю…
У Софии загорелись глаза.
На второй полке, под Барби, расположились рядком пять мягких игрушек. София достала бежевого плюшевого медвежонка, восседавшего в центре.
– А вот и твой мишутка!
Она обратила ко мне сиявшее лицо.
– Понюхай, он еще хранит твой младенческий аромат. Ты никогда с ним не расставалась, со своим Жеже…
В нос мне ударил мерзкий запах застарелой пыли.
– В тот день… кто-то подобрал его на лестнице. Наверное, ты его уронила, когда этот негодяй убегал с тобой на руках, – продолжила София. – Представляю, как тебе его не хватало…
Мне очень бы хотелось вспомнить, но тщетно: в моей душе не возникло ни малейшего отклика.
Заметив мое состояние, она провела своим негнущимся пальцем по моей щеке.
– Не расстраивайся, впереди у нас много времени – вся жизнь, – подбодрила она меня. – Не вздумай плакать.
Я даже не заметила, что по моему лицу текли слезы.
– Нет, наоборот, плакать нужно: сразу становится легче. Не обращай внимания, это не важно…
Нет, мне хотелось как следует рассмотреть все, что находилось в этой комнате, где прошли первые годы моей жизни, и я нажала выключатель. Лампочка плафона тихонько затрещала, на мгновение залив детскую желтоватым светом, потом погасла.
– Перегорела, – извиняющимся тоном проговорила София. – Нужно ее поменять.
С нетерпением я открыла дверь пошире и включила свет в коридоре. Вернувшись, я посмотрела на маленькую кровать, находившуюся в углу комнаты. София, моя мама, стояла молча, неподвижно, прижимая к груди медвежонка Жеже. Значит, эта деревянная кроватка когда-то была моей?
Я легла на толстое красное одеяло и закрыла мокрые от слез глаза. Не в силах двинуться, я оставалась в этой позе несколько секунд, длившихся целую вечность. Не знаю, отчего я дрожала. Мне хотелось, чтобы прошлое вернулось, поглотило меня целиком.
Стало холодно, и я залезла под одеяло.
Там что-то лежало.
Рука нащупала жесткий, вытянутый в длину предмет. Забытая кукла? Я попыталась определить в полутьме, что это было, затем приподняла одеяло, сначала ничего не поняла, присмотрелась получше, дотронулась рукой…
От истошного крика у меня чуть не полопались барабанные перепонки. Кричала, оказывается, я сама.
В кроватке лежала маленькая девочка, одетая в длинное розовое платье. Аккуратно причесанные белокурые локоны, обрамлявшие высохшее личико с обеих сторон, покоились на подушке. В глазницах посверкивали два вставленных туда шарика из голубого стекла. Руки девочки превратились в кости, обтянутые полупрозрачной кожей.
Мертвое тело. Мумия. Я коснулась пряди безжизненных волос.
По-прежнему стоя в проеме двери, София не двигалась. Донесся ее шепот:
– Это тоже Гортензия – твоя сестренка, моя дорогая Гортензия.
Я вскочила на ноги, почувствовав, что меня шатает от ужаса.
Немедленно бежать подальше от этого страшного места!
София отошла назад и, прежде чем я успела сделать хотя бы шаг, заперла дверь на ключ.
Комната вновь погрузилась в темноту, и я осталась наедине с трупом той, что некогда была ее дочерью.
Эпилог
София Делаланд не предстала перед судом, поскольку была признана «не подлежащей уголовной ответственности вследствие психического заболевания» двумя психиатрами, назначенными следственным судьей Робером для проведения судебно-психиатрической экспертизы.
Она была помещена – разумеется, пожизненно – в психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением (ПБСТИН)[35] в Саргемине, департамент Мозель. Никто никогда ее там не посещал.
Эмманюэль Дюран покинула Францию.
1
Использование личных местоимений множественного числа относится к особенностям стилистики французских официальных документов и деловых писем. – Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
Нем – блюдо вьетнамской кухни наподобие фаршированного блинчика, но меньшего размера.
(обратно)3
Одна из самых посещаемых достопримечательностей Парижа, на ней работает множество уличных художников, шаржистов и пр.
(обратно)4
«Школа досуга» – издательство детской литературы.
(обратно)5
«Альманах почтальона», или «почтовый календарь», – справочно-информационное издание Почтовой компании Франции, распространяемое почтальонами среди населения.
(обратно)6
Уменьшительно-ласкательная форма от имени Жером.
(обратно)7
Кламар – городок в десяти километрах к юго-западу от Парижа.
(обратно)8
Пемполь – город в Северной Бретани (Франция).
(обратно)9
Марсельское мыло – традиционное французское мыло ручной работы из Марселя.
(обратно)10
Речь идет о департаменте Сен-Сен-Дени (Сена-Сен-Дени; код – 93), расположенном к востоку и северо-востоку от Парижа.
(обратно)11
Французская сеть универмагов.
(обратно)12
Наименование красных вин, которые производятся в винодельческом регионе Пойак в Медоке (Франция).
(обратно)13
Город в 20 км к юго-востоку от Парижа (департамент Эсон), расположенный на реке Иветт.
(обратно)14
Мец – город в Лотарингии (Франция).
(обратно)15
Широко распространенный фразеологизм, имеющий исторические корни (другой вариант – «Как в четырнадцатом»; аллюзия на Первую и Вторую мировые войны), который означает «возобновляться с энтузиазмом» (в современном французском языке чаще употребляется применительно к любовным отношениям).
(обратно)16
Городок на юго-западе острова Мартиника, входящего в архипелаг Малые Антильские острова.
(обратно)17
Парижский пригород.
(обратно)18
Букв.: «Верховья Сены» – название департамента одного из крупнейших пригородов Парижа, в котором находится множество государственных учреждений регионального и национального масштаба.
(обратно)19
Французская синематека – крупнейший в мире архив фильмов, оборудованный несколькими кинозалами, где демонстрируются фильмы прошлых лет.
(обратно)20
Monoprix (фр.) – сеть магазинов.
(обратно)21
Сотрудники пожарно-спасательной службы, на которую частично возложены функции скорой помощи.
(обратно)22
Западный пригород Парижа, один из спальных районов столицы.
(обратно)23
Город на юго-востоке Бразилии.
(обратно)24
Ценный по своим вкусовым качествам сорт картофеля, выведенный во Франции в XIX в. Плоды имеют продолговатую форму и приятный ореховый привкус.
(обратно)25
Питейное заведение, где разрешается курить сигары.
(обратно)26
Один из крупнейших пригородов Парижа, находящийся в 11 км от центра столицы.
(обратно)27
Известный французский журналист и писатель.
(обратно)28
Тегинг (от англ. tag – «метка») – один из распространенных стилей граффити.
(обратно)29
Бытовое название наркотика, используемого преступниками с целью выведения из строя женщин во время сексуального насилия.
(обратно)30
Имеется в виду парижский квартал Ла-Бют-о-Кай (La Butte-aux-Cailles, букв.: «холм перепелов»), бывшая деревня, вошедшая в черту города (XIII округ).
(обратно)31
Известный парижский пекарь, победитель конкурса «Лучший багет Парижа» в 2007 г.
(обратно)32
Популярный детский парк развлечений, бывший зоологический сад Парижа.
(обратно)33
Самая старая и известная детская больница в Париже.
(обратно)34
Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду (в просторечии – Бобур) – культурный центр в квартале Бобур IV округа Парижа.
(обратно)35
Сертифицированный тип медицинского учреждения для лечения больных с психическими расстройствами, представляющих угрозу для общества и самих себя либо совершивших общественно опасные деяния и освобожденных от уголовной ответственности.
(обратно)






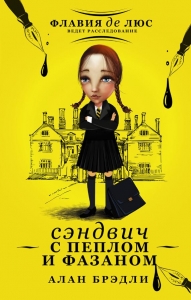

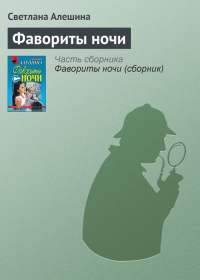
Комментарии к книге «Гортензия», Жак Экспер
Всего 0 комментариев