Людмила Мартова Вишня во льду
© Мартова Л., 2018
© ООО «Издательство «Э», 2018
* * *
И поныне каждую ночь светит сверкающий глаз ночи.
Селена ведет за собой звезды, расстилая небесную карту, освещая путникам и морякам путь к дому в память о вечной любви…
Сказка о ЛунеВсе события вымышлены.
Возможные совпадения случайны.
Девушка была чудо как хороша. Тоненькая, изящная, но при этом оч-ч-чень рельефная в тех местах, которые привычно притягивали к себе мужской взгляд Дорошина. Ну нравились ему фигуристые девушки, что ж поделать?!
Он никогда не отказывал себе в удовольствии проводить глазами попавшуюся навстречу нимфу с плавно покачивающимися бедрами, тонкой талией и упругой грудью. Чего уж тут скрывать, жена ушла от него именно из-за этой его страсти. То обстоятельство, что за все годы совместной жизни он ни разу ей не изменил, разгоряченным ревностью мозгом во внимание не принималось.
Измену Дорошин считал подлостью и пошлостью. А получение удовольствия от созерцания прекрасных женских тел, тем более прикрытых одеждой, – вполне невинным занятием, не нарушающим ничьих интересов. Вот только жена считала иначе. Да и бог с ней.
Ушла она еще весной, а официально они развелись всего две недели назад, и в общем-то уже привыкший к холостяцкой жизни и смирившийся с неизбежностью расставания Дорошин снова маялся от того, что приговор оказался окончательным и не подлежал обжалованию.
Трагедии, конечно, никакой не случилось. Сын вырос. Обязательства выполнены. Пути-дороги разошлись в разные стороны. Даже жилищный вопрос ничего не портил. Четырехкомнатную квартиру, когда-то полученную путем обмена из двух родительских, теперь поделили обратно. Хорошая просторная двушка в новом доме, расположенном в спальном районе, досталась в безраздельное пользование сыну. В однокомнатной «сталинке» в самом центре обитала жена, теперь уже бывшая. А Дорошин переехал во внезапно доставшуюся ему от дяди двухэтажную домину на самом берегу реки, расположившуюся практически напротив городского кремля.
Домина была деревянной, отапливалась русской печью и требовала серьезного ремонта, но Дорошина полностью устраивала. Руки у него росли из нужного места, свободного времени по выходным теперь было хоть отбавляй, поэтому года за два-три он собирался самостоятельно перестроить дом, вырыть скважину, установить газовый котел, – в общем, сделать жилище комфортным для проживания современного человека. А пока Дорошину и так было хорошо, тем более что на неделе он приходил домой только ночевать.
Главным достоинством дома, несомненно, была стоящая отдельно баня. Размер шесть на три включал в себя прекрасно обставленную комнату отдыха, парную с финской печью и с любовью установленными полками, а также душевую со столитровым электронагревателем. Воду в него приходилось накачивать насосом из колодца, но Дорошина это не останавливало, и в душ он ходил, как привык, два раза в день, утром и вечером, не жалея дров на ежедневную растопку печи.
Умерший брат отца был знатным парильщиком, и при его жизни Дорошин нет-нет да и заезжал по субботам к дядьке, чтобы быть от души и со знанием дела отхоженным хлестким веником. Дядька никогда не был женат, жил бобылем, детей не имел, и, хотя настоящей родственной близости между ними не было, когда он умер, Дорошин с изумлением узнал, что дом переписан на него.
Это, несмотря на странность ситуации, оказалось весьма кстати, позволив Дорошину сохранить при разводе остатки самоуважения. В сорок четыре года жизнь начиналась заново. Заниматься устройством этой самой жизни было лениво, но организм настойчиво требовал своего, сигнализируя, что более чем полугодовое воздержание совсем не полезно мужчине в полном расцвете сил.
К случайным связям Дорошин относился с брезгливостью, а на серьезные отношения катастрофически не хватало времени. На неделе он работал, в выходные ремонтировал дом. По ночам ему снились эротические сны, столь же реальные, сколь и развратные. Он просыпался, дрожа от нестерпимого желания, ворочался, пытаясь уснуть, чертыхался и, испытывая отвращение сам к себе, вспоминал юность, усмиряя взбесившуюся плоть. Нет, ему совершенно точно нужна была женщина.
Стоящая на подоконнике девушка вешала штору. Она обернулась на его шаги; бившее через оконное стекло солнце заливало ее рассеянным, словно приглушенным светом, в котором она выглядела хрупкой, юной, совершенно беззащитной. Дорошин оценил мягкие изгибы ее тела, совершенство фигуры, нежность тонкого, словно сделанного из дорогого фарфора личика, тяжесть толстой белокурой косы, небрежно перекинутой через плечо, и тут же поспешил навстречу, чтобы подхватить огромный гобеленовый лоскут, который она держала в руках.
– Давайте я вам помогу.
– Ой, спасибо. – Девушка обрадовалась предложению так явно, что он невольно улыбнулся. Свет теперь лился из ее глаз, огромных, фиолетово-желтых глаз, обрамленных черными ресницами, невыразимо длинными и пушистыми, как у куклы. Дорошин даже не представлял, что у живых людей могут быть такие ресницы. – Я с этими шторами умучилась вся. Такие тяжеленные, сил нет. С одним окном уже справилась, вот со вторым бьюсь, и еще два впереди. Представляете?
Дорошин представлял. Помочь этому сказочно прекрасному созданию было его мужской обязанностью. И, принимая тяжелый гобелен, он сразу забыл, зачем вообще в разгар дня явился в областную картинную галерею. Не на экскурсию же, на самом-то деле.
– Как вас зовут? – будто невзначай спросил он у девушки, чьи руки легко порхали над тканью, продевая толстые крючки в петли, прорезанные в шторной ленте. Дорошин никак не мог разглядеть, есть ли у нее обручальное кольцо.
– Ксюша. Ой, извините. Ксения Александровна Стеклова. Младший научный сотрудник. Искусствовед. А вы к нам по делу?
– Почему сразу по делу. Может быть, я посетитель. Пришел с новой экспозицией ознакомиться. – Он привычно ушел от ответа, потому что сам не знал, есть ли у него здесь дело, или все, что от него требуется, это выслушать порцию старческих бредней.
– Нет-нет. – Ксюша звонко рассмеялась, и ее смех, словно звон колокольчика, рассыпался по просторной прохладной старинной зале. – Открытие новой экспозиции у нас только завтра. Сегодня музей закрыт для посетителей. Вы же видите, мы готовимся. – В подтверждение своих слов она чуть потянула штору из его пальцев. – Но вас пустили, значит, вы по делу, причем по важному.
– Мне нужно повидать Марию Викентьевну, – признался Дорошин. – Она попросила меня зайти.
Мария Викентьевна Склонская была единственной любовью его умершего дяди. Тот не называл ее иначе как Машенька и сумел пронести свое чувство через всю жизнь, не расплескав ни капли.
Дядюшка рассказал ему о ней совершенно случайно, когда размякший после хорошей парилки Дорошин, уже переживающий разлад с женой, но еще до конца не отлученный от семьи, спросил, почему брат отца никогда не был женат.
– Не нашли ту, единственную? – спросил он, в общем-то не ожидая услышать правдивого ответа.
– Почему же, нашел. – Дядька пожевал тонкими старческими губами. – Только поздно нашел. Помнишь, как у Пушкина? «Но я другому отдана и буду век ему верна…» Как раз наш с Машенькой случай.
– Она была замужем?
– Она собиралась замуж. Причем за моего учителя, человека, которого я безмерно уважал. Профессора Ивана Александровича Склонского. Он был старше ее. То чувство, которое она к нему испытывала… Нет, это была не любовь, конечно нет. Но уважение, огромное уважение, практически преклонение. Их брак был одобрен отцом Машеньки, которого она боготворила и ослушаться не могла. И хотя тоже полюбила меня всем сердцем, но все-таки вышла замуж за Склонского. И была рядом с ним сорок с лишним лет.
– И из-за этого вы так и не женились? – Дорошин не верил собственным ушам.
– Представь себе, да. Не мог представить рядом с собой ни одной другой женщины. Первые годы мучился и страдал ужасно. А потом… Склонский был нездоровым человеком, больное сердце, одышка… Ему были противопоказаны любые физические нагрузки. А Машенька, родив дочь, превратилась в цветущую молодую женщину… В общем, ты меня понимаешь. Все эти годы она была моей. Минуты близости у нас случались нечасто, у нее была работа, муж, дочь… Она не могла позволить себе украсть у них то время, которое по праву принадлежало им. Но иногда случались свободные минуты, и тогда она бежала ко мне. Вот в этот дом. И за эти минуты я был готов пожертвовать возможностью иметь собственную семью. Она жила в обмане и страшно мучилась от этого. Я не мог заставить ее страдать еще и из-за того, что она вынуждена воровать меня у какой-то другой женщины. Она бы этого просто не вынесла.
Профессор Склонский был известным в их городе литературоведом, дядя Дорошина, Николай Николаевич, – учителем русского языка и литературы. А Машенька, Мария Викентьевна, – искусствоведом. Работала она в областной картинной галерее с молодых своих лет, специализируясь на иконах и храмовой живописи.
– А когда Склонский умер, почему вы не поженились? – спросил Дорошин, чувствуя невольный трепет от силы чувств, которые довелось испытать его дяде. Нет, сам он не был способен ни на что подобное.
– Так жизнь прошла. Устоялась. И не нужно в ней уже было ничего менять. Зачем? Детей и внуков смешить? Да и вообще. Машенька много лет прожила со старым, немощным, тяжелобольным человеком. Я уже тоже не молод. Она заслуживает спокойной старости без необходимости хоронить еще одного мужа.
– Чего ж ты себя хоронишь? – возмутился тогда Дорошин. – Тебе ж семьдесят пять всего. И ты ж ни разу в жизни даже насморком не болел.
Дядька тогда не ответил, лишь криво усмехнулся, а спустя два месяца его не стало. Скончался он в одночасье от обширного инфаркта, и Мария Викентьевна Склонская была единственным близким человеком, кроме самого Дорошина, который пришел проводить его в последний путь. Дядька жил отшельником, друзей у него не было, другой родни тоже.
Признаться, Мария Викентьевна поразила Дорошина своей необычной внешностью. Немолодая уже женщина, да что там, почти старуха, она сохранила гордую стать, прямую спину, тонкую талию и ясный взгляд. Одетая во все черное, она держалась с тем врожденным изяществом, которое невозможно воспитать, с ним нужно только родиться.
Тяжелый узел серебристых волос на затылке, серебряные перстни на длинных тонких пальцах, не изуродованных старческим артритом, тихо звякающие на узких запястьях браслеты… Она была красива даже в свои семьдесят лет, и Дорошин тогда понял, почему дядька так «залип» на этой женщине. Было от чего «залипнуть».
Он тогда зачем-то дал ей свой номер телефона, чтобы позвонила, если ей вдруг будет что-нибудь нужно. Он оценил, что горе ее не наигранно. Она действительно скорбела по его дяде, человеку, которого любила много лет и с которым познала пусть запретное, но все-таки счастье.
И вот вчера она позвонила и попросила его прийти в галерею. Голос ее звучал взволнованно. Она тяжело дышала в трубку.
– Виктор, голубчик. Извините, что отвлекаю вас. Я знаю, насколько вы заняты, и никогда не посмела бы оторвать вас от дел, если бы не обстоятельства чрезвычайной важности. Видите ли, мне Николенька рассказывал, чем вы занимаетесь, и мне кажется, что у нас в галерее произошло событие как раз из разряда ваших компетенций. Я была бы вам крайне признательна, если бы вы пришли и выслушали меня. Поверьте, если мои подозрения не беспочвенны, то это ужасно. Просто ужасно.
Дорошин пообещал, что придет, хотя особого интереса не испытывал. Мало ли что там старухе почудилось. Его профессия вызывала неизменный интерес у всех, кто о ней узнавал, – начальник областного отдела УМВД по розыску пропавшего антиквариата и предметов искусства. Есть от чего впасть в ажиотаж и решить поиграть в детектива. Скучно, поди, Склонской, вот и выдумала удачный повод, чтобы повспоминать своего умершего любовника с его племянником.
Впрочем, глядя в фиалковые глаза Ксюши, Ксении Александровны Стекловой, он сейчас совершенно не жалел, что решил исполнить старушечью прихоть. Все-таки девушка была чудо как хороша, и романтически настроенный Дорошин даже представил на миг, что между ними вспыхнет такая же сильная страсть, как между его дядей и Машенькой. А что, эта чудесная молодая женщина – тоже искусствовед, а он, Виктор, в конце концов, дядин родственник, и вдруг по наследству ему передалась не только деревянная домина на берегу реки, но и способность любить горячо и пылко.
Оказывается, все это время Ксения ему что-то говорила. Он смутился, поняв, что, погрузившись в мечтания, все прослушал, и уставился на нее виновато.
– Я спросила, давно ли вы знакомы с Виконтессой. Ой, извините, – девушка чуть смутилась, – это мы Марию Викентьевну за глаза между собой так называем. Помните, у Рыбакова в «Бронзовой птице» была Графиня, такая вся страшная, неприступная, гордая… Склонская очень на нее похожа. Все гоняет нас, молодежь. Вот мы ее и прозвали Виконтессой. По аналогии.
Дорошин вспомнил худощавую фигуру, горестно склонившуюся над гробом дяди. Нет, пожалуй, он не назвал бы Склонскую ни жесткой, ни страшной, ни неприступной. Обычная женщина, хорошо знающая себе цену. Так этому качеству только поучиться можно.
– Недавно знаком, – чуть суше, чем следовало бы в разговоре с хорошенькой барышней, ответил он. – К тому же достаточно поверхностно.
– Значит, точно, вы пришли к ней по делу. – Ксюша запрыгала на подоконнике и даже в ладоши захлопала, воспользовавшись тем, что тяжелая штора уже была успешно водружена на место. – Я вас поймала! Я вас поймала!
– Да я вроде и не убегал, – засмеялся Дорошин.
Ксюша протянула к нему руки, чтобы он помог ей спрыгнуть с высокого подоконника, он не растерялся, положил ладони на тонкую девичью талию, поднял легко-легко и аккуратно опустил на пол рядом с собой. Так она едва доходила ему до подбородка. Сходство с диковинной куклой усилилось. Нет, эта девушка Дорошину положительно нравилась.
– Ладно, спасибо за помощь, с оставшимися окнами я уж как-нибудь сама справлюсь. – От улыбки на ее щеках появлялись озорные ямочки. – Нельзя заставлять Виконтессу ждать. А то гневаться изволит. Кстати, вы – журналист?
– Почему журналист? – удивился Дорошин.
– Ну, раз вы идете к Склонской по делу, значит, вы или журналист, или коллекционер, или реставратор. У нее, кроме ее икон, никаких других интересов в жизни нет.
Дорошин внезапно задумался о том, как так получилось, что, много лет занимаясь именно розыском икон, он никогда прежде не сталкивался с Марией Склонской. Впрочем, объяснение этому было: оценщиков и специалистов по иконописи он, как правило, привлекал из Москвы, потому что след пропавших ценностей вел именно туда.
– Давайте все-таки вместе повесим оставшиеся шторы, а потом вы покажете мне, как найти Марию Викентьевну, – решительно сказал он. – И да, Ксюша, разрешите представиться. Меня зовут Виктор. Виктор Дорошин. И я вовсе не журналист, не коллекционер и не реставратор, хотя произведениями искусства интересуюсь, каюсь, грешен.
– А я уже ими объелась, – чуть грустно сказала Ксюша. – Я так мечтала быть искусствоведом. Мне казалось, что это так здорово – с утра до вечера смотреть на прекрасное. А сейчас чувствую, что меня этим прекрасным перекормили. Тем более что у нас тут обстановка такая… – Она замялась, подыскивая подходящее слово.
– Унылая, – подсказал Дорошин, который атмосферу провинциальных музеев знал прекрасно. Воздух здесь был чуточку затхлым, а люди словно присыпанными нафталином. Попадая в музей или картинную галерею, Дорошин всегда физически ощущал, как останавливается вокруг бег времени. Стоящая перед ним Ксения Стеклова была слишком живой и подвижной для того, чтобы чувствовать себя здесь комфортно.
– Да, – с готовностью подхватила она. – Конечно, стыдно так говорить, но это ужасно, когда ты окружена людьми, которым ничего не надо, кроме искусства. Здесь любое материальное желание воспринимается как оскорбление, как вызов. Здесь модно презирать деньги, а у меня не получается, понимаете? Мне хорошо от того, что у меня муж богатый, а без денег, наоборот, очень плохо.
Удар, нанесенный Дорошину, был так себе, слабенький, прямо скажем, удар, но разочарование разлилось по венам, гася внезапно возникшую надежду. У Ксюши, оказывается, был муж. «Впрочем, – усмехнулся про себя Дорошин, – ты же хотел, чтобы у тебя было, как у дяди, а он много лет встречался именно с замужней женщиной, и ничего».
– Пойду я, – сказал он, кляня себя за идиотские мысли. – Работу мы с вами закончили, я рад, что смог вам помочь. А теперь все-таки вынужден откланяться. Неудобно заставлять даму ждать.
– До новых встреч. – Ксюша стрельнула в него глазками и скромно потупила их. – Если Виконтесса расскажет вам что-нибудь интересное, обещайте, что поделитесь. Я ужасно любопытна, но молодежи особо никто ничего не рассказывает.
– Обещаю. – Дорошин приложит руку к груди и поспешил к неприметной двери в конце зала, за которой скрывалась винтовая лестница, ведущая в подвал, в служебные помещения и запасники картинной галереи.
Он спиной чувствовал, что сказочная фея Ксения Стеклова смотрит ему вслед.
* * *
Мария Викентьевна Склонская занимала кабинет не одна. За соседним столом обитало невзрачное существо неопределенных лет. Пол существа, впрочем, определялся безошибочно, благодаря длинной, до пола, бесформенной черной юбке. Серый в катышках свитерок с обдерганными рукавчиками, собранные в кучку на затылке волосы непонятного цвета, который отчего-то принято называть русым, завершали образ.
С точки зрения ценителя женской красоты Дорошина, женщины делились на блондинок, брюнеток, шатенок и рыжих, а русый цвет был форменным недоразумением, вызванным ленью и нежеланием работать над собой. Лень он не прощал ни в каких ее проявлениях.
– Витенька, мальчик мой, как я рада, что вы зашли, – воскликнула Склонская, когда он появился в дверях. – Проходите же скорее. Познакомьтесь, пожалуйста, это моя коллега Леночка.
Оставшееся до седых волос Леночкой существо подняло на Дорошина глаза, прикрытые стеклами немодных дурацких очков. Глаза не выразили ни капли интереса ни к самому Дорошину, ни к цели его визита, но врожденная вежливость все-таки заставила Леночку поздороваться, пусть и без малейшего намека на душевность.
– Здравствуйте. Меня зовут Елена Николаевна.
– Виктор Сергеевич. – Он церемонно шаркнул ножкой, испытывая ту самую скуку, о которой пару минут назад говорил с живой и подвижной Ксюшей.
Елена Николаевна выражала собой истинный образчик той самой породы «искусствовед обыкновенный», который царствовал в музеях российской глубинки. Одинокая, уставшая от серой жизни женщина с маленькой зарплатой, обитающая в старой хрущевке вдвоем с мамой. Мужа нет, детей нет, перспектив тоже нет. Зато начитанна, образованна и разбирается в искусстве.
– Леночка, могу я тебя попросить ненадолго оставить нас с Витенькой наедине, – попросила тем временем Склонская. – Мы бы прошли в чайную комнату, но там может быть многолюдно, а разговор у нас конфиденциальный. Пожалуйста, девочка, выполни мою просьбу.
«Девочка», которой уже было явно к пятидесяти, не поднимая головы, кивнула, подхватила полы своей длинной юбки, одернула свитерок, не дающий даже тонкого намека на грудь, и молча скрылась за дверью. Прошмыгнула тенью и исчезла, будто и не было ее.
Дорошин проводил ее глазами, придвинул стул и сел, приготовившись к длинному и, надо полагать, бессмысленному разговору.
– Виктор, я много знаю о вас, – начала Склонская. – Вы – удивительный специалист, создавший уникальную систему поиска пропавших ценностей. И эта система работает, несмотря на то что это далеко не всем по нраву. Я восхищена вашим профессионализмом, Виктор. Одна только Одигитрия Смоленская чего стоит. Это же благодаря вам она вернулась в Россию. Да-да, не качайте головой. Я совершенно точно знаю, что благодаря вам.
Полковник Дорошин был изумлен. О его скромном вкладе в историю с возвращением одной из самых знаменитых в их регионе икон знали немногие. Действительно, найти Одигитрию удалось только благодаря составленному Виктором за несколько лет скрупулезной работы каталогу пропавших ценностей, исчезнувших из храмов и музеев его родной области.
Он мотался по церквям и приходам, разговаривал со священниками, составляя точную опись утраченного. В его каталоге, который он создал, сверстал и напечатал на свои собственные деньги, значились сто двадцать объектов иконописи, картин и других ценностей, украденных или числившихся пропавшими примерно с середины семидесятых годов двадцатого века. Большая часть их была украдена в девяностые, когда охотники за антиквариатом шныряли по маленьким городкам и деревням, взламывали заколоченные церкви, выдирали бесценные иконы из деревянных образов или забирали их вместе с образами, если те оказывались серебряными.
Дорошин не поленился разослать свой каталог во все музеи страны и даже Европы, имеющие фонды иконописи, видным коллекционерам, с большинством из которых был знаком лично, а также в адрес аукционов «Кристис» и «Сотбис».
Именно в его каталоге изображение Одигитрии Смоленской, одной из самых древних и почитаемых на Руси православных святынь, похищенной в 1994 году из районного музея, увидел зарубежный коллекционер, человек уважаемый и высоконравственный, купивший Одигитрию по случаю, не зная, что она краденая.
Как гласило описание в каталоге, сторож музея пил водку с двумя приятелями. К ним присоединились трое неизвестных, усыпили всю компанию, погрузили семь старинных икон в фуру, груженную пиломатериалами, и так вывезли через российско-финскую границу. Общая стоимость похищенного составила два миллиона долларов.
Потом Смоленская икона Богоматери, именуемая «Одигитрия», оказалась в Германии, где ее след затерялся почти на одиннадцать лет. Затем икона неожиданно «всплыла» на сайте Лондонской галереи Ричарда Темпла.
Дорошин отправил туда свой каталог, сотрудники галереи показали ее Темплу, и тот неожиданно согласился вернуть святыню в Россию, причем безвозмездно. Так образ, датируемый пятнадцатым – шестнадцатым веком, вернулся на Родину, осев, правда, в храме Христа Спасителя в Москве. Дорошин пытался довести дело до конца и добиться, чтобы Одигитрия вернулась на свое первоначальное место, но ему быстро предложили «не возникать».
Немного подумав, возникать он действительно не стал, потому что с точки зрения безопасности районный музей был вовсе не тем местом, где стоило хранить бесценную Одигитрию. Украсть ее во второй раз было делом плевым, поскольку система оповещения в музее была давно отключена за долги, а сторожа по-прежнему охотно выпивали с постучавшимися в дверь незнакомцами. Вот только откуда про все это было известно Склонской?
– Ваш дядя, мальчик мой, очень гордился вами, – сказала старуха, словно прочитав мысли Дорошина. – Он всегда рассказывал мне обо всех ваших успехах, потому что знал, что я смогу оценить их по достоинству.
– Странно, что он нас не познакомил, – признался Дорошин. – Вы специализируетесь на иконописи, я последние двадцать лет разыскиваю иконы. А встретились мы с вами только на дядиных похоронах.
– В жизни все бывает именно так и именно тогда, когда нужно и должно, – пожала плечами Склонская. Сейчас Дорошину даже в голову бы не пришло назвать ее старухой. – Мальчик мой, я случайно узнала одну вещь, совершенно невозможную, просто невообразимую, ужасную вещь. Это знание не укладывается у меня в голове. Если то, что я думаю, – правда, то наш музей ждет огромный скандал. Вселенский, не оставляющий камня на камне от репутации не только нашего директора, но и всех нас. Я не могу предать этот факт огласке до тех пор, пока не буду уверена, что права. Мои обвинения слишком серьезны, чтобы я бросалась ими направо и налево. И поэтому я решила сначала рассказать все вам, чтобы вы провели негласное расследование. Когда мы будем все знать досконально, тогда и примем решение, что делать дальше.
– Мария Викентьевна. – Дорошин улыбнулся специальной «полицейской» улыбкой, которая была у него заготовлена как раз для таких случаев. – Вы пытаетесь втянуть меня в игру, правил которой я не знаю, а я уже достаточно взрослый для того, чтобы не вестись на такие подначки. Я – не частный сыщик, не комиссар Мегрэ, не Эркюль Пуаро. Я полковник полиции, находящийся при исполнении своих служебных обязанностей. Если я узнаю о нарушении закона, я не буду держать это в тайне. Я придам этот факт огласке, невзирая на то, что от этого может пострадать чья-то репутация. Если бы вы знали, сколько репутаций я разрушил за годы работы… К сожалению, когда речь идет о кражах произведений искусства, это неминуемо. Я правильно вас понял, ведь вы обнаружили пропажу из запасников музея какой-то иконы? Или наоборот, увидели икону, которой в вашей галерее нет и не может быть? Это что-то из моего каталога? Раз вы про него знаете, вполне вероятно, что он у вас есть. И, скорее всего, от моего дяди. Я верно излагаю?
– Не совсем, – спокойно сказала Склонская. Если в телефонном разговоре, назначая встречу, она сильно волновалась, то сейчас держала себя в руках, как человек, который все давно для себя решил. – Я – хранитель иконописи, но это вовсе не означает, что я не разбираюсь во всем остальном. Более того, если бы дело касалось моей зоны ответственности, то я сразу же настояла бы на официальном обращении в полицию. Но то-то и оно, что меня это совершенно не касается. Видите ли, Виктор, я совершенно случайно обнаружила, что в музее отсутствует одна картина. Подлинник. Очень ценный подлинник. Я попробовала аккуратно навести справки и поняла, что никто не видел ее уже более года. Мой коллега, отвечающий за фонды живописи, не уделил исчезновению картины должного внимания, и мне важно понимать, по безалаберности это или по злому умыслу. И уже только после этого поднимать шум.
– Ваш коллега – это Елена Николаевна? – Дорошин кивнул в сторону пустующего стола в дальнем углу кабинета.
– Леночка? Нет-нет, она – просто старший научный сотрудник, а в одном кабинете мы оказались только потому, что никто больше не соглашается терпеть мой несносный характер. Старые упрямые люди всех раздражают, особенно когда учат относиться к своим обязанностям серьезно, а не поверхностно. А Леночка, во-первых, отличный профессионал, а во-вторых, просто хороший, добрый человек, готовый уважать старость. Моего коллегу зовут Борис Петрович Грамазин, и он сидит в соседнем кабинете вместе с Ксюшей Стекловой. Есть у нас такая милая девочка.
– С Ксюшей я уже как раз познакомился, – сообщил Дорошин и внезапно покраснел, будто его поймали с поличным на чем-то очень неприличном. – Мария Викентьевна, а можно уточнить, что же у вас, собственно говоря, пропало?
– Я не знаю, пропало или нет, – печально сказала Склонская. – Вполне возможно, что картину просто переложили в другое место, и сейчас она спокойно лежит где-то в запасниках. За последние три года галерея была вынуждена трижды перевозить основные фонды из здания в здание. Виктор, вы же знаете, какая беда у нас с финансированием. Мы и в этом-то помещении сидим на птичьих правах, со дня на день ожидая выселения.
Действительно, областная картинная галерея в их городе располагалась в здании бывшего кафедрального собора, который по закону о реституции уже передали церкви. Власти говорили о том, что обязательно подыщут музею новое помещение, но отведенный для этого срок подходил к концу, а проблема так и не была решена. Это Дорошин знал прекрасно. Но разговор со Склонской начал выводить его из терпения.
– Мария Викентьевна, я осведомлен о всех бедах галереи. – Он сделал упор на слове «всех», подчеркивая, что в курсе различных сплетен и слухов, которые ходили вокруг этого культурного заведения. – Я понял, что пропажа, о которой вы беспокоитесь, на самом деле могла никуда не пропасть, а просто затеряться в запасниках. Я оценил, что вы никого ни в чем не обвиняете и старательно пытаетесь не выносить сора из избы. Я даже могу вам обещать, что до того, как дать делу официальный ход, постараюсь максимально тщательно разобраться с ним сам. Но ради всего святого, скажите уже, наконец, ЧТО именно, на ваш взгляд, пропало? Перестаньте уже говорить загадками.
– Картина «Днепр». Этюд Куинджи, – тихо сказала Склонская. Полковник Дорошин с грохотом упал со стула, у которого внезапно подломились ножки.
* * *
Борис Грамазин был доволен. Очень доволен. Наконец-то его коллекция пополнилась новым экспонатом, причем воистину бесценным, хотя бы потому, что он достался ему даром. Нет, за некоторые жемчужины своего собрания он платил деньги, причем, по его меркам, немалые, другие же находил по случаю, получая за бесценок или вообще даром. Такие он ценил особо.
Как и все коллекционеры, он мог часами смотреть на свои сокровища, перебирать их, каталогизировать, оценивать, смаковать воспоминания о том, как они были приобретены. Борис Грамазин был страстной натурой, хотя его внешний облик мало соответствовал такому определению.
Глядя на его сутулую фигуру, печально поникший длинный нос, впалые щеки, по которым струились давно не стриженные сальные патлы, слыша монотонный, чуть визгливый голос, ловя сонный, ничего не выражающий взгляд, никто не мог даже догадаться о том, какой силы страсти бушуют внутри этого человека.
Он был по-настоящему одержим идеей пополнения своей коллекции и ради этого ничем не гнушался. Если бы ему кто-то сказал, что его деятельность аморальна, то Грамазин очень бы удивился подобной постановке вопроса. Цель оправдывает средства, в этом он был убежден совершенно искренне, а мораль и нравственность, как фундаментальные философские категории, находящиеся в ведении этики, не брал в расчет совершенно. В конце концов, этика – это наука, а значит, отношения к реальной жизни не имеет.
Грамазин закрыл тетрадочку, в которой только что тщательно зафиксировал пополнение своей коллекции, и довольно улыбнулся, как наевшийся сметаны кот. Впрочем, улыбка тут же исчезла с его лица, как будто ее стерли тряпкой. Мужик, припершийся к старухе, мог существенно подпортить ему всю малину.
Секрет, переставая быть таковым, утрачивал всяческую ценность. Это грозило потерей экспоната, а значит, надо было хорошенько постараться, чтобы этого не допустить. Вот только как?
Его раздумья прервал звонок в дверь. Борис Петрович удивился, поскольку уже много лет никого не ждал. Старчески шаркая по полу ногами, обутыми в разношенные войлочные тапки, спадающие чуть ли не на каждом шаге, он прошел к двери и посмотрел в глазок.
Чуть искаженная оптическими линзами фигура была ему хорошо знакома, но Грамазин не имел ни малейшего представления о том, чем был вызван этот внезапный визит. Ему казалось, что с этим человеком они обо всем договорили. Недоуменно пожав плечами, он открыл дверь.
– Здравствуйте, не ожидал вас у себя увидеть.
– Я могу пройти?
– Конечно. – Борис Петрович посторонился, пропуская нежданного визитера в прихожую. – Впрочем, если вы собираетесь снова уговаривать меня, то все это понапрасну. Я уже объяснил вам, что ничего не отдам. У меня коллекция. Она не так велика, чтобы я разбрасывался ее экспонатами. Поймите, ничего личного. Но то, что принадлежит мне, у меня и останется.
– Принадлежит вам? – В голосе прозвучала легкая ирония, слегка неуместная в затхлых стенах узкого, захламленного коридора.
– Не придирайтесь к словам. То, что находится у меня… Какая разница?
– Существенная. То, что находится у вас, на самом деле принадлежит мне, и я в последний раз предлагаю вам вернуть мне то, что вы называете «экспонатом». Уверяю вас, у меня к этому совершенно иное отношение. Вы ведете речь о своей дурацкой коллекции, а я – о своей семье, которая для меня, признаюсь, священна.
– Ваше отношение к своей семье весьма похвально. – У Грамазина вдруг пропал голос, и он был вынужден откашляться. – Вот только ко мне и моему скромному увлечению не имеет никакого отношения. По-моему, я вам уже это объяснял. Надеюсь, что этот наш разговор последний.
– Надеетесь? – Голос теперь звучал совсем недобро. – А я так в этом совершенно уверен.
Борис Петрович Грамазин хотел уточнить, что имеет в виду его неожиданный визави, однако не успел.
Стук падения тела был негромким, уж точно не слышным с лестницы. Человек, только что совершивший убийство, прошел в комнату, в которой уже освоился ранний декабрьский вечер, огляделся по сторонам, подошел к столу, не снимая перчаток, вытащил верхний ящик. Он был готов к долгому, обстоятельному осмотру, так как знал, что ему совершенно точно никто не помешает.
Взгляд его упал на поверхность стола, и человек довольно засмеялся. То, за чем он пришел, не нужно было искать. «Экспонаты» были разложены прямо на столешнице. Он взял нужный, тщательно убрал в перекинутую через плечо сумку, не забыв прихватить лежащую рядом тощую тетрадку – каталог.
Все. Больше в этой квартире ему было нечего делать. Мягко стукнула захлопнувшаяся за одетой в черное фигурой входная дверь, щелкнул язычок английского замка. Тусклый свет давно немытой лампочки безучастно освещал лежащее на полу тело и отлетевший в сторону старый войлочный тапок с дыркой на месте большого пальца.
* * *
Обложившись бумагами, Дорошин изучал все, что смог найти в Интернете по поводу этюда Куинджи «Днепр». История, рассказанная Склонской, его увлекала все больше и больше. То, что Мария Викентьевна сказала правду, он нисколько не сомневался. В том, что картина действительно пропала, а не переложена случайно с места на место, тоже. Весь накопленный за годы работы опыт твердил о том, что Куинджи украден.
По просьбе Дорошина Склонская составила список работников галереи, имеющих допуск в хранилище. Помимо ее самой, Ксении Стекловой, Елены Золотаревой и Бориса Грамазина, о которых полковник уже был наслышан, в список вошли директор музея Арина Морозова, старший научный сотрудник Андрей Калюжный, младший научный сотрудник Алена Богданова, уборщица Светлана Попова и ремонтных дел мастер Ильдар Газаев. В штате картинной галереи кроме них посменно трудились еще две гардеробщицы и четыре смотрительницы залов, однако специального ключа, открывающего двери в хранилища, они не имели. Итого, вынести картину могли девять человек. Не так уж и мало.
Мария Викентьевна рассказала Дорошину все, что знала. Пропажа Куинджи выяснилась случайно. Ее внучке, студентке филфака, задали доклад о творчестве Куинджи, и девочка решила вставить в него раздел о наличии подлинников художника в их городе. Склонская принесла ей каталог, изданный картинной галереей в две тысячи четвертом году, в котором черным по белому значилось, что в ее запасниках хранится два этюда знаменитого мастера – «Закат в лесу» и «Днепр», переданные в дар Обществом имени Куинджи в 1995 году.
– Эта работа была написана в промежуток с 1898 по 1900 год, – рассказывала Дорошину Склонская. – Она небольшая, размером одиннадцать на семнадцать сантиметров. На ее обороте был штамп общества Куинджи и подписи входящих в него художников Рылова и Бухгольца, а также присвоенный картине инвентарный номер.
Внучка Склонской также попросила бабушку сфотографировать картину на телефон, чтобы иметь ее «живое» изображение, однако когда Мария Викентьевна спустилась в хранилище, то в положенном месте картину не нашла. Обращение за помощью к Грамазину тоже не дало результатов. Борис Петрович не смог сказать, ни где находится картина, ни когда он видел ее в последний раз.
– Валяется где-то, – беспечно сказал он, почесывая худосочную грудь под видавшей виды черной водолазкой. – Будем переезжать – найдется.
Склонская его оптимизма не разделяла. Ей казалось, что пропажа картины такого уровня грозит вселенским скандалом, а потому начала аккуратно спрашивать у коллег, кто из них видел картину последним. Богданова, так же как и сама Мария Викентьевна, специализировалась на иконописи, поэтому судьба картины из соседнего отдела ее совершенно не интересовала. Калюжный, пишущий диссертацию как раз по Куинджи, припомнил, что описывал все, что связано с «Днепром», два года назад и тогда точно доставал этюд из хранилища, чтобы рассмотреть поближе. Соответствующая запись в журнале учета материальных ценностей действительно была.
Елена Золотарева сказала, что видела этюд, когда поступала на работу в галерею, поскольку знакомилась тогда со всеми фондами, и больше о нем не вспоминала. Директоршу Морозову Склонская беспокоить попусту не решилась, уборщица и разнорабочий, услышав вопрос о Куинджи, лишь посмотрели непонимающе, поскольку никогда даже не слышали такой фамилии, и лишь Ксюша Стеклова, морща чистый лобик, припомнила, что года полтора назад из Москвы приезжал какой-то фотограф, который просил разрешения сфотографировать именно этюд «Днепр». Запись об этом событии в журнале Грамазина Склонская тоже отыскала, и получалось, что после визита неизвестного фотографа «Днепр» никто не видел.
– А что это был за фотограф, вы не знаете? – спросил Дорошин, впрочем, без малейшей надежды.
– Нет, я вообще про него не знала. Хорошо, что Ксюша вспомнила, а то бы и этого не узнали.
– А эта ваша Ксюша, вообще, что за человек? – Дорошин попытался, чтобы его голос звучал как можно безразличнее.
– Хороший человек, славный. – Мария Викентьевна пожала плечами. – Как мне кажется, не очень счастливый, хотя я могу и ошибаться. Видите ли, Витенька, я, признаться, не очень понимаю нынешнюю молодежь. Девочка она тонкая, в искусстве разбирается прекрасно, но вот ценности у нее совсем другие, чем у моего поколения. И это печалит очень. Мне с ней общаться не очень интересно, впрочем, как и ей со мной. Мне Леночка гораздо ближе. Вот она – просто прекрасной души создание. С ней можно в разведку, если вы помните еще такую меру человеческой порядочности.
– Помню, – засмеялся Дорошин. – Хотя и младше вас с Леночкой, но помню.
– Меня вы, несомненно, младше, Витенька. – Склонская весело рассмеялась, и смех ее звучал очень молодо и звонко. Сейчас ей ни за что было не дать ее семидесяти лет. – А вот Леночку вы зря в старухи записали, ей всего тридцать шесть.
– Как тридцать шесть? – глупо спросил Дорошин, вспоминая бесформенную юбку, невыразительное лицо и тусклый ком волос, собранных в гладкий узел. – Я думал, ей за пятьдесят.
– Виктор, – Склонская укоризненно погрозила полковнику пальцем, – если бы вы сказали это при Леночке, то нанесли бы ей страшное оскорбление. Уверяю вас, что я не ошибаюсь относительно ее возраста, и она всего на четыре года старше Ксюши.
– Как на четыре? – чувствуя себя идиотом, Дорошин все-таки не смог сдержать вырвавшийся у него вопрос. – Я был уверен, что Ксюше лет двадцать пять, не больше.
– Она молодо выглядит, тем более что у нее есть возможность ухаживать за собой, посещать салоны красоты. У нее муж бизнесмен, поэтому она может позволить себе дорогую одежду и косметику, а Леночка живет на свою более чем скромную зарплату и пенсию деда, поэтому вы так жестоко и ошиблись в плане ее возраста.
Так, бесформенное пугало Леночка, по внешнему виду которой никак нельзя было предположить, что она еще достаточно молода, жило не с мамой, как изначально предположил Дорошин, а с дедом. Что ж, не так сильно он и ошибся на самом-то деле. Интуиция его не подвела. Полковник усмехнулся. Леночка, сколько бы лет ей ни было, его совершенно не интересовала.
– А почему вы сказали, что Ксюша, по вашему мнению, несчастна? – Солнечное создание, тонкость талии которого он еще ощущал на свои ладонях, влекло его к себе с давно забытой силой.
– Мне сложно это объяснить. – Склонская говорила медленно, будто взвешивая каждое слово. – К тому же я не терплю досужих сплетен. Видите ли, Витенька, я совершенно точно знаю, что ни одна женщина не может быть счастливой, живя с мужчиной, которого она не любит. Я имею в виду, не любит по-настоящему, до дрожи в коленях, до замирания в груди, до мурашек в животе, до онемения в кончиках пальцев. – Пожилая женщина заметно разволновалась, грудь у нее вздымалась, она говорила, немного задыхаясь, как будто о личном, и Дорошин внезапно понял, что она говорит о себе, не о Ксюше Стекловой. – Ксения же своего мужа так не любит, это совершенно очевидно. Он не подходит ей, потому что слеплен совсем из другого теста. Она живет с ним ради его денег, что само по себе отвратительно, и еще и поэтому она не может быть счастливой.
Аргументация Склонской была Дорошину понятна, но вот правильна ли она? Этого он не знал. После того как его выгнала жена, он вынужден был признать, что женская логика действительно вещь непостижимая. Впрочем, считать, что так понравившаяся ему Ксения Стеклова несчастна в браке, ему было выгодно. Это оправдывало Дорошина в собственных глазах, поскольку он совершенно точно намеревался закрутить с ней роман. Или хотя бы попробовать это сделать.
У нее были чудесные глаза, нежная кожа, густые волосы и совершенно потрясающая фигура с подтянутой попкой и высокой грудью. Он представил на минуту, как она склоняется над ним, волосы цвета ржи падают ему на лицо, его обнаженной груди касаются два восхитительных полушария с торчащими вперед сосками, и даже зажмурился от охватившего его восторга.
Чтобы отвлечься, Дорошин яростно защелкал компьютерной мышкой, добывая из Интернета информацию о Куинджи. Ему было важно понять, на какой доход мог рассчитывать похититель картины.
Добытая в недрах мировой паутины информация оказалась настолько захватывающей, что он даже забыл и о прекрасной Ксюше, и о том, что, к немалой своей досаде, не смог заполучить номер ее телефона. За время его разговора со Склонской девушка куда-то испарилась, а спрашивать у Марии Викентьевны он постеснялся.
Архип Куинджи был воистину уникальным мастером. Он творил картины настолько пронзительные, что, по словам современников, им «хотелось заглянуть за холст, чтобы убедиться в отсутствии искусственной подсветки луны». Высокая стоимость работ Куинджи объяснялась тем, что он оставил после себя всего сто семьдесят восемь каталогизированных картин и несколько десятков этюдов и графических работ.
На аукционе «Сотбис» за всю историю его существования было продано только три полотна Куинджи. В 2008 году знаменитая «Березовая роща» ушла с молотка за три миллиона долларов, в то время как проданные одновременно с «рощей» картины Айвазовского «Раздача продовольствия» и «Корабль помощи» принесли вместе всего два с половиной миллиона.
Дело начинало пахнуть жареным, и Дорошин почесал нос. Это было первым признаком того, что полковник «взял след». Пожалуй, с этой минуты он совершенно точно знал, что Куинджи действительно украли из картинной галереи. Но вот кто и когда?
Виктор сходил на кухню, вскипятил чайник, заварил огромную кружку душистого иван-чая с брусникой, бросил туда щедрый ломоть лимона, насыпал три ложки сахара и снова вернулся в кресло перед компьютером. Еще минут через десять он нашел информацию о том, что пятнадцать лет назад две картины Архипа Куинджи «Вечерний закат» и «Развалины в степи» были украдены из картинной галереи в Челябинске.
Точно как в обожаемом Дорошиным фильме «Как украсть миллион», за два дня до кражи в галерее несколько раз срабатывала сигнализация. Приезжавшие наряды полиции не нашли ничего подозрительного и, решив, что охранная система неисправна, ее отключили. На следующую же ночь злоумышленники выдавили оконное стекло и похитили полотна, которые не нашли до сих пор. Особое любопытство вызывал и тот факт, что в галерее на виду висели гораздо более ценные по стоимости картины, однако их не тронули, позарившись именно на Куинджи.
Дорошин залпом допил остывший чай и откинулся на спинку стула. Пожалуй, на данный момент он был уже готов задать несколько вопросов своему старинному приятелю Эдику Кирееву, работавшему экспертом в одном из крупнейших художественных музеев Москвы – Русской антикварной галерее.
Он потыкал пальцами в кнопки компьютера, запуская программу скайп и включая камеру. Через минуту на экране возникло лицо Киреева. Чуть раскосые глаза, взлохмаченные вихры, полные, четко очерченные чувственные губы и длиннющие ресницы, на зависть девицам, длинный растянутый свитер, обманчиво простой. Дорошин знал, что на самом деле английские свитера Эдика стоят целое состояние.
– Привет, Вик. – Эдик предпочитал разговаривать на американский манер, сокращая имена до их международных вариантов. – Давно тебя не слышал. Нашел что-нибудь стоящее? Или, наоборот, потерял?
– Привет, Эд. Если честно, пока и сам не знаю, – признался Дорошин. – Злые языки поговаривают, что из одного из наших музеев умыкнули этюд Куинджи, а вот правда это или досужий вымысел, мне еще только предстоит выяснить. Сижу вот, колупаюсь помаленьку.
– Богато живете, – хохотнул Киреев. – И частенько у вас в музее ценностям ноги приделывают?
– Да если честно, на моей памяти впервые. Ты мне скажи по-дружески, сколько может стоить этюд Куинджи, датированный концом девятнадцатого века? Небольшая совсем работа. В карман, конечно, не влезет, в дамскую сумочку тоже, а вот в портфель запросто.
– Недооцениваешь ты дамские сумки, Вик, – хмыкнул Эдик. – Моя дражайшая половина с собой такой баул таскает, что мне и не снилось. У меня в машине в багажнике меньше лежит, чем у нее в сумке. Одних косметичек штук пять.
– Зачем? – искренне удивился Дорошин.
– Так вот и я ее спрашиваю – зачем. А она объясняет, что в одной – косметика, в другой – лекарства, в третьей – скидочные карточки магазинов разных, в четвертой – иголки с нитками…
– А в пятой? – подначил приятеля Дорошин, который любил разговаривать с общительным и жизнелюбивым Эдиком.
– А пятая – секрет, терра инкогнита. По крайней мере, мне так и не открылась тайна сия. Женщины, что ты от них хочешь. Их хлебом не корми – дай обвесить тайнами пространство вокруг себя. И табличку повесить, как на трансформаторной будке: «Не влезай – убьет». Я и не лезу. Я жить хочу.
– Прав. Во всем прав. – Дорошин покачал головой. – Так что там с Куинджи-то, Эд? Правда очень надо.
– Ну что тебе сказать. – Эдик воткнул в свою растрепанную голову карандаш, который до этого вертел в руках. – Я ж твою картину не то что пощупать не могу, но даже не вижу, поэтому полноценную оценку дать не в силах. Но если работа, как ты говоришь, действительно подлинная, то торги на нее на аукционах могут начинаться с двух-трех миллионов рублей. А дальше уж как пойдет. И в несколько раз цена взлететь может.
– Немало. – Дорошин крепко растер затылок. – Но я так мыслю, что ворованную картину на аукцион выставят вряд ли. На черном рынке ее почем сторговать можно?
– Так за два-три и можно. Не бог весть какие деньги, конечно, но лучше, чем ничего.
– Лучше, – согласился Дорошин, – кто ж спорит. Эдик, дорогой, а ты случаем, не слышал, чтобы кто-нибудь Куинджи продавал?
– За какой промежуток времени? – деловито уточнил Киреев, который моментально прекращал треп на сторонние темы, когда разговор действительно становился серьезным. – Месяц, два, полгода?
– Кабы я знал. – Дорошин досадливо вздохнул. – Последний раз этюд точно видели полтора года назад. Возможно, пропал он именно тогда, а возможно, и нет.
– Богато живете, – повторил Киреев. – То есть ты хочешь сказать, что в картинной галерее может пропасть подлинник Куинджи, и его никто не хватится?
– Может, Эдик, в том-то и дело, что может, хотя, если честно, у меня у самого это в голове никак не укладывается.
– В общем, давай так. Я пошуршу тут по своим каналам. Может, кто-то чего знает или слышал. Временной интервал мне понятен. Как что узнаю, так сразу наберу. Ок?
– Олл райт, – рассмеялся Дорошин. – Ты ж знаешь, я не люблю американизмы. Уж если переходить на английский, то на старый, добрый, классический, которым я, впрочем, владею крайне слабо.
– Да ладно врать-то. – Эдик тоже с удовольствием расхохотался. – А то не помню я, как ты шпарил по-английски в американском посольстве, когда «Троицу Ветхозаветную» у нас чуть ли не с ОМОНом отбивал.
Дорошин тоже вспомнил историю, в ходе которой он и познакомился с Эдуадром Киреевым. Познакомился, а потом и подружился. Было это почти двенадцать лет назад. Святыня стоимостью почти в миллион долларов была украдена из храма в одном из райцентров еще в конце восьмидесятых годов, когда сам Дорошин еще учился в школе. Искали ее ни шатко ни валко.
Пятнадцать лет назад, когда Дорошин еще только начал составлять свой каталог, он внес в него эту икону шестнадцатого века, а спустя три года обнаружил ее выставленной в Москве, в частном музее русской иконы, в котором тогда и работал Киреев. Владелец музея сообщил, что реликвия принадлежит частному лицу, с которым он ведет переговоры о возможной продаже, чтобы вернуть на родину.
На самом деле директор музея предупредил владельца иконы о том, что экспонатом его коллекции, находящимся в международном розыске, интересуются, и за приличное вознаграждение пообещал втихаря вывезти икону из музея. Узнавший об этом Киреев, как человек честный и порядочный, предупредил Дорошина, и тот явился в музей вместе со своим областным ОМОНом, мало надеясь на помощь московских правоохранителей.
Как выяснилось, он был прав, потому что на помощь директору музея приехала другая спецгруппа, и не положили они там друг друга исключительно чудом. Документы о том, что на самом деле «Троица» краденая, у Дорошина были, поэтому короткая «разборка» закончилась один – ноль в его пользу. Икону он тогда из музея забрал, но был вынужден вместе с представителем музея, которым оказался Киреев, отправиться в американское посольство, чтобы присутствовать на встрече с коллекционером, в одночасье лишившимся одного миллиона долларов.
Как рассказывал потом своей жене Эдик, притащивший Дорошина к себе домой пить водку, «встреча прошла в теплой и дружественной обстановке, в условиях взаимного доверия, и стороны выразили готовность прийти к пониманию по всем рассматриваемым вопросам и расширять дальнейшее сотрудничество».
Дорошин только посмеивался, вспоминая, какими глазами смотрел на него безукоризненно вежливый коллекционер. Если мог бы разорвать, то разорвал бы голыми руками, да еще и глотку перегрыз. Из частного музея Киреева, конечно же, уволили за нелояльность. Но он не расстроился, а устроился в другое место, став для Дорошина и другом, и надежным союзником. Экспертом он был действительно прекрасным. И вот сейчас пообещал узнать, что сможет. Дорошин даже не сомневался: если у пропавшего в их картинной галерее Куинджи есть хоть малейший след, Эдик его обязательно разыщет.
* * *
Ксения еще раз посмотрелась в зеркало и осталась довольна. Впрочем, как и всегда. В блестящей гладкой амальгаме отражался высокий ровный лоб, ясные глаза с синеватым отливом и желтыми кружками вокруг зрачков, тонкий, аккуратной лепки нос, довольно большой подвижный рот с полными губами, приоткрывающими ровные зубы, очень белые. Густые волосы цвета ржи, которые она обычно заплетала в длинную косу, сейчас были распущены и свободно лежали на плечах, даруя ощущение приятной тяжести.
Ксения была красива, и знала это. Внешность ее не казалась искусственной, хотя бы потому, что была не результатом усилий опытного косметолога, а дарована от природы. Нет, к косметологу Ксюша Стеклова, конечно, ходила регулярно, но за внешность все-таки благодарила хорошую генетику. Ее мать и бабушка тоже выглядели просто отлично, гораздо моложе своих лет, и Ксения знала, что если высыпаться, правильно питаться, не пить, не курить и не расстраиваться по пустякам, то красоту она сохранит до глубокой старости.
Впрочем, с последним обязательным пунктом программы по продлению молодости дела обстояли не очень. Поводов волноваться и расстраиваться у нее было очень много, причем большинство из них были вовсе не пустяшными, а требующими самого серьезного внимания. Но что ж делать, если жизнь несовершенна…
Ксения бросила последний раз взгляд в зеркало и с легким вздохом отошла от него, машинально накручивая на тонкий палец прядь волос. Так ей легче думалось. Замуж она вышла, как только ей исполнилось восемнадцать, и теперь, по прошествии четырнадцати лет семейной жизни, считала свой брак ошибкой. Молодая она тогда была, глупая. Считала, что если за мужем как за каменной стеной, то больше ничего для счастья и не надо.
Ошибалась. Ой, как ошибалась! И мама с бабушкой не предупредили. Хотя мама пыталась, да бабушка ей не дала. Ксюша тогда подслушала их разговор, в котором мама что-то робко говорила про любовь, а бабушка шикала на нее, мол, не дури девке голову. Без любви жить можно, а вот без денег, без квартиры, без возможностей дать детям нормальное образование жизни как раз никакой.
Тогда Ксения была с бабушкой полностью согласна, да и сейчас не сомневалась в правоте ее слов. Вот только ложиться в постель с мужчиной, которого не любишь, было мукой горькой, слушать грубые мужицкие рассуждения на совершенно неинтересные для себя темы – тоже. Муж Ксении, Альберт Стеклов, несмотря на выпендрежное имя, человеком был малообразованным, в искусстве и литературе не разбирался, книг не читал, в музеи не ходил, хотя работой Ксении был доволен. По его житейским меркам, жена-искусствовед вполне соответствовала его статусу и положению в обществе. Было в этом что-то возвышенное.
Четырнадцать лет назад жену себе он выбирал, как в былые времена гусары выбирали коня. Вдумчиво, не спеша, примеряясь и прицениваясь. Члену одной из бандитских группировок, поднявшемуся на разборках и развернувшемуся в бизнесе, нужна была жена-девственница. Это условие было первым, обязательным, хотя и не единственным.
В поисках скромной, неиспорченной девушки он и приехал как-то в один из военных городков, где строгие отцы-офицеры блюли честь своих дочерей, гоняя солдат и прапорщиков из-под своих окон. Приехал, пришел на выпускной вечер в местную школу, где юные красавицы были выставлены во всей своей красе, увидел Ксению, навел справки и решил, что это именно то, что ему требуется.
Ксюша закончила школу с золотой медалью, поступала на филологический факультет университета, и мама с бабушкой с ужасом думали о том, как отдадут свое хрупкое наивное дитятко в страшный вертеп под названием общежитие. Скоропалительный брак с Альбертом Стекловым решал проблему с местом жительства на раз, а заодно еще обеспечивал дитятке безбедную жизнь.
За четырнадцать лет обе стороны исполняли заключенный между ними договор безукоризненно. Альберт расширил бизнес, перевез семью из четырехкомнатной квартиры в роскошный особняк в элитном поселке Сосновый Бор в самом центре города, купил Ксюше маленькую юркую японскую машинку, обеспечил бесперебойное поступление мехов и бриллиантов, не скупердяйничал, давая деньги на хозяйство, и возил жену по морям-заграницам.
Ксюша же взамен родила ему двоих детей, аккуратно вела хозяйство, пусть и прибегая к помощи домработницы, но освоив премудрости кулинарии, украшала собой званые вечера, заставляя партнеров мужа восхищенно причмокивать при своем появлении, безропотно отпускала мужа на мальчишники и положенные пьянки в банях, никогда не ревновала и не доставляла ему ни малейших хлопот.
Альберт был всем доволен и искренне считал, что четырнадцать лет назад рассчитал все правильно и совершил очень выгодную сделку. Ксюша ни в чем не нуждалась, ни на что не жаловалась, но отчаянно скучала. Мужа она не любила.
Дети – десятилетний Арсюша и пятилетняя Настенька уже не требовали ежеминутного внимания, ходили себе в школу и элитный детский сад, а в остальное время прекрасно ладили с няней.
Ксюше все чаще хотелось приключений, пусть даже и сопряженных с холодящей кровь опасностью, вот только взять их было совершенно негде. Впрочем, умный человек отличается от глупого тем, что не мечтает, а ставит цели. Ксения Стеклова была умной молодой женщиной, поэтому цель для себя определила четко и была намерена идти к ней, невзирая на трудности и преграды.
Неожиданно встреченный ею в картинной галерее мужчина, пришедший по делам к старой и нудной Виконтессе, ее заинтриговал. Он был привлекателен, даже красив. В его простой на первый взгляд внешности таилось что-то благородное, обращающее на себя внимание, заставляющее во второй раз обернуться, чтобы разглядеть получше.
Он выглядел надежным, верным, неглупым, очень спокойным человеком. И в этом спокойствии крылась мужская сила, которую Ксения за годы наблюдений за представителями другого пола научилась видеть и ценить. Пока они вешали штору, Ксения вдруг задумалась о том, каково это лежать в его объятиях, чувствовать на шее его дыхание, ощущать его пальцы на своей коже.
Никакие мужчины до этого не вызывали в ней подобных мыслей. Занятия сексом Ксения считала не очень приятной, хотя и нечастой обязанностью, а о том, что от этих занятий можно еще и испытывать удовольствие, читала только в женских романах, которые, к слову, не очень любила. Воспитана она была на классической литературе и другими жанрами немного брезговала.
В общем, мужчина, представившийся Виктором Дорошиным, чем-то ее зацепил, тем более что Ксюша просто физически ощущала, что от него исходит какая-то неведомая опасность. Как от волка, идущего по следу. Он будил не только физические желания, но и изрядно щекотал любопытство, поэтому Ксения для себя решила, что обязательно должна познакомиться с ним поближе.
Она видела (женщины всегда это чувствуют), что тоже его зацепила. Он прямо глаз с нее не сводил, и его внимание ей было приятно. Кроме того, это Ксюша тоже успела заметить внимательным ревнивым женским взглядом, у него не было обручального кольца. Правда, это ровным счетом ни о чем не говорило, многие женатые мужчины не носили колец, но почему-то благодаря внезапно обострившемуся женскому чутью Ксюша знала, что он не женат.
Дорошин не попросил ее телефона. Не потому, что не хотел, просто не посмел спросить, это Ксения тоже понимала со всей очевидностью. Поймать его после окончания разговора с Виконтессой она не успела. Собиралась, конечно, даже слонялась неподалеку, чтобы якобы случайно попасться на глаза, но была перехвачена Ариной Романовной Морозовой, директором галереи, женщиной высокодуховной, абсолютно беззлобной, непрактичной до святости. Коллеги над ней постоянно посмеивались, необидно подшучивали, но уважали. Поэтому, когда Морозова отправила Ксюшу отнести пачку документов в областной Департамент культуры, отказать ей та не смогла, а когда, выполнив поручение, вернулась обратно, Дорошина в галерее уже не было.
Впрочем, это было не страшно. Его телефон или адрес наверняка можно было раздобыть у старухи. Та благоволила Ксюше, в отличие от грымзы, мымры и зануды Ленки Золотаревой. Вот та Ксению Стеклову не любила. На совещаниях смотрела хмуро и как будто мимо, ни разу не похвалила, не поддержала, не сказала доброго слова, будто Ксюша – не человек, а неодушевленный предмет мебели, да еще и чужеродный, так и не прижившийся в галерее.
Это было особенно обидно, потому что специалистом Ксения была неплохим и в галерее работала с выхода из второго декрета, то есть три года, а своей для Золотаревой так и не стала. Впрочем, со всеми остальными сотрудниками, включая своего непосредственного начальника Бориса Грамазина, отношения у нее были нормальными, а на Золотареву наплевать и растереть. Подумаешь – цаца!
Итак, решено. Завтра же Ксюша найдет повод подлизаться к Виконтессе и попросит телефон Дорошина. В конце концов, у нее есть цель, к которой нужно идти. А какими методами, не имеет ни малейшего значения.
* * *
Суббота – лучший день недели. Особое отношение к субботе у Дорошина сложилось еще в молодости, когда, просыпаясь утром, он понимал, что можно не идти на работу, а отправиться с сыном в детский парк на аттракционы, затем всей семьей пообедать в ресторанчике на берегу Волги, заказав обязательную солянку и котлету по-киевски, или съездить на дачу к родителям, чтобы нажарить шашлыков и накупаться все в той же Волге, а зимой вдоволь накататься на лыжах и санках, налепить снеговиков и вернуться домой в предвкушении оставшегося впереди воскресенья.
Конечно, все это счастье выпадало на долю Дорошина далеко не каждую неделю, а только тогда, когда не было дежурства, но тем больше он любил те субботы, которые все-таки оказывались выходными. Сейчас его никто не ждал с нетерпением, чтобы провести субботу вместе, но любовь к этому дню осталась, въелась в кровь, и по субботам Дорошин позволял себе выспаться вдоволь, немного поваляться в постели, чувствуя каждой клеточкой, как растекается по телу приятная лень, затем встать и приступить к ремонтно-строительным работам в своем доме, затем съездить в магазин за пивом и полагающимися к нему вкусностями, докрасна натопить баню и париться от души часа три-четыре, перемежая походы в парилку с потягиванием холодного пивка и валянием в сугробе.
Сегодня была в аккурат суббота, и, проснувшись без всякого будильника в половине девятого утра, Дорошин с удовольствием уставился на заливающий комнату через окно солнечный свет. День обещал быть морозным – с хрустким настом во дворе, переливающимся бриллиантовым блеском на солнце снегом, обжигающим дыхание колким воздухом, который хотелось глотать большими кусками, как самое вкусное на свете мороженое.
Дорошин представил, как дым над баней будет устремляться ровно вверх, как будет пахнуть распаренным можжевельником, залитым кипятком в специальном тазу для аромата, как шлепнет по коже березовый веник и как потом он, Дорошин, распаренный и красный, с размаху прыгнет в мягкие объятия огромного сугроба, чем-то неуловимо похожего на прилегшего отдохнуть белого медведя, и счастливо рассмеялся.
К девяти утра он уже успел натянуть спортивные штаны и теплый, связанный когда-то давно мамой белый свитер с красными оленями, с чувством, толком, расстановкой выпил кофе и неторопливо думал о том, что сделать сначала – расчистить двор от выпавшего за ночь снега или выполнить запланированный на сегодня список ремонтных работ, а за лопату взяться уже после растопки бани.
Шум подъехавшей машины оторвал его от приятных размышлений. Дорошин выглянул в окно и обнаружил за забором черный, тонированный наглухо «Туарег». Незваные гости, судя по машине, были людьми серьезными, и Дорошину оставалось только гадать, чем вызван их интерес к его персоне. Неужто исчезнувшим Куинджи? Если так, то быстро, однако!
Он вышел в прихожую, натянул оставшиеся от дядюшки валенки и овчинный тулуп, в котором чистил двор и носил дрова, и вышел на крыльцо. Холодный воздух ворвался в легкие, заставив непроизвольно закашляться. Да, морозно сегодня, морозно.
Дорошин сбежал с крыльца, неторопливо подошел к калитке и приоткрыл ее, не выходя на дорогу и не давая возможности непрошеным гостям войти вовнутрь.
– Здорово, мужики. Кого ищем?
Два громилы, будто списанные с карикатурных «быков» середины девяностых, правда, одетых поприличнее, окинули его изумленными взглядами. Становилось понятно, что увидеть они планировали вовсе не Дорошина.
– Э-э-э, – один из громил неуверенно почесал ухо, – нам бы с хозяином потолковать.
– Так я хозяин, – любезно сообщил Дорошин.
– Да? Так тут вроде старик жил. Дорошин фамилия.
– Жил. – Виктор сегодня с утра был сама покладистость. – Умер два месяца назад. Теперь тут я живу. И моя фамилия тоже Дорошин. Такие дела.
– Так ты евонный сын, что ли? Старик же вроде одинокий был…
– Я евонный племянник. И что с того? Вы составляете генеалогическое древо рода Дорошиных?
Громилы снова неуверенно переглянулись, явно неготовые к такому повороту событий.
– Так это, он нам дом обещал продать, – сказал один из них.
– Вполне вероятно. Мне про дядины планы ничего не известно. Но, как я понимаю из ваших слов, сделка не состоялась? – Дорошин вдруг понял, что история с дядюшкиным наследством будет гораздо более запутанной, чем ему казалось изначально. Впрочем, документы на дом были в полном порядке и хранились у адвоката, который после смерти Дорошина-старшего и передал их Виктору. Тот тогда еще удивился, что дядька, оказывается, оформил дарственную на дом на имя племянника, ничего ему про это не сказав. Да и то, что у дядьки был адвокат, показалось Виктору странным, но вникать он особо не стал, озаботившись организацией похорон. Есть дом, есть документы, даже в права наследования вступать не надо. Все просто и понятно. Оформляй дом на себя и живи. Он так и сделал.
– Так не успел он дом-то продать. Сказал, к Новому году приходите, все оформлю. А получается, помер. Теперь придется все сначала начинать? С тобой?
– На ты мы вроде пока не переходили, – любезно сообщил Дорошин. – И на правах старшего, в том числе не только по возрасту, но и по разуму, предлагаю вести разговор на вы. И начать сначала было бы, конечно, неплохо. Вы кто такие? Вам чего надо?
– Так дом. Старик обещал продать.
– Разговор пошел по кругу. – Дорошин зевнул. – Старик, то есть мой дядя, умер два месяца назад. Владелец дома я. Я тут живу и продавать ничего не собираюсь. Это понятно?
– Непонятно. – В разговор вмешался второй мужик, стоящий до этого молча. – Тебе, лошаре, на хрена участок на берегу реки в центре города? Твоя развалюха только вид портит. Снести ее надо к чертям собачьим. Люди тут могут нормальный дом забацать. Для тех, у кого деньги есть. А ты себе квартиру купишь. Нормальную, с горячей водой и теплым сортиром. Не надо будет печь топить, слышь, мужик…
Дорошин прям залюбовался таким прекрасным образчиком часто встречающегося на Руси человеческого подтипа «хам обыкновенный». Нет, хамов он встречал регулярно, но такой первозданной прелести давно не видел. Ну, не девяностые же на дворе, на самом-то деле!
Он понимал, что в старом облезлом тулупе, валенках и свитере ручной вязки выглядит именно как человек, который живет в деревянной развалюхе и отдельную квартиру с «теплым сортиром» почитает за счастье. Беда мужиков, точнее, того, кто их послал, заключалась в том, что внешность в данном случае была более чем обманчива.
Полковник Дорошин нехорошо усмехнулся.
– А вы чьи, ребята? – миролюбиво спросил он. – Я вроде в нашем городе всех особо борзых знаю. Участочек-то мой кто приглядел? Капля? Батон? Стекольщик? Или, может, Эдик Горохов? Так последнему вроде не до того, он под следствием, как я знаю. Рейдерский захват «ЭльНора», покушение на убийство, все дела…
Мужики посмотрели на него в немом изумлении. Стоящий перед ними небритый мужик неопределенного возраста никак не мог знать ни владельца строительной компании «Ганнибал» Эдуарда Горохова, действительно разгребающего большие неприятности, в которые влип по собственной глупости, ни криминальных авторитетов Каплю, Батона и Стекольщика, заделавшихся ныне легальными бизнесменами, но так и не победившими собственное гнилое нутро.
– А ты кто? То есть вы. – Первый качок вспомнил начало разговора и в непонятной ситуации решил проявить благоразумие.
– Я, кажется, задал вопрос. – Дорошин был спокоен как удав. – Вы кого здесь представляете? Мне хотелось бы знать, кто интересуется моим домом настолько, что делает столь лестное предложение. – Голос его прозвучал язвительно. – Ну? Я жду. Кто вас послал?
– Стекольщик. – Второй качок шумно сглотнул. – Нам что ему передать? Что ты против, что ли?
– Передашь, чтобы в понедельник часам к десяти утра подъехал в областное УВД.
– З-за-чем? – Громила даже заикаться начал.
– Не зачем, а к кому. Пусть скажет на проходной, что он к полковнику Дорошину Виктору Сергеевичу. Вот там он сможет задать мне все интересующие его вопросы по поводу моего дома. А сейчас брысь отсюда. Мне баню топить надо. И да, больше я вас видеть здесь не желаю.
Он закрыл было калитку перед носом у слегка обалдевших посланцев недоброй воли, но тут же распахнул ее снова.
– Кстати, вы передайте еще Стекольщику, что на территории у меня камеры натыканы, сам дом застрахован, так что в том случае, если он нечаянно сгорит, земельный участок я продавать все равно не стану. Отстроюсь заново. Причем к услугам его строительной компании при этом точно не прибегну.
Голос Дорошина звучал ласково, почти приторно, а взгляд был острым, колким, будто впивался в лицо, оставляя дырки в коже. На этот раз калитка захлопнулась насовсем. Дорошин, не оглядываясь, побрел к дому, прислушиваясь к тому, как хлопнули за спиной дверцы «Туарега», одна, вторая, взревел мотор, зашуршали шины по снегу, и большая машина медленно поехала прочь.
Интерес Стекольщика к дому дядьки нужно было обдумать. И Дорошин побрел к крыльцу, осознавая, что в ближайшие несколько часов у него, пожалуй, будут заняты не только руки, но и голова.
Настоящего имени и фамилии Стекольщика Дорошин не помнил. Последние пятнадцать лет он занимался расследованием пропаж культурных и исторических ценностей, а в этой сферу интересы Стекольщика никогда не заходили. Кличка его, скорее всего, появилась в начале двухтысячных, когда с рэкета он переключился на легальный бизнес и создал (точнее, отжал) одну из первых в области фирм по производству и установке пластиковых окон.
Надо отдать ему должное, фирмой он руководил грамотно, быстро перетащил на себя все бюджетные заказы по остеклению больниц, школ и детских садов, поскольку не скупился на откаты, а потом потихоньку расширил «линейку», начав производить двери и фурнитуру к ним, постепенно созрев и до индивидуального жилищного строительства. На большие объемы в стройке он не замахивался, в конфликты с серьезными застройщиками не встревал, предпочитая медленно, но верно вскапывать свою грядку.
Насколько знал Дорошин, никакого серьезного криминала в последние годы за Стекольщиком не числилось. И все-таки в деле с домом дяди было явно что-то нечисто. Уж слишком скоропостижно скончался никогда до этого ничем не болевший Николай Николаевич. Да и в том, что накануне смерти он зачем-то переписал свой дом на племянника, тоже крылась какая-то тайна. Теперь ее следовало разгадать, хотя бы в память о дяде.
Дорошин понимал, что на назначенную на его рабочем месте встречу Стекольщик, скорее всего, не придет. Впрочем, он на это и не рассчитывал, разговаривать с бывшим бандитом средней руки, а ныне бизнесменом ему было совершенно не о чем. Продавать дом и участок Дорошин не собирался. Обозначение его звания, фамилии и места работы служило скорее предостережением для Стекольщика – оставить владельца приглянувшейся ему земли в покое и сосредоточить свое внимание на чем-нибудь другом. Вот только дядя, от чего он все-таки умер?
По всему выходило, что единственной, кто мог хоть немного приоткрыть завесу тайны над этим делом, была Мария Викентьевна Склонская. Кроме нее и Дорошина, Николай Николаевич ни с кем не общался. Склонской он доверял, а потому вполне мог поделиться с ней своими внезапно возникшими проблемами с назойливыми покупателями.
Что ж, со Склонской нужно было переговорить в самое ближайшее время. Дойдя до этой мысли, Виктор нехотя отложил инструменты, которыми орудовал, меняя в доме электропроводку, и пошел переодеваться. Сегодня была суббота, а значит, картинная галерея открыта, и он наверняка сможет застать Склонскую.
Главным принципом, которым всегда руководствовался в работе Дорошин, было «не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Именно поэтому он тщательно побрился, натянул джинсы и тонкую водолазку, влез в теплый удобный пуховик, в котором смотрелся гораздо лучше, чем в дядькином тулупе, и поехал в музей. Часы показывали начало первого, и Дорошин надеялся провести разговор быстро, чтобы не отказываться от запланированного кайфа субботней бани.
В галерее было светло, тепло и достаточно многолюдно. Открытая накануне новая выставка привлекла внимание любителей искусства, поэтому субботним днем познакомиться с ней пришли все, кто не был допущен на вчерашнее официальное торжественное открытие или не смог на него прийти по причине рабочего дня.
Раздевшись в гардеробе, Дорошин прошел в экспозиционный зал, вольно или невольно высматривая в толпе людей Ксению. Он и сам не знал, отчего молодая женщина так сильно запала ему в душу, но очень хотел вновь заглянуть в ее лучистые глаза, фиолетово-желтые, как цветы фиалки, услышать журчащий ручеек ее речи.
Кроме этого, он намеревался попросить у Ксении телефон. Вдруг она когда-нибудь согласится встретиться с ним за чашкой кофе? Вдруг ему удастся отвлечь ее от грустных мыслей по поводу незадавшегося брака. Вдруг судьба сложится так, что именно на этой тоненькой девушке с золотистой косой он женится во второй раз. И они будут жить долго и счастливо, и не умрут в один день только оттого, что Дорошин старше на двенадцать лет.
Он уже представил, как горько будет плакать Ксюша на его похоронах, как вдруг налетел на высокую, одетую в бесформенный балахон фигуру, оказавшуюся Леночкой. Та отпрянула от Дорошина, чуть не упав, и посмотрела на него почти с ненавистью. Он подхватил ее под руку, но она, обретя равновесие, тут же выдернула ее и, кажется, даже вытерла пальцы о подол.
– Ой, простите, Елена Николаевна, – покаянно сказал Дорошин, не понимая, от чего его можно так истово ненавидеть. – Я задумался. Еще раз приношу свои извинения.
– Мне не нужны ваши извинения, – ответила Леночка, и приязни в ее взгляде не было ни капли, сколько ни ищи. – Было бы гораздо лучше, если бы вы ходили по помещению, где много народу, соблюдая правила приличия. Если вы так погружены в себя, что не видите окружающих, то не стоило приходить на выставку. Или вы к нам по делу?
– Да. Я к Марии Викентьевне, – признался Дорошин, которого высокомерие Леночки отчего-то начинало раздражать, хотя и не в его правилах было обращать внимание на чье-то плохое отношение к себе. – Она у себя в кабинете?
– Да. Пойдемте, я вас провожу.
– Благодарю вас, я знаю дорогу.
– И все-таки я пойду с вами, потому что у нас не принято позволять посторонним заходить в служебные помещения одним. У нас тут, знаете ли, ценности хранятся.
– Да-да, материальные ценности, – пробормотал себе под нос Дорошин, думая об исчезнувшем Куинджи. – Знаем, знаем.
Леночка посмотрела на него, как на идиота.
– Конечно, для вас материальные, – горько сказала она. – Но я имела в виду совсем другое. У нас тут культурные ценности, вечные. Впрочем, – она махнула рукой, – вам этого не понять.
– Да куда уж нам, – согласился Дорошин, не желая того, идя рядом с ней по направлению к двери, за которой пряталась служебная лестница. Эта женщина его раздражала, пожалуй, так же сильно, как он ее. – Может быть, вы передадите меня на поруки Ксении Стекловой? А то мне, честное слово, неловко вас утруждать.
– Ксения по выходным не работает, – мрачно сообщила Леночка. – У нее дети и муж-домостроевец. Поэтому ей позволено то, о чем другие могут только мечтать. Так что если вы пришли сюда для того, чтобы увидеть нашу распрекрасную звезду, то ваши надежды тщетны.
– Я пришел к Марии Викентьевне, потому что мне нужно с ней поговорить, – еле сдерживаясь, сказал Дорошин, чувствуя, впрочем, разочарование от того, что Ксюшу все-таки не увидит.
– Тогда проходите. – Леночка толкнула дверь кабинета, который занимала вместе со Склонской, и прошла вперед, не обращая больше внимания на понуро бредущего за ней Дорошина.
Он шагнул через порог и увидел старуху.
– Витенька, мальчик мой, здравствуйте. – Склонская встала из-за стола, подошла к Дорошину и поцеловала его в лоб. – Как же я рада вас видеть. Вам уже удалось что-нибудь разузнать, – она покосилась на Леночку, – по нашему делу?
– Немногое, хотя работу я начал, – признался он. – Мария Викентьевна, я, собственно говоря, пришел к вам по совсем другому делу. Видите ли, мне надо узнать…
Договорить он не успел. Распахнулась дверь, с силой ударилась о стену, отскочила от нее обратно, чуть не сбив с ног ворвавшегося в кабинет мужчину лет тридцати пяти. Он был одет в строгий черный, плохо сидящий на его тощей сутуловатой фигуре костюм, не чищенные ботинки и спортивную шапочку, натянутую поверх темных, собранных в тощий хвостик волос. В руках он держал старую, довольно заслуженную дубленку.
– Мария Викентьевна, Лена, – заговорил он возбужденно, не обращая внимания на Виктора, – беда…
– Что такое, Андрюша, – тут же повернулась к нему Склонская. – Да отдышись ты, ради бога! Что, ты съездил домой к Борису Петровичу? Он заболел? В больнице? Или… – Она замолчала, глядя на вошедшего широко раскрытыми глазами, в которых читалась тревога.
– Так. – Дорошин шагнул вперед, обнял старушку за плечи и строго сказал: – Давайте рассказывайте по порядку: кто вы и что случилось?
– Я, я. – Парень тяжело дышал и задыхался.
– Это Андрей Калюжный, наш старший научный сотрудник, – ответила Елена Николаевна. – Он ездил домой к Борису Петровичу Грамазину, начальнику нашего отдела хранения произведений искусства, потому что тот ни вчера, ни сегодня не вышел на работу. Мы решили, что он заболел, но удивились, что не предупредил нас об этом. Это на Бориса Петровича совершенно не похоже. Поэтому Арина Романовна, наша директор, попросила Андрея съездить к нему, чтобы узнать, не случилось ли что. И ключи от квартиры дала. Они в галерее хранились на всякий случай, потому что у Грамазина давление высокое бывает, мало ли что. Андрей. – Она шагнула к Калюжному и хорошенько встряхнула его за плечи с такой неожиданной силой, что у того даже голова мотнулась назад и сильно клацнули зубы. – Андрей, приди уже в себя. Что случилось-то?
– Случилось. – Калюжный дышал, как собака на солнцепеке. – Понимаете… Я звонил в дверь. Мне никто не открывал. Тогда я достал ключи и отпер дверь. И увидел… – Он судорожно сглотнул.
– Что ты увидел, Андрей? Что? Борис Петрович умер? – Леночка уже почти кричала.
– Нет, он не умер. – Вся фигура Калюжного выражала такой ужас, что Дорошину внезапно стало его жалко. Ему действительно было плохо и страшно, сыграть такую гамму чувств, что отражалась сейчас у него на лице, было бы не под силу даже самому лучшему актеру.
– Да черт тебя подери, что тогда? – сердито спросила Склонская.
– Бориса Петровича убили.
* * *
Полковник Дорошин сидел в своем рабочем кабинете и задумчиво грыз ручку. Убийство Бориса Грамазина делало его внутреннее, практически «семейное» расследование пропажи картины Куинджи невозможным. То, что смерть искусствоведа связана с пропажей картины, было совершенно ясно. Оставалось только выявить эту связь.
Итак, почему Бориса Петровича убили именно сейчас? Картину в последний раз видели полтора года назад. Скорее всего, именно тогда, после визита неизвестного пока Дорошину фотографа из Москвы, она и пропала. Грамазин знал об ее исчезновении? Почему не поднял шумиху? Или виной всему, включая убийство несчастного искусствоведа, стал как раз визит в галерею Дорошина?
Преступник, укравший картину, понял, что поднимается шумиха, и предпочел избавиться от унылого Бориса Петровича, подозревая, что тот вольно или невольно выдаст его тайну. Получается, что все-таки Грамазин что-то знал, проливающее свет на историю с исчезновением Куинджи. Знал и молчал?
Круг замкнулся, рассуждения засбоили, и Дорошин недовольно засопел, рассерженный, что не может поймать разбегающиеся в сторону мысли. Так, надо начать все сначала. В галерее он видел или слышал что-то такое, что заставило преступника заволноваться. И это что-то было связано с Грамазиным, с которым Дорошин при этом даже не встретился.
Про начальника отдела хранения произведений искусства и его реакцию на ее сообщение, что Куинджи пропал, ему рассказывала Склонская. В свой первый визит в галерею он вообще не разговаривал ни с кем, кроме Марии Викентьевны, противного чучела Леночки и Ксюши. Получается, что Грамазина убил кто-то из них? Чушь какая-то. Полный бред.
Если бы картину украла сама Склонская, то она ни за что не стала бы просить Дорошина провести расследование. Этюда бы еще сто лет не хватились, это абсолютно ясно. Ксюша? Дивная орхидея, непонятно как сохранившаяся в этом пропахшем пылью депозитариуме? Виктор даже засмеялся, насколько дико выглядело подобное предположение. Леночка? Дама она, конечно, неприятная, но чтобы убить?
Впрочем, она вполне могла подслушивать под дверью, когда Мария Викентьевна попросила ее выйти и оставить их с Дорошиным наедине. Да, похоже на то, что эта невзрачная серая моль действительно могла что-то услышать и сделать выводы. Но вот что? Что такого сообщила Склонская, чего не знал похитивший картину человек? Она сказала, что Грамазин к известию о пропаже отнесся иронически и был уверен, что этюд просто куда-то завалился и обязательно найдется.
Так, уже горячее. Человек, укравший картину, был уверен, что Борису Петровичу что-то известно, и если он все-таки поверит в то, что она пропала, то обязательно вспомнит что-то невыгодное преступнику. Именно поэтому его и убили до того, как он смог что-то вспомнить. Но что именно?
На памяти Дорошина в их области ни одна кража предметов старины или искусства никогда не сопровождалась убийством. Церкви и дома взламывали, это да. Сторожей опаивали водкой со снотворным. Тоже было. Отключали сигнализацию, переворачивались на машинах, которыми пытались вывезти награбленное… Но не убивали, нет…
Не может украденный этюд стоить столько, чтобы ради него убить. Как сказал Эдик? Два-три миллиона… Рублей, заметим, не долларов. Конечно, в девяностые и за сто рублей, бывало, убивали. Но не так, как убили Грамазина. Не так. Что-то здесь не сходится…
Виктор тяжело вздохнул, поднялся со стула, заходил по кабинету, меряя его широкими шагами. Что ж, теперь об утрате картины стало известно официально. Директор галереи Морозова написала заявление, делу дан ход, и полковник Дорошин Виктор Сергеевич занимается им теперь в рамках своих должностных обязанностей.
Смежники, возбудившие уголовное дело по факту убийства Бориса Грамазина, обещали делиться информацией, впрочем, как и он с ними. Глядишь, и рассеется накопившийся туман, которого всегда так много бывает в начале расследования.
В кармане зазвонил телефон, точнее, программа «Скайп» подала сигнал, что с Виктором хотят связаться. Он вытащил телефон и взглянул на экран. Так и есть – Эдик Киреев.
– Привет, – сказал он, нажав на нужную кнопку. – Правильно ли я понимаю, есть что-то новое?
– Есть, и как раз по твою честь, – рассмеялся Эдик. – Чего голос такой загадочный. Тоже успел накопать что-то новенькое?
– Успел, – Дорошин вздохнул. – Убийство тут у нас, Эдик. В аккурат в той галерее, из которой Куинджи пропал.
– Да ты что? Богато живете. – Киреев длинно присвистнул, повторив свою любимую присказку. – И кого убили? Надеюсь, не ту старушку, что тебе про пропажу рассказала?
– Типун тебе на язык. – Дорошин представил величавую, не надломленную годами фигуру Марии Викентьевны и содрогнулся от внезапного ужаса. Эта женщина, которую так любил его дядя, внезапно стала ему родной и близкой. – Но все равно горячо, Эдик. Убили заведующего отделом хранения произведений искусства, тем самым, в котором Куинджи пропал. Чуешь?
– Да-а-а, как говаривал Винни-Пух, это ж-ж-ж неспроста. Что ж, держи еще одну загадку в твою копилку. Я порылся на форумах, с людьми знающими поговорил. В общем, дали они мне наводку одну.
– Ну-ну, не томи!
– В общем, Витя… Три месяца назад, в середине сентября, на одном из интернет-ресурсов, где коллекционеры тусуются, некий пользователь под ником Странник предложил к продаже подлинный этюд Куинджи.
– Да ты что…
– Особенно-то не радуйся. Названия картины он не упоминал, так что, может, речь не о твоем «Днепре» идет, а об одной из челябинских пропаж. Они уж больше пятнадцати лет нигде не всплывали.
– То-то и оно… – Дорошин задумчиво почесал нос. – Пятнадцать лет – большой срок, друг мой Эдик. Те картины украли под заказ, и все эти годы висят они себе спокойно в чьем-то частном хранилище. А моя пропажа – свежачок. Так что след это, я думаю, как раз ее.
– Возможно, вот только больше этот пользователь на форуме не появлялся и никаких предложений не делал, ни приличных, ни неприличных.
– Поискать этого Странника, я думаю, можно. Ребята из отдела К с удовольствием подключатся. Говоришь, никто на его предложение не клюнул?
– Публично – нет. А так, кто ж его знает, – философски заметил Киреев. – Ты держи меня в курсе, Витя. А то мне прямо шибко интересно стало, что там у вас происходит.
– Чтоб тебе жить в интересное время – это такое китайское проклятие, – мрачно сообщил Дорошин. – Я б с удовольствием поскучал, тем более что до Нового года две недели осталось. Так ведь нет. Свалился этот Куинджи на мою голову.
– В том-то и дело, что не свалился, – вздохнул Эдик. – Ладно, Вик, пока. Если еще что узнаю, обязательно позвоню.
Закончив разговор, Дорошин глянул на часы и поехал в музей. Конечно, сегодня был понедельник, выходной, но когда речь шла об убийстве, соблюдение трудового кодекса волей-неволей уходило на второй план. Позавчера и вчера коллектив терзал следователь, ведущий дело об убийстве Грамазина, поэтому Дорошин попросил всех сотрудников собраться сегодня.
Для того чтобы найти картину Куинджи, ему нужно было понять, что происходит, в том числе и с убийством. Вряд ли кто-то осмелится не прийти. В подобной ситуации привлекать к себе лишнее внимание – значит вызвать серьезное подозрение, что одинаково не нужно ни грабителю и убийце, ни всем остальным.
Все сотрудники, как и предполагал Виктор, оказались на работе, и он попросил их собраться в центральном зале галереи, где проходили фортепьянные мини-концерты и стояли стулья для посетителей.
– Спасибо всем, что пришли, – начал Дорошин, когда все расселись. – Итак, дамы и господа, я бы очень хотел обсудить с вами два ЧП, которые произошли в вашей картинной галерее.
– Два? – В голосе Андрея Калюжного звучало недоумение.
Директор Морозова горестно вздохнула, Склонская изящно высморкалась в белоснежный кружевной платочек.
– Да, два, – жестко сказал Дорошин и впился глазами в собравшихся, чтобы увидеть их реакцию на то, что он скажет дальше. – Первое чрезвычайное происшествие – это, несомненно, убийство вашего коллеги Бориса Петровича. А второе… – Он немного помолчал, наблюдая за своими собеседниками. – Второе чрезвычайное происшествие – это пропажа из хранилища галереи подлинника Куинджи.
– Что? – растерянно спросил Калюжный. – Как это – пропажа Куинджи? Мария Викентьевна, – он повернулся к Склонской, – вы же совсем недавно расспрашивали меня про этюд «Днепр».
– Именно. Мария Викентьевна обнаружила пропажу картины, поэтому и разговаривала со всеми вами, чтобы понять, куда она могла деться. Ответа не получила и обратилась ко мне.
– К вам? – Ксения прижала ладошку ко рту. Молодая женщина выглядела потрясенной, и Дорошин улыбнулся ей ободряюще. Он видел, как побледнела Арина Морозова, как Леночка закрыла лицо руками, как уборщица Попова недоуменно переводит взгляд с одного человека на другого, а разнорабочий Газаев блестящими глазами смотрит прямо на него, Дорошина.
– Да, ко мне. Видите ли, я давний друг Марии Викентьевны. – Склонская усмехнулась, впрочем, очень по-доброму. – И я специализируюсь на поиске пропавших ценностей. Работа у меня такая. Она попросила меня разобраться, не поднимая шума. По-семейному, можно сказать. Но, к сожалению, не получилось. Убийство Грамазина поставило на возможности тихого расследования крест. Так что, дамы и господа, теперь все будет по-взрослому.
– Да-да. – Арина Морозова сняла очки и вытерла ладонью влажные глаза. – Я еще в субботу написала заявление о том, что у нас пропал Куинжди. Нам предстоит большая инвентаризация.
– Думаете, картина просто где-то завалялась и мы ее найдем? – Это спросила Золотарева.
– Нет, Елена Николаевна. – Дорошин шутовски поклонился. Почему-то ему хотелось перед ней дурачиться и притворяться, настолько антипатична была ему эта женщина. – Думаю, что в ходе инвентаризации выяснится, что у вас пропал далеко не один Куинджи.
– Как? – Морозова задышала широко открытым ртом, будто ей не хватало воздуха.
– Да так, Арина Романовна. Стоимость данной картины, как я уже успел выяснить, относительна невелика. На аукционе за нее можно получить два, максимум три миллиона рублей. С учетом, что работа краденая и ее нигде не выставить, цена падает еще больше. Овчинка не стоит выделки.
– Вы серьезно? Это же огромные деньги, – не выдержала молоденькая Алена Богданова, младший научный сотрудник отдела иконописи.
– Нет. – Дорошин пожал плечами. – Что такое два миллиона? Квартиру на них не купишь. За границу не уедешь. Безбедную жизнь на правах рантье не начнешь. Влезать в авантюру, грозящую серьезными неприятностями, имеет смысл только за по-настоящему большие деньги. Поэтому первое, что я хочу узнать: что еще пропало из ваших запасников и за какой срок.
– Так что же, получается, что Бориса Петровича убили из-за этой картины? – спросил Газаев.
– Не знаю, – признался Дорошин, – но обязательно выясню. – Прозвучало это довольно угрожающе. – И первый вопрос, на который я попрошу вас ответить: увлекался ли Борис Грамазин коллекционированием?
Он уже знал результаты обыска, который был проведен следственной группой в квартире убитого. Там не было ничего ценного, за исключением книг. Старый шкаф с болтающейся на одной петле дверцей, продавленный диван, куча старого, заношенного до дыр, но чистого и выглаженного тряпья, по недоразумению называемого одеждой, разномастные тарелки на кухне, старый облупленный алюминиевый чайник, не подъемный из-за накопившейся за долгие годы использования накипи и книги от пола до потолка.
Одна из комнат неухоженной двухкомнатной квартиры с приколоченными гвоздиками выцветшими обоями была заставлена металлическими библиотечными стеллажами, которые и стояли, как в библиотеке, рядами, не оставляя места для чего-то другого. Здесь были как старые, еще довоенные издания, собрания сочинений, выпускаемые в семидесятые годы двадцатого века, библиотека приключений, подшивки журналов «Наука и жизнь», профильные издания по искусствоведению, альбомы по живописи, так и совсем современные книги, причем в огромных количествах.
– Борис Петрович собирал книги, – сказала Склонская, потому что все остальные молчали. – Не уверена, что это можно назвать коллекционированием, потому что он покупал книги для того, чтобы их читать. С каждой зарплаты он откладывал деньги на оплату коммунальных услуг и на еду, а все остальное сразу оставлял в книжных магазинах. Он выписывал заинтересовавшие его издания через Интернет и выкупал их после зарплаты. Больше ни о какой другой его коллекции я никогда не слышала, хотя мы вместе работали лет двадцать, наверное.
– Да вы смеетесь, уважаемый. – Морозова снова сняла и надела свои очки. – Какое коллекционирование? Вы знаете, какие у сотрудников музеев зарплаты? Разве на них можно приобретать, к примеру, произведения искусства?
– Про зарплаты я осведомлен, – сказал Дорошин, которому было совсем не жалко всех собравшихся. Кто-то из них был замешан в грязном деле. Очень грязном. Какая уж тут жалость! – Именно поэтому и спрашиваю. Собирать коллекцию чего-то стоящего на зарплату невозможно. А вот если на регулярной основе тягать из музея то, что плохо лежит, то на вырученные средства вполне возможно и коллекционером заделаться. Поэтому спрашиваю еще раз: знает ли кто-нибудь из вас о том, что Грамазин увлекался коллекционированием чего-либо?
– Он покупал только книги, – тихо сказала Склонская. – Больше он ничего не собирал. Более того, он всегда удивлялся, что люди могут тратить огромные средства на обладание предметами искусства. Мол, шедевры прекрасны именно в музеях, когда на них можно любоваться при хорошем освещении и достойном обрамлении, и держать дома то, что может быть всеобщим достоянием, глупо.
– А современное искусство Борис Петрович и вовсе не признавал, – подтвердил Калюжный. – Мы с ним много раз спорили на эту тему. Он считал всех ныне живущих художников ремесленниками, не стоящими внимания. Помните, Арина Романовна, как он однажды отказался выставку готовить, которую вы ему поручили? Сказал, что это все шелуха и мусор.
Морозова покивала, что, мол, да, помнит.
– Вот, в итоге пришлось мне за эту выставку отвечать. – Калюжный приосанился гордо. – А Леночка мне помогала.
Леночка, то есть старший научный сотрудник Елена Золотарева, была отчего-то бледна. Тени от неяркого света, лениво заглядывавшего в окна (люстры под высоким потолком зала были потушены), лежали на ее щеках некрасивыми желтыми пятнами, не добавлявшими ей привлекательности. Выражение глаз было не разглядеть за стеклами круглых, совсем не модных очков.
Сейчас она годилась сидящей рядом с ней Ксюше в матери, хотя, как знал Дорошин, была всего на четыре года старше. Под тонким вытянувшимся свитерком бурно вздымалась грудь, и это ритмичное движение впервые доказывало, что она, то есть грудь, у Леночки вообще есть.
«И с чего это она так волнуется?» – заинтересованно подумал Дорошин, а вслух сказал:
– Елена Николаевна, а вы что можете сказать? А то все молчите да молчите. Вы про какое-нибудь увлечение Бориса Петровича знаете?
– Что? – Золотарева заметно вздрогнула. – Я не была особенно близка с Борисом Петровичем, несмотря на то что он был моим непосредственным начальником. И дома у него я никогда не бывала. Так что если он и собирал что-нибудь, то мне об этом неизвестно.
Она старательно не смотрела ни на кого, кто находился сейчас в зале, и Дорошин отчетливо понял, что она лжет.
– Хорошо, оставим пока этот вопрос. – Как опытный стратег, Дорошин всегда знал, когда нужно отступить, давая передышку противнику. В том, что противник здесь, в зале, он ни минуты не сомневался. – Спрошу о другом. Были ли у Грамазина враги?
– Нас следователь уже спрашивал об этом, еще в субботу. – Алена Богданова, молоденькая, но уже невыносимо скучная, как засыпанный пылью канцелярский журнал, будущая Леночка, ни дать ни взять, даже имя подходящее, независимо вскинула остренький подбородок. – Не было у него врагов. Впрочем, у Бориса Петровича и друзей-то не было. Он же отшельник, социопат и мизантроп. Ему в подвале с картинами было хорошо. Наедине с книгами тоже. А людей он терпеть не мог.
– Вот уж неправда, Алена. – Склонская даже фыркнула от возмущения, которое испытывала. – Борис Петрович действительно был человеком замкнутым и нелюдимым, но людей он вовсе не ненавидел. Даже наоборот. По крайней мере, меня он всегда с удовольствием расспрашивал о разных людях, даже незнакомых.
– А вы, конечно же, с удовольствием сплетничали, – выпалила Алена, и Дорошин с изумлением понял, что она терпеть не может «его» старуху. Впрочем, Мария Викентьевна и сама не скрывала, что в галерее с ней считается только Леночка.
– Я не сплетничала. – Склонская усмехнулась, видимо ничуть не обидевшись на вздорную девицу. – Мы беседовали с Борисом Петровичем на разные темы, так правильнее. И если я хоть немного разбираюсь в жизни, а мой опыт позволяет с уверенностью судить, что я в ней разбираюсь, то могу сказать, что Борис Петрович очень интересовался всем, что происходит вокруг. Люди были ему интересны, и он с удовольствием за ними наблюдал.
Бледная и напряженная как струна Леночка отчетливо вздрогнула еще раз. Она интересовала Дорошина все больше и больше, и он сделал себе обязательную зарубку на память – узнать о Елене Золотаревой как можно больше.
* * *
– А собаки у тебя нет?
Ксения притормозила перед широко распахнутой калиткой и с опаской заглянула во двор, где искрился нетронутый снежный наст с аккуратно прочищенной дорожкой между домом и баней.
– Собаки нет. У дядьки аллергия на шерсть была, поэтому он псов отродясь не держал. А я вроде как и понимаю, что в таком хозяйстве, как у меня, собака нелишняя. И место есть, и необходимость в несении службы, да руки никак не доходят. А что, ты собак любишь?
– Терпеть не могу, – призналась Ксюша. – Я их боюсь ужасно. Меня, когда я маленькая была, в военном городке, где мы жили, собака покусала. Вернее, не покусала даже, а догнала, повалила на землю и не давала встать, пока помощь не подоспела. И с тех пор я собак даже видеть не могу. На меня как ступор нападает, честное слово.
Дорошин отчего-то мимолетно огорчился, что она не любит собак. Сам он их обожал, и в его семье, и родительской, и собственной, собак держали всегда. Его последняя псина – лабрадор Дина – осталась у жены, и Дорошин периодически ругал себя за то, что по Дине скучает гораздо больше, чем по самой жене. К людям, которые не любят собак, он относился настороженно, и вот, пожалуйста, так нравящаяся ему Ксения входила в их число.
– В общем, собаки у меня нет, так что проходи смело, – сказал он, великодушно решив, что у этой милой молодой женщины могут быть недостатки.
Она вошла во двор и легкой танцующей походкой направилась к крыльцу, ведущему в дом.
Решение пригласить Ксению в гости было спонтанным. По окончании тяжелого разговора в галерее он никак не мог решиться попросить у нее телефон и, чтобы скрыть смущение, предложил подвезти ее до дома.
– Я же на машине, – рассмеялась в ответ Ксения. – Но вы знаете, Виктор, у меня до вечера оказалось много свободного времени. У меня же сегодня выходной. Так что, если вы не против, мы можем просто покататься по городу, поговорить, а потом вы вернете меня к моей машине. Хорошо?
У Дорошина со свободным временем было не очень, но возможность провести с Ксенией несколько часов парализовала его волю. Уже сидя в машине, он неожиданно придумал пригласить ее в гости и, не успев испугаться собственной смелости, предложил:
– А давай заедем ко мне. У меня большой деревянный дом напротив кремля. Не очень ухоженный, но все равно красивый. Посмотришь, как я живу.
– Давай, – немного помолчав, тоже перешла на «ты» Ксения. – Мне почему-то кажется, что у тебя дом – такой, настоящий… Как ты.
Дорошин не совсем понял, что она имеет в виду, но фраза звучала лестно, поэтому, ликуя от счастья, он поехал в сторону своего дома и теперь с умилением и восторгом смотрел, как эта необыкновенная, хрупкая женщина поднимается по ступенькам, оглядывается, машет рукой, звонко зовет:
– Ну что же ты, пошли. Холодно…
Печь в доме он с утра протопил только одну, в кухне. Практически он и жил только в ней да в гостиной, в которую вторым боком выходила натопленная кухонная печь. Там стоял диван, которого Дорошину вполне хватало. Огромная кровать в спальне на втором этаже ему была не нужна. Слишком велика для одного-то… Поэтому второй этаж он отапливал раз в неделю.
Ксения вошла в прихожую, скинула меховые ботиночки на высокой платформе, и у Дорошина сердце зашлось от того, какие маленькие и изящные у нее были ступни. Как у ребенка, размер тридцать четвертый, не больше. Она топталась босая на полу, и он вдруг испугался, что у нее замерзнут ноги.
– На, у меня тапочки есть. – Он протянул ей сшитые из дубленой кожи ярко-красные тапочки, доставшиеся в наследство от дяди. Видимо, они принадлежали Марии Викентьевне, и Ксении были безбожно велики, но она сунула в них ноги и благодарно посмотрела на Дорошина.
– Спасибо, очень красивые. Это твоей жены? Или дочки?
Говорить про Марию Викентьевну Дорошину отчего-то не хотелось.
– Нет, это гостевые, – уклончиво сказал он. – И чтобы разом ответить на все возможные вопросы, скажу сразу. Я разведен. Мой взрослый сын живет отдельно. И ты первая женщина в этом доме за последние два месяца.
– Только два? – Она спросила шаловливо, наклонив голову к одному плечу и озорно улыбаясь, от чего на щеках у нее заплясали ямочки.
– До этого в этом доме жил мой дядя, Николай Николаевич. Кто бывал у него, я, честно говоря, не знаю. – Он кривил душой, но говорить про Склонскую не хотел, и точка. – Но с тех пор как дом стал моим, женщин в него я точно не водил.
– Оправдываешься, как школьник, – заметила Ксения, подошла к окну и немного отодвинула белоснежную занавеску, выглянув во двор. – Но вообще-то правильно делаешь. Я – страшная собственница. И то, что мое, не может принадлежать никому другому. Понятно?
– Вполне. А ты уверена, что я, как ты выразилась, твое?
– Я никогда не изменяла мужу. – Теперь она говорила быстро-быстро, будто, как он совсем недавно, боялась передумать. – Мне казалось, что это неправильно. У меня не было мужчин, кроме него. Это правда. Поэтому мне очень страшно сейчас.
– Что изменилось? – Ему было важно знать, почему она согласилась приехать к нему.
– Не знаю. Я бы могла сказать, что ты мне понравился настолько, что я изменила свои взгляды на жизнь, но это будет неправдой, а мне не хотелось бы, чтобы между нами все начиналось с неправды. Нет, конечно, ты мне очень понравился. Еще на прошлой неделе, когда помогал мне вешать штору. Но это ни к чему бы не привело, если бы…
– Если бы что?
– Наверное, я была готова к тому, что рано или поздно со мной произойдет что-то подобное. Ты спросил, что изменилось. Так вот, наверное, изменилась я сама. Повзрослела достаточно для того, чтобы перестать прятаться от жизни.
– А ты пряталась?
– Да. Мне было восемнадцать лет, когда я вышла замуж и спряталась за спину моего мужа. У меня не было бытовых проблем, которые нужно было решать. Не было вершин, которые было бы необходимо преодолевать. Я жила, как будто завернутая в вату. И не сразу поняла, что в этой вате задыхаюсь. Мы с мужем слишком разные, чтобы мне было с ним хорошо. И, наверное, то, что я решилась приехать сюда, это первый шаг к тому, чтобы стать свободной. Я живу не своей жизнью. А где моя, не знаю. Понимаешь?
– Вполне. Ксения. – Он сделал широкий шаг и оказался рядом с ней, прижав к себе, несильно, чтобы не раздавить ненароком. Какая она все-таки была маленькая и тоненькая. Высокая упругая грудь упиралась ему в живот, будя низменные желания. Рельефные бедра прижались к его ногам, и он еле подавил в себе порыв стиснуть их изо всех сил. – Ксения, ты еще можешь передумать. Я обещаю тебе, что не сделаю ничего против твоей воли. Но если ты сейчас не уйдешь, то я уже не смогу остановиться.
– Ты честный. – Она подняла руку, погладила его по щеке. Рука скользнула вниз, по груди, по бедру, сделала вираж. Тонкие пальчики пробежались во вздыбленной молнии джинсов. Дорошин хрипло охнул. – Ты сильный. Твердый. Ты хороший, Витенька. Поэтому я не уйду. И, пожалуйста, не чувствуй себя виноватым, что ты меня совратил. Это нужно не столько тебе, сколько мне.
Она подняла лицо, которое до этого прятала у него на груди, и Дорошин поцеловал ее, нежно и решительно одновременно. Она ответила на его поцелуй, искренне и истово, хотя, к его вящему изумлению, не очень умело.
– Тебе, наверное, я смешна, – прошептала она. Щеки ее стали пунцовыми, как маки на летнем лугу. – Взрослая женщина, мать двоих детей, а ничего не умеет. Моему мужу нравилось, что я скромная. Я знаю, что темные свои стороны он охотно показывал проституткам. В его среде так принято, пользоваться на мальчишниках услугами профессионалок. А жена – это хранительница очага, мать детей, ей в постели кувыркаться не пристало.
– Твой муж – больной, – в сердцах заявил Дорошин. – Но больше я ничего не хочу о нем слушать. Поняла?
– Поняла, – прошептала Ксения, и больше он не дал ей сказать ни слова, запечатав рот поцелуем.
В крови бушевал пожар, в котором сгорали без следа неудобство за узкий диван, расстройство из-за отсутствия большой кровати, досада, что у нее есть муж и она не принадлежит ему, Дорошину, вся, без остатка. Он только все время помнил о том, какая она хрупкая, и следил за своими руками, чтобы, не дай бог, не оставить синяков на фарфоровой коже, не сделать ей больно, не напугать.
Ксения занималась любовью сосредоточенно, словно экзамен сдавала. Ее некоторая скованность с лихвой окупалась его горячностью. Она лежала с закрытыми глазами, словно прислушиваясь к внутренним ощущениям, а точнее, к их полному отсутствию. Дорошин мог голову отдать на отсечение, что это именно так. Бедная, бедная девочка. Какая же бесчувственная скотина досталась ей в мужья! Его почему-то не покидала мысль, что он обижает ребенка. Доверчивого и ранимого. И к тому моменту, как наслаждение накрыло его лавиной, скатившейся в глубокое ущелье, оставившей распластанным, совершенно без сил, он уже тоже чувствовал себя скотиной.
– Я что-то сделала не так? – Тоненький голосок Ксении ворвался в его расстроенные мысли.
– Нет, что ты. – Он обнял ее, зарылся лицом в выбившиеся из косы волосы. – Это я все сделал не так. Не так, как должен был.
– Витя, Витенька… Я обещаю, что всему научусь. Ты меня научишь, да? – Она приподнялась на локте и посмотрела ему в лицо, впрочем, быстро потупившись от стеснения. – Ты только не бросай меня, ладно? Я пропаду без тебя совсем.
– Не брошу, – пообещал он и поцеловал в краешек губ нежным, практически отеческим поцелуем. – Я тебя не брошу и не обижу. Обещаю.
– Я верю, – тихо сказала она и вдруг заплакала, беззвучно и горько, как плачут дети.
– Ты что? Тебе больно? – испугался Дорошин.
– Нет, мне хорошо. И наконец-то очень спокойно, – призналась Ксения, вытирая мокрые щеки краешком цветастого дорошинского пододеяльника. – У меня такое чувство, что я брела-брела по пустыне и наконец-то добралась до оазиса, в котором смогу отдохнуть.
– Если тебе плохо дома, то можешь туда не возвращаться, – решительно сказал Дорошин. – Съездим за твоими детьми, и будете жить у меня.
– Ну что ты, Витенька. – Она засмеялась, словно колокольчик прозвенел. – Так же не бывает. Раз – и все. Я с Аликом четырнадцать лет прожила, не по-человечески так будет. Да и вообще, ты меня совсем не знаешь, я тебя совсем не знаю… Давай хоть познакомимся поближе. Ты же не против, если я пока будут периодически к тебе приезжать, чтобы рядом с тобой погреться немного. Холодно мне дома, понимаешь?
Она все время спрашивала, понимает ли он. Дорошин понимал. Верная супруга решила немного развлечься. Ее муж – богатый человек, гораздо старше ее, ей скучно, работа у нее непыльная, проблем нет, вот она и решила пощекотать себе нервы, заведя любовника. Наверное, давно хотела, да где ж ей, при ее образе жизни, его взять. Не в картинной же галерее! Дорошин внезапно засмеялся, представив лица тамошних мужчин. На их фоне он выглядел роскошным альфа-самцом. Опять же работа… Полицейский, разыскивающий иконы и ценности… Звучит красиво…
Его, впрочем, ничуть не расстраивало, что он просто, как говорится, оказался в нужный момент в нужном месте, и спелый плод упал ему прямо в руки. Точнее говоря, плод оказался слегка недозрелым, но в этом не было большой беды. Научится… Дорошин и сам был не готов к тому, чтобы в одночасье снова оказаться женатым, да еще на женщине с двумя детьми. Так что то, что его наспех сделанное предложение было отвергнуто, его скорее радовало. Что ж, у него наконец-то появилась любовница. Молодая, красивая, неискушенная, умная, интеллигентная, тактичная… Как ни крути, а ему повезло.
* * *
Адвокат Николая Николаевича Дорошина, с которым Виктор договорился о встрече, визитом удивлен не был.
– Что ж, молодой человек (для шестидесятилетнего адвоката Дорошин-младший, несомненно, был еще молод), признаться, я знал, что у вас могут возникнуть ко мне вопросы.
– Сергей Сергеевич, на самом деле для нас обоих было бы гораздо лучше, если бы вы ответили на них до того, как они возникли, – саркастически сказал полковник. – Я же спрашивал у вас, почему дядя переписал дом на меня, да еще в обстановке полной секретности. Что вы мне ответили? Что не знаете, что двигало вашим клиентом. Тогда я вам поверил, но сейчас обстоятельства изменились, и я склонен считать, что вы были в курсе, что у дяди начались неприятности с его домом.
– Грешен, каюсь. – Старый адвокат склонил седую голову. – Мы с вашим дядюшкой приятельствовали много лет. Не близко дружили, нет. Именно приятельствовали. Сошлись на любви к русской литературе, знаете ли. Он очень образованный был человек, очень начитанный, сейчас таких редко встретишь. Ваш дядя относился к редкой породе людей-отшельников, лучше всего он чувствовал себя наедине с самим собой. Но иногда мы встречались, и когда у него начались, как вы изволили выразиться, неприятности, он обратился ко мне за советом.
Дорошин внезапно почувствовал себя уязвленным, что дядя Коля не посоветовался с ним, опытным полицейским, который совершенно точно придумал бы, как обезопасить дядюшку и оградить его от посягательств то ли бандитов, то ли бизнесменов, то ли всех вместе.
– Что он вам рассказал?
– Он пришел ко мне в начале сентября и сказал, что к нему приезжали какие-то люди, которые сказали, что хотят купить дом вместе с участком. Николай Николаевич отказал им. Но они настаивали. Говорили, что купят ему взамен хорошую однокомнатную квартиру и денег дадут, чтобы была значительная добавка к пенсии. Он им ответил, что пенсии ему на жизнь вполне хватает, потому что он неприхотлив, и переезжать в конуру, пусть даже и просторную, на старости лет не намерен.
– Они вернулись? Я правильно понимаю?
– Да, они приезжали еще несколько раз, а потом бросили через забор бутылку с зажигательной смесью. Она чуть-чуть не долетела до бани, поэтому беды не наделала, но Николай Николаевич испугался, что рано или поздно они сожгут дом, чтобы вынудить его расстаться с землей. Он так переволновался, что у него стало плохо с сердцем. В первый раз в жизни. Он позвонил мне, попросил приехать, привезти валидол и поговорить.
– Я понимаю, отчего дядя не стал беспокоить Склонскую – не хотел, чтобы она волновалась за его здоровье. Ей и так пришлось немало перенести, ухаживая за больным мужем, но почему он не рассказал ничего мне? Ума не приложу…
– Машеньку Склонскую я знаю хорошо, вот, правда, не знал, что она дружна с Николаем Николаевичем. – Адвокат снова покачал головой. – Виктор, голубчик, вы сейчас, наверное, думаете, что ваш дядя вам не доверял или не считал, что вы способны откликнуться на его просьбу. Поверьте мне, старому уже человеку, это не так. Он очень хорошо к вам относился, ценил вас. Когда я приехал и привез лекарство, я стал ругать его, что он не обратится к родственникам, не скажет, что болен. Он же уверял меня, что здоров, что это всего-навсего реакция на стресс. Сказал, что у вас сейчас непростое время, что вы разводитесь с женой, переживаете и расстраиваетесь и что ему не хочется нагружать вас еще и своими проблемами. Он был уверен, что вы броситесь искать и карать его обидчиков, а ему не хотелось этого. И он выбрал другое решение. Кардинальное.
– Что вы имеете в виду? – У Дорошина вдруг зашевелились на голове волосы. – Сергей Сергеевич, вы же не намекаете, что мой дядя покончил с собой?
– Упаси господь, молодой человек! Я имею в виду, что, посоветовавшись со мной, он переписал свой дом на вас. Ну и камеры видеонаблюдения поставил на участке. Все эти ухищрения требовали некоторых временных затрат, поэтому он позвонил по телефону, который ему оставили эти люди, и сказал, что готов продать дом и участок, правда, ближе к Новому году. Сказал, что должен пройти медицинское обследование, собирается в санаторий. Мол, решу все свои дела, и перед Новым годом ударим по рукам.
– И на что он рассчитывал?
– На то, что, когда они появятся снова, скажет им, что дом ему больше не принадлежит, что он оформлен на племянника, полковника полиции, что участок оснащен видеокамерами, и любые попытки осуществить новый поджог приведут к большим неприятностям.
– Было бы лучше, если бы он доверился мне с самого начала, а не надрывался, заказывая камеры и руководя работами, – горько сказал Дорошин. – Я бы решил проблему с этими ублюдками в два счета. И участок обезопасил, и нервы его сберег. Сергей Сергеевич, вы же умный, опытный человек, почему же вы его не уговорили поговорить со мной?!
– Виктор, ваш дядя, когда хотел, был весьма непреклонным человеком. Он делал то, что считал правильным. Хотя должен вам сказать, что его представления о том, как правильно, иногда выглядели очень странно.
С этим Дорошин был согласен. У дядюшки был непростой характер. Вся его жизнь бирюка и отшельника доказывала это. Он не считал возможным разбивать чужую семью, он не считал возможным обременять собой оставшуюся без мужа Марию Викентьевну и всю жизнь прожил один, лелея любовь к ней, единственной женщине, которая была ему дорога.
Он расстраивался из-за дома, но не стал досаждать своими проблемами единственному племяннику. И умер в одиночестве, оставив этому племяннику огромный дом на берегу Волги, причем в самый нужный момент, когда племяннику стало негде жить.
– Они теперь пришли к вам, Виктор? – спросил адвокат. – Иначе вы бы не стали ворошить прошлое.
– Да. Они пришли ко мне. Я сказал им, что не намерен продавать дом и участок, что территория просматривается камерами и им нет нужды совершать преступление, поскольку они сразу сядут. Я сказал, что я полковник МВД. То есть я сделал все то, что мог сделать еще осенью, но тогда дядя Коля был бы сейчас жив.
– История не знает сослагательного наклонения, Виктор, – мягко сказал адвокат. – Николай Николаевич оставил вам дом, потому что он знал, что вы сумеете его сохранить. Несмотря на то что он был очень спокойным и не склонным к сантиментам человеком, дом этот он любил. Говорил, что это – то немногое, что осталось у него от родителей. Он любил вспоминать, как в детстве они с братом, вашим отцом, сбегали по круче к самой кромке воды, купались в Волге и смотрели на дом, который высился над ними. Им всегда казалось, что в окошко за ними наблюдала мама, ваша бабушка.
– А она и наблюдала. – Дорошин вдруг засмеялся. – Я был еще пацаненком, когда бабушки и дедушки не стало, но тоже помню, как меня маленького приводили в этот дом и отпускали купаться на реку, а бабушка всегда смотрела в окно, несмотря на то что отец не оставлял меня одного ни на минуту.
Воспоминания детства вдруг нахлынули так стремительно, что Дорошин даже покачнулся. Ну надо же, как давно он не вспоминал бабушку с дедушкой! Он вообще старался не возвращаться в мыслях к тому счастливому времени. Ему было тридцать лет, когда он в течение одного года потерял обоих родителей. Мама сгорела от рака, а через полгода не стало и отца. Жизнь без мамы была для него не вариантом. Отец, как и дядя Николай, был однолюбом, вот только в отличие от брата ему повезло прожить с любимой женщиной три десятка лет.
Родители действительно любили друг друга. И сына они тоже любили, поэтому остаться без этой любви, а еще без постоянной поддержки, без ощущения, что, чего бы ты ни делал, а родители стоят у тебя за спиной, было больно. Практически невыносимо. Счастливые воспоминания детства каждый раз сдирали тонкую кожицу на поджившей ране, и Дорошин приучил себя не вспоминать.
Родителей не стало. Они съехались с тещей, сменяв две двушки на большую четырехкомнатную квартиру. Новые стены помогали жить без прошлого. И к дяде-то Дорошин ездил так редко именно потому, что это позволяло ему поддерживать иллюзию, что прошлого нет. Что ж, почти пятнадцать лет спустя оно настигло и ударило наотмашь, возложив на плечи ответственность за дом, в котором вырос отец, и невыносимое чувство вины перед дядей, оставшимся в трудные минуты один на один с бандюками-бизнесменами.
Стекольщик, как и следовало ожидать, на назначенную ему встречу не пришел. И Дорошин, вернувшийся после встречи с адвокатом, обошел весь двор по периметру, проверил камеры, вывел их на стоящий в доме компьютер, подключив сигнал тревоги на телефон. Впрочем, в то, что Стекольщик осмелится поджечь дом полковника полиции, он не верил. Скорее всего, утрется и отступит. Пойдет искать себе другую жертву.
А вот это уже плохо. В старых деревянных домах, расположенных на лакомых земельных участках, живут пожилые люди, слабые и беззащитные, которых легко напугать и вынудить подписать любые бумаги. Дядька Николай не струсил и не подписал, а нашел способ обезопасить свое жилище, вот только нервное перенапряжение стоило ему жизни. Стекольщика надо остановить, чтобы бутылки с зажигательной смесью не летели другим старикам во дворы. И Дорошин решил, что обязательно этим займется. Хотя бы в память о дяде.
* * *
Проведенная в областной картинной галерее инвентаризация выявила отсутствие в запасниках восьми картин. Помимо этюда «Днепр» пропала вторая картина все того же Куинджи «Закат в лесу», а также акварель Левитана «После дождя», гуашевый рисунок Рериха «Арабская женщина», холст Фалька «Апельсины в корзине», акварель Маковского «Лесничий с ружьем», «Вид поселка. Кемь» кисти Коровина и «Букет полевых цветов в глиняном горшке» Кончаловского.
Директора Арину Морозову госпитализировали с сердечным приступом, да и все остальные сотрудники галереи чувствовали себя не то чтобы хорошо.
Когда ознакомившийся с результатами инвентаризации Дорошин приехал в музей, в воздухе подвального этажа, где располагались служебные помещения, был разлит стойкий запах валокордина.
Мария Викентьевна Склонская была бледна, а сидящую за соседним столом Елену Золотареву била крупная дрожь. Взволнованная Ксюша, к которой Дорошин заглянул до того, как наведаться к Склонской, кивнула ему, словно они были едва знакомы, и отвернулась. Личико у нее было расстроенное. Алена Богданова сидела вся заплаканная, а Андрей Калюжный выглядел так, как будто только что похоронил всех близких.
– И что вы про все это думаете? – спросил Дорошин Склонскую, несмотря на присутствие в кабинете трясущейся Леночки.
– Я думаю, что это ужасно. Совершенно ужасно. – Голос Марии Викентьевны дрогнул. – Витенька, мальчик мой, произошло именно то, чего я подсознательно боялась, когда втягивала вас в эту историю. Я понимала, что «Днепр» – это только начало, так сказать, вершина айсберга, но я не хотела в это верить. Я так надеялась, что вы развеете все мои сомнения, что этюд найдется, никаких других пропаж не обнаружится и все в нашей жизни останется таким, как всегда, – устоявшимся, спокойным, уютным.
– Я бы не мог назвать обстановку в галерее уютной, – признался Дорошин и снова покосился на Леночку. – Мария Викентьевна, у вас тут террариум единомышленников, честное слово. Все друг друга терпеть не могут, несмотря на интеллигентность, рафинированность и хорошие манеры. А некоторые еще и врут. – Теперь он смотрел на Золотареву, не отрываясь. Она выдержала его взгляд, не отвела глаз, лишь сильно покраснела и обхватила себя руками за плечи, пытаясь унять сотрясавшую ее дрожь.
– Врут? Что ты имеешь в виду? – Склонская смотрела непонимающе, и Дорошину вдруг стало стыдно перед ней, хотя он и не сделала еще ничего дурного.
– Мария Викентьевна, в музее стоит охранная сигнализация, и, как я успел выяснить, несмотря на проблемы с финансированием, она оплачивается своевременно, а потому работает. Из этого вытекает только одно – вынести картины из музея мог кто-то из своих.
– Почему? С чего вы в этом так уверены? – неожиданно вступила в разговор Золотарева.
– Да все очень просто, Елена Николаевна. Для того чтобы умыкнуть из хранилища разом восемь картин, случайному вору не хватило бы ни времени, ни способностей. При вашем бардаке разобраться, где что лежит и сколько при этом стоит, совершенно невозможно.
– То есть вы считаете, что у преступника был сообщник, который подобрал годящиеся для кражи картины, наиболее дорогие из всех, что есть в запасниках, отобрал их, сложил в одно место, чтобы вору было удобнее их вынести?
– Нет, Елена Николаевна, я так не считаю. Не было никакого стороннего вора. Был один человек, работающий здесь, который прекрасно разбирается в искусстве, знает, что представляет ценность, а что нет, и он вынес картины не за один раз, а постепенно, по одной. Не исключаю, что у него на это ушло около года.
– Зачем такие сложности? – Леночка не хотела сдаваться без боя.
– Лена, ну, это же совершенно естественно. – Склонская фыркнула, но голос ее звучал ласково. – Восемь работ, даже если их снять с подрамников, занимают достаточно много места. Вынести их на наших глазах из подвала, пронести по залам и на глазах смотрителей уйти через гардероб, не привлекая внимания, невозможно. Как бы это ни было обидно, но приходится признать, что Виктор прав. Кто-то из нас продумал это преступление, отобрал картины и по одной вынес их из галереи, не привлекая внимания.
– Боже мой, мне никогда не приходило в голову беспокоиться о безопасности работ в хранилище. – В голосе Леночки зазвучали слезы. – Здесь же бывают только свои. Свои. Как жить с пониманием, что кто-то из этих своих – вор и предатель?
– А как вам живется с мыслью, что кто-то из этих своих убийца? – холодно спросил Дорошин. – Ведь Грамазина убили, скорее всего, именно из-за этих краж. Он что-то знал, и, когда пропажа первой картины была обнаружена, его убили, чтобы оборвать все ниточки.
– Или кражу совершил сам Борис, – задумчиво сказала Склонская. – Именно он месяц за месяцем выносил эти работы из хранилища, а когда запахло жареным, решил быстренько от них избавиться и передать заказчику. А тот, чтобы не расплачиваться, Борьку взял и убил.
– Да, такая версия тоже имеет право на существование, – согласился Дорошин. – Мария Викентьевна, я в восхищении. В умении логически рассуждать вам не откажешь.
– Хоть мне и семьдесят лет, но я еще не в маразме, – с достоинством сообщила Склонская. – Понять бы еще, зачем Борьке могли понадобиться такие большие деньги. Жил же он без них столько лет и прекрасно обходился. С чего бы его вдруг на приключения потянуло? Да и вообще, единственный человек из наших, кого деньги интересуют, это Ксюша. Но у нее они и так есть благодаря замужеству по расчету. А все остальные… Красть? Убивать? Из-за денег? Просто в голове не укладывается. Нет, не работают в наше время в музеях расчетливые люди. Да, Лена?
– Не знаю, Мария Викентьевна. – На щеках Золотаревой горели два ярко-алых пятна. – Не уверена, что вы правы. Конечно, с трудов праведных не наживешь палат каменных, и стороннему наблюдателю мы, наверное, все кажемся не от мира сего, но я, к примеру, деньги вовсе не презираю. Я бы очень хотела их иметь, потому что мне надоело жить на копейки и во всем себе отказывать. Думаю, что и Андрей рассуждает так же, и Алена. Они даже скорее, чем я, они молодые, для них искушений вокруг гораздо больше, чем для меня, старой холостячки.
– Может, и так. – В голосе Склонской послышалась грусть. – В наше время все было иначе. Мой муж-профессор прекрасно зарабатывал, и мои доходы меня совершенно не волновали, хотя тогда работникам культуры платили не так, как сейчас. А в наши дни молодежь действительно поставлена на грань выживания.
– Мне всегда казалось, что, если не хватает денег, можно найти другую работу, – жестко сказал Дорошин. – И низкая зарплата – не повод оправдывать кражу и тем более убийство.
– А никто и не оправдывает, – резко сказала Леночка. – Мария Викентьевна имела в виду, что у большинства сотрудников галереи, как людей высокодуховных, не может возникнуть соблазна украсть. А я так не считаю, только и всего. Человеческая мерзость и подлость встречается одинаково во всех слоях общества. И интеллигенцию это тоже касается, как ни прискорбно.
– То есть вы, Елена Николаевна, считаете, что Борис Петрович Грамазин совершил кражу восьми произведений искусства, а затем был убит?
– Не ловите меня на слове. – В голосе Золотаревой звучала глубокая усталость. – Я ничего не считаю. Это ваша работа – разобраться, что тут у нас произошло. Я не исключаю, что Борис Петрович мог соблазниться большими деньгами. Он был достаточным мерзавцем, чтобы это было возможным. Точно так же я не исключаю, что ими соблазнился любой другой сотрудник галереи, за исключением Марии Викентьевны.
– Ты боишься меня расстроить, включив в число подозреваемых? – иронично спросила Склонская.
– Нет, просто если бы картины украли вы, то вы не стали бы поднимать шум и звонить господину полковнику, – сообщила Золотарева. – Если бы это сделали вы, то в ваших интересах было бы лучше, чтобы о краже никто ничего не узнал. В нашем, как изволил выразиться господин полковник, бардаке исчезновения полотен могли не заметить еще полгода, а то и год. Вскрылось бы это только при переезде, а он же неизвестно когда будет.
– Да уж, кому я точно не завидую, так это Арине Романовне. – Склонская тяжело вздохнула. – Бардак действительно ужасный, и не знаю, как тебе, а мне стыдно, что мы не смогли обеспечить сохранность уникальных полотен.
– Господи, сколько раз я предлагала Борису Петровичу сделать инвентаризацию и разобрать ящики и коробки, – в сердцах сказала Золотарева. – Он же и слушать меня не хотел. Говорил, что при наших постоянных оптимизациях и переездах это лишняя, никому не нужная работа. Мы же даже выставку нормальную организовать не могли, потому что у нас места под экспозиции нет. Сидели на чемоданах последний год. И правильно, что нас обокрали. Нам же дела нет, что у нас сокровища хранятся, а люди их не видят. Мы только и делаем, что начальства боимся. Чтобы не обиделось, чтобы не расстроилось, чтобы чего не подумало. А чиновники эти… Они же бездушные, как роботы. У них только деньги в глазах да карьера. Куда им об искусстве думать!
С подобным постулатом Дорошин, пожалуй, был не согласен. Относительно нового начальника областного Департамента культуры он знал точно. Это был улыбчивый обаятельный парень тридцати с небольшим лет, который крутился, как мог, в рамках выделенного ему скудного финансирования, но производил впечатление человека неравнодушного, а главное – честного.
Горячность бледной немочи Леночки его удивила. Не ожидал он от нее таких страстных эмоций, не ожидал. Ну надо же, а ему казалось, что ничего не может вывести ее из привычного состояния сонного оцепенения. А вот подишь ты… И Грамазина отчего-то мерзавцем назвала. Знает что-то конкретное или просто не любит покойного начальника? Понять бы…
Распрощавшись с собеседницами, Дорошин поехал к себе в отдел, отправил перечень пропавших работ Эдику Кирееву и позвонил ему, чтобы получить экспертную оценку стоимости похищенного.
Эдик оказался на месте, выслушал Дорошина, список открыл без промедления и ненадолго погрузился в его изучение, подняв затем на камеру, через которую общался с Дорошиным, изумленные глаза.
– Чего? – спросил Дорошин, хорошо распознающий интонации друга даже тогда, когда тот молчал. – Видишь что-то странное?
– А ты не видишь?
– За исключением того факта, что из областного музея спирают восемь подлинников, а никто этого даже не замечает, нет, ничего…
– Конечно, ты ж у нас в основном по кражам икон работал, – с легкой иронией сказал Эдик. – Так что твой кругозор довольно ограничен. Понимаешь, Вик, этот список странен, очень странен. Особенно если учесть, что похититель, скорее всего, долго готовился к краже и картины выносил по частям. Он что, забрал все ценное, что у вас там в музее было?
– Нет, это я проверил. По каталогам на балансе галереи стоит как минимум сто семьдесят подлинных работ мастеров, имеющих высокую рыночную стоимость. Восемь пропали, остальные на месте. Часть из них, конечно, в экспозиции используется, но немного, штук двенадцать, не больше. Остальные в запасниках.
– То-то и оно! Тогда почему такой странный выбор, я совсем не понимаю.
– Да что в нем странного-то? – взмолился Дорошин. – Уж просвети ты меня, темного. Не мучай!
– Да не мучаю я тебя, дорогой, размышляю просто. Из ста семидесяти единиц хранения пропадают восемь. Почему именно эти? Лежали на виду?
– Нет. Там такой бардак, что где что лежит вообще не разобрать.
– Имели небольшие размеры, и их было легко вынести?
– Тоже нет. Этюд «Днепр» маленький, как я тебе уже и говорил, в портфель влезет. Рерих и Маковский тоже небольшие. А вот Левитан, Фальк, Коровин и Кончаловский вполне себе полноразмерные. Впрочем, какое это имеет значение, если холсты с подрамников снять, а акварель и гуашь из рамок вынуть?
– То-то и оно, – непонятно повторил Эдик. – Тогда почему именно эти работы?
– Может, на заказ выносили? – предположил Дорошин. – Именно то, на что имелся покупатель?
– Молодец, – отчего-то обрадовался Киреев. – Тогда получается, что основным критерием кражи должно быть что?
– Что? Цена…
– Умница. – Эдик уже практически ликовал. – А теперь слушай сюда, старого мудрого папу Карло. Левитана на аукционах можно продать миллиона за два. Долларов, разумеется. Маковского тоже. Рерих до трех доходит. Фалька, Коровина и Кончаловского берем за полторы за штуку. Ты следишь за моими руками, Вик?
– Кажется, начинаю улавливать твою мысль, – медленно сказал Дорошин и почесал кончик носа, что выдавало профессиональное волнение. – Ты мне в прошлый раз говорил, что Куинджи можно продать миллиона за два, только рублей. Получается, что две работы на порядок дешевле всех остальных.
– Вот именно, – согласился Киреев. – У каждой работы своя цена. У Куинджи этюды, небольшого размера к тому же, поэтому вполне объяснимо, что он стоит дешевле. Гораздо дешевле. Получается, что кто-то заказал нашему вору, или он сам отобрал работы, при продаже которых мог подняться минимум на десять миллионов баксов, и он при этом прихватывает еще две картины, которые стоят гораздо меньше, на сдачу, так сказать…
– Зачем? – изумленно спросил Дорошин.
– То-то и оно, – в третий раз сказал Эдик. – Поймешь это, поймешь и все остальное.
* * *
Ксюша лежала в объятиях Дорошина, и он думал о том, что уже не помнит, как жил, когда рядом не было этой чудесной маленькой женщины. Обожание, которое он постоянно видел в ее фиалковых глазах, пожалуй, было тем главным крючком, на который он крепко попался, встречаясь со своей новой любовницей.
В постели она была не очень умелой, не скрывая даже, что плотские утехи оставляют ее равнодушной. Холодности своей Ксюша не стыдилась и не считала ее чем-то особенным.
– Витя, большинство женщин так живут, – говорила она, поглаживая его по мускулистой, поросшей жесткими волосами груди. – Ты уж поверь мне, я же в женском коллективе училась, мы с девчонками ханжами не были, о чем только не говорили. Да и с женами Аликовых друзей мне беседовать приходилось. Я-то, конечно, поумнее их буду, больше молчу, да и не пью совсем, а они, как по паре бокалов вина пропустят, так и давай мужикам кости перемывать. И если ты думаешь, что про секс говорят только мужчины, то ошибаешься. Женщины тоже очень даже говорят, да еще так, что у мужиков бы уши в трубочку сворачивались от смущения. Так что я точно знаю, что, во-первых, я не одна такая, а во-вторых, в жизни это совсем не главное.
– Не знаю. – Дорошин поцеловал ее в висок. Почему-то Ксюша вызывала у него не страсть, а щемящую нежность. Скорее всего, как ему казалось, причиной этого была именно холодность ее натуры. Не была она страстной женщиной-вамп, что ж поделать. – В семейной жизни, может быть, хотя удовольствие в постели и тут помешать никак не может, а уж адюльтер без удовольствия вообще теряет смысл. Вот скажи, зачем тебе любовник, если тебе от меня ничего такого, – он покрутил рукой в воздухе, изобразив что-то, не поддающееся описанию, – не надо?
– Какой же ты дурачок у меня, Витя. – Ксения приподнялась на локте и посмотрела на него, улыбаясь. – Мне с тобой хорошо, спокойно. Я знаю, что ты меня не обидишь, не предашь, не подставишь. Ты, если хочешь знать, мое самое большое в жизни приключение. У меня от наших свиданий такой адреналин в крови, что никакого секса не надо.
– А ты уверена, что для тебя это безопасно? – осторожно спросил Дорошин. – Я не хочу быть причиной твоего разлада с мужем, Ксюша. Если он начнет тебе устраивать сцены ревности, то скажи мне сразу, нужно будет как-то быстрее все решать.
– Ой, Дорошин. – Иногда Ксюша любила называть его по фамилии. – Ну какой же ты правильный, просто невозможно! Нет у меня никаких проблем с мужем и быть не может. Ты пойми, он мне полностью доверяет, потому что за четырнадцать лет я его ни разу не обманула. Какая ревность? О чем ты? Он даже слова такого не знает. Алик абсолютно убежден, что он – самый лучший мужик в мире, а потому ему даже теоретически не может прийти в голову, что я ему с кем-то изменяю.
– А что ты ему говоришь, когда уходишь ко мне? – упрямо спросил Дорошин. Он помнил, как дядя говорил ему, что его свидания с Марией Викентьевной были редкими, потому что отрывать время от своей семьи она могла лишь изредка.
– Витя, я ничего ему не говорю. Утром он уезжает по своим делам, и до позднего вечера его нет дома. Я могу быть на работе, где меня, впрочем, тоже особо никто не контролирует. В выходные могу ездить по магазинам, по салонам красоты, могу в Москву даже рвануть на выставку какую-нибудь. К примеру, сегодня я ему так и сказала. Мол, поехала в Третьяковскую галерею, хочу подзарядиться прекрасным.
– Куда? – тупо спросил Дорошин.
– В Москву, – засмеялась Ксюша. – А что такого? На моей машине три часа туда, три обратно, пару часов там. Получается, что я могу провести с тобой практически весь сегодняшний день. Я специально к субботе подгадала, чтобы ты был не занят. Машинку мою за твоим забором увидеть никто не может. Если Алик позвонит, я отвечу. Он на один из объектов в район уехал, дети с няней, так что я свободна как ветер. И никакого риска. И вообще, не разочаровывай меня, я не хочу думать, что мой любимый мужчина – трус.
– Я не трус. – Дорошин пожал плечами. Почему-то мысль, что ему придется сегодня провести с Ксюшей целый день стала ему неприятна. Он-то собирался закончить электропроводку на первом этаже да потом попариться в бане. Получается, что Ксения, не спросив, нарушила его планы. – Я волнуюсь не за себя, я взрослый мужик, который способен постоять за себя. Я боюсь за тебя. Я твоего мужа никогда не видел, но то, что некоторые мужчины от ревности теряют адекватность, знаю очень хорошо.
– Витя, поверь мне, я не ребенок, и я знаю, что делаю, – сказала Ксюша и испытующе посмотрела ему в лицо. – А скажи мне, Дорошин, мне показалось, или ты действительно не рад, что я свалилась тебе на голову, да еще так надолго?
Виктору стало стыдно. Он никак не мог привыкнуть, что Ксюша обладала потрясающей интуицией, как будто мысли читала. Подумаешь, электропроводка… Ремонтом дома он может и в другое время заняться. В конце концов, он радоваться должен, что такая чудесная женщина придумывает что-то, чтобы побыть с ним наедине! А в баню и вместе можно сходить. Он представил, как хлещет розовую от жара Ксюшу веником по упругой попке и тут же почувствовал желание.
– Да как ты можешь так говорить? – возмутился он, стараясь, чтобы голос звучал искренне. – Я же по тебе с ума схожу. Я очень рад, что ты останешься у меня на целый день. Только, чур, уговор. Пойдем вместе в баню.
– А по-моему, до бани ты не дотянешь. – Ксюша шаловливо погладила его по той части тела, на которой сейчас и без того были сосредоточены все мысли полковника Дорошина. Он слабо охнул. – Витенька, мне так радостно от того, что я тебе так нравлюсь. Со мной никогда в жизни такого не было. И ты можешь делать со мной все, что хочешь. И сейчас, и потом, в бане.
Уговаривать Дорошина не пришлось. Через какое-то время он откинулся на спину, снова уместил на своем плече Ксюшину златовласую головку и опять нежно поцеловал ее в висок. Почему-то после занятий любовью с этой женщиной он испытывал легкое чувство стыда. Чтобы заглушить непонятно откуда берущиеся угрызения совести, он попросил:
– Расскажи мне, что нового в галерее?
– Ой, а я буду твой тайный агент? – тут же восхитилась Ксюша, в ее глазах зажегся огонек, и она стала еще прекраснее, если это было возможным. – Здорово, можно чувствовать себя подругой Джеймса Бонда. Это так увлекательно!
– Вообще-то, внедрить в ходе расследования своего человека – это сильный ход, – рассмеялся Дорошин. – А тебя и внедрять не надо. Ты и так там работаешь. Ты же мой человек?
– Твой. Безоговорочно, – подтвердила Ксюша. – Что именно тебе рассказать?
– Да ничего особенного. – Дорошин пожал плечами. – Просто рассказывай про вашу обыденную жизнь. Кто что делает, что говорит. Какие вообще у вас новости?
– Ну, про то, что у нас общее собрание было и на него Игнатовский приходил, ты знаешь. – Игнатовский был как раз тем самым молодым начальником Департамента культуры, которого Дорошин знал и уважал. – Шуму, конечно, было ужас сколько. Я думала, что Морозова снова в больницу загремит с сердечным приступом, но ничего, обошлось. Он сказал, что по итогам служебного расследования будут приняты кадровые решения, так что Морозову снимут, конечно. Она, бедняга, это и сама понимает. Видимо, займет место Грамазина. Вот для Андрюшеньки нашего облом будет! Он же на это место сам метит. Давно уже. Все думал, как Грамазина подсидеть, да ничего не придумал. А тут такая удача. Убийство!
– Андрюшенька – это Калюжный? – лениво уточнил Виктор, подивившись, что убийство человека можно считать удачей.
– Ну да. Ты знаешь, кстати, он вообще очень странно себя ведет.
– Что значит, странно?
– Не знаю, не могу объяснить. Дерганый весь какой-то, нервный. Я сначала думала, что это оттого, что он труп Бориса Петровича нашел. Но это уже две недели назад было, можно было и отойти от шока. Не барышня же!
– Любопытно. – Дорошин и впрямь заинтересовался, перевернулся на бок, оперся на локоть и внимательно посмотрел на Ксюшу. – А в чем заключается его нервозность?
– Он бледный такой, руки трясутся, все время роняет что-нибудь. Я как-то внезапно зашла в кабинет, а он какие-то бумаги разглядывал, так чуть не подпрыгнул и стал их судорожно в папку прятать, хотя у меня нет привычки за людьми подглядывать. А еще я слышала, как он в чайной комнате по телефону с кем-то разговаривал и сказал: «Не подводите меня, от этой сделки зависит вся моя будущая жизнь». И голос такой был придушенный. Полуобморочный какой-то. Я зашла, он тут же сказал, что еще перезвонит, и распрощался. И на меня посмотрел затравленно. Вот.
– Очень любопытно.
– А еще представь: Аленка наша в новой шубе на работу пришла! Мышь мышью, вечно в курточках из секонда ходила, на мои меха глядела с такой завистью, что я думала, что она мне их когда-нибудь бритвой порежет, а вчера пришла в норке до пола. Ничуть не хуже моей. Странно, правда? И где только деньги взяла?
– Действительно странно, – согласился Дорошин, которому крайне не нравилось все услышанное. – А Морозова ваша, что? Очень переживает, что ее с работы снимают?
– Ты знаешь, нет. Даже странно. Говорит, что давно собиралась начать новую жизнь, более спокойную и беззаботную, и что теперь у нее руки развязаны. Может, она и совсем уволится от нас. Тогда Калюжный сможет все-таки место Грамазина занять. Подфартит парнишке. – Ксюша звонко рассмеялась.
– А может, место Бориса Петровича Леночке отдадут, – подначил ее Дорошин.
– Да ты что, бери выше! Эта мадам у нас на такие мелочи не разменивается. Они с Виконтессой в сговор вступили, та ее на место Морозовой рекомендовала. Так что Елена Николаевна у нас будет директором галереи, не меньше.
– Карьерный взлет…
– Что? – не поняла Ксюша.
– Я говорю, что мотивы для преступления бывают разные. Не обязательно деньги или месть. Иногда поводом для убийства вполне может служить желание совершить карьерный взлет. Или поводом для кражи…
– Да ты что, думаешь, Ленка убила? И картины украла тоже Ленка? – Голос Ксюши задрожал от возбуждения. – А что, очень может быть. Она такая… Странная… Молчит всегда, глаза в пол опускает, а как поднимет, так и полоснёт взглядом словно бритвой. Не люблю я ее. У нас ее вообще никто не любит, кроме Виконтессы. Вот та теперь землю и роет, чтобы ее любимице пост директорский достался.
Ксюша вылезла из постели, накинула рубашку Дорошина, висевшую на спинке стула, и сунула ноги в тапочки из красной овчины. Эту ее привычку натягивать его рубашки Дорошин почему-то не терпел, испытывая глухое раздражение то ли от бесцеремонного обращения с его вещами, то ли от того, что было в этом что-то неизбывно пошлое.
Чтобы не раздражаться, он быстро встал, оделся и буркнул, что ему нужно заняться электропроводкой и растопить баню. Покладистая Ксюша тут же заявила, что пока приготовит субботний обед в честь их свидания, а заодно сварит большую кастрюлю супа, чтобы Дорошину было чем питаться всю следующую неделю. Его вновь затопило ставшее уже привычным чувство вины.
Таким же постоянно виноватым он чувствовал себя последние полгода жизни с женой и в глубине души начинал уже волноваться, что причина его состояния кроется не в жене и уж тем более не в Ксюше, а в нем самом.
«Хоть ты к психологу иди, – мрачно подумал он, разбирая ящик с инструментами. – Или в моем случае уже надо к психиатру?»
Впрочем, плохое настроение ушло без следа так же быстро, как и появилось. Пока Ксюша колдовала на кухне, из которой расходились воистину упоительные ароматы, Дорошин быстро сделал по дому всю запланированную на сегодня работу, расчистил дорожки от снега и докрасна натопил баню.
Обед оказался действительно вкусным. Продукты для него Ксения привезла с собой, и их выбор был для Дорошина необычен. Свежая руккола, помидоры черри, тигровые креветки, перепелиные яйца… Типичный набор богатой семьи, привыкшей тратить деньги, не оглядываясь на сумму в чеке. Полковник Дорошин такого позволить себе не мог. Вспыхнувшее опять раздражение исчезло, впрочем, быстро, потому что кулинаркой Ксюша оказалась отменной.
– В следующий раз продукты покупаю и обед готовлю я, – предупредил ее Дорошин, решив, что инцидент на этом исчерпан.
Потом они парились в бане. Вернее, парился один Дорошин, до изнеможения насидевшийся в парилке и нахлеставшийся веником, несколько раз падавший в сугроб в форме белой медведицы и чувствовавший себя так, словно заново родился.
Ксюша, которая, оказывается, не любила баню, ждала его в комнате отдыха, рядом с большим самоваром, растопленным, как полагается, настоящими углями. От жары, как она объяснила, ей быстро становилось плохо.
– Баня – это не мое, – горестно призналась она, и Дорошин подивился ее самоотверженности, с которой она почти три часа вытерпела его заходы в парилку и прыжки в сугроб. Чай из самовара пил тоже только он, потому что Ксюша говорила, что он пахнет дымом и страдальчески морщила нос.
Ему было немного смешно от того, что эта женщина так явно не любила все то, что любил он, – баню, чай из самовара, собак, простую, не вычурную еду, типа печенной в русской печи картошки, простой, незамудренный секс, детективы, которые были найдены Ксюшей на полочке у кровати и подвергнуты остракизму.
– Классику нужно читать, классику, – наставительно сказала она, и Дорошину пришлось признаться, что, несмотря на все старания дядюшки-филолога, классики он не любил и не понимал. Что с мента возьмешь?!
Все-таки они были очень разными – Дорошин и его новая любовница. Но в этом различии таилось что-то притягательное и трогательное, что ли.
– Теперь ты мне что-нибудь расскажи, – требовательно сказала Ксюша, когда Дорошин вернулся после последнего захода в парилку и теперь, отдуваясь, пил очередную кружку иван-чая с брусникой. – Как идет твое расследование?
– Медленно, – признался Дорошин. – Ты знаешь, кражи ценностей и антиквариата всегда расследуются медленно. Или их удается раскрыть по горячим следам, или это может тянуться годы.
– А здесь не получится по горячим следам? – с интересом спросила Ксюша.
– Не-а, не получится. Картины могли начать выносить года два, а то и три назад. За это время их могли продать, перепродать, и так несколько раз. Так что понять, что именно произошло в вашей галерее, будет очень сложно. Я думаю, что рано или поздно вычислю преступника, но вот проследить путь картин будет гораздо сложнее, а вернуть их и подавно.
– Но что-нибудь тебе уже удалось выяснить?
– Только то, что в действиях преступника отсутствовала логика. Ты же знаешь, что именно пропало из музея? – Ксюша кивнула.
– Тогда ты должна понимать, что шесть из восьми картин стоят баснословно дорого, зато Куинджи раз в сто дешевле. Я не понимаю, зачем его прихватили вместе с остальными работами. В галерее были и другие, более ценные произведения искусства, однако их не тронули. Почему?
– И почему? – Глаза Ксюши горели любопытством.
– Не знаю. Может, преступник сам увлечен творчеством Куинджи? Поэтому шесть картин он вынес по заказу, на продажу, а Куинджи решил оставить себе.
– Для чего?
– Не знаю, – вздохнул Дорошин. – К примеру, этот ваш нервничающий Калюжный, кстати, хотелось бы понять, от чего он так нервничает, писал по Куинджи диссертацию… Вдруг художник стал ему как родной, и он выкрал его для домашнего, так сказать, просмотра.
– Андрюшка? Выкрал? Да ты что? Он же трепетный, как девица. – Ксюша расхохоталась. – Хотя ты знаешь, ни в ком нельзя быть уверенным. Слушай. – Голосок ее поднялся вдруг до небывалых высот и тут же упал, как оборвался. Ксюша прижала руку ко рту и судорожно вздохнула.
– Что? Ты вспомнила что-то?
– Да, но это такая глупость, этого просто не может быть.
– Ксения. – Голос Дорошина зазвучал строго, он взял Ксению за руку и притянул к себе. – Если ты что-то знаешь, то расскажи. В таком деле лучше сказать глупость, чем пропустить что-то важное.
– Понимаешь, Витя… Елена Николаевна…
– Что Елена Николаевна? Ксюша, ну говори, не тяни же…
– Ее фамилия Золотарева.
– Ну и что? – не понял Дорошин.
– Да как же ты не понимаешь… Куинджи при рождении носил фамилию Куюмджи, что в переводе с урумского означает «золотых дел мастер». Детей им с женой бог не дал, но у художника был брат, который перевел фамилию на русский язык и стал… Золотаревым…
– Ты хочешь сказать… – Ксюша не дала ему договорить.
– А вдруг наша грымза Елена Николаевна – потомок Золотаревых, а? И тогда получается, что картины могли ей понадобиться, потому что это ее фамильное наследие… По крайней мере, она искренне может так думать!
* * *
От информации, предоставленной Ксюшей, у Дорошина голова шла кругом. Подозреваемые множились как грибы после дождя, и впервые в жизни Дорошин грибному сезону был не рад. То есть ни капельки. Еще в самый первый момент, когда он выяснил, что вынести картины из музея в принципе мог любой его сотрудник, поскольку все имели равный доступ в хранилище, он убедился, что алиби ни у кого не было. Теперь же, как сговорившись, практически все сотрудники картинной галереи вели себя подозрительно.
Директор Морозова, отдав работе большую часть своей сознательной жизни, отчего-то не расстраивалась, что ее, скорее всего, уволят. Несмотря на то что до пенсии ей было еще года четыре и перспективы устроиться на новое место стремились к нулю, она не горевала, не рвала на себе волосы и даже не цеплялась за возможность остаться в галерее, пусть и на должности значительно ниже рангом. Получалось, что у нее были какие-то неведомые Дорошину источники дохода, на которые она сможет жить?
Елена Золотарева, оказывается, носила ту же фамилию, что и родственники художника Куинджи, картины которого так вызывающе не вписывались в остальной перечень пропавших ценностей. Андрей Калюжный отчего-то сильно нервничал и вел странные телефонные разговоры. Что он имел в виду, когда говорил, что от какой-то сделки зависит его будущая жизнь? Продажу похищенного? Алена Богданова заявилась на работу в новых мехах, которых у нее отродясь не было и быть не могло. Откуда деньги, хотелось бы понимать.
Кто из них организовал хорошо спланированную кражу бесценных полотен? А вдруг вообще существует сговор, в котором участвуют если не все, то многие сотрудники галереи? С чего вообще он, Дорошин, взял, что кто-то действовал в одиночку? И не стал ли убитый Борис Петрович Грамазин случайным свидетелем существующего заговора, чем и решил свою судьбу? Все эти вопросы пока не имели ответа, но по опыту Дорошин был уверен, что рано или поздно ответы обязательно появятся.
Пока же он решил поговорить с человеком, который вызывал у него самые большие подозрения. И этим человеком была любимица Марии Викентьевны Елена Золотарева. Дорошин долго думал, приглашать ли ее к себе в кабинет или попробовать вызвать на откровенность в родных для нее стенах галереи. С одной стороны, формальная беседа могла все испортить, с другой, он уже дважды пытался разговаривать с Золотаревой в галерее, и оба раза это ни к чему не приводило. Елена Николаевна умела хранить свои тайны, если, конечно, они у нее были.
Кроме того, Золотарева сидела в одном кабинете со Склонской, предвзятость которой мешала Дорошину. Нет, все-таки лучше вызвать Елену Николаевну повесткой в отдел и посмотреть, что из этого получится. Бюро пропусков на входе, железная вертушка, как будто разделяющая жизнь входящего в областное Управление внутренних дел на «до» и «после», полицейский в форме, дежурная часть за стеклом, обезьянник за металлической решеткой… Все это, вместе взятое, обычно производило должное впечатление на опрашиваемых, и Золотарева не должна была стать исключением. Не каменная же она. Впрочем, проверить это Дорошину так и не удалось.
В воскресенье, занимаясь электропроводкой теперь уже на втором этаже дома и с удовлетворением отмечая, что этот этап работ скоро будет закончен, он с удивлением услышал звонок в дверь. Погруженный в мысли о краже картин, он не сразу понял, что к нему кто-то пожаловал. Это было странно, поскольку Дорошин совершенно точно никого не ждал. Ксюша провела с ним вчерашний день и сегодня находилась со своей семьей, сын своими визитами Дорошина баловал нечасто, являясь в основном за деньгами, и последний транш ему был выдан не далее как в четверг.
Отложив молоток и выплюнув гвозди, которые он держал в зубах, Дорошин спустился на первый этаж к домофону и в немом изумлении уставился на экран, который отражал нетерпеливо переминающихся за калиткой Марию Викентьевну Склонскую и Елену Николаевну Золотареву.
Виктор моргнул, прогоняя морок, но тот не развеялся, а остался на экране в виде двух женских фигур. Одна из них, Золотарева, что-то торопливо говорила, видимо предлагая уйти. Вторая, Склонская, решительно надавила на пипочку звонка второй раз. Трель разлилась по коридору, Дорошин замотал головой, избавляясь от трезвона в ушах и нажал на кнопку, отпирающую замок калитки. На черно-белом экране калитка захлопнулась с мягким чпоканьем, дамы прошли по дорожке, ведущей к крыльцу, и пропали из виду. Практически сразу же раздался стук во входную дверь. Соляной столп Виктор Дорошин отмер и метнулся открывать, впуская непрошеных гостий в дом.
– Витенька, мальчик мой, – Мария Викентьевна, в отличие от своей молодой коллеги, не выглядела смущенной ни капли, – вы уж извините, что я позволила себе прийти к вам так по-свойски, без предупреждения, да еще и Леночку с собой привела. Просто нам нужно было обязательно с вами повидаться, и желательно не в галерее, чтобы поговорить с глазу на глаз.
Дорошин заверил, что не видит в их внеплановом визите ничего страшного и протянул Склонской красные тапочки. Она чуть погрустнела, увидев их, но тряхнула головой, видимо прогоняя воспоминания, переобулась, пристроила на вешалку у двери свою каракулевую шубу и прошла внутрь, недоуменно оглянувшись на свою спутницу. Чего, мол, копаешься?
Золотарева действительно так и стояла у самого входа, словно не решаясь сделать ни шагу. Бледная, дрожащая, она даже не расстегнула свой бесформенный пуховик, лишь размотала шарф на голове, явив миру тугой узел бесцветных волос. Дорошин заметил, что очки у нее запотели в тепле, но она не протирала их, хотя наверняка ничего не видела. Видимо, от смущения.
Ее панический ужас от того, что она находится в его доме, был так очевиден, что Дорошин внезапно разозлился. Он не насиловал престарелых девственниц, не пил кровь младенцев и вообще не делал ничего, способного вызвать столь сильный страх. Елена же боялась. По-настоящему боялась. И ему становилось все интереснее, чем вызваны и ее страх, и ее приход в его дом.
– Проходите, Елена Николаевна, – сухо сказал он, – смею вас заверить, что я не кусаюсь. Мария Викентьевна, хотите чаю?
– Я заварю, Витенька, если вы разрешите мне похозяйничать. У нас с Коленькой была такая традиция. Приходя в этот дом, я всегда заваривала чай, и мы пили его с ватрушками, которые я приносила с собой. Я и сегодня их принесла.
Она полезла в холщовую сумку, которую держала в руках и стала доставать завернутые в вафельное полотенце плюшки с творогом и брусникой. Упоительный аромат заструился по кухне, рот Дорошина непроизвольно наполнился слюной. Он вдруг подумал, что Склонская специально придумала повод для этого визита, чтобы снова вернуться в то общее с его дядей прошлое, которое теперь было невозможно. Оттого и Леночка эта так трясется и переживает, потому что причина их визита надуманна, и он, Дорошин, еще чего доброго, может подумать, что она пришла оттого, что к нему неравнодушна.
От пришедших в голову форменных глупостей он фыркнул, как конь на водопое, заверил Склонскую, что она может хозяйничать и чаевничать, сколько ее душе угодно, фактически выдрал из рук Золотаревой снятый все-таки пуховик, в который она вцепилась мертвой хваткой, сообщил, что надетые на ней угги можно не снимать, потому что вторых женских тапочек у него все равно нет, и махнул рукой в сторону кухни. Мол, проходите уже, не стесняйтесь.
– Мария Викентьевна, пока вы чай завариваете, я поднимусь на второй этаж, мне нужно кое-что там закончить, – сказал он, скорее для того, чтобы дать несчастной Леночке время освоиться. – Минут через десять я буду полностью в вашем распоряжении. Это здорово, что вы решили ко мне заглянуть. Я все равно собирался с вами поговорить. С обеими.
Ему показалось, или Елена Золотарева вздрогнула и побледнела еще больше, хотя это вряд ли было возможным. Он провел на втором этаже не десять, а пятнадцать минут, залихватски стуча молотком и раздумывая над тем, что, собственно говоря, нужно от него дамам внизу. Так ни до чего и не додумавшись, но решив, что дамы уже вполне освоились без него, он сбежал вниз, не без удовольствия отметив и со вкусом накрытый стол, и порозовевшие щеки Золотаревой. Чай исходил ароматным паром, плюшки просто просились в рот, и Дорошин внезапно подумал, что удача, пожалуй, может выглядеть по-разному.
– Витенька, вы сказали, что хотели с нами поговорить, – начала Склонская, едва дав ему усесться за стол, – такое совпадение, нам, точнее, Леночке тоже нужно с вами поговорить. Она мучается уже довольно давно, и я, как только узнала об этом, сразу же сказала ей, что носить в себе тяжкий груз неправильно, а потому она должна обязательно с вами встретиться. Вы уж извините, Витенька, но я решила, что не надо ждать понедельника. Просто здесь, в этом доме, даже стены помогают. Здесь воздух другой, атмосфера особенная, здесь нам будет легче понять друг друга.
– Я не против, более того, я даже рад вашему визиту, – сказал Дорошин. – Елена Николаевна, я не смогу вам обещать, что сохраню в тайне то, что вы мне скажете, но выслушаю вас внимательно и беспристрастно.
– Спасибо, – сказала она, впрочем, уже довольно спокойно. То ли освоилась в незнакомом месте, то ли решила, что, снявши голову, по волосам не плачут.
– Итак, если я правильно понял, то Мария Викентьевна пришла с вами просто за компанию, так что если вы хотите, то мы можем оставить ее здесь, а сами перейти в другую комнату, чтобы поговорить наедине.
– У меня нет тайн от Марии Викентьевны, – решительно сказала Золотарева.
– Вы в этом уверены? Вы, конечно, знаете, что хотите рассказать мне, но вы не в курсе, что я собираюсь спросить у вас. Так что время передумать еще есть. Я думаю, что Мария Викентьевна не обидится.
– Боже мой, у меня нет ничего, что требовалось бы скрывать. – В ее голосе зазвучал металл, и Дорошин понял, что эта женщина вовсе не слабохарактерная. – Я была не в восторге от идеи тащиться к вам домой, Мария Викентьевна меня уговорила, поэтому мы будем разговаривать при ней. Как раз на этом я настаиваю.
– Хорошо. – Дорошин пожал плечами и налил себе еще одну чашку чаю. – Тогда давайте начнем. Я думаю, что знаю, отчего вы решили со мной поговорить, Елена Николаевна. Вы решили признаться, что вы – потомок тех самых Золотаревых, которые были родственниками Архипа Куинджи?
Такое изумление не могло быть наигранным. Елена именно изумилась, а не испугалась, в этом Дорошин был убежден.
– Что? Какое отношение к происходящему может иметь мое происхождение? – спросила она. – И почему мне нужно в этом признаваться? Что, факт родства бросает тень на мою репутацию?
– Погоди, Лена, – остановила молодую женщину Склонская. – Кажется, я понимаю, что Виктор имеет в виду. Он считает, что раз не ты первая рассказала ему про родню своего деда, то это автоматически делает тебя подозреваемой в краже работ Архипа Ивановича.
– Что? – Елена переводила недоумевающий взгляд со Склонской на Дорошина и обратно. – Погодите, я ничего не понимаю. Вы считаете, что это я обокрала галерею?
У нее вдруг стало лицо как у обиженного ребенка, и если изначально она была смертельно бледна, то теперь раскраснелась, заалела маковым цветом, схватилась обеими руками за горящие щеки.
– Полная чушь, – сообщила Дорошину Склонская, почему-то басом. Сейчас она напоминала ему знаменитую в прошлом актрису Фаину Раневскую, должно быть оттого, что стояла руки в боки. – Витенька, мальчик мой, вас прощает только то, что вы совершенно не знаете Леночку и ее семью. Это люди удивительной порядочности, поэтому, что бы ни происходило в галерее, они не могут иметь к этому ни малейшего отношения. Леночкин дед – Федор Иванович – действительно один из праправнуков брата Архипа Куинджи. Но, во-первых, они этого никогда не скрывали, а во-вторых, к краже картин это не имеет никакого отношения.
Ее убежденность не произвела на Дорошина особого впечатления. С самого начала он знал, что Склонская настолько хорошо относится к Золотаревой, что будет оправдывать, даже застав на месте преступления над неостывшим еще трупом. Тем не менее он, сам не зная зачем, рассказал внимательно слушающим его женщинам логическую цепочку своих рассуждений, основанную на разнице в стоимости украденных картин.
– Я тоже подумала, что подбор странный, – сказала Склонская. – И с Леночкой мы это обсуждали. Это бросается в глаза каждому, кто занимается искусствоведением. – В этом месте покраснел уже Дорошин, который не заметил никаких странностей до тех пор, пока ему на них не указал Эдик Киреев. – Но из этой странности вовсе не вытекает, что кражи организовала Леночка, чтобы не только хорошенько заработать, но еще и прихватить в семью работы кисти своего знаменитого прапрапра… Ой не сосчитать, сколько «пра», все равно собьюсь.
– Версия логичная. – Елена уже достаточно овладела собой, чтобы вступить в разговор. – На вашем месте, Виктор Сергеевич, я бы тоже обязательно на себя подумала. У меня есть лишь одно преимущество перед вами. В отличие от вас я точно знаю, что ничего подобного не делала. Да, мой дед – потомок одной из ветвей семьи Куинджи. В нашей семье было принято этим гордиться, хотя особо мы свое дальнее родство никогда не афишировали. Смешно же бахвалиться тем, что ты седьмая вода на киселе. Но картин я не крала. Ни Куинджи, ни всех остальных. Я понимаю, что вы вправе не верить мне на слово и продолжать расследование, но это меня совсем не тревожит. Вы не сможете обвинить меня в том, чего я не совершала.
Полковник Дорошин умел слышать то, что ему говорили. Иначе он бы не был хорошим сыщиком.
– А в чем я могу вас обвинить, Елена Николаевна? – спросил он, испытующе глядя на Золотареву. – Вы пришли ко мне, чтобы в чем-то признаться. В чем именно?
– В том, что я вас обманула, – тихо сказала женщина и опустила глаза.
– Это я уже понял. В чем вы меня обманули?
– Я сказала вам, что мне ничего не известно о том, увлекался ли Борис Петрович коллекционированием. Я солгала. Так получилось, что я знала об этом. И совершенно случайно я также знала о том, что именно он коллекционирует. Я должна была вам про это сказать, потому что, скорее всего, Бориса Петровича убили именно из-за его… увлечения.
– Что же такое он собирал, чтобы это могло стать причиной убийства? – с живейшим интересом спросил Дорошин.
– Он собирал чужие тайны.
* * *
Борису Грамазину нравилось узнавать о людях то, что они предпочитали скрывать. Впервые жгучая радость от обладания чужой тайной накрыла его в девятом классе, когда Борька по заданию учительницы отправился домой к однокласснику Петьке Вохмину, который отчего-то второй день подряд не пришел в школу.
Домашнего телефона у Петьки не было, на работе его мамы учительнице сообщили, что Марья Тимофеевна в отпуске, и Грамазин, который учился хорошо и мог пропустить урок без последствий для успеваемости, был отпущен с урока литературы, чтобы добежать до Петькиного дома и узнать, не заболел ли он.
На первый звонок никто не открыл, и Борис жал на кнопку снова и снова, понимая, что дома должны быть оба – и заболевший Петька, и его отпускница-мама. Ему не отворяли, и Грамазин решил, что случилось что-то действительно серьезное. Он как раз обдумывал, стоит ли звонить в другие квартиры, чтобы спросить про Вохминых у соседей, как дверь все-таки открылась, и на пороге появилась взволнованная, растрепанная и раскрасневшаяся Петькина мама, судорожно запахивающая расходящиеся на пышной груди полы легкого халатика. Судя по всему, под халатиком ничего не было, и юный Борис, тратящий довольно много времени на грезы о том, как выглядит раздетое женское тело, невольно покраснел.
Мария Тимофеевна о том, что сын не ходит в школу, ничего не знала. По ее словам, Петька был абсолютно здоров и, как вчера, так и сегодня утром, исправно отправлялся на уроки, надев форму и прихватив портфель.
– Прогуливать начал, вот чертенок, – в сердцах сказал мать, – вот дождется, что все отцу расскажу, когда домой приедет. А тебе спасибо, Боренька. И что за Петеньку волнуешься, и что мне все рассказал.
В том, что он совершил благое дело, Борис как раз сомневался. По всему получалось, что заложил он приятеля по полной программе. Он знал, что Вохмин-старший работает вахтовым методом где-то на севере, дома появляется раз в три месяца, и лупцует Петьку нещадно, латая прорехи в материнском воспитании.
Как бы то ни было, больше в Петькином доме ему было делать совершенно нечего, и, кляня учительницу, по вине которой Борис Грамазин оказался стукачом, а также обдумывая, что ей сказать, чтобы не подставить Петьку еще больше, он начал спускаться по лестнице.
К тому моменту, когда он оказался на первом этаже, в голове все настойчивее свербила новая мысль – почему в полдень Мария Тимофеевна была полураздета и чем она была так смущена и взволнована. Ответ напрашивался сам собой, и Борис, вместо того чтобы выйти из подъезда, поднялся на один пролет выше квартиры Вохминых, уселся на подоконник и приготовился ждать.
Впрочем, ожидание не показалось ему долгим. Минут через десять дверь тихонько открылась. Грамазин слез с подоконника, перегнулся через перила, так, чтобы его не заметили внизу, и увидел хорошо знакомого ему дядю Мишу Долгоземова, парторга завода, на котором работала мать Вохмина и его, Борькины, родители. Послышался чмокающий звук поцелуя, неясное бормотание, в котором Грамазин расслышал слова прощания, дверь захлопнулась, и Долгоземов начал быстро и уверенно спускаться по лестнице.
Дождавшись, когда хлопнет подъездная дверь, Борис тоже пошел прочь. Этажом ниже он случайно бросил взгляд в окно и увидел Петьку Вохмина, который вышел из расположенного во дворе дровяного сарая. Так в один день Грамазин стал обладателем сразу двух чужих тайн. Мама Петьки Вохмина изменяла его отцу с парторгом трубопрокатного завода, а сам Петька прогуливал школу, чтобы выследить свою мать.
Приобретенное знание билось внутри, настойчиво требуя найти себе применение. Что делать? Рассказать о чужом секрете всем? Немного подумав, Грамазин решил этого не делать. Публично раскрытая тайна прекращала быть таковой, теряла ценность, лишала Бориса радости обладания. Но и в сохранении тайны не было ничего интересного. Ну знает Борис о том, что Петька в курсе материнских похождений, и что ему с того?
Вернувшись на облюбованный подоконник между третьим и четвертым этажом, Борис Грамазин начал напряженно думать. Спустя десять минут решение, пришедшее ему в голову, казалось простым и очевидным. Начал он с того, что снова позвонил в дверь Петькиной матери. Она открыла ему, полностью одетая, с забранными в пучок волосами, такая же, как он привык ее видеть.
Четко, как отличник Грамазин привык отвечать у доски, он сообщил Марии Тимофеевне, что догадался о ее романе с Долгоземовым, но клянется никому про это не говорить, при условии, что та, в свою очередь, никому не скажет о Петькиных прогулах.
– Я сейчас его найду, – твердо сказал Борис, глядя в смятенные глаза Вохминой, – и уговорю, чтобы завтра он пришел в школу. Учительнице мы скажем, что Петька плохо себя чувствовал. Не нужно, чтобы ему попало, договорились?
– Договорились, – заикаясь пробормотала Вохмина. – Боренька, а ты точно никому не скажешь про меня и Мишу, это ж позора не оберешься? Да и муж у меня!
– Точно никому не скажу. О том, что я в курсе, будем знать только мы двое – вы и я.
– А что ты за это хочешь?
– Ничего. – Борис удивился. Ему даже в голову не приходило, что за свое молчание он может требовать какое-то вознаграждение. Обладание тайной было для него достаточной платой за то, чтобы держать язык за зубами. И еще понимание, что отныне Мария Тимофеевна будет знать, что он знает. И при каждой встрече с Борисом Грамазиным вспоминать о том, что он – хранитель ее тайны.
Сбежав по лестнице, Борис выскочил во двор и отправился на поиски Петьки. У того была своя тайна, и ее тоже нужно было поделить на двоих. Конечно, сначала Петька рассвирепел, узнав, что Борька в курсе материнского позора, но Грамазин быстро и доходчиво растолковал приятелю все плюсы своего предложения. О том, что у матери есть любовник, никто не узнает. О том, что Петька за ней следит, никто не узнает. О том, что он прогуливает школу, не станет известно ни учительнице, ни отцу. Два человека, которые останутся в курсе произошедшего, – это Борис и сам Петька. Все.
– А тебе зачем это нужно? – с подозрением спросил Вохмин, поняв наконец, о чем толкует ему Грамазин.
– Да ни за чем. – Борька пожал плечами. – Так получилось, что я об этом знаю. Растрепать обо всем? Так я ж ничего не приобрету, только и тебе, и твоей матери жизнь испорчу. А так все остаются при своих. И ты при этом понимаешь, что я умею держать язык за зубами.
– А зачем тебе, чтобы я это понимал? – упорствовал Петька.
– Чудак-человек. – Борька снисходительно посмотрел на приятеля, как будто внезапно стал старше его. – Главное для каждого человека – репутация. У меня будет репутация человека, который умеет хранить секреты.
Понял?
По глазам Вохмина было видно, что тот не понял, но уточнять ничего не стал. Особыми друзьями они не стали, потому что знание Грамазиным их семейной тайны у Вохмина особого восторга не вызывало, и Борьку он по понятной причине терпеть не мог.
Грамазину Петькина дружба была и ни к чему. Как он и подозревал, при каждой встрече с ним Петькина мать опускала глаза. Поначалу в ее взоре сквозил легкий страх, что мальчишка проболтается, потом осталась лишь искра воспоминания и связанной с этим легкой неприязни. Борис же при каждой подобной встрече испытывал жгучий восторг обладания тайным знанием, и восторг этот был так силен, что он дал себе честное слово обязательно узнать еще чей-нибудь секрет, чтобы удвоить позитивные эмоции.
Тогда же, в девятом классе, он завел тощую папку с надписью «Дело», в которую вложил листочек с точным описанием того, что произошло в тот день. В верхнем углу листочка он поставил жирные цифры один и два, а в отдельной тетрадке, озаглавленной «Каталог», под цифрой один написал «Мария Вохмина», а под цифрой два «Петр Вохмин». Так в его коллекции чужих тайн появились первые два экземпляра.
Довольно долго они оставались единственными, поскольку в сыщика Борис Грамазин не играл, никаких усилий по поиску чужих секретов не предпринимал, жил, как живется, заканчивал школу, сдавал экзамены и поступал в Московский институт культуры, поскольку всерьез увлекался искусством и со школьной скамьи мечтал стать искусствоведом.
Тощую папку с болтающимися в ней листочком в клеточку и тетрадкой-каталогом он увез с собой в столицу только для того, чтобы их случайно не нашла мать. Оставлять дома побоялся, чтобы чужие секреты не стали достоянием гласности, а выкинуть рука не поднялась.
Незадолго до летней сессии третьего курса Борис случайно встретил в автобусе свою одноклассницу Олю Решетову. После школы Оля поступила в Первый московский медицинский институт, это Борис помнил, но с Ольгой не встречался ни разу, поскольку на встречи выпускников не ездил. Зимой, когда он приезжал на школьные каникулы, мама обмолвилась, что Ольгина мать завербовалась на работу на Север, удивился, поскольку работала та учительницей начальных классов и, по разумению Грамазина, на севере никак пригодиться не могла, но вникать не стал. И вот теперь встретил Ольгу, которая оказалась на девятом месяце беременности. Ее огромный живот как будто существовал отдельно от тоненького хрупкого тельца.
– Ого, ты замуж вышла? – удивился Борис. – Поздравляю со скорым прибавлением семейства.
Ольга покраснела так, что даже кожа под волосами на голове у нее стала малиновая. В уголках ее глаз неожиданно вскипели слезы.
– Борька, могу я тебя попросить, – пробормотала она и вцепилась Борису в рукав. – Мне очень важно, чтобы никто не знал, что я жду ребенка.
– Как это? – удивился Борис, чувствуя, как в предвкушении скорой тайны у него похолодел позвоночник. – Ты же в институте учишься, там же знают.
– В институте ладно, это неважно, – непонятно объяснила Ольга. – Мне главное, чтобы дома никто не знал. Ни одноклассники, ни соседи, ни знакомые. Вообще никто-никто в нашем городе. Дело в том, что никакого мужа у меня нет, понимаешь?
– Ты от родителей, что ли, скрываешь, что беременная? – догадался Грамазин. – А ребенка куда денешь, когда родишь? В роддоме оставишь? В детдом сдашь?
– Не твое дело. – Оля говорила тихо, чтобы не слышали остальные пассажиры, но жарко и напористо. – Мне нужно, чтобы ты никому не сказал. Понятно?
– Да ради бога. Я никому не скажу, – с готовностью пообещал Борис. – Можешь не сомневаться. У меня принцип такой: я никогда не выдаю чужие секреты. Кроме тебя и меня об этом никто не узнает.
Он несколько дней собирался описать встречу в автобусе и вложить еще один листок в свою папку с экспонатами коллекции, но закрутился со сдачей экзаменов и забыл. В августе Борис приехал на каникулы, и мать, делясь новостями, поведала ему о том, что мама Оли Решетовой вернулась с севера в их город после полугодового отсутствия, да не одна, а с ребенком, которого, оказывается, успела там родить.
– Вот ведь ненормальная, беременная на Север уехала, – щедро делилась эмоциями мать. – Мы-то с соседками решили, что муж ее второго ребенка не хотел. Видное ли дело, старшей девке двадцать лет, а тут малыш народится. Вот она и уехала от греха, чтобы аборт не делать. Родила и вернулась. А он же тоже человек, понятное дело, не выгонит из дому с дитем. Вот, придется теперь воспитывать на старости лет.
Контакты в голове Бориса щелкнули, вспыхнула искра, отчетливо запахло серой, и, когда развеялся дым, он увидел целостную картину произошедшего в семье Решетовых. Ольга забеременела без мужа, и родители на семейном совете решили скрыть позор дочери, не портить ей жизнь и записать ее ребенка на себя. Чтобы сохранить тайну, мать Ольги уехала из города. Ни на какой север она, естественно, не отправилась, а жила у дочери, которой родители снимали квартиру в столице. Отец Ольги, большой начальник в военторге, мог себе позволить такие расходы. Когда Ольга родила, она отказалась от ребенка, которого тут же усыновила ее мать. Скорее всего, без взятки тут не обошлось, зато вся операция прошла без сучка и задоринки.
В папке «Дело» наконец-то появился новый учетный листок, описывающий решетовскую ситуацию, а в тетрадке-каталоге запись под цифрой «три» – Ольга Решетова.
– Елена Николаевна, – изумленно спросил Дорошин у Золотаревой, которую до этого слушал очень внимательно, не перебивая. – А откуда вы все это знаете, да еще в таких подробностях?
– Да уж, Леночка, мне бы тоже хотелось это знать, – призналась Склонская, которая за время рассказа не проронила ни звука. Только брови ее, прекрасные соболиные брови, аккуратно прокрашенные, чтобы скрыть седину, поднимались все выше и выше, под конец напоминая улетавшую высоко в небо галку. – Сколько лет я проработала рядом с Борькой, но, признаться, даже не догадывалась о его пристрастии к чужим тайнам. Нет, я, конечно, отмечала, что мужик он любопытный и рассказы про других людей слушает очень внимательно, но такого даже предположить не могла. Со мной он никогда не делился, а тебе, получается, рассказал?
– Да это случайно вышло, – дрожащим от переживаемого волнения голосом начала объяснять Золотарева. – Помните, Мария Викентьевна, весной Борис Петрович заболел, давление у него поднялось, и я поехала к нему домой, чтобы приготовить еду и уборку сделать. Я солгала вам, Виктор, когда сказала, что никогда не была у него дома. Была именно тогда, один раз, и он стал говорить мне, что владеет моей тайной, но никому про это не расскажет.
– Какой тайной? – встрял Дорошин.
– Да никакой. Он почему-то решил, что если я никому не рассказываю, что мой дед – потомок Куинджи, то это означает, что мы скрываем факт родства. Он начал твердить, что будет нем как могила, чтобы я не волновалась, а я ответила, что в общем-то и не волнуюсь, и, хотя в нашей семье не принято распространяться о семейной истории, мы ничего не скрываем. Наоборот, гордимся. Только внутри себя. Не напоказ. И тут я увидела, что Борис Петрович расстроился. Очень расстроился. У него даже снова давление поднялось, мне пришлось ему укол делать. Я не поняла причины его расстройства, и тогда он и рассказал мне про коллекцию. Сказал, что много лет его хобби было совершенно тайным, потому что публичность сводила на нет всю ценность бережно хранимой им информации, но, как и любого коллекционера, его сжигала потребность хоть с кем-то поделиться своими сокровищами.
– И он выбрал в наперсницы вас? – с легкой иронией спросил Дорошин.
– Да, хотя я вовсе к этому не стремилась. Поймите, человек так устроен, что он обязательно должен хотя бы однажды доверить кому-то свой секрет. Ну, если, конечно, он не готовит себя в резиденты разведки. Да и те периодически пробалтываются. Если я хоть что-то понимаю в психологии, Борис Петрович испытывал самое большое удовольствие, рассказывая о своем знании людям, в чью тайну он проник. В моем же случае он настроился такое удовольствие получить, но я ему обломала весь кайф, потому что выяснилось, что ничего не скрываю. Скорее всего, именно это и послужило катализатором, заставившим его открыться мне в своем пристрастии. Нет, Борис Петрович не рассказал мне ничего, кроме того, что вы сейчас услышали. Он сразу сказал, что в качестве примера может привести лишь дела давно минувших дней. Те тайны, которые сегодня никому не интересны, а про свои свежие находки не скажет ни слова. И папку свою он мне показал лишь издали, и каталог тоже. Посмотреть их он не предлагал, да я и не хотела. Мне, в отличие от Бориса Петровича, чужие тайны неинтересны. Я потом ночью даже плохо спала, когда думала, что у него там в тетрадке.
– Поэтому в прошлом разговоре со мной вы назвали его мерзавцем, – задумчиво сказал Дорошин. – Елена Николаевна, а у вас не сложилось впечатления, что Грамазин пользовался той информацией, которая попадала ему в руки? К примеру, для того, чтобы поправить свое материальное положение.
– Нет, он не был шантажистом, – грустно сказала Золотарева. – Он мне несколько раз подчеркнул, что для него был важен сам факт обладания знанием о чужом секрете. Он никогда никого не шантажировал, хотя обязательно говорил попавшему в его коллекцию человеку о том, что знает его тайну. Ему нравилось то чувство, которое он после этого испытывал, случайно встречаясь с этим человеком. К примеру, много лет встречая на улице семью Решетовых, он подмигивал им, напоминая о своей причастности к их судьбе. Он же тогда, много лет назад, рассказал матери Ольги, что встретил ее, беременную, в Москве и знает правду о том, чьего ребенка воспитывает семья. Конечно, людям после такого было неприятно его видеть, но он никогда не выдавал их тайны и никогда ничего за это не просил.
– Ой, не верится мне что-то, – прищурившись, сообщил своим гостьям Дорошин. – Если предположить, что Грамазин все-таки шантажировал своих потенциальных жертв, что хотя бы один раз он отступил от своих принципов, если, конечно, они у него вообще имелись, то Елена Николаевна права, это прекрасный мотив для убийства.
– Чужие тайны – вообще прекрасный мотив для убийства, – мрачно сказала Склонская. – Вот только я тоже считаю, что Борька никогда никого не шантажировал. Видите ли, Витенька, много лет назад я, видимо, тоже попала в его коллекцию. Но меня он не шантажировал и даже не пытался.
– Что вы имеете в виду?
– Он знал о моем романе с Коленькой. Мы, конечно, пытались быть осторожными, но как-то я торопилась сюда, в Коленькин дом, он вышел меня встречать, и мы случайно встретились с Грамазиным, который выгуливал собаку. Тогда, давно, у него была собака. В общем, по моему смущению он все понял и потом специально выследил нас, чтобы убедиться, что его подозрения небеспочвенны. И потом на работе сказал мне, что знает о том, что я изменяю мужу, но я могу быть совершенно спокойна, мол, он никогда никому про это не расскажет.
– И вы ему поверили?
– Я рассмеялась, пыталась убедить его в том, что он придумал, будто у нас роман, но он показал мне фотографию, которую сделал через окно этой самой кухни. На этой фотографии мы с Коленькой целовались. Я помню, как Борис усмехнулся, что я напрасно пытаюсь ввести его в заблуждение, тем более что мне ровным счетом ничего не угрожает. «У меня репутация человека, который умеет хранить секреты», – сказал он тогда и больше никогда со мной об этом не разговаривал, хотя и забывать о том, что он в курсе, не давал.
– То есть?
– Мой муж, пока не слег совсем, иногда приходил ко мне в галерею. Он любил бродить среди картин, его это успокаивало. И каждый раз, когда Борис видел нас вместе, он подходил к Ивану поздороваться, а сам при этом смотрел на меня и подмигивал. Именно так, как рассказала сейчас Леночка.
– Что ж, может быть, вы и правы. Грамазин, скорее всего, стал свидетелем чьего-то постыдного секрета. По своей привычке он рассказал этому человеку о том, что знает что-то, не красящее его. И тот, не веря в то, что Борис Петрович будет хранить молчание, убил его. Кстати, я прекрасно помню протокол осмотра квартиры убитого. Никакой папки и каталога чужих грехов там не нашли. А это значит, что преступник, убивший Грамазина, забрал имеющийся у того компромат. Хотя можно ли считать рукописные записи таким уж серьезным компроматом…
– В своей коллекции от простого описания тайны, которую он случайно узнал, Борис Петрович продвинулся довольно далеко, – сухо сказала Леночка. – Он говорил мне, что с годами стал собирать вещественные доказательства имеющихся у других людей секретов. В случае с Марией Викентьевной это была фотография. Еще он искал документы, которые подтверждали наличие тайны. К примеру, в нашем с дедом случае он почти три месяца провел в архивах. Оттого и расстроился, что все эти усилия оказались напрасны. Я знаю, что он владел, к примеру, тремя или четырьмя документальными подтверждениями усыновлений детей приемными родителями.
– Вы знаете фамилии? – напряженно спросил Дорошин.
– Нет, он же не мог раскрыть тайну. Он просто говорил, что такие случаи в его коллекции есть. Как и отказы от детей, родившихся с врожденными уродствами. Мол, люди думали, что про их неблаговидный поступок никто не знает, а Грамазин знал и мог доказать.
– А сколько всего, с позволения сказать, экспонатов было в его коллекции?
– Я не знаю. На тот момент, когда мы с ним разговаривали, он сказал, что коллекция перевалила за полсотни. Но это было полгода назад.
– Пожалуй, история с кражей картин тоже могла быть чьей-то тайной, – задумчиво сказал Дорошин. – Грамазин мог узнать о том, что кто-то из сотрудников музея потихоньку выносит ценные полотна, но вместо того чтобы поднять шум, заручился доказательствами, внес вора в свою коллекцию и рассказал ему о том, что в курсе его делишек. Пришпилил как бабочку к доске, думая, что поймал навсегда, а на самом деле вырыл себе могилу.
– Я тоже так решила, – тихо сказала Золотарева. – Именно поэтому я никак не могла найти себе места, что сразу вам обо всем не рассказала. Получилось, что я скрыла информацию, которая важна для следствия и может пролить свет на случившееся. Я призналась Марии Викентьевне, что солгала вам в одном важном вопросе касательно Бориса Петровича, и она, ничего больше не спрашивая, привела меня к вам.
– Вы обе поступили очень правильно. Я восхищен тем, что женщины, оказывается, могут проявлять разум, а не эмоции, – поддел ее Дорошин. – Что ж, Елена Николаевна, завтра я обязательно передам наш разговор следователю, который ведет дело об убийстве. Думаю, что у него возникнут к вам дополнительные вопросы.
– Хорошо, – сказала Золотарева и посмотрела Дорошину прямо в лицо. – Я буду готова на них ответить.
* * *
– Кто шляпку спер, тот и бабку пришил, – мрачно сказал следователь, ведущий дело об убийстве Бориса Грамазина, выслушав рассказ Дорошина о визите Золотаревой. – Помнишь, у Бернарда Шоу в «Пигмалионе» было такое замечательное выражение? Изначально было понятно, что убийство было связано с пропажей картин. Показания твоей Золотаревой это подтверждают. Вот только легче от этого не становится. Практически любой сотрудник галереи мог вынести эти чертовы картины. Любой мог попасть под подозрение Грамазина, и любой же мог его кокнуть. Улик никаких. Топчусь на месте уже вторую неделю, Новый год на носу, а толку ноль. Давай, Витя, может, с твоей стороны лучше получится. Если ты найдешь след этих чертовых картин, то мы через покупателя на продавца выйдем. Глядишь, так и поймем, кто убийца.
– Поиск картин – дело долгое, – так же мрачно ответил Дорошин. – Некоторые полотна годами ищут, и не факт, что находят. Я в Москве знающих людей зарядил, так что если кончик будет, то мы за него обязательно ухватимся. Вот только когда…
Эдик Киреев попросил у Дорошина официальную справку из картинной галереи о том, что такие-то картины числились у них в фондах под такими-то и такими-то инвентарными номерами, и во второй половине вторника Виктор решил доехать до музея, чтобы получить искомую справку, а заодно повидать Ксюшу, по которой он, оказывается, успел соскучиться.
Молодая женщина манила его к себе. Причем тяга эта была необъяснимой, поскольку в основе ее лежала не женская привлекательность, не сексуальность, не какие-то особенные человеческие качества, а что-то иное, чему Дорошин никак не мог дать названия. Пожалуй, Ксюша вызывала в нем интерес. Было в ней что-то такое, что цепляло, заставляло задумчиво смотреть вслед. Мысли о Ксюше возникали в голове внезапно, когда голова, казалось бы, была занята чем-то совершенно другим, важным и неотложным. Но она врывалась в эту неотложность, заполоняя окружающее пространство собой, особым поворотом головы, странным выражением фиалковых глаз, любопытной погруженностью в свой внутренний мир, в котором, казалось, не было места никому другому.
Ксения Стеклова считалась в этой жизни лишь с интересами, пожеланиями и стремлениями самой Ксении Стекловой. Это Дорошин за короткое время общения с ней успел понять абсолютно четко. Красавица Ксюша стараниями воспитавших ее мамы и бабушки выросла чудовищной эгоисткой, но именно это придавало ей какой-то особый шарм, было изюминкой в сладком кексе, и Дорошин, который, вообще-то, ценил в жизни простоту, удобство и прямые линии, неожиданно для себя оказался увлечен распутыванием бесконечных петелек и узелков, из которых складывалась причудливая вязь Ксюшиной личности. Зачем ему это, он и сам не знал.
Толкнув на себя тяжелую входную дверь галереи, Дорошин оставил за спиной влажную стену неожиданной декабрьской оттепели, потоптался, сбивая с ботинок налипшие комья грязного снега, чертыхнулся негромко, увидев на ботинках белые полосы въевшейся соли, не без труда тщательно оттертой утром, и поднял голову, чтобы вежливо поздороваться с гардеробщицей. Та приветливо кивнула в ответ:
– Добрый день, добрый день. Все на своих рабочих местах. Всех найдете, кто вам нужен.
В ее словах ему почудился намек на их с Ксюшей отношения, но Дорошин тут же выругал себя за излишнюю подозрительность. В первом экспозиционном зале Алена Богданова вела экскурсию для школьников. Немного подумав, Дорошин присоединился, чтобы немного понаблюдать за девушкой, внезапно разбогатевшей настолько, чтобы купить себе норковую шубу.
Его присутствие Алену не испугало, она вполне дружелюбно кивнула Дорошину, здороваясь, и продолжила свой рассказ. Пожалуй, внешне она действительно изменилась с того дня, когда Дорошин видел ее в первый раз. Тогда он отметил, что она похожа на серую мышь – дешевые черные джинсы, застиранный вытянутый свитерок, жалкий хвостик волос, растоптанные, явно чиненные ботинки. Сейчас на голове Алены красовалась свежая укладка, на лицо был нанесен неяркий, но тщательный макияж, а брючный костюм своей строгостью и отличной посадкой выдавал происхождение из явно недешевого магазина.
Алена тряхнула головой, в подтверждение каких-то своих слов, и в ушах у нее ослепительно вспыхнули маленькие снопики ярких колких световых брызг – бриллианты. Да, новая шуба явно была не единственным изменением гардероба Богдановой, и это выглядело довольно подозрительно. Хотя, кто ее знает, может, она в одночасье наследство огромное получила… Пожалуй, надо проверить.
Во втором зале, том самом, где Дорошин познакомился с вешающей шторы Ксюшей и где стояли стулья и рояль для проведения музыкальных вечеров, сейчас было пустынно. Шаги Дорошина глухо отдавались эхом от высоких потолков, он шагнул к двери, за которой скрывалась винтовая лестница в хранилище, и вдруг услышал тонкий голосок за спиной:
– А если эти картины продать, на лошадь хватит?
Изумленный Дорошин обернулся и увидел разнорабочего Ильдара Газаева, державшего под руки двух девушек лет семнадцати-восемнадцати, похожих друг на друга как две капли воды. Про лошадь спросила одна из них.
– Не знаю, – ответил Газаев и криво улыбнулся Дорошину, словно извиняясь за столь глупый вопрос. – Я ничего не понимаю в картинах, Альмагуль.
– Дочери? – спросил Дорошин, который не любил оставлять ситуацию не проясненной, даже если она его не касалась.
– Да. – Газаев снова улыбнулся, теперь по-доброму. Словно лампочка зажглась в его темных глазах. – Это старшая Альмагуль, в переводе это означает «цветок яблони», а это младшая – Диляра, то есть «прекрасная».
– Очень красивые имена, – сказал Дорошин, – только я на первый взгляд решил, что ваши дочки – двойняшки.
То ли ему показалось, то ли неясная тень промелькнула по лицу Газаева, гася «лампочку» в глазах. Промелькнула и исчезла.
– Нет, они погодки у меня, – спокойно сказал он. – Одной семнадцать, другой шестнадцать. Альмагуль в этом году школу заканчивает, на медсестру собирается поступать, а Диляра в десятом классе учится.
Обе девушки молчали, целомудренно опустив глаза в пол, чтобы не пялиться на чужого мужчину. Дорошин понимал, что причина их необычной для современных девушек скромности – в традиционном воспитании. Ильдар Газаев был из Дагестана, и несмотря на то, что они с женой приехали в их город уже лет двадцать назад, национальные традиции блюли свято.
– Тяжело поначалу с погодками, наверное, было, – сказал Дорошин, которому хотелось выяснить, почему восточная красавица с редким в их широтах именем Альмагуль спрашивала про продажу картин. – У меня отец с дядькой были погодками, так бабушка в моем детстве частенько рассказывала, как она намучилась. Младшего грудью кормит, а старший сзади на диване прыгает, ее за шею руками обнимает, виснет, кричит… Одному спать пора, другой проснулся и по дому бегает, пятками топочет, и так круглый год. Это уж потом проще, когда они постарше. Да и то, как посмотреть. Мы вон с женой на второго ребенка так и не решились.
– Ну что вы, – Газаев даже руками замахал, – дети в доме – это же счастье, а не мучение. Мы с женой были готовы и пятерых вырастить, да вот не получилось. Две девочки есть, а сыновей нет. – В голосе его прозвучала горечь.
– У меня вот сын, но от таких красавиц-дочек, как у вас, я бы тоже не отказался, – засмеялся Дорошин. – Вот только не очень понятно, при чем тут лошадь.
– Альмагуль у нас конным спортом увлекается, – в голосе Газаева звучала неприкрытая гордость, – в конный клуб ходит заниматься и очень уж о своей лошадке мечтает. А при наших доходах лошадь ни купить, ни содержать невозможно. Мы ж люди простые, рабочие. Но мечтать-то не запретишь девчонке! Вот она все, что видит, и пытается оценить с точки зрения: хватило бы на лошадь или нет. Нынешняя молодежь об автомобилях мечтает больше, а наша вот о лошадях. Я, уж простите, рассказал дома, что у нас в музее картины пропали, вот она и спрашивает. Вы не подумайте ничего дурного, – голос Газаева вдруг зазвучал испуганно, – ни я, ни дочки мои к краже никакого отношения не имеем.
– Да ладно, это я просто так спросил. – Дорошин, чтобы не смущать семейство, взялся за ручку двери.
– Ну да, конечно, так я вам и поверил! На простого человека проще всего преступление повесить. Газаев кто? Рабочий, мастер молотка и отвертки. Обвинить легко, а вот как потом отмыться?! Не я это, вот честное слово – не я. Аллахом клянусь! Мне имена всех этих художников на слух звучат одинаково. Что Левитан, что Фальк, что Рерих. Я в них не разбираюсь совсем.
«И тем не менее, ты, дорогой Ильдар Гаджидович, фамилии художников называешь уверенно, без запинки. То ли просто наблатыкался за годы работы в галерее, то ли разбираешься в искусстве гораздо лучше, чем хочешь показать», – подумал про себя Дорошин и, попрощавшись, пошел вниз, в служебные помещения музея.
Необходимую Кирееву официальную бумагу он получил у Арины Морозовой за пять минут, ненадолго зашел к Склонской, чтобы поздороваться, узнал, что Елену Золотареву пригласил к себе следователь, и, отказавшись от чая, заглянул в дверь, за которой сидела Ксюша.
– Ой, Витенька, – обрадованно вскочила со стула та. – Как здорово, что ты заглянул! И Аленки в кабинете нет, хорошо, правда? – Она повисла у Дорошина на шее и смачно поцеловала его в губы. – Ты ко мне пришел или по делам?
– И к тебе, и по делам, – признался Дорошин. – Мне нужно было кое-какие документы у Арины Романовны забрать, но и тебя увидеть я тоже очень хотел, честно.
– Слушай, – глаза у Ксюши заблестели, – а если ты уже все свои дела сделал, давай сбежим, а?
– Как это? – не понял Дорошин. – Куда сбежим?
– К тебе, – прошептала она, прижимаясь к нему всем своим телом. – Давай поедем к тебе, хотя бы ненадолго.
Предложение выглядело настолько заманчиво, что Дорошину внезапно стало жарко.
– Рабочий день же, – слабо попытался возразить он. – Ты что начальству скажешь?
– Витенька, – Ксюша засмеялась своим колокольчиковым смехом, – я ничего не буду говорить начальству. Видишь ли, благодаря тому, что я – жена богатого мужа, мне не нужно претендовать на премии и прочие пироги, которые раздают коллективу к праздникам. Моя часть всегда тратится на других, потому что у людей маленькие зарплаты, большие семьи и огромные кредиты, понимаешь? За то, что я не претендую на свой кусок бюджетного пирога, у меня есть некоторые послабления. К примеру, я практически никогда не работаю по выходным дням, в то время как остальные обязаны притаскиваться сюда по субботам и воскресеньям. Я могу уходить, когда мне нужно, не ставя никого в известность. Морозова закрывает на это глаза, потому что на мою зарплату и мой объем работы ей никого другого не найти. Я – хороший специалист, который имеет возможность за свой счет ездить на профессиональные семинары и тусовки, покупать новую литературу, в том числе и иностранную, повышать свою квалификацию. Поэтому терять меня никто не хочет. Так что меня никто не хватится, а тебя?
В принципе у Дорошина тоже была свобода передвижений, и своим рабочим временем он распоряжался по собственному усмотрению. Сыщика, как известно, ноги кормят, так что отсутствие его в рабочем кабинете на протяжении лишнего часа-двух тоже никто не заметит.
– Ладно, – решился он. – Поехали, заодно накормлю тебя твоим же супом, а то ты такую кастрюлю наварила, что мне одному ее за неделю не осилить.
Спустя сорок минут жизнь казалась Дорошину вполне сносной штукой. Застарелая заноза, связанная с семейным разладом, которую он никак не мог вытащить из своей души, впервые за много месяцев переставала колоться, зудеть и ежесекундно напоминать о себе.
Тело и душа находились в гармонии. Получивший физическую разрядку в постели Дорошин восседал за столом в своем собственном, с детства любимом доме, ел огненный борщ и любовался на сидящую напротив очаровательную молодую женщину, которая, подперев кулачком висок, с нежностью смотрела на него.
– Ты чего? – спросил он. – Ты так на меня смотришь, что я думаю не о борще, кстати, очень вкусном, а совсем о другом.
– Нет уж, ешь! Мужчина должен хорошо питаться. С одной стороны, хорошо, что в твой дом не ходят другие женщины, кроме меня, а с другой – ты ж питаешься непонятно как. Кусочничаешь всухомятку.
– Я, что б ты знала, – неплохо готовлю, – сообщил Дорошин. – Супы, конечно, мне варить лень, зато я очень вкусно жарю картошку. На большой чугунной сковороде она получается так, как я люблю – с поджаристой корочкой. Объедение. А еще я специалист по мясу. Свиные отбивные на кости, прожаренные на углях, в моем исполнении получаются не хуже, чем в стейк-баре. Как-нибудь соберешься ко мне в выходной, предупреди, я тебе приготовлю.
– Фу, я не люблю мясо на углях. – Ксюша брезгливо наморщила свой изящный носик. – И шашлыки никогда не ем, и вообще все, что приготовлено на открытом огне. Так что не получится у тебя поразить мое воображение, Дорошин.
Все-таки удивительно, насколько эта женщина была его противоположностью. Она боялась собак, не получала удовольствия от физической близости, не терпела мясо на углях, не парилась в бане… Дорошин с неудовольствием подумал о том, что по большому счету у него нет с этой женщиной ни одной точки соприкосновения, и тем не менее они все равно интересны друг другу. О том, что Ксения влечет его к себе какой-то пока не раскрытой внутренней загадкой, он уже думал раньше, но сейчас ему пришла в голову мысль о том, зачем же тогда он, полковник Виктор Дорошин, нужен ей, коли они такие разные. Для новизны ощущений? Для приключений? Для остроты чувств?
Скорее всего, так оно и было, но тогда их отношения были обречены на скорое завершение. Загадки будут разгаданы, перец набьет оскомину и вызовет неизбежную изжогу, приключение превратится в рутину, постылую обязанность, и ничего, что могло бы связывать их, таких разных, не останется. Нет, не будет между ним и Ксюшей такого романа, как между дядей и его Машенькой. У тех были общие интересы, одинаковый взгляд на мир. Много лет они функционировали как единый организм, потому их связь и продержалась так долго, а у Дорошина и Ксюши так не получится, увы.
Он не успел додумать до конца эту грустную мысль, как его отвлек гневный возглас любовницы. Ксюша убирала со стола пустые тарелки и наливала чай, ловко переставляя с кухонного стола на обеденный его большую белую кружку с нарисованным на боку полярным медведем (ее когда-то давно привез Дорошину одноклассник, работавший на Крайнем Севере. Виктор кружку обожал и чай пил только из нее, хотя она и вмещала практически пол-литра), коробку с кусковым сахаром, плошку с толченой брусникой и плетенку с оставшимися с воскресенья ватрушками, принесенными Склонской.
– Дорошин! – В голосе Ксюши звучала неприкрытая злость. – Я терпеть не могу, когда из меня делают дуру, понял?
– Что ты имеешь в виду? – искренне удивился он. – Я ж молчу!
– Я имею в виду вот это. – Она чуть ли не швырнула ему в лицо плетенку, круглые, уже немного зачерствевшие плюшки поехали из ее рук, раскатились по столу, размазывая творог. – Ты зачем мне врешь? Если у тебя есть другие бабы, так ради бога, меня это вообще не касается, но никогда мне не ври. Слышишь? Не ври мне никогда. – Она почти кричала.
– Во-первых, прекрати орать, – жестко приказал Дорошин. – Я не позволял тебе повышать на меня голос. А во-вторых, будь добра, что именно в этих плюшках вызвало твое живейшее негодование? Может быть, я слишком тупой, но я не понимаю.
– Ты сказал, что ни одна женщина, кроме меня, не переступает порог этого дома. – Теперь в голосе Ксюши звучали слезы. – Но ты же не сам пек эти плюшки, и они не магазинные. Значит, кто-то испек их для тебя и принес сюда. А это значит, что ты мне врешь. Врешь!
– Ксения, успокойся, – попросил Дорошин. – Вообще-то ты не имеешь никакого права устраивать мне допросы с пристрастием, но так как скрывать мне абсолютно нечего, то так и быть, в порядке исключения я расскажу тебе историю появления этих плюшек в моем доме. В воскресенье ко мне приходили Мария Викентьевна и Елена Николаевна. Эти плюшки Склонская принесла с собой, потому что действительно испекла их для меня. Но, во-первых, я не вижу в этом факте ничего угрожающего для тебя, а во-вторых, я никогда тебе не врал. Этот дамский визит был первым, сугубо деловым, и, если тебя это утешит, не я был его инициатором.
– Старая сводня, – прошипела сквозь зубы Ксюша, ее хорошенькое личико было искажено ненавистью. – Это я про Виконтессу. Уж если вобьет что-то себе в голову, то все, сливай воду, суши весла, ни за что не отступит.
– И что она вбила себе в голову? – Дорошин все еще не мог понять, что именно вызывает у его любовницы такой шквал негативных эмоций.
– Она решила свести тебя с Ленкой. Это у нее идея фикс – выдать замуж эту тупую корову. А тут такой подходящий вариант наклюнулся! Ты ж у нас человек свободный, да и возраст у тебя подходящий, вот и пошла писать губерния. Ненавижу! Лезет и лезет в чужую жизнь, все ломает, крушит, гадит, зараза старая.
– Ксения. – Дорошин чувствовал, что начинает терять терпение. – Я бы очень попросил тебя относиться к Марии Викентьевне с уважением. Хотя бы в разговорах со мной. Видишь ли, она была дорога близкому мне человеку, и в память о нем я не желаю слышать, как кто-то говорит о ней дурно. Кроме того, я был бы страшно тебе признателен, если бы ты держала при себе построенные тобой гипотезы о чьих-то матримониальных планах на меня. Я, как ты, наверное, изволила заметить, уже большой мальчик, так что отстоять свою независимость в состоянии. Тем более что, уверяю тебя, приходили они совсем по другой причине.
– По какой? – В Ксюше бушевала ревность, и Дорошину вдруг польстило, что она, как тигрица бросается на защиту того, что, как ей кажется, принадлежит ей. Может, он не прав, и она встречается с ним не из пустого любопытства, а потому что действительно влюбилась и дорожит им?
Вообще-то он не должен был рассказывать о том, что узнал от Золотаревой, но Дорошин счел, что не будет большой беды, если он успокоит свою возлюбленную, поэтому рассказал ей о том, что ее бывший непосредственный начальник Борис Петрович Грамазин коллекционировал чужие тайны.
Из сидящей напротив Ксюши как будто выпустили воздух. Ее боевой настрой куда-то улетучился, гнев в прекрасных глазах сменился непонятным Дорошину ужасом. Ужас плескался вокруг обведенных желтой каймой зрачков, грозя вылиться наружу, растечься по лицу, проедая глубокие борозды, залить стол, затопить пол, стечь по крыльцу на улицу, топя снег.
– Ты чего? – в третий раз за сегодня спросил Дорошин, не понимая произошедшей в ней перемены. – Ты чего-то испугалась? Что, Грамазин был в курсе и твоей какой-то тайны?
– До недавнего времени у меня не было тайн, – хрипло сказала Ксюша. – Витя, это же ужасно, что бывают такие люди, как Борис Петрович! Мы живем, даже не догадываясь, что кто-то подслушивает, подсматривает, заносит наши дела и поступки в толстый гроссбух, который в любой момент может стать достоянием гласности.
– А тебе есть что скрывать? – Виктор не понимал ее тревоги, но она отчего-то начала его задевать.
– Да как же ты не понимаешь. – Она опять почти кричала и усилием воли заставила взять себя в руки, чтобы не злить Дорошина. – У меня есть ты. Вот сейчас, в эту самую минуту кто-то может заглянуть в окно, щелкнуть нас с тобой на мобильный телефон и отправить снимок моему мужу. Это отвратительно, что есть люди, которым есть дело до других! За собой бы следили.
– Грамазин не был шантажистом, – спокойно сказал Дорошин. – Экспонатам его коллекции не угрожало публичное разоблачение. Так что не передергивай. То, что он делал, было неприятно, но не смертельно. Я всегда считал, что если у тебя есть тайна, особенно постыдная, то ты должен быть готов к тому, что она откроется. Рано или поздно все тайное становится явным. Это аксиома.
– И тем не менее Грамазина убили. – Ксюша теперь выглядела усталой. – А это значит, что кто-то рассудил не как ты, а как я, и сделал все, чтобы его тайна не вышла наружу. И теперь те самые записи, которые вел Борис Петрович, оказались в руках убийцы. Где гарантия, что он не окажется шантажистом? Молчишь? Правильно, потому что тебе возразить нечего. Ты понимаешь, что я права.
– Может, ты и права, только мне непонятно, почему тебя это так волнует. О нашей с тобой связи Грамазин в свою тетрадку записать ничего не мог, потому что мы познакомились накануне его убийства, а встречаться стали и того позже. Так что ты уж совершенно точно можешь спать спокойно.
– Спокойно теперь может спать только Грамазин, – отрезала Ксюша, – потому что спокойно можно спать только вечным сном. Я – живой человек с присущими мне недостатками. Меня утешает только одно – Борис Петрович никогда не намекал, что знает про меня что-то особенное, а ты говоришь, что он всегда доводил это до сведения своих жертв. Так что будем надеяться, что я, с его точки зрения, оказалась неинтересным объектом для помещения в коллекцию.
– Тебя это огорчает? – засмеялся Дорошин.
– Нет. Радует, – совершенно серьезно сказала Ксюша. – У меня нет и не было мечты прославиться подобным образом.
– Кстати, а какая мечта у тебя есть? – неожиданно для самого себя спросил Дорошин. – Нет, правда, мне действительно интересно, чего бы ты хотела больше всего на свете. О чем ты мечтаешь перед тем, как заснуть?
– О том, чтобы жить в тепле, – быстро сказала она.
– В тепле? У тебя что, дома холодно?
– Нет. – Ксюша тоже рассмеялась, видимо над его недогадливостью. – Я имею в виду климат. Я с детства ненавижу зиму и все, что с ней связано. Морозы, снег, слякоть… Я бы очень хотела круглый год жить где-нибудь в Италии, например в Амальфи. Чтобы зима – это плюс восемь, а лето жаркое и сухое. И виноград, свисающий с крыши. И помидоры, которые пахнут солнцем, а не пластмассой. И рыба… Свежая, только что пойманная и сразу попавшая на рынок… И молоко не порошковое, а настоящее, жирное, которое скисает, если его на пару часов оставить на столе. Чтобы не нужно было носить тяжелую одежду, закрытую обувь… Чтобы кожа дышала… И утром, проснувшись, можно было не гадать, пасмурный сегодня день или все-таки солнечный, потому что солнце там почти круглый год.
Она раскраснелась, как человек, который действительно говорит о самом сокровенном желании. Дорошин чувствовал, что Ксюша совершенно искренна сейчас, что в эти минуты она настоящая. И внезапно пожалел, что не сможет быть тем мужчиной, который подарит ей ее мечту.
– Твой муж не может купить тебе дом в Италии? – спросил он чуть насмешливо, может быть, оттого, что сейчас немного сердился на себя.
– Нет. Не может. Точнее, не хочет. Чем он там будет заниматься, если единственное, что он умеет, – это делать деньги?
– Что ж, мечта – она на то и мечта, чтобы не осуществляться в ближайшем будущем, – утешающе, как ему казалось, сказал Дорошин. – Она как линия горизонта. Ты идешь за ней, а она все отдаляется и отдаляется. Или как механический заяц на собачьих бегах, которого все равно никогда не догнать, как бы быстро ты ни бежал. Ты знаешь, как-то давно мой дядя, тот самый, который оставил мне этот дом, сказал мне замечательную фразу: «Надо уметь отличать мечту от цели». По-моему, очень правильно, ты не находишь?
– Вот именно, – сказала Ксюша, улыбнулась, подошла к Дорошину и поцеловала его в висок. – Вот именно. И все-таки мне очень интересно знать, кто убил Бориса Петровича Грамазина.
* * *
До Нового года оставалось чуть больше недели, и Дорошин вдруг подумал о том, что впервые в жизни не знает, как и с кем он будет его отмечать. В прошлом году он еще надеялся на то, что у них с женой все наладится, поэтому притащил домой огромную живую елку, которую выклянчил на посту у въезда в город у гаишников, бдительно борющихся с черными лесорубами и реквизирующими незаконно добытые елки.
Елка упиралась верхушкой в потолок, нахально раскинула мохнатые лапы вполовину комнаты, горделиво красовалась шишками и, когда оттаяла, одуряюще пахла хвоей, так что счастливый Дорошин неожиданно вспомнил детство, которое запретил себе вспоминать давным-давно.
Он старательно украшал елку игрушками, которые покупал в детстве сыну, пыхтел от натуги, от усердия высунув язык, и ему казалось, что елка, как символ счастливой семейной жизни, станет тем самым талисманом, который поможет ему сохранить семью. Надежды не сбылись, загаданные под бой курантов желания не исполнились. Високосный год оказался щедр на потери и забрал у Дорошина семью, привычный жизненный уклад и дядю Колю. И вот теперь он подходил к концу, дотягивал до финиша, как внезапно охромевшая скаковая лошадь, уже не надеющаяся стать фаворитом гонки, но не сдавшаяся окончательно.
Дорошин на всякий случай позвонил сыну, хотя особых надежд не питал, и оказался прав. Сын сказал, что вместе со своей девушкой уезжает на базу отдыха, отмечать Новый год и кататься на лыжах и сноубордах.
– А мама? – осторожно спросил Дорошин.
– А что мама? Она к тете Нине идет в гости. Не одной же ей куковать, – беспечно отозвался молодой лоботряс. Ниной звали лучшую подругу бывшей жены, которую Дорошин терпеть не мог. Он искренне считал, что все бредовые мысли о его неверности были измышлениями Нины, которая была патологически завистливой и злобной. Дорошину всегда хотелось проверить, не раздвоен ли на конце ее язык, как у змеи.
Коллеги по работе были людьми семейными. Конечно, любой из них с удовольствием пригласил бы Дорошина в гости, но картина чужого семейного счастья воспринималась им теперь болезненно. В такие минуты Дорошин сам себе казался каким-то неполноценным, поскольку не сумел сохранить то, что было ему нужно и важно. Другие сумели, а он нет. Слабак и неудачник.
Кроме того, немаловажным было и то обстоятельство, что жены его друзей искренне считали делом своей чести снова женить «несчастненького» Дорошина, а заодно и пристроить своих незамужних подруг. Это означало, что любой поход в гости превращался в очередные «смотрины», на которых присутствовала взволнованная и краснеющая от своей неловкости потенциальная невеста в возрасте от тридцати до сорока.
Как писали классики отечественного юмористического жанра Ильф и Петров, «молодая была немолода»… Немолодые женщины пытались поддерживать разговор, который бы выгодно подчеркивал их ум и незаурядность, Дорошину было скучно и маетно, друзья чувствовали себя неудобно, а их жены сердились, что он отказывается выполнять трюки и прыгать через заботливо приготовленный горящий обруч. Ничего хорошего из подобных визитов не выходило, и Дорошин прекратил их наносить, чтобы не мучиться самому и не ставить в неудобное положение друзей.
Дядя Коля умер, других родственников у Дорошина не было. Ксюша? Вряд ли она сможет уйти от своей семьи, чтобы провести новогоднюю ночь с ним. На всякий случай он позвонил и поинтересовался ее планами, и, как и следовало ожидать, планы эти были, и он в них не вписывался.
– А мы в Прагу на Новый год улетаем, – беззаботно сказала Ксюша. – Я еще летом решила, что хочу зимой в Европу. Там красиво все очень. Елочные базары, олени, распродажи, глинтвейн на улицах, трдельники[1] продают… Так что мы двадцать девятого улетаем, вернемся третьего января, и я обязательно к тебе выберусь, чтобы поздравить. Хочешь, я тебе трдельник привезу?
Дорошин не знал, что такое трдельник и узнавать не хотел, поэтому от подарка отказался. Нет, плохая это была идея завести роман с замужней барышней. Одна морока и совсем немного радости. Может, дяде Николаю такая жизнь и нравилась, но племяннику точно была не по нутру. Наступающий год должен был обернуться для него еще одной потерей – Ксюша отдалится от него, их встречи станут все более редкими, пока не сойдут на нет. Слишком они разные для того, чтобы у них могло быть общее будущее.
Новый год из любимейшего в детстве праздника превращался в символ одиночества, и это Дорошину категорически не нравилось. Ладно, дядька жил бирюком и отшельником, но ему превращаться в бирюка и отшельника не хотелось. Рано еще, в сорок четыре года!
Мрачные мысли о будущем прервал звонок скайпа. На экране телефона отразилось скуластое и отчего-то довольное лицо Эдика Киреева.
– Привет, Вик, – возбужденно заговорил он. – Что ж, могу тебя поздравить! Удалось напасть на след одной картины из твоего списка. Всплыла в Питере, в частной коллекции.
– Да ты что? – От полученного известия дурные мысли как водой смыло. – Какое полотно нашлось?
– Фальк. «Апельсины в корзине»… Приобретена коллекционером Леонидом Соколовым. Я его давно знаю, он мужик порядочный. Не знал, что она краденая, потому и купил, так бы ни за что связываться не стал. В общем, ехать тебе к нему надо, Вик. Убедиться, что картина – та самая, если повезет, оформить изъятие. Ну и поговоришь заодно по душам, глядишь – и ниточка потянется, за которую ты клубок размотаешь, и он тебя к похитителю приведет.
– Твои бы слова да богу в уши! Но за добрую весть спасибо. Координаты Соколова скинешь?
– Не вопрос. Звони, договаривайся. И с тебя магарыч…
– Заметано. Спасибо, Эдик. И за остальным присматривай, вдруг еще что-то всплывет…
– Обижаешь! Эх, жаль, что картина в Питере, а то был бы лишний повод с тобой повидаться. Давай, держи меня в курсе.
Дорошин созвонился с питерским коллекционером, который особого восторга не высказал, но встретиться и показать купленную картину Фалька согласился. Командировку начальство согласовало быстро, и Дорошин уже приготовился было купить билет на поезд, как вдруг подумал, что с собой было бы очень неплохо взять представителя картинной галереи, который мог бы официально опознать украденный из нее подлинник. По его разумению, этим представителем вполне могла бы стать Ксюша, а служебная командировка превращалась бы в этом случае еще и в приятное предпраздничное времяпрепровождение.
– Да ты что, Вить, – огорченно сказала Ксюша, когда он во второй уже раз за сегодня позвонил ей с внезапно возникшей идеей, – у меня еще к поездке в Прагу ничего не готово. Мне же детям подарки покупать, маму с бабушкой проведывать. Я не могу сейчас уехать, Вить. Никак не могу. Да и не отправят меня в такую поездку, ты что! Я же у наших старух прохожу по разряду вечных несмышленышей. Младший научный сотрудник – вообще не человек, а бесплатное приложение. Шторы вешать – в самый раз, а подлинность картин устанавливать – рылом не вышла.
В голосе ее зазвучала нескрываемая горечь, и Дорошин пообещал себе поговорить с Марией Викентьевной, чтобы та помогла Ксюше хоть немного. Золотареву же она опекает, хотя та и старше и позубастее.
Кстати, позвонить Склонской было все равно надо, потому что отказ Ксении ехать в Питер не отменял необходимости отправить туда другого сотрудника музея, и он хотел посоветоваться с Марией Викентьевной, кто бы это мог быть. Морозова? Калюжный? Сама Склонская?
– Возьмите с собой Леночку! Она прекрасный специалист, в квалификации которого не приходится сомневаться, – неожиданно предложила та. – И на подъем легкая. Пусть девочка съездит, развеется немного. Питер прекрасен в любое время года, но сейчас он еще и украшен чудесно. Это ж как в сказке побывать!
– Давайте я с вами поеду, – сказал Дорошин, не желая признаваться, что Золотарева его раздражает неимоверно. Пожалуй, она была последним человеком, которого он был бы рад взять с собой в эту командировку.
– Господь с вами, мальчик мой. – Склонская рассмеялась почти басом. – В мои преклонные годы не до путешествий, тем более зимних. Да и вообще, вы забыли? Я – хранитель отдела иконописи, к произведениям искусства отношение имею очень косвенное. А Леночка – старший научный сотрудник, сейчас она замещает Бориса Петровича, царствие ему небесное. А с нового года ее, скорее всего, и вообще директором назначат. Так что она – самая подходящая кандидатура.
Дорошин вспомнил, как Ксюша рассказывала ему о том, что Золотареву ждет карьерный взлет. Похоже, она была права. Попутно вспомнилось и ее замечание, что Виконтесса специально сводит его с Золотаревой, задумав их чуть ли не поженить, и засмеялся. Подобное предположение выглядело как полная нелепица, и уж чего-чего, а матримониальных поползновений со стороны Елены Николаевны он не опасался точно. Специалист же она действительно, похоже, хороший.
– Мария Викентьевна, – попросил Дорошин, – я сейчас пришлю официальный запрос на имя Арины Романовны с просьбой отправить Золотареву в командировку, а вы пока можете переговорить, чтобы все это побыстрее решилось? Надо сегодня билеты купить и завтра вечером выехать. До Нового года всего ничего, у всех людей свои планы, если затянем, ничего не сделаем, все на праздники уйдут.
– Все сделаю, Витенька, не волнуйтесь, – пообещала Склонская. – Желаю вам удачи. А у нас тут пока тоже дел невпроворот. Мы же переезжаем! Поставлена задача до Нового года освободить помещение, чтобы туда могли представители церкви въехать. Рождественская служба уже должна в нашем здании проходить. Так что мы тут на коробках и ящиках сидим. Меры безопасности драконовские просто. Каждую вещь описываем и переписываем, чтобы больше ничего не пропало.
– Может, мне тогда одному в Питер съездить? – предложил Дорошин, немного лукавя. Тащиться в Питер с Леночкой ему не хотелось ужасно. – У вас же каждые руки на счету. Елена Николаевна вам, наверное, здесь нужна.
– Ничего, мы справимся, – отрезала Склонская. – Девочка и так за троих работает. Совершенно безотказный человек, в отличие от некоторых других. – Голос ее звучал язвительно, и Дорошин решил, что она имеет в виду его Ксюшу. – В конце концов, вернуть похищенное – задача первейшей важности. Так что к Леночкиному отъезду все отнесутся с пониманием.
– Возможно, мы успеем все сделать за один день, а возможно, и нет, – предупредил Дорошин. – Ваша галерея в состоянии оплатить своей сотруднице ночь в гостинице?
– Ну, если это будет не «Англетер», – усмехнулась Склонская, – то, пожалуй, да. Мне кажется, что ночевать обязательно надо. Обидно побывать в предновогоднем Питере по принципу «галопом по Европам».
– Мы так-то по работе едем, – буркнул Дорошин, – не развлекаться. Если коллекционер захочет с нами разговаривать и назовет человека, у которого купил Фалька, то нам предстоит еще встреча, а может, и не одна. Если он только даст провести ревизию картины, но делиться информацией не станет, то больше нам там будет делать нечего. Если вашей Леночке так хочется и руководство не против, она может остаться хоть на неделю. Я же при таком раскладе в тот же день вернусь домой.
– Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. – В голосе пожилой женщины сквозила насмешка, впрочем, добрая. – Витенька, мальчик мой, вы – взрослый адекватный человек, который сам вправе принимать решение – уезжать ему откуда-либо или оставаться. Не думаю, чтобы на вашу самостоятельность при этом выборе кто-то был склонен влиять. До встречи, Витенька. Я пошла выполнять ваше поручение.
Она положила трубку, и Виктор какое-то время молча слушал гудки в телефонной трубке, смутно чувствуя, что его только что обдурили, но не понимая, в чем именно. Все формальности с командировкой он утряс довольно быстро. Необходимость отправить вместе с ним сотрудника картинной галереи Елену Золотареву вопросов ни у кого тоже не вызвала, и спустя два часа Виктор даже купил на них обоих билеты. Поезд уходил завтра в районе пяти вечера, а прибыть в город на Неве они должны были на следующий день в районе девяти утра. Очень удобно, весь рабочий день впереди, можно многое успеть.
До конца дня он переделал все неотложные дела, которые накопились у него по другим направлениям работы. В последнее время он их не то чтобы позабросил, но относился без особого служебного рвения. Виктор знал за собой такую черту – увлекаясь чем-то одним, он отдавался этому, новому для него, делу со всем жаром, но как только первоначальный интерес угасал, превращая предпринимаемые действия в рутину, тух и сам Дорошин. Нет, он всегда доводил любое начатое дело до конца, работая скрупулезно и внимательно, не упуская из виду ни одной мелочи, но без души, по необходимости.
Сейчас все его мысли занимала пропажа картин из музея. Про это дело он думал, просыпаясь ночами, разгребая снег во дворе, глядя на огонь, бушующий в печи, заваривая свежую порцию душистого иван-чая. Все остальное он делал, претворяя в жизнь принцип «работа занимает все время, отведенное на нее». Вот и сегодня он механически разгребал завалы бумаг на столе, отвечал на телефонные звонки, писал отчеты, общался с коллегами, но мыслями был уже там, в Питере, выстраивая линию беседы с коллекционером, купившим краденого Фалька. Дорошин не сомневался, что Елена Золотарева опознает в картине полотно, похищенное из картинной галереи, и они оформят изъятие и вернут ценность на ее законное место. Но кто стоит за кражей шедевров? И удастся ли размотать весь клубок, который позволит вернуть все похищенное, или с Фальком им просто повезло, да и то благодаря умению Эдуарда Киреева работать?
До завтрашнего отъезда он должен был еще встретиться с Аленой Богдановой, неожиданно заделавшейся модницей, щеголяющей в дорогих одежках. На ней он, недолго думая, опробовал ту схему, которую не удалось воплотить в жизнь с Золотаревой – вызвал ее повесткой к себе в отдел, чтобы нагнать положенной жути, заставив быть откровеннее. Расчет оказался точным. Девушка вошла к нему в кабинет с напряженным личиком, выдававшим страх. Интересно, неужто ей и впрямь есть чего бояться…
– Здравствуйте, Алена, – задушевно сказал Дорошин, играя в извечную полицейскую игру. – Располагайтесь. Давайте я приму у вас вашу шубку, у меня в кабинете довольно тепло.
В ответ на его предложение младший научный сотрудник отдела хранения икон вцепилась в свои меха так крепко, как будто боялась, что их у нее отберут, и отчаянно замотала головой. Затравленно озираясь, она подошла к стоящему перед дорошинским столом стулу, все-таки скинула шубку, села на самый краешек и прижала пушистый ком к себе.
– Я ничего не знаю, – умоляющим тоном сказала она и заискивающе посмотрела на Дорошина, – честное слово, я рассказала уже все, что знала. И о пропаже картин, и о смерти Бориса Петровича. Он меня никогда ничем не шантажировал, честное слово.
– Смерть Грамазина находится в ведении других сотрудников, – скучным голосом сообщил Дорошин. – Я расследую лишь пропажу ценностей из хранилища вашего музея. И в этой связи у меня к вам один вопрос, Алена. Скажите, пожалуйста, вы наследство, часом, не получали?
– Что? Какое наследство? – В голосе девушки звучало недоумение. – Я ничего не получала, у меня, к счастью, все живы. Вы что, считаете, что Борис Петрович мог мне что-то завещать?
– Да ни при чем тут ваш Борис Петрович! Значит, запомним, что никакого наследства вы не получали. А клад, случаем, не находили?
– Вы что, издеваетесь надо мной? – догадалась вдруг Богданова. От возмущения лицо ее порозовело, она вздернула курносый носик и теперь смотрела на Дорошина чуть ли не с вызовом.
– Нет, ни в коем случае! Я просто размышляю. Вы работаете на малооплачиваемой должности и, насколько я знаю, других источников дохода не имеете. Учитесь в аспирантуре, живете с родителями. Наследства вы не получали и клад не находили. Однако при этом вы теперь ходите в дорогой норковой шубе, которая, судя по ее внешнему виду и ценам на розничном рынке, стоит не менее ста пятидесяти тысяч рублей. Конечно, я бы мог поверить, что вы копили на эту шубу все годы учебы в институте и работы в музее, а купили ее именно сейчас, после пропажи из запасников ценных произведений искусства, по чистой случайности. Мог бы, но не поверю, поскольку значительные изменения претерпел весь ваш гардероб. При нашей первой встрече вы были одеты более чем скромно, в полном соответствии с вашими доходами. А в тот момент, когда вы вели экскурсию во время моего последнего визита в галерею, да и сейчас тоже на вас надеты наряды из эксклюзивного бутика. Не думаю, что ошибусь, если предположу, что ваш сегодняшний костюм куплен в «Гардеробе» и стоит не менее тысячи долларов.
Я прав?
«Гардеробом» назывался магазин верхней одежды, в котором одевалась вся городская элита, если, конечно, не привозила себе шмотки из заграничных поездок. Жена Дорошина иногда заходила туда, бродила между вешалками с одеждой, но не могла себе позволить купить что-то даже на распродаже. Вещи со скидкой в семьдесят процентов стоили в «Гардеробе» в два раза дороже, чем в обычных магазинах.
Ксюша Стеклова одевалась именно там. Это Дорошин успел оценить, раздевая свою любовницу. И вот теперь на простушке Алене Богдановой, забитой серой мышке с нищенской зарплатой, тоже была одежда именно из «Гардероба».
– Вы правы. – Богданова смотрела на него теперь уже без всякого испуга. Лишь легкая неловкость читалась в ее ясных глазах, страха в них не было. – Вы совершенно правы, вот только я не очень понимаю, почему вас это интересует. Или покупать одежду в «Гардеробе» – преступление? Они что, торгуют контрафактом? Не платят налоги?
– Да нет. – Дорошин усмехнулся. – К самому факту выбора вами места для шопинга у меня претензий нет. Алена, мне кажется, что вы прекрасно понимаете подоплеку моих вопросов, но если вам так хочется, давайте я спрошу прямо: чем вызван факт вашего внезапного обогащения, которое позволило вам полностью сменить рыночный ширпотреб на элитные европейские марки?
– А вы не очень-то вежливы, – заметила девушка. – Вы откровенно хамите мне, утверждая, что раньше я была одета как чучело. Что ж, вы совершенно правы. В наше время заниматься наукой и искусством – значит обрекать себя на нищенское существование. Вы правильно отметили, что я живу с родителями, и это позволяет мне хотя бы не умереть с голоду. Да, у меня нет ни малейших шансов купить собственное жилье, да, я много лет одеваюсь на рынках и в секонд-хендах, но это не значит, что я все это время не мечтала жить как нормальный человек. У вас есть дочь?
– Нет. У меня сын.
– Тогда вам не понять, что испытывает молодая девушка, которая вынуждена чувствовать себя Золушкой, наблюдая каждый день, как другие носят роскошную одежду и чувствуют себя королевами.
– Мне не понять, вы правы, – кивнул Дорошин. – Меня вообще всегда удивляло, как внутреннее мироощущение человека может зависеть от того, что на нем надето. Это ваши чисто женские заморочки, так что компетентным экспертом в данном вопросе я быть не могу. Единственное, что я вижу, это то, что стремление быть не хуже, чем другие, у вас развито достаточно сильно. И вкупе с изменениями вашего облика это наводит меня на грустные мысли.
– И о чем же вы думаете?
– О том, что вы, Алена, можете иметь самое непосредственное участие к пропаже полотен из галереи. И ваши внезапные доходы, к сожалению, имеют криминальное происхождение.
– Простите, я забыла, как вас зовут…
– У вас в повестке написано. Полковник Дорошин Виктор Сергеевич.
– Так вот, Виктор Сергеевич, меня не обижает, что вы считаете меня преступницей. Совершена кража, я вхожу в число подозреваемых, и, в конце концов, у вас такая работа – рассматривать все возможные варианты. Меня обижает, что вы считаете меня дурой. Поверьте, я получила хорошее образование и у меня достаточно ясный ум, чтобы, совершив преступление, не начать на ваших глазах щеголять в дорогих обновках, привлекая к себе внимание. Если бы эти чертовы картины украла я, то у меня хватило бы мозгов и терпения, чтобы проходить в своих нищенских обносках еще полгода, год, два, чтобы не вызывать ненужных подозрений. Признаюсь, что поступила бы вообще иначе: через пару месяцев уволилась, уехала в другой город, затерялась бы там, начала бы новую жизнь.
– Да, если бы преступником был я, то поступил бы точно так же, – согласился Дорошин. – Однако люди все разные. И далеко не все поступают логично. Особенно когда речь идет о том, чтобы наконец-то выиграть в состязании с «проклятой Вандербильдихой». Женская зависть – страшная сила, которая ломала даже самые умные и тонко выстроенные планы.
– Может быть. – Голос Богдановой теперь звучал равнодушно. – Но ко мне все это не имеет ни малейшего отношения. Я не участвовала в похищении картин из галереи. Я понятия не имею, кто это сделал. И рост моего благосостояния никак с фактом кражи не связан. Все очень просто, Виктор Сергеевич. Просто и банально. Да, мне никогда не заработать на жизнь, которую я считаю достойной, самой. Да, я не хочу довольствоваться малым, и, хотя эта точка зрения не популярна у нас в учреждении, я люблю деньги и хочу их иметь. Мне не стыдно признаться, что я завидую Стекловой, которая имеет все то, о чем я только мечтаю. И так как я – человек действия, то довольно долго предпринимала конкретные усилия, чтобы тоже найти себе хорошего денежного спонсора.
– И как, получилось? – спросил Дорошин, невольно жалея несчастную Ксюшу, которой, оказывается, так сильно завидовали.
– Да. В моей жизни появился мужчина. Солидный, обеспеченный, намного старше меня. Он увлеченный коллекционер, прекрасно разбирается в искусстве. Собственно говоря, на одном из форумов, посвященных живописи, мы с ним и познакомились. Это случилось полгода назад. А совсем недавно наши отношения из эпистолярных и платонических переросли в личные. Он приезжал ко мне, я недавно съездила к нему в Москву. После Нового года я планирую уволиться и переехать в столицу насовсем.
– Замуж выходите?
– Нет, не выхожу. Он женат. – Девушка говорила спокойно и обыденно о вещах, которые Дорошину казались чудовищными. – Я буду содержанкой. Женщиной, которой снимают квартиру и дают деньги на жизнь. Собственно, давать деньги он уже начал. – Она потрясла в воздухе своей шубкой.
– И вас устраивает такая жизнь? Неужели это именно то, о чем вы мечтали? А как же своя семья, дети?
– Вот только нотаций не надо! В конце концов, вы расследуете кражу картин, а не работаете в полиции нравов. Я хочу сейчас одного – вырваться из нищеты и попробовать пожить жизнью, о которой ничего не знаю, а только вижу ее из окна автобуса. Мне всего двадцать шесть лет. Пара годков в запасе у меня есть, а дальше видно будет. И даже если вы меня осуждаете, мне на это плевать. Ничего нарушающего уголовный кодекс я не делала. А мораль – вещь относительная. Вот и все. У вас еще есть ко мне вопросы?
– Вы можете сообщить мне имя и фамилию вашего любовника? Ваша информация требует проверки. Хотя если она подтвердится, других вопросов у следствия к вам не будет. Но поверьте, то, что ваш ухажер коллекционер, – не может не вызывать подозрений.
– Он тут совершенно ни при чем. – Теперь Богданова разозлилась. – И любые ваши проверки это подтвердят. Если вас интересует мое мнение, то картины спер Грамазин, а кто-то из моих дорогих коллег узнал про это и решил, что не делиться негоже. Я точно знаю, что Борису Петровичу угрожали, пытаясь заставить отдать часть похищенного.
– Знаете? Откуда?
– Я слышала разговор, вернее, обрывок одного разговора. Грамазин в своем кабинете с кем-то разговаривал. Дверь была приоткрыта, я проходила мимо и услышала фразу: «Я этого в своем рабочем кабинете не держу…» Тогда я не придала этому значения, но после того, как Бориса Петровича убили, вспомнила. Думаю, что речь шла о картинах.
– А когда это было? – уточнил Дорошин.
– За два дня до убийства.
– А с кем он разговаривал, вы не знаете?
– Нет. В кабинете они сидели вдвоем с Калюжным, так что вполне возможно, что собеседником Грамазина был Андрей. Но мог быть и любой другой сотрудник галереи.
– Грамазин называл Калюжного на «вы»?
– Он со всеми был на «вы». Такой старомодно-вежливый тип людей, которые сейчас уже не встречаются. Кстати, в тот день, когда я слышала этот разговор, и в тот, когда Бориса Петровича убили, мой любовник был в Москве и сюда не приезжал. Так что к убийству он никакого отношения иметь не мог. Я рассказала ему про убийство и кражу в галерее, и он сразу же сказал, чтобы я не вздумала скрывать нашу с ним связь. Мол, мы ни в чем не виноваты, а потому прятаться не будем. Вот его визитка, можете проверять.
Она достала из сумки и швырнула Дорошину чуть ли не в лицо ламинированный прямоугольничек с буквами и цифрами. И Дорошин с преувеличенной вежливостью подписал ей пропуск. Отчего-то видеть Алену ему было невмоготу.
* * *
Питер встретил необычным для него морозом и красотой, от которой даже становилось больно дышать. Или виной этому тоже был мороз? Дорошин любил этот город. Почему-то именно в Питере на него накатывало острое и необъяснимое чувство счастья. Оно возникало сразу по выходе с Московского вокзала на площадь Восстания, откуда глазу открывался уходящий вдаль Невский с едва видневшимся вдали шпилем Адмиралтейства, а налево деловито убегала Лиговка, когда-то хулиганская, а теперь до невозможности деловая.
Виктор всегда пытался выкроить время, чтобы пройти весь Невский пешком, постоять перед Казанским собором, заглянуть в знаменитый «Дом книги», который все называли «Домом Зингера», попить кофе в Литературном кафе, пройти под триумфальной аркой Главного штаба на Дворцовую площадь, в тысячный раз вытереть внезапно выступившие при виде Эрмитажа слезы, проведать Медного всадника, если позволяет погода, подняться на Исаакий, а на обратном пути обязательно покормить голубей в Катенькином садике, зимой, впрочем, закрытом для посетителей.
Он отдавал себе отчет, что его пеший тур по Питеру с головой выдает провинциала, но не стеснялся, поскольку Питер, в отличие от Москвы, не страдал избытком столичности, не высмеивал назойливых и слишком зачастивших приезжих, а спокойно принимал их визиты, если и без особого радушия, то точно с аристократической вежливостью. Эх, настоящие манеры не вытравишь, если они врожденные.
Сегодня Невский с его суетой и величием одновременно был особенно прекрасен. Новогодняя иллюминация, сделанная в виде светящихся корон, раскинувшихся над проезжей частью, заставляла замереть в восхищении. Улица выглядела как победительница мирового конкурса красоты, неся усыпанную бриллиантами диадему с горделивым достоинством. Витрины магазинов и кафе переливались как украшенное стразами платье, снег, выпавший ночью и еще не до конца раскатанный машинами, лежал пенным сверкающим шлейфом, перед которым хотелось встать на одно колено, чтобы его поцеловать.
Поймав себя на подобном дурацком желании Дорошин вдруг рассердился на себя за повышенную чувствительность, которую не пристало иметь взрослому мужчине, да еще и целому полковнику, и покосился на стоящую рядом Елену Золотареву, не видит ли она его щенячьего восторга.
Она не видела, потому что вовсе на Дорошина не смотрела. Ее взор был направлен на блестящий, переливающийся, искрящийся Невский, и в нем отражался такой же детский восторг, который испытывал сейчас Дорошин.
– Боже мой, какая красота! Какая невозможная красота, Виктор Сергеевич, – проговорила Елена, прижав к раскрасневшимся щекам руки в белых варежках с вышитыми красногрудыми снегирями, сидящими на еловых ветках. Варежки выглядели умильно, впрочем, как и сама Елена.
Дорошин со вчерашнего вечера не мог оправиться от изумления, вызванного внезапной для него переменой в ее облике. Когда она вошла в купе поезда, он даже не сразу узнал Золотареву, поскольку вместо ставшего привычным чучела в бесформенной юбке, свитере-обдергушке и лохматой тяжеленной дубленке, под полку деловито запихивала небольшую спортивную сумку высокая, хорошо сложенная молодая женщина в не очень дорогих, но отлично сидящих джинсах и ярко-красном пуховичке, оставляющем место для фантазии на тему крепкой подтянутой попки.
Фигура, впервые на его памяти не скрытая развевающимися тряпками, оказалась вполне себе ничего, в аккурат такой, какие нравились Дорошину – не толстой, подтянутой, с наличествующими в положенных местах выпуклостями. Золотарева была, конечно, выше и крупнее Ксюши, но отсутствие хрупкости ее отнюдь не портило. Она была, как сформулировал для себя Дорошин, вся ладная, и видно, что твердо стоящая на земле, а не витающая в эмпиреях.
Вторым потрясением стало отсутствие на носу очков, обычно закрывающих пол-лица. Лицо оказалось тоже вполне себе симпатичным, с нерезкими, но довольно гармоничными чертами, аккуратной лепки, хоть и немного длинноватым носом и большими внимательными серыми глазами, опушенными длинными, очень длинными ресницами. Рот у Елены, пожалуй, был чуть великоват для ее лица, но это, странное дело, не портило его, лишь прибавляло экспрессии. Полные, не тронутые помадой губы отчего-то напоминали Дорошину корзину, полную спелой летней вишни, которую так и хотелось ненароком стащить, чтобы бросить в рот, раздавить сочную сладко-кислую мякоть, ощутить, как ароматный сок растекается по нёбу, щекочет язык.
Волосы, впервые со времени их знакомства, не закрученные в тугой узел на затылке, а собранные в высокий хвост, оказались вовсе и не жидкими, а густыми и блестящими. Даже непонятный русый цвет оказался похожим на молочный шоколад. Толстый вязаный свитер с высоким горлом оттенял цвет губ, и вся она как нельзя лучше подходила под определение «вишня в шоколаде». С коньяком, конечно.
Бывают же такие превращения! Впрочем, одной женщине он уже сегодня нахамил, пытаясь сформулировать произошедшую в ней перемену. Вон как обиделась Алена Богданова, когда он сказал, что ее старая одежда походила на дешевку с вещевого рынка. Аж взвилась! Обижать Золотареву, которая в командировке должна была стать его союзником и соратником, он не хотел, поэтому об изменениях в ее облике лучше было бы умолчать. Отец всегда говорил: «Молчи, за умного сойдешь». Прав был, ох как прав!
– Какая-то вы сегодня не такая, Елена Николаевна, – решил не прислушиваться к отцовскому совету Дорошин. – Я вас прямо не узнал.
– Вы о джинсах? – Она счастливо рассмеялась и тряхнула головой, отчего шелковистый хвост, как у породистого коня, пришел в движение. – У меня дедушка – человек старомодных взглядов. Он считает, что женщине не пристало носить штаны, в которых ковбои пасли скот. Именно поэтому я никогда не надеваю их на работу. Или в гости. Дед считает это признаком распущенности, а я не хочу его огорчать. У меня же никого нет, кроме него. Поэтому джинсы я ношу, только когда иду за продуктами, еду на дачу или, вот как сейчас, в командировку. Дед, конечно, ворчал, потому что поездка у меня деловая, да и еду я в такое особенное место, как Санкт-Петербург, но тут я уж позволила себе ослушаться, потому что в поездке нет ничего более удобного и комфортного, чем джинсы.
– Не впали в немилость из-за того, что ослушались?
– Да что вы! Дед у меня вовсе не домашний тиран. Он вообще с раннего детства оставляет за мной право на принятие собственного решения. Впрочем, как правило, я делаю выбор, который он одобрит, но не потому, что нуждаюсь в этом одобрении, а потому, что деда обожаю и не хочу становиться для него источником расстройств и волнений. Все просто.
– Вы давно живете с ним вдвоем?
– Давно. С самого детства. Дед меня вырастил. Мои родители увлекались альпинизмом. Когда я только родилась, отец почти сразу ушел в поход. Мне, наверное, недели две было. Оставил на маму меня, нашу собаку, у нас тогда жил эрдельтерьер Габи, забрал все деньги и уехал на Эльбрус. Дед тогда сердился страшно, все спрашивал у мамы, как она отца отпустила, а мама только улыбалась и отвечала: «Федор Иванович, ну я же его люблю. Ему же хочется. Пусть отдохнет. А я справлюсь, мне не тяжело». Поход не удался, потому что в первый же день подъема у них сорвался в пропасть мешок со всем снаряжением. Пришлось несолоно хлебавши возвращаться обратно. А через год они решили повторить попытку, и мама уже с ними пошла, и они погибли. А я и Габи остались с дедом. Вот такая история.
– Грустная история.
– Наверное, грустная. Но я никогда не страдала от того, что расту без родителей. Я же их не помнила совсем. Дед заменял мне всю родню, и с ним всегда было так потрясающе интересно, что мое детство было гораздо насыщеннее, чем у одноклассников. Он меня возил в музеи в Москву и в Питер. Мы много путешествовали по России. И в Казани были, и на Байкал ездили, и даже на Камчатку летали. Потом, когда это стало возможным, он меня свозил в Рим, в Париж, в Лондон. Мы так интересно готовились к этим путешествиям! Дед мне рассказывал все, что знал, заставлял книги читать, готовиться. Потом мы вместе маршруты разрабатывали и уже только потом летели и смотрели все своими глазами. Дед – удивительно образованный человек, поэтому нам никогда никакие экскурсоводы были не нужны.
– А ваш дед кем работал?
– Хотите знать, откуда у нас деньги на путешествия? Что ж, вы – сыщик, привычка – вторая натура. Он – профессор истории. Преподавал в нашем университете. Очень дружил с Иваном Александровичем Склонским. Я ведь Марию Викентьевну с детства знаю, мы с дедом часто у них в гостях бывали. В советское время профессура хорошо зарабатывала, не то что сейчас. Жили мы скромно, поэтому на путешествия хватало. А в последние годы, конечно, уже никуда не ездим. И денег нет, и здоровье деду уже не очень позволяет.
– Сколько же ему лет? – Дорошину отчего-то заранее нравился неведомый ему старик.
– Восемьдесят шесть. Нет, он крепкий у меня. Не болеет ничем. Зарядку делает каждый день, ледяной водой обливается, таблеток никаких не пьет, давление у него как у космонавта. Сейчас зимой каждый день десять километров по реке на лыжах проходит. Дед удивительный. Никогда не курил, зато каждый день в обед обязательно выпивает рюмку водки, а за ужином – стакан красного сухого вина. И убежден, что именно эта привычка позволила ему сохранить здоровье. Представляете?
Дорошин представлял. Таких людей, как Федор Иванович Золотарев, в нынешние времена уже не делали. Это была старая школа, уходящая натура, как говорят художники, и уход этот был катастрофой для ныне живущих молодых поколений, хотя те, похоже, этого даже не осознавали.
На таких людях, как профессор Золотарев, держался огромный пласт российской культуры. И за ними не было никого, кто мог бы сделать шаг, выйти на первый фланг, подхватить тяжелое бремя, спасти, сохранить, преумножить, оставить потомкам. Тем самым потомкам, которые сегодня говорили не на литературном русском языке, а на дурацком сленге, сплошь состоящем из междометий, не отличали Мане от Моне, удивлялись, почему стоит памятник Чехову, если «Муму» написал Тургенев, классику читали в лучшем случае в хрестоматии, сочинения скачивали из Интернета и были уверены, что Вторую мировую войну Гитлер развязал, потому что поссорился с Лениным.
Дорошин приехал к поезду прямо с работы и внезапно понял, что голоден. Идти в вагон-ресторан одному было неудобно, а приглашать с собой Елену Николаевну он не хотел, дабы она не расценила это как элемент потенциального ухаживания. Ухаживать за ней он не собирался. Несмотря на внезапное превращение из чучела в обычную женщину, она все же была не в его вкусе. Да и легкого приключения с ней выйти не могло ни при каких обстоятельствах. Такие женщины, как Золотарева, в романах увязали намертво, как будто попав в затвердевающий цементный раствор. Она была слишком обстоятельной, слишком серьезной, слишком правильной, чтобы с ней можно было закрутить интрижку. Серьезные же отношения с ней пугали своей окончательностью. Точки возврата из них не было. Только с кровью. Только разрезая по живому, вырывая сердце с мясом. Как говорила бывшая жена Дорошина, «кому, простите, нужна такая работа?».
Пока он думал об этом, она достала из своей сумки пакет, из которого извлекла умопомрачительно пахнущую жареную курицу, хрусткий багет, ломти адыгейского сыра, крупные глянцевобокие помидоры, сваренные вкрутую яйца и прилагаемую к ним обязательную соль в спичечном коробке, с ловкостью фокусника вытащила из недр все той же сумки бутылку коньяка (может, думая о ней, как о вишне в шоколаде с коньяком, Дорошин просто учуял запах из плотно закупоренной бутылки?) и деловито предложила Дорошину поужинать.
– Вы же с работы, – сказала она, и полковник посмотрел на нее с благодарностью.
Потом они пили огненный чай из стеклянных стаканов в металлических подстаканниках. Чай в таких стаканах с детства был самым вкусным на свете, хотя Дорошин и не мог объяснить почему. Потом уткнулись каждый в свою книжку, и Дорошин внезапно задремал, хотя вовсе не собирался спать, а совсем наоборот, был готов почитать, а потом перед сном еще поговорить с Еленой про ее волшебного деда и всю их семью.
Он был благодарен ей, что она не щебечет над ухом, не вовлекает его в разговоры, не дуется демонстративно, что он молчит. Во всех ее повадках пряталась закоренелая привычка к одиночеству, понятная и легко объяснимая у старой холостячки. Как с удивлением обнаружил Дорошин, Елена Золотарева относилась к редкому числу людей, с которыми хорошо молчать. И в этом ненапряжном молчании они и доехали до Санкт-Петербурга и теперь стояли на площади Восстания, похоже, окончательно онемев от окружающей их «невозможной красоты», как изволила выразиться Елена. Впрочем, Дорошин был с ней полностью согласен.
– Пойдемте, Елена Николаевна, – сухо сказал он, пытаясь скрыть свои не совсем приличествующие взрослому мужику, да еще и целому полковнику, эмоции. – Нас ждут. Давайте не будем терять время. В конце концов, мы сюда по делу приехали.
– Конечно-конечно, – чуть испуганно согласилась она, закинула на плечо ремень своей спортивной сумки и пошла за Дорошиным в сторону метро.
Коллекционер Леонид Соколов оказался статным седовласым красавцем в возрасте чуть за шестьдесят. Дорошин мельком подумал, что другие мужики в присутствии Соколова должны были тут же начать испытывать комплекс неполноценности, поскольку выглядел он успешным, благополучным, будто только сошедшим с глянцевых страниц одного из журналов, пропагандирующих красивую жизнь.
Сам Дорошин от комплексов избавился достаточно давно для того, чтобы не испытывать раздражения, хотя отдал должное и неброскому костюму от Бриони, и ботинкам от Берлуччи, и рубашке от Итон, и Ролексу на запястье – обязательному атрибуту настоящей успешности.
В квартире Соколова, огромной, переделанной из двух питерских коммуналок, ощущался стойкий запах денег. Причем это была не пошлая, дерущая горло сладость быстрого обогащения, дерзкого, полузаконного, а то и вовсе откровенно криминального. В воздухе висел тонкий, с чуть слышными нотками горечи аромат стабильности, непоколебимой уверенности в завтрашнем дне, не зависящей от курса доллара и цен на нефть, и собственного превосходства.
Дорошин покосился на Елену Золотареву. Ему было любопытно, попала ли она уже под магию, которую, несомненно, излучал этот человек. Но Елена выглядела совершенно спокойной. В ее серых глазах на таилось даже искры того пламени, которое плясало в них при виде залитого новогодними огнями Невского проспекта. Вот проспект у нее действительно вызывал восторг, а этот мужчина – нет.
– Ромом пахнет, – пробормотала она, смешно поведя кончиком носа.
Дорошин снова принюхался и с удивлением понял, что она права. Пахло действительно ромом, а вовсе не деньгами.
– Это не ром. – Из-за плеча коллекционера появилась молодая женщина, то ли жена, то ли секретарша, то ли два в одном. – Это одеколон «Straight to Heaven» от Киллиан. – Она не добавила пошлое «если вам это о чем-нибудь говорит», и Дорошин поставил Соколову еще один маленький плюс. Его женщина была кем угодно, но не дурой. – Древесный аромат смешан с мускусом, жасмином, пачулей, виргинским кедром, янтарем, мускатным орехом, ванилью и, собственно, ромом. Леонид уже много лет пользуется только этим одеколоном.
Золотарева независимо дернула плечом, показывая, что приняла информацию к сведению. Дорошина, который одеколоны не признавал по причине их полной бесполезности, еще в относительно молодые годы перейдя на лосьоны после бритья, отличие виргинского кедра от пачулей не интересовало, хотя, по его разумению, янтарь ничем пахнуть не мог.
– Мы по поводу картины Фалька, которую вы приобрели, – сказал он Соколову, чтобы перейти уже наконец к делу. – Я – полковник Дорошин Виктор Сергеевич. Со мной старший научный сотрудник нашей областной картинной галереи Золотарева Елена Николаевна. Мы бы хотели осмотреть картину.
– Не могу сказать, что это вызывает у меня восторг, но препятствовать вам я не буду, – сухо сказал Соколов, оказавшийся владельцем глубокого баритона, удивительно подходящего к его внешности. Он вообще был гармоничным человеком, этот самый владелец краденого Фалька. – Я собираю свою коллекцию на исключительно законных основаниях, и если бы у меня возникла хотя бы тень сомнения, что «Апельсины в корзине» краденые, то я бы приобретать их не стал.
– Давайте посмотрим на полотно, а потом поговорим, – сказал Дорошин. – Вы же понимаете, что если приобретенная вами работа действительно принадлежит музею, где работает Елена Николаевна, то у меня возникнет к вам достаточно много вопросов.
– Пройдемте в мой кабинет. – Коллекционер чуть слышно вздохнул и сделал приглашающий жест куда-то вглубь нескончаемого широкого коридора, больше похожего на музейный зал. Везде были картины, и теперь Елена крутила головой с интересом – ей, как искусствоведу, было на что посмотреть.
Полотно, ради которого они приехали в Питер, лежало в кабинете на столе, и Елена взяла его в руки аккуратно, чуть ли не с благоговением. На первый взгляд Дорошина в картине не было ничего особенного. Мрачный размытый фон, корзина с вложенной в нее ярко-синей тканью, оранжевые апельсины, трудно отличимые от персиков. Ну ничего такого, что могло бы оправдать цену, превышающую миллион долларов.
Дорошин напрягся, вспоминая все, что он знает о Роберте Фальке. Известный русский живописец, яркий представитель авангарда и модерна. Родился в Москве, в семье достаточно известного юриста и шахматиста. В начале двадцатого века стал одним из основателей знаменитого творческого объединения «Бубновый валет». В начале тридцатых годов долго жил в Париже, но в тридцать седьмом зачем-то вернулся в Советский Союз.
Ранние работы художника были импрессионистскими, однако затем он перешел к авангардизму. Писал портреты, натюрморты и пейзажи в знаменитой кубистической манере, очень тонкой и нежной. Именно эта нежность и стала его фирменным стилем. Дорошин снова покосился на «апельсины», в которой особой нежности не видел, хоть ты убей!
– Да, это действительно наш Фальк, – говорила тем временем Елена Золотарева, которая сейчас совсем не походила на то унылое существо, которое он привык видеть в одном кабинете с Марией Склонской. Глаза ее горели, движения были энергичными и резкими. Она выглядела как человек, который занят важным, а главное, совершенно своим делом. – «Апельсины в корзине» датированы одна тысяча девятьсот тридцать третьим годом. Эта картина написана в Париже. Холст, масло. Размеры 51 на 64 сантиметра. Сзади была наша маркировка с названием галереи и инвентарным номером. Она, конечно, сорвана. Но тем не менее это наша картина. Вот, Леонид Аркадьевич, документы, подтверждающие мою правоту. Вот каталог, изданный нашей галереей двенадцать лет назад. Как вы видите, «Апельсины в корзине» здесь есть. Вот справка, подтверждающая, что картина была похищена из наших фондов. Убедитесь, пожалуйста.
– Н-да, влетел! Рано или поздно это случается с каждым коллекционером, – философски заметил Соколов. – Будете изымать?
– Будем, Леонид Аркадьевич, будем обязательно. – Дорошин тоже достал необходимые для этого документы, которые привез с собой. – Понятно, что изъятая картина будет сдана на экспертизу. О ее результатах вы будете оповещены. А сейчас расскажите, пожалуйста, где, когда, у кого и при каких обстоятельствах вы приобрели эту картину.
– Я был по делам в Москве и зашел в художественную галерею, которая принадлежит моему давнему приятелю Григорию Орлову. Он – страстный коллекционер, но в отличие от меня не имеет основного бизнеса, приносящего стабильный доход. Гришка зарабатывает на перепродаже произведений искусства и, зная мои пристрастия, периодически подкидывает мне достойные экспонаты для моей коллекции. Видите ли, я интересуюсь всем, что связано с «Бубновым валетом». Собираю картины художников, входящих в объединение, и так как Фальк – один из них, то, несомненно, его полотна занимают достойное место среди моих экспонатов. Еще от одной работы я, естественно, не отказался. Гришка никогда не был замечен в торговле краденым, да и каталоги работ, числящихся в розыске, я, естественно, посмотрел. «Апельсинов» там не было.
– Конечно, не было, – пробурчал Дорошин. – Кража была выявлена недавно. И мы даже не знаем, когда она произошла. Когда вы купили картину?
– В августе.
– Что-нибудь из вот этого списка вам еще предлагали купить? – Дорошин протянул перечень украденных из галереи полотен. Соколов быстро, хотя и внимательно пробежал его глазами и отрицательно покачал головой.
– Нет, хотя Кончаловский меня бы тоже заинтересовал.
– Можно ли полюбопытствовать, в какую сумму обошлась вам картина?
– Можете, но я вам не отвечу. Эту сумму, судя по всему, мне придется списать на убытки, так что позволю себе оставить ее своей коммерческой тайной.
– Если я попробую угадать, вы дадите понять, что я права? – снова вступила в разговор Елена. – В 2005 году на аукционе Кристис «Женщина с розовым веером», написанная Фальком еще до отъезда в Париж, была продана за миллион семьсот сорок восемь тысяч долларов. Рекорд стоимости на картины Фалька был установлен в 2013 году, правда, сумма его не разглашается. Коллекционер из России, пожелавший сохранить инкогнито, выкупил две картины русских художников до начала торгов на Сотбис. Одной из них была работа Фалька «Мужчина в котелке», а второй – как раз Кончаловский. Кстати, этим неизвестным коллекционером были случайно не вы?
– Предпочту не отвечать на этот вопрос. – Соколов склонил голову, глядя на Золотареву чуть иронично. – Он не имеет отношение к делу, по которому вы нанесли мне визит.
– Ну почему же, – невозмутимо ответила Елена. – Говорили, что сумма, за которую был приобретен Фальк, в несколько раз превысила эстимейт[2], который был установлен почти в шесть миллионов долларов. Если это были вы, то рискну предположить, что за неаукционную картину, купленную вами в художественном салоне, вы легко могли выложить от одного до полутора миллионов долларов. Не больше, поскольку, по оценке экспертов, аукционная стоимость «Апельсинов в корзине» могла бы достигнуть миллиона семисот тысяч. Но и не меньше, чтобы хватило и посредникам и тому, кто украл картину в галерее. Ну что, я угадала?
– Скажем так: я отдал за это полотно сумму, которая была мне по силам. Границы вы указали верно. Как и то, что картина, купленная с рук, солидно дешевле даже эстимейта, не говоря уже об итоговой стоимости лотов.
– Хорошо, мы будем считать, что вы заплатили примерно миллион долларов, – кивнула Елена. – Не знаю, как вам, а мне очень жаль, что ваши деньги достались вору, подлецу и, возможно, убийце.
– Вы сказали, убийце? – Брови Соколова встали домиком.
– Да. Убит один из сотрудников картинной галереи. Мы подозреваем, что это связано с кражей, – пояснил Дорошин. – Леонид Аркадьевич, мы будем вынуждены задать ряд вопросов Григорию Орлову. Так что вы уж предупредите его, чтобы не навлекал на себя дополнительных неприятностей.
Они закончили разговор и вышли на улицу, держа в руках тщательно упакованную и перевязанную бечевкой картину.
– Куда сейчас? – спросила Елена. – Я так понимаю, что раз след ведет в Москву, никакие встречи в Питере нам больше не грозят? Как-то страшно бродить по улицам с миллионом долларов под мышкой.
– Да уж, и в камеру хранения ее не сдашь, – засмеялся Дорошин. – Но не на вокзале же сидеть! У вас какие были планы на свободное время?
– В Русский музей хотела сходить, точнее, в Михайловский замок. Там выставка интересная в начале декабря открылась. «Георг Христоф Гроот и Елизаветинское время». Дед обязательно велел посмотреть, а потом ему рассказать.
– Ну вот и пойдемте, – решительно сказал Дорошин. – Там поблизости и перекусим что-нибудь. Поезд у нас с вами только в пять часов вечера. А за сохранность картины не бойтесь, я с нее глаз не спущу. Хотя никак я не могу взять в толк, что именно в ней стоит так дорого?!
– Смешной вы. – Золотарева вдруг улыбнулась, ясно-ясно. – Вы знаете, Фальк же из Парижа вернулся для того, чтобы привезти свои картины на родину. Мечтал о том, что они будут выставлены в советских музеях. А им, то есть музеям, после войны вообще запретили приобретать его произведения и сотрудничать с ним запретили. Он же для театров декорации делал, так и театрам было запрещено привлекать его к работе. Фальк был дружен с писателем Ильей Эренбургом, так тот говорил, что Роберта Рафаиловича практически похоронили заживо. Его картины массово приобретали друзья, чтобы семья художника просто не умерла с голоду, и конечно, тогда о миллионах долларов никто даже подумать не мог. А потом по Фальку еще и Хрущев прошелся, на той самой печально известной выставке современного искусства, так что покупать его для государственных собраний по-прежнему не могли. Зато сейчас могут. И в музеях он есть, и частные коллекционеры за него миллионы готовы выкладывать. Жаль, что прижизненного признания не было, но история все расставляет на свои места.
– Будем надеяться, что и в нашем с вами случае история справится, – улыбнулся Дорошин. – Преступника мы вычислим, картины в музей вернем, главное, чтобы это торжество справедливости случилось еще при нашей жизни.
– Надо постараться, – сказала Елена серьезно.
* * *
Немного подумав, Дорошин принял решение, не возвращаясь домой, отвезти изъятую у Соколова картину Фалька на экспертизу в Москву. Как он и ожидал, Елена Золотарева увязалась за ним.
– Мне же интересно, – сказала она, серьезно глядя на него своими огромными серыми глазищами. – Это же приключение, настоящее приключение! И так получилось, что оно мое. Нет, я его ни за что никому не отдам!
В общем-то Дорошин ее понимал. В жизни старшего научного сотрудника областной картинной галереи не было ничего даже отдаленно напоминающего приключение. Что ж удивляться, что ей интересно принимать участие в настоящем расследовании! Впрочем, из числа подозреваемых Дорошин Золотареву еще не вычеркнул, поэтому понаблюдать за ней в новых для нее условиях было совсем нелишне.
До Нового года, конечно, оставалось всего ничего, но он не любил откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. А сегодня можно было обсудить ход расследования с верным другом Эдиком Киреевым, а заодно попытаться потянуть за ниточку, ведущую от Алены Богдановой к неизвестному пока ценителю дамской красоты, визитка которого болталась у Дорошина в кармане.
В версию внезапной страсти, которой богатый московский коллекционер воспылал к провинциальной простушке, он не верил. Единственное достоинство Богдановой, на его взгляд, заключалось в непрошедшей пока молодости. Она не была красавицей, на которую на улицах оборачивались бы мужчины. Симпатичная, не более того…
В комплекс Пигмалиона, решившего облагородить простой материал и слепить из него что-то удобоваримое, ему тоже верилось слабо. Бедную Золушку, пусть даже и с дипломом искусствоведа, полученного в захудалом педагогическом университете, можно было подобрать и в Москве. Отправляться для этого за двадцать верст было совсем необязательно. Можно подумать, в столице нет маленьких, плохо одетых зубастеньких щучек, готовых предоставлять свое молодое тело в обмен на конвертируемые дензнаки!
Любительницы собирать коллекцию с портретами американских президентов встречались везде, и на их фоне ничего выдающегося в Алене Богдановой не было. Именно поэтому Дорошин считал, что настоящий интерес пока неведомого ему коллекционера, которого, согласно его визитной карточке, звали Михаилом Николаевичем Колесовым, был вызван именно фондами областной картинной галереи, в которой трудилась Богданова, а сама девушка была лишь ключиком, отпиравшим заветную дверцу, за которой прятались сокровища.
– А зачем он тогда велел ей не скрывать их связи? – спросил Дорошина Эдик Киреев, с которым он поделился своими сомнениями.
– Чтобы отвести подозрения.
– Ой, не знаю, – усомнился Эдик. – Слишком примитивно, чтобы быть правдой. В одном ты прав. Встречаться с ним действительно надо. В таком деле, как твое, из одного клубка торчит сто концов ниток. За один потянешь, а он раз – и оборвется. За второй – тоже ни к чему не придешь, но рано или поздно нужный кончик найдется.
– Это же какое огромное терпение нужно иметь, чтобы заниматься вашей работой, – сказала вдруг Елена. – Я же знаю, многие картины в розыске находятся десятки лет. Кропотливо тянуть за разные ниточки, которые обрываются прямо в руках без всякой надежды на скорый результат, непросто. Думаю, что многие люди не выдерживают долго, ломаются и уходят, а вы, Виктор Сергеевич, остались. Почему?
– Не знаю. – Дорошин пожал плечами. – Характер такой, наверное. Я в детстве всегда помогал маме ягоды перебирать. Дед с отцом и дядей Колей в лес ездили и на болота тоже. За клюквой, брусникой, черникой, морошкой. Привозили ведра и туеса, а мама с бабушкой садились все это перебирать и чистить. И я всегда им помогал. Меня монотонная работа не раздражала ни капли. Сидишь, дело делаешь, а голова свободная. Можно думать о чем хочешь. Мама все удивлялась. Говорила, что девчонок обычно не заставишь ягоды чистить, а я запросто. И гречку мне подсовывала перед варкой. Сама не любила ее перебирать, а я соглашался.
– Не удивлюсь, если узнаю, что вы увлекаетесь вышивкой, – сказала Елена. – Такая же монотонная работа, требующая внимательности и сосредоточенности.
– Нет, вышивкой я не увлекаюсь, – засмеялся Дорошин, – хотя признаюсь, что до недавнего времени у меня было одно не очень мужское хобби. Я шил кукол.
– Что ты делал? – вытаращил глаза Эдик.
– Кукол шил. И не смотри ты на меня так, ей-богу! Это как в детстве гречку перебирать. Руки заняты, головой вроде думаешь, какие нитки подобрать, какие глаза пришить, какой наряд сварганить, но при этом мозги так прочищаются, что решение самой сложной задачи вдруг приходит вмиг, само по себе.
– И много у вас кукол? – заинтересованно спросила Елена.
– Да штук двадцать-тридцать. Я этим начал заниматься, как сын подрос. Сначала мы с ним модели клеили. Фрегаты, самолеты… Потом он стал старше, и ему это перестало быть интересно, а у меня в одиночку не пошло. Да и дорогое это удовольствие, если честно. С куклами как-то проще. Я лет восемь, наверное, этим занимался.
– А сейчас бросили?
– Да не то чтобы бросил. Сейчас я все свободное время на дом трачу. Тут приколоти, там проведи, тут отмерь, там отрежь. Года на два мне занятий точно хватит, а дальше – как пойдет.
– Господи, сколько лет я тебя знаю, а ты все еще открываешься для меня каждый раз с новой стороны, – простонал Эдик. – Нет, барышня, я вам доложу, это уникальный человек, совершенно уникальный! И дело тут вовсе не в куклах, конечно. А может, и в куклах. Вы видели, какой он каталог пропавших икон создал? Это же чудо, а не каталог. Такого ни в одной области, кроме вашей, нет. Полное собрание пропавших сочинений. Он же каждую церковь прошел, практически в каждой деревне с жителями поговорил. Там такие подробные описания, которые в государственных музеях нечасто встретишь.
– Да ладно тебе, захвалил совсем, – пробормотал отчаянно покрасневший Дорошин. Отчего-то ему было очень приятно, что друг говорит все это именно при Золотаревой. Почему-то при ней ему хотелось казаться лучше. Наверное, оттого, что ею так дорожила «его старуха», Мария Викентьевна Склонская.
– И ничего я не захвалил, – запальчиво вскричал Эдик. – Вы мне лучше скажите, барышня, он вам про Дуниловскую икону рассказывал? Вот где работа была проделана огромная, так это там! И в этой истории он во всей красе себя проявил.
– Нет, не рассказывал, – воскликнула Елена, лицо которой выражало искреннюю заинтересованность. – Эдуард, расскажите, пожалуйста, мне правда очень интересно.
И Эдик, отмахнувшись от пытавшегося что-то возразить Дорошина, начал неспешный рассказ.
Когда Виктор Дорошин еще был не полковником, а только начинающим свою служебную деятельность молоденьким лейтенантом, только что пришедшим в отдел по розыску пропавшего антиквариата и предметов искусства, он действительно много ездил по области, разговаривал со священнослужителями, изучал сохранившиеся иконостасы, читал специальную литературу, пытаясь с присущей ему дотошностью разобраться в деле, которым собирался заниматься.
Случай свел его с отцом Алексеем, настоятелем храма в Никольской Слободе, человеком прогрессивным и образованным. За год он дал Дорошину столько, сколько тот не получил бы и за пять лет учебы в самом лучшем университете. Разговоры с отцом Алексеем были для совершенно ненабожного Дорошина сродни глотку чистой ледяной воды из родника, поэтому и выкраивал он каждую свободную минуту, чтобы съездить в Слободу.
Выдерживал ссоры с женой, которой это, естественно, не нравилось. Прыгал в машину, заезжал в магазин на окраине Слободы, чтобы купить несколько буханок хлеба, сахар, чай и тушенку, которыми отец Алексей подкармливал пригревшихся при храме бездомных, и часами сидел в небольшом деревянном домике при церкви, в которой жил настоятель Никольского храма, слушал его неспешные рассказы, прихлебывая горячий чай вприкуску с корочкой черного хлеба, и было ему так вкусно и так интересно, что он забывал обо всем на свете.
Отец Алексей родился и вырос в Москве. Родители у него были людьми известными и состоятельными. Отец – кинорежиссер, снимавший по заказу фильмы про советские стройки и Героев Социалистического Труда, мать – актриса, не очень известная широкой публике, но все-таки регулярно снимающаяся в кино благодаря связям мужа.
Родителей маленький Леша почти не видел, воспитывала его бабушка, мать отца, набожная и тихая женщина. Втайне от партийного сына она окрестила мальчика и иногда, взяв с него слово держать их походы в тайне, водила его в церковь. Когда Алексею исполнилось шестнадцать, он ободрал обои в своей комнате и на одной стене нарисовал большой портрет Джона Леннона, а на другой – Богоматерь во весь рост. Представление о том, каким должно быть изображение, шло откуда-то изнутри.
Родителей его поступок вверг в шок. Они пытались грозить всевозможными карами, требуя убрать «наскальную живопись» и своими руками поклеить обои взамен поруганных, но Алексей стоял насмерть. Уже тогда внутри этого тихого человека скрывалась недюжинная сила духа, перед которой родители были вынуждены отступить.
Учился он блестяще, после школы легко поступил на факультет международной журналистики в МГИМО, говорил на двух языках и пользовался большим успехом у московских девушек, поскольку слыл завидным женихом с богатыми карьерными перспективами.
Однако в середине второго курса Алексей бросил институт и ушел в армию, а вернувшись через два года, поступил во ВГИК.
– Против генов не попрешь, – сказала тогда мать, смирившаяся с тем, что обуздать сына у нее вряд ли получится.
Получив диплом с отличием, дающий право работать художником-постановщиком, Алексей снова потряс родителей, уехав за двести километров от Москвы восстанавливать заброшенную церковь в Никольской Слободе, да там и остался. Был рукоположен в сан священника и получил приход в храме Казанской Божией Матери. Именно в этом храме отец Алексей и показал Дорошину Дуниловскую икону.
– Икона явилась в 1677 году в устье речки Дуниловки в День апостолов Петра и Павла, а увидел ее в прибрежном ворохе сучьев, прибитых к берегу, крестьянин Диомид Крохалевский, – рассказывал священник. Дорошин слушал внимательно, даже рот приоткрыл, так ему было интересно. – Он поместил икону в нишу, высеченную им в стволе дерева, а вскоре вместе с сыновьями поставил на месте явления деревянную часовню. Крестные ходы с иконой в девятнадцатом веке совершались каждый год. Хранилась она в каменной церкви в Дунилово. Настоятель этого храма после прихода советской власти был расстрелян, а за иконой прибыла из Москвы специальная комиссия. Вот только изъять ее не удалось, когда лик доставали из киота, икона упала в щель между стеной и полом. Достать ее смогла только маленькая девочка с тоненькими пальчиками, и чтобы спасти реликвию, дуниловцы передавали ее из рук в руки, прятали на сеновалах, чердаках и подполах домов, все время меняя дислокацию, чтобы выследить, где она в данный момент, никто не мог. Иногда совершались сплошные облавы, и икону в таких случаях уносили в лес.
В девяностые годы двадцатого века икону удалось выставить на всеобщее обозрение. Так она попала в храм в Никольской Слободе. Чудотворная Дуниловская икона представляла собой копию с Казанской иконы Богоматери, но при этом отличалась некоторыми особенностями. Ее описание гласило: «На верхней ее половине было помещено изображение Богоматери с Предвечным Младенцем на руках, по правую руку от нее был изображен архангел Михаил, архистратиг небесных воинств, а по левую – пророк Илия. На нижней половине иконы представлен святитель Николай, Мирликийский чудотворец; по левую сторону его помещается образ св. Тихона, Амафунтского чудотворца, а по правую – изображение преподобномученицы Параскевы, нарицаемой «Пятница». Икона Богоматери писана на доске, имеющей 1 аршин длины и 10 вершков ширины, и украшена серебряной позлащенной ризой с драгоценными камнями в венце».
– Удивительная была вещь, – сказал Дорошин Елене. – Я до того, как ее увидел, в жизни не верил, что могу чувствовать энергетическую волну, идущую от деревянной доски, пусть даже и расписанной. А от нее чувствовал. Когда я на эту икону смотрел, у меня озноб по коже шел, такой мощью она обладала.
– Обладала? – спросила Елена. – А потом что же?
– А потом ее украли. Я к тому моменту недолго в отделе работал. Может, год, может, два. Летом дело было. Жаркое оно в тот год стояло, все маялись от духоты, ночами не спали. Даже ночью жара не спадала. Открытые окна не приносили прохлады, а в ту ночь с вечера начался дождь. Да что там дождь, гроза! Ветер хлестал, похолодало сразу градусов на шесть. А утром выяснилось, что икона из храма пропала. Бесследно.
– И так и не нашли?
– Не нашли. Хотя я выяснил, и кто незадолго до ее пропажи в храм приезжал, и как машина, на которой преступники ехали, три раза на дороге в грозу переворачивалась да в кювет съезжала, и куда следы похитителей вели. По заказу ее украли, это с самого начала ясно было. Да только заказчик такой высокопоставленный оказался, что никакого хода этому делу так и не дали. Точнее, заказчица. Дама, которая у всей страны на слуху вот уже много лет.
– А отец Алексей что же?
– А отец Алексей умер. Сорок восемь лет ему всего было, а сердце в одночасье не выдержало. В этой иконе смысл его жизни был. А когда ее не стало, жить оказалось незачем.
– Эдуард, а вы сказали, что Виктор Сергеевич в поиске этой иконы чудо совершил. Как же так, если икона до сих пор не найдена?!
– Не чудо, а невозможное. Он же на эту высокопоставленную заказчицу вышел. И контакты смог найти, и позвонить не побоялся, и на встречу отправился. Уж как я его отговаривал, барышня, вы бы только знали! Но нет, ему же если шлея под хвост попадет, он удержу не знает. Я, когда его на эту встречу провожал, думал, больше не увижу. Охрана его там на куски порвет, но нет, вернулся, живой и здоровый. Бледный, правда, как смерть. Но это ничего.
– И чем дело кончилось? – У Елены глаза горели от любопытства, и были теперь не светло-серыми, как обычно, а асфальтовыми, почти черными, как после дождя.
– Договор мы заключили, – усмехнулся Дорошин. – Кажется, я тогда впервые понял, что такое сделка с дьяволом. Точнее, с дьяволицей. В общем, она не то чтобы призналась, что икона у нее, но пообещала, что в течение трех лет я получу известие, где икону можно забрать. Мол, нужна она пока для очень важного дела, а как оно свершится, так и вернется обратно в Никольскую Слободу.
– Как же она вернется?
– Когда срок придет, я об этом узнаю, – усмехнулся Дорошин. – Вот и жду. Два года из трех уже прошли.
– И вы правда верите в то, что она вас не обманет? – разочарованно спросила Елена. – Вы же вряд ли снова сможете с ней встретиться!
– Верю. – Дорошин вдруг усмехнулся. Жестко, по-волчьи оскалив зубы. – Не посмеет обмануть.
– И что же такое вы ей сказали?
– А что сказал, то останется между нами. Иначе слово силу потеряет. Такая вот история, Елена Николаевна. Но, ей-богу, для меня сейчас наше с вами общее дело гораздо важнее. На след Дуниловской иконы я вышел, а вот на след похищенных картин пока нет. Так что хватит предаваться воспоминаниям, давайте работать.
На встречу с Колесовым Дорошин отправился один, оставив Елену у Эдика. Михаил Николаевич оказался весьма дородным мужчиной в возрасте за пятьдесят, и, хотя было видно, что визит Дорошина не доставляет ему большого удовольствия, на встречу он согласился и на вопросы отвечал без видимого напряжения. Был он владельцем крупной IT-компании и явно не бедствовал.
Его рассказ про знакомство с Аленой Богдановой и свои планы относительно ее переезда в Москву полностью совпадали с тем, что рассказала Дорошину девушка. Мол, познакомились они на интернет-форуме, посвященном живописи. Собирается там приличная публика, обсуждает вопросы, связанные с искусством, есть раздел новостей, есть предложения купли-продажи, но все законно. Собственно, интернет-ресурс был разработан фирмой самого Колесова.
– Вы быстро поняли, что Алена ищет выгодное знакомство? – спросил Дорошин.
– Да сразу. – Колесов усмехнулся. – Видите ли, в моем возрасте, как правило, видишь и людей, и мотивы, которые ими двигают. Алена – девушка неглупая, образованная, с ней есть о чем поговорить, в том числе и в той сфере, которая мне интересна. Кроме того, она старается, если видит, что чего-то не знает, находит нужную информацию, переспрашивает, вникает, старается понять. Я это качество в людях уважаю. Да, она не скрывает, что ей нужен покровитель, потому что она устала от бедности. Что ж, я не против, тем более что задача мужчины – обеспечивать безбедное существование женщине.
– Это что, у вас благотворительность такая? Много ли женщин вы уже обеспечили?
– Вы моложе меня, но ненамного. Поэтому довольно скоро вы встанете перед той проблемой, которая возникла у меня. Она довольно интимного свойства, но вы не сплетни собираете, а работаете, поэтому я вам расскажу. У меня есть семья. Мы с женой вместе тридцать лет, она прошла со мной через период становления моего бизнеса, через нищету, через болезни детей, через то время, когда я сутками не бывал дома. Она заслужила все то, что сейчас у нее есть, благодаря мне. Поэтому мой уход из семьи не рассматривается и никогда не рассматривался. Но интереса к жене, как к женщине, я больше не испытываю, со всеми вытекающими из этого физиологическими последствиями. Чтобы быть на высоте, мне нужна молодая женщина, радующая глаз своей свежестью. Не слишком юная, не очень опытная, неиспорченная, если вы понимаете, о чем я. Мне не нужно, чтобы она меня любила, потому что это неизбежно ведет к выяснению отношений, попыткам увести меня из семьи и проблемам. Я этого не хочу. Мне был нужен объект для сделки. И в Алене я этот объект нашел.
– А в Москве нельзя было подобрать? Зачем везти за двести с лишним километров?
– Москвичка мне бы обошлась дороже, – усмехнулся Колесов. – У здешних девушек ценник на порядок выше. Да и откуда подходящую девушку возьмешь? На работе я романов не кручу, это вредно для дела. На званые приемы хожу с женой. В ресторане все те же одинокие щучки, пытающиеся заглотить наживку пожирнее. А тут прямо в руки свалилось такое чудо. Молодая, симпатичная, аккурат в моем вкусе, да еще и интересы у нее те же, что и у меня. Так что мы быстро обо всем сговорились. Конечно, сначала я к ней в переписке поприсматривался, потом съездил, вживую посмотрел, затем к себе пригласил, чтобы посмотреть, как ее поведение в столице изменится, когда она дорогие рестораны и магазины увидит, а потом решил, что мне это подходит.
– И все-таки я не понимаю, зачем вы приезжали к Алене, – сказал Дорошин. – Могли бы сразу ее к себе пригласить, и дело с концом. А тут утруждали себя, в нашу тьмутаракань ехали…
– Признаться, мне посоветовали посмотреть вашу галерею, – сказал Колесов. – Мы с Аленой уже месяца два переписывались, я понимал, что это то, что мне нужно, и обдумывал, как вызвать ее в Москву. Тут вы правы. И именно в этот момент встретился с приятелем одним. Ну, как сказать, приятелем… Скорее, знакомым. Он для моего сайта фотографии работ делает. Фотограф от бога. Так, как он, произведения искусства мало кто снимает. В общем, разговорились мы с ним, а тут Алена сообщение прислала. Я случайно в разговоре сказал, что вот, мол, девчушка прекрасная, пишет мне из славного города на Волге. И Андрей мне сказал, что в городе этом бывал и картинная галерея там прекрасная. Есть на что посмотреть. Вот я и решил, что, пожалуй, съезжу. Недалеко ведь, вместе с дорогами в один световой день уложишься. Сел да поехал.
Дорошин почувствовал, что, как в детской игре, вдруг становится «горячо». Он вспомнил рассказ Ксюши о визите в галерею неизвестного фотографа из Москвы, который снимал работы Куинджи, и после этого их никто не видел. Не тот ли это человек, о котором говорит Колесов?
– Михаил Николаевич, – он старался не выдавать охватившего его сыщицкого азарта, – а вы можете назвать мне фамилию того человека, который порекомендовал вам посетить нашу картинную галерею?
– Не доверяете? – насмешливо спросил Колесов. – Проверить хотите? Что ж, я не против. Проверяйте. Быстрее поймете, что ничего криминального в моих словах и поступках нет. Полгода назад побывать в вашем городе мне посоветовал фотограф Ян Двиницкий. Я последовал его совету, побывал в галерее, заодно вживую познакомился с Аленой.
– Почему же тогда вы стали давать ей деньги не сразу, а только сейчас? Она купила себе новую шубу всего неделю назад.
– Сначала устроил ей что-то типа испытательного срока. Хотел быть уверенным, что девочка не взбрыкнет и не наделает мне неприятностей. Мы с ней довольно долго утрясали детали нашего, хм, соглашения. А потом я в Америку улетал на несколько месяцев. У меня там подразделение работает, требовался хозяйский пригляд. Вот как вернулся, так Алену к себе и вызвал. Ну и денег дал. В знак благодарности. В общем, ты, мужик, меня извини, но в поступках моих нет ничего предосудительного, кроме кобелизма. Так, думаю, что в этом вопросе ты и сам не ангел.
Дорошин вспомнил Ксюшу и покраснел.
– Дайте мне телефон Двиницкого, – хмуро попросил он. – Если все так, как вы говорите, то не думаю, что у меня еще возникнут вопросы к вам или к Алене. В полиции нравов я, как вы правильно заметили, не работаю.
Домой к Эдику он возвращался с уловом – телефоном фотографа, снимающего произведения искусства. Почему-то он даже не сомневался, что именно этот человек был последним, кто видел в музее картины Куинджи. И наводчиком, сообщившим о хранящихся в галерее ценностях, тоже мог быть он. А потому перед встречей нужно было узнать об этом человеке как можно больше. И торопиться звонить по полученному телефону Дорошин не стал.
* * *
Тетрадь Грамазина жгла ему руки. Точнее, не сама тетрадь, а содержащаяся в ней информация, которая могла при правильном подходе стать хорошим источником обогащения. Конечно, большинство секретов в ней давно устарели и за них никто не дал бы даже ломаной полушки. А вот совсем свежие, приобретенные подлым Борисом Петровичем в этом году, вполне могли иметь ценность для их владельцев, но, перед тем как извлекать их на свет божий с целью скорейшего обогащения, нужно было хорошенько подумать.
К примеру, как поступил он сам, чтобы обезопасить себя от того, что его позор, точнее позор его семьи, будет обнародован? Для того чтобы завладеть проклятой тетрадью, он пошел на убийство. И повторись необходимость, убил бы снова, потому что нет ничего важнее чести своего старинного и славного рода.
Вдруг тот, кого он вздумает шантажировать, тоже решит, что самый простой и надежный способ избавиться от шантажиста – это заставить его замолчать навсегда? Умирать он не собирался, поскольку ему было о ком заботиться и ради кого жить.
Кроме того, другие люди могли относиться к сохранению своей тайны не так трепетно, как он сам. Такие, чего доброго, и вовсе обратятся в полицию, а объяснить, как именно у него оказалась тетрадь, не попадая под подозрение в убийстве, невозможно. Кому нужны лишние неприятности? Лучше уж не рисковать и держать рот на замке. А деньги? Что ж, у него их лишних никогда не было. На первоочередные нужды хватает, а без всего остального можно жить.
Хотя соблазн велик. Проблема заключалась именно в том, что деньги, большие деньги, нужны были ему именно сейчас, и гораздо сильнее, чем когда-либо. Поэтому, несмотря на голос разума, шепчущий, что не нужно пускаться в опасные авантюры, он то и дело испытывал соблазн рискнуть.
Обдумываемое предприятие не казалось совершенно уж безнадежным. В грамазинском списке значился как минимум один человек, который, как и он сам, совершил преступление. Уж этот человек жаловаться в полицию точно не побежит, и, скорее всего, переговоры с ним могут обернуться получением солидного куша. Согласится ли он делиться или предпочтет убить, как это сделал он сам? На этот вопрос у него не было ответа.
Рискнуть и получить так необходимые ему деньги? Не рисковать и не выдавать себя? Рискнуть и жить, озираясь, чтобы не получить по голове в темной подворотне? Не рисковать, но так и не исполнить мечту своей девочки? Разве ж это плохо, когда у юной женщины есть мечта? И разве не обязанность мужчины – обеспечить ее реализацию, неважно каким способом?
Он мучился и не спал ночами. Именно эта неопределенность не давала ему покоя, а вовсе не призрак убитого им человека. Грамазин был вздорным, несносным старикашкой, для которого не существовало понятия чужого личного пространства. Он зашел за черту, за которой ему было нечего делать, и поплатился за это. С этим все ясно. Но как все-таки поступить? Рискнуть – не рисковать? Ему вспоминалось детское гадание на ромашке: «любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет…» Послать все к черту очень хотелось. Но и денег хотелось тоже.
В том, что у того, другого, человека эти деньги есть, он был уверен. Деньги были шальные, шайтановые, не заработанные честным трудом, а украденные. И отнимать их через шантаж было ни капельки не стыдно. Страшно, но не стыдно.
Впрочем, трусом он никогда не был. На то, чтобы убить Грамазина, тоже требовалась смелость. Он вспомнил, как шагнул через порог полутемной прихожей, освещаемой тусклой лампочкой, оставив в подъезде последнюю возможность отступить, и зябко поежился. Нет, ему не было жалко старика. Немного жаль было только той прошлой своей жизни, в которой он еще не был убийцей. Хотя война за честь семьи – справедливая война, достойная, многое оправдывающая.
Он – смелый человек, воюющий за свою семью и счастье ее членов. Конечно, ему всегда мечталось, чтобы семья была больше, но бог рассудил иначе. Что ж, так тому и быть. И если сегодня счастье семьи требует стать не только убийцей, но и шантажистом, значит, и этому тоже так и быть. Время раздумий и сомнений вышло. Наступило время действовать.
Он продаст проклятую тетрадь единственному человеку из списка, который точно ее купит. Он добудет деньги, которые ему так нужны, и избавится от искушения монетизировать остальные хранящиеся в тетради секреты. Ни в одну реку нельзя войти дважды. Он даже и пытаться не будет. Он пойдет на сделку только один раз, а это значит, что разговор, который он наметил на завтра, будет важным, решающим. От того, что он скажет, насколько убедительным будет, зависит все. А значит, ошибиться нельзя.
* * *
Новый год пришел к Дорошину в небольшой, но очень интересной, а главное – неожиданной компании. Если утром тридцатого декабря он еще с унынием думал о том, что главную ночь года ему придется встречать в гордом, хотя и унылом одиночестве, то уже к обеду выяснилось, что к нему придут гости.
Об этом сообщила телефонным звонком Мария Викентьевна.
– Витенька, мальчик мой, – пробасила она в трубку, – хочу задать вам неудобный вопрос. Вы не будете против, если в новогоднюю ночь я нежданно-негаданно свалюсь вам на голову? Или мой визит нарушит ваши планы?
Признаться, что планов никаких нет, было стыдно, и Дорошин чуть было не соврал, что приглашен в гости к друзьям, но вовремя остановился. Врать он не умел. В большинстве случаев, кроме тех, когда это было нужно по работе, у него просто язык не поворачивался, чтобы соврать. Кроме того, от перспективы в полном одиночестве дождаться боя курантов, выпить бокал шампанского, закусить его бутербродом с икрой и лечь спать веяло таким одиночеством, что зубы ломить начинало.
– Нет у меня никаких планов, – признался он. – С женой я, как вы знаете, развелся, у сына своя компания, у друзей по работе – своя, так что я один, Мария Викентьевна, если вам интересно мое общество, то присоединяйтесь, буду рад.
– Вы меня извините, Витенька, но я за последние несколько лет привыкла отмечать новый год в Коленькином доме, – сказала Склонская. – У моей дочери и внуков тоже планы, они на Новый год уезжают куда-нибудь в Европу, так что я остаюсь одна, а одиночество в старости гораздо страшнее, чем ваше. Вы уж поверьте мне, старухе.
– Я понимаю, Мария Викентьевна, и очень рад, что вы придете ко мне, – совершенно искренне признался Дорошин. Будто невидимая, но очень крепкая нить связала его с этой женщиной, вместе с домом доставшейся в наследство от дяди. Отчего-то рядом с ней жизнь приобретала новый смысл. – Вот только боюсь, что вам будет скучно со мной. Я всегда был бирюком, а уж после развода совсем одичал.
– А я не одна приду, – живо откликнулась Склонская. – Мы и в прошлый год с Коленькой не вдвоем куковали. Пожилым людям нужно что? Общение. Вот мы его и организовали, и завтра тоже организуем. Вы не против?
– Хорошо, – засмеялся Дорошин, понимая, что предстоящий Новый год точно нельзя будет назвать скучным. – А кого мы еще позовем?
– Так Золотаревых. Леночку вы уже знаете, а ее дед, Федор Иванович, интереснейший собеседник, смею вас уверить. Он и Коленьку хорошо знал, и мужа моего, Ивана Александровича, царствие ему небесное, и вам он обязательно понравится. Я обещаю.
То ли жизнь, то ли Мария Викентьевна настойчиво сталкивали Дорошина с Еленой Золотаревой, но, как ни странно, он не испытывал по этому поводу никакого внутреннего протеста. С ней было хорошо молчать, это он понял еще в поезде. Она с легкостью подхватывала беседу на ту тему, которая в данный момент была интересна Дорошину, и он уже успел заметить, что Елена обладает широкой эрудицией. Она не страдала навязчивостью, соблюдала дистанцию, имела чувство собственного достоинства, обладала острым умом, а главное – не была равнодушной, вспыхивая искренним интересом к тому, что ей рассказывали. История с Дуниловской иконой была живейшим тому подтверждением.
– Хорошо, Мария Викентьевна, я согласен, – сказал Дорошин, стараясь, чтобы голос не выдавал внезапно охватившую его радость. – Вот только с едой надо что-то придумать. Я признаться, еще в магазине не был. И елки у меня нет.
– Коленька всегда наряжал елку, которая во дворе, – укоризненно сказала Склонская. – Игрушки хранятся в сундуке на чердаке, таком, знаете, большом, расписном, с резной крышкой. А насчет еды не беспокойтесь. Я напеку пирогов, Леночка сделает парочку салатов, Федор Иванович рыбку засолил уже, он по соленой рыбке большой спец. Самовар поставим, шампанское откроем. С голоду не пропадем, я уверена.
– А я тогда мясо на углях пожарю, – с воодушевлением подхватил Дорошин. Но тут же вспомнил Ксюшу, которая терпеть на могла запах жареного на мангале мяса, и, спохватившись, уточнил: – Вы ведь будете есть мясо на углях?
– Я обожаю все, что приготовлено на открытом огне, – заявила Мария Викентьевна. – Это же прекрасно – сразу после боя курантов выйти во двор к елке, разжечь мангал, нажарить мяса и есть его, запивая горячим глинтвейном. Глинтвейн я возьму на себя, Витенька.
Все вышло именно так чудесно, как они и планировали. Утром тридцать первого декабря Дорошин натопил все печи, изрядно прогревая дом, прочистил дорожки, замариновал стейки из мраморной телятины и свинины на кости, запас которых всегда держал в морозилке, нашел на чердаке нужный сундук, достал из него бережно завернутые в вату елочные украшения, многие из которых, оказывается, помнил с детства, и принялся украшать растущую неподалеку от бани елку, высокую и разлапистую, на пушистых ветвях которой лежали мягкие подушки белого снега.
На этом снегу елочные шары выглядели ярко-ярко, гораздо красивее, чем в комнате. В сундуке оказалась и длинная гирлянда из разноцветных лампочек, которую Дорошин подключил к розетке в бане. В общем, получилась не елка, а загляденье. Никогда у него такой красивой елки не было, если только в детстве.
На уличном развале он купил сосновые ветки, которые поставил в гостиной в вазу и украсил шариками помельче и дождиком. Оттаявшие в тепле комнаты ветки наполнили дом ароматом хвои, создав совсем уж новогоднее настроение, и Дорошин, вполне довольный тем, как здорово у него все получилось, решил еще съездить в магазин за шампанским и икрой.
Для него они были обязательными атрибутами праздника, как оливье и селедка под шубой. Он отчего-то был уверен, что Золотарева принесет именно эти два салата, без которых в России не наступает Новый год. Не похожа она была на человека, предпочитающего оливье и селедку рукколе с креветками. Для себя и неведомого ему пока Федора Ивановича он положил в морозилку бутылку хорошей водки, купленной когда-то по случаю, а вот о шампанском и икре стоило еще позаботиться.
Езда по запруженными машинами предпраздничным улицам требовала не только аккуратности, но и терпения. Несмотря на то что до ближайшего супермаркета было езды минут десять, дорога туда и обратно заняла почти два часа. Очереди в магазине были такими, будто людям предстояло не провести одну-единственную ночь в небольшой компании, а запастись продуктами как минимум на полгода вперед. И если икру и шампанское Дорошин добыл довольно быстро, то в колбасном отделе, решив прикупить еще и мясных деликатесов, застрял намертво, поражаясь ненасытности соотечественников и терпению продавцов.
Обратно к своему дому он подъехал уже в седьмом часу. Вечерние сумерки плотно накрыли спрятавшийся в темноте двор, поскольку Дорошин, уверенный в том, что вернется до темноты, уезжая, не включил наружное освещение. За забором лишь сверкала-переливалась его волшебная елка, от отблесков которой погруженный в темноту спящий дом выглядел персонажем из детской сказки.
Сказка была добрая, практически новогодняя, и, вылезая из машины, чтобы открыть ворота, Дорошин улыбался. Тихий плач заставил его замереть. Дорошин прислушался, но больше ничего не услышал и, решив, что обманулся, отпер ворота, снова влез за руль, загнал машину во двор и снова подошел к воротам, чтобы закрыть их уже изнутри.
Непонятный плач снова повторился, точнее, в этот раз Дорошин услышал не плач, а скорее писк и внутренне похолодел, решив, что к воротам его дома подкинули ребенка. И что он будет с ним делать за шесть часов до нового года?
Дорошин вернулся к машине и достал из нее мощный фонарь, который возил с собой на непредвиденный случай. Луч света разогнал декабрьскую черноту, пошарил по белому снегу, разъезженному колеями, осветил высокие, в человеческий рост сугробы, и в одном из них выхватил темный, черно-рыжий ком свалянной грязной шерсти. Справа от ворот, вжавшись в сугроб, сидела большая собака. Эрдельтерьер. Под лучом света она попятилась, перебирая лапами по куче снега, и заскулила еще жалобнее.
– Ты чья? Ты тут откуда? – спросил Дорошин, присел на корточки, погладил собачью морду. Псина при виде надвигающейся на нее руки вздрогнула, прижала уши к голове, словно ожидая удара. И только, ощутив ласковое поглаживание, немного расслабилась. У Дорошина заныло сердце.
Он не терпел бессмысленной жестокости по отношению к животным. Он и по отношению к людям ее не любил, но люди все-таки были людьми и могли позаботиться о себе сами. А животные нет.
Дорошин снова погладил собаку по морде, потрепал за ушами, провел рукой по шее, определяя, есть ли ошейник. Ошейника не было, лишь болтался завязанный грубым узлом кусок перетертой веревки, из чего следовало, что собаку держали на привязи. Дорошин продолжил обследование и обнаружил выступающие ребра и подведенное от голода пузо с торчащими в два ряда сосками. Псина оказалась девочкой.
– Ну что, пойдем, – сказал он, встал с корточек и похлопал себя по бедру, приглашая собаку следовать за собой. Тянуть ее за веревку он не хотел, ему было нужно, чтобы собака ему доверяла, а не боялась.
Псина посмотрела на него затравленно, глаза ее в ярком свете фонаря казались фиолетово-черными, как маслины в банке. Она неуверенно встала, шевельнула хвостом и пошла за Дорошиным, поглядывая на него, словно боясь, что он передумает.
– Давай-давай, проходи на территорию, – сказал Дорошин ласково, – ко мне скоро гости придут, а у меня стол не накрыт, бутерброды с икрой не намазаны, подарки не завернуты, да и тебя бы еще помыть надо, а то ты, поди, воняешь слишком, для того чтобы тебя к новогоднему столу приглашать.
Подарки своим гостям он действительно купил все в том же супермаркете. Для Федора Ивановича бутылку коньяка, для Марии Викентьевны – большую чайную кружку сливочного цвета с нарисованным на глянцевом боку символом наступающего года, а для Елены – хрустального ангела на веревочке, то ли елочную игрушку, то ли подвеску к люстре, то ли просто маленький, ни к чему не обязывающий сувенир.
Дорошины не признавали Нового года без подарков. Так было заведено сначала у бабки с дедом, потом в родительской семье, а потом уже и у Дорошиных-младших. Виктор с женой всегда тщательно выбирали подарки: сыну вдвоем, друг другу поодиночке, стараясь, чтобы сюрприз был приятным и желанным. Стоимость подарка при этом значения не имела, главным критерием являлось исполнение мечты. Вряд ли Мария Склонская мечтала о кружке, а старик Золотарев о коньяке, но с практически незнакомыми людьми о мечте речь не шла. Но и совсем без подарков тоже было нельзя, неправильно.
Собаку Дорошин вымыл в бане, радуясь, что с утра не поленился ее протопить. Вода с псины текла сначала черная, потом бурая, потом серая. Он снова и снова намыливал собачьи бока мужским шампунем, дожидаясь, пока хлопья пены перестанут быть похожими на грязевой гейзер. Псина не вывертывалась из рук, терпеливо ждала, пока он закончит экзекуцию. Вымытую собаку Дорошин, как мог, вытер махровым полотенцем и отнес в дом, завернув в овчинный дяди-Колин тулуп, чтобы она не простудилась.
В доме псина отряхнулась, деловито обошла комнату, аккуратно обнюхала углы, улеглась перед печкой, положила морду на лапы и блаженно закрыла глаза. На плите стояла кастрюля с водой из-под сваренных вчера на ужин пельменей. Дорошин накрошил в нее хлеба, щедрой рукой бросил пригоршню овсянки, довел варево до кипения и вывалил в него вскрытую банку тушенки. Ароматный дух поплыл по комнате, и собака тут же открыла глаза, посмотрела вопросительно и с надеждой.
– Да тебе это, тебе, – засмеялся Дорошин, нашел в дядином хозяйстве алюминиевую миску с чуть отбитым краем и наполнил ее варевом. Миска опустела через секунду, Дорошину показалось, что он даже моргнуть не успел. – Все, больше не дам, а то тебе плохо станет. Остальное получишь вместе со всеми, поняла? Я вот сегодня тоже еще ничего не ел, но терплю же! И ты терпи.
Собака с приведенными аргументами, видимо, согласилась, поскольку вернулась на свое место, к печке, легла в той же позе и тут же уснула, а Дорошин, глянув на часы, охнул и взялся наконец за дело. Гостей он ждал к десяти вечера и до этого времени оставалось чуть больше двух часов.
К их визиту Дорошин прекрасно все успел. Стол накрыл, перемыв найденный в буфете старинный сервиз. Бутерброды намазал, соусы для своего необыкновенного мяса приготовил, подарки упаковал и положил в пластмассовый короб, который отнес на улицу, под елку, сам надел новый свитер, привезенный пару лет назад из Греции, где они в последний раз отдыхали всей семьей. Свитер был ни разу не надеванный, потому что сначала жена его берегла для какого-то особого случая, а потом Дорошину стало не до свитера, который напоминал о жене. Сейчас он почему-то вспомнил об обновке из натурального хлопка, и свитер оказался как нельзя под стать новогоднему настроению.
Гостей он заметил на экране домофона и вышел встречать на улицу. Впереди шла Мария Викентьевна, сосредоточенно таща огромный поднос, накрытый полотенцем. Видимо, пироги. За ней шел пожилой мужчина, высокий, статный, сохранивший широкий разворот плеч, с непокрытой седой головой. Лихой чуб вздымался над перерезанным морщинами лбом. Федору Золотареву с годами удалось сохранить свою шевелюру, и выглядел он крайне импозантно, хотя при свете уличного фонаря Дорошин разглядел, что он очень стар.
– Виктор, – сказал он, протянув руку, и подивился крепкому, совсем не старческому пожатию.
– Федор Иванович. А что, верно мне тебя Ленка описала.
– Дедушка, – воскликнула замыкавшая шествие Елена, – ну что такое, право слово, я же тебя просила!
– Ладно, душа моя, – проворчал старик, – не буду тебя смущать. Хотя способность вас, девиц, смущаться по поводу и без меня всегда смешила.
Слово «девица», обращенное к тридцатишестилетней Елене, Дорошина насмешило тоже. Видимо, в глазах деда она все еще была юной и неопытной девушкой, способной смущаться из-за пустяков. Сам-то он знал, что это не так, и она очень умная, выдержанная и умеющая за себя постоять особа.
– Проходите, пожалуйста, – сказал Виктор, пряча улыбку. – Что ж на пороге стоять?
– Елка красивая, – сообщила Елена в пространство. – Просто чудо, а не елка! Вот просто встречала бы Новый год на улице и на нее смотрела всю ночь.
– Мы обязательно выйдем на улицу, – пообещал Дорошин. – Я буду мясо жарить на углях, а вы – на елку смотреть.
– Обожаю мясо на углях, – восхитилась Елена. – Деда, помнишь ты всегда говорил, что во мне силен пещерный человек, оттого что я шашлык больше любой другой еды люблю?
– Угу, – откликнулся дед. – Но пока пойдем в дом, Мария Викентьевна уже устала пироги держать.
На входе в кухню-столовую их встречала встревоженная собака. Тревога ее была вызвана слишком большим количеством чужаков, вторгшихся на территорию, которую она уже надеялась считать своей. А вдруг им не понравится, что она лежит тут, сытая и разомлевшая от тепла? А вдруг ее снова выгонят на мороз, чтобы в комнате не воняло псиной?
– Боже мой. – Увидевшая собаку Елена остановилась как вкопанная. Салатники в большой сумке, которую она держала в руках, предостерегающе звякнули. – Эрдель. Точно такой же, как в детстве у нас был. Дед, ты посмотри, у Виктора Сергеевича есть эрдельтерьер. Куда вы его в прошлый раз прятали? Что же вы не сказали нам о нем? – последняя фраза предназначалась уже Дорошину.
– Не сказал, потому что на тот момент у меня его не было, – рассмеялся он, забрал у Елены сумку из рук, поставил на большой деревянный стол, на котором Склонская уже раскладывала пироги. От них шел такой дух, что у Дорошина даже голова закружилась с голодухи. – Эта собака, видимо, в качестве новогоднего подарка притулилась к моему забору пару часов назад. Я ее успел вымыть, обогреть, накормить и убедиться, что это девочка. Даже имени у нее еще нет.
– Габи, давайте назовем ее Габи, – попросила Елена, не сводя с псины блестящих серых глаз. Дорошин успел заметить, что их оттенок менялся в зависимости от испытываемых ею эмоций. То серый пепел, то мокрый асфальт, то глубины осеннего озера, то затвердевшая сталь. Сейчас глаза мерцали как переливающийся опал. – Вернее, я хотела сказать, если можно, назовите ее Габи. Так звали собаку, которая жила у нас, когда я была маленькая. Помните, я вам рассказывала?
– Конечно помню. Я не против. Пусть ее зовут так, как вы хотите. Главное, чтобы она сама была согласна откликаться на новое имя. Габи, Габи, иди сюда, я тебе еще тушенки положу.
Собака, успокоенная, что ее не бьют и не гонят, вильнула хвостом и охотно пошла к миске, которую уже по праву считала своей.
– Какая умная собака, – обрадовалась Елена, которую, похоже, восхищало все связанное с приблудившейся псиной. Присев на корточки, она потрепала ее за ушами, провела растопыренными пальцами по кудрявой шерсти, будто расчесывая. Собака оторвалась от миски с едой и лизнула Елену в щеку.
– Осторожнее, – заметил Дорошин, – вдруг укусит.
– Она не укусит. Она же своя. А своих не кусают, – туманно пояснила Елена и снова погладила собаку по морде. – Ешь, бедолага, видимо, наголодалась, вон какой живот втянутый.
– Леночка, может, уже и мы поедим, наконец, – дипломатично заметила Склонская. – Я, конечно, пироги уже нарезала и на новогодний стол отнесла. Но было бы неплохо все-таки достать твои салаты и сесть провожать Старый год. Времени-то уже скоро пол-одиннадцатого.
Новогодняя ночь оказалась именно такой, как представлялось Дорошину. Холодная водка под сытную и вкусную закуску, шампанское под бой курантов, бутерброды с икрой и домашние пироги с самыми разнообразными начинками, селедка под шубой и оливье, мясо на углях, переливающаяся лампочками елка, радость от найденных под ней подарков, весело скачущая вокруг Габи, потихоньку подкармливающая ее мясом раскрасневшаяся на морозе Елена, прекрасный рассказчик Федор Иванович, счастливая, как будто помолодевшая Мария Викентьевна, интересные и содержательные разговоры обо всем на свете… Давно уже Дорошину не было так интересно, так хорошо, так по-домашнему…
Он просто физически ощущал, что отдыхает, как уходит хандра, вызванная тяжелым для него годом, как исчезает груз печальных воспоминаний, давящих на плечи, как отступает одиночество, прилипшее к нему, казалось бы, намертво, как вторая шкура. Почему-то это самое одиночество не покидало его даже в постели с Ксюшей, в те моменты, когда ему было действительно хорошо. Физически хорошо, не морально… Сейчас ему казалось, что внутренне одиноким он чувствовал себя с того самого момента, когда в один год потерял обоих родителей. А сейчас, глядя на Марию Викентьевну и Федора Ивановича, он словно снова видел маму и папу, такими, какими они могли бы быть, если бы дожили до столь преклонного возраста.
Пожилой отец в кресле-качалке у разожженного камина… Мама с аккуратно собранными волосами хлопочет у большого стола, нарезая пироги… Ненапряжная, умная женщина с простоватым, но милым лицом, разливающая глинтвейн в большие белые кружки… Лохматая собака, уставшая от обилия впечатлений, позволившая себе наконец-то забыться сном, но периодически открывающая глаза, чтобы посмотреть, тут ли самый главный человек – ее вновь найденный хозяин… Именно так Дорошин представлял себе семью. Настоящую, дружную, крепкую семью, которую он незаметно для себя потерял.
Выскочив на крыльцо, чтобы подставить зимнему ветру пылающее от горьких мыслей лицо, сорокачетырехлетний полковник Виктор Дорошин вдруг с изумлением обнаружил, что плачет.
* * *
Второго января Дорошин намеревался провести так же, как и первое, – лениво, тягуче-однообразно, натопив печь, улегшись на диване перед телевизором, обставившись мисочками с остатками новогодней еды, с сопящей под боком счастливой Габи, уже окончательно обжившейся в его доме и выбегающей на улицу неохотно и ненадолго, лишь для того чтобы справить свои собачьи дела.
Дорошин любил лениться и делал это основательно, со вкусом, тем более что получалось это нечасто. Вчерашний день был как раз примером удавшейся полностью лени, когда можно спать до полудня, валяться в постели, есть понемногу, но часто, выбирая в холодильнике то, что душа захочет, дремать, просыпаться снова, бездумно щелкать пультом телевизора, переключаясь с одного старого кино на другое. Сегодняшний день он планировал провести так же, поскольку никаких мало-мальски нужных дел запланировано у него не было, но, проснувшись в восемь утра, вдруг понял, что ему надо, просто жизненно необходимо съездить в картинную галерею.
Склонская с Золотаревой говорили ему, что в связи с переездом в новое здание им придется выходить на работу в новогодние каникулы. Вчерашний день, конечно, был исключением, но сегодня они уже точно были в строю, а значит, и ему, Дорошину, можно было включаться в работу.
Он не анализировал, что за сила гнала его в музей. Было ли это связано с необходимостью, вызванной расследованием, или ему просто хотелось снова видеть этих двух женщин, постарше и помоложе, вести с ними неспешные беседы, настроившись на одну, удивительно общую волну.
Наскоро позавтракав, он побрился, оделся и сообщил Габи, что уезжает.
– Я могу остаться в доме? – молчаливо уточнила собака.
– Можешь, только не смей залезать на диван, а то выгоню на мороз, – пригрозил Дорошин.
Псина зевнула, свернулась на своем привычном месте у печки и демонстративно прикрыла глаза в показном изнеможении.
В картинной галерее оказалось непривычно светло, пустынно и при этом шумно. Дорошин не обнаружил ни привычной гардеробщицы на входе, ни смотрительниц в залах. Картин, впрочем, тоже не было, ни одной. Голые стены с кое-где ободранными панелями, закрывающими старую штукатурку, смотрелись непривычно и как-то по-сиротски. Двое рабочих отдирали деревянную обшивку, еще двое монтировали козлы в конце первого зала. Разговаривали они громко и грубо. Звук отражался от пустынных стен, разлетался под куполообразным потолком, множился, создавая невиданный до этого акустический эффект. У Дорошина зазвенело в ушах.
– Виктор Сергеевич, как вы здесь очутились? Вы разве не знаете, что мы переехали? – Он повернулся и увидел Елену.
– Я думал, вы как раз собираете вещи для переезда, хотел помочь.
– Нет же! Галерея переехала, пока мы с вами были в Москве. Мы должны были освободить помещение до Нового года, чтобы его успели отремонтировать к рождественской службе. Здесь в ночь на Рождество служба пройдет, поэтому нам надо было торопиться, – сказала Елена. – А наши сегодня все в новом здании, обживаются. Я приехала последние ящики со своими вещами забрать. Не успела до Нового года.
– А вы на машине?
Елена засмеялась:
– Виктор Сергеевич, вы как маленький, честное слово! Откуда у меня машина? Из дома я на автобусе приехала, а в новое здание пешком пойду, тут же два квартала всего. Коробок три, так что придется сходить три раза. Вот и все.
Дорошин припомнил, что для временного пристанища сотрудникам картинной галереи действительно выделили одно из зданий областного краеведческого музея. Места для экспозиций там было негусто, да и хранилище для бесценных фондов казалось неподходящим, но сотрудники худо-бедно расселись в ожидании лучших времен и выделения галерее нового собственного здания. В том, что такие времена наступят, Дорошин сомневался. По его мнению, выставленная фактически на улицу картинная галерея была обречена мыкаться по неудобным площадкам до скончания веков. Денег на обустройство для нее постоянного дома в областном бюджете все равно не было.
– А давайте я вас подвезу, – предложил он. – Может быть, кто-то еще не все свои вещи забрал? Мы могли бы разом загрузить все ко мне в машину.
– Давайте, – согласилась Елена. – Вы к Марии Викентьевне?
– Да. И к вам тоже, – зачем-то добавил Дорошин, чувствуя себя глупо, как школьник, сбежавший с урока и попавшийся на глаза учительнице.
Елена, впрочем, на его неловкость ни малейшего внимания не обратила.
– Ой, а давайте я вам что-то покажу, – сказала она, схватила Дорошина за руку и потащила в глубь анфилады комнат. – Это только тридцатого декабря нашли. Начали деревянные панели снимать в дальнем зале – и нашли.
– Что нашли? – Дорошин едва поспевал за ней.
– Сейчас увидите. Это просто чудо какое-то!
Елена притащила его в последнюю комнату, ту самую, где он три недели назад впервые увидел стоящую на подоконнике Ксюшу. Сейчас штор на окнах не было, дневной свет заливал зал, гоняя солнечные зайчики по стенам. Дорошин прищурился, уворачиваясь от бившего по глазам света, и увидел…
На дальней стене, видимо, той самой, где в храме, до того, как он стал художественной галереей, располагалась алтарная часть, пылала яркими, совсем не выцветшими за долгие годы забвения красками фреска, повторяющая «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.
– Что это? – недоуменно спросил он у Елены. – Как это?
– А вот так. – Она счастливо засмеялась. – Вы знаете, я, наверное, больше других переживала из-за того, что нас выселяют и лишают здания. Но оказывается, в самом неприятном событии можно найти положительные стороны. Если бы не этот переезд, не реставрация здания, не возвращение его церкви, никто бы и не вспомнил, что здесь было такое чудо. Галерею же в начале двадцатых годов открыли, стены панелями зашили, чтобы удобнее было картины развешивать, фреску скрыли от людских глаз. Любопытно, что ни в одном источнике про нее не упоминается. Была, а как будто и не было.
– И какой это век?
– Мария Викентьевна сказала, что ориентировочно середина девятнадцатого. Хотя экспертиза нужна, конечно. Это копия с картины Леонардо, но только не совсем точная. К примеру, художник Иуду облачил в одеяние совсем другого цвета. Предстоит большая научная работа, чтобы определить автора и историю возникновения этой фрески. Ясно только, что выполнена она полностью по православным канонам.
– Удивительная находка…
– Да, конечно. Это настоящий образчик храмовой живописи. Ценность несусветная. Мне так хотелось, чтобы вы тоже ее увидели, и вот вы оказались здесь! Тоже маленькое чудо.
Дорошин был склонен с этим согласиться. Он с некоторым волнением и искренним интересом смотрел на фреску, чей колорит и композиционное построение были выше всяческих похвал.
– А много встречается случаев существования подобных копий в храмах? – спросил он Елену.
– В том-то и дело, что это редкость! Конечно, практика копирования произведений живописи, и в первую очередь, конечно же, эпохи Возрождения, в России появилась еще в восемнадцатом веке. Русские художники ездили в Италию, видели все своими глазами, пытались копировать, чтобы постичь тайну мастерства великих живописцев. Однако в храмовой живописи это практически не использовалось. До нашей находки был известен лишь еще один подобный случай. В Казанском соборе в Питере тоже есть фреска, представляющая собой копию картины Леонардо, и тоже в алтарной апсиде, и, пожалуй, это все.
– Такое ощущение, что она живая, – сказал Дорошин, вглядываясь в притягивающее к себе взгляд изображение. – Спасибо, Елена, что вы мне это показали.
– Всегда, пожалуйста. – Елена вдруг озорно засмеялась, и Дорошин подумал, что она даже сейчас покажет ему язык, но явно сдержалась. Он отметил, что на ней снова были отлично сидящие джинсы и тонкий свитерок, другой, не тот, что в поезде, который очень ей шел, гораздо больше привычных бесформенных юбок и кофт.
– Дед разрешил надеть джинсы?
– Ну, у нас же что-то типа субботника, связанного с переездом, поэтому можно, – снова засмеялась она.
Они спустились в подсобное помещение, где не было никого, кроме собиравшего какие-то ящики Ильдара Газаева, забрали нужные коробки, донесли их до машины и погрузили в багажник.
– Не новая у вас машина, как я погляжу, – заметила Елена, забираясь на переднее сиденье дорошинского «Хендая», действительно немолодого, но верного и резвого.
– Да я ж, как и вы, на государственной службе. Хоть моя и лучше оплачивается, но все-таки в олигархи мне попасть не светит. С трудов праведных не наживешь палат каменных. За то, что у меня свой дом есть, дяде Коле спасибо. Машинка – старенькая, зато своя, не в кредит купленная. Я вообще считаю, что многие беды сегодня от того, что люди пытаются жить на более широкую ногу, чем могут себе позволить.
– Да, я тоже об этом думала. Потребительское отношение к жизни – страшная вещь. Она выжигает душу настолько, что вместо человека остается только его пустая оболочка. Именно поэтому я стараюсь не думать о соблазнах. Хотя, признаюсь, иногда перед сном играю в своеобразную игру. Я пытаюсь представить, на что бы я потратила десять миллионов долларов, если бы вдруг они у меня появились.
– И на что? – заинтересованно спросил Дорошин. – Вот, верите, я бы не смог поделить десять миллионов долларов. Не соотносится эта сумма с моей повседневной жизнью. Ну, дом бы отремонтировал и благоустроил. Это максимум пять-шесть миллионов рублей, не больше. Ну, машину бы поменял, сыну бы машину купил, в отпуск бы съездил. На все про все мне бы одного миллиона долларов за глаза хватило, а еще девять куда?
– На счет в швейцарском банке. Чтобы жить на проценты.
– Мечтаете стать бездельником-рантье?
– Ну почему же сразу бездельником? Я бы продолжала работать искусствоведом. Я люблю эту работу, мне она нравится, но платят за нее такие гроши, что иногда даже стыдно становится за государство. У меня дед немолод уже совсем, и я с ужасом думаю, что будет, если он заболеет. Мне не потянуть ни лекарств дорогих, ни платных врачей, ни приличную палату в больнице. А если бы у меня были проценты, которые исправно капали из швейцарского банка, то я могла бы не бояться завтрашнего дня. И путешествовала бы, конечно. Очень хочется посмотреть мир, побывать в картинных галереях во Флоренции, в Уффици, Мадриде, Париже… В оперу бы миланскую съездила, в Ковент-Гардене бы побывала… Вот такие примитивные у меня мечты.
– Нормальные. – Дорошин пожал плечами. – Хотя вынужден вас разочаровать. Проценты в швейцарском банке такие мизерные, что на все могло бы и не хватить.
– Как это?
– Да так. Это распространенное заблуждение людей, которые на самом деле не имеют капиталов, о которых нужно было бы заботиться. В швейцарских банках, чтобы вы знали, доходность вкладов один-полтора процента годовых. И в Европе почти везде так. Исключение, пожалуй, только Чехия составляет. Там по вкладам дают пять-семь процентов, да еще и гарантируют безопасность вкладов государством. Но подоходный налог с прибыли по вкладам есть, так что тоже особо не разбежишься, но лучше, чем в других местах. Сейчас у богатых людей стало модным держать вклады именно в чешских банках. Выгодно потому что.
– Не буду про это думать, – рассмеялась Елена. – Все равно держать мне нечего. Я ж вам говорю – это игра такая. Чтобы слаще засыпалось. Мечты провинциальной Золушки. Расскажите мне лучше про ваш дом и ремонт в нем. Мне, кстати, еще когда я бывала в гостях у Николая Николаевича, очень нравилась ваша чудо-печка. Она такая красивая, мощная, теплая. Ее бы изразцами выложить! Я и Николаю Николаевичу говорила, что чудо как хорошо будет, но он отмахнулся от меня, что ему и так нормально. Виктор Сергеевич, хоть вы меня послушайте. Изразцы – это не просто красиво, это особая атмосфера… Домашняя-домашняя… Вот правда!
– Дорого это, – задумчиво сказал Дорошин, аккуратно паркуясь в небольшую дырку между машинами у нового здания, где теперь обитала галерея. – Я ведь изучал этот вопрос. Одна плиточка изразцов около ста пятидесяти рублей, если не больше. А печь – огромная, тут вы правы. Так как я – не олигарх, а простой российский мент, нет у меня таких денег.
– А вот тут я могу вам помочь. У нас с дедом есть дом в деревне. Наследственный, ему от родителей достался. Дед в молодые годы, когда профессора еще получали очень прилично, его в порядок привел, канализацию сделал, водопровод, отопление водяное. Но печь оставил и выложил ее изразцами. А делает их наш сосед дядя Леша, а вслед за ним его старший сын Никита и его жена Наташа. У них семейный подряд. Всю округу снабжают и иностранцам продают. Бренд у них, конечно, не такой раскрученный, как знаменитая куракинская керамика в Вологодской области, но делают они ничуть не хуже и значительно дешевле. А уж для своих-то – тем более. Хотите, я договорюсь?
– Не знаю, – засомневался Дорошин.
– А давайте, пока выходные дни, съездим к нам в деревню, вы своими глазами посмотрите на печь нашу, на изразцы, с дядей Лешей познакомитесь, с Никитой, с Наташей. Это недалеко, двадцать километров от города всего.
– А что, давайте, – согласился Дорошин, которому ужасно понравилась подобная перспектива. – Поехали завтра?
– Нет, завтра у меня есть запланированные дела, которые я не могу отменить. А вот послезавтра поедем, если вы не передумаете. И у меня будет к вам просьба, Виктор Сергеевич, давайте Габи с собой возьмем, если можно.
Она смотрела на него жалобно-жалобно. Дорошин прекрасно понимал, чем вызвана ее просьба взять с собой собаку – попыткой вернуться в счастливое детство, в котором она сама была маленькой, дед молодым и в котором у нее был верный друг – собака породы эрдельтерьер по кличке Габи. Той же самой тоской по прошлому, которое невозможно вернуть, были вызваны и его новогодние слезы, к счастью никем не замеченные.
– Можно. Мы обязательно возьмем с собой Габи, – серьезно сказал Дорошин. – И, Елена, я совершенно точно не передумаю.
* * *
Третьего января у Дорошина внезапно тоже оказались дела, и если с вечера он досадовал, что поездка с Еленой за город откладывается, то с утра решил: все, что бог ни делает, к лучшему. Дела сводились к тому, что к нему нагрянула вернувшаяся из Праги Ксюша. Около десяти часов утра она материализовалась у калитки, напомнив Дорошину основательно забытую песню его молодости про «то ли девочку, то ли виденье».
– Я соску-училась, – пропела она, войдя в прихожую, скинула ему на руки невесомую, похоже, соболью шубку, тряхнула своими невозможными золотистыми волосами, стряхивая прилипшие снежинки. – Мы только сегодня утром вернулись, и, видишь, я сразу к тебе. А ты скучал?
Признаться, что он и не скучал вовсе, Дорошину было неловко, тем более что плотские инстинкты тут же не преминули напомнить о себе.
– Скучал, – сказал он, притягивая молодую женщину к себе. – Как же здорово, что ты догадалась приехать, да еще и сюрпризом!
– А я специально. – Ксюша начала стаскивать сапожки и оглянулась в поисках уже ставших привычными красных тапочек. – Вдруг ты без меня по рукам пошел, и я бы тут обнаружила целое полчище чужих баб, которые хотят тебя у меня отбить?
– Ты знаешь, женщину я себе действительно завел, – признался Дорошин, – но только одну. Пойдем, я вас познакомлю.
– Ты шутишь? – Ксюша отстранилась и смотрела с недоумением, а может, и со злостью, начинавшей накапливаться в глазах, потемневших словно фиалки после дождя.
– Нет. – Он засмеялся, потому что ее ревность была ему приятна, взял за руку, втянул в комнату, где у печки сидела насторожившаяся Габи. – Вот, прошу любить и жаловать. Моя новая женщина. Порода – эрдельтерьер, зовут Габи.
Ксюша взвизгнула и спряталась Дорошину за спину, выглядывая оттуда с видимым испугом. Недоумение отразилось теперь в собачьих глазах. Габи наклонила голову в одну сторону, в другую, а затем неуверенно гавкнула.
– Ай, она меня сейчас укусит. – Ксюша чуть не плакала, и Дорошину, вспомнившему, что его любовница не любит и боится собак, стало ее жалко.
– Ну что ты, она мирная и совсем не кусается, – сказал он. – Если ты боишься, то просто к ней не подходи, а сама она тебя не тронет. Это я гарантирую.
– Зачем ты завел эту гадость? – плачущим голосом спросила Ксюша. – Ты же знаешь, что я терпеть не могу собак. Как я теперь буду к тебе приходить? И уж если тебе так приспичило заиметь собаку, то почему такую страшную? Эрдели сейчас не в тренде.
– Я не собирался ее заводить, она просто приблудилась ко мне на участок, – объяснил Дорошин, чувствуя, как в груди нарастает привычный ком раздражения от их разнополюсности. Нет, слишком во многих вопросах они не понимали друг друга, не чувствовали, не находились на одной волне. – И вопрос трендов, брендов и прочей моды меня вообще никогда не интересовал. Если ты настаиваешь, я могу выгнать Габи в прихожую, хотя мне это и не по душе.
– Давай поднимемся в спальню, а ее оставим здесь, если уж она такая чувствительная, что в коридор ей нельзя. – Ксюша слегка надула губки.
– В спальне холодно, я тебя не ждал, поэтому печи наверху не топил.
– Тогда отправляй ее в коридор, а еще лучше – во двор. Я не желаю, чтобы она на меня смотрела, пока я буду с тобой на диване кувыркаться.
Фраза прозвучала грубо. В устах столь нежного создания она выглядела пошлой, как будто Ксюша была не утонченным искусствоведом, а базарной торговкой, хабалкой. Дорошин вздохнул и ласково позвал Габи, похлопав себя по бедру:
– Пойдем, девочка, немножко посидишь в прихожей. Не переживай, это ненадолго. – Собака вздохнула и печально потрусила к выходу, демонстративно не обращая на Ксюшу внимания. В ее влажных глазах, обращенных к Дорошину, читался немой укор.
Занятия любовью оставили у Дорошина ставшую уже привычной смесь удовольствия, чувства вины и легкого стыда, которая возникала у него после любого их свидания. Каждый раз он не мог избавиться от мысли, что обижает ребенка, хотя Ксюша на ребенка ничуть не походила. Секс с этой хорошо сложенной, фигуристой взрослой женщиной почему-то казался греховным, порочным, и причина этого крылась, скорее всего, в том непреложном факте, что Ксюша была замужем. Дорошин, как бы это ни смешно звучало, оказался моралистом, а потому адюльтеров не признавал.
– Что нового в расследовании? – спросила Ксюша после того, как с физической близостью было покончено, и Дорошин с благодарностью уцепился за брошенный ему спасательный круг. Говорить о расследовании было гораздо безопаснее и приятнее, чем о них двоих.
Он рассказал про поездку в Питер и Москву, о встрече с коллекционером Соболевым, купившим ворованного Фалька, о богатеньком папике, которого подцепила Алена Богданова, и о том, что тот вывел его на фотографа Двиницкого, скорее всего, того самого, кто был последним, видевшим Куинджи в галерее.
– Здорово, – искренне сказала Ксюша. Глаза ее теперь отливали синевой. Фиолетовые всполохи, вызванные гневом, бесследно исчезли. – Ты молодец, Витя! Я с самого начала была уверена, что во всем виноват этот фотограф. Нужно его найти и прижать хорошенько.
– Вот праздники кончатся, поеду в Москву и прижму, – пообещал Дорошин. – Думаю, что это – действительно след, который приведет нас к похитителю.
– Держи меня в курсе, – потребовала Ксюша. – Мне интересно.
– Обязательно, – улыбнулся он, чувствуя, как змея раздражения уютно сворачивается кольцами и засыпает, убаюканная Ксюшиным неравнодушием.
– Ты знаешь, мне все-таки кажется, что в этом деле не обошлось без Ленки.
– Какой Ленки? – не понял Дорошин.
– Да Золотаревой, боже ты мой, – снисходительно пояснила Ксюша. – Конечно, она тебе сказала, что ни при чем, да еще и в доверие втерлась, когда вы по командировкам раскатывали. Я тоже сначала поверила и начала на Аленку грешить с ее внезапным обогащением, но теперь, когда выяснилось, что она любовника старенького подцепила, мне понятно, что она тут ни ухом ни рылом. Так что точно Ленка, больше некому!
И снова Дорошину резанула ухо нарочитая грубость фразы, так не вязавшаяся с Ксюшиным обликом. И на защиту Золотаревой ему отчего-то захотелось встать грудью. Наверное, оттого, что она, в отличие от Ксюши, сразу приняла и полюбила Габи.
– Ладно, ты не обижайся, но я поеду. – Ксюша ловко вылезла из постели и деловито начала одеваться, повернувшись к Дорошину совершенной попкой. – Я Алику сказала, что маму с бабушкой хочу проведать. Не то чтобы он стал это проверять, но повидать старушек действительно надо, а то я их еще с Новым годом не поздравила. Я им такие подарки купила в Праге, закачаешься! Нет, все-таки Европа – это не наши захудалые выселки. Там все совсем по-другому.
Дорошин вдруг напрягся. Ксюшино щебетанье наложилось на какое-то воспоминание, связанное со вчерашним разговором с Еленой. Что-то та сказала очень важное, что имело отношение к проводимому Дорошиным расследованию, но что именно, он сейчас не помнил. «Нужно будет завтра постараться вспомнить контекст того разговора, – наказал он себе. – Глядишь, и вспомнится что-то конкретное».
– Все, я побежала. Выпускай меня мимо твоей собаки Баскервилей. Надеюсь, она не сожрала мою шубу.
– Я тоже надеюсь, – пробормотал Дорошин, запустил в комнату изнемогающую Габи, ловко выставил в коридор Ксюшу, захлопнул дверь, чтобы избежать новых воплей, накинул ни округлые плечи невесомую шубку, терпеливо дождался, пока она натянет сапожки. Чмок, чмок, хлопнула входная дверь, и монитор домофона показал стремительно удаляющуюся легкую фигурку.
«Боже мой, как же хорошо, что она у меня есть, – подумал Дорошин. – И как же хорошо, что сегодня она уже ушла».
Он внезапно подумал, что не сказал Ксюше о том, что завтра собирается ехать с Еленой за город, смотреть изразцы. И не потому, что не хотел, а потому, что ему это даже в голову не пришло. И в этот момент почувствовал себя окончательной скотиной.
Следующее утро выдалось морозным. Очень морозным. Столбик термометра утвердился на отметке в минус двадцать семь и, судя по всему, не собирался прекращать своего победного шествия. Прогноз обещал в следующие дни до минус сорока, и если сначала Дорошин раздумывал, а не отложить ли им свое путешествие на пару дней, то потом передумал, поскольку до конца выходных потепления точно не планировалось.
Прогрев машину, запустив в ее теплое нутро поджимающую на морозе лапы Габи и не поддавшись искушению надеть вместо привычного пуховика дядькин тулуп, он отправился за Еленой. Та, несмотря на холод, уже ждала его на улице, замотанная шарфом чуть ли не по брови, уже покрытые густым инеем от замерзающего дыхания. В руках она держала знакомую Дорошину дорожную сумку, ту самую, с которой ездила в командировку.
– Это я прихватила термос с горячим чаем и бутерброды, – пояснила она, пристраивая сумку в ногах. – Привет, моя девочка, привет, моя хорошая. – Елена повернулась назад и гладила жмурящуюся от счастья, ластящуюся к ней Габи. Вытащила руку из пуховой варежки и протянула собаке мозговую косточку, видимо только что вытащенную из кастрюли с супом, и только после этого посмотрела на Дорошина. – Здравствуйте, Виктор Сергеевич.
– В вашей табели о рангах я значусь гораздо ниже, чем Габи, – засмеялся он. – Но меня это не обижает. Собаки лучше людей. Да и вообще за те несколько дней, что эта псина живет со мной, мне уже начало казаться, что она еще и гораздо умнее меня. По выражению ее глаз, она сама об этом отлично знает, но тактично молчит, чтобы меня не смущать.
Елена рассмеялась. Дорошин вновь отметил, что улыбка, смех ей к лицу гораздо больше, чем хмурое молчание, в которое она была погружена в первые их встречи. Эта женщина вовсе не была букой, просто с людьми сходилась небыстро и посторонним особо не открывалась. Это могло быть признаком того, что в прошлом ее был кто-то причинивший ей сильную боль.
– Вы ключи от своего дома взяли? – уточнил Дорошин. – А то по такому морозу прокатимся зря. Обидно будет, если в дом не попадем!
– Что вы, они всегда со мной. – Елена покопалась в сумке и вытащила тяжелую связку ключей. – Тут и от квартиры, и от дома, и от ворот. Летом дедушка же все время на даче живет, и я частенько с работы сразу туда отправляюсь, чтобы его проведать. Иногда ночую, иногда возвращаюсь в город, чтобы назавтра рано не вставать. Хоть и недалеко, но на автобусе все равно долго, поэтому я на заезды домой за ключами время не трачу. Ношу с собой круглый год.
По пустынным, скрипящим под колесами улицам они выехали на трассу, и Дорошин даже зажмурился от внезапно напавшей на него белизны. Город с его монолитной серостью, разбиваемой иногда цветными пятнами реклам и магазинных вывесок остался позади, а здесь природа выглядела по-другому, словно растерявшейся немного от внезапных морозов.
Дорошин почувствовал себя попавшим в безвременье. Никому не нужным, неприкаянным, словно бесплотный призрак, зависший между прошлым и будущим. Его машина как блуждающая тень скользила по пустынному шоссе, белому-белому, сливающемуся с укутанными в сугробы обочинами, бескрайней мертвенной белизной полей, где-то на горизонте уходящих в словно навсегда замерзшее небо. Ему казалось, что даже проглядывающее через это непробиваемое белое марево солнце выглядит так, словно уже начало остывать и вот-вот погаснет совсем, после чего ослепляющая, бьющая по глазам и по нервам белизна сменится непроглядной тьмой. Он потряс головой, дивясь собственной разыгравшейся фантазии.
– Как в сказке, – сказала вдруг притихшая отчего-то Елена. – У меня ощущение, что мы выехали не из города, а из реальной жизни и попали в какое-то другое измерение, как в сказке Кэрролла. Вот только почему-то возникает ощущение не чуда, а несчастья. Словно я заранее знаю, что эта сказка с плохим концом.
– Поразительно, – пробормотал Дорошин. – Я еду и думаю о том же самом. Может быть, не совсем сходно в деталях, но направление мыслей такое же. Это что такое, а, Елена Николаевна? Внезапно открывшееся родство душ?
– Не знаю. Скорее всего, мы просто одинаково воспринимаем сигналы, которые посылает нам пространственно-временной континуум. Не смотрите на меня, словно я сошла с ума. Я в совершеннейшем здравии. Погода сегодня аномальна, поэтому она заставляет выйти из зоны комфорта, а это обнажает нервы, обостряет восприятие. Не знаю, как вы, а я ощущаю, что что-то должно произойти, случиться. Если уже не случилось. Виктор Сергеевич, извините, но я должна позвонить деду.
На лице ее отразился вдруг суеверный страх, и она быстро затыкала ухоженным наманикюренным пальчиком в экран телефона. Ногти у нее были покрыты нежным, неярким и непошлым лаком, то ли телесным, то ли светло-розовым, придававшим образу законченность и некоторую воздушность. От той унылой старой девы, которую он встретил с месяц назад в кабинете Марии Викентьевны, не осталось и следа. Она растворилась, исчезла в пелене будней. Ее заменила взрослая, умная, состоявшаяся в жизни, не очень счастливая, но вполне уверенная в себе женщина, еще молодая, безусловно привлекательная, уравновешенная и спокойная.
С Федором Ивановичем все оказалось в порядке, и успокоенная Елена убрала телефон в карман и виновато улыбнулась:
– Вы простите меня, Виктор Сергеевич, на меня иногда находит совершенно иррациональный страх. Я вообще по натуре человек тревожный, и за деда постоянно боюсь, все-таки он уже не молод. Извините.
– Ну что вы, Елена Николаевна, извиняться вам совершенно не за что! И я рад, что все хорошо. Знаете что, чтобы отвлечься от посетивших нас вдруг в одночасье невеселых мыслей, расскажите мне историю вашего родства с Куинджи.
– Вы по-прежнему подозреваете меня в том, что это я украла картины? – иронически спросила Елена. – И Грамазина убила за то, что он проник в нашу семейную тайну?
– Нет, мне просто интересно. Вы мне нравитесь. И дед ваш очень понравился. Вы – неординарные люди, поэтому я уверен, что и история ваша будет очень увлекательной.
– Не знаю, на мой взгляд, обычная история. – Елена пожала плечами. – Но, если вам действительно интересно, я расскажу.
Всемирно известный художник Архип Куинджи был бездетным. В его завещании основная часть принадлежащего ему состояния в размере почти четырехсот пятидесяти тысяч рублей доставалась Обществу имени Куинджи, которое должно было выплатить лишь небольшие суммы племянникам художника от двух умерших сестер Елены и Елизаветы и брата Элевтерия да передать десять тысяч рублей облигациями государственного банка второму брату – Спиридону Ивановичу Куинджи, к тому моменту уже взявшему себе фамилию Золотарев.
У Спиридона Куинджи была дочь Василиса, в замужестве Туркова, а у нее два сына – Никифор и Василий. Оба они носили фамилию отца, и один из них – Никифор – и приходился Федору Ивановичу Золотареву дедом.
– Так они же были Турковы, почему же вы и ваш дед снова Золотаревы? – не понял Дорошин.
– Дед Никифор ушел из семьи, когда его сыну было всего два года. Его сын, Иван, не смог простить отца, потому что мать растила его очень тяжело, они жили, нуждаясь, иногда голодали, и Иван привык считать, что во всех его бедах виноват отец. В семье хранился оставшийся от отца рисунок, сделанный когда-то Архипом Куинджи, и когда Иван вырос, то раскопал родословное древо и решил поменять фамилию обратно на Золотарев. Потом он женился, у него родился сын, которого назвали Федором Золотаревым. Это и есть мой дед, – сказала Елена. – Он очень любил и уважал своего отца, поэтому родством со знаменитым художником гордился, полученный по наследству рисунок хранил и очень переживал, что у него родится дочь, которая, выйдя замуж, снова потеряет фамилию. Но на свет появился мой отец, Николай. Правда, на мне везение кончилось, но в детстве дед взял с меня честное слово, что я, выйдя замуж, останусь Золотаревой. Согласие я дала, не особенно над ним задумываясь, но так как замуж не вышла, то и повода нарушить данное деду обещание у меня не было. Жаль только, что род Золотаревых на мне, по всей вероятности, все-таки кончится. Но я, в отличие от деда, отношусь к этому уже не так серьезно.
– А почему вы не вышли замуж? – Дорошин задал этот неприличный вопрос быстрее, чем сообразил, что делать этого не стоит.
– Наверное, потому, что на таких, как я, не женятся.
– Что за глупости?
– Это не глупости, а психология. У меня непростой характер, Виктор Сергеевич. Нет, я не вздорная, не скандальная и неконфликтная. Но у меня достаточно высокие требования к человеку, которого я могла бы без стеснения и внутреннего неудобства привести в дом к деду. Понимаете? Я всех мужчин меряю по нему. И все, кто когда-либо мной интересовались, очень ему проигрывали. Становились мельче, неинтереснее, какими-то плоскими, что ли, как только оказывались рядом с ним. Кроме того, я не выношу лжи и лицемерия. Не терплю, когда меня обманывают, пусть даже из жалости. А еще я ко всему отношусь слишком серьезно. Я не подхожу для легких, поверхностных отношений, в которых нет взаимного уважения и обязательств. А на отношения, требующие работы души, нынче не много кто согласен. Не знаю, понятно ли я ответила на ваш вопрос, но другого объяснения у меня все равно нет.
– Я понимаю, – ответил Дорошин и оставшуюся до ее деревенского дома дорогу они провели в полном молчании.
Застывшая от мороза деревня встретила их гулкой тишиной. Даже собаки не лаяли. То, что здесь есть кто-то живой, выдавал лишь густой дым, столбом поднимающийся из труб некоторых домов. Впрочем, столбов было немного, меньше десятка.
– Тут зимой мало кто живет, – ответила Елена на незаданный вопрос Дорошина. – В основном на лето приезжают. Круглый год в деревне жить не очень-то весело. Несколько пенсионеров зимуют, кто городского шума не выносит, Никита с Наташей и дядя Леша. Это те самые художники, что изразцы делают. У них производство, им отсюда не уехать, да и нравится им деревенская жизнь. Еще несколько семей есть, даже с детьми. Но отсюда же в школу ездить за восемь километров надо. Представляете, в такую погоду школьный автобус ждать? Хорошо, что сейчас каникулы, но они ведь не всю зиму. В общем, уехали почти все, кто смог. Вот так. Остановите во-о-н у того дома с голубым забором. Это наш. Давайте не будем ворота открывать, замок, наверное, совсем замерз.
– Конечно, я вот тут машину приткну, – согласился Дорошин, лихо въехал в сугроб и заглушил двигатель. – Так, станция Березай, кто приехал – вылезай. Габи, вперед!
Собака нехотя вылезла на улицу и с укоризной посмотрела на Дорошина. Мол, что ж ты за человек, хозяин, на мороз меня выгоняешь?
– Мы сейчас дом откроем, печь затопим, чаю попьем из термоса и сходим к Никите с Наташей. У них-то топлено, так что познакомитесь, поговорите, изразцы посмотрите. Может, и сговоритесь что-нибудь купить. А потом мы к нам вернемся, у нас быстро тепло становится. Мы батареи электрические включенными оставляем, так что в доме и сейчас плюсовая температура. Протопить надо, раз уж приехали. Но это недолго. Как только заслонку закрою, так сразу и поедем. Я вас долго не задержу, честное слово.
– Да ладно вам, что вы извиняетесь постоянно? – вспылил вдруг Дорошин. – Вы не делаете ничего плохого, и сюда мы поперлись не по вашей прихоти, а потому, что я действительно хочу отделать дядину печь изразцами. И мы проведем здесь столько времени, сколько вам нужно.
Через калитку они зашли в заснеженный двор. Рядом весело скакала Габи, поскуливая от переизбытка чувств. Дорошин подумал о том, что наверняка начерпает снега ботинками, и чертыхнулся про себя, что не додумался надеть или хотя бы взять с собой дядины валенки. Понимал же, что дорожки не чищены. Впрочем, от калитки к дому вели чьи-то следы, пара больших и пара маленьких, женских или даже детских. И Виктор старательно ступал след в след, чтобы уберечь ноги сухими.
– Странно. – Шедшая впереди Елена внезапно застыла как вкопанная. Он, не успев затормозить, с размаху ткнулся ей в спину и чуть не уронил, подхватив в последний момент.
– Извините. Что странно?
– Следы. Кто тут мог быть?
– Наверное, кто-то из соседей. Заходили проведать, все ли в порядке.
– У нас так не принято. Конечно, Никита приглядывает за домом, но из-за забора. Такого никогда не было, чтобы во двор заходили.
– Да бросьте. В этом году снега много, морозы вон опять же. Вот и заглянули с проверкой. Видите, следы в аккурат мужские и женские. Значит, точно эти самые Никита и Наташа. Вот пойдем к ним и спросим.
– Наверное, вы правы. Что мне во всем сегодня чертовщина чудится, – вздохнула Елена и пошла дальше. Скачущая вокруг Габи первой взлетела на заснеженное крыльцо, на котором отчетливо были видны все те же цепочки следов, застыла на мгновение перед входной дверью и вдруг отчаянно завыла, задрав морду к небу.
– Мне страшно. – Елена снова остановилась и вцепилась Дорошину в рукав. – Она воет, как на покойника.
– Елена, с вашим дедом все хорошо, вы только что ему звонили. С вами тоже все в порядке. Есть ли еще какие-нибудь покойники, которые бы вас волновали так остро? Чем трусить, надо зайти в дом и понять, что поводов для беспокойства нет. Габи – подкидыш, черт знает, что такого было в ее собачьей жизни и о чем напомнил ей этот дом.
Неуспокоенная его словами, Елена заставила себя подняться на крыльцо, достала связку ключей и отперла дверь. Габи не пошла в дом, вжавшись в перила крылечка, Дорошин шагнул вслед за Еленой и похлопал себя по бедру:
– Пойдем внутрь, собака, замерзнешь.
На секунду ему почудилось, что Габи отрицательно покачала головой. Дорошин и Елена прошли в сени, затем в отпертую дверь, за которой находилась маленькая уютная кухня, а через нее в гостиную. Неровный тусклый зимний свет слабо освещал комнату через плотно задернутые шторы. Елена щелкнула выключателем, осмотрела комнату и закричала.
Ее крик нарушил странную пустынность и тишину этого места, словно отбросив морок, в котором Дорошин пребывал последние полчаса. Все происходящее вокруг больше не казалось иллюзией. И в этой жуткой реальности Дорошин увидел лежащее на полу скрюченное тело. Мужское. Натянув обратно снятые уже было перчатки, он подошел поближе, присел на корточки и перевернул его на спину. Перед Дорошиным, уставив невидящие глаза в аккуратно поклеенный белой бумагой потолок, лежал Ильдар Газаев, разнорабочий областной картинной галереи.
– Боже милостивый, как он тут оказался? – тихо прошептала Елена. – Я ничего не понимаю.
Дорошина, впрочем, сейчас занимало совсем иное. При переворачивании руки трупа, прижимающие что-то к груди, разжались, и это что-то с глухим стуком упало на деревянный пол. Дорошин пригляделся и не поверил собственным глазам. Рядом с мертвым телом лежала небольшая картина. Пропавший из галереи этюд «Днепр» кисти Архипа Куинджи.
* * *
Дорошин замерз так, что ему казалось, что он уже никогда не отогреется. Топить печь он запретил категорически. Поддержание в помещении той же температуры, что и раньше, было необходимым условием определения времени смерти Газаева. Из-за тридцатидвухградусного мороза, а именно столько показывал сейчас столбик уличного термометра, на который Дорошин с тоской смотрел из-за веселенькой ситцевой шторки на кухонном окошке, температура воздуха в доме Золотаревых вряд ли поднималась выше плюс двух. Через полчаса нахождения здесь Дорошин уже практически не чувствовал ног, в тысячный раз пожалев и об оставленных дома дядькиных валенках и о не прихваченном тулупе.
Елена тоже замерзла, причем ее холод, казалось, шел изнутри. Она застыла, прислонившись спиной к холодной печи, той самой, с изразцами, ради которых и было затеяно их безумное путешествие, и не шелохнулась ни разу, пока Дорошин звонил в убойный отдел, вызывая оперативную бригаду.
Безучастно глядя, как он затаскивает в дом озябшую на морозе Габи, которая перестала выть, но упиралась и не желала входить в помещение, где лежал покойник, Елена мерно и медленно раскачивалась из стороны в сторону, стараясь лишь не поворачивать головы в сторону трупа.
В конце концов Дорошин затащил собаку в дом на руках, прошел в отделенную от кухни небольшой аркой гостиную, усадил на диван, пристегнул поводком к батарее и накрыл теплым клетчатым пледом.
– Сиди тут, – строго сказал он собаке. – Не могу я тебя на улице оставить, замерзнешь.
Вот тут Елена и предложила растопить печь, а он запретил и объяснил почему, после чего она снова погрузилась в прострацию, обхватив себя за плечи.
– Лена. – Она даже головы не повернула, и Дорошин, аккуратно по дуге обогнув Газаева, чтобы не наследить, подошел к ней, силой оторвал от печи, увел в гостиную, к Габи, которая, задрав голову, вопросительно смотрела на них. – Лена, послушай меня. Мне нужно, чтобы до того, как приедут ребята, ты ответила на ряд моих вопросов. Ты меня слышишь, Лена?
Он впервые называл ее просто по имени, без отчества, да еще и на «ты», но она не отреагировала ни на новое обращение, свидетельствующее о том, что их отношения явно перешли на какой-то новый для обоих этап, ни на собственно заданный ей вопрос.
– Лена. – Он тряхнул ее за плечи хорошенько, так, что голова мотнулась, словно у тряпичной куклы и звонко клацнули зубы. – Я понимаю, что ты в шоке, но дальше будет только хуже, поэтому возьми себя в руки и поговори со мной. Хорошо?
– Хорошо, – покорно сказала она и перевела на него взгляд, который прояснялся, становясь осмысленным. – Виктор, что он тут делает? Как Ильдар мог оказаться в нашем с дедом доме?
– Давай будем разбираться с этим вместе. Итак, вопрос первый. Ты когда-нибудь приглашала Газаева в этот дом? Он бывал тут раньше?
– Нет. – Она посмотрела удивленно. – Конечно не был! Не пойми меня неправильно, я чужда сословных предрассудков, но разнорабочий, забивающий гвозди и чинящий электропроводку, никогда не входил в круг нашего с дедом общения. Мы вежливо здоровались при встрече, я обращалась к нему за помощью, когда это было необходимо, но мы не дружили и уж совершенно точно не ходили друг к другу в гости.
– Может быть, ты приглашала его сюда, чтобы что-нибудь починить?
– Нет, нам всегда Никита помогает и дядя Леша. Это соседи, те самые, что делают изразцы, – снова напомнила она. – Я никогда не просила Ильдара помочь по хозяйству. Ни здесь, ни в городской квартире.
– Хорошо. Это понятно. – Дорошин усилием воли подавил в себе желание погладить ее по голове. – Тогда вопрос номер два. Откуда Газаев вообще мог знать, где располагается твоя дача?
– Не знаю. – Она снова выглядела удивленной. – Но это не самая большая тайна. К примеру, многие из галереи здесь бывали, могли ему рассказать.
– Кто именно здесь бывал?
– Мария Викентьевна постоянно ездила. Они с дедом дружат, ты же знаешь. Как-то Калюжный приезжал. Я тогда болела ангиной и несколько дней жила на даче, на работу не ходила, и он привозил мне на подпись срочный документ, который мы готовили по поводу одной выставки. Я говорила ему адрес, объясняла, как добраться. Арина Романовна бывала, я ее как-то приглашала летом, потому что у нее дачи нет, а она очень хотела в реке искупаться. Жарко было. Лето жаркое. Года три назад, наверное. Алена была один раз. Увязалась со мной, когда я после работы к деду поехала. Говорила, что ей дома осточертело все, мне было неудобно отказать, и я пригласила ее на выходные. Пожалуй, все.
– А Ксюша была?
– Ксюша?
– Ксения Стеклова.
– Нет, ее не было. Мы с ней, если ты заметил, недолюбливаем друг друга. Да и зачем ей моя дача и моя скучная компания, когда у нее собственный загородный дом?
– Не знаю зачем. Я просто пытаюсь выяснить, кто знал, что твой дом находится именно здесь. И, соответственно, кто мог вытащить от него ключи и сделать слепки.
– Слепки?
– Лена, дом не взломан, а аккуратно открыт ключами. Твоя связка на месте, в твоей сумке. Значит, открывали дубликатами. Ты по дороге сюда сказала мне, что постоянно носишь ключи от дачи на общей связке. Значит, кто-то мог на работе сделать слепок и изготовить дубликаты.
– Но кто?
– К примеру, сам Газаев. Для него, как для мастера на все руки, это вообще не составило бы труда.
– Боже мой, но зачем ему ключи от моего дома?
– Не знаю, но зачем-то он сюда приехал. Вряд ли он собирался встретить тут свою смерть. – Дорошин пожал плечами. – Теперь следующий вопрос. Когда мы договаривались поехать сюда, ты сказала, что третьего числа не можешь, потому что у тебя есть срочное дело. Лена, ты уверена, что это дело заключалось не в том, чтобы приехать сюда. Ты точно не была здесь вчера?
– Да конечно не была. – В голосе Елены не было ни возмущения, ни испуга. Она уже отошла от первого шока и выглядела как человек, рассуждающий здраво, как всегда. – Мы с дедом никогда не ездим сюда зимой. В октябре мы закрываем дом и возвращаемся только в начале апреля. А вчера я не могла сюда поехать, потому что у деда были гости, и я должна была приготовить еду и накрыть стол. Третьего числа каждого месяца он встречается со своими друзьями. Все они уже люди пожилые, поэтому общаться воочию чаще чем раз в месяц им сложно. Дети заняты – привезти не могут. Но третье число – это святое.
– То есть ты целый день вчера была дома, и это могут подтвердить твой дед и его друзья?
– Виктор, я не приезжала на дачу и не убивала Ильдара, если ты об этом.
– Я о том, что твое алиби могут подтвердить. Это я понимаю, что ты его не убивала, но мои коллеги знают тебя не так хорошо, как успел узнать я, поэтому, несомненно, будут подозревать тебя в убийстве. Отнесись к этому с пониманием.
– Хорошо, отнесусь. – Теперь плечами пожала Елена. – Меня не волнует, что меня могут подозревать в убийстве, поскольку я его не совершала, и рано или поздно это обязательно выяснится.
– Хорошо. Оставим пока убийство в покое. Ответь мне на другой вопрос. Ты знаешь, как на твоей даче оказался этюд Куинджи?
– Нет. Я его сюда не привозила. Вернее, я не забирала его из галереи и понятия не имею, как он тут оказался. Как ты считаешь, картины мог украсть Ильдар?
– Понятия не имею. Одно я знаю точно: ему были нужны деньги, причем деньги большие. Его старшая дочь, Альмагуль, мечтает о собственной лошади.
– О чем она мечтает? – Елена не верила собственным ушам. – Боже мой, Виктор, я работала рядом с Ильдаром сто лет и понятия не имею ни о том, что у него есть дочь, ни о том, что она увлекается лошадьми. Ради всего святого, откуда тебе это известно? Просто снимаю шляпу перед твоим профессионализмом.
– Спасибо за комплимент, конечно, – сказал Дорошин. – Будем считать, что я польщен. Однако мой профессионализм тут ни при чем. Я случайно столкнулся в галерее с Газаевым и его дочерями. У него их две, а не одна. И случайно стал свидетелем их разговора о цене на лошадей. А вот то, что ты ничего не знаешь о его семье, это уже не случайность, а закономерность. Насколько я могу судить, Лена, в вашем коллективе сложились очень странные отношения. Я бы даже назвал их больными. Не знаю, культурная ли среда тому причиной, низкая ли зарплата или что-то другое, но части ваших сотрудников, в том числе тебе, или Ксюше, или Морозовой, или Марии Викентьевне искренне нет никакого дела до всех остальных, а другая часть, например Алена, ужасно остальным завидует. У вас нет чувства локтя. Вы не отмечаете вместе праздники. Не делитесь горем. Не знаю, как ты, а я считаю это ненормальным.
– Наверное, ты прав. – В голосе Елены звучала теперь неприкрытая печаль. – Вернее, ты совершенно точно прав, потому что я тоже как-то об этом думала. У нас каждый живет в своей раковине, свернувшись улиткой. И ничего хорошего мы про всех остальных, за редким исключением, не думаем. К примеру, мы с Марией Викентьевной очень нежно относимся друг к другу. А Морозова опекает Калюжного, потому что этого требует ее нереализованный материнский инстинкт. Но в массе своей все друг друга презирают.
– И все-таки, несмотря на это, Газаев почему-то очутился у тебя на даче, причем в тот самый момент, когда тебя тут быть было не должно. Если бы не твое желание показать мне изразцы и познакомить с дядей Лешей и Никитой, труп мог бы пролежать в вашем доме месяца три, не меньше. С учетом, что температура в доме все-таки плюсовая, то к тому моменту, как ты бы его нашла, он бы уже начал разлагаться, так что следы, если понадеяться, что они все-таки есть, были бы бесследно утрачены. А так остается шанс, что ребята все-таки что-нибудь найдут.
– Но Ильдара бы хватились раньше чем через три месяца, – рассудительно сказала Елена. – Он бы на работу после праздников не вышел, да и семья начала бы волноваться.
– И кто бы связал его пропажу с твоей дачей? – Дорошин усмехнулся. – Все бы как раз решили, что Газаев и есть вор, похитивший картины, и что он, почуяв, что запахло жареным, сбежал от греха подальше. Его объявили бы во всероссийский розыск, крутили бы на предмет возможных связей с черным рынком антиквариата, в общем, пошли бы по неверному следу. А пока полиция теряла бы время, преступник чувствовал бы себя в полной безопасности. А мы с тобой, приехав сюда, попортили ему всю малину.
– Какой преступник? – Голос Елены звучал жалобно.
– Не знаю какой. Пока не знаю, – поправился Дорошин. – Одно я могу сказать точно, в этом деле замешана женщина, и ей очень не повезло, что мы с тобой притащились сюда.
– Откуда ты знаешь?
– На улице две цепочки следов. Одни мужские, и они явно принадлежат Газаеву. Вторые маленькие, женские. До весны их бы сто раз занесло снегом, и никто бы не узнал, что женщина приезжала в твой дом вместе с Газаевым. Но вчера снега не было, убийце просто не повезло с погодой, и мы теперь точно знаем, что, кроме Газаева и этой неизвестной женщины, больше в дом никто не входил.
– А это значит… – Елена не могла заставить себя договорить.
– А это значит, что женщина его и убила.
– Ужас какой. – Елена вздрогнула и снова обхватила себя руками за плечи. – Виктор, ты что, считаешь, что это кто-то из нашей галереи? Если у меня алиби, то получается, что под подозрение попадают Алена, Ксюша, Арина Романовна и Мария Викентьевна? Не гардеробщицы же с уборщицей его убили… И кстати, почему ты уверен, что убийство совершили именно вчера?
– Потому что во вторник я видел Газаева в галерее. Когда мы с тобой таскали коробки, он был там. Так что преступление могли совершить либо поздним вечером второго, либо третьего. Думаю, что, если бы Газаев не пришел ночевать две ночи подряд, семья уже била бы в колокола, так что, скорее всего, преступление было совершено именно вчера. Кстати, у Ксюши тоже алиби, – признался Дорошин. – Она только вчера утром вернулась из Праги и практически сразу приехала ко мне.
– К тебе?
– Да. У нас было свидание. – Дорошину было невообразимо стыдно произносить эти слова, но врать сейчас он не мог. – Она провела у меня около двух часов, а потом поехала проведать маму и бабушку. Повезла им новогодние подарки. Ее родные живут в поселке при воинской части, это совсем в другую сторону от твоей деревни, так что она бы при всем желании не успела приехать сюда вместе с Газаевым и убить его. Так что Ксюшу можно исключить.
– Хорошо, – спокойно сказала Елена, хотя в ее голосе не было ничего, что описывалось бы словом «хорошо». – Я рада за Ксюшу. И в плане алиби, и в плане свидания. Я всегда знала, что она – девочка не промах. Умеет устраиваться в жизни.
Непонятно почему, но Дорошин не смел посмотреть ей в глаза. Он был рад, что приехавшая опергруппа лишила его необходимости оставаться дальше с Еленой наедине. Началась обычная рутина, связанная с осмотром места преступления и опросом возможных свидетелей. К тому моменту, как допросили соседей и их с Еленой, увезли тело и провели обыск в остальной части дома, он устал и замерз настолько, что ему казалось, будто он провел пару часов в открытом космосе, причем без скафандра.
– Скоро уже поедем, – ободряюще сказал он Елене, думая о том, что она наверняка устала не меньше, да еще и перенервничала.
– Я договорилась с Никитой, он отвезет меня в город, – вежливо ответила та, – не беспокойтесь обо мне, Виктор Сергеевич.
Оттого, что она вновь перешла на «вы», ему отчего-то стало больно. Словно морская вода попала на содранную кожицу.
– Я поеду тогда, – сообщил Дорошин коллегам. – Я же вам больше не нужен? У меня собака замерзла и проголодалась.
– Езжайте, товарищ полковник, – кивнул головой майор Воронов, оперативник опытный и честный. Дорошин его уважал. – У нас только чердак остался, сейчас осмотрим и сворачиваемся.
Дорошин свистнул Габи и пошел к машине, которая изрядно задубела на морозе и наотрез отказывалась заводиться. Он уже собирался идти за помощью, чтобы прикурить от оперативной машины, как мотор, чихнув и проскрежетав что-то не очень цензурное, все-таки заработал. Минут через пять машина прогрелась настолько, что уже можно было ехать, но в этот момент Дорошин увидел, как от крыльца к забору кто-то бежит и машет ему руками.
Он вылез из начинающего согреваться машинного нутра, с тоской чувствуя, как мороз тут же начинает кусать его щеки и нос, сделал знак Габи оставаться внутри и требовательно уставился на подбегающего к нему молодого оперативника.
– Воронов просит, чтобы вы вернулись, товарищ полковник, – сказал тот.
– Что-то случилось?
– Да, на чердаке во время осмотра картину нашли. Хозяйка дачи говорит, что это второй пропавший Куинджи. – Фамилия художника далась ему с явным трудом. – Этюд «Закат в лесу». Лежал на сундуке с постельным бельем.
* * *
Не дожидаясь окончания праздников, Дорошин снова ехал в Москву. То, что кражи картин и уже два убийства тесно связаны между собой, стало окончательно ясно, и дожидаться еще одного трупа Дорошин был не намерен. Ему было страшно даже думать о том, чей это может быть труп.
Габи он отвел к Золотаревым. Елена, с которой взяли подписку о невыезде, смотрела на него хмуро, но приютить собаку согласилась легко. Было заметно, что собака ей нравится гораздо больше, чем какой-то там Дорошин.
Ее неприязнь не могла иметь значения, но отчего-то ранила, точнее, царапала и колола, как загнанная под кожу заноза. Размолвка, приключившаяся между Дорошиным и Ксюшей, была гораздо более бурной. Виктор позвонил ей, чтобы предупредить о неизбежном допросе в связи с убийством Газаева. Ксюша выслушала его и несколько минут молчала, словно переваривая услышанное. Дорошину казалось, что он слышит, как на другом конце отсутствующего у сотовых телефонов провода под черепной коробкой молодой женщины клокочут мысли, сталкиваются друг с другом, отталкиваются, как одноименно заряженные полюса магнита, снова приходят в движение и снова неизбежно соприкасаются, вызывая чуть слышный треск в трубке.
– Алло, – сказал Дорошин и на всякий случай подул в телефон, потому что Ксюша все молчала. – Ты меня слышишь?
– Слышу, – сказала Ксюша, и он почувствовал, что она еле сдерживает бушующую в ней неведомую ярость. – Я пытаюсь понять, зачем ты поперся с Золотаревой на ее дачу?
– Это не имеет значения. – Дорошин все еще не мог взять в толк, что именно ее так рассердило. – Мы поехали посмотреть изразцы, которым выложена печь в их с дедом доме, и, если мне понравится, заказать такие же у их соседей, Никиты и дяди Леши.
– Боже, как трогательно, практически по-семейному, – фыркнула Ксюша. – Дорошин, я никак не ожидала, что ты окажешься таким же негодяем, как остальные мужики. Ты понимаешь, что из-за тебя и твоей интрижки с этой старой, облезлой, никому, кроме тебя, не сдавшейся сволочью, я попала в жуткую ситуацию? Нет? Не понимаешь?
– В какую ситуацию ты попала? – искренне удивился он. – Или это ты убила на даче Газаева и надеялась, что его труп не найдут до весны, а наша поездка спутала тебе все планы?
– Ты что, совсем дурак? – Ксюша теперь практически визжала. – Ты не понимаешь, что я сказала мужу, что с самого утра поехала к маме и бабушке, а вместо этого отправилась на свидание к тебе? Что мне говорить в полиции, когда меня будут спрашивать, где я была? Растрезвонить всему миру, что у меня есть любовник, и я ублажала его на его чертовом диване на глазах у его чертовой собаки? Ты понимаешь, чем мне это грозит?
– Замужние женщины, вступая в романы с посторонними мужиками, вообще-то должны быть внутренне готовы к тому, что рано или поздно их застукают, – огрызнулся Дорошин. – Но, если тебя это успокоит, можешь сказать, что была у мамы и бабушки с самого утра. Только их предупреди, чтобы они это подтвердили. В конце концов, я знаю, что ты была у меня, а не у Елены на даче, этого вполне достаточно. И учти, я иду на это нарушение правил только ради тебя.
– Вот спасибо. Считай, что я кланяюсь в пояс. – Голос Ксюши звучал язвительно, но запал потихоньку иссякал. – Вообще-то ты только ликвидируешь последствия того, чего натворил. И спасаешь не только меня, но и себя. Тебе тоже совершенно не нужно, чтобы все обсуждали наш с тобой роман. Я ж – одна из подозреваемых. Думаешь, я этого не понимаю? А вообще ты прав. И эта история меня отрезвила. Наверное, я не гожусь в любовницы. Мне было скучно, и я решила развлечься подобным образом, но так как по своему характеру к авантюрам я совершенно не склонна, то кроме проблем наша связь мне ничего не приносит. Как говорится, не жили хорошо, нечего и начинать. Извини, но я думаю, что нам нужно расстаться.
– Только не добавляй, что мы можем остаться друзьями, – попросил Дорошин, испытывавший чувство непередаваемого облегчения, – не скатывайся в пошлость. А так хорошо, я согласен.
– С чем именно ты согласен?
– С тем, что нам нужно расстаться. И с тем, что, пожалуй, не стоило и начинать. Прости, в этом виноват только я. Наверное, потому, что не склонен к парному образу жизни.
– Просто у тебя роман с другой женщиной. Если еще не начался, то начнется, – горько сказала Ксюша, в голосе которой теперь звучали злые слезы. – Ты не был в меня влюблен. Ты даже попытки такой не делал – влюбиться в меня. Ты просто протянул руку и взял то, что плохо лежало. Взял, попользовался и с легкостью выбрасываешь, потому что теперь твой мужской взгляд привлекло что-то новое.
– Это ты предложила расстаться, а не я, – напомнил Дорошин. – Хотя, не скрою, я считаю твое решение правильным и своевременным. Мы с тобой слишком разные, чтобы нам было хорошо вместе. А в наши годы сходство вкусов и характеров уже очень важно.
– В наши годы???
– Ну, в мои так точно. Все, разговаривай с мамой и бабушкой, чтобы не влипнуть в неприятности с мужем, а я в командировку поехал. И да, Ксюша, несмотря ни на что, спасибо тебе.
– В командировку? Это опасно? – Она все-таки не удержалась и заплакала. Как капель зажурчала в телефоне.
– Я в Москву, к фотографу, который приезжал фотографировать Куинджи. Теперь, когда оба этюда нашлись, самое время задать ему парочку вопросов. И если тебе это интересно, то нет, это неопасно. Не волнуйся обо мне, я уже большой мальчик, разберусь.
– Не больно-то и хотелось, – сухо сообщила переставшая плакать Ксюша и повесила трубку.
В тридцатишестиградусный мороз машина завелась с большим трудом. Все в ней было вязким, тягучим, как застывшая водка. Мотор работал через не могу, педали нажимались через не могу, коробка передач сопротивлялась, как девственница на первом свидании. Воздух разлетался на звенящие осколки. Казалось, что дыхание застывает в нем, превращается в стеклянные шарики и с грохотом осыпается под ноги. Часть шариков засыпалась в разрывающиеся легкие, заставляла жадно хватать ртом новую порцию обжигающего холода. Из взявшего целый город в плен мороза нужно было вырваться, отъехать на безопасное расстояние, поближе к Москве, где новогодние каникулы шли своим чередом, веселые, яркие, вовсе не холодные.
– В Москву, в Москву, – бормотал Дорошин, внезапно вспомнивший Чехова. – Там теплее, там нет вроде бы простых, но уже запутанных отношений, там нет сердитых на тебя интеллектуалок. Там есть друг Эдик и интересная работа, которая обязательно принесет результат. А когда я найду оставшиеся пять картин и распутаю это дело, я больше никогда-никогда не зайду в областную картинную галерею и не увижу ни одну из работающих там дам, въевшихся мне в печенки. За исключением Марии Викентьевны, естественно.
Прогрев машину, Дорошин запер ворота, отвез Габи Елене, которая даже не вышла их встречать, отправила открывать дверь деда, и, чертыхаясь про себя, поехал на выезд из города в сторону Москвы. Как он очутился в центре города перед галереей, он и сам не знал. Не собирался он сюда заезжать, но все-таки заехал.
Мария Викентьевна была на месте, и Елена Золотарева, оказывается, была на работе, и встречать его дома не вышла только потому, что ее там не было, и понимание этого факта отчего-то обрадовало Дорошина, которому не могло быть никакого дела до того, встречает его Елена Золотарева или нет.
– Витенька, мальчик мой, здравствуйте, – обрадовалась ему Склонская, а мы вот по морозу такому на работу добрались, нужно вещи разложить, обжиться на новом месте, потом не до этого будет, первую выставку начнем готовить. А вам что дома не сидится?
– А я в Москву поехал, – мрачно сказал Дорошин, стараясь не смотреть на тоже старательно не замечающую его Елену. – Забежал попрощаться. И еще с Калюжным хочу пообщаться. Он здесь?
– Да, у себя. Вас проводить? Леночка, проводи Виктора Сергеевича к Андрею, – засуетилась Склонская.
– Он и сам прекрасно дойдет, – насмешливо ответила Елена. – Виктор Сергеевич прекрасно находит то, что ему нужно, так что разберется. Отсюда по коридору вторая дверь налево.
– Благодарю вас, вы очень любезны, – церемонно ответил Дорошин и даже ножкой шаркнул от преувеличенной вежливости.
Нет, определенно, Елена была занозой, настоящей колкой занозой, воткнутой в мягкие ткани и напоминающей о себе в самый неподходящий момент.
Калюжный оказался на месте. Обернувшись на звук открывающейся двери, он увидел Дорошина, вздрогнул, покраснел, затем побелел, а затем покрылся неровными некрасивыми пятнами, усеявшими лоб, щеки и худую шею, торчащую из широкого, растянутого ворота теплого шерстяного свитера. Люди, которым нечего скрывать, так не пугаются при виде безобидного полицейского.
– Здравствуйте, Андрей, – поздоровался Дорошин, размышляя о причинах подобного испуга и вспоминая давешний рассказ Ксюши. Она слышала, как Калюжный разговаривал с кем-то по телефону. Что он тогда говорил?.. «Не подводите меня, от этой сделки зависит вся моя будущая жизнь». Кажется, именно так рассказывала Ксюша. Что ж, почти у каждого сотрудника галереи есть своя частная жизнь и маленькие тайны в ней. Сейчас узнаем, какую тайну скрывает господин Калюжный.
– Здравствуйт-те, – парень заикался и вид у него был полуобморочный, того и гляди свалится.
– Что ж вы так волнуетесь? У вас неприятности? Удалось ли заключить сделку, от которой зависела вся ваша будущая жизнь?
– Чт-то? Какую сделку? А, сделку? А почему вас это интересует?
– Да меня с недавнего времени интересует все, что происходит в вашем богоугодном заведении, – задушевно признался Дорошин. – С того самого времени, как у вас тут начали обнаруживаться пропажи картин, да еще и человека убили. Точнее, уже двух человек.
– Я т-тут ни при чем.
– Все говорят, что они ни при чем. Но при этом абсолютно точно, что кто-то один врет. Почему бы и не вы, Андрей?
– Я не вру. – Голос сорвался на фальцет. – Мне нечего скрывать.
– Тогда снова вернусь к своему вопросу. Отчего вы так волнуетесь?
– А вы бы не волновались, если бы вас подозревали в убийстве?
– Не знаю, – честно признался Дорошин. – Со мной такого не случалось. Итак, о какой сделке вы говорили по телефону из своего старого рабочего кабинета. Тогда вы произнесли фразу, что от этой сделки зависит вашу будущая жизнь. Вы говорили о продаже украденных картин?
– Нет. – В голосе Калюжного послышалось отчаяние. – Я говорил о сделке по продаже квартиры. Я живу с родителями, но у меня есть квартира, доставшаяся мне в наследство от деда. Мне нужно было срочно ее продать, причем так, чтобы об этом не узнали родители. Именно поэтому я вел все разговоры с работы.
– А зачем вам понадобилось спешно и тайно продавать квартиру? У вас долги?
– Что? Нет. У меня нет никаких долгов. Откуда им взяться? Я хочу жениться. У меня есть невеста, с которой я встречаюсь уже год. Мои родители против наших отношений. Я не могу привести ее к ним в дом, и в дедову квартиру тоже не могу. Она старая, грязная, в ней ремонта сто лет не было. Моя невеста из района. Она продала дом в деревне, и если добавить эти деньги к полученным от продажи квартиры, то можно купить двушку в новостройке. Чистую, светлую, которая у мамы не будет вызывать воспоминаний о прошлом. Но дедова квартира плохо продавалась, наконец нашелся покупатель, и я звонил риелтору, чтобы объяснить, что это очень важно для меня. Вот и все, поверьте мне.
– Я проверю, – пообещал Дорошин. – И что, продали вы квартиру?
– Да. Продал. Буквально накануне Нового года мы подписали договор на приобретение новой. Ее сдадут в марте, и до этого времени мне нужно, чтобы мама ничего не узнала. Я ей скажу, но потом, когда мне будет куда переехать.
– Ясно. – Дорошин понимал, что парень, скорее всего, говорит правду. – Вы, как я погляжу, послушный сын. А главное, прямой и честный.
– Я просто не хочу ее расстраивать. – Вид у Калюжного стал совсем понурый. – Она была против оформлять дедову квартиру на меня. Говорила, что мне нельзя давать самостоятельность, потому что я могу что-нибудь учудить. Я не хотел обманывать, но у меня выхода не было. Я люблю Свету и хочу, наконец, жениться. Я же не виноват, что маме все мои невесты не нравятся! Сначала нужно было защитить диссертацию, теперь встать на ноги. А я больше не хочу ждать. Но я ничего не крал из галереи. И Грамазина я не убивал. И Ильдара тоже.
– И кто это сделал, вы по-прежнему не подозреваете?
– Я не знаю. Правда не знаю. Вы сказали, что кто-то рассказал вам про мой разговор с риелтором по телефону. Так вот я тоже слышал один разговор. Это был разговор Грамазина с кем-то, я не знаю с кем.
– Он говорил по телефону?
– Нет, это был кто-то из сотрудников галереи. Грамазин был рассержен, я слышал это по его тону. Борис Петрович казался очень спокойным человеком, никогда не повышал голоса, но если он бывал чем-то недоволен, то у него менялся тембр речи, в нем появлялся металл. В тот раз он разговаривал именно с этим металлом в голосе.
– И что именно вы услышали?
– Ничего особенного. Он сказал что-то типа «не смешите меня, я этого на работе не держу». Второй голос что-то бубнил, но я не разобрал, кто это. Подслушивать мне было неудобно, поэтому я просто прошел мимо двери в кабинет. Но чем больше я про это думаю, тем больше мне кажется, что именно тогдашний собеседник и убил Бориса Петровича. Он пытался что-то у него забрать, а Грамазин сказал, что «это» у него не на работе. И тогда этот человек пришел к нему домой.
– Но вы не знаете, кто это?
– Нет, не имею представления.
* * *
Фотограф Ян Двиницкий, вернувшийся из рождественской поездки в Европу, встретиться с Дорошиным согласился легко и на вопросы отвечал охотно, без малейшего внутреннего зажима. Тот факт, что он ездил в старинный город на Волге фотографировать хранящиеся там этюды Куинджи, не отрицал, а свой интерес к ним объяснил просто – одно из крупных издательств, специализирующихся на искусстве, выпускало альбом, посвященный художнику, для чего и заказало серию качественных фотографий работ, хранящихся в регионах страны. Взявшийся за подряд Двиницкий за полгода объехал разные уголки России, работу свою выполнил, фотографии отдал заказчику, за что получил щедрое вознаграждение. Заказ поступил ему два года назад, начал он с отдаленных уголков и в город «под боком» у Москвы приехал в один из последних.
Он подробно расписал Дорошину маршрут своих передвижений и посещенные музеи. Виктор отправил список на проверку и выяснил, что работы Куинджи больше нигде не пропали. В списке, отданном Двиницким, присутствовали тридцать пять региональных музеев, и только в трех из них за прошедшие два года вообще были зафиксированы какие-либо кражи. Как правило, это были дорогостоящие полотна, оцененные в сумму от одного до трех миллионов долларов. Во всех трех случаях похищенное так и не нашли. Но к Куинджи это отношения не имело.
– Вы знаете Михаила Николаевича Колесова? – спросил Дорошин у Двиницкого во время второй их встречи.
Тот пожал плечами:
– Да, знаю, это коллекционер. Не очень упертый, коллекцию собирает выборочно. Но живописью действительно интересуется, а что?
– Он сказал, что именно вы порекомендовали ему побывать в нашей областной картинной галерее.
– Вполне возможно. – Фотограф снова пожал плечами. – Я этого, признаться, не помню, но у Михаила Николаевича нет никакой причины лгать. Я действительно делился своими впечатлениями о поездках по стране, и ваша галерея произвела на меня неплохое впечатление. В ней отлично подобраны фонды, немало ценного и, несмотря на некоторый бардак в хранении, экспозиции формируются со знанием дела. Я вполне мог порекомендовать настоящим ценителям посетить это место.
– Тогда у меня еще два вопроса. Были ли в вашем списке музеи, которые вы рекомендовали наравне с нашей галереей?
– Были. Мне понравилось далеко не везде, но хорошее впечатление я не скрывал. Для того чтобы поднять глубинку, важно пробуждать в людях интерес к хранящимся там ценностям.
– А вы можете отметить в списке те музеи, в которых вы рекомендовали побывать?
– Да, пожалуйста. – Двиницкий совершенно спокойно взял протянутый Дорошиным список и поставил в нем несколько галочек.
Галочек было восемь, и среди них, помимо родного Дорошину города, значились еще три, в музеях которых тоже произошли кражи. Это было интересно.
– Тогда второй вопрос. – Дорошин сложил бумагу и спрятал ее в карман. – Вы можете припомнить людей, с которыми вы делились своими впечатлениями?
– Всех наверняка не смогу, поскольку у меня довольно большой круг общения, и мнения своего я не скрывал. Делился со всеми, кто об этом спрашивал. К примеру, разговора с Колесовым я не помню, а значит, и еще с десяток подобных разговоров мог забыть.
– И все же. Напрягитесь, полтора года не такой большой срок, чтобы память отформатировалась начисто.
– Ну, в издательстве рассказывал, конечно. – Голос фотографа звучал неуверенно. – Я же к ним после каждой поездки приходил, привозил фотографии, обсуждал, как их лучше обработать.
– В издательстве вы же не ходили по коридорам направо и налево. Вы же наверняка встречались только с теми, кто непосредственно курировал посвященный Куинджи проект. Кто были эти люди?
Двиницкий немного подумал и написал на очередном листе бумаги три фамилии.
– Отлично. Идем дальше. С Григорием Орловым вы разговаривали про провинциальные музеи?
– С Гришей? Нет. Я его довольно давно не видел. Помню, что мы как-то обсуждали бедность фондов провинциальных художественных галерей с известным меценатом Павлом Голубцовым. Я с ним спорил, что так не везде, и приводил в пример то, что видел собственными глазами. – Он уверенной рукой вписал фамилию Голубцова в список.
– Так, и когда это было?
– Да где-то примерно с год назад. Может, чуть больше. Точно не помню. Еще с директором частного арт-музея мы об этом точно разговаривали. Ее зовут Инна Кормухина. С девушкой моей. Она всегда интересовалась впечатлениями от моих поездок. С мамой. Она у меня искусствовед, поэтому ей это все живо интересно. Да, вы знаете, и все, пожалуй.
Дорошин, поблагодарив Двиницкого за помощь, отправился на работу к Эдику Кирееву. Ему было о чем подумать. Список, составленный фотографом, был вполне посильным для проработки. Отчего-то Дорошин был уверен, что организатором похищения картин в провинциальных музеях был кто-то из этого списка, и этого человека теперь предстояло вычислить.
– Я это так вижу, – задумчиво сказал Эдик, когда Дорошин поделился с ним своими мыслями. – Некий человек слышит от Двиницкого, что в ряде региональных музеев собраны очень неплохие коллекции живописи. Он понимает, что на этом можно заработать. И начинает искать людей на местах, которые могут ему помочь в реализации его планов.
– В музеи он вряд ли выезжал. – Дорошин чесал кончик носа, что выдавало серьезную погруженность в процесс. – Ему не нужно было, чтобы его потом вспомнили. Провинциальные картинные галереи – затхлое место, где каждый новичок на виду. Вон, Двиницкого же Ксюша, к примеру, запомнила. Так что нет, в музеи он не ездил.
– Каталоги основных фондов в советское время издавались регулярно. И даже с учетом того, что в последние годы на этом существенно экономили, заказать в электронных архивах такие каталоги дело плевое. Поэтому составить впечатление о фондах и наметить, что именно украсть, – проще простого.
– Верно, а значит, нужно запросить в крупных библиотеках информацию о том, кто в последние полтора года запрашивал такие каталоги, – подхватил Дорошин. – Это зацепка номер один. Но сообщники в музеях ему были все-таки нужны. Как, не выезжая на место, найти среди сотрудников людей, готовых вынести картины? Это же риск огромный.
– Нет никакого риска. – Эдик покачал головой. – Создаешь «левый» адрес электронной почты и выходишь с предложением. Если для каждого музея этот адрес свой, то шансов, что тебя отследят, практически никаких. А если уж совсем косяк, то всегда можно сказать, что ты пошутил, решил провести «проверку на вшивость».
– И все-таки с бухты-барахты такие предложения рассылать не будешь, – покачал головой Дорошин.
– А если не с бухты-барахты? Представь, директору картинной галереи приходит письмо о том, что проводится отбор работников региональных музеев для некоей заграничной командировки. Мол, все за счет принимаемой стороны, затрат никаких, программа очень интересная. Для того чтобы отобрать лучших, просят представить информацию обо всех сотрудниках музея, подробная анкета прилагается. Думаю, на это многие бы купились.
– А потом? – Дорошин смотрел на своего друга Эдика недоверчиво.
– А потом нужен хороший психолог, чтобы из присланных анкет отобрать нужную. К примеру, ты знаешь теперь всех сотрудников своей галереи. Если бы перед тобой лежали их анкеты, кого бы ты ни за что не стал бы втягивать в преступление?
– Нет чистоты эксперимента. Я их всех знаю лично. К примеру, Ксюше не нужны деньги, потому что она – жена богатого мужа. Калюжный мечтает отвоевать свободу от мамочки. Богданова нашла спонсора. Нет, если бы все было так просто, как ты говоришь, так я бы и убийцу и похитителя давно бы вычислил.
– Я не говорю, что это просто, не передергивай. Но ему не нужно было стопроцентное попадание. Ему нужно было из числа всех сотрудников отобрать двух, максимум трех человек, которым потом можно было сделать завуалированное предложение и плясать дальше уже от полученного ответа. Давай, я попробую. Я твоих «подопечных» лично не знаю, у меня глаз незамутненный.
– Давай, – безо всякого, впрочем, интереса согласился Дорошин. – Начинай, жги глаголом. Посмотрим, что у тебя получится.
– Итак. – Эдик достал из специального пластикового контейнера маленькие листочки бумаги и разложил их перед собой, вооружаясь фломастером. – Имеем Арину Романовну Морозову, директора галереи, двух ее заместителей Бориса Грамазина и Марию Склонскую. Старшего научного сотрудника Елену Золотареву и трех младших научных сотрудников Алену Богданову, Андрея Калюжного и Ксению Стеклову. Есть еще разнорабочий, уборщица и смотрительницы залов с гардеробщицами, но их я во внимание не принимаю.
– Почему? – спросил Дорошин. – Ладно гардеробщиц, они в фонды не ходят, но Газаев-то туда имеет прямой доступ. И, кстати, то, что его убили, лишний раз подчеркивает, что он замешан.
– Погоди, я же первое впечатление составляю. И еще никого не убили. Я по анкетам смотрю, и никакого Газаева там быть не может. Он изначально не может претендовать ни на какую заграничную командировку. Понимаешь?
– Согласен. – Дорошина внезапно начала увлекать затеянная Эдиком игра.
– Морозова. Старая дева без семьи и перспектив. Она не польстится на большие деньги, потому что просто не знает, что с ними можно делать. У нее устоявшаяся жизнь, которую она боится менять. Нет, она ни за что не пойдет на поводу у потенциального преступника. Но это только на первый взгляд. Она понимает, что впереди у нее нищенская старость, в которой не на кого опереться. А значит, вполне может решиться закончить свою карьеру таким громким аккордом, как кража.
Грамазин. Все то же самое, только с поправкой на пол. Но его я бы вычеркнул из своего потенциального списка. Мужчины менее решительны и более трусливы. Они не склонны к кардинальным переменам. Живущая одна долгие годы женщина готова на все, чтобы изменить свою жизнь. Одинокий мужчина будет цепляться за свой образ жизни до последнего. Он бы никуда не уехал от своих книг, своей захламленной квартиры и своих привычек. Нет, на него преступник ни за что бы не поставил.
По той же самой причине я бы вычеркнул и Калюжного. Тот шага не сделает без мамочкиного одобрения. Его внутренние метания и страдания у него на лице написаны, поэтому нет, кишка тонка решиться на что-то серьезное. Тут смелость нужна, решимость, характер, а у него нет никакого характера.
Золотарева. У нее глаза мятежницы. Но то, что человек она порядочный, видно невооруженным глазом. На преступление она не способна, хотя бы потому, что ни за что не стала бы расстраивать своего деда. В ней видна порода. Такие люди интеллигентны, воспитанны, и их невозможно толкнуть на подлость. Получи она подобное предложение, сразу бы о нем рассказала, еще и на чистую воду попыталась бы вывести. Нет, в ситуации с ней риск очень велик, и умный преступник на него бы не пошел.
Склонская. Тот же самый вариант, что и с Золотаревой, только в два раза старше. Профессорская жена, мать, бабушка, человек, у которого есть все необходимое и который не станет нарушать свои принципы ради денег, пусть даже очень больших. Так что, помимо Морозовой остаются только две нимфы – Стеклова и Богданова. Обе молодые, жадные до денег, с той только разницей, что одна уже успела распробовать их вкус, а вторая только мечтает о них, распаляя себя завистью к первой.
– У Ксюши есть деньги. Муж ей ни в чем не отказывает, – усмехнулся Дорошин и тут же осекся, вспомнив, как Ксюша рассказывала о том, что мечтает о доме в Италии, а ее муж не понимает, зачем он нужен.
– Запомни меня, мальчишка, лишних денег не бывает, – философски заметил Эдик и похлопал друга по плечу. – Тебе, конечно, застит глаза твоя влюбленность, но хочу тебе сказать, что эта твоя Ксюша – та еще штучка.
– Нет у меня никакой влюбленности, – пробормотал Дорошин. – И вообще мы расстались. Итак, из твоих рассуждений выходит, что неведомый нам преступник мог отправить письма с предложением о сотрудничестве Ксюше, Алене и Арине Романовне.
– Может быть, всем трем, может быть, кому-то двоим. Я бы выбрал старуху и одну из молодух. Обе сразу – это уже рискованно. С учетом, что Богданова начала искать себе богатого папика, подобного предложения она либо не получала, либо ответила на него отказом. Остаются двое. Не так уж и много.
– Не много, – согласился Дорошин, на душе у которого было муторно. Подозревать Ксюшу, пусть даже и чисто теоретически, ему было невмоготу. – Я бы все-таки не стал исключать Богданову. Операция «богатый папик» могла быть просто прикрытием.
– Да ради бога, – согласился Эдик. – Нужно повторить путь преступника. Во всех музеях, отобранных Двиницким, запросить информацию о сотрудниках и проделать все то, что только что сделал я. Если я прав, то запросы анкет приходили во все восемь галерей, а вот человек, готовый пойти на преступление, нашелся только в четырех. Оттуда и пропали картины. Так что начинай с оставшихся. Там у тебя не будет шанса спугнуть сообщника.
За пару дней Дорошин убедился, что Киреев, как всегда, оказался прав. Директора четырех картинных галерей, значившихся в списке Двиницкого, но не пострадавших от краж, сообщили, что около полутора лет назад действительно получали запрос от некоего фонда «Искусство жить», который обещал организовать выездные семинары с посещением ведущих мировых художественных сокровищниц и в связи с этим запрашивал полную информацию о сотрудниках для того, чтобы определить перечень участников программы. Анкеты, присланные представителем фонда, оказались большими и очень подробными. Помимо обычных сведений в них запрашивалась информация, позволяющая составить психологический профиль человека, но это никому не показалось странным. Все-таки речь шла о командировках за границу и связанных с этим больших деньгах, которые, как объяснял фонд, планирует потратить некий меценат, мечтающий поднять уровень искусствоведения в стране.
В одном из музеев даже сохранились анкеты, отосланные по электронной почте фонда, и их любезно предоставили Дорошину для ознакомления. Еще в одном директор не стала мучиться со сбором информации, решив, что ее сотрудники благополучно перебьются без заграничных командировок. Ни в одном из случаев после отправки заполненных анкет не последовало обратной связи. Ни в какие заграничные командировки никто приглашен не был. Директора галерей решили, что меценат отказался от финансирования столь затратного проекта, и об отправленных анкетах забыли.
На следующем этапе расследования коллеги Дорошина из других регионов опросили сотрудников тех галерей, где были отправлены анкеты, и выяснили любопытную закономерность.
Анкеты были заполнены в семи регионах страны. В одном из них на сотрудников никто не выходил и никаких неприличных предложений не делал. В остальных двум сотрудникам поступали странные письма и звонки с предложением повысить свой уровень материального благосостояния. В каждом случае называлась конкретная картина, которую звонивший или писавший был готов приобрести за очень весомое вознаграждение, превышающее один миллион долларов. Часть людей, получивших такие предложения, сочла их дурной шуткой и не обратила внимания, часть, испугавшись, рассказала руководству, кто-то отреагировал резко, обрушившись на предлагавшего с обвинением в мошенничестве. Лишь один человек обратился в полицию, где, впрочем, к его сообщению отнеслись с иронией и ничего предпринимать не стали.
– Ты был прав, – признался Дорошин Эдику, в очередной раз выйдя с ним на связь по скайпу. – Преступник провел именно ту работу, которую ты просчитал. Из каталогов выбрал нужные ему полотна, проанализировал данные сотрудников восьми провинциальных художественных музеев, выбрал, с его точки зрения, подходящих, вышел на них с конкретным предложением. В четырех музеях, где не случилось краж, ему ответили отказом или вообще никак на него не отреагировали. А еще в четырех, в том числе и в нашем, на предложение украсть ответили согласием.
– И именно в вашем музее преступник набрел на золотую жилу – нашел человека, готового ради наживы вынести не одну-две картины, а целых восемь. Думаю, что, если бы не твоя Мария Викентьевна, поднявшая шум, они продолжали бы свое гнусное дело еще очень долго.
– Думаю, что долго в любом случае бы не получилось. При переезде галереи в новое здание инвентаризация прошла бы по-любому. Преступники об этом знали, поэтому спешили. Но ты прав, что наш, точнее, наша оказалась самой жадной и самой аморальной. Кто это? Морозова, Богданова, Ксюша? Мне даже думать про это тошно. И еще очень важно понять, как именно две картины Куинджи оказались на даче у Елены. Кто их туда привез? Как там оказался Газаев? А вдруг ты не прав, и Елена не соответствует тому психологическому портрету, который ты нарисовал? Вдруг преступница все-таки она?
– А это что-то меняет? Лично для тебя? – уточнил Эдик. – Ты будешь покрывать преступницу, если это Елена? Или если Ксюша?
– Нет, не буду, – печально сказал Дорошин. – Но мне будет хреново в любом из этих двух случаев. Лично я бы предпочел, чтобы это оказалась Богданова или Морозова.
– Человек предполагает, а Бог располагает. Так что хотеть ты можешь все что угодно, а примириться с жизненными реалиями все-таки придется. Но ты никогда не был страусом, прячущим голову в песок. Разве нет, Вик?
– Да, Эд. Как бы то ни было, правду я приму в любом случае, какой бы горькой она ни была. Правда – это самое важное в жизни.
* * *
К началу рабочих дней январские морозы отступили, ослабели, сдали позиции, и хотя в кабинете стоял дубак, по улице уже можно было перемещаться без риска что-нибудь отморозить. Впрочем, погруженный в собственные невеселые думы Дорошин на погоду внимания не обращал вовсе. Потеплело и потеплело, чего об этом говорить.
Придя на работу, он с изумлением обнаружил у двери собственного кабинета женскую часть семьи Газаевых – знакомых ему Альмагуль и Диляру, а вместе с ними женщину неопределенного возраста, в прошлом удивительно красивую, но рано состарившуюся, с грустным и заплаканным лицом.
Дорошин знал эту особенность восточных женщин – стареть рано и необратимо. Гордые профили юных восточных красавиц, такие как у Альмагуль и Диляры, отчего-то очень быстро тяжелели, теряли четкость, расплывались, покрываясь сеткой глубоких морщин. Женщина, пришедшая с девочками, равно могла быть им как матерью, так и бабушкой. Если это мать, то ей лет сорок, если бабушка – шестьдесят, по внешнему виду определить это не представлялось возможным.
– Здравствуйте, – сказала одна из девушек, кажется Альмагуль. – Вы нас помните? Мы с вами виделись в картинной галерее, когда мы были там с папой.
На слове «папа» личико ее сморщилось, но она сдержалась и все-таки не заплакала.
– Конечно помню, – сказал Дорошин. – Вы Альмагуль Газаева, а это ваша младшая сестра Диляра. Правильно?
– Да, правильно. А это наша мама Джамиля Абдулкеримовна. Она хочет с вами поговорить.
Итак, все-таки мама. Дорошин отпер кабинет, распахнул дверь и сделал приглашающий жест внутрь, мол, проходите. Диляра сделала было движение, намереваясь шагнуть через порог, но была остановлена властным жестом материнской руки.
– Девочки останутся здесь, – пояснила Джамиля Газаева. – Мне нужно поговорить с вами наедине.
– Хорошо. – Дорошин пропустил ее в кабинет и закрыл дверь перед любопытным носом Диляры. – Присаживайтесь, пожалуйста, Джамиля Абдулкеримовна, я вас внимательно слушаю.
– Я пришла к вам потому, что меня беспокоит душевное состояние Альмагуль. – Женщина полезла в карман, достала носовой платок и трубно высморкалась. Голос ее, глухой, надломленный, как бывает у человека, потерявшего опору в жизни, отдавался странным эхом от стен, бил по нервам, вызывая мурашки по коже. – Моя старшая дочь вбила себе в голову, что отца убили из-за нее. Это полная чушь и ерунда, но она в этом уверена. И я хочу, чтобы вы объяснили ей, что это не так.
– А почему я? – удивился Дорошин. – Я ведь не веду дело об убийстве вашего мужа, Джамиля Абдулкеримовна. Я расследую пропажу ценностей из картинной галереи. Убийствами сотрудников музея занимаются совсем другие люди.
– Так ведь дело именно в картинах, – вздохнула Газаева. – Альмагуль говорит, что отец очень хотел купить ей лошадь и именно поэтому ввязался в историю с кражей картин. Она считает, что он вычислил похитителя и начал его шантажировать, чтобы получить деньги на покупку лошади.
– А ваш муж мог кого-нибудь шантажировать?
– Не знаю, – помолчав, сказала женщина и вдруг тихо заплакала. – Я вообще ничего не знаю. Мне казалось, что мы оба друг у друга как на ладони. Шутка ли – столько лет прожито? А оказалось, не зря говорят, что чужая душа – потемки. Не влезешь туда, мысли не прочитаешь.
– То есть вы считаете, что ваш муж от вас что-то скрывал?
– Он очень изменился после того, как… – Она вдруг запнулась и замолчала.
– После чего? Джамиля Абдулкеримовна, это не я к вам пришел, это вы пришли ко мне с просьбой о помощи. Я готов вам помочь, но для этого не нужно от меня ничего скрывать.
– Это долгая история. – Газаева тяжело вздохнула.
– А я не тороплюсь. – Дорошин вскипятил чайник, налил ей чаю, поскольку в кабинете было очень холодно, плеснул кипятка в свою кружку, уселся в кресло, обхватив ее руками, и приготовился слушать.
Ильдар Газаев всегда был уверен, что в настоящей крепкой семье должно быть много детей. Волею судьбы его семья с двумя маленькими дочками, которых он обожал и всячески баловал, перебралась из теплого Дагестана в открытый всем ветрам волжский город. Получилось это случайно. Ильдара позвал сослуживец, с которым они вместе служили в армии, предложил открыть совместное дело, тот и согласился. В Дагестане приходилось ютиться в доме с родителями. Невестку они недолюбливали, да она еще, как на грех, родила одну за другой двух дочерей, в то время как дед с бабушкой мечтали о внуке.
Предпринимателя из Газаева не вышло. В шальные девяностые на мебели, которую они изготавливали собственными руками, удалось заработать столько, что хватило на квартиру для семьи, но конкуренты быстро сожрали маленький, затеянный в гараже бизнес. Сожрали и косточки выплюнули. Друг с горя спился и быстро умер. То ли замерз в сугробе по пьяни, то ли убили. А Ильдар Газаев, бывший мастером на все руки, устраивался разнорабочим то туда, то сюда, пока не осел в картинной галерее.
Работы у него здесь было немного, но на халтуры и приработки Арина Морозова смотрела сквозь пальцы, понимая, что мужику нужно кормить семью. Джамиля устроилась медсестрой в районную поликлинику, девочки росли, тихие, воспитанные и ласковые, не создавая проблем родителям. Жизнь входила в ровную колею, и все было бы хорошо, если бы не одно обстоятельство, омрачающее Ильдару всю радость. Он страстно мечтал о продолжателе рода Газаевых, о сыне.
– Я виновата, – тихо говорила сидящая перед Дорошиным женщина, теребя в руках мокрый носовой платок. – Я ведь втайне от него предохранялась много лет. Мне тяжело было, в чужом городе, с двумя детьми на руках. Они и болели часто, и на работе я уставала, никак не хотелось мне снова окунаться в круговерть пеленок-распашонок. Вот и говорила мужу, что не получается у меня забеременеть, а сама, втихаря, таблетки пила. Я все думала, к старости успокоится, смирится, но как Альмагуль шестнадцать исполнилось, он аж лицом почернел весь. Говорит, улетят из гнезда скоро наши птички, осиротеем мы с тобой, Джамиля. Что ж мы такого Богу сделали, что он нас утешения лишает, сына не дает. В общем, глупость я совершила, решила, что могу и родить теперь. Девочки выросли, во всем помогут. Альмагуль уж скоро работать пойдет, прокормили бы малыша. И я выбросила таблетки.
– И что было дальше? – Дорошин отчего-то был уверен, что вот-вот узнает что-то очень важное. И не просто важное, а проливающее свет на случившиеся убийства. Уверенность росла внутри, как огромный катящийся с горы снежный ком, хотя Дорошин и не мог сказать, откуда этот ком взялся.
Газаева рассказывала дальше. Речь ее, монотонная, мертвая, лишенная каких-бы то ни было эмоций, лилась свободно, несдерживаемым потоком. Видно было, что эмоции все давно уже захлебнулись и утонули в этом потоке, словно не вынеся собственной тяжести.
Наступившей у жены беременности Ильдар радовался, словно сумасшедший. Казалось, он помолодел на десяток лет, носил жену на руках, осыпал цветами и подарками, весь светился от счастья, рассказывая дочкам о том, как здорово они все будут жить, когда в семье появится еще и мальчик, сыночек, долгожданный наследник. Он даже не сомневался, что на этот раз у него родится сын.
Джамиля тоже в этом не сомневалась. Дочерей она носила очень тяжело, мучаясь тошнотой и головокружением, а в этот раз переносила беременность легко, будто была двадцатилетней девчонкой, а не уставшей от жизни сорокадвухлетней женщиной. На первое УЗИ они с мужем отправились вдвоем, потому что он теперь никуда не отпускал ее одну, носил даже легкие сумки, бережно вел по улице под руку, чтобы она, не дай бог, не оступилась, не упала.
«Мальчик у вас», – сказала доктор, делавшая обследование, и Ильдар чуть сознание не потерял от затопившей его радости. Джамиля, которая переживала больше за мужа, чем за пол будущего ребенка, тоже была рада, и сквозь эту радость до нее не сразу пробился смысл других, сказанных врачихой слов. «Не все мне нравится, – говорила между тем врач, – возраст у вас такой, опасный уже возраст. Надо бы анализы сделать, генетику проверить».
Ни Джамиля, ни Ильдар, не понимали, что такое «генетика» и при чем тут какие-то анализы, но все процедуры прошли безропотно. Зачем спорить, когда речь идет о здоровье сына и наследника. Пришедший результат их убил, уничтожил, обратил в прах. Ребенок, которого носила Джамиля, был носителем синдрома Дауна, и Газаевым очень настоятельно рекомендовали прервать беременность.
Альмагуль, готовящаяся к поступлению в медучилище, раз за разом искала в Интернете и читала родителям научно-популярные статьи про синдром Дауна. Плачущая Джамиля, успевшая полюбить своего нерожденного ребенка, робко предложила беременность не прерывать. Появление «солнечного» ребенка на свет ее не пугало, она была уверена, что вместе они справятся с этой бедой. Ребенка же главное любить, а уж какого, не имеет значения, все равно же свой, родной, любимый, желанный. Однако Ильдар оказался против.
– Я мечтал о наследнике нашего славного рода, – глухо сказал он, – сыне, которым я мог бы гордиться. Нет, Джамиля, не надо являть миру больного ребенка. Мы уже не молоды. Если с нами что-то случится, он станет обузой для Альмагуль и Диляры. Нет, врачи все правильно посоветовали.
Он сам отвел жену в клинику, вернувшись из которой лег на кровать и повернулся лицом к стене. Джамиля и рада была бы тоже погрузиться в горе, но не могла. Нужно было готовить еду, идти на работу, разговаривать с девочками. Ильдар молчал два дня, после чего спросил:
– Ты кому-нибудь говорила, что беременна?
– Нет. – Глаза Джамили набухли слезами. – Стыдилась, что смеяться будут. Мол, старуха уже, а туда же. Все ждала, пока заметно станет, чтобы уж тогда признаться. Чем позже, тем лучше.
– Вот и прекрасно. Об этом нашем горе никто из посторонних знать не должен. Позор это на семью. И то, что плод больным оказался, и то, что мы приняли решение избавиться от него. Взяли грех на душу. Только мы четверо будем знать об испытании, которое послал нам Аллах. Нечего перед чужими позориться.
Прошла пара месяцев, Ильдар Газаев вроде бы стал отходить от свалившегося на семью несчастья. В свободное от работы время снова начал выпиливать резные фигурки, которыми увлекался с молодых лет, да на фоне горя позабросил. Он практически не улыбался, но уже не хмурился, со лба исчезла глубокая борозда, и Джамиле, страшно переживавшей за мужа, казалось, что жизнь налаживается. А потом все в одночасье вновь рухнуло.
– Ильдар пришел с работы черный весь. Я даже испугалась, что случилось что-то непоправимое. То ли с моими родными, то ли с его. Но оказывается, дело было в другом. Кто-то узнал про нашу тайну, наш позор и рассказал про это Ильдару.
– Этот человек шантажировал вашего мужа? – Дорошин не мог не спросить, хотя знал ответ.
– Я не знаю, – шепотом сказала женщина. – Муж не говорил. Этот человек сказал Ильдару, что знает про нашего сыночка и про то, что мы сделали. Более того, у него на руках оказались медицинские документы, результат анализов, подтверждающий наличие генетического отклонения у ребеночка. Я так и не поняла, что именно он хотел, зачем ему были нужны эти документы. Ильдар был вне себя. Он очень просил этого человека отдать бумаги, но тот не согласился. Муж был, как помешанный, он не мог ни есть, ни спать. Я уговаривала его успокоиться. Мы ведь не сделали ничего дурного, ничего противозаконного. Нам просто не повезло, такое несчастье с кем угодно могло случиться. Я говорила, что даже если про это все узнают, то никому это не будет интересно. Ну, посудачат пару дней, и все. Но в Ильдара словно черт вселился. И я думаю, что он решил раздобыть денег, чтобы откупиться, выкупить эти бумаги. И как-то влез в историю с картинами. А его за это убили. И Альмагуль, и ее мечта о собственной лошади тут совершенно ни при чем. Понимаете? Вы должны ей про это сказать, чтобы она успокоилась.
– Джамиля Абдулкеримовна, мы обязательно со всем разберемся, – мягко сказал Дорошин. – И вы, и ваши дочери обязательно узнаете правду. Я, конечно, не могу гарантировать, что она вам понравится, но лгать вам не буду ни при каких обстоятельствах. Договорились? Надо просто немножко подождать.
– Хорошо, мы подождем, – обреченно вздохнула женщина. – Вся жизнь под откос пошла. Ничего не осталось. Как жить будем, не знаю. Как девчонок мне дальше поднимать? На кого опереться?
На этот тяжелый вопрос у Дорошина не было ответа, и Джамилю ему было искренне жаль. Но он ничем не мог ей помочь.
Проводив Газаеву до двери и попрощавшись с Альмагуль и Дилярой, бережно взявшими мать под руки, он собирался вернуться в свой кабинет, но был остановлен коллегой из соседнего отдела.
– До чего ж ты, Витя, неуловимый, – сообщил тот, дружески хлопнув Дорошина по плечу. – Попросил меня данные по Стекольщику тебе дать, а сам на работе не появляешься. То ты в командировке, то на объекте, то еще где-то. А я бегай за тобой, да?
В круговерти событий последнего месяца Дорошин и забыл совсем, что действительно просил дать ему все, что было у коллег по Стекольщику, бывшему бандиту, ныне благополучному бизнесмену, пытавшемуся отжать у дорошинского дяди земельный участок на берегу Волги. Теперь, когда участком владел сам Виктор, ему точно ничего не угрожало, поскольку о полковника Дорошина Стекольщик уж точно зубы обломал бы, но тем не менее начатое дело нужно было довести до конца хотя бы для того, чтобы обезопасить от притязаний Стекольщика остальных пожилых владельцев лакомых кусков земли.
– Так чего, Витя, тебе Стекольщик уже не нужен, что ли? – вывел его из раздумий голос коллеги. – Выходит, зря я за тобой бегал?
– Нужен-нужен. – Дорошин протянул руку, чтобы забрать листок бумаги, который коллега держал в руках. – Ты прости, забегался я, все из головы вылетело.
– Ладно, что, я работы нашей не знаю? Ни сна, ни отдыха измученной душе. На, держи. Стекольщик наш – в миру добропорядочный гражданин Альберт Петрович Стеклов. Вот тут адрес, по которому его фирма располагается, ниже домашний, ну и телефоны все, как положено.
– Спасибо, – машинально сказал Дорошин, в голове которого гудел набат, бил в правый висок, вызывая головокружение и мушки перед глазами.
Сквозь тучи летающих черных жирных мушек Дорошин пытался сложить в единый текст буквы, что скакали перед ним на белом листе бумаги. «Альберт Стеклов», – прочитал он и начал сначала. «Альберт Стеклов». Муж его Ксюши. То есть теперь уже не его, но все-таки Ксюши.
И это внезапное открытие придавало делу о пропаже картин из галереи совершенно новый поворот.
* * *
Возникший в голове в момент неприятного известия набат никак не утихал. Наоборот, Дорошину казалось, что он гудит все громче и громче. Его эхо отдавалось в черепной коробке, выгоняя оттуда все мысли. У Дорошина звенело в ушах и все плыло перед глазами.
«Не хватало еще в обморок грохнуться, как истеричная барышня», – зло подумал он, но голова противно кружилась, да так сильно, что он понял, что ему срочно нужно сесть. На ногах, отчего-то ставших ватными, он добрел до своего стула и плюхнулся на него, переводя дыхание от неожиданно навалившейся слабости.
В кабинете, казалось, стало еще холоднее. Так холодно, что Дорошина начал бить крупный озноб, даже зубы клацнули пару раз. Он упрямо сжал челюсти. «Да что это со мной, черт бы меня подрал».
Неслушающимися руками он достал телефон и потыкал пальцем в кнопки.
– Здравствуй, Виктор, – отозвался аппаратик ангельским голосом Ксюши. Женщины-цветочка, похоже замешанной в истории с кражей редких полотен. Сейчас Дорошин в этом практически не сомневался.
– Здравствуй, Ксю… Ксения. – Собственный голос казался ему наждаком, раздирающим сухую гортань. Он пытался сглотнуть, но не мог.
– Оу, что уже так официально? – весело осведомилась Ксюша. – Прошла любовь, завяли помидоры? Да, Дорошин?
– Скажи мне, твой муж, Альберт Петрович Стеклов знал, какие ценности хранятся в галерее? Почему ты сразу не сказала мне, что он может быть причастен к краже?
– Кто? Алик? – Удивление Ксюши выглядело очень натуральным, если только она не была замечательной актрисой. – Дорошин, да ты с ума сошел! Алик, конечно, в прошлом не ангел, но, во-первых, он сейчас – добропорядочный бизнесмен…
– Знаю я, какой он добропорядочный. – Слова отдавались в голове, во рту появился неприятный металлический вкус, будто Дорошин долго и обстоятельно лизал ржавый гвоздь. – Запугивает стариков, чтобы отобрать у них лакомые участки под строительство. Бросает на участки бутылки с горючей смесью, заставляет продать землю, доводит до инфаркта. Сволочь!
– Ну, я его дел не знаю, хотя в том, что он – сволочь, даже не сомневаюсь. Но, Дорошин, во-вторых, Алик вообще ничего не понимает в живописи в частности и в искусстве вообще. Он не увлекается собирательством, и он не будет делать деньги на краденых картинах, понимаешь? Я не знаю, что ты там себе вообразил, но Алик тут совершенно точно ни при чем.
– Ему не нужны деньги?
– Деньги? – Ксюша помолчала, видимо задумавшись. – Пожалуй, да, ему не нужны деньги. Я не знаю, как тебе это объяснить, но для него важен сам процесс делания денег, а не результат в виде количества нулей на банковском счету. Алик – по натуре строитель, делатель, дуер, как говорят англичане. Ему важно построить систему, которая будет работать и приносить деньги, а не украсть без всякой системы. Психотип другой, Дорошин, если ты понимаешь, о чем я.
В данный момент Дорошин вообще плохо понимал что-либо. Он физически ощущал, как ему становится все хуже и хуже. Резало глаза, и он вдруг так сильно захотел спать, как будто не спал трое суток.
– Я тебе потом позвоню, – вяло сказал он и отключился, несмотря на то что Ксюша что-то еще говорила в трубке.
В кабинет кто-то заглянул. Через пелену, застилающую глаза, Дорошин не мог разобрать, кто именно. Он опустил голову на сложенные на столе руки и закрыл глаза, потому что был больше не в силах смотреть на свет.
– Виктор Сергеевич, вам плохо?
Сквозь вату, которой были напрочь забиты уши, до Дорошина доносился голос Елены Золотаревой. Не поднимая головы, он помотал ею, отгоняя наваждение.
– Виктор, посмотри на меня, что случилось?
Проклиная навязчивый голос, который заставлял его поднять налитую чугуном голову с бьющим внутри набатом, он совершил усилие и посмотрел на человека, что стоял рядом. Странно, но это действительно была Елена.
– Уйди, – попытался крикнуть он, но вместо крика из горла вырвался лишь какой-то непонятный сип. Сил совершенно не было.
– Господи, Вик, да что с тобой такое. – Она шагнула к столу и положила ему на лоб прохладную руку. Как ни странно, несмотря на съедающий его холод, от руки стало теплее и сильно легче. – Да у тебя температура, ты весь красный и горишь просто. Ты что, заболел?
До Дорошина начало доходить, что он и впрямь заболел. Непроходящие черные мушки перед глазами, набат в голове, дурнота и слабость были вызваны не сильным стрессом, связанным с открытием, что Ксюша – жена Стекольщика, а всего-навсего с гриппом. Ничего странного, когда в городе эпидемия. И где он умудрился заразиться?
– Да, похоже на то. – Он встал, тяжело опираясь на стол, потрогал свой лоб, для чего ему пришлось прижать Еленину руку. Она вытащила ее, и он мимолетно огорчился, хотя тут же забыл о своем огорчении, так хреново ему было.
Он знал за своим организмом такую особенность – заболевать внезапно и резко. Вот только что он разговаривал с Джамилей Газаевой, сочувствовал женщине, понимая, что впереди ее не ждет ничего хорошего, но был абсолютно здоров, а спустя пять минут болезнь навалилась на него, выбивая почву под ногами, скрутила в бараний рог, лишая способности не только действовать, но и соображать, и, как знал Дорошин по собственному опыту, отпустит теперь дня через три, не раньше.
Эти три дня нужно было провести в постели, обеспечив себе запас воды и еды, чтобы вставать как можно реже. Дорошин всегда болел тяжело, температура выматывала его, лишала сил. В минуты слабости добраться до туалета было подвигом даже в городской квартире, что уж говорить об отдельном доме, в котором нужно топить печь и носить воду из колодца. Представив себе подобную перспективу, Дорошин содрогнулся.
– Тебе нужно лечь, – решительно заявила Елена. – Пойдем, я отвезу тебя домой.
Он замычал что-то, видимо выражая несогласие. Как ни странно, Елена его поняла.
– Я умею водить машину. У меня ее нет, но права есть. Дед настоял в свое время, чтобы я выучилась. Я, конечно, не ас, сказывается отсутствие практики, но до твоего дома с божьей помощью доеду.
Спустя полчаса Дорошин действительно уже лежал на собственном диване в, к счастью, протопленной с утра гостиной-кухне. Как именно он спускался по лестнице в управлении, садился в машину, как ехал по заснеженным и не до конца отпущенным морозом улицам, он не помнил. В памяти остались лишь обрывки весело скачущей вокруг него Габи, прохлады расстеленной постели, легкой горечи растворенного в кипятке пакетика Терафлю с лимоном. Елена заставила его выпить всю кружку, до капли, после чего он откинулся на подушку и закрыл наконец глаза. Последнее, что он помнил, была собака, лижущая ему лицо.
Дорошин то ли проснулся, то ли очнулся, когда в комнате было темно.
«Интересно, сейчас вечер или уже ночь», – лениво подумал он, прислушиваясь к собственным ощущениям.
Голова была ясная, хотя легкая слабость все-таки ощущалась. Он поднял руку и потрогал собственный лоб. Холодный, значит, температуры нет. Интересно, сколько времени он спал?
Вокруг ощущалась некоторая странность, хотя Дорошин никак не мог взять в толк, в чем именно она заключается. И вдруг сообразил. В комнате было тепло, хотя топленная с утра печь по законам физики давно должна была остыть. Или он спал совсем недолго?
Дорошин сел на кровати, пытаясь оглядеться в темноте. Из окна в комнату робко заглядывал тонкий, неверный, не освещающий, а скорее серебривший пространство свет луны. И в этом свете Дорошин увидел Елену, свернувшуюся калачиком в широком кожаном кресле, стоящем у печки. В ногах у нее спала Габи.
Видимо, женский сон был очень чуток, потому что от сделанного Дорошиным движения Елена сразу проснулась. Вскинула голову, вскочила с кресла, готовая подбежать к нему.
– Что, Вик? Тебе что-то нужно?
– Не стоит беспокойства. – Дорошин чувствовал себя крайне неловко. – Честное слово, у меня все в порядке, и даже температура упала. Сколько времени, Лена?
Она посмотрела на элегантные, хотя и старенькие часики, украшавшие запястье. Дорошин вдруг понял, что они, скорее всего, мамины, оставшиеся на память после гибели родителей.
– Полчетвертого.
– Это я что, проспал чуть ли не пятнадцать часов?
– Ну да. – Она пожала плечами. – Для гриппа это нормально. Ты спишь – болезнь уходит. Да и нервное напряжение, в котором ты находишься, несомненно, сказывается.
– А у меня есть нервное напряжение? – Дорошин вдруг засмеялся.
– Есть. Пусть ты даже и не хочешь себе в этом признаться. – Елена пожала плечами. – Ты похож на натянутую тетиву лука, Вик. Когда я впервые тебя увидела, то именно это сравнение пришло мне в голову первым.
– У тебя очень образное мышление, – буркнул Дорошин, вспоминая обстоятельства их первой встречи. Он тогда был под впечатлением от увиденной им впервые Ксюши, раздумывал, как бы закрутить с ней романчик, и Елена ему тогда совершенно не понравилась, показавшись мымрой и грымзой. Дурак он был, что тут еще скажешь?!
– А ты почему домой не ушла? – спросил он. – Спишь, сидя в кресле. Да еще и заразиться можешь.
– У меня сделана прививка от гриппа. – Елена все-таки подошла к нему, деловито потрогала лоб, подоткнула одеяло, присела на край кровати. Проснувшаяся Габи с интересом следила за ними, блестя в темноте глазами. – Как бы я оставила тебя одного, практически в беспамятстве? А если бы тебе хуже стало? Я раз в час обтирала тебя уксусом, чтобы сбить температуру, поила с ложечки, вечером печь протопила, чтобы комната не выстыла.
– Поила с ложечки? – Этого обстоятельства Дорошин не помнил и вдруг отчаянно покраснел. Жаркая волна залила ему лоб, щеки, шею, и он мог только радоваться, что в комнате достаточно темно, чтобы это было незаметно.
– Ну да. При температуре происходит обезвоживание организма. Поэтому пить очень важно. Я делала воду с лимоном и поила тебя. Вот.
Дорошин внезапно вспомнил, как в детстве, когда он внезапно заболевал, родители привозили его к бабушке, сюда, вот в этот дом. И он оставался на несколько дней, и бабушка обкладывала его подушками, так же подтыкала одеяло, варила морс из клюквы или брусники, разводила в нем домашний крахмал, чтобы получился кисель, который маленький Дорошин обожал, и тоже поила его с ложечки, меняя на голове прохладный компресс и произнося какие-то бессмысленные, но очень ласковые слова. Ну почему, почему из всех людей на земле именно Елена Золотарева вызывала у него стойкие ассоциации с детством, с любящей крепкой семьей, которой у него потом так и не случилось, как он ни старался?
Ее распущенные русые волосы казались в лунном свете серебряными нитями. Он протянул руку и потрогал их кончиками пальцев, густые, шелковистые, мягкие.
– А ты похожа на луну, – сказал он. – Но я не сразу это понял. Только сейчас.
– А мое имя происходит от слова «селена», – засмеялась она. – Так греки называли лунный свет. Так что если тебе хотелось быть оригинальным, то у тебя не получилось.
– Я не хочу быть оригинальным. Я хочу… – Он внезапно охрип от разгорающегося внутри всепожирающего пламени, от яростности которого отступала даже болезненная слабость. Дорошин откашлялся и, понимая, что она сейчас уйдет, все-таки бросился с головой в манящий его омут, в котором отражалась переливающаяся серебром лунная дорожка. – Я хочу тебя.
– Ты в этом уверен? – Она не испугалась, как он думал, а наоборот, придвинулась ближе, наклонив к нему лицо с блестящими глазами, казавшимися без очков еще больше, еще глубже. – У тебя еще есть время подумать, Вик. Но ты должен знать, что если сейчас не сбежишь, то второго шанса у тебя не будет. Я тебя предупреждала, со мной нельзя переспать один раз. Я слишком серьезная. Это тяжело.
– Уверен. – Дальнейшая жизнь в этот миг казалась Дорошину прямой и ясной. В ней не было тупиков, опасных закоулков и безответных вопросов. И как он только не увидел этого раньше? – Я совершенно точно уверен, Лена. И в тебе, и в себе.
– В твоей жизни не будет никакой Ксюши Стекловой. И вообще никаких Ксюш. Никогда. – Голос ее зазвучал резче, в нем словно появилась угроза. – Потому что, если это случится, я тебя убью. Вот просто убью, и все! Я не дам тебе ни малейшего шанса меня унизить.
– В моей жизни не будет Ксюш, и я никогда тебя не унижу, не обижу и не сделаю больно. – Дорошин, напротив, заговорил шепотом, притянул ее к себе требовательным, очень мужским жестом, лишающим сопротивления.
Она замолчала, послушно прижалась к его большому сильному телу, уткнулась носом в шею, засопела, устраиваясь поудобнее в его объятиях. Дорошин губами нашел ее губы, а рукой грудь под тонким, не очень новым свитерком. Грудь оказалась именно такой, как он любил. Идиот, а он еще считал, что у нее нет груди! Он ошибался, впрочем, как и во всем, что было связано с этой женщиной.
Как-то незаметно они оба оказались без одежды, под одним одеялом, вскоре отброшенным за ненадобностью. В том, что происходило между ними, не было стыда, неловкости, игры или вины. Было ровное, гудящее в ушах пламя, которое не обжигало, а лишь грело, разливая тепло по всему телу, до кончиков пальцев, до аккуратных розовых пяток Елены, которые Дорошин с умилением держал в ладонях, щекотал своим дыханием. Ее руки, настойчивые, требовательные, но при этом мягкие и ласковые были везде. Он умирал под этими руками, растворяясь в неведомом до этого блаженстве.
Елена не казалась ни слишком опытной, ни чересчур требовательной, ни бесстыдной. Она была именно такой, какой и должны быть любящая и желанная женщина, получающая удовольствие от всего, что происходит с ее телом, и способная доставить удовольствие в ответ.
Важно было не то, что Дорошину было с ней хорошо, а то, что им хорошо друг с другом, и ночь, вдруг подарившая им обоим надежду на счастье, все не кончалась. Все длилось и длилось удовольствие, в котором они парили, сплетясь телами, и казалось, не будет этому конца.
Когда Дорошин в очередной раз очнулся, в комнате уже начинало светать.
– Как ты думаешь, мы живы? – спросил он у Елены, которая в ответ лишь промычала что-то нечленораздельное из его подмышки. – Лена, ты знаешь, а я есть хочу. Как ты думаешь, это признак того, что мой организм встал на скользкий путь выздоровления?
Она хихикнула, оценив шутку, и тут же начала деловито выбираться из постели, оглядываясь в поисках своей одежды.
– Ты куда? – Он вдруг испугался, что она сейчас оденется и уйдет.
– Жарить яичницу. Я тоже проголодалась. Витя, можно я надену халат Марии Викентьевны? А то одеваться полностью долго и бессмысленно, все равно я потом обязательно снова разденусь, – на этих словах Дорошин опять покраснел, – а в твоей рубашке я щеголять ни за что не буду. Не выношу пошлости.
– Халат Марии Викентьевны? А он тут есть? – потрясенно спросил Дорошин.
– Конечно, висит в прихожей в шкафу. – Елена засмеялась. – Нет, каков хозяин, не знает, что есть, а чего нет в его доме?!
– А ты откуда про это знаешь?
– Вик!!! Мария Викентьевына в Новый год доставала его, чтобы вымыть посуду. Не хотела запачкать праздничную блузку, в которой пришла в гости.
– Ты можешь надеть, что хочешь. Хотя я бы предпочел, чтобы ты осталась так, как есть.
– И жарила яичницу в чем мать родила?
– Это была бы самая вкусная яичница на свете, – сообщил Дорошин и, наблюдая за ее передвижениями по комнате, облизал губы, – хотя я не уверен, что у тебя бы получилось ее дожарить.
Елена выскочила в коридор и вернулась уже в халате. Дорошин тут же испытал что-то сродни сожалению, переходящему в удовлетворение. Есть действительно хотелось. Откинувшись на подоткнутую под спину подушку, он, чтобы отвлечься от мыслей о Елене, совершенное тело которой от него отделяли лишь несколько шагов и кусок сатина, взял телефон и залез в Интернет.
– Елена. Имя древнегреческого происхождения, предположительно от слова «хеленос» – свет, светлая, – прочитал он вслух. – Имя имеет значения: свет, факел, сияющая избранная. Ты подумай, вот все про тебя! Его древняя форма – Селена – создает лирический образ идеально женственного начала. Утонченная и гибкая Селена блещет неувядающей красотой. А в ее духовной организации собраны лучшие свойства.
– Да уж, красота – это про меня. – Снующая между плитой и холодильником Елена вдруг засмеялась. – Ты бы видел выражение своего лица, когда смотрел на меня в первый раз. Думаешь, я не знаю, кого ты тогда перед собой видел – дурно одетую старую деву, мымру.
– Дурак я был, – покаянно сообщил Дорошин. – Ты действительно красивая, Лена. В тебе внутренняя красота, которую удается разглядеть не сразу, зато она цепляет сильно и на всю оставшуюся жизнь. Мне повезло, что никакой другой идиот не заметил этого до меня. Слушай, что тут еще написано. Имя Елена напоминает нежное и тонкое, гибко вьющееся зеленое растение или плавно льющийся поток света и влаги, изменчивый и неуловимый, проникновенный, светлоликий и бледный, подобный свету луны. И не зря в русских сказках есть героиня, которую зовут Елена Прекрасная.
– Я это все знаю, Вик. – Он вдруг подумал, что она – второй человек после Эдика Киреева, который называет его именно так. – Я изучала происхождение различных имен, мне это было интересно. К примеру, Мария образовалась от древнееврейского имени Мирьям, что означает «желанная», «горькая», «безмятежная», а также «печальная» и «госпожа».
– Да, Марии Викентьевне и ее история любви с моим дядей очень подходит.
– Женское именование Арина восходит к каноническому имени Ирина, возникшему, в свою очередь, от древнегреческого имени Эйрене, и в его основе лежит слово «мир», поэтому произошедшие от него женские имена толкуются большинством исследователей как «мирная». Вот к нашей Морозовой тоже очень подходит. Она же слова грубого ни разу никому не сказала. И пословица «Худой мир лучше доброй ссоры» – совершенно точно про нее. А Ксения переводится, как чужестранка, гостья, странница. И мне всегда казалось, что Ксюша Стеклова – у нас в галерее человек случайный, временный, чужой. Не постоянный работник, а гостья, которую рано или поздно унесет ветром.
Дорошин хотел было уже попросить Елену никогда больше не говорить о Ксюше, что вольно или невольно стояла между ними по его мужской дурости, но захлопнул рот. Как сказала Елена про Ксюшу? Чужая, гостья, унесенная ветром? Нет, это все не то. Странница. Она сказала «странница». Кто-то на интернет-форуме предлагал картину Куинджи под ником Странник. И свое внезапное открытие Дорошину страшно не нравилось.
– Яичница готова, – известила Елена, прервав его мысли. – Ты к столу придешь или вашему сиятельству в постель подать?
– В постель подашь себя, а завтрак я за столом съем, – сообщил Дорошин, вставая. – В ответственном деле снабжения моего болезненного организма едой и качественным сексом важно ничего не перепутать.
Она засмеялась, подбежала к нему и поцеловала горячо и искренне. И от понимания, что эти поцелуи отныне – постоянная часть его жизни, он вдруг испытал огромное, всеобъемлющее, безбрежное счастье.
* * *
Через пару часов температура у Дорошина все-таки поднялась снова. Организм твердо намеревался взять свое, выдав положенное количество температурных часов со всем прилагающимся к ним букетом ощущений. И снова Елена протопила печь, накачала воды, сварила морс из любовно запасенной дядей клюквы, а заодно и кастрюлю куриного бульона, который, по ее словам, лечил от всех болезней. Точно так же считали дорошинские мама и бабушка, так что он лишь счастливо засмеялся, услышав нравоучение о медицинской пользе бульона.
Периодически проваливаясь в температурное забытье, Дорошин гонял в голове лихорадочные мысли о Ксюше, страннице Ксюше, горячо уверявшей его, что ее муж не имеет никакого отношения к истории с кражей картин.
В очередной раз вынырнув из дурмана, он даже позвонил ребятам, расследующим убийства Грамазина и Газаева с просьбой проверить алиби Стекольщика на момент совершения обоих убийств, однако алиби это оказалось безупречным. В день убийства Ильдара Газаева Стекольщик, только вернувшийся из Чехии, сразу же отправился в отдаленный райцентр, где строил один из домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Из-за случившихся морозов там полетела система отопления, и, чтобы не разморозить дом, практически готовый к приему жильцов, на него были брошены все силы и финансовые ресурсы застройщика. Руководил «спецоперацией» Альберт Стеклов лично. А в день убийства Бориса Грамазина он и вовсе был в командировке далеко за пределами области.
– Это как раз неважно, – мрачно сказал Дорошин, которого раздражала собственная слабость.
– Почему? – не поняла Елена.
– Потому что я практически уверен, что Грамазина убил Газаев.
– Как? – По ее лицу, Дорошин видел, что она потрясена. Рукастый и тихий Ильдар, примерный семьянин и любящий отец никак не укладывался у нее в образ человека, готового убить тяжелым предметом по голове пожилого и, в общем-то, безобидного Бориса Грамазина.
– Когда я встретил Газаева в галерее в тот день, когда он был там с дочерями, он сказал мне очень важную вещь, ключевую даже. Что нет ничего важнее чести семьи. Для него была непереносима мысль о том, что Грамазин стал свидетелем их позора. А прерванную по причине генетического заболевания ребенка беременность жены он считал именно позором, а не несчастьем.
– Дикость какая. – Елена зябко повела плечами. – Из-за этого убить?
– Газаев неоднократно уговаривал Грамазина вернуть копии медицинских документов, которые у него оказались. Ребята уже выяснили, что женщина в регистратуре – соседка Грамазина по площадке. Она и рассказала ему о чужой тайне, невольным свидетелем которой стала, а Борис Петрович попросил ее сделать ему копии справок и заключений. Для пополнения коллекции. Газаев сначала разговаривал с Грамазиным на работе, в галерее. Часть этого разговора слышал Андрей Калюжный. Борис Петрович сказал: «Я этого на работе не держу». И тогда, по всей вероятности, Газаев пришел к нему домой, а когда решить вопрос миром не получилось, убил Грамазина и забрал у него папку с документами и тетрадку, в которой была составлена опись коллекции. Поэтому при обыске квартиры там ничего не нашли.
– А кто тогда убил самого Ильдара? Кому он мешал?
– Тому, кто украл картины. Думаю, что в тетрадке Бориса Петровича был зафиксирован факт кражи ценностей. Либо он знал, что кто-то таскает подлинники из хранилища, либо, что вероятнее, просто подслушал мой самый первый разговор с Марией Викентьевной и узнал о пропаже Куинджи. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что запись об этом была в тетради последней.
– Почему ты так думаешь?
– Потому что вор чувствовал себя в безопасности до смерти Бориса Петровича. Если бы это было не так, то Грамазин по своей привычке обязательно рассказал бы преступнику, что является носителем его тайны. Мне кажется, что при таком раскладе его убили бы гораздо раньше. Наш преступник – человек решительный. От Газаева он избавился, и я более чем убежден, что Грамазина постигла бы та же участь. Нет, Грамазин узнал про пропажу картин именно незадолго до смерти и не успел ничего про это рассказать.
– Но почему убили Газаева?
– Да потому что Грамазин никогда не шантажировал своих жертв. Ему был важен сам факт обладания тайным знанием. А вот Газаев, в руки которого попала тетрадь, решил воспользоваться содержащейся в ней информацией и получить деньги, которые были ему нужны для покупки лошади для дочери.
– И кто же это сделал? Кто убил Ильдара и украл картины? – нетерпеливо спросила Елена.
– Пока не знаю. – Дорошин говорил с трудом, ему казалось, что распухший горячий язык не помещается во рту, в котором было сухо-сухо. – У Ксюши и ее мужа алиби, у тебя тоже. – Он заметил возмущенный жест Елены и примирительно сказал: – Ты извини, но тебя и историю про компанию друзей твоего деда ребята тоже проверили. Иначе нельзя. Калюжный утверждает, что был дома, однако подтвердить этого никто не может. Его родители в этот день с самого утра ушли к родственникам, а он отказался, сказавшись больным. Девушка его к нему в этот день не приходила, это уже тоже проверили. Одна дома сидела и Алена Богданова. Говорит, что на улице было так холодно, что не хотелось высовывать носа из-под одеяла. Мол, лежала себе в кровати, пила шампанское, ела мандарины и смотрела старые фильмы. Ну и Арина Романовна ваша тоже без алиби. Говорит, что накануне сорвала спину, обустраивая новое помещение галереи, лечилась. Так что не знаю, но обязательно узнаю. Как говорили великие, нет ничего тайного, что не стало бы явным.
– Я вот все думаю, – начала Елена и замолчала, словно не решаясь продолжить.
– Ну-ну, говори, – подбодрил ее Дорошин.
– Я думаю: а как именно преступник, ну или преступница добирались до нашего с дедом дома? Не на рейсовом же автобусе, где их могли запомнить и потом описать. И не на такси. Мне кажется, что такой предусмотрительный человек, который догадался назначить встречу Ильдару в нашем доме, должен был просчитать все, чтобы не оставить случайных следов и не обрести ненужных свидетелей. Он же все рассчитал правильно. Труп мог пролежать в нашем доме до весны, потому что мы никогда-никогда не ездим туда зимой, и наша поездка с тобой была чистой случайностью. К весне вообще было бы уже не распутать, что делал Ильдар в нашем доме. И Куинджи он подбросил, чтобы навести на меня подозрение. Это самые малоценные из всех пропавших картин, я думаю, что он изначально их взял для того, чтобы в случае возникновения шума сделать все, чтобы следствие думало на меня. В конце концов, только я у нас в галерее Золотарева. Картины он забирал явно по списку, те, которые ему заказали. Другие ему были не нужны, кому их сбудешь, если заказчика заранее нет?
– А почему ты думаешь, что Куинджи ему не заказывали? – Дорошин слушал с интересом, даже болезненная дурнота куда-то отступила.
– Потому что если бы он хотел их продать, то не подбросил бы мне в дом. Он избавился от того, что было ему не нужно. И, думаю, с самого начала планировал поступить именно так.
– Ты умница, Лена! Ты просто потрясающая умница, – с удовольствием сказал Дорошин. – Куинджи он прихватил, потому что тащил все, что плохо лежало. Так как ему или ей их действительно не заказывали, попытался сбыть через интернет-аукцион. С ходу покупателей не нашлось, а потом он то ли решил не рисковать понапрасну, то ли придумал действительно все свалить на тебя с помощью этих этюдов, но больше попыток продать Куинджи он не делал. Ну-ка, давай дальше, что ты там говорила про машину?
– Он должен был приехать в нашу деревню на машине, – упрямо сказала Лена. – Не знаю, где могли взять машину Алена, или Андрей, или Арина Романовна, но факт остается фактом – машина должна была быть.
– И что нам это дает? Особенно если ты уверена, что этой машиной вряд ли было такси?
– Не знаю. Но на трассах же есть камеры! Может быть, они зафиксировали что-нибудь интересное? В праздничный день машин на дороге вряд ли много, тем более что морозы уже крепчали. Если посмотреть, какие машины ехали в нашу сторону, а потом их проверить, то это может привести к результату. Как ты думаешь?
– Я думаю, что ты – не просто умница. Ты гений, – серьезно сказал Дорошин. – Камеры. Как все просто! И как же я сам до этого не додумался?
Он снова набрал номер служебного телефона и дал поручение, которое ему обещали выполнить за пару часов. Слушающая его Елена смотрела непонимающе – предлагая проверить записи с камер видеонаблюдений, она имела в виду совсем другое. Впрочем, задать вопрос она не успела. Телефон Дорошина запищал и завибрировал, вызывая хозяина на разговор по скайпу. На экране появилось довольное лицо Эдика Киреева.
– Привет, Вик, с Новым годом тебя, – с энтузиазмом заговорил он. – Лежишь в постели? Празднуешь до сих пор, когда другие люди за тебя работают?
– Болею, – проскрипел в ответ Дорошин, которого неимоверно тянуло в сон. – Своими звонками ты, Эд, поднимаешь человека практически со смертного одра.
– Да ладно, тебя оглоблей не перешибить, не то чтобы соплей, – невозмутимо сообщил Эдик. – Сейчас я тебя живо вылечу. Мои друзья в правоохранительных органах города-героя Москвы по моей, заметь, просьбе проверили, кто запрашивал электронные каталоги областных художественных галерей. Тех восьми, о которых рассказывал Ян Двиницкий.
– И кто же? – Дорошин внезапно охрип. То ли от волнения, то ли от болезни.
– Господин Раевский Александр Павлович. И знаешь, кем он трудится?
– Эдик, да не тяни ты кота за причинное место, и так голова взрывается, – простонал Дорошин.
– Главным художественным консультантом издательства «АртГалери». Это один из трех ее сотрудников, которому Двиницкий, по его словам, рассказывал про достоинства провинциальных музеев. Кстати, именно господин Раевский от лица издательства ведет переговоры с партнерами, в том числе и иностранными. У него огромная база коллекционеров со всего мира. Чуешь?
– Чую. Он имеет возможность продать любое полотно напрямую, не выходя на «черный рынок». К примеру, он знал, что наш питерский знакомец, господин Соколов, собирает именно картины художников, имеющих отношение к «Бубновому валету», поэтому картину предложили именно ему, пусть и не напрямую, а через Григория Орлова. Ну, это ребята быстро пробьют. Так что, считай, что заказчика мы вычислили. А у нас тут, Эд, другой конец ниточки уже виден. Думаю, что не сегодня завтра, а я уже буду знать имя непосредственного похитителя полотен, ставшего по совместительству еще и убийцей.
– Думаю, что господин Раевский исполнителя тоже сдаст за милую душу. Хотя ты – все равно молодец. Ладно, герой. Болей со вкусом. Ну и выздоравливай побыстрее. Ты там как, в одиночестве чахнешь или есть кому позаботиться о гении российского сыска?
– Есть, – засмеялся Дорошин. – Ты же меня знаешь, Эдик. Я всегда умел устраиваться.
– Тогда Елене Николаевне привет.
– Откуда ты… – Дорошин поперхнулся от удивления и не на шутку закашлялся. Киреев терпеливо переждал, пока внезапный приступ пройдет.
– Так ты же сам сказал, что я тебя хорошо знаю. – Теперь он тоже засмеялся и подмигнул Дорошину. – Наверное, даже лучше, чем ты сам себя знаешь, Вик. Счастья тебе, дружище.
* * *
Арест Ксении Стекловой, младшего научного сотрудника областной картинной галереи, наделал в городе много шуму. Журналисты, получившие информацию о хищении ценных полотен, рвали на части полковника полиции Виктора Дорошина, пытаясь получить комментарии. Он отмахивался как мог.
– Да не люблю я это все, – виновато объяснял он Елене и Федору Ивановичу в один из вечеров, когда они после работы собрались за ужином.
Несмотря на то что Елена фактически переехала к нему в дом, к деду они с Дорошиным заезжали каждый вечер. Вместе ужинали, вели неспешные разговоры на интересные всем троим темы, проверяли, есть ли у старика все необходимое, в четыре руки пылесосили квартиру и мыли полы.
Дорошин в глубине души считал, что это не дело. Елена, разрываясь между двумя домохозяйствами, уставала ужасно, и ему это не нравилось. Дорошин понимал, что деда она не бросит, а к нему в дом тот вряд ли переедет. Неправильно это было бы. Стариков нельзя срывать с насиженного места, от этого они болеют и умирают. Дорошин был в этом уверен. Дома Федора Ивановича Золотарева окружали знакомые, давно привычные предметы, а дорошинский дом, даже отремонтированный и оснащенный благами цивилизации, все равно останется для него чужим. Да и когда этот ремонт закончится…
Чтобы облегчить Елене жизнь, Дорошин был готов сам переехать к Золотаревым, их просторная четырехкомнатная квартира в центре города вполне выдержала бы еще одного жильца, но ни Елена, ни Федор Иванович этого не предлагали, а ему самому неудобно было навязываться.
– Ты не прав. – Елена прервала его мысли об их неустроенном быте. Интересно, в чем именно он не прав? Дорошин вопросительно посмотрел на нее. – Ты не прав насчет журналистов, – спокойно пояснила она. – Люди просто делают свою работу. Им важно получить достоверную информацию, чтобы рассказать своим читателям и зрителям, что именно произошло. А ты от них скрываешься. Нехорошо это, неправильно.
– Ладно, соберу пресс-конференцию и обо всем расскажу, только в один присест, – пообещал Дорошин. – Нет сил одно и то же повторять как заведенный.
– А можно нам с дедом не ждать до твоей пресс-конференции? – лукаво попросила Елена, убирая чашки со стола. – Я так и не поняла, как ты догадался, что это именно Ксюша. У нее же было алиби на момент убийства Ильдара.
– Так ты мне подсказала. – Он поймал ее руку, прижал к губам. Почему-то ему все время хотелось к ней прикасаться. Просто так, без всякого неприличного подтекста. Просто чувствовать тепло кожи, ее шелковистую нежность. У него будто силы прибывали от этого простого действия. – Когда ты сказала про камеры на дороге, я понял, как могу проверить алиби Ксюши. Мне не давало покоя, зачем она приезжала ко мне третьего января. Только с дороги – и сразу нанесла визит.
– А того, что она по тебе соскучилась, ты не допускал? – Голос Елены звучал безразлично, хотя Дорошин, уже знакомый с ее характером, знал, что она ревнует. Бешено ревнует.
– Не могла она по мне соскучиться! Она вообще не испытывала ко мне никаких эмоций. В ее отношениях со мной с самого начала был только голый расчет. Я появился в галерее, потому что Мария Викентьевна пригласила меня на встречу. Ксюша подслушала нашу беседу и узнала, что вскрылась пропажа картин. Да, Мария Викентьевна знала только про один этюд Куинджи, но ее открытие неминуемо приводило к полной инвентаризации, а значит, и к установлению факта пропажи всех остальных полотен, которые она на протяжении года выносила потихоньку из галереи и переправляла в Москву, своему сообщнику, точнее, заказчику Раевскому. Именно поэтому она и решила меня завлечь, чтобы получать информацию о ходе расследования. Надо сказать, что я повелся, как полный осел, которого поманили сладкой морковкой.
Дорошин не мог не злиться на себя за это. Он с самого начала поставлял Ксюше все факты, которые узнавал сам. Именно от него она, к примеру, узнала о существовании секретной тетради Грамазина и испугалась, что ее тайна могла быть тоже вписана в нее. Дорошин тогда заметил ее испуг, но она сказала, что боится, что их роман станет достоянием гласности. На самом же деле она судорожно соображала, мог ли Борис Петрович знать о том, что она ворует картины, и если да, то угрожала ли ей пропавшая тетрадь.
– Чем больше я вспоминал наши встречи, тем острее понимал, что они были для Ксюши лишь прикрытием для чего-то более важного. Важного, разумеется, для нее. К примеру, именно она рассказала мне про странное поведение Калюжного, про твое родство с Куинджи, про то, что Алена Богданова вдруг внезапно разбогатела. Она нарочно подбрасывала мне факты, которые уводили меня в сторону, и это стало казаться мне подозрительным. Третьего января она не должна была приезжать ко мне, но приехала, пусть и ненадолго, сказав, что отправится к маме и бабушке, повезет новогодние подарки. Тем самым она обеспечивала себе алиби, а чуть позже добилась, чтобы именно я предложил ей сдвинуть время своего визита в родной поселок, подговорив маму и бабушку соврать. Мне она сказала, что боится, что прознают про нашу с ней связь, на самом деле от меня она поехала в вашу деревню, где назначила встречу шантажировавшему ее Газаеву.
– Но как она объяснила ему, почему встречается с ним в моем доме?
– Я думаю, что он этого не знал. Скорее всего, Ксюша объяснила ему, что им нужно поговорить вдалеке от чужих ушей и глаз и что уединенный домик в глуши для этого подходит как нельзя более. Она должна была привезти деньги, он – тетрадь и папку с грамазинскими документами. Ксюша убедилась, что он привез то, что ей нужно, а затем убила его, чтобы быть уверенной в том, что он никогда ее не выдаст. Ну и чтобы не расставаться с деньгами, разумеется.
– И как она его убила?
– Отравила. На улице было холодно, она предложила выпить чаю из термоса, который привезла с собой. В чае был клофелин. Огромная доза, от которой Газаев практически сразу потерял сознание, а затем умер. Она подбросила работы Куинджи, чтобы снова навести на тебя подозрение.
Дорошин представил, как молодая очаровательная женщина с фиалковыми глазами терпеливо сидит в холодном доме, дожидаясь, пока умрет человек, которому только что дала смертельную дозу лекарства, и вздрогнул. Какой безжалостной нужно было быть, чтобы спокойно дожидаться смерти того, с кем несколько лет работала бок о бок?!
– А потом?
– Потом она вышла из дома, так же незаметно, как и вошла. Риск был, конечно, но ваши соседи не имели привычки без дела заглядывать к вам на участок, да еще в такой мороз. Заперла дверь ключами, которые сделала, ненадолго вытащив у тебя связку, добралась до своей машины, оставленной в укромном месте, и поехала к маме с бабушкой. Им она призналась, что у нее любовная связь со мной, что она провела у меня полдня и что, если их кто-то спросит, они должны будут подтвердить, что к ним она приехала еще утром.
– И они согласились?
– Поохали, что дочка и внучка изменяет мужу, посокрушались, что она может попасться и разрушить свою жизнь, но, естественно, согласились. Кроме Ксюши у них никого нет. Именно тот факт, что она въехала в родной поселок не утром и даже не около обеда, сразу после того, как она покинула меня, а только в пять часов вечера, и подтвердила первая камера наблюдения. А вторая зафиксировала машину Ксюши на повороте в сторону вашей деревни. Туда она ехала в начале первого, а обратно – около четырех. Она провела в вашем доме больше трех часов. Именно столько времени ей понадобилось, чтобы провернуть все свои дела и убедиться, что Ильдар Газаев больше не предоставляет для нее угрозы.
– Господи, неужели ей денег не хватало? – Елена зябко повела плечами и обхватила себя руками, чтобы согреться. – У нее же все было. Все, о чем мечтала наша дурочка Алена.
– У каждого свои мечты, – спокойно сказал Дорошин. – Ксюша тяготилась своим хамоватым мужем. Она мечтала стать свободной, жить в Италии, где всегда тепло, купить там домик у моря и обрести независимость. Именно эта причина и толкнула ее на преступление. Как и говорил Эдик Киреев, Раевский выходил на сотрудников провинциальных музеев, среди которых искал сообщников. Он составлял психологические портреты, он по первому образованию психолог, как выяснилось. Повезло ему лишь в четырех музеях. В том числе в нашем он не прогадал, поставив на Ксюшу. Услышав о возможности продать дорогостоящие полотна, она и сформировала свой план. Целый год она потихоньку выносила картины и отвозила их в Москву, говоря мужу, что едет в Третьяковскую галерею или на встречи искусствоведов. Раевский реализовывал полотна и отдавал ей ее часть денег.
– Она их в чулок, что ли, прятала? – с любопытством спросил Федор Иванович. – Если я правильно понимаю, там должно было немало накопиться.
– Ксюшина доля составила пять миллионов долларов. Конечно, Раевский не собирался платить ей так много, но гражданка Стеклова оказалась той еще щучкой. Понимая, что Раевский теперь от нее никуда не денется, она навязала ему свои условия игры, по которым доходы от реализованных картин они делили пополам. Ксюша очень любила бывать в Праге, и муж регулярно оплачивал ей такие поездки, ублажал любимую женушку. После поступления очередного транша от Раевского, Ксюша летала в Прагу и клала деньги на открытый там счет. Помнишь, я тебе рассказывал, что только чешские банки дают отличные проценты по вкладам. Меня еще царапнуло что-то в том нашем разговоре, но я никак не мог понять, что именно.
– Ты связал наш разговор с Ксюшиной поездкой в Чехию?
– Да. Она положила на счет очередную порцию денег. И заодно заключила договор с маклером, который должен был снять ей квартиру в Италии. В марте Ксения собиралась уехать туда, подать на развод и, уже будучи свободной женщиной, купить дом у моря, чтобы жить на проценты с оставшихся денег. Ей бы хватило.
– А дети? Она что, собиралась бросить детей?
– Честно говоря, не знаю. Думаю, что Стекольщик, скорее всего, согласился бы платить алименты на детей. Или, может, Ксения действительно оставила бы их на его попечение. Равно как и маму с бабушкой. На самом деле мне это не важно. Важно, что Раевский во всем признался, и установлено местонахождение оставшихся картин. И Левитан, и Рерих, и Маковский, и Коровин с Кончаловским тоже вернутся на свое законное место – в запасники музея. Хочется верить, что при новом директоре, которым вот-вот будет назначена некая Елена Николаевна, там будет больше порядка, чем при Морозовой.
– А зачем она тогда сама навела следствие на фотографа Двиницкого? Никто, кроме Ксюши, не помнил про его приезд, и получается, что она сама вывела вас на заказчика, пусть и по очень тонкой ниточке.
– Ирония судьбы в том, что она была не в курсе, что Раевский вышел на нашу галерею через Двиницкого. Он же ей про это не рассказывал. Думаю, что она локти кусала, когда узнала, что сама невольно подтолкнула следствие к разгадке. Впрочем, ее мы вычислили и без этого, так что Раевского она рано или поздно все равно сдала бы за милую душу.
– Удивительно, какие бывают бессовестные люди, – задумчиво сказал Федор Иванович. – Я про эту Ксению говорю. И ведь ее же мать выкормила, не волчица. А у нее нет ничего святого. Ни дети, ни родные, ни брачные узы, ни человеческая жизнь, ничего для нее не ценно. Не понимаю я этого, никак не понимаю!
От этого разговора Федор Иванович так разволновался, что у него поднялось давление. Елена дала ему лекарство и, виновато глядя на Дорошина, спросила:
– Ничего, если я сегодня здесь переночую?
– Конечно, – сказал он, опять кляня дурацкую ситуацию, в которой они оказались. – Давай я поеду, чтобы не волновать Федора Ивановича еще больше. А ты уложи его спать и сама ложись. А то ты не отдыхаешь совсем. Да и Габи меня там заждалась. Сидит голодная и невыгулянная, думает, куда это хозяева подевались.
Он ехал по вечерним, засыпанным снегом улицам и думал о том, что впервые за долгое время в его жизни все хорошо. Непонятки с жильем, так это ерунда. Он купит кольцо, сделает Елене предложение, вернее, нет, попросит ее руки у Федора Ивановича, чтобы все было правильно, а потом переедет к ним жить. Дом он, конечно, доведет до ума, чтобы оставить наследство детям. Его детям, которые обязательно родятся у них с Еленой. Или они сами через двадцать лет выйдут на пенсию и переедут в этот дом, оставив детям квартиру. Сейчас это не имело значения. Зато рядом с ним будет женщина, которую ему даровал бог. Видимо, за все его предыдущие горести даровал, не иначе.
Отчего-то Дорошин был уверен, что Елена ужасно понравилась бы его маме и бабушке. Да и отцу с дедом тоже. Его предыдущую жену они не любили. Терпели, соблюдали вежливость, но не любили. Она как была, так и осталась для них чужой. А вот Елена стала бы своей, это уж точно.
Съехав с широкой дороги на узкую улочку, ведущую к дому, Дорошин поехал медленнее, чтобы не застрять в наваленных сбоку сугробах. Трактор ездил здесь регулярно, но прочищал лишь узкую полоску, такую, что не развернуться и двум машинам не разъехаться. До ворот оставалось метра два, не больше, как вдруг навстречу вынырнула огромная черная машина, слепящая Дорошина светом галогеновых фар. Он зажмурился и инстинктивно нажал на тормоза. Его машину занесло, она ткнулась передним бампером в сугроб и застряла. Завизжали тормоза той, чужой машины, которая надвигалась неумолимо, словно дьявольская кара, и Дорошин закрыл глаза, чтобы не видеть собственной смерти, после которой уже не могло быть ни Елены, ни их будущей счастливой жизни, ни общих детей. Вообще ничего. Небытие.
Он ожидал глухого удара, после которого и наступит это самое небытие, но его не последовало. Дорошин с опаской открыл глаза и обнаружил, что смертоносная машина остановилась буквально в паре сантиметров от его. Из нее выскочил невысокий, плюгавый даже, мужичонка, сплюнул себе под ноги, размотал пушистый шарф, элегантно намотанный вокруг ворота дорогой, тонкой выделки дубленки.
Виктор попытался открыть дверь, но она, упершись в сугроб, не давала ему тоже вылезти наружу. Плюнув, он перелез через пассажирское сиденье и выкарабкался на волю, полной грудью вдохнув морозный воздух. Счастливое избавление от смерти или увечья, которые казались неминуемыми, заставляло мелко и противно подрагивать ноги, хотя полковник Дорошин никогда не был трусом.
– Цел? – мрачно спросил его незнакомый мужик. Отчасти, впрочем, незнакомый. Дорошин мог поклясться, что никогда его раньше не видел, но тем не менее во всем его облике было что-то такое, что он где-то встречал. По делу какому мужик проходил, что ли.
– Цел, – так же мрачно ответил полковник. – Разве ж можно по узкой улице с такой скоростью гнать? Чудом же не поцеловались!
– Да не рассчитал малеха. – Мужик почесал коротко стриженный затылок. Несмотря на дорогую одежду и довольно ухоженный внешний вид, что-то в нем выдавало если не бандитское настоящее, то уж прошлое точно. – Как разъезжаться-то будем?
– Задом сдай, метров на десять. Я из сугроба выберусь и в свой двор заверну, вон они, мои ворота. Тогда и проедешь.
– Ты из того дома? – Мужик неожиданно набычился. Теперь он был похож на боевого задиристого воробья, даже хохолок на затылке встал торчком.
– Ну, вроде того.
– То есть ты и есть полковник Дорошин Виктор Сергеевич?
– Я и есть. Ты-то кто?
Мысли в голове у Дорошина ворочались медленно, со скрипом, но потихоньку он начинал догадываться, кто чуть не раздолбал его машину и его самого. Некогда преступный авторитет Стекольщик, хоть и не один в один, но все-таки был похож на свою фотографию в личном деле, которое несколько дней назад приносили Дорошину на ознакомление с его биографией.
– Стеклов моя фамилия, – подтвердил его правоту Стекольщик. – Я поговорить приехал.
– Про что? – Дорошин не к месту подумал о том, что впервые в жизни разговаривает с человеком, с женой которого спал. Не было в его прошлой жизни адюльтеров, да и в будущей не будет, в этом он был уверен, но настоящее сейчас обволакивало его, погружая в какой-то вязкий, тошнотный, туманный морок.
– Про Ксюшу.
– Про гражданку Стеклову это к следователю. – Изворачивающийся Дорошин был сам себе противен. – Вина ее установлена, меру наказания определит суд. Что еще? Отмазать ее вряд ли получится, хоть у тебя, со всеми твоими деньгами, хоть у меня, со всеми моими связями. Да я, если честно, и пытаться не буду. Она человека убила. Да и с картинами прекрасно осознавала, что делает.
– Она решила меня бросить. – Голос Стекольщика звучал глухо. – Ее выбор. Странно, что я про это ничего даже не подозревал. Был уверен, что ее все устраивает. А оказалось, ей свободы захотелось. От меня, от детей, от семьи. Что ж, теперь будет у нее свобода от всего этого. И полная несвобода взамен. Как она всегда сама говорила в таких случаях, «тю ля вулю, Жорж Данден». Не знаю, как это конкретно переводится, но она всегда объясняла, что это про достижение желаемого результата.
– Tu l’as voulu, Georges Dandin, – механически поправил его Дорошин. – Дословно, это означает, «ты этого хотел, Жорж Данден». Это из Мольера, но общий смысл ты озвучил правильно.
– Не понимаю я всего этого, – с легкой тоской произнес Стекольщик. – Все это искусство, литература, не по нутру оно мне! Поэтому она со мной и скучала. Нет, ты пойми, я и сам не ангел, в девяностые много чего бывало, но, чтобы так… Хладнокровно убить… По расчету… На это даже я, кажется, не способен. А тут поди ж ты! А мне казалось, что я ее знаю.
– Внутрь другого человека никогда не проникнуть, – сказал Дорошин.
– На сколько она сядет?
– Статья 105 УК. Предумышленное убийство. От шести до пятнадцати. Ты и сам знаешь, – спокойно сказал Дорошин. – Плюс хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность, статья 164-я. Надолго, в общем.
– Дети без нее вырастут, вот что печально. – Стекольщик вздохнул. – Я еще вот что хотел сказать. С домом этим, – он кивнул в сторону высившегося из-за забора дядькиного дома, – недоразумение вышло. Ты уж прости.
– Бог простит, – ответил Дорошин, чувствуя, как разливается в душе едкая щелочь тоски по умершему дяде. – Из-за всех переживаний, тобой вызванных, близкий мне человек умер. Так что с учетом Ксюши на данный момент будем считать, что мы в расчете. Но ты имей в виду, что бог простит, а я запомнил. И за другими стариками, которые еще вдоль берега живут, – он кивнул вниз, туда, куда убегала засыпанная снегом дорога, – я приглядывать буду. Упаси тебя господь, чтобы тут появился ты сам или твои амбалы. Ищи законные способы приобретать земельные участки под строительство. В аукционах участвуй, что мэрия объявляет.
– Я ничего незаконного и не делал. – Стекольщик неприятно осклабился. – Но предостережение учту. Просьба у меня к тебе.
– Выслушать выслушаю, но выполнить не обещаю, – спокойно сказал Дорошин. – Я ж так понимаю, что ты ради этой просьбы приехал.
– Я знаю, что Ксюха с тобой спала. К тебе я без претензий, твое дело мужское. Сучка не захочет, кобель не вскочит. Но мне с ее уголовным делом и так хватит и неприятностей и позора. Вдобавок рогоносцем я слыть не желаю. Так что молчи ты об этом, Христа ради! Мало ли зачем она к тебе в тот день приезжала? О картинах поговорить, к примеру. Просто общались вы с ней все это время. Без интима. Лады? С ней я поговорил, она молчать будет.
– Попробую, – сказал Дорошин. – Все, освобождай дорогу. И давай оба будем надеяться, что мы больше не встретимся.
– Да уж, если бы мои и Ксюхины пути с тобой не пересеклись, глядишь, все бы хорошо было. – Стекольщик неожиданно полоснул Дорошина злым взглядом, как стальной полоской резанул.
– У нее, скорее всего, да, – философски согласился Дорошин. – Если бы сотрудница музея не обратилась ко мне, обнаружив пропажу первой картины, то Ксюша успела бы уехать в свою Италию и кинуть тебя по полной программе. Ты это подводишь под определение «хорошо»?
– Она от меня свое еще получит. – Голос Стекольщика зазвучал угрожающе. – Разведусь, детей отниму и без копейки денег оставлю. Выйдет из тюряги – сгниет в канаве. Денежки-то тютю…
– Ну, это ваши личные дела. Все, пропусти меня, мне домой надо, собака меня ждет.
За спиной Дорошина послышался какой-то шорох. Скрипел под чьими-то ногами хрусткий морозный наст, такой настоящий, белый, искрящийся, как бывало только в детстве. Стекольщик поднял глаза на объект, издающий этот шум, и Дорошин тоже обернулся. Сюрпризов на сегодня ему вполне хватало.
– Вик, – по дорожке быстро шла, почти бежала Елена. – Витенька, я сейчас!
– Что случилось? – Он быстро пошел ей навстречу, схватил за плечи, тряхнул резко, почти грубо. – С дедом что-то? Или с Марией Викентьевной?
– Нет, с ними все в порядке. Я подумала, что что-то с тобой.
– Со мной? – Он посмотрел на нее удивленно. – Что со мной, по-твоему, могло случиться?
– Не знаю. Ты ушел, а мне вдруг так тревожно стало. Я убедилась, что дед заснул, и побежала к тебе. Ты что, в аварию попал? – Она переводила взволнованный взгляд с Дорошина на Стекольщика, две прижатые друг к другу машины и обратно.
– Да нет же! Все хорошо. Знакомого встретил. Но мы уже обо всем поговорили и расходимся? Да, Альберт Петрович?
– Да, Виктор Сергеевич. – Стекольщик сел в свою машину и сдал назад, давая возможность Дорошину выбраться из сугроба и заехать в собственный двор. Елена, проводив его глазами, тоже вошла в открытые ворота и заперла их, словно отрезав Стекольщика от их с Дорошиным жизни.
– Тебя надо отвезти домой или останешься? – спросил Дорошин. Он был так рад видеть Елену, как будто они расстались не полчаса назад, а чуть ли не год. – Федор Иванович ничего, что один?
– Я попросила Марию Викентьевну за ним присмотреть. Она ведь в нашем же доме живет, – засмеялась Елена. – Ты прости меня, глупую, но я правда очень сильно за тебя испугалась. Кто это был? Это плохой человек, я знаю.
– Это на данный момент несчастный человек, – сказал Дорошин, обнимая ее и прижимая к себе крепко-крепко. – Он неопасен. Пойдем в дом. Я очень рад, что ты ночуешь у меня. Я уже не представляю, как обходился без тебя все это время.
Они только успели дойти до крыльца, отпереть дверь и выпустить на свободу беснующуюся от переизбытка чувств Габи, как в ворота требовательно застучали.
– Ты еще кого-то ждешь? – Елена застыла на крыльце. Отпустившая было ее тревога вернулась.
– Нет, сегодня просто день неожиданностей, – спокойно сказал Дорошин, шагнул обратно на твердый снежный наст и окрикнул залаявшую собаку, – фу, Габи. Иди ко мне.
За воротами послышалось какое-то шуршание, затем небольшой, не очень тяжелый сверток перелетел через металлический профиль забора и мягко опустился в сугроб. Вновь послышалось шуршание, на этот раз быстро удалявшихся шагов.
– Что это? – Елена смотрела расширившимися от ужаса глазами. – Бомба?
– Лена, по-моему, ты насмотрелась боевиков. – Дорошин оторвал от своего рукава ее судорожно вцепившуюся в него руку. – Это какое-то пока неведомое послание, но, что бы это ни было, уверен, что оно не несет в себе угрозы. Пусти, я посмотрю.
Сверток оказался не очень тяжелым, напоминающим по форме большой альбом художественных репродукций. Помещенный во влагонепроницаемый пакет, он был аккуратно перевязан клейкой лентой с просунутой под нее запиской. «В. Дорошину» – было написано на ней. Со свертком в руках Дорошин вернулся к дому и снова обнял замершую Елену.
– Пойдем уже домой, а, – попросил он. – Что-то я сегодня уже изрядно устал. Хочу в тепло. Хочу чаю. Хочу в постель.
– А еще ты хочешь посмотреть, что там внутри, – поддела его Елена. – Судя по весу пакета, точно не бомба. И на том спасибо. Габи, девочка, побегай по двору сама, я сейчас разогрею тебе супа и впущу в дом, хорошо?
Совершенно успокоившаяся собака послушно побежала к дальним кустам.
– По-моему, она понимает, как человек, – сказала Елена, снимая в прихожей сапоги и пуховик. – У меня иногда возникает ощущение, что она мне ответит словами. Очень умная собака.
– Конечно умная. У нас с тобой не может быть другой, – нескромно сообщил Дорошин.
Он уже тоже разделся, прошел в кухню и орудовал там у стола, вскрывая ножницами доставленный несколько эксцентричным способом пакет. Действовал он аккуратно, потому что представления не имел, что там внутри. Альбом? Книга? Коробка?
Под несколькими слоями непромокаемой упаковочной бумаги, оказался слой пупырчатого целлофана, под ним газета, да не одна, и, наконец, в руки Дорошина из вороха развернутой им бумаги выпал деревянный прямоугольник. Икона. Дорошин глухо охнул и пошатнулся.
– Что? Случилось что-то плохое? – Елена подпрыгнула к нему, схватила за руку, впилась испытующим взглядом в лицо. – Витя, не молчи, ты меня пугаешь. Что тебе прислали? Что это значит?
– Икона. – Дорошин говорил хрипло и дышал тяжело, как будто только что пробежал большую дистанцию. – Мне прислали икону.
– И что? Что ты должен с ней сделать? Это знак? Тебе угрожают? Хочешь, мы поедем к Марии Викентьевне, чтобы она ее оценила?
– Не стоит. – Дорошин перевел дух и засмеялся. – До чего же ты у меня трусиха, оказывается! Хотя ты меня предупреждала, что у тебя тревожная натура, но не настолько же, Лена. Поверь, ничего плохого не произошло, наоборот. Случилось очень-очень хорошее. Это не просто икона. Это Дуниловская икона Казанской Божией Матери, о которой тебе в Москве рассказывал Эдик. Помнишь?
– Та самая, которую ты искал? Из-за которой с горя умер отец Алексей?
– Да. Та самая, заказчика похищения которой я вычислил. Точнее, заказчицу. Помнишь, я рассказывал, что мне пообещали ее вернуть, когда придет срок? Вот, как видно, пришел. Видит Бог, именно сейчас это как благословение свыше. Это дело с пропажей картин словно выжгло у меня внутри огромную дыру. Ленка, это знак, что я все сделал правильно. Понимаешь? Теперь я точно знаю, что все у нас с тобой будет хорошо. Мы вернем ее в храм в Никольской Слободе. Только сначала отнесем на могилу к отцу Алексею. Он должен знать, что икона вернулась домой.
На старый деревянный дом, стоящий на берегу реки, упала ночь. Долгая холодная зимняя ночь, от которой стыли даже звезды. Уже спала уставшая от обилия впечатлений и тревог Елена. Дорошину же не спалось. Лежа на своей половине дивана, он не сводил глаз с тонко выписанного женского лика, от которого, казалось, по комнате струилось сияние. Про себя Дорошин вспоминал описание Дуниловской иконы, которое собственноручно вносил в каталог пропавших реликвий.
«Икона Богоматери писана на доске, имеющей 1 аршин длины и 10 вершков ширины, и украшена серебряной позлащенной ризой с драгоценными камнями в венце».
Впрочем, не в драгоценных камнях тут было дело. Совсем не в них. Почему-то икона странным образом ассоциировалась у него с сопящей рядом Еленой. Ему казалось, что от них обеих исходит одинаковый чудотворный свет, способный исцелять душу.
Как она говорила? Ее имя произошло от древнегреческой богини Селены? Дорошин протянул руку и взял с тумбочки телефон, вошел в Интернет и уставился в до сих пор открытую страницу с описанием ее имени. Начал читать, смешно шевеля губами, впрочем, совершенно беззвучно.
Селена, богиня луны. Поэты называли ее «сверкающим глазом ночи», художники изображали в виде прелестной женщины на небе, с факелом в руках. Селена – сестра Гелиоса, то есть Солнца. Она имеет крылья и на голове золотой венец, от которого мягкий свет разливается по небу и земле. Ей посвящен день весеннего равноденствия, когда она, совершив долгий путь и омывшись в волнах океана, надевает на себя сверкающие одежды и впрягает в свою колесницу блестящих коней. С древних времен и поныне каждую ночь светит сверкающий глаз ночи. Селена ведет за собой звезды, расстилая небесную карту, освещая путникам и морякам путь к дому в память о вечной любви…
Примечания
1
Трдельник – традиционное лакомство, встречающееся в ряде стран Центральной Европы. Представляет собой выпечку из дрожжевого теста, наматываемого на вертел из дерева или металла по спирали.
(обратно)2
Эстимейт – приблизительная оценка стоимости лотов экспертами аукционного дома, условный ценовой ориентир.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
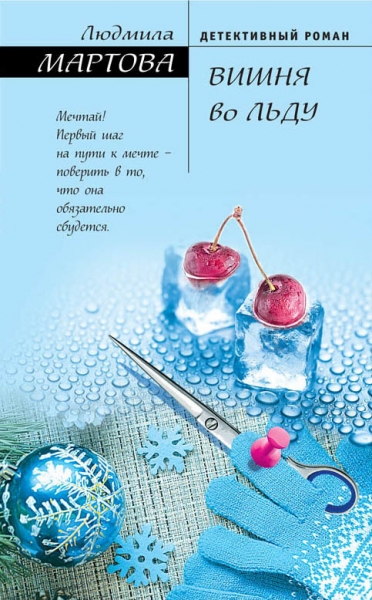



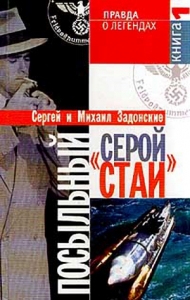


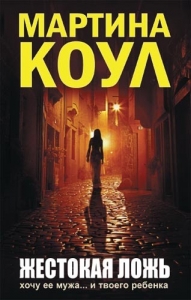
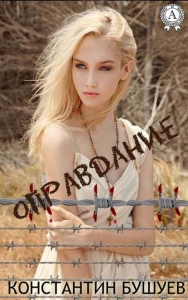

Комментарии к книге «Вишня во льду», Людмила Мартова
Всего 0 комментариев