А. Ф. Брэди Обман
Посвящается непонятым
– Видишь ли, этого все равно не избе жать, – сказал Кот, – ведь мы тут все ненормальные. Я ненормальный. Ты ненормальная.
– А почему вы знаете, что я ненормальная? – спросила Алиса.
– Потому что ты тут, – просто сказал Кот. – Иначе бы ты сюда не попала.
Льюис Кэрролл. «Алиса в Стране чудес»A. F. Brady
The Blind
Copyright © 2017 by A. F. Brady
© Перевод и издание на русском языке, «Центрполиграф», 2018
Часть первая
18 октября, 9:40
Я стою на коленях на полу в своем кабинете, выпускаю лишний воздух из мешка с мусором и завязываю его. Ребята из отдела обслуживания всегда оставляют мне пустые мешки под корзиной для бумаг, чтобы я могла сменить полный на чистый и бросить использованный в мусорный бак. Я думаю, так легче всего скрыть запах алкоголя, когда меня рвет прямо в корзину. Мне хочется верить, что я хорошо переношу алкоголь и что меня никогда не тошнит, но, по правде говоря, все чаще и чаще «утром после» я осознаю, что снова стою на коленях в кабинете, согнувшись над корзиной, и меня опять выворачивает наизнанку.
Меня зовут Сэм. Я психолог, работаю в психиатрической больнице. Она совсем не похожа на те заведения, что вы, должно быть, видели в «Человеке дождя» или «Прерванной жизни». Расположена больница на Манхэттене, и здесь нет просторных лужаек и аккуратно подстриженных зеленых изгородей. Равно как и широких коридоров и дверей высотой одиннадцать футов, как в фильме «Пролетая над гнездом кукушки». Пахнет тут смесью антисептика и жевательной резинки – потому что антисептик сдабривают ароматом жевательной резинки. Освещают помещение люминесцентные лампы, а туалеты вечно не работают. Лифт размером с ангар для самолетов, и он всегда переполнен. Я работаю здесь шесть лет, и ни разу мне не довелось оказаться в лифте одной. Кто-то каждый день нажимает на кнопку экстренного вызова.
Панели на потолке в отделении украшают пятна и разводы от протечек в углах. Все двери выкрашены в серый цвет, и в них овальные стеклянные окошки, забранные металлической сеткой. Все, кроме дверей кабинетов, – они бледно-желтые, и никаких окон в них нет. Зато есть таблички с надписями типа «Ланч», «Идет сеанс» или «Не беспокоить». Таблички приходится часто менять, потому что пациенты пишут на них всякие гадости.
Как только входишь сюда, возникает ощущение, что мир вдруг как-то уменьшился. Звуки с улицы за эти стены не проникают, и, хотя я знаю, что нахожусь в самом шумном городе на земле, здесь этого совсем не слышно. На солнечную сторону выходят окна только одной общей комнаты, и там же стоят все растения, но они всегда покрыты слоем пыли, и никто не любит туда заходить.
У нас множество самых разных пациентов – всего сто шесть. Самому младшему из них шестнадцать, а самому старшему – девяносто три. Самому-самому старому было девяносто пять, но он умер несколько месяцев назад. В одном крыле живут мужчины, в другом – женщины, и почти у каждого есть сосед. Если пациент склонен к буйству или что-то в этом роде, его помещают в одиночную палату. И как только они это понимают, становятся по-настоящему буйными. Для них почему-то не доходит, что одиночная палата – это на самом деле обычная двухместная, но разделенная пополам перегородкой. При этом один из обитателей палаты теряет окно. Наше заведение называется психиатрический центр «Туфлос»[1], и я никогда не спрашивала почему.
Все это звучит как-то жульнически, глупо, а иногда даже и комично, но я чувствую, что и я, и все они не отличаемся друг от друга. Предполагается, что врачи должны вселять в больных надежду. Что мы обязаны применять все наши способности, и терпение, и с таким трудом заработанные знания и научные степени, чтобы улучшить их состояние. Мы гордимся своим незамутненным рассудком и не тронутой болезнью душой. Мы воображаем себя пастухами, призванными заботиться о стаде. Нам говорят, что это почетная и достойная высочайшего уважения работа и что мы приносим неоценимое благо обществу. Но все это просто куча дерьма. Между нами и ими нет разницы. Нет линии на песке, где мы по одну сторону, а они по другую. Нет каньонов, разделяющих нас. Разве что крохотная трещинка. У меня есть кабинет и ключ от него, а у них нет. Я пришла сюда, чтобы спасти их; они не могут спасти меня. Но иногда границы размываются. Говорят, «если не можешь делать сам, учи других». Что ж, если ты не можешь спасти себя, спаси кого-то еще.
19 октября, 11:12
С этой недели у нас появится новый пациент. Никто не хочет с ним работать. Его история болезни практически пуста, но сплетни, расползающиеся среди персонала, прекрасно заполняют все пробелы ужасающими байками и несусветными глупостями. (Он убил своего последнего психолога; он отказывается заполнять анкеты и сотрудничать, он не пациент, а кошмар.) Даже мне не хочется с ним работать, а я, как правило, беру себе тех, от которых отказываются другие. Никто не знает, что он за человек на самом деле, что из всего этого правда, а что просто идиотские сплетни. В его деле действительно ничего не понятно. Вся информация, что там содержится, основывается на внешнем описании и материалах, поступивших извне. Он отсидел срок в тюрьме; эти сведения сомнению не подлежат. Целых двадцать с чем-то лет, хотя за что, в документах почему-то не написано. Затем, после тюрьмы, он побывал в нескольких реабилитационных центрах. А теперь ему назначили лечение здесь, в качестве одного из требований условно-досрочного освобождения.
Мы считаем свою власть над пациентами чем-то само собой разумеющимся, хотя зиждется она, по сути, лишь на том, что они не осознают, что способны сопротивляться. И вот теперь явится этот парень и начнет мутить воду. Мне кажется, по-своему я его уважаю. Я прилегла вздремнуть в кабинете, надеясь, что что-нибудь изменится, и думается, он как раз сможет это сделать.
19 октября, 13:15
– О’кей, скажите мне, что означает «наследственный»?
У меня сеанс групповой терапии. Это психопедагогическая группа, и предполагается, что я должна помочь пациентам понять свои диагнозы. Психиатры так часто говорят человеку, что он страдает тем-то или тем-то, и никогда не объясняют обыкновенным человеческим языком, что это значит.
– Это означает, что такая болезнь есть в твоей семье, правильно? – Это Ташондра. У нее было одиннадцать детей. И каждого из них государство поместило под свою опеку. Она понятия не имеет, где ее дети, и двое из них вроде бы даже умерли, но она не уверена. Такова ее реальность.
– Именно так. Это означает, что в болезни виновата генетика. Так какие психические заболевания имеют генетическую основу? – Я пристраиваюсь на краю стола, где обычно сижу.
– Рак. У моей мамы был рак груди, и я тоже должна проверяться, потому что у нее он был, но у меня его нет. – Это Люси.
– Правильно. Рак во многом зависит от генов, так что действительно, если кто-то из вашей семьи был болен раком, вам также необходимо регулярно проходить осмотр у врача. Это очень важно. Но как насчет психических расстройств? Как насчет тех заболеваний, которые мы здесь лечим?
– Да все, так ведь? Я знаю, что если твои родители или брат – наркоманы, ты, возможно, тоже станешь наркоманом. А здесь людей лечат и от этого тоже. Вы лечите наркоманов. А еще иногда, если у кого-то в семье депрессия, у тебя тоже может быть депрессия. – Это Ташондра.
– Прямо в точку, – говорю я и поднимаю палец. – Депрессия может быть обусловлена генетически, так же как и шизофрения, маниакально-депрессивный психоз и многие другие расстройства, которые мы здесь лечим.
– Значит, дело х…, а? Если твоя мама – шизофреничка, то это перейдет и к тебе, и ты ничего не сможешь с этим поделать, а? Ты рождаешься чокнутым, так? Как в этой песне, «Рожден, чтобы стать плохим»? Рожден, чтобы стать сумасшедшим. – Это Тайлер. У Тайлера шизофрения. Ему двадцать два, но он очень умен и развит для своих лет. Кажется, он лучше понимает этот мир, чем многие из нас – нам почему-то это не дается. Он смирился с иными вещами, с которыми мы пытаемся бороться. Тайлер сумел простить.
– Ну, не обязательно. И следи за своим языком. Если у тебя есть генетическая предрасположенность, что означает – у кого-то из твоей семьи такая болезнь, ты можешь ее унаследовать, а можешь и нет. Это зависит от того, что происходит в твоей жизни. От того, складывается ли она так, что помогает тебе оставаться здоровым, или с тобой случается нечто такое, что способно заставить тебя заболеть. – Мои каблуки болтаются в воздухе.
– А что может заставить тебя заболеть? Типа, наркотики и всякая фигня вроде этого? – Это Тайлер. – Я знаю, что мой брат баловался наркотой в школе со своим другом, а потом он чокнулся. Его, конечно, закрыли, но, черт побери, он реально был сумасшедшим. Он никогда себя так не вел до того, как стал принимать эту наркоту.
– Наркотики – да, конечно. На самом деле это одна из самых главных причин, – объясняю я и киваю. Мои глаза блестят. – А также насилие, отсутствие одного из родителей или бедность, когда тебе не хватает еды или ты лишен возможности ходить в школу. Все это как бы ударяет по тебе. Так что если у тебя есть ген, отвечающий за депрессию или шизофрению, и ты вдобавок получаешь от жизни вот такие удары, то дело может кончиться болезнью.
– Типа как три страйка – и ты выбываешь. – Тайлер. Мы с ним часто говорим о бейсболе, когда встречаемся в коридорах. И я боюсь наткнуться на него однажды на стадионе «Янки стэдиум».
20 октября, 19:44
Уже пора собираться домой, и мне в голову начинают лезть мысли, которых я избегала весь день. У меня нет с собой ни спиртного, ни сигарет – это могло бы помочь мне думать, но все равно. Я медленно заглядываю в бездну.
Я знаю, что, когда окажусь дома и буду одна, с молчащим телефоном, они все равно придут, так что, в общем, можно начать уже и сейчас. Возможно, так мне станет чуть легче. Возможно, я не буду так душераздирающе рыдать дома. Единственно, мне, конечно, придется сидеть в метро в солнечных очках, потому что мое несчастное, тоскливое лицо точно распухнет, а на глаза то и дело будут набегать слезы. Как-то так вышло, что они появляются каждый день, каждый раз, как только я открываю дверь своей квартиры. В ту же секунду.
Так было не всегда. Когда-то все в жизни имело смысл. Тогда я понимала, что делаю, что происходит, а не просто автоматически день за днем совершала одни и те же действия.
Метро не работает. На линии А/С возгорание, и я вынуждена выйти за сто кварталов от моего дома. По непонятной причине я решаю пойти пешком. Обычно при ходьбе я думаю – есть у меня такая склонность – и это, наверное, все же не очень хорошее решение, потому что у меня нет при себе налички, и я не могу забежать по пути в какой-нибудь бар и выпить. Это помогло бы не думать.
Снаружи холодно. Настолько, что болят колени и немеют губы, так что трудно говорить. Глаза слезятся, но я не плачу. Я курю одну сигарету за одной, и перчаток у меня нет, поэтому приходится часто менять руки.
Несмотря на холод, на улице встречаются целые семьи. Я приметила их, еще когда выходила из вагона. По другой стороне улицы мамочка толкает перед собой коляску с ребенком, и мы идем параллельно друг другу уже несколько кварталов. Она похожа на меня. Ну, то есть она похожа на мою маму, а мне кажется, я вылитая мать. Мы с ней блондинки, и я думаю, что у той женщины тоже голубые глаза, как и у нас, но, конечно, она слишком далеко, и разглядеть я не могу. И она маленькая, совсем как мама. Я гораздо выше их обеих. Я всегда думала, что мой отец, должно быть, был здоровенным парнем. И теперь застреваю на этом и начинаю думать о своей семье, упорно направляясь на юг в суровом, жестоком городе.
Нас было только двое – я и мама. Я выросла без отца. Где-то он есть, конечно, но я понятия не имею где. Я никогда его не видела, но в принципе мне было совершенно все равно, потому что мама более чем успешно справлялась и без него. Иногда она пела ему хвалебные гимны: «Твой отец – прекрасный человек». А иногда ведрами лила на голову дерьмо: «Он просто сраный ирландский ублюдок, который меня не заслуживает». Интересно, эта малышка в коляске знает своего отца?
Меня зовут Саманта, потому что маму зовут Саманта. Наверное, по этой причине я предпочитаю обходиться коротким Сэм. Наша фамилия Джеймс. Так что у меня два имени. Я всегда говорю; никогда не доверяйте человеку, у которого два имени.
Теперь я уже могу видеть свою квартиру. Она единственная на этаже с темными окнами. Располагается мое жилище в старом доме из известняка в середине квартала. Лифта там нет. Я живу в Нью-Йорке несколько лет, здесь я заканчивала школу, и уже успела помотаться по разным квартирам – студиям и крохотным норкам с одной спальней в Бруклине и на Манхэттене. В этой квартире три шкафа – вещь практически неслыханная, и имеется ванна. А еще у меня есть кофейный столик и письменный стол, и квартира вполне могла бы сойти за жилье взрослого человека, если бы я только покупала еду и клала ее в холодильник. Мой диван коричневый, а наволочки на подушках разные, я меняю их в соответствии с временем года. Сейчас они темно-синие. Ковер большей частью выгорел, потому что окна выходят на юг и летнее солнце заливает комнаты до самого вечера. Раньше мне нравились его цвета, но теперь он напоминает мне коврик в спальне маленькой девочки. Кухня моя безупречно чистая, а над раковиной окно, так что, когда я мою бокалы для вина, могу поглазеть, что делают соседи. Радиатор шумит, но это меня успокаивает, потому что, если бы не он, здесь было бы тихо, как в могиле. Я никогда не включаю телевизор, потому что он заставляет чувствовать себя мелкой и незначительной.
Замок в парадной двери пошаливает. Такое ощущение, что он всегда заедает именно в тот момент, когда налетает особенно злой порыв ледяного ветра, и у меня начинают болеть уши. Полы в вестибюле выложены темно-зеленой плиткой, которая вечно выглядит пыльной, и я боюсь в один прекрасный день поскользнуться и расколоть себе черепушку. Ступени широкие и закругленные; стиль давно забытой нью-йоркской эры. Я поднимаюсь по ним и на ходу сдираю с себя пальто.
Я открываю бутылку вина, которую купила вчера вечером в магазине, где продают спиртное, на другой стороне улицы. Когда дело доходит до выпивки, я всегда стараюсь, чтобы это выглядело изящно и по-взрослому. Выпиваю я каждый вечер, но это ничего, потому что пью дорогое вино из дорогих бокалов и никогда не забываю вымыть их перед тем, как отправиться спать. И еще я всегда мою пепельницы, потому что даже мне кажется, что это ужасно – старые вонючие окурки по всему дому. Несколько раз я бросала курить, но потом бросила бросать, потому что возникли проблемы посерьезнее. Отчаяние заставляет держаться за странные вещи.
21 октября, 8:55
Я пью пережженный, какой-то едкий кофе в лаунже и жду, когда наш босс, Рэйчел, начнет совещание для персонала. У меня неухоженные, грязные ногти; лак почти совсем облез. Я поднимаю голову и ловлю на себе пристальный взгляд своего коллеги Гэри. Встретившись со мной глазами, он тут же отводит их, но снова быстро поворачивается в мою сторону.
– Что такое? – спрашиваю я.
Он потирает висок тыльной стороной левой руки и показывает на меня подбородком.
– Что?
Гэри повторяет жест.
Я ставлю на стол чашку с кофе, кладу свою красную ручку и отираю щеки и виски. Потом рассматриваю руки. На левом мизинце – уже засохший сгусток тонального крема вместе с крошечными колючими крошками корочки от ранки.
Рэйчел открывает собрание:
– Доброе утро, команда. Рада видеть вас всех сегодня с горящими от энтузиазма глазами и бодро поднятыми хвостами.
Приглушенный смех и саркастическое фырканье.
– Я знаю, что всем нам сейчас нелегко и мы ошарашены объемом свалившейся на нас работы, со всеми этими только что поступившими пациентами, но, как вам известно, есть времена года и циклы, которые влияют на психическое здоровье, а зима уже почти пришла, хотя пока еще только октябрь… – она грозит окну кулаком, – и дни становятся короче и холоднее, обостряется депрессия, синдром сезонного аффективного расстройства, ощущение безнадежности и тому подобные вещи. В общем, все это вы знаете и без меня. И после этих слов хочу напомнить вам, что у нас новый пациент и мы начинаем лечение со следующей недели.
Все нервно переглядываются, поправляют одежду, старательно смотрят в блокноты, как будто хотят раствориться в пространстве.
– Я слышала много разговоров на эту тему. И понимаю, что размышлять и обсуждать – это естественно, однако очень трудно сохранить профессионализм, подразумевающий положительное отношение в пациенту несмотря ни на что, отсутствие предубежденности и открытость, когда по коридорам ползают подобные слухи. И опять же, вы все знаете, о чем я говорю. – Она обводит нас свирепым взглядом, как будто ожидала от нас большего, а мы ее подвели.
– Что ж, в таком случае не могли бы вы рассказать нам немного больше об этом парне? – Гэри.
– У меня о нем столько же информации, сколько и у вас, так что здесь мы в одной лодке, так сказать. Но я призываю вас отбросить все домыслы, все, что вы успели себе навоображать, и сосредоточиться на тех немногих сведениях, которыми мы действительно обладаем. Он прибывает сюда, чтобы лечиться, чтобы ему помогли, а ваша работа – обеспечить ему это лечение и помощь и не делать из человека монстра.
– Послушайте, я всецело за положительное отношение и отсутствие предубежденности, но разве не важно обеспечить безопасность персонала? – Это снова Гэри. – Я имею в виду… я слышал, что его история болезни не заполнена потому, что он напал на своего предыдущего психолога. А еще слышал, что он не желает отвечать на базовые вопросы и обсуждать свою историю, а если настаивать, то взрывается, как ракета. Я хочу сказать, у него криминальное прошлое, а мне как-то не очень комфортно лечить пациента, про которого известно, что он напал на своего доктора.
– Мы так не работаем. Мы не отказываемся от проблемных пациентов. – Рэйчел опускает голову и листает историю болезни. – И здесь нет ничего о том, что ранее он вел себя агрессивно по отношению к персоналу.
– Это потому, что там вообще ничего нет! Его история болезни практически пуста! Там сказано только, что он здоровенный парень, носит шляпу и не разговаривает. И что он полжизни провел в тюрьме. Но почему-то нет ни слова о преступлении, которое он совершил. Как вам такое? Это же безумие! Нельзя принять пациента, отсидевшего срок, без всякой истории, без психосоциального профиля, без диагноза и с пустой историей болезни. Он впорхнет сюда, как бабочка, а мы должны высасывать информацию незнамо откуда.
Гэри преувеличивает. Раньше он был социальным работником в финансовой отрасли. Трудился на фирму, которая занималась корпоративными увольнениями, и помогал людям, потерявшим работу. Он постоянно чувствовал себя гонцом, что приносит дурные вести, и в конце концов это стало невыносимо. Гэри решил заняться чем-то более спокойным и стабильным, уйти от драм, каждый день делать что-то хорошее. Как выяснилось, он прыгнул со сковородки прямо в огонь, и теперь все еще недоуменно оглядывается по сторонам и удивляется, как здесь оказался.
– И что, по-твоему, мы должны сделать, Гэри? – Это Дэвид, который обычно не вступает ни в какие дебаты на собраниях.
– Послать его куда-нибудь еще!
– Но это смешно. Мы и есть «куда-то еще». Это его последняя остановка, дальше ехать некуда. Ты бы предпочел, чтобы он шатался по улицам? Без лечения? – говорю я, заодно вытирая пятна кофе со стола.
– Слушай, я просто хочу сказать, что не хочу им заниматься. У меня совсем мало времени, а заполнять по кусочкам целую историю болезни плюс ко всему остальному, что требуется… для парня, который, может быть, пырнет меня ножом и вообще даже не разговаривает?.. Ну уж нет. Простите меня, но нет, большое спасибо. – Гэри складывает руки на груди и, шумно фыркнув, откидывается на спинку стула.
– Тогда зачем ты вообще здесь работаешь? – Ширли немедленно сожалеет о том, что подала голос, и словно пытается вжаться в свой стул. В надежде, что из-за подобного комментария ее не заставят взять нового парня на себя.
Рэйчел вскакивает на ноги и тут же прекращает бессмысленные споры.
– Для всех нас очень важно устраивать нечто вроде форума, где мы будем делиться друг с другом проблемами и мнениями о пациентах и выносить все на открытое обсуждение. И эти наши собрания как раз и есть такого рода форумы. Мы здесь не для того, чтобы препираться. Я хочу, чтобы вы все поговорили со мной и между собой тоже о том, что вы слышали, и высказались, почему именно вы так нервничаете из-за нашего нового пациента Ричарда. Но еще раз предупреждаю вас: слухи, как правило, бывают ни на чем не основаны, и мы должны быть осторожны в своих оценках этого человека.
Гэри сползает ниже и выключается из дискуссии. Джули, наша принцесса – вечно бодра, вечно в прекрасном настроении, – сообщает, что боится за себя и беспокоится, что она слишком слаба физически и беззащитна, чтобы эффективно заниматься лечением пациента, который будет ее пугать. Прочие члены команды женского пола согласно кивают и негромко переговариваются. Джули исхитрилась сделать так, что теперь никто не навесит на нее новых пациентов еще много недель. Браво.
– За что он сидел в тюрьме? – Ширли.
– Я правда не знаю. – Рэйчел. – Я уже сказала, у меня доступ к тем же записям, что и у вас, поэтому никакой прочей информации.
– Но разве это не странно? Разве мы не должны быть в курсе? – Джули.
– Какая разница? – Я. – За вымогательство его посадили, или за вооруженное ограбление, или за что-то еще. Абсолютно никакой разницы. Может быть, за наркотики. Или преступление третьей степени, вообще что-то незначительное, а учитывая так называемый закон «три страйка – и ты выбываешь», он мог бы остаться там навсегда. Это не половое преступление – в базе он не зарегистрирован, я проверила. Ведь действительно не должно иметь значения, за что его осудили. Важно знать только то, что он там был. Его взгляд на мир и будущее явно изменился, и, возможно, там ему пришлось вытерпеть ужасные вещи. – Произнося это, я внезапно осознаю, что мне на самом деле жутко некомфортно из-за того, что мне неизвестно, почему он провел в тюрьме столько лет.
– Я слышала, что он не разговаривает. Вообще. И что он очень агрессивный. Он отказывается следовать правилам, у него не складываются отношения с другими пациентами, и он не заполняет никакие анкеты. – Ширли.
– Ну что ж, полагаю, это очевидно, что он не желает сотрудничать и помогать нам с бумагами. Но я предлагаю всем просто отнестись к этому как к предмету для размышлений и не заполнять пустые места в анкетах драматическими историями, в то время как мы не обладаем достаточной информацией. Факт тот, что он здесь, и мы будем с ним работать. – Рэйчел ни на кого не смотрит; она готовится бросить бомбу. Некоторое время она выжидает. Все начинают беспокойно ерзать.
– Сэм… – она натянуто улыбается мне, – и Гэри. – Гэри, побежденный, придавленный, тяжело оседает на стуле. – Я собираюсь отдать Ричарда тебе, Гэри, а Сэм будет твоей помощницей. Вы многому научитесь, работая с этим пациентом, и думаю, вас ждет серьезное испытание. И – Сэм, у тебя самый большой процент успешного излечения трудных больных и высокая квалификация. Я бы предпочла, чтобы Ричард начал с психологом-мужчиной, и посмотрим, как пойдут дела. Все мы будем рядом на случай, если вам понадобится поддержка и помощь, но я уверена, что вы справитесь.
Ширли и Джули переглядываются; в их глазах читается преувеличенное облегчение. Все выдыхают. Дэвид сочувственно треплет меня по плечу. Гэри раздраженно пыхтит и картинно роняет голову на грудь, когда Рэйчел передает ему копию истории болезни Ричарда. Он молча смотрит на меня и нетерпеливо закидывает ногу на ногу.
– Нет проблем, Рэйчел. Я за это возьмусь.
Я собираю свои бумаги, подхватываю чашку с кофе и, когда мы все медленно тянемся к выходу, Рэйчел вручает мне мою копию истории болезни.
Гэри уверяет меня, что у него тоже нет проблем, он сам возьмется за дело Ричарда и мне не нужно участвовать в процессе лечения. Гэри идиот.
– Все это очень хорошо и даже прекрасно, Гэри, но я бы хотела, чтобы ты зашел ко мне в кабинет и мы обсудили план действий. Это не потому, что я считаю, что ты один с ним не сладишь; просто мне бы хотелось быть в курсе того, что происходит, если тебе нужна будет моя помощь.
– У меня правда нет сейчас времени, и я хочу устроить первую встречу с этим парнем уже сегодня. – Гари стоит в дверях конференц-зала, занимая собой весь проем, и показывает пальцем в сторону своего кабинета.
– Да ладно, пойдем. Это займет десять минут.
Он испускает стон и следует за мной по коридору к моему кабинету.
– Садись, – предлагаю я и жестом показываю на кресло для пациентов.
Его кроссовки Gatorade издают при ходьбе хлюпающий звук. Гэри обрушивается в кресло.
– Я собираюсь найти его и привести в кабинет для ознакомительной встречи сегодня утром. Хочу поговорить с ним как мужчина с мужчиной и буду обращаться с ним так, будто он совсем не страшный и вообще никакой не исключительный случай. Уверен, что все эти идиотские слухи о том, что он страшный, вызваны только тем, что он бывший заключенный, а те, кто сидел в тюрьме, как правило, пугают обычных людей. Ну, во всяком случае, не меня. Я не боюсь. – Он трет кроссовкой мой ковер.
– И это весь твой план? Поговорить с ним как с мужчина с мужчиной? – Такую глупость я даже записывать не собираюсь.
– Ну да. Тоже мне, большое дело. В этом нет ничего особенного, Сэм. Он пациент, я психолог. Значит, он должен отвечать на мои вопросы. Не понимаю, почему раньше у всех были с ним проблемы.
Я качаю головой; у меня похмелье, и она кажется такой хрупкой, будто вот-вот разобьется. Таким образом я пытаюсь выгнать из нее глупый ответ Гэри.
– Не мог бы ты все же посвятить меня в детали? Как именно ты планируешь достучаться до него и пробиться сквозь стену молчания, хотя до сих пор никому этого сделать не удалось?
– Как я уже сказал, поговорить с ним как мужчина с мужчиной. – Он делает ударение на трех последних словах.
– Что значит «как мужчина с мужчиной»? – Моя ручка зависает над блокнотом, и я отвожу глаза. Я боюсь смотреть на Гэри, боюсь услышать его ответ.
– Тебе этого не понять, потому что ты не мужчина. – Он поднимается и снисходительно похлопывает меня по плечу, а затем наклоняется и добавляет: – Мы с тобой назначим еще одно совещание после того, как я получу от него ответы, о’кей?
И выходит.
23 октября, 23:37
Я откладывала вынос мусора целую неделю, и помойное ведро переполнено. Под раковиной в кухне мало места, и, поскольку пью я больше, чем готовлю, у меня большое ведро, которое стоит между дверью и холодильником. Оно скорее похоже на корзину для белья.
Прозрачный голубой пакет просел под тяжестью пустых бутылок, и я с силой дергаю его за красные завязки, чтобы вытащить. Стеклянное звяканье, которое он издает, абсолютно невыносимо. Разумеется, пакет протек, и от вони алкоголя недельной давности, смешанной с острым кислотным запахом бутылки с «Тропиканой», в которой я делала «отвертку» сегодня утром, к горлу тут же подступает тошнота. Именно поэтому я вечно оттягиваю эту процедуру до последнего момента.
Звяканье бутылок было бы не таким громким, если бы я не тащила пакет по застеленному ковролином коридору, а подняла бы его и закинула на плечо, на манер Санта-Клауса. Я так и делаю, когда подхожу к старым мраморным ступеням, ведущим в подвал.
Толкаю дверь, включаю свет и вижу разбегающихся во все стороны жуков. Они забрались сюда на зиму, а это помещение для них как буфет всякого дерьма, и им обеспечен нескончаемый пир вплоть до самой весны. Я бросаю свой мешок с бутылками в пластиковый бак. Кажется, несколько из них разбились. Протекший мешок испачкал мои пижамные штаны, и я пытаюсь вытереть мокрое пятно тряпкой, что висит на крючке у двери.
Я поднимаюсь в свою квартиру и убираю разводы на полу. Потом кладу две забытые бутылки из-под пива в свежий пакет и вставляю его в мусорное ведро. На книжной полке я держу две бутылки скотча, который никогда не пью. В каждой примерно на четыре пальца жидкости. Если кто-то заходит в гости, то это выглядит стильно и изысканно, очень по-взрослому. А еще в моем холодильнике всегда есть бутылка или две вина. Не потому, что я храню их для особого случая, а потому, что вино я покупаю практически оптом.
26 октября, 15:35
Возвращаясь после сеанса с женской группой, я вижу, что Гэри мнется у дверей моего кабинета.
– Привет, Гэри. Тебе что-нибудь нужно?
В его глазах отчаяние, и я знаю, что именно он пришел со мной обсудить.
– Да, мне надо с тобой поговорить. У тебя есть минутка?
– Конечно есть, заходи.
Гэри плюхается в кресло для пациентов и запускает потную руку в волосы.
– Это сводит меня с ума. Я не могу добиться ни слова от этого парня, а мы встречаемся каждый день начиная с пятницы.
– Ты имеешь в виду Ричарда Макхью? – Я точно знаю, кого он имеет в виду.
– Да. Я привел его к себе в кабинет в пятницу, как и собирался, и попытался начать с оценки психологического состояния, интеллекта и прочего для истории болезни. Ну, я говорил, да? – Он наклоняется ко мне через стол и машет мясистой рукой у меня перед лицом. – А он не сказал ни слова. Ни слова. Он просто сидел и смотрел. Я уж подумал, что он глухой или немой, потому что он… он молчал, и все. Не взбесился, не разорался, ничего такого, просто сидел молча. Я повторял одни и те же вопросы, а он пялился или на меня, или в окно. В тот раз я решил, что он, возможно, еще не готов. Рассказал ему о себе, постарался установить с ним контакт, сказал, что буду общаться с ним как с мужчиной, если и он будет общаться со мной как с мужчиной. И – ничего.
Гэри искренне удивлен, что его дурацкий самонадеянный план поиграть в мачо не сработал. Часть меня хочет рассмеяться ему в лицо, но другая часть сохраняет профессионализм и хочет помочь ему стать хорошим психологом.
– Так. Значит, с изначальным планом не вышло. Говоришь, после этого ты встречался с ним каждый день? Ты изменил подход или действовал так же?
– Да. Я попробовал все, что мне известно, применил весь свой опыт. Сначала да, я попробовал метод «как мужчина с мужчиной». Это не пошло. В понедельник я попросил его снова прийти ко мне в кабинет, и он не стал спорить или сопротивляться. Я решил, что в этот раз буду говорить только по делу и заставлю его поработать с опросниками. Но он не ответил ни на единый вопрос! Начал читать газету. Притащил с собой здоровенную кипу газет и даже не посмотрел в мою сторону, пока я задавал вопросы.
– Ясно. Как я понимаю, вчерашний и сегодняшний сеансы прошли более или менее в такой же манере? – Я уже устала слушать одно и то же.
– Да, полная тишина. Он даже не здоровается. – Гэри откидывается назад. – Он доволен тем, что теперь это моя проблема.
– Гэри, ты сделал четыре попытки разговорить человека, который явно не очень-то любит болтать. Стоит ли удивляться, что привычные методы и подходы не приносят результатов?
– Не думаю, что дело в методах. Скорее во мне. Мне кажется, я ему просто не нравлюсь. – Гэри выдает это, чтобы погладить мое эго, польстить мне. Тогда я, может быть, сама предложу ему взяться за Ричарда и ему не придется меня просить.
– И как бы ты хотел продолжить? – Я не дам ему слезть с крючка так легко.
– Полагаю, ты должна с ним поработать. Я не могу позволить себе такую роскошь – тратить время на человека, который не желает говорить. Не хочет, чтобы ему помогли. У меня его и так мало. – Он складывает руки на груди и мелко трясет головой. Так он похож на какое-то испуганное лесное животное.
– Я не могу сделать это по собственному желанию. Ты должен обсудить это с Рэйчел.
– О, да ладно, Сэм. Ради меня – возьми его себе.
– Ради тебя я уже взяла себе Шона. – Я вздыхаю. – Но если Рэйчел даст такое распоряжение… хорошо, я возьму его. Но до этого – он твой. – Для пущего эффекта я захлопываю блокнот, встаю и открываю дверь. Пусть Гэри поищет Рэйчел и сам уладит все формальности.
28 октября, 9:12
По утрам в 9 часов у нас обычно бывают совещания. На них мы обсуждаем своих пациентов и всякую административную фигню, с которой надо разобраться. Как правило, все тащат туда свои задницы без особой охоты – за исключением меня и нашей начальницы Рэйчел.
Рэйчел – реальный защитник, как в футболе. Она из тех людей, что, войдя в помещение, сразу как будто бы занимают собой все пространство. Ее громоподобный голос и острый ум пугают всех наших до полусмерти. Она явно была рождена, чтобы управлять каким-нибудь серьезным учреждением, а поскольку личная жизнь у Рэйчел отсутствует, это помогает ей работать все лучше и лучше. Ее безжизненные, тускло-каштановые волосы вечно собраны в хвост и завязаны бархатной резинкой, и носит она одно и то же: свитера и брюки-чиносы, которые маловаты ей в бедрах, так что карманы по бокам торчат, как маленькие ушки.
Я нравлюсь Рэйчел. Ей необходимо верить, что я всегда энергична, позитивно настроена и вообще не человек, а сплошной солнечный свет. В больнице я – супергерой. Разруливаю трудные ситуации, решаю проблемы, ко мне всегда обращаются, когда нужно сделать какое-нибудь противное дело. Или вообще дело. Мои коллеги меня за это ненавидят. Ну, только если я не соглашаюсь провести вместо них групповой сеанс, или сопроводить пациента в отделение неотложной помощи, или закончить за них заключение/отчет/план лечения. Тогда они меня обожают. В качестве защитного механизма я иронизирую над собой; а еще спрашиваю всех, как они провели выходные и как вообще дела, потому что люди страдают нарциссизмом и никогда не спросят в ответ, а как я провела выходные и как дела у меня. И это избавляет меня от необходимости лгать.
– Фрэнки снова в больнице, – начинает Ширли. – Насколько мне известно, он стоял посреди улицы и пытался регулировать движение. Это был перекресток на Бродвее, и удивительно, что он вообще остался жив. Когда полиция попыталась его остановить, или схватить, или что-то в этом роде, он, естественно, побежал прочь, натыкался на машины, протискивался между ними… Это был кошмар. В конце концов они с ним справились, не знаю как, и отправили в психиатрическое отделение Медицинского центра Колумбийского университета. Сейчас он под наблюдением; подозрение на возможную попытку самоубийства. Доктора оттуда то и дело звонят мне и говорят, что он отказывается сотрудничать. Не знаю, как мне следует поступить в этом случае. – Ширли произносит это отстраненно; она давно не питает никаких иллюзий, а способность к сочувствию исчерпала много лет назад.
– Ты поедешь в Медцентр университета, Ширли, – раздраженно чеканит Рэйчел. Она очень недовольна и с утра очевидно не в духе. Возможно, у нее предменструальный синдром. – Поговоришь с врачами. Удостоверишься, что им известно – ты тот доктор, который занимается его лечением, и он находится под твоей опекой. Фрэнки в конце концов снова вернется к нам после того, как его выпустят оттуда. И ему нужно знать, что мы с ним, что его не бросили в палате для психбольных в клинике университета. И помните, все вы. – Рэйчел обводит нас таким взглядом, будто мы – плохие детишки, которые без спроса съели все печенье. – Мы – единственный источник помощи и поддержки для многих из наших пациентов. Мы их отцы и матери, опекуны и доверенные лица…
Вообще-то я не подписывалась работать чьей-то матерью или отцом, и, пока Рэйчел продолжает свою нудную лекцию, которую мы слышали уже миллион раз, во мне тихо закипает возмущение и неприязнь. Я прихлебываю кофе и смотрю в единственное окно конференц-зала. Через улицу идет стройка. Немного слышно, как она шумит, но я в основном пялюсь на рабочих в джинсах и светоотражающих жилетах, как они карабкаются вверх и вниз по лесам, и думаю, что будет, если кто-нибудь решит спрыгнуть.
– Что касается прочих новостей, – говорит Рэйчел, – сегодня утром я хочу объявить, что мы передаем одного из пациентов другому психологу. Гэри очень старался установить контакт с новым больным, Ричардом Макхью, и проделал огромную работу, но, к сожалению, успеха не добился. Вчера я сама встречалась с Ричардом, чтобы обсудить с ним возможную смену психолога, и он попросил, чтобы с ним занималась ты, Сэм, – он прямо назвал твое имя. Так что теперь он твой. Желаю удачи. – Рэйчел сообщила мне об этом еще вчера, перед концом моей смены, соответственно, это – всего лишь представление для персонала.
Рэйчел отводит меня в сторонку и благодарит за то, что я согласилась взвалить тяжкий груз на свои плечи. Я радуюсь – ну как же, я ее золотая девочка, она верит в меня, а каждый раз, когда я чувствую, что Рэйчел верит в меня, начинаю верить в себя сама. Она еще раз напоминает мне, что Ричард особо выделил – он хочет, чтобы с ним работала я, Саманта Джеймс.
Джули ждет меня снаружи, у дверей конференц-зала.
– Неудивительно, что Гэри не сумел справиться с этим парнем. Я уверена, у тебя с ним пойдет гораздо лучше. Не могу поверить, что Рэйчел вообще сначала назначила Гэри – только время зря потеряли. Гэри такой некомпетентный. – Джули, которая всегда ищет кого-то, кто скажет ей, что это она некомпетентна. Она отирается вокруг меня, как будто мы лучшие подружки и знаем друг друга лет двадцать, держит меня под руку и обдает мои волосы горячим кофейным дыханием.
– Мне кажется, такой идиотизм устраивать эти собрания, когда еще толком не рассвело. Темно, как в заднице, у всех еще похмелье не прошло, и даже читать невозможно, потому что глаза не продерешь и вообще пока не соображаешь, – говорю я и пытаюсь аккуратно от нее освободиться.
– У тебя похмелье?
– Это просто фигура речи, Джули. Нет у меня никакого похмелья. – Ложь, ложь, ложь. Больше всего на свете мне хочется привалиться к унитазу и не отходить от него. Но от Джули вряд ли дождешься утешения.
– А… понимаю… я просто подумала, что ты, может быть, опять ходила вчера куда-нибудь повеселиться. Когда уже мы пойдем вместе? У тебя есть планы на сегодняшний вечер?
Я нравлюсь Джули, и она хочет стать моей подругой, но, как бы я ни старалась, мне не удается испытать к ней ответную симпатию. Как бы я ни ценила ее за то, что она милая идиотка, неспособная закончить школу, я не в силах выслушивать ее бессмысленные размышления и жалобы на тупые девчачьи проблемы, типа ссор с ее подругами-дебютантками и вообще трудности жизни (то есть жизни в стиле загородного клуба). Мимо проходит Дэвид, понимающе улыбается мне и иронично хмыкает.
– Я не строю планов так рано, прямо с утра. Но я тебе обязательно скажу, если что – мы непременно должны сходить и выпить по коктейлю как-нибудь.
Мы приближаемся к моему кабинету; я широко улыбаюсь, выдираю наконец свою руку и, удерживая одновременно кофе и папки с файлами, роюсь в кармане в поисках ключей. И вдруг замечаю, что дверь в кабинет открыта.
Кажется, ничего не пропало. Наверное, я просто забыла ее запереть. Может быть, я все еще пьяна. Мой айпод на месте, запутанный в провода от наушников, на стопке книг на письменном столе. Если бы кто-то заходил в кабинет, его бы там не было. Кеды в углу, там же, где я оставляю их каждое утро. Пару месяцев назад Ширли случайно оставила дверь открытой и ушла на групповой сеанс, а когда вернулась, обнаружила, что исчезли все батарейки из всех ее электронных устройств.
28 октября, 11:00
Моя первая, ознакомительная встреча с Ричардом должна состояться уже сегодня, и последний час я прибирала в кабинете, расчищала стол и пыталась привести в порядок лицо и волосы. Я боюсь его, а такого чувства я не испытывала уже почти пятнадцать лет, с моего самого первого сеанса. Мне тогда едва исполнилось двадцать два. Никаких переживаний, подобных этому, у меня давно уже нет. Я работала с лунатиками и психопатами, дипломатами и высокопоставленными лицами, и теперь мне это совершенно безразлично. Я вообще не помню, когда последний раз была так напугана.
Мой кабинет устроен так, как и у всех, как полагается – мое кресло находится ближе к выходу, чем кресло пациента. Это делается для того, чтобы психологу было легче выбраться из комнаты, если пациент вдруг начнет вести себя агрессивно. Но у нас принято говорить, что такое расположение мебели позволяет врачу быстрее позвать скорую помощь, на случай, если она понадобится больному. Пациенты в моем кабинете ни разу не проявляли враждебность и не бросались на меня. Вообще такое обычно случается в общих помещениях. Я замечаю, что ножницы лежат слишком близко к креслу пациента, и убираю их в ящик стола. Иногда я сижу на столе, чтобы можно было смотреть в окно и притворяться, что у меня совсем другая жизнь.
Стук в дверь такой громкий и так бьет по ушам, что мои и так издерганные нервы как будто взрываются. Горло перехватывает, так что трудно издать хоть какой-то звук. Но я должна казаться спокойной, несмотря на дикий страх.
– Здравствуйте, Ричард. Проходите и садитесь. – Сама я стою и придерживаю для него дверь. Жду, пока он усядется, закрываю ее, и меня тут же накрывает приступ головокружения. Он устраивается в кресле и выкладывает на край моего стола толстенную стопку газет. – Я буду вашим психологом. Эту встречу я устроила для того, чтобы мы могли познакомиться, немного узнать друг друга и, возможно, начать работать с документами. Это необходимая часть терапии. – Произнося это, я тоже сажусь.
Ричард молчит. Вместо ответа, он берет верхнюю газету из стопки, нарочито сосредоточенно открывает ее и находит нужную ему статью. Это целое шоу. Потом он снимает шляпу. Вообще это не шляпа, а кепка, самая обычная, коричневая, с мелким рисунком в елочку. Ричард аккуратно пристраивает ее на газеты. Когда он поворачивает голову, я замечаю два маленьких круглых шрама на шее под воротником.
Я шуршу листами его незаполненной истории болезни и снова делаю первый шаг:
– Почему бы нам не начать с раздела «история семьи»? Так вы можете рассказать мне о своей семье, и нам не нужно будет сразу говорить лично о вас.
Он отворачивается от меня, складывает газету на коленях и переносит внимание на рабочих на стройке за окном.
– О’кей, значит, никакой истории семьи. Как насчет целей терапии? Не желаете рассказать, чего именно вы ждете от лечения у нас в «Туфлосе» и каких результатов вам хотелось бы достичь?
Ричард задирает брови, вздыхает и садится поудобнее, чтобы ему было лучше видно рабочих.
– О’кей, это явный ответ «нет». Ну а может быть, просто расскажете мне о себе, неофициально, все что хотите, и я таким образом получу информацию, которая мне нужна?
Он бросает на меня крайне раздраженный, неодобрительный взгляд.
– Вы хотите, чтобы я сидел здесь и говорил о себе? Как на собеседовании, когда на работу принимают?
– Что ж, если хотите, можно назвать это и так. Собеседование. Было бы отлично.
– Нет. – Решительно и грубо.
Да, прогресса у меня не больше, чем у Гэри. Похоже, мне придется повозиться с этим парнем куда больше, чем я предполагала. Я ощущаю невыносимую усталость от одной только мысли об этом.
Тяжело вздыхаю, специально в сторону Ричарда. Надеюсь, от меня воняет перегаром, блевотиной и кофе и он это учует. Пусть поймет, насколько его сопротивление выбивает меня из колеи.
28 октября, 22:01
Я сижу в вагоне и наблюдаю, как ссорится пара впереди меня. Метро битком набито людьми, снаружи очень холодно, но пассажиры нагрели воздух, и я чувствую, как под шарфом по шее сбегают капли пота. Поезд покачивается и убаюкивает меня, я будто впадаю в транс и слышу только, как женщина передо мной бубнит своему бойфренду, что с нее хватит.
Сейчас у меня кое-кто есть. Не понимаю, почему мы используем это выражение – «кто-то есть». Обычно так говорят о хомячках или котиках. Но именно так я предпочитаю называть свои отношения, потому что мне не хочется говорить «отношения». Мы… встречаемся уже довольно долгое время.
Его зовут Лукас. Теоретически он тот самый тип мужчины, за которого нужно выходить замуж. Он занимается чем-то в банковской сфере и называет это «финансы», за что мне хочется треснуть его кулаком. Он может отличить каберне от мерло и хочет, чтобы я употребляла больше танинов. У него кинг-чарльз-спаниель по кличке Маверик, что лишний раз доказывает – этот игрок абсолютно не из моей лиги. Он учился в Корнеллском университете, и еще он тщательно разделяет волосы на пробор. По утрам приглаживает их расческой с частыми зубьями, а потом проводит идеально ровную линию слева. Выбившиеся волоски с филигранной точностью возвращает на место. Я дотошна и скрупулезна, но он точно чокнутый. Всю свою обувь он держит на распорках. Для него это крайне важно – войдя в дом и сняв ботинки, первым делом вставить в них распорки, потому что они еще теплые после носки и могут легко потерять форму. Я меньше беспокоюсь о своих туфлях, чем он. У него пепельно-русые волосы, и он носит костюмы. А из кармана костюма всегда торчит кончик особого платочка, который он складывает особым образом. И еще он симпатичнее, чем я.
Лукас иногда говорит со мной о женитьбе. По мне, это просто смешно. Я не из тех девушек, которых берут замуж. Единственная причина, по которой я так долго остаюсь с Лукасом, – это мое желание его спасти. Это совершенно типичная для меня линия поведения, хотя осознала я этот факт лишь недавно. И смирилась с ним. Да, так я живу и так всегда поступаю.
В Лукасе есть все, чего так жаждут девушки: стабильность, деньги, привлекательная внешность, более чем достойное образование. Но за всем этим скрывается изломанный, болезненный, крайне неуверенный в себе маленький человечек. Именно с ним я и встречаюсь.
Мне не нужен этот образчик совершенства; я не хочу иметь дело с причесанным на пробор представителем элиты, который всегда вставляет в ботинки распорки, джентльменом – членом загородного клуба. Мне нужен крохотный несчастный щеночек, что прячется внутри его и изо всех сил притворяется другим. Я хочу найти этого щеночка, почесать ему животик, успокоить, взять его к себе, пока он болеет, а потом, когда поправится, уйти. Такой у меня план. Так я точно знаю, что никто не причинит мне боли и что меня ценят.
Я не умею ценить себя сама, поэтому мне необходимо, чтобы меня ценили другие. Как только я замечу, что колодец пересыхает, что Лукас ценит меня меньше, я исчезну из его жизни и двинусь к другому источнику. По правде говоря, мой план не работает. Он не работал с самого начала. Но сдаться я пока не готова.
31 октября, 10:25
Сегодня Ричард присутствует в моей группе, и я вдруг осознаю, что скорее играю спектакль, чем провожу сеанс терапии. Он сидит рядом с относительно недавно поступившим пациентом, перцем по имени Девон. Девон одного возраста со мной, и он невероятно стильный. Сегодня на нем джинсы от дорогого дизайнера, специально потертые черные кожаные сапоги со слишком длинными носами (они похожи на ковбойские сапоги мультяшных героев), серая спортивная майка и очень симпатичная кожаная байкерская куртка а-ля «плохой парень». Однако это не простая куртка, какую можно купить в универмаге за девятьсот долларов и какие на самом деле и носят ребята, что разъезжают на мотоциклах. Его длинные дреды собраны в толстый хвост. Если бы я повстречалась с Девоном при других обстоятельствах, я бы сочла его очень сексуальным. Ну, кроме сапог.
Девону поставили диагноз «шизофрения дезорганизованного типа, или гебефрения». Необычный случай для нашего заведения; большинство пациентов с шизофренией страдают от параноидального типа. Обыкновенные люди называют это параноидальная шизофрения, но, находясь в этих стенах, я должна называть вещи правильно.
Он сидит на краешке стула, причудливо переплетя ноги, постоянно сцепляет пальцы и выворачивает руки. Несколько раз за сегодняшний сеанс мне казалось, что он вот-вот свалится.
После нескольких сеансов Девон начал стоять в такой позиции. Он опирался на согнутую ногу, поразительным образом обернув вокруг нее другую, вытягивал перед собой руки и, наконец, начинал делать движения, похожие на какое-то восточное боевое искусство. Так, стоя, он боролся с невидимым врагом, медленно, сосредоточенно меняя положение рук, как в тайчи. Это и завораживало, и отвлекало меня одновременно.
Сейчас я вижу, как Девон снова начинает выворачиваться и принимать свои странные позы, и внутренне пугаюсь, думая, как это может повлиять на других пациентов, особенно на Ричарда. Я все время как бы наблюдаю за ним одним глазом, в то же время не выпуская из поля зрения всю группу. Ричард держится особняком; он устроился так, чтобы между ним и ближайшим пациентом было несколько стульев. Однако он время от времени отрывается от газеты, оглядывая всех поверх очков, и замечает Девона. Прочих пациентов поведение Девона начинает беспокоить; некоторые даже проявляют себя совсем уж с отвратительной стороны и говорят, что не хотят находиться рядом с этим чудиком. И даже требуют, чтобы я выгнала его из группы.
– Здесь никого не выгоняют, Барри. Успокойся и относись к этому терпимее. – Сидя на столе, я чуть откидываюсь назад.
– Не, народ, этот чувак чудик, реально, я не хочу, чтобы этот чокнутый действовал мне на нервы. Он отвлекает группу! Его тут быть не должно! – Барри как бы исполняет роль миротворца, в то время как на самом деле, наоборот, поднимает смуту. Он часто выступает за справедливость и будто бы защищает интересы членов группы, и это всегда вызывает раздоры. Я думаю, Барри устраивает сцены, чтобы не слышать голосов в голове.
– Барри. Поскольку ты решил назначить себя выразителем общих интересов, почему бы нам не последовать за тобой и не поговорить о том, что такое клеймо. – Все ненавидят, когда я так делаю.
– О-о-о-о-о, мисс Сэм, можно нет? Типа я устал разговаривать об этих клеймов.
– Клеймах.
– Да называйте как хотите. Мне надоело.
– Так. Прежде всего, что такое клеймо? Что это означает?
– Клеймо – это вроде предрассудков, так? Когда ты ведешь себя с кем-то как говнюк из-за того, как они выглядят, или они черные, или что-то в этом роде, так? – Это Люси. Ей семнадцать. Она носит суперсексуальные наряды и слишком сильно красится. У Люси биполярное аффективное расстройство[2]. Иногда она проявляет себя такой умницей, что мне хочется немедленно отправить ее в Гарвард, а в иные дни не может даже назвать свое имя.
– Правильно, Люси. Молодец. Клеймо действительно очень похоже на предрассудки. Это негативное отношение к члену группы, например, которое основано только на том, что он – член группы. Кто-нибудь из вас проходил через что-то подобное?
Иногда я чувствую себя скорее учителем, чем кем-то еще. Когда в группе происходит интересная дискуссия, я обычно начинаю постукивать каблуками по ножкам стола. По идее я не должна сидеть на столе; это еще одно правило, которое придумано для того, чтобы четче отделить «нас» от «них». Но чем дольше я здесь работаю, тем больше мне плевать на разделение.
Все поднимают руки – на всех в прошлом ставили клеймо. Даже Ричард. Девон – единственный, кто никак не реагирует. Я обращаю на это внимание.
– Девон, ты видишь, все подняли руки. С тобой в прошлом не случалось ничего такого? – Я хочу вовлечь его, а не оттолкнуть, но боюсь, впечатление у него другое.
Девон смотрит на меня и, кажется, что-то произносит.
– Извини, Девон, я тебя отсюда совсем не слышу. Можешь повторить, что ты сказал?
Он снова что-то отвечает, на сей раз оторвав подбородок от шеи, наверное, чтобы мне было лучше слышно.
– Прости, я опять не поняла.
– Он говорит, что старается держаться подальше от других людей, – говорит Стефан.
– Спасибо, Стефан. Иногда из-за шума здесь действительно трудно что-то расслышать. Значит, Девон, ты держишься в стороне от людей? Это из-за того, чтобы на тебе не поставили клеймо?
Он кивает.
– Это больно, когда на тебе ставят клеймо, правда?
Снова кивок.
Все тоже начинают кивать.
– Как вы считаете, что другие люди думают о тех, кто страдает психическими расстройствами? Как называли вас? Какое на вас ставили клеймо?
– Они говорят, что мы сумасшедшие. – Пока Стефан произносит это, я выписываю слово на доску позади.
– Ленивые. Необразованные. Глупые. – Барри.
– А еще говорят, что мы – обуза для общества. Типа, мы не приносим Америке никакой пользы. – Опять Люси.
– Опасные. – Я на секунду изумляюсь, когда слышу, кто это произносит. Адель. Ей лет сто. Она худенькая и хрупкая, как все старушки в таком возрасте, и я не могу себе представить, чтобы кто-то назвал ее опасной. Но потом вспоминаю, что однажды, в период, когда Адель не принимала лекарства, она воткнула ножницы в грудь ка кому-то человеку.
– Грязные. Отвратительные. Люди не хотят даже стоять рядом с нами. Даже мы сами не хотим стоять рядом друг с другом. – Дэррил.
Дэррил страдает от травматического повреждения мозга. Результат выстрела в голову, который он же и произвел. Дэррил все еще борется с депрессией, но клянется, что больше никогда не совершит попытки самоубийства. После этого случая жена ушла от него, потому что не могла смотреть на его изуродованное лицо.
– Хорошо, я скажу это: они говорят, что мы чудики. – Это Барри. Пытается сделать поправку. Он смотрит на Девона. – Извини, чувак. Не надо было мне называть тебя чудиком. Тебе это на фиг не сдалось, когда другие и так уже тебя обзывают.
Девон кивает.
– Спасибо тебе за это, Барри. Ты поступил очень хорошо. Что еще, ребята? Как еще люди клеймили вас из-за ваших заболеваний?
Я вижу, что Ричард смотрит на Барри, и в его взгляде читается одобрение. Кажется, он доволен, что тот извинился.
– Люди думают, что могут этим от нас заразиться. Вроде как переспишь с кем-то и подцепишь биполярное расстройство. – Люси.
– А кто-нибудь знает, правда это или нет? – Я стараюсь учить их, но так, чтобы они не чувствовали себя детьми в школе. Я смотрю на Ричарда, но он уже отвлекся и размышляет о чем-то своем.
– Не, можно подцепить СПИД или всякое другое дерьмо, но сумасшествием не заразишься. – Барри.
Выписывая слова на доску, я ощущаю, как меня охватывает чувство вины. Я сама верила во все это. Когда-то это могла бы сказать и я. Мне одновременно грустно, и хочется придумать хоть что-то в свою защиту.
Сеанс подходит к концу, я жду, пока все выйдут в коридор, потом прохожу по комнате, расставляю стулья полукругом, как было вначале, и подбираю мусор, оставленный пациентами. Приближаясь к стулу Девона, который он втиснул в самый угол, замечаю что-то маленькое и коричневатое, вроде кусочков облупившейся краски или конфетти. Они разбросаны на сиденье. Я сметаю их на пол и иду дальше.
После этого я стираю с доски слова, что написала, и произношу их про себя, думая о том, сколько раз я чувствовала себя заклейменной. Какие из них люди говорят обо мне? Уже не в первый раз я задаю себе вопрос – а не подхожу ли я под это описание?
1 ноября, 11:11
Я дала Ричарду расписание наших с ним еженедельных сеансов, а также нескольких групповых сеансов терапии, которые проводятся почти каждый день. Пациенты, как правило, хорошо реагируют на четко структурированный день, и, кроме того, мне хочется, чтобы он был занят, пока я буду подбирать к нему ключ. Сегодня утром у нас индивидуальный вторничный сеанс в 11 часов. Он возится и ерзает в кресле для пациентов, устраиваясь поудобнее. Вообще он слишком большой для моего кабинета. Он выглядит как кукла, которая в два раза больше кукольного домика. Раскачиваясь взад-вперед в кресле, он держит под мышкой свою обычную стопку газет. Когда Ричард наконец находит устраивающее его положение, он небрежно бросает газеты на край моего стола и неловко опирается на них локтем. Его левая рука согнута под странным углом, а запястье неподвижно, и это скорее похоже на протез, чем на настоящую конечность.
– Итак, теперь, когда у нас с вами есть расписание, я бы хотела, чтобы мы снова постарались поработать с историей болезни. Не могли бы вы уделить мне несколько минут внимания, чтобы наконец сдвинуть этот камень с места? – позитивно, с надеждой, может быть, даже энергично говорю я.
– Что это? Опять тесты? – спрашивает Ричард.
Кепку он не снял, и меня это страшно раздражает – мог бы проявить вежливость и сидеть без головного убора. Вдруг я понимаю – лучший способ подавить свой страх – это заменить его на злость, и тут же начинаю накручивать себя и думать, какой он невежа. Кстати, это все та же твидовая кепка, типа тех, что ввели в моду R&B-группы в девяностых.
– Не буду я больше заниматься с никакими бумагами. – У него спокойный, очень мужественный голос. Он не спорит со мной, просто объявляет о своем решении.
– Ни с какими, – автоматически поправляю я, листая файл и стараясь не встречаться с ним глазами.
– Слушайте, я здесь потому, что это мой выбор, и я знаю, что не обязан заполнять никакие анкеты, у меня есть право ничего не говорить о своей личной жизни, и я не обязан отвечать на ваши вопросы, а если вы захотите меня выкинуть – что ж, хорошо. Я знаю свои права. Я слышал, что вы здесь лучший психолог, и не думал даже, что вы начнете меня донимать, как тот парень, к которому меня посылали сначала. – Ричард крутит руки, как будто хочет стереть что-то с больших пальцев. Он дерганый и нервный.
– Вам действительно не обязательно делать то, чего вы не хотите. Но вам же будет труднее, если вы станете меня избегать. Потому что я – тот человек, с которым вам придется иметь дело все время вашего нахождения в этом учреждении. Я здесь, чтобы помочь вам и сделать ваше пребывание тут как можно более безболезненным. Если вам что-то понадобится, я – тот человек, к которому вы обратитесь. Но я не смогу помочь вам до тех пор, пока вы не поможете мне. – Моя речь отрепетирована заранее.
Мне кажется, что метод «маскировка страха с помощью злости и раздражения» работает. Ричард молчит. Я в первый раз смотрю ему в глаза и замечаю, что они голубые. Почему-то этот факт становится для меня полной неожиданностью. И он постоянно их щурит. Непонятно – или потому, что старается выглядеть угрожающе, или у него просто повышенная чувствительность к свету. Его радужки светло-голубые, намного светлее моих.
Он расцепляет пальцы, и я вижу, что у него очень ухоженные ногти. В принципе это примечательно лишь потому, что в этом Ричард не похож на всех других пациентов. Даже женщины, которые тратят на «фантазийный» маникюр последние деньги, позволяют ногтям отрастать до такой степени, что они начинают загибаться, и из-под ярко-зеленого, с блестками лака месячной давности выглядывают четверть дюйма собственного, ненакрашенного ногтя.
Он все еще молчит, и я не могу понять, по какой причине: то ли я его напугала, то ли он готовится броситься на меня и содрать с меня лицо. Что на меня нашло? Откуда я взяла эту храбрость и нахальство? Не представляю.
– Давайте начнем с чего-нибудь полегче. – Я надеваю очки и беру ручку. – Имя?
Мне хочется, чтобы он сам назвал свою фамилию. Боюсь, что он оскорбится, если я произнесу ее неправильно. Макхью. Не знаю, звучит ли там буква «Х», или нет, или существует еще какое-нибудь нетрадиционное произношение.
– Ричард Макью. – Так, больше похоже на «Макью». О’кей, разобрались хотя бы с этим. – Мне звать вас «доктор» или как?
– Можете называть меня доктор Джеймс, но я предпочитаю просто Сэм.
– А почему вам больше нравится Сэм?
– Ну, если честно, Ричард, просто потому, что «Сэм» легче выкрикнуть, когда кто-то зовет меня издалека. А почему вы используете полное имя? У Ричарда есть столько чудесных уменьшительных. – Не слишком ли я надоедлива? Или дерзка? Или беспечна? Из меня будто выкачали всю энергию. Нет сил собраться и вести себя как профессионал – или хотя бы притвориться им. В голове у меня какая-то каша, и мне кажется, что на этом сеансе я невольно предаю свое истинное «я», но и не могу надеть соответствующую маску.
– Мне нравится Ричард. Никто и никогда не зовет меня Дик[3].
– О’кей, сэр.
– Нет, я не просил называть меня «сэр». Я сказал – Ричард.
– О’кей, Ричард. – Никогда не встречалась с подобной реакцией. Кому не по вкусу, когда к нему обращаются «сэр»? – Продолжаем. Дата рождения?
– Четырнадцатое июля тысяча девятьсот шестидесятого. Это был четверг.
– Серьезно? – Мне становится интересно. – А откуда вы знаете?
– Мать мне сказала. Что это был худший день в ее жизни, и поэтому она теперь ненавидит четверги.
Поверить не могу, что мы куда-то двигаемся. Сейчас нужно действовать очень осторожно, чтобы черепаха снова не спряталась в свой панцирь.
– Я люблю четверги. – «Это очень доброжелательный ответ, пожалуйста, только не захлопывайся. Пожалуйста, откройся мне». – И где вы родились, Ричард?
– В Куинсе.
– Ага, значит, здесь, в Нью-Йорке. Братья? Сестры?
– Нет. – Мы вернулись к односложным ответам.
– История семьи…
– Нет.
– Это не вопрос. Просто мы подошли к секции, касающейся истории вашей семьи, вашего происхо…
– Нет. Я не буду отвечать на вопросы о своей семье, – снова обрывает он.
– Хорошо, я прекрасно понимаю, что вам некомфортно отвечать, но, видите ли, это необходимо для вашего лечения, и…
– Нет. Я сказал – нет. И больше я ничего не буду говорить. – Все кончено. Черепаха забралась обратно в панцирь.
– Понятно. Вы не хотите сейчас этим заниматься. Мы можем вернуться к этому в другой…
Он перебивает меня до того, как я успеваю закончить предложение.
– У нас все? Хочу уйти. – Еще толком не договорив, он уже встает, открывает дверь и исчезает в коридоре.
Я остаюсь на месте и оцепенело пялюсь на книжные полки, а не на стол, потому что Ричард сбежал так стремительно, что по пути задел мое кресло и развернул его в другую сторону. Что это было? Что случилось? Что я такого сказала? Как потеряла его?
2 ноября, 22:53
Мы с Лукасом собираемся встретиться и пропустить по бокальчику. Вместе мы не живем, но проводим друг у друга столько времени, что я иногда надеваю его одежду, вместо того чтобы постирать собственную. Быть с Лукасом – это все равно что быть с двумя разными людьми, и с одним из них я не могу появляться на публике. Подсохшие ранки у меня на голове чешутся и слегка побаливают, но я все равно иду к нему. И все еще терплю такое обращение.
В девяноста процентах случаев мы ходим в один и тот же бар и видимся там с одними и теми же людьми. Некоторые из них – приятели; другие – просто завсегдатаи заведения, которые постепенно превратились в почти приятелей. Иногда в бар заходит Дэвид, тот парень с моей работы. Но сегодня мы с Лукасом намереваемся отправиться в другое место – он сказал, что устал и у него нет сил на вечеринку.
«Другим местом» оказывается «Флатирон лаунж» на Девятнадцатой улице. Коктейли там действительно интересные и дорогие, а еще там темно, и неудобные сиденья, а официантки такие сексуальные, что я чувствую неуверенность в себе. Но Лукас невероятно хорош в мерцании свечей, и я стараюсь успокоить себя и не думать о том, что он привел меня сюда, чтобы сообщить о нашем разрыве.
– Ты сегодня прекрасно выглядишь, милая. – Голос Лукаса звучит так, что я представляю себе рев дизельного двигателя, покрытого слоем растаявшего сливочного масла. Да, у меня богатое воображение.
– Спасибо, мой дорогой. Я кристально трезва уже невероятное количество часов, видимо, этим все и объясняется. – Мне трудно сохранять серьезность, когда я нервничаю. И хотя Лукас – только мой проект, в мои планы не входит, чтобы он порвал со мной, так же как и окончание отношений сейчас. Так что я надеюсь, что эта торжественная обстановка означает что-то другое. И эти мысли неизбежно напоминают мне, почему я на самом деле с Лукасом и почему я продолжаю со всем мириться.
– Сегодня у меня просто не хватит энергии на то, чтобы общаться со всеми этими ребятами, понимаешь? Каждый вечер ходить в «Никс-бар» – это очень утомительно. – В действительности он выглядит полным сил, и у него вполне цветущий вид.
– Да, понимаю.
Я, конечно, вру. По правде говоря, мне очень хочется сидеть сейчас в «Никс-баре», потому что меня там все знают. Знают достаточно хорошо, чтобы считать привлекательной, сказочно обаятельной и все такое. И никто не догадывается, какое барахло и я сама, и моя жизнь. Именно в таком окружении мне нравится находиться. Когда все верят в то, что это не представление, а все по-настоящему, когда умные люди смотрят на нас с Лукасом и видят перед собой чудесную сплоченную пару, рациональных, нормальных, здоровых взрослых. Тогда я и сама в это верю. Мне очень нужно в это верить. В то шоу, что мы разыгрываем, в обман, в полное дерьмо, где мы на самом деле болтаемся, – мне необходимо, чтобы все вокруг принимали это за чистую монету. Необходимо убедить других, что со мной все в порядке. Может быть, в этом случае я тоже начну так думать. Вот почему я это терплю.
Сейчас я гляжу на всех этих длинноногих европейских красоток и чувствую себя все меньше и уродливее, и все больше нуждаюсь в подкреплении самооценки алкоголем. Но я пью что-то сладкое, со взбитым яичным белком, и оно явно не годится для моей цели.
– Еще я должен признаться. Это не единственная причина, почему мне сегодня захотелось пойти туда, где потише. – Лукас смотрит на меня, и, будь это любой другой парень, я назвала бы такой взгляд сексуальным. Однако Лукас в моих глазах выглядит комично. Он очень хорош собой, но я вся на нервах, и он кажется мне похожим на мультяшного героя.
– Да? Что за причина? – Я ощущаю, что между грудей у меня скатываются противные капельки пота.
– Я хотел поговорить с тобой о том, что нам стоит съехаться и жить вместе.
Он наклоняется ко мне еще ближе, его локоть занимает весь коктейльный столик, и я вдруг осознаю, что бар слишком маленький, а огни начинают пульсировать. У меня кружится голова, меня подташнивает, и хочется поставить ногу на пол, хотя мои ноги и так стоят на полу. Музыка слишком громкая, и кто-то спрашивает меня, не хочу ли я повторить коктейль, и я вот-вот потеряю сознание. Лукас протягивает руку, чтобы поддержать меня; ему знакомо это мое выражение лица.
– Я на тебя не давлю, – врет он. – Я бы просто хотел, чтобы мы снова это обсудили. Да, мне известно, что тебе не нравится идея совместного проживания и ты хочешь быть независимой. Но моя квартира слишком велика для одного, так что там у тебя будет предостаточно места. – Он откидывается назад и отпускает меня.
Я машу бармену, и он кивком посылает официантку к нашему столику. Все ее семь футов приближаются ко мне, нависают, и я едва выдавливаю из себя заказ: четыре шота[4], «Патрон Сильвер»[5]. Лукас бросает на меня снисходительный взгляд, как это обычно бывает в местах вроде этого. Как будто он не пьет каждый божий день, и вообще это все я. И в заведениях подобного толка ему и вправду удается произвести такое впечатление. А Лукас расцветает, когда у него получается произвести нужное впечатление.
– Мне нравится, как складываются наши отношения, Сэм. И я думаю, из них действительно может получиться что-то серьезное.
– А мне все нравится именно так, как есть сейчас, Лукас. Я имею в виду, между нами. И мне не кажется, что нам следует что-нибудь менять.
– Почему ты так боишься обязательств и привязанности? – Он скрещивает руки на груди – принимает защитную позу. Люди, как правило, никогда не говорят Лукасу «нет». Это я говорю ему нет.
– Я не боюсь обязательств. И привязана ко всем, кто присутствует в моей жизни, настолько, насколько это возможно. Я очень привязана к тебе, разве нет? Так почему я не могу оставаться независимой? – Может быть, я говорю громче, чем следовало бы.
– Можешь сколько угодно сохранять свою независимость и при этом жить в моей квартире. Одно совершенно не исключает другого. – Лукас уже понимает, что его заход ни к чему не приведет. Так оно обычно и бывает.
Приносят шоты, и я успеваю опрокинуть два еще до того, как один из нас скажет «на здоровье». Лукас аккуратно поднимает третий шот, я хватаюсь за четвертый, и он произносит тот же самый дурацкий тост, что и каждый раз: «За то, чтобы быть лучшим во всем и всегда».
Когда он склоняется ко мне, чтобы чокнуться, я делаю вид, что не замечаю этого. Я считаю тосты нелепыми и помпезными. Моментально проглотив свой третий шот, я замечаю, что к столу, идеально рассчитав время, снова подходит официантка с салфетками и каким-то дорогим и редким сортом пива «только для знатоков», и думаю, а не живет ли Лукас в параллельной вселенной.
3 ноября, 8:31
Ричард сидит в моем кабинете. Когда я пришла утром, он уже ждал меня у дверей. Что-то очень его беспокоит. Я еще только надеваю свою рабочую маску и пахну утренними сигаретами и совсем не уверена, что готова справиться с очевидно назревшим кризисом.
– Это… я не буду больше ходить к ней на сеансы, – произносит он.
– Ричард… – в изнеможении выдыхаю я. Я устала, и у меня адское, абсолютно адское похмелье. – Почему вы не хотите посещать групповые сеансы Джули?
– Да она вообще не понимает, что говорит! Она сообщает мне, что, если я буду есть свеклу, мое дерьмо станет красным. Какое мне дело до свеклы? Я ее не ем. Здесь нам свеклу не дают, так где еще мне ее съесть? И мне ни разу не нужно, чтобы эта женщина рассказывала мне, какого цвета дерьмо. Короче, я не буду ходить на ее сеансы. Ни за что. Дайте мне что-нибудь другое.
– Это занятия, где рассказывают о правильном питании. В принципе о питании. Поэтому, конечно, там поднимают темы вроде этой.
В ответ упрямо задранные брови.
– Ладно, хорошо. Какие сеансы вы хотели бы посещать? С кем вы можете сосуществовать мирно?
– А что вы преподаете? В смысле, в это же время какой у вас сеанс?
– Групповой сеанс, который я провожу в это время, вам не подходит. У нас тут много самых разных пациентов, и некоторым из них требуется особая терапия. Вот этот сеанс как раз для них.
– А у меня может быть свободное время? Или могу я провести его в компьютерной комнате?
– Что ж, полагаю, мы должны поговорить о том, каких целей здесь вы желали бы добиться в плане лечения, и решить, как вам лучше всего провести эти часы.
– Мои цели? Чего я уж точно не желаю, так это знать что-то о свекле и дерьме.
– Фекалии, Ричард. Или кал. Не нужно говорить «дерьмо». – Я чувствую, что проигрываю, но кто тут на самом деле подсчитывает набранные очки?
Ричард откинулся на спинку кресла и не скрестил, а как-то перекрутил руки на груди. Он упорно смотрит в окно.
– Вы же не хотите, чтобы я устроил сцену и заорал на Джули на сеансе?
– Верно, не хочу. Но мне кажется, что вы разумный взрослый человек, способный контролировать себя и уважать других. Если эти сеансы вам никак не помогают, я уберу их из расписания. – Я сажусь за стол и роюсь в ящиках в поисках истории болезни Ричарда. – Что нам нужно сделать – так это вместе обсудить и выяснить, чего вы хотите достичь в результате лечения. И это предусматривает ответы на вопросы, чтобы оценить ваше психологическое состояние и все остальное. – Я трясу перед ним пустыми страницами. – И тогда я смогу подобрать для вас более подходящие групповые сеансы, и это поможет вам добиться намеченных результатов.
– Опять цели и результаты.
– Да. Большинство пациентов «Туфлоса» стремятся к успешному излечению.
– Ладно.
– Ладно? – переспрашиваю я. Голова болит так, что глаза готовы вывалиться из глазниц. Все, чего я хочу, – это прикрыть их и лечь на пол. – Займемся этим сейчас? Обсудим ваши цели?
– Я подумаю над тем, чего жду от времени, что тут сижу.
С этими словами Ричард выходит. Я понимаю, что у меня снова ничего не получилось и я лишь позволила Ричарду перехватить инициативу и начать доминировать. Теперь, пока будет «размышлять», он не обязан посещать никакие сеансы, в том числе назначенные, и я нисколько не приблизилась к тому, чтобы заполнить наконец историю болезни, и к тому же понятия не имею, что этот человек вообще здесь делает. Я глотаю две таблетки обезболивающего, запивая их большим глотком кофе, и готовлюсь встретиться с новым днем.
Прежде чем лекарство успевает подействовать, звонит телефон. Это Дэвид.
– Доброе утро, мой лучик утреннего света. – У него вполне счастливый, трезвый голос.
– Доброе утро. Пожалуйста, пусть будет так, что тебе ничего от меня не надо. Я умираю от похмелья.
– О, какая удивительная перемена. Все другие дни так не похожи на этот. Это ты стащила мои таблетки?
– Да. Ты поэтому звонишь? – Одной рукой я тру переносицу, а другой приглушаю звук в телефоне.
– Нет. Я звоню потому, что сегодня не захватил с собой ничего на ланч и хочу позвать тебя в это новое местечко на Риверсайд.
– Ты хочешь, чтобы я пешком дошла до Риверсайд-Драйв?
– Глупый вопрос, да?
– Да. Очень, очень глупый. Но можешь занести мне сэндвич, когда вернешься.
Я улыбаюсь. Не знаю, что бы я делала, если бы у меня не было Дэвида. С ним всегда можно просто потрепаться о всяком дерьме.
6 ноября, 18:14
Я сижу на крыше дома Лукаса вместе с Мавериком. Маверик одет в кашемировый свитер. Мы ждем, когда Лукас вернется с бутылкой вина, о которой он говорил раньше. Ему хотелось подняться на крышу и полюбоваться закатом до того, как часы переведут на зимнее время и город станет погружаться во тьму уже в четыре вечера. Сегодня воскресенье, и кажется, у многих жителей дома возникла точно такая же идея. Аккуратно подстриженные зеленые изгороди отделяют нашу часть крыши от других, но я то и дело вижу, как то там, то здесь к небу поднимаются облачка сигаретного дыма.
Кругом возвышаются большие обогреватели для открытого воздуха, похожие на дилдо в шапках. Мы с Мавериком как раз сидим возле одного из них. Он устроился у меня на коленях, на огромном оранжевом шерстяном пледе с большой вышитой буквой «Н» в уголке. Лукас настоял на том, чтобы я захватила его с собой. Если бы у меня был плед от «Эрмес», я бы, скорее всего, вообще побоялась им пользоваться, чтобы не испортить – не говоря уже о том, чтобы вытащить его из дома туда, где может быть грязно и пыльно.
Из-за угла, от лифта, появляется Лукас. В руках он держит хрустальный декантер с бордовой жидкостью и два сияющих, безупречных бокала. Маверик не обращает на него никакого внимания и лишь уютнее зарывается носом в плед. Лукас устраивает небольшое шоу, картинно разгоняя дым, когда он проходит мимо курящей парочки. Как будто только ему одному позволено отравлять свои кристально чистые легкие.
– Вот то вино, о котором я тебе говорил за ужином на днях. Я думал о нем, и мне кажется, сегодняшний вечер идеально подходит для того, чтобы им насладиться.
– Звучит неплохо. – Я смахиваю с лица лезущие в глаза волосы и смотрю, как Лукас наливает в каждый бокал примерно по три глотка вина. Один он передает мне, а сам усаживается на стул, откидывается на спинку, кладет ноги на стол и погружает нос в другой бокал. Он закрывает глаза, делает глубокий вдох и велит мне сделать то же самое.
– Что ты чувствуешь? – спрашивает Лукас.
Я тоже сую нос в бокал и слегка покручиваю его в пальцах – Лукас показывал мне, как это делается. Пахнет вином. Это все, что я чувствую.
– Кожа, – говорю я. Я подслушала это у него же – так он иногда отзывается о красных винах. Потом вытаскиваю сигарету и сжимаю ее зубами. – И табак.
– Хорошо. Что еще?
Он действительно пребывает в иной вселенной, в претенциозном мире ценителей вин, где не существует такого понятия, как просто хлопнуть бокальчик. Там не пьют. Там получают наслаждение. Это серьезный процесс, требующий сосредоточенности и полного погружения в собственные ощущения. Я закуриваю сигарету. Лукас слышит скрежет зажигалки, немедленно распахивает глаза, снимает ноги со стола и в мгновение ока выхватывает сигарету у меня изо рта. Фильтр прилип к моим пересохшим губам, и вместе с сигаретой он отдирает кусочек кожи.
– Нельзя курить, когда ты пьешь марго восемьдесят шестого года! Ты же полностью убиваешь удовольствие! И для себя, и для меня! Господи, Сэм! Приди в себя, ради всего святого!
Он ругает меня так, словно я – глупый, вздорный ребенок, который не желает слушаться старших. Я съеживаюсь. Лукас смотрит на меня с разочарованием и презрением, и я ощущаю, что проваливаюсь в пустоту, в бездну, где ничего нет. Когда он не одобряет мои действия, мне кажется, что он становится огромным-преогромным, а я – совсем крохотной и незначительной. Он был так мил со мной сегодня, и надо же мне было все разрушить и изгадить.
– Прости, ты прав, конечно. Какие еще ноты там присутствуют?
Я облизываю кровоточащую губу, снова подношу к носу бокал и нюхаю вино. Но теперь все, что я чувствую, – это металлический привкус крови во рту, и, когда я делаю глоток, губу ужасно щиплет. Маверик чует мое напряжение и начинает беспокоиться. Он тревожно обнюхивает мой подбородок и рот и неловко пытается снова улечься мне на колени. Стараясь придержать его маленькие лапки, я случайно наклоняю бокал, и маленькая капелька вина падает на оранжевый плед. Мне кажется, что это происходит очень медленно, и я пытаюсь одновременно прижать к себе Маверика – его лапы скользят на гладкой кашемировой ткани – и перехватить каплю на лету. Мои уши горят, в них стоит гул, и я беспомощно наблюдаю, как марго восемьдесят шестого года расплывается прямо на букве «Н». Я поднимаю взгляд и вижу, что Лукас тоже наблюдает за этой сценой. И без того разозленный, он с досадой роняет голову на грудь. Я не успеваю даже пробормотать извинения и промокнуть маленькое пятнышко рукавом свитера, как Лукас хватает декантер и уходит. Маверик слизывает вино. Я яростно оттираю его пальцами, но все бесполезно. Пятнышко еле заметное, но я знаю, что для Лукаса плед безнадежно испорчен. Я его испортила.
Я складываю плед так, как любит Лукас, засовываю его под мышку, беру сигареты и бокал в одну руку, а поводок Маверика в другую. Сердце бьется не в груди, а где-то в горле. Я отодвигаю стулья, ставлю их так, как они стояли, и собираюсь с духом, чтобы спуститься вниз и встретиться с Лукасом лицом к лицу. У него был идеальный план – мы пьем его идеальное вино, любуемся его идеальным закатом, а его идеальная собака спокойно сидит на его идеальном пледе, – а я все испортила. Не нужно было мне закуривать сигарету. Не нужно было проливать вино.
Я нажимаю кнопку лифта, и мой желудок скручивается в узел. Вхожу в кабину – она вся отделана зеркалами – и вижу страх на своем лице. Маверик присел мне на ногу; пока мы спускаемся, он не сводит с меня глаз. Адреналин стучит у меня в висках, пока мы идем по коридору к квартире Лукаса. И тут, перед дверью, я вижу, что на полу валяется моя сумка. Все ее содержимое рассыпано по ковру. Это более чем очевидное предложение выметаться. Я нагибаюсь, запихиваю свои вещи обратно, пристегиваю поводок Маверика к дверной ручке и осторожно ставлю на пол бокал. На секунду мне становится страшно, что Маверик захочет полакать вино и перевернет бокал, поэтому я залпом допиваю марго и возвращаю его обратно. И вкус у вина, надо сказать, совершенно обычный.
В сумке я замечаю пачку клейких листочков, с приставшими к липкой полоске ворсинками и табачными крошками. Нахожу в боковом кармане ручку с логотипом «Туфлоса» и пишу на верхнем листочке: «Сожалею, что испортила тебе вечер». Он грязноватый и закурчавился по краям. Потом отдираю записку и прилепляю ее к двери. Я глажу Маверика, целую его мордочку и чувствую, что на глаза набегают первые слезинки. Такое унижение все же лучше, утешаю я себя. Если бы Лукас оставил дверь открытой или пригласил меня войти, мне бы потребовалась потом пара недель, чтобы прийти в себя.
8 ноября, 11:03
Сегодня вторник, 11 часов, и Ричард должен прийти, чтобы просидеть час в моем кабинете. До сих пор на сеансах он не говорит практически ни слова и, только когда я прошу его сосредоточиться и поработать с опросниками, иногда выдавливает из себя что-то односложное или сердито отказывается отвечать. Я все еще побаиваюсь его, но уже меньше. Я пытаюсь показать Рэйчел, что могу справиться с Ричардом, что я – единственный психолог, способный пробиться сквозь стену, которую он построил, и в конце концов помочь ему, дать то, за чем он пришел. Мне нужно чувствовать ее постоянное одобрение, «получать пятерки». Это поддерживает меня на плаву.
Несмотря на то что я не хочу, чтобы день пропал зря, мои мысли этим утром где-то далеко. Я то и дело проигрываю в голове все, что случилось вчера вечером и как все могло сложиться иначе. И подумываю о том, чтобы на сегодня оставить попытки раскачать Ричарда ради еще пары ответов на вопросы. Пока что я достигла не большего прогресса, чем все мои предшественники, но сейчас просто не в силах биться над решением этой задачи.
Я едва замечаю, как Ричард входит в кабинет и садится вместе со своей неизменной стопкой газет. На сей раз он снимает кепку и, как обычно, осторожно кладет ее на газеты. Иногда он надевает твидовую кепку, иногда – обычную серую. Кажется, он тоже немного ко мне привык и в моем присутствии чувствует себя чуть свободнее. У нас уже было несколько индивидуальных и несколько групповых сеансов. Порой он даже говорит мне «доброе утро». Но сегодня я вряд ли услышала бы его, если бы он поздоровался.
Через некоторое время он первый нарушает молчание:
– Вы сегодня другая.
– Нет, сегодня я абсолютно та же. Обычная Сэм, скучная, как дождь. – Я даже не поднимаю головы.
– А почему же вы тогда постоянно читаете одну и ту же страницу? Вы не переворачиваете ее уже двадцать минут.
– Я пытаюсь сконцентрироваться.
– На чем?
Это невероятно, он все замечает. Предполагается, что это Ричард здесь сумасшедший, а я как раз умею справляться с разбредающимися мыслями и фокусироваться на деле.
– Если вы не собираетесь заполнять анкеты или обсуждать цели лечения, то, пожалуйста, читайте свои газеты и дайте мне мирно и спокойно заняться своей работой, – тихо, мягко и побежденно говорю я.
– Я еще ни разу не видел вас мирной и спокойной.
«Да кто ты такой, мой психотерапевт? Ты никогда не увидишь меня спокойной, Ричард, так что лучше не смотри».
Мы продолжаем игнорировать друг друга. Я сижу и молча думаю, что же делаю со своей жизнью. Ричард вертится и ерзает в кресле, ему неудобно. Он вытягивает перед собой свою скрюченную левую руку, как будто хочет как следует ее распрямить, и шумно пыхтит. Это меня отвлекает.
– Вас что-то беспокоит, Ричард?
– Да. Что происходит с тем парнем из группы? Ну, на сеансе, который вы недавно проводили?
– Не уверена, что нечто происходит с Девоном. А почему вы спрашиваете?
– На сеансах он все время выворачивается, как акробат. Я отвлекаюсь. И он всегда в куртке, хотя там так жарко, что можно закипеть. И оставляет везде конфетти – куда бы он ни пошел. Мне рядом с ним с ним неудобно. Как мое состояние может улучшиться в такой обстановке?
Вероятно, Ричарду неудобно скорее из-за его огромных размеров, но лучше уж слушать, как он жалуется, чем молчит.
– О’кей, и что именно вы хотите, чтобы я сделала в этом конкретном случае?
– Не знаю. Вы тут мозгоправ, не я. – Он пренебрежительно машет рукой.
– Что ж, это скорее административная проблема. Или, может, даже проблема надлежащей уборки. Я могу попросить Девона, чтобы он воздерживался от своих упражнений во время групповых сеансов. Но вы должны помнить, что наше заведение имеет дело с людьми, которые страдают психическими расстройствами, соответственно, странности и отклонения в поведении неизбежны, и мы должны их терпеть.
– В пределах разумного.
– Да, Ричард, в пределах разумного, но драка с невидимым врагом не способна никому навредить. Возможно, нам стоит поговорить о вашей способности мириться с разочарованием.
– Да нормально я с ним мирюсь. Меня просто не интересуют занятия в одной группе с парнем в кожаной куртке, который разбрасывает везде конфетти и скручивается в бублик.
– Я вас услышала. Я попробую что-нибудь сделать и, если будут новости, непременно вам сообщу. Справедливо?
Ричард задирает брови – он явно не убежден – и опять утыкается в газеты.
– И еще он воняет. Так, сообщаю на всякий случай. – Последний пинок, и Ричард закончил.
9 ноября, 10:00
Дженни сидит в кресле для пациентов и нервно комкает подол рубашки. У нее долгая история, в которой было много насилия, и теперь каждый человек, обладающий хоть какой-то властью, ассоциируется у нее с опасностью и вызывает страх. В «Туфлосе» она не очень давно и все еще оправляется от даже не моральных, а вполне физических ран.
– Как у вас с соседкой по комнате? Все нормально? – Обычно я начинаю сеанс с чего-то несерьезного и не относящегося к делу напрямую. Таким образом пациенты немного привыкают к обстановке и легче переходят к обсуждению более болезненных тем.
– Ташондра? Она хорошая. Я думаю, мы хорошие соседки. Она очень чистоплотная и аккуратная и держит все свои вещи на своей стороне. И я тоже стараюсь делать то же самое. Она здесь уже давно, все знает и помогает мне привыкнуть к людям и врачам, и все такое. И еще она дает мне пользоваться своим лосьоном.
– Рада это слышать. Ташондра и вправду очень милая. И мне приятно знать, что тебе здесь удобно и нравится комната. Как ты чувствуешь себя после детоксикации?
Дженни пришлось пройти через процедуру очистки организма, прежде чем ее приняли в «Туфлос». Она была героиновой наркоманкой и испытала на себе все ужасы синдрома отмены.
– Лучше, но все еще не очень хорошо. Раньше мне было так плохо. Словами не передать. Герыч высасывает из тебя жизнь, а когда ты не можешь получить дозу, он высасывает из тебя еще больше. Я думала, что мне никогда не полегчает. Это страшно, когда у тебя ломка. Дико страшно. – Она обхватывает руками живот и раскачивается взад-вперед.
– Да, очень страшно. И ты очень храбрая и вообще большая молодец, что решилась пройти процедуру лечения, так что теперь у тебя никогда не будет ломки. Теперь, когда физическая зависимость под контролем, мы будем посвящать больше времени обсуждению психологической и эмоциональной зависимости от наркотиков. Я немного изменила расписание твоих групповых сеансов, чтобы включить туда еще и сеансы восстановления и сеансы для больных с двойным диагнозом. Как ты считаешь, ты к этому готова?
– А что такое двойной диагноз? – спрашивает Дженни, ковыряя незаживший шрам на голове.
– Двойной диагноз – это когда человек страдает одновременно от алкогольной или наркотической зависимости и вдобавок у него какое-либо психическое заболевание или расстройство. Когда ты борешься сразу и с тем и с другим – это уникальное стечение обстоятельств и это очень трудно, так что мы стараемся оказывать таким пациентам максимальную поддержку. Делаем все, что можем.
– О’кей, вроде звучит нормально. А о чем мы будем разговаривать на наших с вами сеансах? – Все это время Дженни потягивала рукава книзу, теперь она заворачивает их, и я вижу оставшиеся следы от уколов. Темные точки покрывают ее руки начиная от локтей и заканчивая чувствительными местечками между пальцами.
– Что ж. Сегодня я хотела начать с того, чтобы ты рассказала мне немного о том, как стала употреблять наркотики. Когда это началось, что ты попробовала… Как-то так. Ты готова?
– Да, я готова. – Она делает глубокий вдох и собирает то, что осталось от ее волос, в неаккуратный узел на голове. – Я начала принимать наркотики, когда была еще совсем молодой. Очень молодой. Даже маленькой. Я еще училась в школе, и меня выкинули в десятом классе, так что мне было лет двенадцать или одиннадцать, не больше.
Мамы никогда не было дома. Она работала на двух работах, а после этого шлялась по барам, и мы с сестрой все время сидели одни. Моя сестра, Джеки, на четыре года старше. Она постоянно приглашала к себе друзей и бойфрендов, они всегда торчали у нас. Сидели в ее комнате и курили травку или сигареты или пили. И слушали музыку. А ее комнатой считался гараж.
Иногда я тоже заходила в гараж, когда она была там с друзьями. Просто сидела и пялилась на них, но не курила и ничего такого не делала. Сестра была не против. Некоторые из ее друзей хорошо ко мне относились. Был там один парень в компании, которому я нравилась, наверное. Его звали Ронни.
Однажды – не знаю, где были все остальные, наверное, болтались где-то по дому – он подошел и сел со мной. Я сидела в углу, рядом с мусорным баком. И он спросил, курила я раньше траву или нет, а я сказала, что курила, хотя это была неправда. Просто мне не хотелось, чтобы он считал меня маленькой девочкой, которая ничего не знает.
Я молча улыбаюсь и вспоминаю, как я была маленькой девочкой в компании старших ребят и врала, будто что-то там делала. А на самом деле только видела, как этим занимались старшеклассники на вечеринках.
– И вот он дал мне косячок и сказал – докажи. Я затянулась, но слишком глубоко. Я-то думала, что это как курить сигареты, а сигарету я раз уже успела попробовать. И начала кашлять, так сильно… думала, задохнусь. А потом меня дико затошнило, я поняла – сейчас вырвет, и выбежала из гаража, и меня вывернуло прямо на подъездную дорожку. Ронни вышел вслед за мной и, пока меня рвало, растирал мне спину. Он сказал, что я все сделала отлично и теперь могу пойти и посидеть с ними. – Дженни смотрит на меня и грустно, ностальгически улыбается. – Сама не знаю почему, но тот вечер я помню очень хорошо. А после этого все как будто в тумане, все смешивается. Я стала сидеть в компании каждый раз, когда они приходили, и каждый день курить травку. Сначала боялась, слышала, что наркотики – это плохо, и все такое. Но все они говорили, что это растение, оно выросло из земли, это натурально, а вредны только химические наркотики. Послушать их, так мы не делали ничего плохого, это было совершенно нормально и естественно. Ронни всегда сидел рядом со мной и гладил меня по спине и по ногам.
Иногда мне было даже неудобно, потому что он был намного старше меня, но его внимание мне очень нравилось. И кроме того, я знала, что Джеки никогда не допустит, чтобы со мной случилось что-то плохое. А потом он начал приносить герыч. И они опять сказали, что героин делают из растения, того самого, чем посыпают бублики. Из мака. И что, типа, если я ем бублики с маком и со мной ничего не случается, то все нормально, потому что это то же самое. – Дженни фыркает и качает головой. – Поверить не могу, что я всерьез думала, будто герыч и мак на бублике – одно и то же.
Она продолжает рассказывать, как Ронни перевязал ее руку резиновым жгутом, потому что ремни, которыми пользовались они сами, оказались слишком большими для ее тонкого подросткового тела. Ее история так похожа на рассказы других здешних пациентов. Дженни быстро подсела и на героин, и на Ронни, и, конечно, через некоторое время ситуация кардинально изменилась. Ронни начал требовать кое-что взамен. С Дженни работали специалисты по десенсибилизации[6], и она пересказывает все так спокойно, как будто зачитывает список покупок. Слово «изнасилование» потеряло свое страшное значение, и Дженни ровным голосом сообщает, как иногда Джеки заступалась за нее и предлагала, чтобы Ронни насиловал ее, а не двенадцатилетнюю сестру.
– Дженни, наше время на сегодня подходит к концу, так что я хотела бы остановиться и поблагодарить тебя за то, что ты нашла в себе смелость откровенно все рассказать. Думаю, стоит добавить тебе в расписание еще один групповой сеанс, для женщин, переживших сексуальное насилие. Там они вместе учатся справляться с тем, что с ними произошло. – Пока я говорю, Дженни бодро кивает.
Когда она поворачивается ко мне спиной и идет к двери, я вижу шрамы у нее на голове. Вырванные пряди волос. Следы от уколов на руках. Слава богу, алкоголь не оставляет никаких следов. Во всяком случае, меньше. Я думаю о том, как Ронни воспользовался ее беспомощностью, загнал в угол, подсадив на героин, и не дал ей убежать. Я думаю о Лукасе. И о том, удастся ли мне уйти, сохранив при этом все свои волосы.
9 ноября, 16:46
Ричард продолжает жаловаться на Девона и его куртку; его прямо заклинило на этом, и он никак не желает оставить парня в покое. Сегодня он полдня распространялся о необходимости что-то сделать с этим человеком, и его курткой, и его конфетти. В расписании сеанс не значился; Ричард просто несколько раз заявлялся ко мне в кабинет и требовал, чтобы я предприняла какие-то действия. Я направлюсь к Ширли. Ширли – психолог Девона, так что она должна что-то знать.
– Ширли, что там такое с Девоном? Я имею в виду куртку. У меня пациент, которому она не дает покоя, и он меня уже замучил. Не спрашивай почему.
– С какой курткой? – Ширли пластмассовой ложечкой ест фруктовый салат из стаканчика.
– Ты что, серьезно? Ширли! Он носит эту куртку каждый день не снимая. Старая, потертая байкерская куртка. Только не говори, что все это время ты ее не замечала. Повторяю – он надевает ее каждый божий день. И что это за конфетти, которые он везде разбрасывает? Каждый раз, когда у нас групповой сеанс, он оставляет после себя какие-то маленькие кусочки коричневой бумаги или краски, или я уж не знаю, из чего он их делает. Это ты заметила? – Я смотрю на ее кресло. Оно покрыто конфетти. И вообще всяким мусором.
– А… дерьмовая куртка.
– Что? Как ты сказала? – Я никогда не слышала, чтобы Ширли употребляла грубые слова. Для меня это все равно что увидеть, как милая, аккуратная бабулька опрокидывает шот виски. Или закуривает косячок. Что это еще за черт? – Ширли!
– Он носит эту куртку, потому что для него она как репеллент.
– Репеллент от чего? От кого?
– От людей. Это его дерьмовая куртка. Он научился этому, когда был бездомным. Он спал на улице, и к нему постоянно приставали хулиганы и изводили его. Ему нужно было как-то выживать, и поэтому он намазал спинку куртки дерьмом, чтобы от него воняло и люди к нему не лезли. – Она произносит это таким тоном, будто сообщает, что индейка готова. Ширли относится к этому совершенно равнодушно, ей все все равно. Я же готова выпрыгнуть из штанов от отвращения и изумления.
– О господи, Ширли! Так это засохшее дерьмо? Ты хочешь сказать, что эти конфетти на самом деле кучки хлопьев сухого дерьма?
Господи боже мой!
Я выскакиваю из кабинета, хлопнув дверью, и несусь в туалет. Яростно отскребая руки, я киплю от негодования. Кажется, из ноздрей у меня вот-вот повалит пар. Как вышло, что все мы каждый день убирали за Девоном дерьмо, а Ширли даже не потрудилась нас предупредить? Неудивительно, что Ричард так бесился из-за этой куртки.
Я сажусь за стол и строчу три имейла. Один – Рэйчел, с требованием конфисковать дерьмовую куртку, потому что она представляет собой гребаную биологическую опасность. Второй – главе клининговой службы, с просьбой произвести тщательную уборку всех помещений, где проводились групповые сеансы. И наконец, последний – всем коллегам, с информацией о том, что коричневые хлопья, которые все они принимали за конфетти, на самом деле засохшее дерьмо, а на тот случай, если они забыли, – мы все окружены безумием. При моей насущной потребности самой не сойти с ума – или, можно сказать, необходимости верить, что все же существует некое разделение между мной и моими пациентами, – такие дни, как этот, заставляют радоваться, что действительно существует причина, по которой у меня есть ключи, а у них нет.
11 ноября, 8:36
– Доброе утро, Рэйчел! – жизнерадостно щебечу я, просачиваясь в ее кабинет и усаживаясь в кресло для пациентов.
– Доброе, Сэм. Ты сегодня очень бодрая.
Она расчищает место на своем столе для моих папок, чтобы мы могли начать кураторский сеанс. Рэйчел минимально контролирует персонал больницы, так как у нее совсем нет времени и она вынуждена верить, что все мы способны хорошо исполнять свои обязанности и справляться с трудностями. Как я уже говорила раньше, у нас наплыв новых пациентов; Рэйчел занята их размещением, заполнением файлов с исходными данными и так далее, поэтому она пока отложила традиционные кураторские сеансы и попросила просто обращаться к ней в случае, если возникнут какие-либо проблемы или вопросы.
– Я бодрая каждое утро, – уверенно вру я и сглатываю слюну – у меня страшная изжога от похмелья. Я надеваю очки для чтения и вытаскиваю из папки незаполненную историю болезни Ричарда. – Я решила, раз у нас сегодня совсем мало времени, стоит приступить сразу к делу.
Рэйчел кивает, отпивает кофе и разворачивается в кресле ко мне лицом. Затем скрещивает свои толстые лодыжки и делает мне жест, чтобы я продолжала.
– Мы с Ричардом Макхью встречаемся еженедельно по вторникам в одиннадцать ноль-ноль. Тут много говорили о том, что он не желает сотрудничать и все такое, но он всегда приходит на сеансы, и без опозданий. Он очень пунктуален. Судя по всему, ему нравится, когда все четко расписано. Но должна сказать, что во время сеансов Ричард действительно практически не идет на контакт. Он совершенно не желает отвечать на вопросы, чтобы я могла провести оценку психологического состояния, и сразу уходит в себя, как только я начинаю вытаскивать из него информацию.
– Во время сеансов ты чувствуешь себя нормально? Никакой опасности? – спрашивает Рэйчел.
– Абсолютно. Он ведет себя спокойно, никаких угроз или агрессии. Наоборот, он очень тихий и всегда настороже. Не представляю, что он может как-то мне навредить. Кажется, что, сохраняя молчание, он пытается себя защитить. Ему не хочется рассказывать свою историю.
– Тебе удалось установить, почему он сидел в тюрьме?
– Нет. На самом деле это серьезный пробел в его исходных данных. В графе «реабилитация» нет почти ничего. Только названия «домов на полдороге»[7], где он провел какое-то время, но никаких контактов – ни телефонных номеров, ни имен кураторов или попечителей. Там есть названия тюрем, где он отбывал срок, и соответствующие даты, но больше никаких сведений. Все очень неясно. Есть несколько ксерокопий страниц с большими вымаранными кусками текста. Ничего об обвинениях и статьях, так что невозможно узнать, как он оказался за решеткой. А он, конечно, не жаждет мне об этом сообщать.
Рэйчел кивает.
– Вообще-то это я заполняла анкету с исходными данными, и обнаружила то же самое. Нам предоставили крайне мало информации, но Ричард со странным упорством настаивал на том, чтобы его направили именно сюда. Он почти ничего мне не сказал, но был вежлив. Даже держался несколько чопорно, я бы сказала. Ричард – сплошной вопросительный знак. Я связалась с персоналом в «Ревелейшнз» и «Хорайзон-Хаус» – это те самые «дома на полдороге», но у них на него ничего не оказалось. Там просто дикая текучка, состав служащих постоянно меняется, а учет они ведут из рук вон плохо.
Рэйчел начинает шарить по столу и вытаскивать какие-то бумаги, обрывки листков, рыться в разного размера коробках. Она что-то ищет.
– А у вас были пациенты наподобие Ричарда? Я не совсем понимаю, в каком русле продолжать работать. Вы верно сказали, он – сплошной вопросительный знак, и я не знаю, какие групповые сеансы ему лучше назначить и как в принципе вытянуть из него хоть что-то. – Рэйчел любит, когда я прошу у нее совета.
– Я как раз ищу те самые исходные данные. Я дала ему анкету, он отказался ее заполнять, и тогда я просто вручила ему чистый лист и попросила написать что-нибудь о целях лечения, ну и все в таком духе. Он что-то накорябал, но я не помню, что именно.
Рэйчел отталкивает кресло – оно отъезжает на середину кабинета – и один за другим открывает забитые бог знает чем ящики стола, а затем копается в большом, так же захламленном бумагами шкафу.
– Пока что продолжаю еженедельные индивидуальные сеансы, – говорю я, – и записала его на наиболее эффективные групповые сеансы, требующие интеллектуальных усилий. Наблюдаю за ним и надеюсь, что он постепенно привыкнет ко мне и станет доверять; возможно, тогда он вылезет из своей скорлупы.
Рэйчел меня уже не слушает; она ищет тот самый документ.
– А! Вот. Вот он. – Она вытаскивает лист с загнутыми краями из какой-то большой тетради. – Посмотрим. Может, это тебе поможет.
Я беру страницу и вглядываюсь в почерк Ричарда. Он писал тупым карандашом, и буквы получились расплывчатыми и нечеткими. Наверху даже есть заглавие: «Цели пребывания в «Туфлосе». Он обозначил несколько пунктов. «Стать лучше. Простить. Снова начать жить». Слово «Туфлос» написано несколько раз в разных местах; он как будто украсил им лист. Совершенно очевидно, что Ричард действительно хотел попасть конкретно в наше заведение. Есть еще несколько записей, но карандашный след размазался, и мне удается прочитать только обрывки. Под другим заголовком, «Терапия», нацарапано что-то вроде «открыться» и еще одно слово. Кажется, «Саманта».
14 ноября, 12:34
Снаружи идет снег. Я сижу на углу стола и смотрю в окно. Рабочие на лесах продолжают трудиться, несмотря на перемену погоды. Было невероятно холодно, но, странным образом, когда пошел снег, немного потеплело. Как будто снег ткет одеяло, которое накрывает мир, и под ним уютно и безопасно. Снежинки – даже не снежинки, а хлопья снега – толстые и влажные; они быстро облепляют автомобили, припаркованные внизу. В городе снег сохраняет свою красоту всего пару часов. Как только появляются снегоуборочные машины, идеальное белое покрывало превращается в толстые серые слякотные сугробы, иногда чуть не до пояса высотой. Единственное, по чему я скучаю, когда вспоминаю свой родной дом, – это белизна нетронутого снега.
Моя дверь слегка приоткрыта, и из коридора до меня доносится болтовня пациентов. Кабинет находится напротив компьютерной комнаты, их любимого места, где они пытаются прорваться на порносайты или просто собираются, чтобы потрепаться. Там стоят два ветхих дивана, и на одном всегда кто-то спит.
Я ясно слышу незнакомый мужской голос – видимо, кто-то прислонился к стене компьютерной комнаты. Бруклинский акцент и посвистывание – у говорящего отсутствует парочка зубов. Голос громкий и хриплый, но его обладатель старается говорить трагическим шепотом, наверное, чтобы придать своей истории больше выразительности и таинственности. Я подхожу прямо к двери, прислоняю ухо к щели и слушаю, оставаясь при этом невидимой.
– Это все бабы. Из-за баб ты попадаешь в такие вот места, чувак. Что бы ты ни делал – им никогда не угодить.
– Ты попал сюда из-за женщины? – Другой мужской голос, вроде знакомый, но я не могу определить чей.
– Да уж. Из-за своей бывшей.
– Что такого она сделала? – Кто бы ни был этот неизвестный рассказчик, он явно овладел вниманием своего слушателя.
– Ну, для начала она порвала со мной. Потом стала трахаться с моим лучшим другом. Угу, именно так. А любой знает, что это неправильно. Ну и у меня не было выбора. Я должен был вернуть ее обратно. Типа, не терплю, когда со мной обращаются с таким неуважением.
– И как ты это сделал? Как ее вернул?
Незнакомец начинает говорить еще тише.
– Прикончил эту суку.
– Ты ее убил? – выдыхает второй.
– Чувак, шшшшш! Заткнись к е… матери, ага? Ничего не расскажу, если ты будешь вопить как зарезанный.
– Как ты это сделал? – шепчет слушатель.
Я по-прежнему подслушиваю у дверей кабинета. Пока еще все это не слишком меня беспокоит – такие «страшные» истории здесь не в новинку. Многие пациенты относятся к психбольнице как к тюрьме и стараются выставить себя как можно более крутыми и ужасными – так они чувствуют себя в большей безопасности. Отсюда все эти выдуманные байки об убийствах и прочих зверствах.
– Ха. Я скажу тебе, как это сделал. У нее типа был дом в Бронксе, так? И она всегда выпускала свою собаку из задней двери во двор, побегать, поссать и все такое. И один раз ночью я подобрался к дому и дождался, пока выбежит псина. Как только я ее увидел, сразу перепрыгнул через изгородь и схватил.
Я слышу скрип пододвигаемых стульев и звук шагов. История обретает новых слушателей.
– Сраная, паршивая, старая псина. У меня с собой была бутылка с зажигательной смесью, и я вылил ее всю на эту скотину. Она была такая тупая, что начала ее слизывать, прикинь? Просто взяла и стала слизывать зажигательную смесь. Но скоро перестала. Когда я ее поджег.
– Ни хрена себе! Ты не брешешь? Ты поджег чертову собаку?
– Точняк, поджег. Типа, она лает, визжит и все такое, а я беру ее и швыряю прямо этой суке в окно. Она пробивает стекло, и занавески загораются. И я слышу, как собака визжит, как хрен знает что, а потом слышу Алишу – она тоже начинает визжать. И она пытается погасить скотину, а та уже подыхает, а огонь все больше и больше.
Он говорит громче, и я чувствую, как мои руки сжимаются в кулаки.
– И она такая: «На хрен собаку, надо уходить» – и выскакивает в заднюю дверь. А где я? Точно там и стою, ее поджидаю. На улице темно, она ничего не видит и врезается прямо в меня. А я хватаю ее и поворачиваю к дому мордой, чтобы видела, как он горит. И зажимаю ей рот, чтобы не орала. Вот так, понимаешь, да? – Я почти вижу, как другие пациенты вытягивают шеи, чтобы рассмотреть, что показывает им рассказчик. – Тогда сука начала кусать меня за руку, но я засунул кулак ей чуть не в глотку.
Дом загорелся очень быстро. То есть, типа, реально быстро. Стало жарко, и из-за дыма почти ни фига не видно, и я отволок ее подальше, в переулок за домом. Она вырывалась и брыкалась как бешеная, а потом поняла, что дом ей уже не спасти, и утихла. И просто смотрела, как он горит. Огонь трещал так, что уши от шума закладывало. А когда подъехали пожарные, вообще ничего не стало слышно, даже криков. И я такой вытащил руку у нее изо рта и говорю: «Вот что я делаю с теми, кто ведет себя как свинья».
– И никто тебя не увидел? Тебя не поймали?
– Не, чувак. Никто даже не знал, что мы там стояли. Тут она, конечно, начинает плакать и пускать сопли, умолять меня… ну, и я ее кончил. Просто перехватил ее шею и сжал посильнее. И она очень скоро сдохла.
Чем дольше я слушаю, тем сильнее мое лицо искажает злая гримаса. Меня с головой накрывает волна разочарования – ужасно противно, что слушатели с таким бурным одобрением реагируют на подобную идиотскую чушь. История, насквозь пропитанная социопатией, восхищение сверстников – мне никогда не понять этого дерьма. Мне приходится выслушивать такое уже много лет, и все больше кажется, что все это каким-то образом просачивается в меня, влияет на мое психическое здоровье. Я продолжаю подслушивать – некоторые уже пересказывают наиболее смачные куски другим, опоздавшим. И даже слышу хлопки ладоней – вроде «дай пять». А затем – хриплое быстрое дыхание. Так дышит человек в панике. И на сей раз знакомый голос – дрожащий от ярости. Тайлер.
– Ты поджег собаку этой женщины? И бросил ее в окно, и дом загорелся? – Тайлер явно слушал вместе со всеми, и он охвачен отвращением.
– Ну да, братан, и чё?
– «И чё»? Ты убил ее? За то, что она тебе изменила? – Тайлер говорит все громче и выше.
– У тебя проблемы, братан?
– Да. Да. У меня большая дерьмовая проблема.
– Привет всем! – Я открываю дверь и улыбаюсь, как будто не проторчала возле нее последние полчаса и ничего не слышала. – Что у вас тут интересного? Как дела? – Такое ощущение, что в воздухе коридора застыло напряжение, оно чувствуется почти физически, и некоторые пациенты предпочитают сбежать и укрыться на диванах, в безопасной компьютерной комнате. Глаза всех оставшихся прикованы к Тайлеру и рассказчику.
– Здравствуйте, я доктор Джеймс. Кажется, мы с вами еще не встречались. – Я протягиваю ему руку, но он не отводит взгляда от Тайлера и игнорирует меня. – Как вас зовут?
– Флойд. – Он все еще смотрит на Тайлера. Флойд примерно на фут ниже Тайлера, но тяжелее фунтов на шестьдесят.
Тайлера трясет от гнева.
– Мисс Сэм, не думаю, что вам стоит сейчас здесь находиться.
– В самом деле, Тайлер? – Бодро, непонимающе. – Это почему же?
– Этот человек не уважает женщин. – Тайлер переминается с ноги на ногу и то сжимает, то разжимает кулаки. Флойд застыл на месте. Не моргая, он пялится на Тайлера. Ждет, когда тот начнет действовать.
– Питчеры и кэтчеры переезжают в тренировочный лагерь через пару месяцев, ты знаешь, да? – Отвлечь Тайлера разговором о бейсболе, в частности о «Янки», – это мой единственный туз, способ разрулить опасную ситуацию без охраны и поддержки. – Флойд, а вы не фанат бейсбола, случайно? – Говоря это, я делаю шаг вперед и как бы естественно оказываюсь между ними. Воздух словно раскален; сильно пахнет потом. – Мы с Тайлером жить не можем без «Янки».
Я немного выше Флойда, и, когда стою перед ним, ему невольно приходится оторвать взгляд от Тайлера и посмотреть на меня. Я заслоняю его оппонента, так что он вынужден мне ответить.
– Да, я иногда смотрю бейсбол, мисс.
– Любимое хобби всей Америки. Прекрасный спорт. А теперь… – я хлопаю в ладоши, – где вы сейчас должны находиться, джентльмены? Уверена, что не торчать в коридоре, а заниматься чем-то полезным, верно?
Никто не отвечает, но несколько пациентов, наблюдавших за сценой из компьютерной комнаты, сползают с диванов и куда-то удаляются. Тайлер вроде бы немного остыл, но я еще чувствую его дыхание на своем затылке.
– Что, нет? О’кей, но у меня есть дела. Тайлер? Не хочешь пройтись со мной до зала для группового сеанса? – Мне известно, что Тайлер – джентльмен и никогда не позволит даме пойти куда-то одной, если она попросила ее сопроводить.
– Хорошо, мисс Сэм. – Чуть скрипнув зубами, он огибает меня и медленно идет по коридору. Я опускаю очки на нос и обжигаю Флойда яростным взглядом.
Мы с Тайлером не торопясь бредем по коридору, и я снова завожу разговор о бейсболе. Он не может сосредоточиться и отвечает невпопад, мямлит и бормочет, не в силах оторваться от ситуации, стряхнуть ее с себя. Мы добираемся до пустой комнаты для групповых сеансов, я вхожу и приглашаю Тайлера последовать за мной.
– Тайлер. Когда ты слышишь что-то наподобие этого и реагируешь, ты словно бы кормишь монстра, понимаешь? Он ведь и рассказал эту историю, чтобы привлечь к себе внимание, вытянуть из других реакцию. Давай не будем доставлять ему такое удовольствие, о’кей? Когда тебя кто-то беспокоит, просто уходи. Не слушай, не вступай в контакт. Найди меня или кого-нибудь из персонала, если чувствуешь, что не можешь этого вынести. Хорошо?
– Он убил собаку. Я просто голову потерял от ярости, когда он сказал, что убил ни в чем не повинную собаку. И эту леди, которая тоже ни в чем не виновата.
– Да, и я тоже, Тайлер. Я тоже. Но мы не должны впускать это в себя. Мы должны подняться и быть выше.
– Вы думаете, это все бред? Он все выдумал, чтобы напугать других пациентов?
– Может быть. Может, и выдумал. Но даже если он не убивал, как ты говоришь, ни в чем не повинную собаку и леди, которая тоже ни в чем не виновата, мы с тобой оба знаем, что в мире каждый день убивают невинных женщин и собак. Но мы не можем из-за этого рассыпаться на кусочки или вступать в драки. Ты здесь для того, чтобы заботиться о себе самом, а не беспокоиться о ком-то еще. Правильно?
– Да. Я знаю, что вы правы, мисс Сэм. Я здесь для того, чтобы беспокоиться о себе. И о «Янки», потому что в прошлом сезоне наши питчеры выступили так себе.
– Вот в этом с тобой точно не поспоришь.
14 ноября, 21:21
Я сижу на диване и жду, когда появится Лукас с едой – он обещал взять на ужин что-нибудь навынос. Предполагалось, что он будет здесь еще час назад, но его все нет. Я пытаюсь читать книгу, и мне приходится закрывать один глаз, чтобы видеть слова. Я голодна и не могу сосредоточиться и все время проверяю телефон – вдруг Лукас прислал сообщение. Но нет, ничего. Полная тишина. Я сама отправила ему эсэмэс полчаса назад, с вопросом, когда он собирается прийти, но ответа не получила. И я снова и снова перечитываю одну и ту же страницу.
Мой бокал уже пуст, так же как и бутылка рядом с ним. Когда я на нервах, пью быстрее, чем следует. И хотя на улице мороз – этот ноябрь выдался холоднее, чем несколько предыдущих, я все равно пью белое вино. Аккуратно вытерев капли конденсата с кофейного столика рукавом свитера, на цыпочках иду к помойному ведру, бросаю туда все еще запотевшую бутылку и быстро скручиваю железную пробку со следующей. Лучше, если Лукас не будет знать, что я уже опустошила целую бутылку. Когда я крадусь обратно к дивану, телефон начинает вибрировать, и от неожиданности я спотыкаюсь о ножку столика.
Эсэмэс от Лукаса. «Впусти меня, забыл ключ».
Я пишу ответ. «Сначала нажми кнопку домофона, не могу открыть, пока ты не позвонишь».
По всей квартире разносится громкая и сердитая трель домофона, и я нажимаю кнопку, чтобы открыть парадную дверь. На экране возникает изображение Лукаса, и даже на зернистой, некачественной картинке видно, что он в плохом настроении. Он хлопает ладонью по кнопке лифта, хотя обычно поднимается по лестнице – я живу на третьем этаже. Но когда пьян, или злится, или что-то несет, он пользуется лифтом. И сегодня вечером, кажется, причина и в том, и в другом, и в третьем. Я оставляю дверь квартиры слегка приоткрытой, возвращаюсь на диван, наливаю себе немного вина и жду, слишком сильно сжимая ножку бокала. Потом подтягиваю колени к груди и опираюсь на подушки.
Лукас едва ли не врывается в квартиру и тут же швыряет пакеты с едой прямо на пол. Затем ногой отпихивает их в кухню и сердито сдирает с себя пальто.
– По-моему, ты могла бы мне и помочь, – фыркает он.
Я вскакиваю с дивана и в качестве приветствия целую его в щеку. Подбираю пакеты, в которых лежит что-то безнадежно остывшее, и кладу их на стол. Лукас явно под наркотиками. Его волосы прилипли к затылку, а воротничок промок от пота. Он сжимает и разжимает зубы, а в уголках его рта скопились белые сгустки слюны. Кокаин. Больше он ничего мне не говорит и удаляется в ванную, чтобы привести себя в порядок. Я вешаю его пальто на спинку высокого барного табурета и проверяю карманы. Интересно, что я там найду?
Полупустая пачка сигарет рядом с нераспечатанной полной. Черная зажигалка Bic, сильно покоцанная снизу от открывания пивных бутылок. Чек из китайской закусочной с сегодняшней датой, пробитый два часа назад. Я засовываю все обратно и лезу в нагрудный карман. Свернутая в трубочку пятидесятидолларовая купюра – один кончик влажный, другой припудренный белым – и крохотный пакетик, в который как раз помещается грамм кокаина. От прилива адреналина у меня начинает жечь в желудке. Это я тоже возвращаю на место.
Я снова усаживаюсь на диван, отпиваю большой глоток вина, закуриваю и жду, когда Лукас спустит воду в унитазе. Обычно так он старается заглушить звуки, когда втягивает дорожку. Возможно, он взял с собой в ванную еще один пакетик. Мой дом – старый, и канализация в нем тоже старая. Однажды он так много раз нажал на слив, что унитаз переполнился и из него потекла вода. В тот день он вдул очень много дорожек. При этом Лукас почему-то считает, что я все еще не догадалась, зачем он так долго сидит в туалете. Наконец слышу характерный шум – слив воды – и из ванной появляется Лукас.
– Ф-фух. Извини за все это. – Он плюхается на диван рядом со мной. – Адски длинный день, и я еще тащу эту китайскую еду, не могу найти ключи… что-то я вышел из себя. Привет. – Он поворачивается и по-настоящему целует меня в губы. – Как прошел твой день?
От кокаина у меня немедленно немеет нижняя губа. Я отстранюсь и вытираю рот.
– Мой день был прекрасен. А как твой кокс?
– О-о-о, Сэм. Давай не будем начинать. – Лукас закатывает глаза и машет руками. – Я же говорю, у меня выдался очень длинный и трудный день, и мне надо было как-то прийти в форму и приободриться. У Брайана из офиса с собой было, и он дал мне пакетик, когда мы собирались уходить. Мы работали над очень сложной сделкой, крупное слияние, и мы ее вроде отпраздновали. Извини, что не сказал тебе, но я так и знал, что ты раздуешь из мухи слона.
Он тянется к моему бокалу и делает глоток. Наклоняется над кофейным столиком и ковыряет этикетку бутылки. На меня Лукас не смотрит. Я тоже ничего не отвечаю, молча встаю и иду на кухню, чтобы принести еще один бокал. Пусть пьет из своего. Прилив адреналина меня протрезвил, и мне кажется, будто я вообще не пила.
Лукас все еще сдирает этикетку, когда я возвращаюсь с бокалом, сажусь и наливаю ему вина. Себе я тоже наливаю, все так же молча, и откидываюсь назад. Я знаю, что под коксом он не сможет долго молчать, поэтому просто жду. На, возьми веревку и сам накидывай себе петлю на шею.
– Я ведь не пытаюсь тебе солгать, – начинает убеждать Лукас. – Да, мы сто раз обсуждали эту тему с коксом, и я говорил, что брошу, но, честное слово, в моем бизнесе без этого практически никак.
– Не знаю, в курсе ты или нет, но сейчас не восьмидесятые.
– Может быть, в том мире, где ты живешь, и нет, но в финансовом – это священное десятилетие. Все надеются, что те времена вернутся, и иногда мы ведем себя так, как будто мы там. И в этом нет ничего особенного, и никакого отношения к тебе лично это тоже не имеет.
– Зато имеет отношение то, что ты мне врешь.
Мы оба курим, и сигаретный дым висит в воздухе, как серое северное сияние.
– Ты права, я не должен тебе врать. – Лукас снова поворачивается ко мне, ловит взгляд и левой рукой сжимает мое колено, держа между пальцами окурок. В другой руке он держит бокал с вином и все время делает маленькие, хлюпающие глоточки. Между ними он поглядывает на меня совершенно сумасшедшими глазами. Затем его ладонь перемещается на мое бедро и поглаживает его.
– Почему ты сегодня приехал так поздно? – спрашиваю я.
– Потому что мы с Брайаном нюхали кокаин, Сэм. Сколько раз тебе еще объяснить? Не надо подвергать меня показательной порке, я ведь уже все признал. Играй сколько хочешь в «детектива Сэм», ничего нового ты не узнаешь. – Он отдергивает руку, и на моих штанах остается пепел от его сигареты.
Примерно тридцать секунд я вела в счете и находилась в выигрышном положении – пока он извинялся. Теперь я вижу, что Лукас ускользает, а я словно падаю вниз и закатываюсь под диван. Он делает много чего, что мне не нравится, и много врет, но почему-то из всего этого я решила зациклиться именно на кокаине. Из мантры Спокойствия я усвоила, что на свете есть вещи, которые мне изменить не дано, но по какой-то причине мне кажется, что пристрастие Лукаса к кокаину к ним не относится. Если двигаться маленькими-маленькими шажками… однажды я наберусь сил и сумею его остановить. Удержать от этого и всего прочего вреда, который он причиняет и себе, и мне.
Чувствуется, что Лукас понемногу начинает накручивать себя, злясь, что я его застукала. Я уже мысленно разрабатываю стратегию отступления, но он вдруг вскакивает и протягивает мне руку, чтобы помочь встать с дивана.
– Почему бы нам чего-нибудь не съесть? На кухне стоит вся эта китайская еда. Давай перекусим и забудем про это дерьмо. Как будто ничего не было. О’кей?
Он как клешнями вцепляется в мое запястье и тащит меня на кухню. Затем вынимает две тарелки из шкафчика над раковиной и шлепает их на стол. Лезет в пакет из закусочной и выгружает две белые картонные коробки. Отпускает наконец мою руку и с силой отбрасывает ее, так что она ударяет меня в бок. Вываливает на тарелки лапшу ло мейн и цыпленка с кунжутом. Каждый раз, когда Лукас вытряхивает что-то из контейнера, он бесится все больше и больше; я прекрасно это вижу и начинаю потихоньку пятиться из кухни в комнату.
– Какого хрена? Куда ты пошла? Ты попросила меня приехать и привезти еды, и вот он я, готовлю ужин для нас двоих. Не надо выскальзывать отсюда как змея и делать вид, что ты ни при чем и не испортила наш вечер своими идиотскими обвинениями и поганым шпионством. На. – Он сует мне тарелку с холодной едой. – И теперь ешь. Ты ведь этого хотела, так?
Свою тарелку он оставляет на столе и медленно наступает на меня, склонив голову. Его брови яростно нахмурены. Я держу тарелку перед собой, как будто это преграда между нами, и продолжаю пятиться.
– Спасибо за то, что принес поесть, но я не портила вечер. Это ты заявился с опозданием на несколько часов, к тому же под коксом. – Еще шаг назад.
– Значит, это я испортил вечер? – рычит он.
– Послушай, ничего еще не испорчено… – как можно убедительнее начинаю я, но, как только Лукас нагоняет меня, он вышибает тарелку из моих рук, и лапша, цыпленок и осколки фарфора разлетаются по полу. Он ногой отбрасывает все это безобразие в сторону и нависает надо мной. Я упираюсь ладонями ему в грудь и пытаюсь оттолкнуть, но он огромный и слишком злой. Он возвышается надо мной, как гора.
– Ударь меня, – спокойно произносит он и криво улыбается. – Ну, ударь. За то, что я все изгадил. Я испортил ужин, ведь так? – Он уже орет, не стесняясь, и пихает меня грудью, так что я врезаюсь спиной в стену. – Давай, бей меня! – Лукас показывает на свою челюсть и ребра и снова толкает. Теперь я зажата между ним и стеной, и мне никак не выбраться. Левой рукой я нащупываю дверь туалета и пробую открыть ее, но его здоровенная ладонь находит мою и не дает повернуть ручку. – Ударь меня! – Другой рукой он хватает меня за горло и сдавливает. – Ударь меня!
16 ноября, 21:14
Я в «Никс-баре», разговариваю с приятелем. Хотя мне и говорили раньше, что он очень сексуальный и вообще само очарование, отчего-то до этой самой минуты я его не замечала. Он стоит напротив, и мы вовсю флиртуем. Все остальные наши знакомые тут же, у меня за спиной, стиснуты со всех сторон возле будки диджея. Он смотрит на меня абсолютно обворожительными глазами – боже, как же я не видела их! – и мне кажется, что вселенная словно сдвинулась с места, а в животе у меня порхают бабочки. Он просто пожирает меня взглядом, и мне не хочется, чтобы Он останавливался.
Он игрок, то есть, попросту говоря, бабник – всем нам это известно. И я тоже всегда это знала. Только вчера я сама наблюдала, как Он склеил здесь же девицу, едва вышедшую из подросткового возраста. Да и вообще Он всю жизнь хватает все, что плохо лежит. На него западают все женщины; я смеюсь над ними и надеюсь, что они не забывают про презерватив. Я хихикаю над девчонками, которые готовы разорвать Его на куски за то, что Он трахнул их и сбежал – Его обычная тактика. Однако мне казалось, что у Него хорошая душа – а сейчас я этого не чувствую. Все, что я вижу перед собой, – это Мужчина. Мужчина, который может перевернуть мой мир с ног на голову, всего лишь уделив мне малюсенькую капельку внимания.
Кто-то держит в руках телефон и снимает все на камеру, и, конечно, это большая проблема, потому что все в баре знают Лукаса, а я встречаюсь с Лукасом и должна думать о Лукасе, но в данный момент я даже не помню его имени. Я рассеянно играю с шарфом, что повязала на шею, чтобы скрыть синяки от позавчерашнего вечера. Очень тесно; мы все толкаемся локтями, постоянно щелкают камеры мобильников, и кто-то обязательно выложит фотки в «Инстаграм», и тогда моя неверность выплывет наружу, я окажусь плохой девочкой, которая во всем виновата, и Лукас бросит меня, и я останусь одна… а я этого не выдержу.
Поэтому я изо всех сил делаю вид, что не испытываю никаких чувств – ни жара, ни страсти, ни бешеного желания, что пульсирует сейчас в моих венах, в груди, внизу живота… нет, ничего этого не происходит, убеждаю я себя. Разумеется, Он приближается ко мне вплотную, чтобы нас сняли вместе, и вдобавок целует в щеку для фото.
Между нами и общими знакомыми не более чем четверть фута, но из-за того, что все посетители бара сжаты, словно сардины в банке, никто этого не замечает. Как и того, что Он просовывает руку и сжимает мою грудь. Я просто умираю, и Он это знает, и мне так нравится, как Он это делает… все, чего я хочу, – это стоять вот так, и пусть кто-то фотографирует, а Он шарит ладонями по моему телу, везде, везде, и потом увезет отсюда и сделает меня другим человеком, который будет гораздо лучше и никогда-никогда в жизни не оставит.
Потом все почему-то прекращается, и вот, не заметив как, я уже на улице и иду домой. Когда мы прощались, Он поцеловал меня в губы. Но мы все вечно целуемся в губы при встрече или когда говорим «до свидания», так что для того, кто заметил, это ничего не значит. Но раньше мы с Ним никогда так не целовались, и теперь мои губы горят огнем, и я ощущаю всепоглощающий вкус Мужчины и тащусь домой к Лукасу, но хочу развернуться и броситься к Нему в объятия, но тогда Лукас оставит меня, а я так не могу. И все-таки мне необходимо увидеться с этим парнем еще раз. Когда мы сможем это сделать? Для меня это уже миссия, я должна ее выполнить, и не важно, чего это будет стоить. Кстати, зовут Его Эй Джей. Даже не знаю, что это означает.
18 ноября, 12:03
Мы с Дэвидом сидим в его кабинете, едим ланч и прячемся от мира. Обычно он приносит что-нибудь из дома, и заканчивается все тем, что я краду у него половину. Или – иногда – мы идем в один из сэндвич-баров, которых так много на нашей улице. На углу всегда стоит фургончик с едой «халяль», и сегодня мы оба взяли себе рис с курицей. Как правило, мы обедаем в то же время, что и пациенты, и не важно, голодны мы или нет; просто так меньше шансов, что кто-то может заглянуть или припахать к какому-нибудь делу.
– Ты сегодня видел Джули на утреннем совещании? – спрашиваю я, ковыряя в зубах пластиковой вилкой.
– Да, видел. А что такое? Что она сделала?
– Она сидела и красилась прямо за сраным столом. И смотрелась при этом в зеркальце в пудренице «Шанель».
– Это имеет какое-то огромное значение?
– Она работает в психбольнице! Почему ее так заботит, как она выглядит? Это же просто смешно. Смешно и жалко.
Дэвид смеется.
– А ты кроме шуток ее ненавидишь, а?
– Я никого не ненавижу. Просто я думаю, что она глупая и ей здесь не место. Ей надо работать в «Блумингдейлз»[8].
– Ты никогда не бывала на ее групповых сеансах?
– Ни на одном. А ты?
Дэвид редко участвует в наших с Джули «беседах» – то есть идиотской болтовне и сплетнях, потому что он взрослый, зрелый мужчина и выше всего этого. Поэтому мне нравится, когда он снисходит до моего уровня.
– Я был. На том самом, где твой пациент выскочил из комнаты как ошпаренный. Ну, новый парень. Здоровенный такой.
– Ричард? Тема свеклы?
– Ха-ха! – Дэвид хохочет, и зернышко риса вылетает из его рта и прилипает к оконному стеклу. – Именно, – подтверждает он и вытирает губы. – Она очень деликатно пыталась объяснить, что некоторые виды пищи могут изменить цвет какашек и писулек, а он аж подпрыгнул и рванул к двери. Я думаю, собственно, смысл ее речи был в том, что некоторые люди начинают паниковать, когда видят, что их дерьмо вдруг покраснело, думают, что это кровь. Ну и таким образом она пыталась заранее предупредить их, чтобы они в случае чего не тревожились.
– Конечно-конечно. Это имело бы смысл, если бы здесь хоть когда-нибудь давали свеклу. Вот же дура! Такая вся из себя принцесса. Говорю тебе, ее тут быть не должно.
– Да, Рэйчел попросила меня присматривать за Джули, потому что на нее поступают жалобы.
– Правда? Как замечательно! Может быть, «Туфлос» решит сделать мне подарок на Рождество заранее и уволит ее? – Я радостно запихиваю в рот кусок курицы.
– Ага. Только не жди, затаив дыхание, а то задохнешься. Кстати, как вообще этот новый парень? В прошлый раз, когда мы о нем говорили, ты сказала, что дело не движется.
– Ничего нового. Я так ни хрена и не добилась. Это здорово сбивает меня с толку. Он вполне дееспособный и кажется абсолютно нормальным человеком… что он здесь делает? Почему его нужно лечить?
– Какой у него диагноз?
– Ага, хороший вопрос. Можно подумать, в его истории болезни есть диагноз. Тогда все было бы слишком легко.
– Думаешь, ему вообще можно поставить диагноз?
– Если бы мне нужно было кровь из носу это сделать, допустим, для страховки или вроде того, я бы поставила расстройство приспособительных реакций[9]. Но это с большой натяжкой. Тут должно быть нечто очень важное, что совершенно от меня ускользает. Слишком странно, что его приняли в психбольницу. Не считая того, что он не желает общаться и отвечать на вопросы, и еще дикого упрямства, я не вижу в нем ничего ненормального.
– Хочешь, я с ним встречусь? Посмотрим, может, мне придет в голову какая-нибудь светлая мысль.
Дэвид всегда готов прийти на помощь. Так сказать, пробежать за меня лишнюю милю. Это удивительно.
– Нет, спасибо. Но приглядывай и за ним тоже, если можно, – вдруг заметишь что-то полезное.
Дэвид улыбается – у него очень милая, хотя и немного покровительственная улыбка – и неловко треплет меня по колену. Он отворачивается к окну, а я пытаюсь проникнуть в его мысли. И посмотреть, нет ли внутри его местечка, где могла бы уместиться и я.
22 ноября, 11:06
Несмотря на то что мы так никуда и не продвинулись с историей болезни, Ричард, кажется, чувствует себя наедине со мной вполне комфортно. Может быть, он даже начинает мне понемногу доверять. Теперь он даже разговаривает со мной – правда, не о том, что было бы для меня полезно, то есть не о том, что касается его психического здоровья, – однако, по крайней мере, произносит слова вслух. Он рассказывает мне о книгах, что прочитал, или о тех, о которых много слышал, но пока еще до них не добрался. Я, в свою очередь, просвещаю его насчет того, что нового произошло в музыкальной индустрии, и перемены ему страшно не нравятся. Сегодня у нас очередной сеанс, и мы постепенно оттаиваем, настраиваемся друг на друга.
– У вас есть сотовый телефон? – интересуется Ричард. Этим утром он не побрился, и я вижу светлые волоски бороды, пробивающиеся сквозь расширенные поры.
– Да, у меня есть телефон. А почему вы спрашиваете? – Мои ноги скрещены, а кресло развернуто к Ричарду. Так мы обычно сидим, даже если сеансы проходят в молчании. Это известный терапевтический метод. Людям неудобно сидеть в полной тишине, так что, если психолог устраивается так, чтобы смотреть в лицо пациенту, как будто они разговаривают, очень часто тот чувствует себя обязанным что-то сказать.
– Вот это стало для меня настоящим шоком. Меня ведь не было, когда появились эти штуковины. А теперь они есть у всех, даже у бездомных.
– Вы были в тюрьме, когда мобильные телефоны стали популярны?
В первый раз за все время он упомянул свое заключение, и я, разумеется, хочу вытянуть из него побольше информации.
– У нас не было даже персональных компьютеров. А сейчас у каждого в кармане суперкомпьютер.
– А в тюрьме у вас был доступ к компьютерам?
– Телефоны теперь даже более продвинутые, чем компьютеры.
Так. Эту тему разговора он развивать не желает.
– Это правда. С ними людям стало гораздо проще общаться. – Намек.
– Не только общаться. Все стало проще. В современных телефонах есть камера, Интернет, почта. Можно даже читать в них книги! Раньше все эти вещи, если их сложить, заняли бы целый чемодан. А сейчас все умещается в одном телефоне. А он всего-то вот такой. – Ричард раскрывает свою широкую ладонь, чтобы показать, какого размера нынешние мобильные телефоны. – Чудо современной технологии.
Ричард с изумлением качает головой и возвращает свое внимание газетам. Может быть, мне удастся вытащить его из норы, если я расскажу о Девоне и деле с дерьмовой курткой?
– Прежде чем вы отключитесь окончательно, я бы хотела вам сообщить, что постаралась разобраться с вопросами, которые возникли у вас с Девоном.
– Да? – Ричард выжидающе приподнимает брови.
– Я попросила его психолога заняться проблемами, которые вы мне обозначили, включая гигиену и неподобающее поведение на сеансах групповой терапии. Все было передано лично Девону. Он понял. Я, в свою очередь, надеюсь, что вы проявите понимание и терпение, пока он будет привыкать к новым правилам.
– Ну… спасибо.
– Это обещание на время оставить парня в покое?
– Не совсем.
– Что же тогда?
– Это спасибо. Я никому не говорил спасибо уж и не знаю, сколько времени. Я оценил, что вы отнеслись к моим просьбам всерьез и помогли. – Ричард слегка кланяется.
– Может быть, в ответ на то, что я отнеслась к вашим просьбам всерьез, вы сделаете то же самое? Уважение за уважение. Поработаем над вашей историей болезни? – Последняя попытка на сегодня.
Его взгляд снова фокусируется на газетах. Ричард стряхивает что-то со щеки тыльной стороной руки, как будто отмахивается от моей практически мольбы.
В груди у меня становится тесно, и я еле выдавливаю из себя очередной разочарованный вздох. Прошел почти месяц, а все, что у меня есть, – это базовые данные. И я уже не знаю, какой еще придумать способ пробить эту броню. Моя фантазия иссякла.
23 ноября, 14:14
Джули разыскивает меня с помощью интеркома. От ее тоненького, пронзительного голоска мои барабанные перепонки вот-вот взорвутся – так мне, во всяком случае, кажется, – и я как можно скорее беру трубку и держу ее на расстоянии не меньше фута от уха.
– Да, Джули? – невнятно произношу я со своей безопасной дистанции. – Тебе что-то нужно?
– Привет, Сэм! – Я боюсь, что ее голос, словно приторный сироп, сейчас выльется из трубки и протечет мне прямо в горло. Она делает паузу, ожидая, что я отвечу таким же жизнерадостным приветствием, но я молчу. – Э-э-э… я хотела спросить, не найдется ли у тебя минутка заглянуть ко мне в кабинет? У меня сейчас сидит одна твоя пациентка. Во время группового сеанса у нас случилось маленькое происшествие.
Слова «маленькое происшествие» Джули произносит так, словно речь идет о девочке из ясельной группы, которая во время полуденного перерыва на сон намочила штанишки.
– Какая пациентка?
– Ташондра. – Она медленно, едва ли не по слогам выговаривает сложное имя. Боится, что, если исказит его, ее обвинят в расизме или в том, что она не знает имен пациентов или не умеет устанавливать контакт с людьми.
– Хорошо, буду через минуту. – Я даю отбой до того, как она обольет меня еще ведром своих сиропных «приятностей», и медленно направляюсь к ее кабинету.
Я громко стучу в дверь и внезапно осознаю, что, хотя мы с Джули работаем уже несколько лет, мне ни разу не приходилось бывать у нее в кабинете. Дверь распахивается, и я вижу Ташондру. Она сидит на голубом пластмассовом стуле, какие мы используем в залах для групповых сеансов (похоже, в заведении не нашлось нормальных офисных кресел для Джули), и выражение лица у нее пристыженное. Джули жестом приглашает меня внутрь, я вхожу и осматриваюсь.
Здесь нет ни книг, ни папок с файлами – словом, ничего, что говорило бы: это кабинет врача. По крайней мере, на виду. Зато на книжной полке сидит большой медвежонок в зеленом свитере от «Ральф Лорен». И стоят фотографии родных Джули в белых деревянных рамках, с вырезанными на них дурацкими слащавыми цитатами о сестринской дружбе и любви. Она закрывает за мной дверь, я слышу звон колокольчиков и оборачиваюсь посмотреть, что это такое. На двери два крючка: на одном висит светло-бежевое шерстяное пальто Джули с розовым клетчатым шарфом, а на другом – пухлый веночек из ткани, украшенный кружевами и бубенчиками. Последней каплей становится искусственно состаренная деревянная пластина в рамке, разрисованная цветами, со «старинным» шрифтом. «Живи, Смейся, Люби», – выгравировано на ней. К горлу у меня подступает комок; это непереваренный ланч грозит вырваться наружу. Сдерживая тошноту, я несколько колеблюсь: может, все-таки сблевать Джули на голову? Прямо на идеальную укладку. Должно быть, выражение отвращения на моем лице слишком очевидно – Джули берет меня за руку и спрашивает, все ли со мной в порядке.
– Сэм? Все нормально?
Я выдергиваю руку, протискиваюсь мимо и сажусь за ее стол. Где-то прячется электрический ароматизатор воздуха, и в кабинете пахнет детской присыпкой.
– Ташондра? – Ташондра наклоняет голову, и я тоже, пытаясь поймать ее взгляд. – Не хочешь рассказать мне, что произошло?
– А мисс Джули не может вам сказать? – Она закрывает лицо ладонями. Ее волосы где-то заплетены в косички, а где-то спутаны в дреды. Все они разной длины и толщины. Некоторые торчат вверх, некоторые падают прямо на глаза. Когда Ташондра нервничает, она крутит и дергает их, а если у нее хорошее настроение – перевязывает концы разноцветными ленточками и шнурками. Сейчас она потягивает косичку возле левого виска, с вплетенной в нее желтой шерстяной ниткой.
– Мне бы хотелось услышать это от тебя, если ты готова об этом поговорить. Узнать твое мнение о том, что случилось.
Ташондра в конце концов выдергивает нитку из косички и шумно выдыхает, как бык, готовый броситься в бой.
– Я сижу на групповом сеансе у мисс Джули, никого не трогаю и вдруг ни с того ни с сего поднимаю голову и вижу, что Барри пялится на мисс Джули, и не просто так пялится. Я точно знала, о чем он думает.
– И о чем он думал? – спрашиваю я.
Джули маячит рядом и краснеет, услышав свое имя.
– Он думал, что… он хотел впиться зубами в ее ляжки! Вот какие у него были мысли! – Она показывает на обтянутые колготками с лайкрой ноги Джули, еле прикрытые юбкой. Этот предмет одежды только с натяжкой можно назвать подходящим для работы. Джули невольно наклоняется и прикрывает колени руками.
Я не могу удержаться от улыбки.
– И что ты тогда сделала?
– Кинула в него кофейной чашкой. – Ташондра откидывается назад и скрещивает руки на груди. Лифчика на ней, как обычно, нет, и она запихивает свои отвисшие груди под мышки.
– А в чашке был кофе? – Я уже почти смеюсь.
– Нет! Она была пустая. Надо было подойти и врезать ему по морде.
– А что у вас с Барри? Отношения?
– Ну, теперь уже ничего! Но до того, как он повел себя неподобающе с нашим психологом, мы типа встречались. Ну там, пару недель. На той неделе он притащил мне цветы – спер со столика из столовой. А еще до этого отдал мне свои сигареты – что в пачке оставалось. Говорил, что я вроде самая красивая девушка, каких он только видел. Мы вместе обедали и вместе курили на балконе. Но все. Теперь все кончено, и точка.
– А еще что-нибудь между вами было?
В «Туфлосе» сексуальные контакты между пациентами строго запрещены, хотя контролировать соблюдение этого правила практически невозможно. При постоянно растущем числе больных трудно даже отследить, где кто находится, не говоря уже о том, кто что в данный момент делает. Пациенты занимаются сексом ночью со своими соседями по комнатам – и не важно, гомосексуалисты они или нет, в душевых кабинках и даже на балконе для курения, прямо среди бела дня. Уже много раз Ташондру изолировали и помещали в отдельную палату за неположенный секс, но Барри никогда не был ее партнером.
– Не. Я знаю, что нам нельзя ни с кем трахаться, пока мы тут лечимся. – Она крутит в пальцах желтую нитку, и я верю, что у них действительно не было секса. Кажется, он ей дорог, а Ташондра редко занимается этим с теми, кто ей дорог.
– Очень хорошо. Рада, что в этой области мы достигли некоторого прогресса. И ты ведь знаешь, что нельзя бросаться предметами в человека, даже если он смотрит на другую девушку, так?
– Да, знаю. – Она вдруг с силой швыряет нитку на пол. – Он еще принес мне эти нитки, вплетать в волосы.
Я подбираю нитку и сжимаю в кулаке.
– Ташондра. Я знаю, как это больно, когда человек, который тебе нравится, смотрит на кого-то другого. Но очень важно реагировать на это правильно и адекватно. Ты ничего не хочешь сказать Джули?
Все это время Джули нависала над нами, как мальчик, разносящий воду, над разомлевшим рабочим в часы сиесты. Слушая наш разговор, она даже приоткрыла рот, но теперь, когда было упомянуто ее имя, она резко выпрямляется и берет себя в руки.
– Извините, что на меня напала ревность во время вашего сеанса, мисс Джули. Понятно, люди на вас смотрят, потому что вы красивая, и я знаю, что не должна из-за этого бросаться чашками или еще чем-нибудь. – Ташондра дергает свои дреды.
– Спасибо, Ташондра. И я считаю, что ты тоже очень красивая.
Ташондра смущенно улыбается, краснеет и прикрывает плечом рот.
– Поговоришь об этом с Барри? – интересуюсь я.
– Ну да. Наверное, можно его и простить.
– Приятно это слышать.
Я отдаю ей желтую нитку, и она наматывает ее на кончик дреда, который закрывает ей один глаз. Мы вместе выходим из кабинета, и я глубоко вдыхаю кажущийся невероятно свежим коридорный воздух, чтобы избавиться от навязчивого запаха ароматизатора Джули. В дни вроде этого я реально чувствую себя смотрителем зоопарка и одновременно восхищаюсь и ужасаюсь себе – сколько же дерьма я могу вытерпеть?
26 ноября, 0.45
И вот я снова в «Никс-баре». Жду, когда появится Дэвид. Вообще-то мы пришли сюда вместе с Лукасом, но он так напился, что не может функционировать, как нормальная личность, и, приземлясь где-то в конце барной стойки, пялится в телефон, пока я болтаю со знакомыми. Все в баре считают нас с Лукасом идеальной парой, и мы вынуждены танцевать сложный и изящный танец под эту музыку всеобщего мнения. Мы никогда не говорили на эту тему, но оба в курсе и молча дружно делаем все, чтобы соответствовать образу. И даже если я боюсь, что когда-нибудь, когда мы останемся наедине, он все же меня убьет, перед остальными мы разыгрываем великолепное и очень правдивое представление. Оно нужно нам, чтобы притворяться перед самими собой, будто у нас все хорошо и что вдвоем мы – совершенство; маяк семейного счастья и благополучия, что сияет над обломками чужих неудач в личной жизни. Это дает некоторую надежду на лучшее, а моя работа как раз и состоит в том, чтобы давать надежду на лучшее.
Если бы я сказала нашим приятелям, что Лукас бьет меня, или что сегодня днем он трахался с безымянной проституткой, лица которой даже не запомнил, в комнате за порномагазином, или что сейчас он жадно заглатывает оксикодон[10] в туалете, это испортило бы им настроение на весь вечер, а я конечно же этого не хочу. То, что нас с Лукасом воспринимают как идеальную пару, помогает мне верить, что так оно и есть. И это одна из последних ниточек, которая связывает мою жизнь, не давая ей развалиться на куски.
Дэвид только что вошел в бар. Он осматривает помещение, пытаясь найти меня. Я машу ему рукой – в другой у меня стакан с виски-колой. Наверное, Дэвид – единственный человек, который знает правду обо мне, правду о Лукасе и часть правды о нас с Лукасом как о паре. Наши кабинеты разделяет тонкая стена, и он, конечно, слышит все, что у меня происходит. Когда меня рвет в корзину для бумаг или я рыдаю над кофе, Дэвид, как правило, задает вопросы. И все эти годы, вместо того чтобы лгать ему, как остальным, я постепенно впустила его в свою жизнь. И он ни разу не использовал это против меня.
Дэвид – мой лучший друг. Не просто лучший друг по работе, а самое большое приближение к тому, что другие люди в реальности называют лучшим другом. Я никогда не спала с ним, хотя, может быть, и следовало бы. Он неравнодушен ко мне, я это чувствую и флиртую с ним, а иногда подшучиваю над ним – ровно настолько, чтобы поддерживать его в этом состоянии. Чтобы влюбленность не пропала. Но я осторожна и никогда не позволю его чувствам перерасти в нечто такое, что потребует от меня взаимности. Сейчас все именно так, как мне нравится. Дэвид подходит, мы обмениваемся взглядами, и, не говоря ни слова, он отпивает у меня виски с колой через мою соломинку. Я делаю жест Сиду, бармену, чтобы он повторил.
Мы с Дэвидом стоим слишком близко друг к другу и сплетничаем. Мы словно заключены в большой пузырь, в нем безопасно, и мы используем наше ощущение безопасности, чтобы срывать маски с других. Дэвид делает вид, будто не замечает Лукаса; мне непонятно, из вежливости или это оборонительная позиция.
Лукас же сейчас представляет собой обворожительное зрелище. Его галстук наполовину развязан, одна из средних пуговиц на рубашке расстегнута, пиджак он засунул в какую-то из кабинок, а заляпанные очки сдвинул на лоб, как солнечные. Он уже не держится на ногах и потому вынужден опираться о барную стойку. Несмотря на это, все в баре, кажется, очарованы им и любят его еще больше. Официантки, разносящие коктейли, сгрудились в углу и говорят о нем, а рука Лукаса прочно прилепилась к колену чьей-то девушки. И никто, по всей видимости, не возражает.
Когда я подхожу к нему, он убирает руку с девичьей ноги и кладет ее на свое колено.
– Делай вид, что любишь меня, говнюк, – улыбаюсь я.
– Я и на самом деле тебя люблю, грязная шлюха, – отвечает Лукас, и еще неизвестно, шутит он или нет. – Но я устал, впереди длинная неделя, и поэтому я иду домой. – Он берет в охапку пальто и устраивает настоящий цирк из поисков пиджака. Естественно, он его не находит. – Слушай, если увидишь мой пиджак, захвати его домой, ладно? У меня сейчас нет времени все тут обшаривать.
– Нет проблем, – легко обещаю я и прячу в кулаке зажигалку и сигарету, как будто вовсе и не собиралась тоже выйти на улицу. Если я дам ему спокойно уйти, то уберегу себя от очередной пьяной ссоры с рукоприкладством.
– Тебе не обязательно идти со мной. Я и сам нормально доберусь, – бормочет Лукас, и я искоса бросаю взгляд на девушку, чьи коленки он лапал. Мы тепло прощаемся, с крепкими объятиями и нежными поцелуями напоказ, и Лукас, не позаботившись о том, чтобы оплатить счет, вываливается наружу. Я прикидываюсь, что не замечаю, как «коленки» выходят вслед за ним.
– Ничего, если я тоже пойду? – говорит Дэвид. Он тоже прикидывается, будто ничего не видел.
– Да, конечно. Я и сама скоро отсюда отчалю, наверное. Выпью еще рюмку-другую, и все.
Он натягивает пальто, оставляет на стойке пятьдесят долларов и обнимает меня на прощание.
– Увидимся в понедельник. Но если вдруг случится какая-нибудь неприятность, обязательно мне звони, ладно?
– Спасибо, Дэвид. Да, увидимся в понедельник. Счастливо тебе доехать.
Теперь, когда и Дэвид, и Лукас ушли, я могу всецело обратить свое внимание на Эй Джея. Он сидит в кабинке с какими-то людьми, которые мне не знакомы, но по взглядам, что он на меня кидает, я понимаю, что мы оба ждем этого момента – когда можно будет без опасений сбежать в другую комнату, в другой мир, в другую вселенную, где мы обнимемся, обовьемся друг вокруг друга, и нас не будет беспокоить, что думают другие, что они видят… и в то же время нам обоим известно, что такой момент никогда не наступит. Так что мы вынуждены жить как бы между строчками. Нам нужно оказаться где-то… где можно идти рядом при свете дня и не слышать чужих голосов. Он это знает, я это знаю, однако мы оба молчим, потому что сказать здесь нечего.
Это все тот же бар, куда мы постоянно ходим, но почему-то стены кажутся мне новыми. Все вокруг нас как будто бы ярче. Дерзкие и забавные высказывания, написанные мелом на черной доске над баром, смешнее. Музыка свежее – словно это не те самые песни, что я регулярно слушаю последние два месяца. Есть что-то волшебное в том, как он смотрит на меня. Это разрушает все стены, что я так старательно возводила много лет, чтобы отгородиться от людей.
Теперь он стоит возле будки диджея и о чем-то его просит. И показывает на меня. Я – в другом конце бара; стараюсь держаться как можно дальше от него. Он замечает это и видит меня, и диджей ставит мою любимую песню, а он произносит одними губами: «Это для тебя». Я киваю, как будто в этом нет ничего особенного, но вся моя жизнь взрывается, и единственное, о чем я в состоянии думать, – это как я хочу провалиться в кроличью нору вместе с парнем, даже имени которого я не знаю. Полного имени.
Никто не обращает на нас внимания, и он приближается ко мне и прижимает к себе, и я утыкаюсь лицом ему в шею – это самое надежное и самое опасное место на свете, и он говорит: «Ты мне нравишься… это больше, чем секс». Я смеюсь, хохочу во все горло, потому что все, что я могу, – смеяться над этим, а потом снова зарываюсь лицом в его шею. Он пахнет мужчиной и шепчет, что хочет увести меня отсюда, и снова спрашивает, почему я встречаюсь с кем-то другим, а я шепчу в ответ: «Разве я встречаюсь с кем-то другим?» Он говорит, что знает – у меня есть бойфренд, и я отвечаю: «Это потому, что я не встретила тебя первым», и теперь смеется уже он и еще теснее прижимает меня к своей груди.
Когда я вдыхаю его запах, новая жизнь проносится у меня перед глазами, но он вдруг отстранятся и идет в туалет. Я оглядываюсь – не видит ли кто, – но ни один человек не замечает, что бар пронзила молния, и выхожу вслед за ним. Он в туалетной кабинке. Я останавливаюсь у раковины, мою руки и жду, когда он выйдет, но делаю вид, что это не так.
Он появляется. Кажется, он не ожидал увидеть меня здесь. Как ни в чем не бывало он тоже подходит к раковине и ополаскивает руки, искоса посматривая на меня. Я веду себя совершенно естественно, как будто не притащилась в туалет ради него, и он направляется к двери впереди меня. Все, шанс потерян, думаю я и тоже направлюсь к двери. И в тот самый момент, когда я уже почти вышла, он вдруг поворачивает назад, хватает меня за руку и втягивает обратно. В туалете горит свет, но он поворачивает выключатель и целует меня, и в моей жизни начинается пожар.
Он обнимает меня одной рукой, а другой придерживает дверь, чтобы никто не вошел. Я запускаю пальцы в его волосы, а потом глажу его по спине, спускаясь все ниже, к ягодицам, и чувствую, как его твердый член утыкается мне в ремень. И мечтаю о том, чтобы мир тоже выключился, как свет, и я могла бы зависнуть здесь до тех пор, пока моя вечная боль не прекратится.
Он отрывается от моих губ, берет за подбородок и говорит:
– Посмотри на меня.
Я окунаюсь в серую бездну его глаз. Атмосфера так накалена, что мне кажется – сейчас я растаю и растекусь прямо у его ног лужицей чистого секса.
– Ты такая красивая, – выдыхает он и целует меня снова, и я все-таки растекаюсь.
Мне плевать на Лукаса, постройте передо мной ряд мужчин – и я не смогла бы узнать его среди прочих. Мы яростно занимаемся сексом, и я хочу остаться, остаться, остаться…
А потом все заканчивается.
Он выглядывает наружу и, когда берег наконец чист, посылает меня вперед. Никто так ничего и не заметил, а я собираюсь хранить эту тайну, словно код от ядерного чемоданчика. Он прощается с нашими общими знакомыми, потом целует меня на глазах у всех, но опять же никому нет до этого дела. После этого он уходит в ночь.
29 ноября, 9:11
Я еще не успеваю как следует усесться в кресло и откопать в сумке болеутоляющее, как раздается негромкий, размеренный, но крайне настойчивый стук в дверь. Очень характерный звук; он хорошо мне знаком. Это может быть только Эдди. Только он так стучит. Мне и еще Дэвиду. Я слышу, как он шаркает ногами, переходя от моей двери к его, и стучит то туда, то сюда. Обычно он ждет нас у выхода из конференц-зала после утренних совещаний, а потом увязывается за мной или Дэвидом и задает вопросы. Если он почему-то упускает эту возможность, то занимает пост у наших дверей и стучится к нам по очереди, до тех пор, пока кто-то из нас не выходит по делам или открывает дверь, чтобы впустить кого-то еще. Или иногда мы не выдерживаем и все же открываем ему.
– Сэээээээээм, Дээээээвиииид. – Речь Эдди звучит как одно длинное слово без пауз. В конце каждого предложения он повышает интонацию, так что оно всегда кажется вопросом, а еще он умудряется бубнить, как пьяный, заплетающимся языком, но при этом все абсолютно четко различимо. Эдди – не мой пациент, и не Дэвида тоже. С ним работает Гэри, но он очень привязался ко мне и к Дэвиду. Почему именно к нам – я не знаю. Может быть, причина совсем проста – наши офисы рядом и расположены близко к компьютерной комнате, например. Шаркающие шаги за дверью продолжаются.
– Сээээээм… Я-знаю-что-ты-там… пожалуйста-открой-это-я-Эдди…
Его голос похож на свист воздуха, выходящего из сдувающейся шины. Я беру трубку офисного телефона, подношу ее к уху и очень деловым тоном начинаю говорить что-то вроде «да-да» и «конечно». Нацепив очки, чуть приоткрываю дверь и выглядываю наружу, как будто только сейчас услышала Эдди. Эдди принимает это за приглашение и уже просовывает в щель ногу, обутую в грязную кроссовку без шнурков.
– Я разговариваю по телефону, давай позже, – произношу я одними губами в надежде, что этого будет достаточно. Но я ошибаюсь.
– Неееееееет, Ссссээээээээмммм… я-пришел-поговорить – с-тобой-мне-надо… – Он упирается ладонями в дверь и толкает ее, но не очень сильно.
Я нарочито прикрываю трубку рукой и говорю:
– Я знаю, Эдди, и тоже хочу с тобой поговорить, но это очень важный звонок. Нам придется побеседовать позже.
– Ооо’ккккеееей… через-час?
Я киваю и закрываю дверь. Когда Эдди вернется через час, я ему не открою. Мне очень хотелось бы найти в себе силы и энергию, чтобы дать Эдди то, что ему нужно, но сегодня это просто невозможно. Сегодня утром я не стала заморачиваться и мыть голову, к тому же проснулась я с окровавленным пластырем в виде бабочки в волосах, так что мне пришлось скрутить их в аккуратный пучок, чтобы прикрыть его. Я снимаю очки, кладу телефон на стол и думаю, сколько еще я смогу все это выдерживать.
Эдди живет в «Туфлосе» уже бог знает сколько лет. За те шесть, что я здесь работаю, его, кажется, раза три забирали от нас и помещали в отделение скорой психиатрической помощи. Каждый раз – из-за попытки или угрозы суицида. Это одна из самых трудных вещей в нашей профессии; предполагается, что мы должны уметь отличить серьезную угрозу самоубийства (или соответствующее поведение, или даже замечание) от несерьезного и действовать соответствующим образом. Но когда твои пациенты часами пилят запястья скрепками, пока не появятся крошечные красные капельки крови, и почти каждый заявляет нечто вроде «Если мне не дадут апельсиновый сок, я покончу с собой», сделать это довольно сложно.
После того как Эдди увезли в третий раз, месяца четыре назад, наше утреннее совещание Рэйчел решила посвятить его случаю. Я помню, как обильно потел Гэри все время, пока мы сидели в конференц-зале. Он то и дело прикладывался к банке с вишневым «Гаторейдом», и над его верхней губой алел мокрый полукруг. Гэри дико боялся, что кто-нибудь подаст на него в суд, если Эдди удачно завершит очередную попытку самоубийства. Стараясь как-то защитить себя, он тщательнейшим образом прошерстил все планы лечения, достигнутые результаты, оценки психологического состояния и проверил, не совершил ли где ошибку. Он даже проверил все бумаги на предмет опечаток и оставленных кофейных пятен и несколько раз отксерил все документы, пока наконец история болезни Эдди не показалась ему идеальной – то есть такой, что никто, прочитав ее, не сумел бы ни в чем обвинить лечащего врача, а именно Гэри. Но у Эдди не было семьи, так что сама мысль, что кто-то решит засудить Гэри в случае суицида Эдди, представлялась просто смешной.
Еще я помню, что Рэйчел пришлось взять все в свои руки, потому что Гэри никак не мог успокоиться, овладеть собой и связно все изложить. Она сделала несколько копий с важными выдержками из истории болезни Эдди, выделенными маркером, раздала их нам и попросила «поделиться» с соседом. Моим соседом, как обычно, был Дэвид. Я, как всегда, умирала от нереально сильного похмелья, и Дэвид как раз тихонько указал мне, что в волосах у меня застрял бычок от сигареты. Не привлекая внимания, он незаметно вытащил его, и мы молча сконцентрировались на бумагах. И хотя это была лишь часть истории болезни Эдди, пачки листов оказались довольно толстыми. Записи были испещрены дополнительными заметками, некоторые куски вычеркнуты, диагноз несколько раз изменен. Кроме того, повсюду были наклеены липкие листочки с различными приписками и другие липкие листочки поверх этих. Это была история болезни, передаваемая от специалиста к специалисту, после того как очередной психолог осознавал, что уже исчерпал свои ресурсы, а Эдди все равно ускользает. Вообще, это очень страшно для человека, работающего с психически больными, – видеть, как кто-то тонет, и понимать, что ты не можешь спасти ему жизнь.
Тогда мы с Дэвидом быстро пролистали копии, задерживаясь на ключевых словах и выражениях, подчеркнутых маркером, и одновременно заметили заключение, подписанное неким В. Д. Р. – чьи это инициалы, мы не узнали, – датированное 2003 годом. «Сломлен окончательно. Неизлечим. Помощь невозможна».
– Что еще за черт? – выпалила я, на полуслове прервав Рэйчел. Моя внезапно вспыхнувшая ярость переливалась через край. – Серьезно, что это еще за белиберда?
– Что такое? – осведомилась Рэйчел.
– «Помощь невозможна»? А разве наша работа – не помогать людям? Не этим ли мы все здесь занимаемся? Нет такого понятия, как «сломлен окончательно». Это человек, человеческое существо, а не дом, разнесенный ураганом. Господи боже.
– Сэм, я согласна с тобой, но вспомни, пожалуйста, – лечение Эдди много лет не дает положительных результатов.
– Прекрасно, но если мы будем отказываться от больных, то что им останется делать? Наша задача, наша цель – не отказываться, не сдаваться. Или я что, сумасшедшая? – Дэвид обнял рукой мое кресло и большим пальцем умиротворяюще погладил мое плечо. И я действительно немного утихомирилась. А когда он прошептал мне в ухо: «Тише, тише, тигрица», я успокоилась совсем.
– Нет, Сэм. Ты не сумасшедшая. Я чувствую то же самое, – сказала Рэйчел.
Тогда я ощущала очень сильную потребность защитить Эдди, потому что он так привязался ко мне и Дэвиду. Я и сейчас испытываю к нему жалость. Он – мое слабое место.
Пока я сижу за столом и вспоминаю то собрание, меня вдруг накрывает, и накрывает не по-детски. Как я могла? Почему же я его не впустила? Нужно было открыть ему дверь и поговорить с ним. Найти для него время. Если все отказываются его спасать, это должна сделать я. Я могла бы нырнуть и вытащить его из пучины. Но моя голова просто лопается от мыслей о Лукасе, об Эй Джее, от параноидального страха, что сделает Лукас, если узнает о туалете в «Никс-баре». Мне никак не собраться с силами, чтобы сфокусироваться на Эдди.
1 декабря, 17:30
Каждый год весь персонал нашего заведения должен проходить тестирование на оценку психологического состояния. Учитывая, что многие из нас – профессионалы с лицензией, вполне способные провести нормальное тестирование, мы уже много лет «оцениваем» друг друга и отдаем результаты представителю Нью-Йоркского государственного департамента по вопросам психического здоровья, который мы для простоты называем ДПЗ. Если кто-то из персонала признается по тем или иным причинам непригодным для работы в столь напряженных, вызывающих стресс условиях, принимаются соответствующие меры. Разумеется, все эти предосторожности кажутся просто нелепыми, если обратить внимание на тот факт, что только безумец добровольно согласится здесь работать.
Однако в этом году, благодаря смене политики в области здравоохранения и все более возрастающему беспокойству о психическом здоровье нации, нам не позволено проводить тестирование самим. Вместо этого к нам приедут несколько независимых профессиональных психиатров с большим опытом, нанятых ДПЗ по контракту, совершенно бесстрастные и холодные специалисты (не то что свои, родные коллеги), и в течение недели, наблюдая за нами и задавая вопросы, дадут собственную оценку нашему психологическому состоянию. Каждый член персонала, особенно те, кто имеет доступ ко всем пациентам, всем документам, не говоря уже о всех наркотических веществах, будут опрошены особо двумя отдельными психиатрами. Эти «интервью» будут включать в себя целый ряд диагностических вопросов, тесты, а также тщательную проверку бэкграунда. Понятное дело, в ожидании всего этого я уже готова обделаться от страха. Все начинается в понедельник. Я твердо обещаю себе не напиваться до ступора в выходные, потому что в понедельник мне понадобится ясная голова. Ясная голова в понедельник, ясная голова в понедельник.
Весь день я считаю часы до той минуты, когда мы с Дэвидом сможем сбежать из реальной жизни и потихоньку спуститься в кроличью нору пьянства. Дни в «Туфлосе» всегда длинные и крайне утомительные, но с наплывом новых пациентов и возросшей ответственностью и количеством работы возможность выйти отсюда пораньше и по-настоящему расслабиться значительно уменьшается. Я с нетерпением жду, когда мы с Дэвидом выскочим отсюда как пробка из бутылки и я наконец смогу хоть на некоторое время спрятать голову в песок от всего, что может считаться обязательствами взрослого человека.
– Погоди секунду, Джули мне только что написала, – говорит Дэвид.
Я театрально закатываю глаза, прозрачно намекая на то, что мне совершенно не хочется, чтобы к нам присоединилась еще и Джули. Но пока Дэвид сочиняет сообщение с отказом, в поле зрения возникает сама Джули, тошнотворно жизнерадостная, во всем своем кашемировом великолепии от «Берберри».
– Привет! Дэвид, а я только что послала тебе эсэмэс. Как дела, ребята?
Как можно оставаться настолько энергичной после рабочего дня в «Туфлосе»? Для меня это загадка из загадок.
– А я как раз писал тебе ответ, – сообщает Дэвид и убирает телефон в задний карман.
– А вы собирались куда-то отправиться? Если да, я бы так хотела пойти вместе с вами! – У нее огромные, умоляющие, влажные глаза, и мне почти не хватает духа ей соврать. Почти.
– Да, – встревает Дэвид, прежде чем я успеваю завернуть Джули. – Мы идем в «Джиммиз». Ты в компании?
– «Джиммиз»? Так это туда ты хотел пойти? – Я старательно изображаю спокойно-безразличный тон. – Слушай, я однажды переспала с тамошним барменом, и он после этого названивал мне целый месяц. Чуть с ума не свел. Сам понимаешь, теперь я не могу там появляться. Вы идите, а я присоединюсь к вам как-нибудь в другой раз.
Договаривая, я уже иду по коридору, достаю из сумки сигареты и ищу зажигалку.
– Погоди, Сэм, я… я…
Дэвид еще не успевает закончить предложение, как мой разум взрывается от ярости. Гневный голос в моей голове вопит – как, как он мог пригласить эту жалкую гусеницу в один из наших баров?! Это нарушает священные узы нашей дружбы! Она нарушает! Зачем он впустил к нам кого-то еще? Почему предпочел ее мне? Необходимо во что бы то ни стало сохранить лицо. Он не может оставить меня ради нее. Это я его оставляю. Ему не удастся меня бросить, если я брошу его сама.
– Ничего страшного. Увидимся завтра, – бросаю я через плечо и выхожу в темноту раннего вечера.
Сигарета никак не закуривается, сраный ветер постоянно задувает пламя зажигалки. Мне хочется завизжать, обматерить ветер, обвинить его в том, что я плачу. Я забегаю в метро, прячусь в последнем вагоне и убеждаю себя в том, что у меня совершенно нет желания убить Дэвида и проклясть его самыми страшными словами за то, что он покинул меня. Меня! А ведь я была ему таким хорошим другом! И после всех этих лет он променял меня на Джули. Джули, эту невнятную, смехотворную пародию на человека! Господи боже!
Я устраиваюсь на сиденье для инвалидов на линии С и сворачиваюсь в клубочек. Поезда на С всегда трясет и раскачивает сильнее, чем на других линиях, и это помогает немного успокоиться. Мне нужно утешение. После того как меня отвергли, надо сделать что-то, что возместит нанесенный моральный урон. Надо, чтобы кто-то любил меня. Где, к чертовой матери, носит Эй Джея?
1 декабря, 19:06
Мой телефон не перестает пиликать с тех пор, как я вышла из метро. Это Дэвид. Но я ни разу ему не ответила. Я читаю каждое сообщение, которое он мне присылает, но ни одно из них не может погасить в моей душе гнев и негодование за то, что он предпочел Джули. И он даже не понимает, почему это так ужасно – бросить меня ради блестящей, пластмассовой копии человека.
Я в «Никс-баре», здороваюсь с приятелями, обмениваюсь со всеми поцелуями, обнимаюсь, отвечаю на дежурные «как дела». Все как обычно. Закутавшись в фальшивый оптимизм, окруженная фальшивой искренностью, я осматриваю бар в поисках хоть одного действительно дружеского лица… или того, ради кого я сюда пришла.
Войти в бар – все равно что сесть в автобус. Только что было темно, ветрено и холодно – и вот ты уже в тепле, вокруг шумно и все движется. Собственно, здесь тоже всегда темновато, как будто специально для того, чтобы можно было выглядеть на все сто, когда на самом деле ты чувствуешь себя хуже некуда. Тут слишком много телеэкранов, которые показывают слишком много разных программ, так что пестрит в глазах, и очереди в женский туалет всегда слишком длинные, но это пустяки. Диджей подмигивает мне, и я обрушиваюсь на свой любимый табурет, у центра барной стойки. Я еще даже не сказала привет Сиду, а он уже наливает мне мой обычный коктейль – «Джек Дэниелс» с колой.
– Сэмми! – с ирландским акцентом кричит он. – Ну как ты, куколка?
– Сид Вишес! Как у тебя дела, детка моя?
Что бы ни происходило в моей жизни или голове, я всегда буду вот такой счастливой, веселой карикатурой на саму себя. Мало кому, слава богу, захочется заглянуть за эту маску, а если вдруг кто-то и захочет, вряд ли он сумеет что-то разглядеть. Опять же, слава богу.
«Джетс» еще не начали матч, и я смотрю шоу и поглядываю на дверь. Однако я никак не могу допустить, чтобы на лице у меня застыло выражение ожидания, и поэтому делаю это тайком. Я не знаю, как мне призвать Эй Джея в бар одной лишь силой воли, так, чтобы не пришлось кому-то звонить, узнавать его номер и звонить самой, поэтому решаю оставить все на волю случая. Когда Сид возвращается со второй порцией, я понимаю, что опять пью слишком быстро, а делать этого не следует. Подходит Клэр, самая сексуальная из юных блондинистых официанток.
– Привет, дорогуша! – Она наклоняется и целует меня в щеку, одновременно удерживая на весу левой рукой поднос с пустыми бокалами. – А где же сегодня вечером Лукас?
– Где что? – Я прекрасно расслышала вопрос, но мне требуется хотя бы минута, чтобы сочинить ответ. Ну что тебе сказать? Он с кем-то трахается. Он занят наркотиками. Он покупает «Джемесон», чтобы выпить его по дороге в бар. Он прикладывает лед к костяшкам пальцев, после того как в прошлый раз…
– Лукас! Где Лукас? – переспрашивает она с улыбкой.
– Он еще на работе. Что-то очень важное и очень финансовое не дает ему вырваться. Я даже не в курсе, чем конкретно он занимается целыми днями.
Она снова улыбается; лишь почти незаметное сожаление в ее глазах намекает на то, что она влюблена в Лукаса.
– Ну что ж… Рада была тебя увидеть!
Она подходит к сервировочной станции и ставит поднос. Я провожаю ее улыбкой, не разжимая губ.
Я просматриваю сообщения Дэвида. Сначала удивленные – он, совершенно очевидно, не понял, почему я ушла. Потом виновато-успокаивающие – он сообщает, что ему совсем не весело с Джули и жаль, что меня здесь нет. Самые последние явно написаны под воздействием алкоголя, и Дэвид начинает пересекать ту невидимую линию, что отделяет просто дружбу от чего-то большего. Я утешаюсь мыслью, что он, возможно, влюблен в меня. Хотя я и напоминаю себе, что Эй Джей может так и не появиться, а Лукас, мой законный бойфренд, не прислал мне ни единого слова.
У меня возникает знакомое ощущение, что все мои реакции замедляются, а пространство вокруг съеживается. Я больше не смотрю по сторонам. Вместо этого создаю свой собственный мир, единственный, который мне нужен, в радиусе двух футов. У меня есть выпивка, я довольна сообщением от Дэвида, я уже не могу понять, почему Клэр буравит меня взглядом – не потому ли, что ожидает появления Лукаса? – и наконец прихожу в себя. Я снова во всеоружии. Вслушиваясь в звуки игры, я чувствую себя на своем месте, мне хорошо и уютно. В кармане вибрирует телефон – очередное сообщение от Дэвида.
«Она напилась в дупель, не знаю, что делать. Где ты?» Ревность дергает меня за какой-то особо чувствительный нерв, и во рту возникает неприятный металлический привкус отчаяния. Значит, он о ней беспокоится. Нет, я не дам этому испортить мне настроение. Я полностью погружаюсь в сочинение достойного ответа, набираю и стираю несколько вариантов и наконец останавливаюсь на следующем.
«Ты знаешь, где я».
«Буду через десять минут».
Дэвид оставляет ее, чтобы приехать ко мне? Это неожиданно. А я хочу, чтобы он приехал? Я ведь еще не оставила надежд на материализацию Эй Джея. Я мысленно подбрасываю монетку и пытаюсь решить, стоит ли переубедить Дэвида, чтобы он не приезжал. Прежде чем я успеваю хоть что-то сообразить, он предстает прямо передо мной.
– Черт, почему ты не пошла с нами? Я застрял с ней на несколько часов! Она совсем не умеет пить. Вышло сплошное безобразие. – Дэвид задыхается, и вид у него измученный; я догадываюсь, что он бежал всю дорогу от метро.
– Я? Не я та идиотка, что пригласила ее пойти с нами!
Не могу понять, рада ли я, что он здесь, или все еще в бешенстве оттого, что он меня оставил.
– Сэм, ты просто слилась. Могла бы тоже пойти с нами. – Дэвид машет Сиду, чтобы он принес воды.
– Как угодно. Ты прекрасно знаешь, что я не хочу никуда ходить с Джули.
Не могу смотреть ему в глаза. Если я сейчас замечу защиту в его взгляде – а я очень этого боюсь, – так вот, если я ее замечу, то это будет означать, что он отошел от меня к ней. Чтобы избежать этого, я наклоняюсь влево, уворачиваясь от его локтя – Дэвид тяжело плюхается на табурет рядом со мной и переводит дыхание.
– Она борец в легком весе. Кошмар! Мы даже не дошли до «Джиммиз». Она сказала, что предпочла бы пойти куда-нибудь в верхнюю часть города, и мы отправились в то заведение на Восемьдесят четвертой, где скатерти в красно-белую клетку, помнишь? Там она выпила два бокала совиньона – и все. Конец. – Он старается задобрить меня, но я этого не хочу.
Мы сидим плечом к плечу, смотрим игру, и я чувствую, что от его прикосновения исходят мощные волны желания, но мне все еще слишком обидно, и поэтому я молчу. Не глядя на меня, Дэвид спрашивает, не хочу ли я шот.
– «Патрон Сильвер», – бросаю я, также не глядя.
Дэвид ловит взгляд Сида, делает над губой усы указательным пальцем, и Сид послушно наливает три шота – два «Патрона» и один «Джемесон» для себя. Он приносит нам напитки и поднимает свой.
– Чтобы все было стильно. – Сид кивает в сторону каких-то упырей в углу, опрокидывает стаканчик и швыряет его через плечо.
Дэвид держит свою текилу передо мной, чтобы мы чокнулись. Я вижу его раскрасневшиеся щеки и искренние глаза и наконец складываю оружие. Мы чокаемся и опустошаем наши стаканчики с улыбками на лицах, и я притягиваю его к себе и обнимаю – может быть, слишком интимно. Отчаяние заставляет людей делать странные вещи.
Мы стоим у бара слишком близко друг к другу, и, когда в зал вдруг входит Эй Джей, мой желудок словно подпрыгивает к горлу. Я тут же невольно начинаю засовывать выбившуюся рубашку в штаны, поправлять волосы и проверять языком, не пристало ли что к зубам. Дэвид не замечает перемен в моем поведении, он продолжает мне что-то говорить, а потом я ощущаю, как его рука сползает мне на поясницу, и подпрыгиваю, как будто меня обожгло. Эй Джей меня пока не увидел, и я в ужасе – вдруг он почувствует, что я на него смотрю. Движение во всем баре снова замедляется, а я словно стою в самом центре и жду, когда Эй Джей заметит меня, и чувствую себя персонажем из сериала «Клиника» в том кино про Нью-Джерси.
1 декабря, 20:23
Я не могу иметь одновременно и Дэвида, и Эй Джея. О боже, из этого ничего не получится. Если Эй Джей увидит меня с Дэвидом, он больше никогда меня не поцелует, и я не смогу снова испытать это чувство – забыться и потерять голову. И – о боже! – он меня все-таки замечает. Подмигивает еще от входа и пробирается к бару, в мою сторону.
Он здоровается с Дэвидом, они жмут друг другу руки и по-мужски обнимаются. После этого Эй Джей переносит внимание на меня. Притискивает к себе и одной рукой обнимает за талию. Он целует меня в шею – подбородок у него колючий, – чуть отстраняется, чтобы посмотреть на меня и снова подмигивает. Я боюсь, что лицо меня выдаст, и поэтому смотрю вниз. По-прежнему держа меня в объятиях, Эй Джей машет бармену. Сид делает смешной жест – словно изображает волну двумя пальцами – и приносит джин-тоник. Сегодня ничего не будет; это не может произойти, когда рядом Дэвид. Мы как трехколесный велосипед, а должны быть обычным двухколесным. Музыка слишком настойчиво лезет в уши, я краснею, мне жарко и хочется, чтобы все изменилось.
Эй Джей выглядывает в толпе знакомых, и все девушки смотрят только на него. В моей груди загорается ревность, и я тут же тянусь за своим коктейлем. Оказывается, его держит Дэвид. Я быстро вырываю бокал у него из рук, так что соломинка остается у него во рту. Дэвид улыбается своей дурацкой улыбкой, соломинка торчит у него в зубах, и я понимаю, что люблю его, но в данную минуту мне бы хотелось, чтобы он как-нибудь растворился в барной стойке.
Эй Джей здоровается со всеми подряд, по-прежнему обнимая меня, и я чувствую себя особенной и избранной, но в то же время мне страшно. Дэвид начинает все понимать и, правильно истолковав намек, возвращается к игре. Эй Джей садится на мой табурет, придвигает меня поближе, и я стою между его коленями. Он спрашивает, как прошел мой день, и, хотя все пожирают его глазами, смотрит только на меня. Я пытаюсь сохранять спокойствие, как будто ничего особенного не происходит, но получается у меня плохо. Губы дрожат, и я не могу с этим справиться, учитывая раны, нанесенные моему самолюбию ранее, и к тому же я слишком пьяна.
В кармане снова вибрирует мобильный, и, поскольку это не Дэвид и не Эй Джей, мне все равно, кто это. Однако мне необходимо на что-то отвлечься, поэтому я достаю телефон и читаю сообщение. «Где ты?» Лукас. Черт, вот это мне сейчас совсем не нужно.
Эй Джей играет моими волосами. Он смотрит через плечо и разговаривает с Дэвидом, но его руки убирают светлые пряди с моего лица, гладят их, ворошат. На меня будто накатывают огромные океанские волны, и каждая готова раздавить меня, но я с трудом пытаюсь измыслить, что мне ответить Лукасу. Прикосновения Эй Джея, исходящее от него электричество не дают ни на чем сосредоточиться.
Я засовываю телефон в карман и притворяюсь, что никакого эсэмэс от Лукаса вообще не было. Притворяться перед самой собой – искусство, которым я владею в совершенстве, так что это мне не в новинку. Эй Джей откидывает мои волосы назад и спрашивает:
– Так что же мы собираемся делать?
– По шоту? – Я не могу придумать ответа лучше.
Он улыбается, словно Чеширский кот, и целует меня в губы. На долю секунды небеса разверзаются, и меня затягивает в безопасное укрытие, где тепло и уютно, а музыка звучит так, словно ее сочинили специально для того, чтобы билось мое сердце. Эй Джей отпускает меня и поворачивается к Сиду.
Укрытие исчезает, и вот я снова беззащитна и стою у всех на виду. Эй Джей заказывает выпивку, а уязвленный Дэвид смотрит на меня и будто требует ответа. Меня терзает невыносимое чувство вины, и я не могу позволить, чтобы Дэвид страдал из-за меня, поэтому снова начинаю с ним флиртовать. Он все так же сидит лицом к экрану, на табурете рядом с Эй Джеем; я обнимаю его за плечи и целую в щеку. Он спрашивает, не пьяна ли я; я вру и отвечаю, что нисколько. Он достает телефон и просматривает сообщения, которые посылал мне сегодня. Дэвид явно огорчен, и я ничего не могу с этим поделать.
– За что пьем? – Эй Джей разворачивает табурет в мою сторону, а Дэвид через его плечо передает мне текилу. – С тобой все нормально, чувак? – спрашивает он у Дэвида.
– Да, чувак. Просто на работе был тяжелый день. – Дэвид поворачивается к нему лицом, но в глаза не смотрит.
– А, вот как. Ну тогда тебе точно нужно выпить. – Эй Джей улыбается мне, и я улыбаюсь в ответ и стараюсь пробудить в себе уснувшее чувство вины – ведь это причиняет боль Дэвиду. Я вливаю в себя текилу, и ее жгучая сладость окончательно добивает вину. Мне уже почти все равно. Я ставлю стакан на стойку, закрываю глаза, покачиваюсь в такт музыке между колен Эй Джея… и забываю обо всем.
Неожиданно я ощущаю губы Дэвида на своей щеке – он целует меня на прощание. Я тянусь за ним – но он уже выходит из бара. Теперь мы вдвоем. Я так ждала этого момента, и вот мы с Эй Джеем вдвоем в «Никс-баре», Лукас пропал, Дэвид оскорблен, а я вижу только светлые глаза Эй Джея и его темные брови, и больше всего на свете мне хочется снова упасть в эту пропасть.
Он вручает мне еще один шот, смотрит на меня и прикусывает губы. Я пью, наклоняюсь к нему и целую. От него пахнет горячим алкоголем, сигаретами и коричной жвачкой. У него мягкий и теплый язык, он нежно исследует мой рот, но меня вдруг охватывает паника. Мы же на людях! Я отстраняюсь и облизываю губы.
Я все еще танцую – музыка такая громкая, и народу все прибывает. Дверь уже не закрывается, из нее сильно сквозит, и мне становится холодно, так что моя шея даже покрывается мурашками. Руки Эй Джея все настойчивее гладят меня между ногами.
– Погоди, – улыбаюсь я и убираю их. – Мы не можем так поступать. У меня есть бойфренд. Мы не можем.
– Не можем что? Я ничего не делаю. – У него лукавая улыбка, такая убедительная, но я твердо помню, что нас не должны застать за занятиями любовью в баре.
– Не можем делать вот это, Эй Джей. Нет. – Я закусываю нижнюю губу, давая ему возможность переубедить меня. – Я не могу целоваться с тобой здесь.
– Почему ты не можешь со мной целоваться?
Ему на меня наплевать. Ему на все наплевать.
– И что ты вообще делаешь с Лукасом, кстати?
– Вру ему.
– Пойдем. – Эй Джей подписывает счет и ведет меня прочь.
– Куда мы идем?
– Ко мне домой.
– Нет-нет-нет. – Он держит меня за руку, а я торможу, как собака, которая натягивает поводок. Как мне отказаться идти к нему? – Эй Джей, я не могу… не могу пойти к тебе.
– Можешь.
Он прижимает меня к груди, и мы пятимся назад, к давно закрытому и заброшенному винному погребку. Он прислоняет меня к поломанному ставню – я чувствую холод металла – и начинает целовать. Его губы такие горячие, а на улице так холодно. Мы целуемся и целуемся и не можем оторваться друг от друга, как жаждущие секса подростки.
Мимо идут люди, но мне все равно. Неожиданно для себя я задираю ногу и обхватываю его спину; он придерживает ее мускулистыми руками и еще сильнее вдавливает меня в ставни.
Мне известно, что он живет где-то поблизости, но я никогда не была у него дома. Пошатываясь, как и полагается пьяным, мы преодолеваем последние ступеньки крыльца, и я кажусь себе кинозвездой, которую телохранитель прикрывает от папарацци.
Мы вместе вваливаемся в одну секцию вращающейся двери и входим в вестибюль. Все это время Эй Джей не выпускает моей руки. Он приветствует ночного консьержа, который, кстати, сообщает нам, что «Джетс» проиграли, и я смущенно улыбаюсь, зная, что меня здесь быть не должно.
На двадцать седьмом этаже Эй Джей выходит из лифта и ведет меня по коридору к своим апартаментам. В одной руке он держит ключ, в другой – мою руку. Он открывает дверь, и мы оказываемся в темной квартире, где почему-то пахнет осиной.
Я делаю мысленную инвентаризацию его вещей, выискивая «красные флажки», следы присутствия других женщин – что-нибудь, что заставило бы меня выбежать отсюда без оглядки и спастись от последствий этого ужасного решения. Но ничего особенного не вижу. В квартире чисто и все лежит и стоит на своих местах – за исключением банного полотенца, повисшего на руле велосипеда.
В раковине я замечаю несколько бокалов из-под вина и просто умираю от желания взглянуть, не осталось ли на каком-нибудь из них следов помады. Но Эй Джей провожает меня в гостиную, усаживает на диван и велит снять пальто. Только сейчас он отпускает мою руку и подходит к холодильнику.
– Выпить хочешь?
– Да, конечно. – Наверное, мне не следует больше пить, но надо как-то успокоить нервы.
Он приносит две бутылки «Хайнекена» и садится на диван рядом со мной, практически ко мне на колени. Затем наклоняется, берет пульт – от чего, я разобрать не могу, – и нажимает кнопку. Комнату заполняют звуки группы The National. Эй Джей откидывается на спинку дивана и своим плечом вдавливает меня в подушки. Он кладет руку мне на колено и попивает пиво.
Чувствую себя так, будто я голая, и нервничаю, но пытаюсь казаться раскованной и сексуальной. Когда мы были в баре, толпа придавала мне уверенности в себе, но сейчас шум не может прикрыть мое смущение.
Эй Джей ждет продолжения. Он слушает музыку, но не забывает поглаживать мое бедро.
– Мне надо пописать, – наконец выдавливаю из себя я. Необходимо хоть на время сбежать отсюда.
Он показывает, где ванная, я хватаю сумку, скрываюсь там и запираю дверь. Здесь все тоже в полном порядке. Запасные рулоны туалетной бумаги выстроились на полке над унитазом, журналы аккуратно сложены на маленьком столике, а в разных местах расположились открытые флаконы с одним и тем же одеколоном.
Я смотрюсь в зеркало, но мало что вижу. Алкоголь застилает глаза. Нужно как следует проморгаться, чтобы понять, как я выгляжу на самом деле. Смахнув из-под глаз крошки осыпавшейся туши, я лезу в сумку за своим набором для экстренных случаев. То есть для непредвиденного секса.
Я сбрасываю кеды и снимаю штаны, потом стягиваю белье и надеваю свежее. Замазываю темные круги под глазами и жалею, что сейчас я не загорелая. Наверное, у меня изо рта несет сигаретным дымом. Я выдавливаю капельку зубной пасты Эй Джея на кончик пальца и втираю в десны. Потом я писаю и снова надеваю штаны и кеды.
Первое, что я вижу, вернувшись в гостиную, – это лицо Эй Джея, освещенное голубоватым светом телевизора. Я подхожу к дивану, он улыбается и, не давая мне сесть, пристраивает меня к себе на колени. Я сажусь на него, как наездница, верхом, лицом к стене, а он стаскивает с меня свитер. Потом поднимает руки, сдирает с себя рубашку, бросает ее на пол, и вместе с ней туда же падают все мои опасения и заботы. Наша одежда разбросана по комнате. Он скидывает подушки на пол и ложится на меня сверху, а в руке его откуда ни возьмись появляется презерватив. Все плывет у меня перед глазами, я не вижу, надел он его или нет, но потом замечаю на полу яркую обертку и чувствую, как он входит в меня. Я закрываю глаза и подстраиваюсь под его ритм.
Образ Лукаса возникает перед моим внутренним взором, и я не к месту осознаю, что никто, кроме него, не видел меня голой уже больше года. Я тяжело дышу, во рту пересыхает, и я тянусь за бутылкой пива, а Эй Джей целует мою грудь и обнимает еще крепче.
Большая часть пива проливается на диван и на меня, но в рот попадает как раз достаточно. Одной рукой Эй Джей поддерживает меня за поясницу, а другой опирается о диван. Он скользит во мне взад-вперед и при этом смотрит мне в глаза, и я тону в них, как в пучине. Это самое сильное ощущение, что я испытывала в жизни.
Он не отводит взгляд; капельки пота у него на висках кажутся мне самым сексуальным зрелищем на свете. Его рот слегка приоткрыт, он тоже тяжело дышит, но медленно. Наконец он утыкается лицом мне в шею, и я чувствую, как его пот скатывается по моей ключице.
5 декабря, 9:21
Я сижу в одном из небольших залов для групповых сеансов и жду первой встречи с психиатром, который должен оценить мое психологическое состояние и пригодность к работе. Я выпила, наверное, целое ведро кофе, и теперь у меня мокрые от пота ладони, а зубы непроизвольно то сжимаются, то разжимаются.
Я очень ясно представляю себе эту тетку-мозгоправа, что придет сейчас вскрывать мне голову, и считаю секунды до ее появления. Она, конечно, окажется высокой, без капли макияжа, с сухими, топорщащимися во все стороны неокрашенными волосами. Прическа – неаккуратный пучок с торчащими шпильками. На ней очки в роговой оправе, которые ей чуть великоваты, и они вечно сползают с носа (а ее нос похож на нос динозавра), когда она говорит. Еще на ней будет водолазка со слишком короткими рукавами и плиссированная юбка, напоминающая занавески, а на ногах – большие белые кроссовки «Рибок», которые она купила году этак в 1992-м.
Я лично ей, разумеется, не понравлюсь, но она решит, что я прекрасный специалист и отлично делаю свое дело. Мои остроумные шутки ей тоже не понравятся; ей будет не смешно. Так что забавной я ей не покажусь. Пока я думаю об этом и прикидываю, как мне вести себя с женщиной, портрет которой я так тщательно нарисовала, дверь открывается, и в комнату входит мужчина.
Я вздыхаю с облегчением, потому что с мужчинами мне гораздо комфортнее, чем с женщинами. К тому же он молод, чуть моложе меня, лет тридцати пяти, наверное. У него немного взъерошенные волосы, видно, что он не уделяет прическе особого внимания, и это очень мило. Кажется, он не сразу нашел этот зал, поэтому немного опоздал. Он садится на стул и вынимает из холщовой сумки бумаги и все прочее.
– Привет. Саманта, так? Я доктор Трэвис Янг.
– Привет, Трэвис. Да, я Сэм. – Возможно, предполагается, что я должна называть его доктор Янг, но мне не хочется.
– Сэм, о’кей. – Еще минуту он копается в своих вещах, и я понимаю, что, встреться мы в других обстоятельствах, сейчас бы я уже вовсю с ним флиртовала. – Итак, полагаю, вы знаете, чем мы с вами будем заниматься?
– Да, сэр. Веселым психиатрическим артобстрелом.
– Ха. Ну, в общем, да, чем-то вроде этого. Согласно директиве Нью-Йоркского государственного департамента по вопросам психического здоровья, весь персонал клиник и больниц вроде этой должен регулярно проходить обследование, проводимое независимыми экспертами, на предмет пригодности к работе с пациентами, страдающими психическими расстройствами. – Видно, что он так много раз повторял эту фразу, что она порядком ему надоела.
– У меня вопрос, Трэвис. Учитывая, что по закону никто не имеет права уволить человека по причине того, что он страдает такого рода расстройством, в чем состоит смысл этих проверок? Ведь если вы обнаружите, что я псих, например, меня все равно не смогут за это уволить, так? – Я не флиртую с ним, но и не не флиртую.
– Что ж, теоретически это верно, но если будет установлено, что сотрудник представляет опасность для себя или окружающих, то его начальник, принимая во внимание результаты тестирования, как правило, должен назначить вышеупомянутого сотрудника на другую должность, которая не подразумевает непосредственного контакта с пациентами или доступа к конфиденциальной информации.
– О, так, значит, это будет просто понижение в должности, – улыбаюсь я, пытаясь понравиться Трэвису.
Трэвис начинает со шкалы депрессии Бека, короткого опросника, который должен определить, в дерьме я или нет. Если бы я заполняла его в первый раз, приходит мне в голову, то ответы были бы другими. Но я уже отвечала на них раз сто, и для себя лично, и официально тоже.
Боюсь, что нет никакой возможности установить, являются ли наши ответы на все эти опросники и тесты действительно честными или соответствуют ли истине. Просто мы знаем слишком много и способны заполнить анкеты так, чтобы результаты оказались такими, как нам нужно. Я читаю пункты и прекрасно понимаю, как был сконструирован этот опросник, как подсчитываются баллы, почему вопросы сформулированы именно таким образом, а не другим, почему так много очень похожих вопросов и что получится в итоге. Мне известно, что опросник построен так, чтобы избежать манипуляций, но естественно, даже не задумываясь, отвечаю, опираясь на свои профессиональные знания – что нужно сказать, чтобы у тебя обнаружили депрессию, и что сказать, чтобы тебя признали абсолютно счастливым человеком.
Я царапаю ответы только что наточенным карандашом номер 2. Трэвис периодически поглядывает в мою сторону, как декан на экзамене, но в целом он занят бумагами, что лежат перед ним на столе.
Я подвигаю к нему заполненный опросник и с нетерпением жду следующего.
– А, вы уже закончили. Чтобы сэкономить нам время, я бы хотел сначала предложить вам несколько коротких тестов. Таким образом я смогу подсчитать результаты тех, что вы уже заполнили, пока вы будете работать над следующими. Вы согласны? – Он роется в бумагах и передает мне чуть более длинную PDQ-4 – анкету диагностики личности, вариант 4.
– Нет проблем. Вы говорите мне, что делать, и я это делаю. Я буду очень хорошим пациентом, доктор. – Судя по всему, моя очаровательная улыбка и дружелюбное отношение совсем не действуют на доктора Трэвиса Янга.
Вот эту анкету я ненавижу. Мы мало используем ее здесь, а моя неприязнь вызвана тем, что все в ней звучит слишком знакомо. Такое ощущение, что какой-то говнюк придумал ее специально для меня и утверждения кажутся слишком агрессивными и оскорбительными, как вторжение в мою личную жизнь. Уродские высказывания вроде: «Иногда я чувствую себя подавленно». И какого хрена я должна сказать – неверно? Нет, я никогда в жизни не чувствовала себя подавленной? А особенно сейчас, когда мне нужно проходить этот сраный тест. Обводя маленькие «в» и «н» («верно» – «неверно») напротив каждого утверждения, я от злости слишком сильно нажимаю на карандаш.
Я отдаю Трэвису готовую анкету, уже без всяких шуток и любезностей, и он молча вручает мне следующую. Я сажусь за стол и понимаю, что задние ножки стула пошатываются. Покачиваясь взад-вперед, я пытаюсь определить степень его неустойчивости и в конце концов решаю бросить этот стул и найти другой.
Я обхожу ряд стульев, с силой надавливая на спинки и двигая их, чтобы проверить на надежность. Все они ни к черту не годятся. Последний в ряду вроде бы более или менее надежный; я подтаскиваю его к столу, снова усаживаюсь и продолжаю заполнять тест. И замечаю, что все это время Трэвис внимательно за мной наблюдал.
Теперь я корплю над Калифорнийским психологическим опросником, который просто унижает мое достоинство, потому что такие тесты нельзя давать профессионалам.
Еще больше утверждений «верно» – «неверно», разработанных, чтобы выявить социально-психологические аспекты моей личности. Я пишу, а в голове у меня вертится все та же мысль: «говнюки». Этот тест длиннее остальных, видимо, он займет все время, оставшееся до конца встречи.
Я поднимаю голову и вижу, что Трэвис подсчитывает результаты тестов, с которыми я уже расправилась. По его лицу невозможно угадать, о чем он думает. Я пытаюсь сконцентрироваться и закончить опросник побыстрее, чтобы не оставить о себе плохое впечатление.
Стоя перед ним с заполненным КПО, я замечаю, что Трэвис разложил перед собой оценочные листы, чтобы ускорить процесс.
– Вы закончили?
– Да, – улыбаюсь я, давая ему еще один шанс заметить, какая же я очаровашка.
– У нас с вами, согласно расписанию, еще одна встреча, сегодня днем, попозже, – сообщает он. – Я использую это время, чтобы подсчитать результаты тестов, на которые вы уже ответили. И потом мы их обсудим, хорошо?
– Да, хорошо. – Я и не заметила, как прошли эти два часа. – Тогда увидимся позже.
Попрощавшись с Трэвисом, я иду в свой кабинет, чтобы немного успокоиться и собраться. Я давала эти тесты пациентам много лет, и все равно каждый раз после того, как мне приходится пройти через это самой, я чувствую себя так, словно меня тщательно осмотрели, ощупали все интимные места и оставили голой на дожде, всем на обозрение. Вопросы построены так, чтобы было невозможно соврать. Все эти маленькие механизмы отлично работают для того, чтобы обнаружить противоречия в ответах. И теперь эти мощные увеличительные стекла направлены на нас самих, и это как-то неправильно. И несправедливо.
– Дэвид! – Можно и не орать, он и так услышит меня через стену, но сегодня мне действительно необходимо, чтобы Дэвид зашел.
– Да? – отвечает он спокойным голосом.
– Не мог бы ты ко мне зайти? Пожалуйста! – Мне все еще неприятно, что я так расстроила его своим поведением в четверг в «Никс-баре», и это чувство вины невыносимо. Нужно как следует постараться, чтобы вернуть его.
Дэвид не отвечает; вместо этого он просто входит в мой кабинет. В руках у него дымится чашка с утренним кофе.
– Что случилось?
– Фу. Я только что закончила часть тестирования. Мозгоправ очень сексуальный, но все равно, ощущение такое, будто из меня высосали душу.
– Это очаровательно, Сэм. Жду не дождусь, когда завтра из меня тоже начнут высасывать душу. – Дэвид не собирается кудахтать надо мной и жалеть, потому что знает, что я этого не позволю.
– Это какой-то кошмар. Предлагаю хорошенько залить выпивкой эту малоприятную процедуру, и чем скорее, тем лучше.
– Разве тебе не предстоит вторая часть развлечения днем?
– Да. Быстрее бы все это кончилось. – Я копаюсь в ящиках стола – вдруг там найдется что-нибудь съедобное.
– Мне нужно идти на групповой сеанс. Как поступим с ланчем? – Дэвид уже у двери.
– Не знаю. А что ты мне принес?
Он натянуто улыбается и закрывает за собой дверь. Интересно, он считает меня неотразимой или мечтает выбросить в окно?
5 декабря, 14:49
Я подхожу к туалету для персонала и в который раз обнаруживаю на двери табличку «НЕ РАБОТАЕТ». Невзирая на предупреждение, я открываю его своим ключом и все равно захожу. Не представляю, как можно привести себя в порядок в другом туалете. Я не могу так рисковать – туда могут заглянуть пациенты и обнаружить, что я крашусь и причесываюсь, как любой простой смертный.
Заперев дверь, я поворачиваюсь к зеркалу и рассматриваю свои зубы – не застрял ли в них мак от бублика, который я съела перед встречей с Трэвисом, и страшно радуюсь, увидев, что сегодня выгляжу очень даже неплохо. Никаких ран, полученных на поле боя, которые пришлось бы замазывать этим ужасным густым тональным кремом, который старит меня на миллион лет. Никаких распухших, покрасневших глаз – от истерических рыданий или похмельного «сушняка». Кажется, мой план не увлекаться выпивкой в выходные перед тестированием в самом деле принес некоторые плоды.
Затем я засовываю голову в кабинку и осматриваю унитаз – может быть, он явно сломан или забит. Однако, на мой взгляд, вид у него вполне нормальный, поэтому я расстегиваю штаны, чтобы пописать. Я приседаю, наклоняюсь, делаю свое дело, но воду потом не спускаю – вдруг образуется потоп.
В лаунже для персонала я наливаю себе горячий свежий кофе в чужую кружку и вытряхиваю в нее две крохотные баночки сливок. Интересно, почему эти сливки никогда не портятся, в то время как все остальные молочные продукты должны храниться в холодильнике?
Затем я возвращаюсь в малый зал к Трэвису и вижу, что он уже закончил подсчитывать баллы по трем тестам, что я прошла утром, и готов перейти к следующей стадии. На углу стола появилась пластиковая бутылка «Налген», наполненная какой-то мутноватой жидкостью.
– Привет, Саманта. Готовы снова вернуться к нашим делам?
– Да, готова. Спасибо.
– Отлично. Тогда давайте начнем с собеседования. Я задам вам несколько вопросов.
Я опять усаживаюсь на тот же устойчивый стул, что и в прошлый раз, и сжимаю в руках кружку с кофе. Кофе очень горячий, поэтому я постоянно подношу ее к губам, но не пью, а дую. Трэвис заводит разговор о моем детстве. Он сидит положив ногу на ногу, и из-под отворотов его вельветовых штанов цвета хаки выглядывают толстые носки.
– Ну… я выросла не в Нью-Йорке. В маленьком городке около часа езды к северу отсюда. После детского сада с двенадцати лет ходила в частную школу. Братьев и сестер нет, воспитывала меня одна мама.
– А что же ваш отец?
– Никогда его не видела. – Я снова дую на кофе. – И очень мало что о нем знаю.
– Ваши родители вообще были женаты? – Задавая этот вопрос, Трэвис на меня не смотрит.
– Нет. Как я уже сказала, мне правда очень мало известно об отце. Мама что-то рассказывала, когда я была маленькая, но все ее истории были очень запутанными, противоречили друг другу, так что я не знаю, что из этого правда, а что нет.
Трэвис делает какие-то заметки в большом блокноте с желтыми страницами, и мне становится интересно, как много он уже знает.
– Продолжайте, пожалуйста.
– М-м-м… ну, потом я поступила в колледж Вассар и уехала, и…
– Да-да, у меня здесь есть ваше резюме. Я бы хотел больше поговорить о вашем воспитании, о том, как вы росли. Расскажите поподробнее о матери.
– Она умерла, пока я училась в Вассаре.
– О, мне очень жаль. Как это печально. – Стандартный ответ мозгоправа. «Ничего тебе не жаль, Трэвис. Это именно то, что ты хотел услышать».
– Да. Так что теперь я, видимо, сирота. Отца не знаю, мать умерла, когда мне было двадцать… и вот она я, перед вами.
– От чего она умерла?
– Аневризма.
Я ненавижу об этом говорить. Мать умерла от обширного внутримозгового кровоизлияния, явившегося результатом разрыва аневризмы, и даже от одних только этих слов к горлу у меня подступает тошнота. Она жила одна в доме в Ньюбурге, доставшемся ей в наследство после смерти родителей. Как мне казалось, она была вполне счастлива. Дружила с соседями, и они, как все жители пригородов, одалживали друг другу садовые инструменты, угощали спаржей или укропом с собственного огорода, и занимались прочей фигней в таком же духе.
Когда я приезжала домой, она всегда ждала меня. Но почему-то мне было совсем невмоготу оставаться под ее крышей. После двух-трех ночей мне становилось так тревожно, так не по себе, что приходилось возвращаться обратно в кампус или ехать на поезде к друзьям в Нью-Йорк и жить у них.
Когда после школы я собралась в колледж, мать сказала мне, что я медленно убиваю ее – тем, что бросаю здесь одну. Она всю жизнь отравляла меня какими-то странными идеями, я жила в ее мире, ее реальности, и другой у меня не было, поэтому никто не мог помочь мне открыть глаза на то, что ее способ взаимоотношений с людьми был довольно диким и даже опасным. Я думала, что так живут все дети – лежат ночами в кроватях и думают, проснутся ли они завтра рядом с ангелом или с чудовищем. Как выяснилось, далеко не все.
– Должно быть, вам было тяжело.
– Конечно, мне было тяжело, Трэвис. Моя мать умерла, и меня не было с ней, когда это случилось. Доктора сказали мне, что никто не смог бы ей помочь, что кровоизлияние произошло очень быстро и было слишком сильным, однако это утешение из разряда «так себе». Такое нельзя просто убрать в шкаф, образно говоря, и продолжать как ни в чем не бывало жить дальше. Это был гребаный чертов кошмар, и потом жизнь тоже почему-то не превратилась в сплошной пикник.
– Что вы имеете в виду – «не превратилась в пикник»?
О господи, а ведь этот парень мне так понравился, когда только вошел в дверь. А сейчас он напоминает карикатуру на психиатра, которые так часто видишь в газетах, журналах – да где угодно. С таким же успехом он мог бы для завершения образа надеть твидовый пиджак с замшевыми нашлепками на локтях и принести с собой трубку.
– Я имею в виду, что это был полный кошмар и неразбериха. Мама много лет не работала, и, хотя она умудрялась поддерживать впечатление – и у меня, и у окружающих, – что со средствами у нее все в порядке, на самом деле оказалось, что она по уши в долгах. Мне пришлось продать дом сразу же после ее смерти и по цене гораздо ниже рыночной, и этого хватило только на то, чтобы оплатить долги и организовать более или менее достойные похороны. И я была вынуждена кремировать тело, потому что у меня не хватило денег на участок для могилы.
Она не оставила завещания и не отложила ни цента на похороны и все такое, так что штат Нью-Йорк отдал мне все ее вещи, и они ушли практически за бесценок на распродаже еще до того, как купили дом. Последнее «да пошла ты» двадцатилетней дочери, в общем, еще ребенку, который и сам не знает, как жить и в какую сторону плыть. Так что нет, это был далеко не гребаный пикник.
– У вас с ней всегда были жесткие отношения?
– Трэвис. Это тестирование, которое должны пройти все члены психиатрической больницы. И результаты его будут отправлены в ДПЗ для того, чтобы там могли установить, требуется ли нашему заведению реструктуризация или нет. Так скажите на милость, неужели в самом деле так важно – выжать из меня все вкусные подробности моих взаимоотношений с матерью в детстве? Это реально имеет значение? – «Говнюк. Вуайерист».
– Видите ли, вы – один из двух штатных психологов в этой больнице и, конечно, знакомы с оценочными тестами, которые заполнили утром. И я просто пытаюсь понять, почему вы набрали такие высокие баллы по оси 2, кластер В.
– Что? – Я внезапно выпрямляюсь, как будто в горло мне загнали кол. – Расстройство личности?
– Да. Во всех тестах.
6 декабря, 11:13
Ричард кладет газеты на край стола, а кепку – на газеты, как и в каждую нашу бесплодную вторничную встречу, наугад вытаскивает из стопки ту, с которой он сегодня начнет, и полностью отдает свое внимание чтению. Я уже расстроена выше крыши, а мое терпение почти на исходе, чего быть, конечно, не должно. Мне только что сообщили, что я набрала много баллов по шкале «расстройства личности». Это абсолютно невозможно. Мне кажется, что судьба внезапно и несправедливо обернулась против меня, с помощью этих говнюков из ДПЗ, которые позволили себе ковыряться в моей личной жизни. И вдобавок я даже не могу заставить своего пациента отвечать на мои вопросы.
Он, конечно, разговаривает со мной, но толку от этого никакого. Его рассказы никак не помогают мне понять, почему же его все-таки направили в психиатрическую больницу. Я просто хочу сделать свою работу – докопаться до дна, постичь всю глубину личности этого огромного, непроницаемого парня. История болезни – если можно так назвать файл с почти пустыми страницами – лежит передо мной. Она открыта. Открыт также и компьютерный файл – на случай (хотя на это практически нет шансов), что Ричард все же решит начать сотрудничать со мной. С каждой неделей я все больше и больше теряю надежду. Я бесполезный специалист.
– Ричард! – произношу я тоном тренера, беседующего с игроком – звездой команды. – Как насчет того, чтобы заполнить вашу историю болезни? – и постукиваю по бумаге тупым концом карандаша.
– Я в этом заведении уже довольно давно. Разве вы не получили еще от меня всю информацию, которая вам нужна? – Он сердито хмурит брови.
– Вы знаете, на самом деле нет. Вы так и не ответили ни на один из вопросов, что я вам задавала. И мне все еще непонятно, что у вас там с целями лечения.
– Мои цели лечения такие же, как и у всех. – Он смотрит в газету, раздраженно вздыхает и водит пальцем по строчкам – потерял то место, где читал.
– И что это за цели? Что все хотят получить от лечения в этой больнице? – Я направляю карандаш на лист, готовясь записать все, что он скажет.
– Убраться отсюда. – Еще один бесполезный ответ.
– О’кей, так если вы хотите убраться отсюда, самый быстрый путь это сделать – помочь мне понять, почему вы вообще здесь оказались, для начала. – Я продолжаю тыкать в бумаги карандашом.
– А разве вы не должны установить это сами? Предполагается, что вы тут, типа, лучший доктор. Одна из лучших. Я только и слышу, как пациенты о вас болтают, что, по ходу, лучше вас специалиста не найти, и Сэм то, и Сэм это… так что же, вам не хватает знаний или опыта уразуметь, что я здесь делаю? Вроде как вы профессионал, а не я.
«Говнюк».
– Я не экстрасенс и не умею читать мысли. Я психолог. Я не могу поставить вас перед рентгеном и увидеть, что таится у вас в черепе, о чем вы думаете, что вас беспокоит и так далее. Повторюсь – это вы должны помочь мне с этим.
– Ну… я думал, что вы правда лучший доктор. И решил, что уж вы-то, во всяком случае, сможете мне помочь.
После того, что я услышала вчера от Трэвиса, слова Ричарда кажутся особенно обидными, они просто прожигают мне сердце. И мне очень хочется ткнуть его в глаз карандашом.
7 декабря, 7:22
Я рассматриваю свое лицо в зеркале в ванной Лукаса. У него лампы со светорегуляторами, и при таком освещении мне легче принять себя, особенно по утрам. Особенно в такой дикий час. Но несмотря на приглушенный свет, я все равно вижу морщины на лбу, которых не замечала раньше, а мои нижние зубы, идеально ровные, кажутся кривее. Синяки и ссадины, что оставляет на мне Лукас, обычно скрывают мои густые волосы или одежда – если они на ребрах и бедрах. Но сегодня я вижу, как предательское голубое пятно расползается по левому виску. Для симметрии Лукас поставил мне еще один бланш, на правом виске, но тот расположен выше, и если правильно уложить волосы, то его никто не разглядит.
У меня есть очень плотный тональный крем, которым замазывают татуировки. У нас в «Туфлосе» лечилась пациентка, которая работала гримером в кино. Она по уши влюбилась в какого-то актера, кинозвезду, а он бесповоротно ее отверг. Она не выдержала и спрыгнула с моста. После четырех месяцев в реабилитационном центре, где ее заново учили ходить и говорить, она попала в «Туфлос». Эта пациентка и рассказала мне о тоналке, и я видела, как она замазывала ею свои собственные шрамы. У меня эта штука есть в трех разных цветах – самый светлый для долгих зимних месяцев и два потемнее, когда моя кожа чуть загорает. Обычно приходится смешивать на ладони все три, чтобы добиться нужного оттенка.
Я включаю свет на полную мощность, чтобы лучше видеть синяк. На висках у меня тонкие светлые волоски, как у детей, и здесь нужно действовать особенно тщательно; нельзя их задевать, потому что, если на них попадет густой крем, все станет еще очевиднее. Поверить не могу, что я снова здесь и со мной происходит то же, что и всегда. Но если я буду сильной, если я смогу это вынести, то все прекратится. Ведь я ему небезразлична, он заботится обо мне, просто не умеет контролировать свои эмоции. Это не его вина. Повторяя про себя эту ложь, я закапываю в глаза «Визин», чтобы отбелить покрасневшие от слез белки, и вычищаю грязь из-под ногтей.
Лукас все еще спит, а я уже оделась и готова идти на работу. Перед тем как открыть дверь, я вдруг замечаю кофемашину на кухонной рабочей поверхности. Мне известно, что каждый день полусонный Лукас автоматически нажимает на кнопку, чтобы кофе поспел как раз к тому моменту, как он примет душ и оденется. Я поворачиваю назад и выдергиваю вилку из розетки.
7 декабря, 12:27
Я опять сижу в том же зале для групповых сеансов, где заполняла опросники и анкеты с Трэвисом, и жду, когда придет новый психиатр. Вторая волна – или часть – тестирования. На сей раз я совсем не готова защищаться. Я измотана до предела, и больше всего мне хочется выйти из больницы, оказаться дома и выкурить полпачки сигарет в своей теплой гостиной. Мои веки начинают постепенно смыкаться, и в этот момент в комнату входит знаменитость в мире психиатрии, доктор Брукс.
Это женщина, но она совершенно не похожа на тот портрет, что я нарисовала себе вчера. Прежде всего, она крошечная, как ученица четвертого класса. Гораздо собраннее и деловитее, чем Трэвис. И полностью отметает все формальности. Я настолько больше ее, что это почти комично: она будет задавать мне интимные вопросы, а я обязана на них отвечать.
Доктор Брукс листает файл. Явно перечитывает информацию, которую в понедельник получил Трэвис. Интересно, она уже поставила мне диагноз? У меня ведь расстройство личности, я – потерянный человек. Она то и дело откашливается, прочищает горло, и этот звук очень напоминает писк. Уже открыв рот, чтобы заговорить, она вдруг сжимает губы и подносит бумаги ближе к лицу, как будто хочет тщательнее их рассмотреть. Она, похоже, и смущена, и заинтересована одновременно, как будто заметки Трэвиса – это головоломка, трудная, но захватывающая. Я уверена, доктор Брукс увидит, что нет у меня никакого расстройства личности, как, кажется, решил Трэвис.
– Итак, – наконец начинает она. – Вы уже прошли часть тестирования на этой неделе. Как все было?
– Нормально.
– Хорошо, очень хорошо. Обычно доктор Янг берет на себя опросники и анкеты и подсчитывает баллы, а я, так сказать, заступаю во вторую смену и больше занимаюсь интервью и обсуждениями.
– Да. Только Трэвис в понедельник уже успел приступить к интервью.
– Да… э-э-э… – Она не знает, как реагировать на то, что я называю доктора Янга просто Трэвисом. – Да. Ну тогда мы просто продолжим. Я прочитала его заметки, так что нам необязательно говорить на темы, которые вы уже обсудили, если вы считаете, что это не имеет особого значения.
– А вы полагаете, смерть моей матери имеет значение? – Надо было выкурить перед этим пачку сигарет.
– Нет, если вам самой не хочется об этом поговорить. Видите ли, я предпочитаю более структурированный подход в том, что касается собеседований. Вы не возражаете, если я возьму дело в свои руки? Мы можем сделать десятиминутный перерыв в середине сеанса, если захотите.
– Никаких проблем, доктор Брукс.
Я сижу на стуле с приделанным к нему письменным столиком. Рядом со мной – кофе и бутылка воды, пара карандашей, которые я вытащила из волос, и мое расписание на день. Ноги я вытянула перед собой и скрестила в щиколотках, руки сложила за головой и переплела пальцы. В этой позе у меня страшно болит спина, но она должна показать, что я расслабленна и беспечна. Меня нельзя отнести к какой-то там категории, всего лишь задав несколько вопросов. Нельзя вынести определение как личности.
– Доктор Янг написал, что вы росли без отца, с одной только матерью, и она умерла, пока вы учились в колледже. Это верно?
– Да.
– Вы когда-нибудь обращались к психологу или проходили психотерапевтическое лечение? – Ее ручка зависает над желтой страницей. Она готова на лету перехватить все золотые крошки, которые вылетят сейчас у меня изо рта.
– Согласно требованиям, я была обязана два года посещать психолога, когда училась в колледже. Как и каждый кандидат в PhD[11] в нашей профессии. Но я уверена, вы и так это знаете.
– Я психиатр, доктор Джеймс, а в медицинских университетах нет таких требований. Но вы правы, я в курсе, что для будущих психологов такая практика существует. А других психологов или психотерапевтов вы посещали? – Она уже здорово раздосадована и как будто чувствует во мне конкурентку. Но мне совершенно все равно. А жаль. Лучше бы было не все равно.
– Когда я училась в девятом классе, наш школьный психолог порекомендовал мне походить на сеансы к какому-нибудь еще психотерапевту, потому что я была одной из очень немногих в школе, кто рос в неполной семье. Моя мать дала согласие, и я пошла к местному психиатру. Уже не помню, как долго я с ним занималась – не слишком недолго. Может, пару месяцев.
– Вы помните, что вы с ним обсуждали?
– Да, помню. Помню, что не важно, с какой проблемой я к нему обращалась, на какие темы хотела поговорить, он всегда поворачивал разговор на моего отца. Он заранее решил для себя, что причина всех осложнений в моей жизни – это отсутствие фигуры отца. Поэтому он постоянно твердил, что мне нужен отец. Но отца у меня, разумеется, не было. Он предлагал решение, которое было объективно невыполнимо, и в тот день, когда поняла, что умнее его, я вынеслась оттуда как вихрь.
– Вынеслись как вихрь?
– Попыталась вынестись как вихрь. Я вынеслась в туалет, потому что двери были рядом. Так что мне пришлось внестись обратно и уже потом вынестись как положено. Как вихрь, само собой. И еще я забыла там куртку. Словом, план был выполнен не особенно хорошо.
– Вы удивительно хорошо помните детали для происшествия двадцатилетней давности.
– Двадцатитрехлетней. – «Не надо со мной бодаться, доктор медицины». – На самом деле отчасти из-за этого человека я и решила стать психологом.
– Из-за этого психиатра? Почему?
– Я подумала, что в этой области остро не хватает компетентных и действительно внимательных к пациенту специалистов.
– И вы полагаете, что вы именно такой специалист?
– Так точно, доктор Брукс.
– И что было дальше? – Ее это совсем не позабавило.
– После того как я выбежала из кабинета? Он связался с моей матерью и попытался убедить ее продолжить сеансы.
– И вы продолжили?
– Я нет, но моя мать – да.
– Ваша мать?
– Да. Вместо меня к нему стала ходить моя мать. Она заняла мое место в кресле и старательно рассказывала моему психотерапевту о моих проблемах – то есть проблемах, которые у меня были, по ее мнению. Она аккуратно и тщательно обходила тему ее собственного участия в моей жизни, того, как она на нее влияет, и винила во всем моего таинственного отца. Которого там не было и который не мог себя защитить, потому что существовал в основном в ее деформированной памяти. – Я склоняюсь вперед и практически рычу: – Ведь это то, что вы хотели от меня услышать?
– А это то, что вы хотели мне рассказать?
«Ненавижу психиатров».
Когда сеанс заканчивается, я придерживаю для нее дверь, нависая, как башня, и в какой-то момент меня вдруг одолевает желание шлепнуть ее по руке, чтобы все бумаги разлетелись и мои ответы смешались с чужими.
Отчаяние заставляет человека делать странные вещи.
8 декабря, 16:17
Телефон вибрирует, и, когда я вижу, что сообщение от Эй Джея, у меня мгновенно потеют ладони, совсем как у подростка. «Скучаю по тебе», – пишет он, а дальше следует ряд эмодзи с весьма прозрачным намеком. Все, что делает и говорит Эй Джей, как будто заряжено сексом, и это каждый раз на меня действует. Меня совсем не задевает, что общаемся мы поверхностно, почти буквально с помощью одних только смайликов, эмодзи и обмена телесными жидкостями. Я начинаю отвлекаться и думать бог знает о чем, но внезапно раздается стук в дверь.
– Сссссэээээээм, сегодня очень важный день, и мне-надо-с-тобой-поговорить. – Эдди открывает дверь и маячит на пороге кабинета.
– Хорошо, Эдди. – Я убираю телефон в ящик стола и пытаюсь вытряхнуть из головы эротические фантазии. – У меня есть немного времени, а потом меня ждут другие важные дела. Так что предлагаю тебе войти, и я смогу уделить тебе минут пятнадцать. Как тебе такое, подойдет? – Я слишком много раз давала ему от ворот поворот и теперь обязана выслушать. Я ему должна.
– Дддаааа, Ссссэээээм. Ссспасссиииибо.
Шаркающей походкой Эдди заходит в кабинет и усаживается в кресло для пациентов. Потом снимает свою засаленную бейсболку – волосы у него тоже порядком сальные – и пристраивает ее на край согнутого колена. Потом приглаживает вихры с двух сторон, стараясь придать себе презентабельный вид. Когда Эдди получает то, что ему нужно, в данном случае – мое время и внимание, его голос становится не таким отчаянным, и фразы, которые обычно сливаются в одно длинное слово, начинают распадаться на отдельные части и звучат почти нормально.
– Почему сегодня важный день, Эдди?
– Годовщщщщиииина.
– О, вот как? Годовщина чего? – Я отпиваю кофе.
– Сегодня у нас с моей девушкой была бы десятилетняя годовщина.
– Я не знала, что у тебя есть девушка и у вас все так серьезно. Расскажи мне о ней.
– Это так тяжело, тяжело, тяжело – говорить о ней. – Он качает головой.
– Ты с ней когда-нибудь разговариваешь?
– Нет, я не могу с ней разговаривать, потому что ее больше нет в живых.
– О нет. Какой ужас. Прости, я не поняла, что она умерла.
Эдди ерзает на стуле, перекладывает бейсболку на подоконник, наклоняется ко мне и начинает рассказ:
– Она, она, она была в депрессссиии очень долгое время, и иногда бывали дни и недели, когда она совсем не вставала с кровати, и просто лежала там, и даже книг не читала, а я никак не мог ей помочь. Она все смотрела старые фотографии, на каких… где она была еще совсем маленькой. У нее была маленькая паччччка старых фотографий, и она лежала в нашей кровати и перессссматривала их, и включала одну только маленькую лампу у кровати, и накидывала на нее коссссынку, и из-за косссынки свет в комнате становился совсем оранжевым, а она ссссмотрела на эти фотографии.
Он опять ерзает и упирается в спинку кресла. Наклоняется еще больше, ставит локти на колени и снова приглаживает волосы.
– Я тогда работал, и по многу часов, а она все время была дома одна. У нас не было большого дома, только маленькая квартирка на востоке Нью-Йорка, и она не вставала с постели, если только ей нужно было в туалет, и все, больше нет. Она ничего не ела и стала такой худой-прехудой. Я должен был работать. Я работал в метро, и мой сотовый не брал под землей. А она не работала и все время сидела дома.
– Как давно это было?
Я знаю Эдди уже очень долго, но еще никогда не слышала эту историю.
– До того, как я попал сюда. Я здесь восемь лет. Значит, восемь лет назад, наверное. Или, может, еще раньше. Не знаю. Когда меня сюда прислали, вас здесь еще не было. А вы пришли шесть лет назад.
– Правильно. Ты появился в больнице раньше, чем я, и всегда очень хорошо ко мне относился. – Эдди гордится тем, что в «Туфлосе» он долгожитель.
– Хорошо. И вы тоже хорошо ко мне относились, Сссэм. И все здесь. Но в метро ты должен работать под землей, а мой сотовый под землей не работал, а мои начальники говорили со мной по рации, но только моя девушка, она же не могла говорить со мной по рации, поэээээтому она была однааааа.
– Как ее звали, твою девушку?
– Эллисон, Эллисссссссон, Эллиссссссон и Эдди. – Он не произносит, а выпевает ее имя.
– Красивое имя.
– Да. И она тоже была очень красивая, но в очень сильной депрессссии. Она все время спала. А я пытался поговорить с ней, когда приходил домой, но она не хотела говорить, потому что слишком устала. Я думал, что она так ослабла и устала потому, что мало ела и не выходила на свежий воздух. Я готовил ей ужин, но она уже спала, когда я приносил ей ужин.
– Что ты ей готовил? – Иногда, когда я задаю вопросы, которые касаются мелких деталей, пациенты лучше все вспоминают.
– Суп. Ссссуп из банки, разогревал на плитке. У нас не было настоящей кухни, только в холле стояли мини-холодильник и плитка и пара шкафчиков для мисок и ложек. И еще маленькая раковина. Но она не ела суп. И я сам его съедал.
Но потом наступило время, когда все стало получше. Она стала иногда говорить по телефону с доктором, и он отправлял в аптеку ее лекарство. А я шел и забирал его по дороге домой. Я спрашивал там у них у прилавка лекарство для Эллисон Свифт, и они мне его давали, и он стоило десять долларов из-за «Медикейд»[12].
Когда она начала принимать лекарство, уже не так много смотрела фотографии. Иногда она не спала, когда я приносил ей суп. И иногда мы даже разговаривали, но порой мы разговаривали, и она еще и ела суп.
– О чем вы обычно разговаривали? – История Эдди меня неожиданно заинтересовала. Иногда он меня раздражает, и вообще я устала искать окошки в своем расписании для чужих пациентов, но, как я уже говорила, к Эдди я питаю слабость. Я вижу его и хочу ему помочь.
– Когда она начала принимать лекарство и есть сссуп, тогда мы заговорили о том, что однажды поженимся, потому что она думала, если мы однажды поженимся, ей станет лучше. И вот когда я уходил с работы, а ей было лучше, то не сразу шел домой. Не всегда. Иногда я шел в магазин и искал для нее кольцо. Кольцо для помолвки. И там были такие большие кольца, с бриллиантами, и золотые, и серебряные, на которых много маленьких бриллиантов, но все стоило так дорого. Так что я просто смотрел.
Я невольно делаю жест, как будто верчу несуществующее кольцо на моем голом левом безымянном пальце.
– Когда мы говорили о том, что поженимся, ей, кажется, ссстановилось лучше, и я знал, что должен пойти и купить ей колллльццццо. И копил деньги, и старался работать больше, в метро, но это тяжелая работа. Эллисон все время была дома, и она не могла работать, так что я должен был оплачивать все счета, и было так трудно сводить концы с концами. Она получала какое-то пособие по нетрудоспособности, но денег было совсем мало, а нам надо было есть, и мы не могли есть один суп, и копить на кольцо было трудно. Но я сказал ей, что куплю кольцо.
Эдди оборачивается, забирает с подоконника бейсболку, приглаживает волосы и надевает ее. Потом встает, подтягивает штаны и снова садится.
– И вот однажды я купил его. Оно стоило 275 долларов, и, наверное, размер был ссслишком велик, но парень в магазине сказал, что он сможет его уменьшить, если надо. Оно было из ззззолота, а в середине один бриллиант в таком большом рожке, как от мороженого, он в нем держался. И оно так ссссияло, и тот парень положил его в темно-синюю коробочку с серебряными буквами. Там было написано «Тони», название магазина. И коробочка была такая мягкая и вроде как пушистая. Я принес ее с собой домой и спрятал в шкафчике, повыше, на кухне. Она не смогла бы его там найти. Я знал, что, когда подарю его, все станет еще лучше, но потому, что приближалась наша двухлетняя годовщина, я хотел подождать и подарить его в особенный день.
Мы перестали говорить про то, что поженимся, потому что я боялся разволновать ее и выдать ей свой секрет, что я купил ей кольцо. Но потом ей опять стало хуже с депрессией. Она повесила косынку обратно на лампу и опять вытащила фотографии. Она перестала есть суп, который я ей приносил. Но я знал, что ей станет лучше, когда подарю ей кольцо, и оставалось несколько дней до нашей годовщины, до оссссобенного дня, когда я хотел подарить кольцо.
В день годовщины я должен был идти на работу, как в любой другой день, но я не хотел, потому что знал – она была бы так счастлива, если бы я остался дома. Я помню, во время обеда мой начальник сказал мне, что мой сотовый звонил в офисе и что личные звонки на работе запрещены. Я сказал – должно быть, это что-то срочное, а он сказал – если бы было срочное, то позвонили бы в офис на городской телефон, и я подумал, что он, наверное, прав. Когда рабочий день кончился, я побежал домой. Я так хотел удивить ее, был так взволнован. И знал, что теперь ей станет лучше.
Он опять ерзает в кресле. Я кладу руку ему на колено, чтобы успокоить, и медленно, осторожно киваю.
– Я добрался до дома и вытащил кольцо из шкафчика, вытер его, чтобы оно ссссияло еще больше, и коробочку тоже. Потом пошел в спальню, но дверь была закрыта. Она никогда не закрывала дверь. Но сегодня дверь была закрыта, и я открыл ее и зашел в комнату. Она лежала в кровати, как обычно, и я стал ее будить. Но я старался ее разбудить, а она не пошевелилась. Она не шевелилась. Тогда я увидел пузырьки от лекарств на столике с лампой. И они были пустые, и там еще была фляжка, и она тоже была пустая. Я положил кольцо рядом с пузырьками и пощупал ее шею, чтобы проверить, бьется ли ее сердце. Но ничего не почувствовал.
Эдди опускает голову, и его слезы тихо капают на грязные кроссовки. Он потягивает книзу рукава, и они закрывают его запястья.
Мне в голову приходит неожиданная мысль. Странно, что он не упомянул это страшное ощущение холодного тела, когда прикоснулся к своей девушке. В каждой истории о столкновении со смертью люди всегда говорили о том, какими холодными на ощупь казались их любимые и родные и как это было ужасно. Но Эдди ничего не сказал о том, что тело Эллисон было холодным.
В конце своего рассказа он лезет в карман, чтобы показать мне ее фотографию. Он смотрит на меня мокрыми, несчастными глазами и передает отксеренное с чего-то фото Риз Уизерспун времен фильма «Переступить черту», там, где она с темно-каштановыми волосами.
8 декабря, 23:28
На мне туфли с высоченными каблуками, в которых почти невозможно ходить, и я семеню крошечными шажками, не разгибая ног, как динозавр велоцираптор. Лукас мчится вперед и наотрез отказывается идти помедленнее. Он купил мне эти туфли, и он же настоял на том, чтобы я их сегодня надела. Я цепляюсь за его локоть и стараюсь не отставать и не упасть на неровном асфальте – мы направляемся к его дому.
На ужине было очень неловко. Лукас нечасто берет меня с собой на мероприятия, связанные с его работой; я и не подозревала, какое великолепное цирковое шоу он разыгрывает перед своими коллегами. Всю дорогу одну руку он держал под столом, на моем колене или бедре, и, когда ему было нужно, чтобы я рассмеялась над чьей-то шуткой или поддержала его ложь, довольно сильно щипал меня, так что я скорее повизгивала, чем смеялась. На правом бедре у меня синие следы от его пальцев, их прекрасно видно сквозь прозрачные колготки.
– Мне кажется, все прошло отлично. А тебе? – спотыкаясь и бредя за ним, говорю я и стараюсь не впускать внутрь холод, когда открываю рот. От ледяного воздуха у меня ноют зубы.
– Все прошло совсем не отлично. – Он вырывает у меня локоть и ускоряет шаг.
Мы уже почти пришли. Отсеки вращающейся двери достаточно велики, чтобы вместить двоих, однако Лукас влезает впереди меня, и теперь мне приходится справляться с тяжелой дверью самой. Как обычно, я начинаю нервничать; мне неудобно перед консьержем, который приветствует меня теплой улыбкой и чуть приподнимает свою кепку. Совсем выбившись из сил, тяжело дыша, я нагоняю Лукаса у лифта. Он уже вошел внутрь и явно не собирался меня дожидаться. Но я успеваю махнуть сумкой, сенсоры улавливают движение, и двери кабины снова открываются. Лукас меня как будто не замечает. Он несколько раз с силой шлепает ладонью по кнопке своего этажа, до тех пор пока двери не смыкаются. Я опираюсь о поручни, снимаю туфли и покачиваюсь на мысках, чтобы размять онемевшие пальцы и снять судорогу. Мои ступни горят огнем.
– Надень свои гребаные туфли, Сэм. Мы все еще в общественном месте. Неужели у тебя нет ни капли самоуважения?
Лукас не смотрит мне в лицо, он с яростью уставился на туфли, которые я держу в руке, и я не выдерживаю, снова облокачиваюсь о поручень и засовываю ноги, которые болят как не знаю что, обратно в модельные тиски. Лифт останавливается на нужном этаже. Лукас выскакивает и гигантскими шагами несется к своей квартире. Если бы поиски ключей его не задержали, вряд ли я со своей ковыляющей походкой успела бы проскользнуть внутрь вслед за ним.
Он развязывает галстук и расхаживает по квартире. Я точно знаю, что сейчас будет, и снимаю туфли и колготки, чтобы не скользить на полу. Лукас что-то бормочет себе под нос, пока носится, как ракета, между гардеробом и кухней, срывает с себя и швыряет куда попало одежду и со звоном насыпает в стакан лед. Маверик убегает в угол, который дальше всего от ванной, и прячется за большим деревом в горшке. Он, как и я, тоже точно знает, что сейчас будет.
В голове тесно от мыслей, от правильных фраз, которые нужно сказать Лукасу, чтобы его успокоить, и, пока я пытаюсь выбрать самую лучшую, он подходит ко мне и хватает за талию. Я знаю, он не хочет причинять мне боль, и, если бы я умела лучше чувствовать, что именно ему необходимо в данный момент, он бы так не бесился. Я бы его не бесила. Его рука, словно крючок, ловко подцепляет меня, и он бросает меня на пол ванной. Моя кожаная юбка цепляется за плитку, и я слышу звук рвущейся ткани. Возле молнии, думаю я. Я поднимаю руки, готовясь оттолкнуть его, и забиваюсь в узкое пространство, буквально щель, между унитазом и стеной – отсюда он меня достать не сможет. Он перемещает стакан из правой руки в левую и раскрытой ладонью с силой бьет меня по голове, сбоку. В ухе начинает тяжело звенеть, и оно как будто вибрирует. Я втягиваю голову в плечи в попытке защититься, забиваюсь еще глубже за унитаз и сбрасываю с держателя рулон туалетной бумаги. За первым ударом следуют еще три, все по ушам, и я так сильно вжимаюсь спиной в стену, что хромированный металл держателя сильно царапает мне кожу над ключицей. Мои кулаки сжаты, а глаза закрыты. Я слышу щелканье зажигалки и чувствую запах дыма. Первая затяжка. Все кончилось.
Маверик выбегает из своего укрытия и запрыгивает ко мне на колени. Мои согнутые ноги помимо моей воли обрушиваются на пол, чтобы псу было удобнее сидеть. Он с тревогой облизывает мое лицо и шею. Когда к двери подходит Лукас, я крепко прижимаю к себе Маверика – я знаю, он никогда не тронет свою собаку. Лукас швыряет к моим ногам пакет с кубиками льда и стоит в проеме, наблюдая, как я прижимаю пакет к виску и вылезаю из угла. Я закрываю крышку унитаза и усаживаюсь на него, с Мавериком на коленях. Лукас садится на пол напротив и опирается спиной о стену. Его запотевший стакан стоит рядом. Левой рукой он растирает мои икры, а в правой держит сигарету. Часть меня изумленно спрашивает – неужели я заслуживаю того, чтобы меня регулярно избивали. Другая же часть изумляется не меньше – а заслуживаю ли я бойфренда, который покупает мне туфли от «Маноло Бланик» и водит ужинать в «Фор сизонз».
9 декабря, 12:14
Сеансы с Трэвисом и доктором Брукс заставили меня мысленно вернуться к детству и взрослению. Интересно, какие из моих воспоминаний изменились под воздействием образования и опыта и что из хранимого моей памятью случилось в действительности.
Я сижу и думаю о том, что знала: моя мать – ненормальная и не способна справиться с жизнью. Я была сильнее и выносливее, умела противостоять ее попыткам контролировать и разрушать меня. Я заглядываю в окна дома, где выросла, наблюдаю сцены из моего детства и окрашиваю их в другой, новый цвет, потому что теперь понимаю, в чем именно заключалось ее расстройство, и вижу все сквозь призму этого понимания. И рисую себе более счастливую картину, потому что мне больше не по силам нести эту ношу.
И эти воспоминания, такие яркие, такие реальные, что их можно почти потрогать, я приношу с собой на групповой сеанс. Я открываю дверь и вижу ряд устремленных на меня взглядов.
– Привет всем. Рада видеть вас здесь сегодня. – Я осматриваю присутствующих и вижу среди них нескольких незнакомцев. – Кажется, некоторые из вас тут новички. Добро пожаловать. Почему бы нам не пройтись по всем и не познакомиться? Давайте я начну. Я доктор Джеймс, можете называть меня просто Сэм, и в этом заведении я штатный психолог. Люси, хочешь быть следующей и представиться?
Люси сидит на краешке стула, и ее короткая юбка не только задралась, но и сползла вниз, так что сквозь прозрачную голубую пластмассу стула видно ее «заднее декольте». У нее стул с приделанным письменным столиком, и она с силой опирается на него локтями. Люси склоняет голову к одному плечу, потом к другому, и начинает:
– Я Люси. Пациентка. И здесь уже довольно давно. Я обожаю групповые сеансы мисс Сэм, потому что на них, если скажешь правду, никогда не попадешь в неприятности. – Она одаривает меня широкой глуповатой улыбкой, и я вижу огромный комок зеленой жвачки у нее во рту.
Мы продолжаем знакомиться друг с другом, хотя не все представляются так красочно, как Люси. Как правило, просто быстро бормочут имя, и все. Мне сообщают, что новые пациенты присоединились к группе, потому что врачи с ними толком еще не разобрались, и соседи по комнате или те, с кем они успели подружиться, позвали их с собой, на мой сеанс.
– Сегодня я бы хотела поговорить о семье. Я сама в последнее время много об этом размышляю. Семья – важная часть нас самих. Наши семьи имеют на нас огромное влияние, еще до нашего рождения и потом всю дальнейшую жизнь. Кто-нибудь хочет поделиться с нами и рассказать немного о том, какая у него семья?
Иногда, начиная обсуждения подобного рода, я немного волнуюсь, потому что знаю – это все равно что открыть ящик Пандоры, и истории, которые из него вылетят, могут сильно травмировать. Однако убеждаю себя, что такая боль – только к лучшему и что поговорить о травме, выпустить ее из себя всегда лучше, чем держать внутри, поэтому чуть нажимаю:
– Ну что, кто-нибудь готов?
Пациенты нервно ерзают на стульях и переглядываются.
– Я знаю, что не у многих была такая жизнь, как у меня, но я вырос в по-настоящему счастливой семье. У нас даже была собака, щенок, и еще у меня была черепаха. У нас был маленький, но красивый дом, и оба родителя работали. И все друг с другом отлично ладили.
Это новый пациент; я не помню, как его зовут. У него очень худое лицо, и голова тоже худая, как ни странно это звучит, а огромные уши торчат в стороны, словно открытые двери машины.
– Моя мама прекрасно готовила, – продолжает он, – и по выходным всегда пекла кукурузный хлеб. А мы с моей младшей сестрой спорили о том, кому достанется последний кусочек. Но обычно, пока мы торговались, в кухню незаметно заходила бабушка – она тоже жила с нами, и быстро совала этот последний кусочек в рот. Днем, когда мама с папой уходили на работу, она присматривала за нами. Хорошее это было время, детство.
– Спасибо вам за ваш рассказ. Действительно, вы выросли в доброй, хорошей обстановке. Хотелось бы услышать, у кого еще было похожее детство, такое, как у… простите, напомните мне, пожалуйста, ваше имя.
– Пол.
– Спасибо. Есть ли здесь те, у кого был такой же опыт, как у Пола? – Я с надеждой обвожу комнату взглядом, но особо не ожидаю, что в ответ поднимется много рук.
– У меня тоже было хорошее детство. – Это Джун. – Больших денег у нас не было, и папа редко бывал дома из-за работы, но все были спокойными и добрыми, никаких ссор и драм в доме, ничего такого. – Джун страдает от шизофрении. В девяностых ей впервые прописали антипсихотические препараты, и у Джун развился ужасный побочный эффект – поздняя дискинезия[13]. Ее руки скрючены, челюсть отвисает, плохо шевелится язык, и с передвижением у нее тоже проблема. Руки Джун непроизвольно подергиваются или болтаются, а шея согнута влево, так что ухо всегда почти лежит на плече.
Джун стала носить просторные мужские рубашки; она может расстегнуть несколько пуговиц, чтобы как-то компенсировать впечатление от скрюченного тела. Я даже не могу себе представить, каково это – оказаться перед решением пить таблетки или не пить, выбрать здоровое тело или здоровую психику. Джун находится здесь почти столько же, сколько и я, и мне не доводилось слышать от нее ни слова жалобы.
– Я знаю, мы часто обсуждаем, как тяжело приходится некоторым. Тем, кто вырос на улице без семьи и без поддержки, кому пришлось заниматься проституцией и торговать наркотиками для того, чтобы выжить, но со мной тоже такого не было. – Это Сьюзан. Она сидит рядом с Ташондрой и прекрасно понимает, что в точности описала ее жизнь. Они дружат, и Сьюзан кладет руку Ташондре на колено, показывая этим, что она не имела в виду ничего оскорбительного и не хотела ее обидеть. Некоторые пациенты как будто съеживаются, вспоминая о своем детстве, возможно похожем на это.
– Мы все выросли в разных условиях. – Это Стивен. – Никогда нельзя угадать, по кому болезнь ударит, а кого обойдет. В моей семье это было. Я хочу сказать, психическое расстройство. Мы получили по полной. Мой отец был алкоголиком, а у матери нашли биполярное расстройство. Атмосфера в доме была ужасная. Вечная злость и раздражение, вечное разочарование. Кто-то всегда кого-то подводил. Невозможно провести детство в такой обстановке и надеяться, что это не оставит на тебе никаких следов. Ты растешь в грязном доме и выходишь оттуда чистеньким – нет, так не бывает.
И мой брат, и я стали такими же, как наши родители. И их родители. Говорят, что зависимость – это семейная болезнь. Так же как и психические расстройства. Если только ты не найдешь способа ее остановить или как-то с ней справиться, болезнь тебя настигнет – если она есть в твоей семье. – Стивен поднимает руки вверх, как будто сдается, качает головой и пожимает плечами. – Господи боже мой, я пошел в колледж. Получил хорошее образование. Но это не помогло. Не помогло остановить болезнь, убежать от нее. И можно узнать о ней все, абсолютно все. Что означает «биполярное расстройство», откуда оно берется. Найти любую информацию, все, что хочешь. Но это не значит, что ты можешь ее прекратить. Готов поспорить, я знаю о своем заболевании не меньше, чем все наши доктора. И все равно не в силах с ним справиться.
Он еще раз пожимает плечами и аккуратно складывает руки на груди. Остальные пациенты смотрят на него, вытаращив глаза. Мне страшно от этого ошеломляющего ощущения узнавания, ужасной реальности, которую Стивен впустил в комнату. Когда придут результаты из ДПЗ, а с ними и мой смертный приговор, я уже не смогу раствориться среди остальных. Правда, жуткая правда словно когтями вцепляется мне в горло, и я торопливо отпиваю глоток кофе, чтобы не задохнуться.
10 декабря, 22:24
Сид протирает барную стойку, там, где стояли мои запотевшие бокалы с виски-колой. Сегодня он не слишком разговорчив, и меня это полностью устраивает, потому что я тоже не хочу разговаривать. В баре звучат рождественские мелодии, повсюду развешаны мигающие гирлянды, венки и праздничные украшения. Я чувствую себя еще более одиноко, чем до того, как пришла сюда. Прикончив дома бутылку красного, я подумала, что мне необходима шумная обстановка бара, чтобы успокоиться; натянула поверх пижамных штанов и свитера пальто и кеды и отправилась в «Никс-бар». Никого из моих приятелей здесь нет. Кажется, что единственные люди, которые ходят в бары по выходным, – это студенты колледжей, совсем молоденькие ребята и жалкие, ничтожные пьяницы вроде меня.
– Сид, можешь дать мне оливок для коктейлей?
Я голодна, но у меня нет сил перейти через улицу и съесть где-нибудь сэндвич или кусок пиццы, так что оливки для коктейлей опять станут импровизированной заменой ужину. Сид ставит передо мной стакан для льда с крупными зелеными шариками и еще один коктейль. Я беру салфетку из стопки и вытаскиваю из сумки ручку. Мысли в голове появляются и исчезают слишком быстро, и мне нужно записать кое-что на бумаге, чтобы я могла попытаться разобраться, что же, черт возьми, со мной происходит. Я думаю о психотерапевтических групповых сеансах, посвященных зависимости, которые провожу каждую неделю, и вспоминаю, на какие аспекты жизни негативно влияет зависимость от алкоголя или наркотиков: работа, дом, семья, отношения с людьми, уход за собой, психическое здоровье… Возле каждого пункта я мысленно ставлю галочку, а потом записываю все на салфетке.
Я все еще не могу заставить своего пациента по-настоящему поговорить со мной. Я вру Рэйчел и регулярно сообщаю ей, что у нас явный прогресс, но на самом деле Ричард так и не сказал мне ни одного слова для пользы дела. Он сидит в моем кабинете, наблюдает за мной, изучает и иногда, как мне кажется, даже осуждает меня, но внутрь не впускает. Я всегда лучше всех справлялась с такими пациентами, и Рэйчел надеется на меня; рассчитывает, что я сумею найти к нему подход, проникнуть к нему в душу. Я не могу этого сделать. Прошло уже шесть недель с тех пор, как я приняла эстафету от Гэри. Тогда я была так же самодовольна и самоуверенна, как и он до встречи с Ричардом, но теперь понимаю, что не в силах ничего добиться от этого человека. Я не хочу быть «заменимой». И просто не переживу, если Рэйчел передаст Ричарда кому-то другому, кого сочтет более умелым, более профессиональным. Мне необходимо быть самой лучшей, самой профессиональной. Необходимо выяснить, почему Ричард оказался на лечении в «Туфлосе».
Сид облокачивается о барную стойку и улыбается. У него желтоватые лошадиные зубы.
– Хочешь еще один или что-то другое?
Я смотрю на стакан и вижу, что он как-то незаметно опустел.
– Ну… поскольку ты не наливаешь в эти коктейли виски и я пью одну кока-колу… может быть, шот и пиво. – Я нацепляю на лицо свою самую очаровательную улыбку, чтобы Сид не подумал, что я пьяна.
– Да там всего капля кока-колы, дорогуша. Тогда «Джемесон» и «Миллер лайт»?
– Ты так хорошо меня знаешь.
Я возвращаюсь к своему списку. Дом и отношения с людьми – с какой вообще стороны приступить к анализу этой хрени? Моя домашняя жизнь состоит из трех пунктов: покупка бухла, употребление бухла внутрь и выбрасывание бутылок. Ну, можно еще добавить душ время от времени, пакет с едой из кулинарии или пластмассовый контейнер из ресторана с едой навынос. Плюс еженедельная пачка сигарет и болеутоляющее в огромных количествах – и вот вам картина моей домашней жизни.
Скоро Рождество, но у меня нет семьи и не для кого покупать подарки. И нет причин собраться, взять себя в руки и удивить гостей блестящей вечеринкой на высшем уровне.
Дело усложняет еще и то, что мне приходится довольствоваться Лукасом. Но из-за того, что я не могу ему противостоять или хотя бы признаться себе, что никогда не смогу его изменить, я переключаюсь на Эй Джея, чтобы ощутить физическую любовь, и держу при себе Дэвида ради эмоциональной поддержки и, так сказать, любви интеллектуальной. Салфетка начинает расползаться, слова расплываются, я поднимаю голову и вдруг ловлю свое отражение в зеркале. Вид у меня как у осажденного в крепости. Не могу поверить, что я реально сижу, записываю что-то и пытаюсь разложить по полочкам свою жизнь. На этой салфетке слишком много правды. Я залпом выпиваю свой шот, комкаю ее и засовываю в пустой стаканчик.
Оставшийся на дне виски начинает разрушать мою жизнь, записанную на салфетке. Я не хочу быть такой… одноразовой. Не хочу быть расходным материалом. Мне нужно, чтобы я была нужна, но в каждом аспекте своей жизни я вижу только ряд сокрушительных неудач. Только на работе есть люди, которые действительно на меня полагаются. Хоть в чем-то. И то лишь потому, что мне платят за то, чтобы на меня можно было положиться. И даже это ускользает у меня из пальцев, потому что скоро придет отчет из ДПЗ и правда вылезет наружу.
Лукасу я не нужна; ему нужна боксерская груша, а на эту роль сгодится любая. Эй Джей, скорее всего, даже не знает моей фамилии, и единственное, для чего я ему требуюсь, – это служить спермоприемником. Дэвиду было бы гораздо лучше без меня; он знает это, и я это тоже знаю. Я необходима только своим пациентам. Только своим пациентам, которых заставили поверить, что я компетентный специалист, всегда собранна и способна спасти их от них самих. Я необходима Эдди, и Ташондре, и даже Ричарду.
Я снова невольно бросаю взгляд в зеркало и замечаю, что у меня дрожит подбородок, а в глазах стоят слезы. А потом вижу лицо Сида и понимаю, что мне пора уходить. Я достаю из кармана небольшую пачку наличных и засовываю ее под стакан из-под пива. Бросаю в рот оливку, чтобы приглушить вкус алкоголя, и, спотыкаясь, ковыляю к выходу. У дверей я оборачиваюсь, посылаю Сиду воздушный поцелуй, надеваю на лицо счастливую маску и выхожу в темную холодную ночь. Другие салфетки с записями зажаты у меня в кулаках, и я надеюсь, что от моих потных ладоней они размокнут и слова, жалкие, душераздирающие, безнадежные, исчезнут. Слова, описывающие мою жизнь.
12 декабря, 15:23
Я сижу на столе в комнате для групповой терапии и жду, когда подтянутся остальные пациенты; часть из них уже прибыла. Мой план таков: использовать этот сеанс, чтобы незаметно, исподволь вытянуть из Ричарда информацию. Это смешанная группа, здесь присутствуют и старые, и новые пациенты, страдающие от самых разных видов психических расстройств. Такие сеансы мне нравятся, потому что они показывают тем, кому необходимо воодушевление, какого прогресса достигли некоторые, а также безумие, к которому они могут скатиться, если свернут с верной дороги и не будут следовать плану лечения.
Пачка аккуратно сложенных газет Ричарда покоится под его стулом. Он сидит немного откинувшись; ноги скрещены в щиколотках, здоровенные руки сложены на животе, пальцы переплетены. Я замечаю, что рядом с ним устроилась Адель. Обычно на групповых сеансах Ричард строго соблюдает дистанцию: между ним и другими должен быть по крайней мере один пустой стул. Но теперь я вижу вот это и вспоминаю, что и на нескольких прошлых сеансах он сидел вместе с Адель.
На Адель тонкие бежевые носки и ортопедические сандалии. Она тоже вытянула ноги перед собой, положив одну на другую. Руки лежат на коленях. Ее костыль прислонен к соседнему стулу. В этом сиренево-розовом пушистом кардигане она напоминает бабушку из какого-нибудь комедийного сериала. Мне страшно интересно, почему же Ричард ее терпит. Почему он сделал для нее исключение?
Еще несколько пациентов заходят в комнату, усаживаются, и я начинаю:
– Всем добрый день и добро пожаловать. Сегодняшний сеанс мы начнем с обсуждения того, как мы продвинулись вперед и какого успеха достигли. У нас есть некоторые новые пациенты, которые пока еще даже не определились с целями лечения… – я упираюсь взглядом в Ричарда, но он не смотрит на меня, – и мне хотелось бы увидеть, на какой стадии выздоровления находятся наши ветераны.
По какой-то причине сегодня мне удалось заинтересовать практически всех, и я вижу сразу несколько поднятых рук. Каждый хочет высказаться.
– Да, пожалуйста, Дженни. Давай начнем с тебя, – говорю я и тепло улыбаюсь.
– Мои цели – воздерживаться от героина, что бы ни происходило, и принимать правильные решения в отношении мужчин. – Она выпаливает ответ отчетливо и громко, как будто говорит в мегафон. Дженни довольна, что у нее такие четкие цели.
– Какие решения в отношении мужчин ты принимала раньше? – спрашиваю я, поощряя ее продолжать.
– Неправильные. Вернее, это всегда было одно и то же неправильное решение. Я всегда совершала одну и ту же ошибку со всеми. Думала, что обязана им что-то давать. И не уходила, когда со мной плохо обращались, потому что считала, что сама не идеал и недостаточно для них хороша.
Я в полном восторге. Должно быть, Дженни посещала групповые сеансы для женщин, и теперь до нее дошло, что и она чего-то стоит. И она с радостью ухватилась за это новое знание.
Я снова бросаю быстрый взгляд на Ричарда – он смотрит на Дженни поверх очков. Потом замечает меня – и смотрит уже мне в глаза. Так, как будто он что-то про меня понимает.
– Кто следующий?
Еще несколько пациентов поднимают руки и делятся своими историями. Я все время исподтишка наблюдаю за Адель и Ричардом и вижу, что они одинаково реагируют на рассказы других – одобрительно кивают, делают недовольные лица, отворачиваются или отвлекаются, если история кажется им слишком банальной или выдуманной. Значит ли это, что они постепенно становятся друзьями?
– Адель, – вызываю я, нарушая их сплоченность или даже погруженность друг в друга. – Как насчет вас? Не хотите поведать нам о своих целях?
Разумеется, я наблюдаю за реакцией Ричарда. Он смотрит на меня настороженно и немного раздраженно, но не двигается и ничего не говорит.
Адель наконец обращает на меня внимание, судя по всему, раздумывает, отвечать или нет, а затем мягко, но решительно качает головой. Нет. Ричард видит это, поворачивается ко мне и победно, самодовольно ухмыляется. И к тому же еще поигрывает бровями. С таким же успехом он мог бы высунуть язык и поддразнить меня: «Няня – няня, бе-бе-бе!!! Догони!!!»
«Ну и пошел ты тоже, Ричард».
Он защищает ее – от чего, понятия не имею. Но когда сеанс заканчивается, Ричард передает Адель ее костыль и помогает встать со стула. Потом он медленно провожает ее до дверей, а в коридоре касается козырька кепки и галантно кланяется. Адель удаляется, шаркая ногами. Вечная загадка.
Я возвращаюсь в свой кабинет, думая о том, как же Адель удалось пробиться сквозь жесткую непроницаемую внешнюю оболочку Ричарда, и обнаруживаю, что кто-то подсунул мне под дверь записку. От тревожного предчувствия по спине у меня бегут мурашки, первое, что приходит мне в голову, – это отчеты психиатров из ДПЗ. Неужели мои тайны уже вырвались из-под замка и все они – в этой записке? Я осторожно поднимаю ее с пола.
Это лист с официальным логотипом «Туфлоса» – такую бумагу мы используем в принтерах, – сложенный в три раза, с клейким листочком внутри. Я разворачиваю записку, и он выпадает наружу. Оказывается, это от Дэвида. Написано толстым черным фломастером. «Нашел это возле твоего кабинета. Там было твое имя, поэтому решил, что это ты обронила. Никогда не оставляй такую информацию на виду. Ты же знаешь, что может прийти в голову пациентам». Он подписался большой буквой «Д». Я наклоняюсь и поднимаю маленький листочек. У меня в кабинете таких нет, это точно. Клейкая сторона давно стерлась; она запачкана черными газетными чернилами. На оборотной стороне – мое имя, домашний адрес и два разных маршрута, как добраться от «Туфлоса» до моего дома на метро. Это не мой почерк. И это не моя бумажка.
14 декабря, 19:11
Когда я возвращаюсь домой, Лукас ждет меня в квартире. Еще от двери я замечаю, что он уже пьян. На кофейном столике стоят несколько бутылок, все повернуты этикетками к дивану. На Лукасе рабочая рубашка и трусы. Остальная одежда кучей свалена на стул.
На губах у него следы красного вина, и я немного удивляюсь – на столе только пивные бутылки. Там же две пачки сигарет, обе открытые, и пепельница, набитая окурками. Лукас смотрит «Криминальное чтиво». Он не слышит, что я вошла, и я с силой захлопываю дверь – в качестве приветствия.
– Эй, детка! Где тебя носило? Я тебя жду! – Он поднимает руки вверх и размахивает ими, как будто его колышут волны.
– Разве ты не был сегодня на работе? Почему ты так напился? – Я бросаю ключи на консольный столик.
– Я не п-пьяный. Просто очень рад тебя видеть! Иди с-щ-юда!
Он раскрывает объятия. Я подхожу к стулу, скидываю его одежду и вешаю на спинку свой пиджак. Несмотря на то что Лукас все это видит, он ничего не говорит и продолжает мне улыбаться пьяной тупой улыбкой. У меня возникает желание прицелиться и выпустить струю блевотины прямо ему в лицо.
– У меня была очень тяжелая неделя в больнице, и сегодня я не в настроении работать твоей нянькой. Не мог бы ты сделать над собой усилие и взять себя в руки? – Я сажусь на другой конец дивана, избегая предложенных объятий.
– Детка, я в полном порядке. Не надо со мной нянчиться. Принести тебе пива? Или вина? Надеющь, это поддойдет. Я знаю, что ты любишь вино. Я п-принесу.
По дороге на кухню он натыкается на все, что попадается ему на пути, опрокидывает табурет и приносит уже открытую бутылку вина, где осталось, может быть, полбокала, не больше. Я беру дымящуюся сигарету, которую он оставил в пепельнице, и затягиваюсь.
– Хочеш-шь бокал или бутылка сойдет? Ха-ха, шут-тка. Сейчас будет б-бокал. Для вина.
День выдался действительно на редкость изматывающий, и у меня нет сил ссориться с этим говнюком, даже нет сил думать о ссоре, поэтому я откидываюсь на подушки и продолжаю курить. В голове мелькают картинки – Эй Джей. Иногда, когда я смотрю на дым, который выходит у меня изо рта, мне кажется, что я выдыхаю весь негатив, который скопился во мне за день. А когда он зависает в комнате, словно беловатое привидение, мне нравится дуть на него, чтобы привидение рассеялось. Курить – дурная привычка, что тут скажешь, но это ощущение как-то очищает.
Лукас начинает покачиваться, и я понимаю, что он уже слышит голоса в голове. Он постепенно меняется, и я настораживаюсь, наблюдая за превращением просто пьяного человека в жестокого монстра, который может нанести удар в любой момент. Еще немного – и он перевоплотится в настоящего психа, что действительно страшно. Я собираюсь, готовясь к бойне. Он, пошатываясь, стоит в дверях и держится одной рукой за косяк, чтобы не упасть. В другой руке у него сигарета. Что-то забралось ему в голову, и он не хочет об этом думать. На столе уже стоит ополовиненная бутылка водки и полный до краев стакан. Я сижу на диване и пью шабли.
– Сколько ты уже выпил?
Пьяный Лукас всегда высокомерен и готов к защите.
– Не думаю, что это твое дело.
Я отвожу взгляд в попытке все же избежать ссоры. Но знаю, что у меня ничего не выйдет.
– Да ты сама пьяна не меньше, чем я. И вообще, это ты, а не я, надираешься каждый гребаный вечер. Это ты бухаешь так, что не можешь найти ключи и падаешь в коридоре. Не говори мне, мать твою, что я пью слишком много.
– Я этого и не говорила. И ты сейчас орешь на меня без всякой причины.
– Не… не без всякой причины. Ты превращаешься в свою мать, и я до хренов устал смотреть, как ты скатываешься в канаву. Ты всегда торчишь в «Никс» со всеми этими придурками, и пьешь, и куришь весь день, и выглядишь как дерьмо. Предполагается, что ты моя девушка, а ты ведешь себя как шлюха.
Теперь он держит в руках бутылку, а стакан стоит на полу рядом.
– Я шлюха? Ты весело проводишь время с реальными проститутками и называешь меня шлюхой?
– Может, если бы ты была действительно моей девушкой, и девушкой получше, мне и не пришлось бы этого делать.
– Знаешь что? Убирайся. Убирайся к гребаной матери из моей квартиры! Ты здесь не живешь! Ты выпил все мое чертово вино – пошел вон. – Я поднимаюсь с дивана и показываю пальцем на дверь, чтобы он точно знал направление. И заодно показываю себе, что у меня тоже есть чувство самоуважения и я имею право требовать, чтобы со мной обращались достойно.
– Какого хрена? Я в трусах! Я никуда не пойду.
– Нет уж. Надевай свои сраные брюки и выкатывайся. Я не собираюсь сидеть и слушать, как ты называешь меня шлюхой. Я делаю для тебя все, что только можно. Забочусь о тебе, когда ты болеешь. Делаю вид, что ничего не знаю о твоих проститутках, терплю твои наркотики и все твое дерьмо, а ты только выставляешь себя говнюком. У тебя нет права быть говнюком! Да ты должен землю у меня под ногами целовать! Каждый день благодарить звезды, и небеса, и свою счастливую судьбу, и я уж не знаю кого за то, что я есть. Вонючка! Кусок дерьма! Гребаный врун!
Лукас движется в мою сторону с вытянутыми руками. Сейчас мне нужно будет защищаться. Но он тянется ко мне, чтобы обнять и убедить не прогонять его.
– Нет. Уйди от меня. Ты здесь не останешься.
Я пытаюсь увернуться и отойти от него подальше, но он вдруг шлепает меня по руке и выбивает из пальцев сигарету. Она катится под стол, оставляя горелый след на паркете. Потными руками он хватает меня за плечи, и кислый запах его дыхания забивает мне нос. В уголках его рта собирается белая слюна, и в голове у меня мелькает догадка, что сегодня он снова под наркотой. Нет, у меня нет чувства самоуважения, и я не могу заставить его уйти. Оно отсутствует напрочь, потому что я даже не могу сбросить с себя его руки. Он так сильно вцепился в них, что к утру, я знаю, появятся синяки. Мне плевать на себя настолько, что я не могу схватить телефон и вызвать копов и сказать им, что он опять собирается меня избить.
Он нависает надо мной. Телевизор по-прежнему показывает «Криминальное чтиво», и я слышу, как персонаж Сэмюэля Л. Джексона говорит, что он старается, очень старается быть хорошим пастухом.
Когда он швыряет меня об стену, я почему-то думаю о безопасности Дэвида.
Когда его глаза наполняются слезами и он говорит, что не хочет делать мне больно, я думаю об Эй Джее.
Когда он берет бутылку и проливает водку на рубашку, я думаю о другой жизни.
Когда он поднимает сигарету, которую выбил у меня из рук, я думаю о мусорном ведре в своем кабинете.
Когда я вытираю слезы и он бьет меня по щеке так сильно, что у меня звенит в ушах, я думаю о Ричарде.
15 декабря, 4:33
Я лежу в постели Эй Джея и оглядываю его спальню, пока он чистит зубы в ванной. У него мягкие, гладкие простыни, и здесь два окна. Если бы не это, я подумала бы, что это самая безликая спальня, в какой мне только приходилось бывать. Но именно такая мне сейчас и требуется, потому что быть меня здесь не должно.
Когда Лукас, избив меня, закурил сигарету, я знала, что теперь он уйдет, как и всегда после вспышек ярости. Задыхаясь и потея, он натянул свою одежду – мокрая сигарета торчала у него во рту, – накинул на плечо пиджак и оставил меня, окровавленную и плачущую, в ванной. А сам убрался прочь. Я послала эсэмэс Эй Джею, он быстро ответил и сразу же пригласил меня приехать. Я приняла душ, отмылась от крови и замазала раны и синяки тату-тоналкой. Опухшую щеку почти не видно в жиденьком утреннем свете, а мои волосы распущены и растрепаны, чтобы скрыть ее совсем.
Эй Джей входит в комнату с кувшином и двумя бокалами.
– Ты любишь «Маргариту»? Хотя зачем я спрашиваю.
Он голый и похож на неандертальца, выставленного в витрине Музея естественной истории. Он забирается в кровать, усаживается напротив меня, скрестив под собой ноги, и разливает «Маргариту» по бокалам. Кажется, его ничуть не смущает, что его член лежит перед ним на постели, и я не могу сдержаться, и то и дело посматриваю на него. Мы чокаемся бокалами, и, опуская голову, чтобы сделать глоток, я бросаю на член еще один взгляд.
Я тоже голая, но по грудь завернута в одеяло, потому что, в отличие от Эй Джея, немного стесняюсь. И не хочу, чтобы он видел синяки у меня на ребрах. Мы молча прихлебываем коктейль, смотрим друг на друга и улыбаемся.
Он протягивает руку и стаскивает с меня одело. Затем окунает палец в бокал с холодной «Маргаритой» рисует на внутренней стороне моего бедра сердечко. Еще раз окунает палец и закрашивает его. Прохладные капли стекают на простыню, Эй Джей наклоняется и слизывает текиловое сердечко.
От его теплых губ на моем бедре и острого чувства вины меня начинает потряхивать. Я почти не могу себя контролировать. Эй Джей настолько больше меня. Видя, что я дрожу, он привлекает меня к себе и обхватывает своими огромными руками. Я замечаю, как меняется его дыхание. Он приподнимает меня, так, чтобы я села на него верхом. Сам он тоже сидит. Я обнимаю его спину ногами, а он снова рисует что-то текилой на моей шее и ключицах.
Каждый раз, когда капли ползут вниз, он нагибается и слизывает их. Я покрываюсь мурашками и резко вздыхаю от каждого его прикосновения.
Потом моя голова падает на подушку, я смотрю в потолок и думаю, что же я здесь делаю. Мысленно я все еще у себя в квартире, в углу ванной, закрываю голову руками, но я делаю над собой усилие и возвращаюсь в настоящий момент. Должно быть, всходит солнце, потому что город за окнами начинает постепенно проявляться, как фотография, погруженная в реактив. Знакомое ощущение страха зарождается где-то в животе и поднимается вверх, к горлу. Когда встает солнце, а я не сплю, у меня возникает странное чувство, что время бежит слишком быстро, утекает сквозь пальцы, его осталось так мало и нужно ухватиться за что угодно, только бы замедлить, замедлить, замедлить его ход.
Моя голова запрокинута, и я вижу все вверх ногами. Горизонт перевернут, а контуры зданий, тоже перевернутые, похожи на гигантские, величиной с небоскреб, буквы. ЛУКАС, читаю я, поскорее отворачиваюсь от окна и несколько раз моргаю, чтобы отогнать ужасное видение. Эй Джей подхватывает меня, когда я поднимаюсь, и мои волосы падают ему на плечи. Он опять обнимает меня и осторожно отнимает бокал. Потом ставит его на ночной столик, берет меня на руки и несет к окну, без малейших усилий, как будто я легкая, как балерина. Он задергивает занавески и утыкается лицом мне в шею. Все вокруг тускнеет, город снова исчезает в тени. Эй Джей бросает меня на кровать и ложится сверху.
15 декабря, 6:16
Пока я вожусь с ключами от подъезда, солнце уже поднимается над крышами домов. Знаю, я не должна была оставаться у Эй Джея до такого часа, но после Лукаса и всего, что случилось, я просто не могла сидеть дома одна. Мне нужно было поехать к Эй Джею. Но только – господи! – зачем же я столько выпила? Вваливаясь в лифт, я одним глазом смотрю в телефон. 6:16.
У меня еще есть время.
Я выпью кофе, приму душ и протрезвею. И пойду на работу в чистой одежде.
У меня есть время.
У меня есть время.
Как все пьяные, которые хотят казаться трезвыми, я гигантскими шагами выхожу из лифта и направляюсь к своей квартире. Опираюсь левым плечом о дверной косяк и пытаюсь засунуть ключ в замочную скважину. Ничего не получается. Этот ключ сделан из пластилина, честное слово. Я несколько раз глубоко вдыхаю и выдыхаю, концентрируюсь на замке и наконец открываю дверь. От слишком резкого солнечного света слезятся глаза. Я включаю кофеварку. Времени на то, чтобы помыть голову, нет, но я могу постоять под горячим душем, хорошенько пропотеть и вместе с потом выгнать из тела алкоголь. Или наоборот – нужен холодный душ?
Я вылезаю из одежды и встаю под чуть теплую воду. Сплевываю, чтобы избавиться от вкуса бухла, и начинаю так яростно чистить зубы и язык, что даже давлюсь. Я засовываю щетку в рот еще глубже, и к горлу подкатывает тошнота. Если меня вырвет всем тем, что я выпила, то станет гораздо, гораздо лучше, и я продолжаю нажимать на язык до тех пор, пока коричневая струя блевотины не орошает мне ноги. Я ополаскиваю щетку, беру душ в руки и смываю отвратительную лужу. Теперь ванна чистая. Я оттираю кожу скрабом с цветочным запахом и убеждаю себя, что все будет нормально.
В метро меня мучает отрыжка – резкий запах зубной пасты и рвоты. Он так и стоит у меня в горле. Я смотрю на других пассажиров в вагоне. Вроде бы никому не кажется, что я выгляжу подозрительно. Это воодушевляет, и я, как мне представляется, набираюсь энергии на предстоящий день. Я прихватила из дома термос с кофе и теперь попиваю его маленькими глоточками, а по дороге в «Туфлос» остановлюсь у закусочной. Жир. Мне необходимо съесть что-то жирное – бекон, яичницу и сэндвич с сыром, чтобы «смазать» желудок. Я снова бросаю взгляд на телефон – уже открыв оба глаза: 7:53. У меня все получится.
Я сижу в кабинете, ем яичницу с беконом и сыр и пью вторую порцию кофе, как вдруг мне чудится, что от моих волос воняет. Я распускаю хвост и подношу пряди к носу. В самом деле. Они пахнут сигаретами и ночью, проведенной не дома. Я достаю из ящика стола освежитель воздуха и поливаю им голову. Потом иду в туалет, сушу их под сушилкой для рук и пытаюсь расчесать пальцами. Это дико унизительно, и я вполголоса проклинаю Лукаса за то, что он практически толкнул меня в объятия Эй Джея, точнее, в его постель. Мне так требовалось утешение. Черт тебя раздери, Лукас, сраный говнюк! Я же знала, что сегодня не могу пропустить рабочий день!
Я бреду по коридору обратно к кабинету, и у меня кружится голова. К тому же меня подташнивает. Нужно посидеть неподвижно, как можно дольше, чтобы кофе, вода и жирный завтрак сработали. Надеюсь, Рэйчел пригласит меня к себе только ближе к полудню. Я допиваю остатки воды и аккуратно кладу гудящую голову на стол, чтобы дать глазам немного отдохнуть.
Дэвид стучится в дверь как-то особенно, просто нереально громко, и этот невыносимый звук буквально выдергивает меня из пьяной полудремы. От неожиданности я едва не падаю с кресла, резко выпрямляюсь, подхожу к двери и распахиваю ее. Ничего не соображая, я просто стою и пялюсь на Дэвида широко открытыми глазами.
– Эй, доброе утро. С тобой все в порядке?
– Привет, Дэвид. Да, все нормально. Просто устала. – Я с трудом фокусирую на нем взгляд.
– Рэйчел просила меня передать, что она ждет тебя в конференц-зале. Ты уверена, что все в порядке? Выглядишь ты как раз не очень.
– Нет-нет, все хорошо. Должно быть, я задремала, а ты меня напугал.
Дэвид закрывает дверь, придвигается ближе и шепчет:
– Ты пьяная?
– Нет. Нет. Нет-нет-нет. Абсолютно не пьяная. Просто слишком мало спала прошлой ночью, и у меня, так сказать, кончился бензин. – Я определенно чувствую, что пьяна. На часах почти десять утра.
– Тогда тебе лучше собраться, прежде чем идти туда. У тебя такой вид, как будто ты спала в сточной канаве.
– Восхитительно. Спасибо, Дэвид. Но в любом случае со мной все в полном порядке. Как Рэйчел? В каком она сегодня настроении? – Определенно не в полном порядке. Я приглаживаю волосы, скручиваю их в пучок и протираю глаза, чтобы окончательно проснуться. Потом беру в рот немного «Листерина», полощу и выплевываю в корзину для мусора.
– Рэйчел? Да вроде бы все о’кей. У нас только что закончилась встреча, и все прошло прекрасно. Удачи тебе.
Он выходит из кабинета, явно разочарованный, бросив на меня напоследок крайне неодобрительный взгляд. Но сейчас мне не до того, что думает обо мне Дэвид. Я еще раз смотрюсь в зеркало пудреницы, еще раз проверяю, все ли в порядке, хватаю со стола пачку историй болезни и уверенным шагом направляюсь в конференц-зал.
Рэйчел сидит во главе общего стола, спиной к двери. Он кажется просто огромным, когда заняты всего два места – мое и Рэйчел. Она здоровается, я раскладываю перед ней истории болезни и снова встаю, чтобы налить себе кофе.
– Прихвати и мне, пожалуйста! – кричит мне вслед Рэйчел, когда я выхожу в лаунж. – Моя кружка – та, что с птичкой.
– Конечно! – воплю я в ответ в чуть приоткрытую дверь. – Какой вы пьете?
– Некрепкий и сладкий, пожалуйста.
Я наливаю две кружки кофе и с дрожащими руками возвращаюсь в конференц-зал. Когда я ставлю кружку перед Рэйчел, немного кофе выплескивается и растекается лужицей по столу.
– Спасибо, Сэм, – благодарит Рэйчел, вытирает пролитый кофе салфеткой и отпивает глоток. – Итак, давай начнем. Напомни мне, сколько твоих пациентов на данный момент принимают медикаменты?
Это ежемесячная встреча, на которой мы обсуждаем пациентов и их медикаментозное лечение: принимают ли они прописанные лекарства, есть ли подозрения, что они только притворяются, будто делают это (кладут пилюлю под язык и выплевывают, например), оказывают ли таблетки желаемое действие и так далее.
– Все, кроме Ричарда.
– О’кей. Как у тебя дела с Ричардом? Это не относится к теме встречи, но тем не менее. У нас в последнее время не было возможности об этом поговорить.
– Полагаю, мы движемся вперед. Он, конечно, очень трудный пациент, и ему абсолютно не интересно отвечать на вопросы незаполненной истории болезни, но я уже практически уверена, что все эти разговоры о его жестокости – не более чем слухи. Он не похож на буяна и жестокого человека. Скорее на каменную стену. – Что действительно движется, даже как будто дрожит, так это мои глазные яблоки в глазницах.
– Что ж, я рада, что у вас есть некий прогресс. Мы обсудим это более подробно на встрече, посвященной пациентам, хорошо?
– Да, разумеется. – Я чувствую, что сейчас начну икать.
– В прошлый раз мы говорили об Адель. Что-то с ней было не так. Кажется, мы пришли к выводу, что нужно либо изменить дозировку, либо поговорить с психиатром о смене лекарства. Верно?
Я перебираю истории болезни, нахожу файл Адель… и осознаю, что понятия не имею, о чем толкует Рэйчел. По поводу назначения другого лекарства у меня ничего не отмечено.
– М-м-м… да. Мы собирались добавить олонзапин и понаблюдать, стабилизирует ли он симптомы биполярного расстройства. «У Адель есть диагноз биполярное расстройство или нет?» Когда я не знаю, о чем говорю, то стараюсь вставлять в речь как можно больше научных терминов и медицинского жаргона, в надежде, что никто не обратит внимания на то, что я несу.
– Хорошо. Следи за взаимодействием с другими средствами. У нее ведь в анамнезе алкоголизм?
– Да, но она вылечилась и много лет не употребляет спиртного. Ей за девяносто, так что, возможно, это уже не актуально. – Мне кажется, что я выдыхаю горячие алкогольные пары.
– Тогда держи под наблюдением, как функционирует печень и не возникнут ли тремор, судороги или нечто подобное. Я сделаю для себя пометку. Надеюсь, олонзапин подействует лучше, чем рисперидон. Организм у нее хрупкий, женщина пожилая, не хотелось бы навредить. – Рэйчел записывает что-то в толстую тетрадь.
– О’кей. – Я тоже царапаю неверной рукой замечание в истории болезни, чтобы психиатр отменил олонзапин. От похмелья я сильно вспотела и чувствую, как свитер становится мокрым под мышками.
– Так. Теперь – что у нас с Шоном? Мне говорят, на групповых сеансах он как будто выключен. Все забывает, путается, теряется. Ты определила, не связано ли это с медикаментами?
Рэйчел мчится вперед слишком быстро, а мысли путаются как раз у меня, а не у Шона. Шон… Кто из них Шон, господи? Я снова копаюсь в файлах.
– Ага. С Шоном все нормально. На самом деле… – я начинаю врать, хочу остановиться, но уже не могу, – у него, наоборот, появились признаки улучшения памяти, прояснения сознания. Думаю, мы должны придерживаться намеченного плана лечения, он хорошо работает. Шону двадцать шесть. И честно говоря, я полагаю, что все это объясняется скорее невнимательностью.
Мы переходим от одного пациента к другому и обсуждаем детали, которые я сейчас просто не в силах вспомнить. Дикая боль терзает виски, и я кое-как добираюсь до конца встречи, притворяясь, что все нормально. Я пьяна и одновременно мучаюсь от похмелья. Наконец кошмар заканчивается, я поднимаюсь и иду к выходу. И как повелось, придерживаю дверь для Рэйчел. Она, однако, продолжает сидеть и буравит меня испытующим взглядом.
– Я остаюсь здесь, Сэм. У меня еще встречи с другими членами персонала. – Рэйчел чуть морщится, как мне кажется, осуждающе. – Постарайся сегодня лечь пораньше и хорошенько выспаться.
16 декабря, 14:12
Я провожу групповой сеанс вместо Джули, которая не удосужилась явиться на работу. Должно быть, у нее важная встреча с консультантом по здоровью, где они обсуждают новые диеты и жир на животе. Этот сеанс – не обыкновенная трата времени, а двойная или тройная, потому что все мои обязанности состоят в том, чтобы следить за тем, чем пациенты занимаются за компьютерами.
В больнице заблокированы порносайты и сайты азартных игр, так же как и социальные сети, чаты или вообще любые сайты, содержащие потенциально опасные ключевые слова типа «оружие» или «наркотики». Я понятия не имею, как взломать защиту, но некоторые из более юных пациентов – технические гении; им как-то удается найти способ прорваться на порносайты, и все заканчивается мастурбацией в компьютерной комнате. То есть вот этим я в основном сейчас и занимаюсь: хожу по комнате, заглядываю в мониторы и проверяю, не смотрит ли кто порно, опустив одну руку под стол. На мне шарф Эй Джея, и я время от времени утыкаюсь в него носом и ощущаю его запах. Это сразу же переносит меня в его квартиру, и мои ноги слабеют, а в животе теплеет.
Эдди и Адель сидят рядом, и компьютеры ни у того ни у другого не работают. Эдди постоянно нажимает на кнопку на мониторе и ждет, что произойдет чудо. Адель терпеливо за ним наблюдает. Люси в другой стороне комнаты, просматривает учебные сайты. Она хочет заочно сдать экзамены и получить среднее образование и теперь готовится. Рядом с ней – пачка листов, взятых из корзины для бумаг, и она старательно переписывает что-то с экрана.
Эдди тянется через Адель к ее компьютеру и нажимает кнопку на мониторе. Ничего.
– Сссссэм, компьютер ссссломан.
– Попробуйте сесть за другой, – предлагаю я, даже не глядя. Я смотрю в кружку с кофе и ищу там ответы на свои вопросы.
– Компьютер этой леди тоже ссссломан.
Адель чуть поворачивает голову в моем направлении, и я со стоном поднимаюсь на ноги, подхожу к ним и нажимаю на ту же кнопку, над которой бился Эдди. С тем же результатом. Я опускаюсь на колени, нахожу колодку с кнопками, расположенную между двумя компьютерами, тычу в нее пальцем и жду, что будет.
– Эй, мой комп сдох! – Тайлер смотрит по сторонам, пытаясь выявить виновного.
– Извини, Тайлер. Погоди секунду. – Я опять нажимаю кнопку, и компьютер Тайлера возвращается к жизни. Наконец я нахожу нужную, компьютер Эдди включается, но монитор Адель по-прежнему темный. Я заглядываю под стол, но колодки там нет. Монитор Адель подключен только к мыши и клавиатуре. В нем даже нет шнура с вилкой.
Наши машины на целый век отстали от нынешних… ну, лет на десять точно. И вдобавок мы используем мертвые компьютеры, которые нельзя включить в розетку, чтобы ознакомить пациентов с современными технологиями. Добро пожаловать в «Туфлос». Ну что за куча дерьма.
– Эдди, чем вы собирались заняться? – спрашиваю я в надежде, что он и Адель смогут вместе попрактиковаться в терпении и тим-билдинге и поработать над каким-нибудь проектом.
– Я не знаю, Ссссэм… а ччччто-мы-должны-ссссдееелать?
Я встаю за его стулом и наклоняюсь, чтобы дотянуться до мыши и найти им какую-нибудь игру или образовательный сайт, который будет интересен обоим. Эдди не убирает руку, и я накрываю ее своей ладонью, нажимаю и двигаю мышью вместе с ним. Наконец я открываю программу, которая разработана для улучшения долговременной и кратковременной памяти.
– Хотите заняться этим вместе? Может быть, вы сумеете помочь друг другу научиться лучше запоминать информацию?
Я уже сделала больше, чем от меня требовалось на этой пародии на групповой психотерапевтический сеанс. Я начинаю раздражаться и думаю, что с меня хватит. Адель снимает свои круглые очки с толстыми стеклами, похожие на донышки бутылок из-под кока-колы, протирает их подолом футболки, подвигается к экрану поближе и подталкивает Эдди локтем, чтобы он начал игру. Эдди двигает мышью, и в первом же всплывающем окошке просят указать имя. Я вполне удовлетворена – они готовы работать вместе, значит, я могу отойти и снова углубиться в свои мысли. Я оставляю их, возвращаюсь на свой стул возле двери и вижу, что после некоторых раздумий Эдди и Адель вводят в окошко имя Эддель.
Я обвожу комнату взглядом и вижу разбросанные кругом разные издания «Справочника по диагностике и статистике психических расстройств», пособия для профессионалов. Вместо того чтобы погрузиться в полубессознательное состояние, я встаю и начинаю собирать книги. И натыкаюсь на третье издание диагностического справочника, открытое на странице «Расстройства личности». Этот раздел скорее напоминает урок истории; за довольно короткий период очень многое в науке изменилось. На полях сделаны какие-то пометки карандашом, но они смазаны, так что разобрать, что именно написано, почти невозможно. У некоторых страниц загнуты уголки. Я закрываю это издание и подбираю остальные справочники.
Три копии четвертого издания тоже открыты. Я вижу знакомые пометки, и мне до смерти любопытно прочитать, что же там такое выписано. Так, галочки на полях и какие-то инициалы. «С.» и «Ф. У.» и еще что-то.
Я держу книги под мышкой, собираясь положить их обратно на полку, и замечаю, что кто-то забыл выключить компьютер – никто из группы в данный момент им не пользуется. Подхожу, чтобы сделать это, и обнаруживаю, что на экране открыта страница «Википедии» «Расстройства личности», а рядом лежит пачка клейких листочков. Мы не пользуемся такими в «Туфлосе», но почему-то они кажутся мне знакомыми. Я оглядываюсь по сторонам – кто здесь мог залезть в «Википедию», чтобы посмотреть симптомы личностных расстройств? – но кажется, никто из пациентов, находящихся в данный момент в комнате, не умеет обращаться с компьютером настолько хорошо, чтобы найти эту информацию. Внезапно у меня возникает неприятное ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Я еще раз осматриваю каждого из присутствующих, но все они либо стучат по клавиатуре, занятые своим делом, либо дремлют в креслах.
19 декабря, 13:19
Мне срочно нужно покурить. Выйти на улицу невозможно – там собачий холод; к тому же на пути между мной и выходом слишком много людей. А мне никому не хочется смотреть в глаза.
Я расхаживаю по кабинету, хотя он слишком мал и «расхаживать» по нему невозможно, так что скорее я описываю маленькие круги, и это уже начинает сводить меня с ума.
Мои окна в левой стороне здания, а не на фасаде, где, если я высунусь в форточку, меня мог бы увидеть любой человек из персонала. Но, к счастью, мой кабинет находится на третьем этаже, и окна выходят в переулок.
На двери уже висит табличка «Обед», и в течение следующего часа я полностью свободна: ни групповых сеансов, ни индивидуальных. У меня будет время проветриться, избавиться от запаха табака и даже почистить зубы.
Поскольку мое пальто уже и так пахнет сигаретным дымом, я решаю, что еще одна выкуренная «раковая палочка» погоды не сделает, и смело накидываю его на плечи. Потом тщательно убираю волосы под капюшон, открываю окно, снимаю туфли и залезаю на кресло для пациентов. Почти половина моего тела свешивается вниз. Я в перчатках, и мне трудно держать сигарету и зажигалку, но, по крайней мере, пальцы вонять не будут.
Наконец мне удается зажечь сигарету, и я чувствую, что все приложенные мной усилия вполне окупаются. Дым наполняет легкие, и никогда не покидающее меня ощущение тревоги начинает понемногу отступать. Я старательно выдыхаю дым в сторону, и тонкие белые струйки растворяются в крошечных торнадо ледяного воздуха. Ярко светит солнце, но солнечные очки лежат в сумке. Щурясь, я наблюдаю, как из моего рта вылетают легкие облачка. Я поднимаю голову, наслаждаясь теплым солнечным светом, и едва не давлюсь дымом, увидев Рэйчел, которая тоже наполовину высунулась из окна своего кабинета.
– Сэм! – пронзительным шепотом выкликает она. На волосы Рэйчел накинут капюшон, а в руке она сжимает розовую зажигалку «Бик». – Потуши сигарету и зайди ко мне. Сейчас же.
Не говоря ни слова, я бросаю недокуренную сигарету вниз, на тротуар, и возвращаюсь в кабинет. Сердце колотится так, как будто готово взорваться, а к горлу комком подступает паника. Какого черта Рэйчел курит из окна своего кабинета? Я быстро надеваю туфли и вешаю пальто на крючок. Затем хватаю бутылку воды, вытаскиваю из набора для экстренных случаев зубную щетку, чищу зубы и сплевываю в корзину для бумаг. Сбрызгиваюсь духами и еще на всякий случай поливаю свитер и волосы освежителем воздуха, который всегда лежит в ящике письменного стол а.
Я бегу по черной лестнице к кабинету Рэйчел, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Сердце бьется как бешеное от ужаса, дурных предчувствий и никотина, а на шее напрягаются вены.
Я здорово психую и, возможно, слишком громко стучу в дверь Рэйчел, несмотря на ламинированную табличку «Идет сеанс, пожалуйста, соблюдайте тишину». Пытаюсь скрыть страх под маской профессионализма, но чувствую, что по спине и бокам стекает пот. Кажется, моя репутация золотой девочки здорово подмочена.
Рэйчел чуть приоткрывает дверь и втаскивает меня внутрь, чтобы запах дыма не успел просочиться в коридор.
– Сэм, ты куришь? – Рэйчел уже тоже повесила пальто на крючок и взяла себя в руки.
– Да. И всегда курила. Правда, в свое оправдание хочу заметить – никогда из окна кабинета. Но да, курю с тех пор, как здесь работаю. – Я усаживаюсь в кресло для пациента, хотя Рэйчел мне этого не предлагала.
– И сейчас тоже? Ты все еще куришь?
– Прошу прощения, я понимаю, что курить из окна – абсолютно недопустимо, это непрофессионально. Обещаю, больше это не повторится. – Извиняясь, я не перестаю изумляться лицемерию собственной начальницы.
– Нет, я не… дело не в правилах, я не это имела в виду. Но меня поражает, что ты куришь во время беременности. Ты же доктор и должна прекрасно все понимать.
– Беременности? Но я не беременна! Боже ты мой! – У меня начинает кружиться голова.
– Ты не беременна? – Кажется, Рэйчел действительно в шоке.
– Нет! С чего вы взяли?
– О господи. Саманта… ох. Я думала… э-э-э… На днях я хотела зайти к тебе, чтобы кое-что обсудить, и услышала звуки, похожие на… словом, как будто тебя рвало. И почему-то первое, что пришло мне в голову, – это то, что у тебя токсикоз и ты не вышла из кабинета, потому что не хочешь, чтобы все узнали. Как глупо. Я сделала совершенно необоснованный вывод. Извини, пожалуйста.
Я совершенно растеряна и не знаю, что сказать. Я-то думала, что мне предстоит объясняться по поводу курения, но оказывается, меня застали, когда меня выворачивало над корзиной для бумаг. Твою ж мать!
– Да, в тот день я чувствовала себя очень плохо. Совсем плохо. У меня… м-м-м… бывают мигрени, и иногда из-за них меня сильно тошнит. И часто я просто не успеваю добежать до туалета. Это очень противный недуг, но беременность тут ни при чем.
Эту ложь я заготовила уже очень давно, на всякий случай, уповая все же на то, что она мне никогда не потребуется. Я смотрю на Рэйчел очень честными глазами и изо всех сил надеюсь, что она мне поверит.
– Ах, вот оно что. Очень жаль это слышать. Я не знала, что ты страдаешь мигренями. С моим бывшим мужем было то же самое. Крайне изнурительная болезнь.
– Да нет, все нормально. У меня это уже много лет, так что я, в общем, уже в какой-то степени привыкла. – «А мы не будем обсуждать то, как обе только что курили, высунувшись из окон?»
– Я замечала, что иногда ты слишком медленно реагируешь на вопросы на общих совещаниях. Теперь я понимаю почему. И неудивительно, что ты так жутко выглядела в тот день, когда у нас с тобой была встреча по поводу медикаментозного лечения.
– Извините. Я пытаюсь с собой бороться, скрывать это, но иногда мигрень бывает сильнее меня. – «Ну пожалей меня, пусть я опять засияю в твоих глазах. Если нужно, я могу целыми днями притворяться, что у меня мигрень, а не похмелье». – А зачем вы хотели зайти ко мне в тот день? Какой вопрос нужно было обсудить? – Мне нужно как можно быстрее вывести разговор из опасного круга – нельзя касаться тем, которые выставляют меня слабой или больной. Или беременной.
– А, да. – У Рэйчел такой вид, словно ей неудобно. – Не слишком хочется затрагивать этот вопрос, хотя ситуация, в общем, очевидна.
Я поднимаю ладони, как будто сдаюсь.
– Я никому ничего не расскажу, Рэйчел.
– Спасибо. Курить из окна действительно совершенно для меня недопустимо. – Она глубоко вздыхает и немного расслабляется. До этого, с того момента, как я вошла в кабинет, в воздухе висело некоторое напряжение. – Сейчас очень трудное время, иногда я чувствую себя очень подавленной, как и все.
Я мгновенно и плавно переключаюсь в режим психолога – чуть хмурю брови, чтобы показать, что внимательно слушаю, немного склоняю голову к плечу и почти незаметно киваю, побуждая Рэйчел продолжать.
– Мы в тяжелом положении, – продолжает Рэйчел. – Уверена, ты, как никто, давно ощущаешь этот хаос, витающий в воздухе.
Рэйчел широко взмахивает руками, как будто хочет показать, что все наше отделение охвачено пламенем. Я снова киваю. Мне интересно, и в то же время я чувствую себя несколько виноватой – никакого хаоса я до сих пор не замечала.
– Мы… – Она наклоняется вперед, ближе ко мне, как маленькая девочка на площадке для игр, которая хочет поделиться с подружкой большим-большим секретом. – На данный момент мы находимся в… я бы сказала, катастрофическом финансовом положении. – Рэйчел откидывается на спинку кресла и отворачивается. Ей, очевидно, неловко, что она выдала мне подобную информацию. Она потирает виски, и в первый раз за все время я вижу, что ее ногти обкусаны почти до крови. – Никому из персонала я ничего не говорила, и другие администраторы, насколько мне известно, тоже скрывают от всех правду. Но я ведь только что курила в окно, как и ты, так что профессиональную этику можно выкинуть туда же. – Она смотрит на меня через плечо и мрачно ухмыляется. – И кроме того, я тебе доверяю, Сэм.
– Рэйчел, мне очень жаль. Я понятия не имела, что «Туфлос» сейчас в такой ужасной ситуации.
Но кажется, теперь все становится на свои места. Разумеется, у нас большие проблемы. Персонал вечно раздражен, администраторов вообще не видно. Все то и дело берут больничный – чаще и чаще. Краска на стенах облупилась, туалеты как не работали, так и не работают. Пациентов больше, чем когда-либо, а новых специалистов не нанимают. Мы загружены по уши. Насколько же все действительно плохо?
– Я даже не осознавала, насколько мне нужно было с кем-нибудь об этом поговорить, – вздыхает Рэйчел.
Я осматриваю кабинет внимательнее и вижу отражение того самого хаоса в отдельно взятом помещении. Это уже больше чем просто беспорядок. Прямо посередине ковра расплылось темное пятно, и кажется, там начинает расти что-то похожее на плесень. Несколько зонтов завалились за шкаф для файлов; ни один из них как следует не закрыт. Растения на подоконнике давно засохли, даже кактусы и суккуленты, которые практически неубиваемы. Под столом Рэйчел валяется пакет, набитый самой разной обувью – от зимних сапожек до сандалий, – видно, что она не заглядывала туда уже много месяцев.
– Что ж, я здесь и готова вас выслушать. У меня групповой сеанс через сорок минут, но Дэвид может меня подменить, если вы захотите обсудить со мной ситуацию. – Сейчас подходящий момент, чтобы упрочить свой статус в глазах Рэйчел.
Она уныло улыбается, сокрушенная, побежденная, и я беру ее трубку, чтобы вызвать по интеркому Дэвида. Он соглашается меня заменить и даже не спрашивает о причине.
– Все улажено, – докладываю я. – Так что же происходит? – Я должна бы чувствовать себя неловко – ведь нарушить субординацию и отбросить в сторону профессионализм для Рэйчел недопустимо; а уже тем более недопустимо и ненормально – раскрыться передо мной. Но вместо смущения я испытываю довольно странное ощущение – как будто передо мной маячат новые возможности.
– Такое положение сложилось не только у нас. Это происходит со всеми медучрежденими, которые находятся на государственном финансировании. У города средств нет, у штата нет, и у федерального правительства тоже. Ни у кого нет денег. Здравоохранение так и не оправилось после кризиса две тысячи восьмого года. Выделенные средства были перераспределены, и мы, как обычно, вытащили короткую спичку. И теперь у нас нехватка персонала, потому что люди просто не могут существовать при такой зарплате. Мы теряем администраторов, которые не представляют себе жизни без шестизначного дохода. А пациентов и работы, наоборот, прибавляется, причем так же катастрофически.
Рэйчел не смотрит на меня. Ее голова запрокинута, ноги вытянуты, и она тихонько раскачивается из стороны в сторону.
– И как долго это продолжается?
– Много месяцев. Или, скорее, я знаю об этом уже несколько месяцев, но все началось гораздо раньше, и теперь уже переливается через край. – Рэйчел резко разворачивается и достает из ящика стола жестяную коробочку. Она сует в рот кислый леденец и подвигает коробочку ко мне, но я вежливо отказываюсь. Во рту у меня все еще стоит острый вкус зубной пасты. – Чиновники заявлялись, как же без этого. В сентябре, что ли… в общем, еще до того, как похолодало. Сообщить, что для «Туфлоса» «наступают нелегкие времена». Долго обсуждали лояльность персонала и его возможности. То есть кто сможет справиться с большей нагрузкой при том, что прибавки в зарплате не будет, кто не бросит работу, на кого можно положиться. Это всегда такое огромное удовольствие – слышать от них слова сочувствия, в то время как они отнимают у нас последние крохи, то, на чем мы держимся, выживаем из последних сил. И они еще смеют напоминать, как важна забота о пациентах! Я – капитан тонущего корабля, а они постоянно звонят мне и напоминают, что, фигурально выражаясь, сражаются на стороне добра и сидят со мной в одном окопе. И предлагают нелепые решения, вроде поддержания командного духа среди персонала. Командный дух? Да они даже не знают, как нас всех зовут!
Я бросаю взгляд на стол Рэйчел. Он завален файлами, папками, заметками, бумагами… Под кучами документов виднеются бумажные коробки из-под еды навынос и скомканные одноразовые носовые платки, засунутые во все щели.
Отчаяние налицо. Оно выражается не только в том, что Рэйчел выговаривается передо мной, но и в манере поведения, в жутком состоянии кабинета. Оно слышится в ее голосе. Кажется, Рэйчел окружена облаком безумия.
– Они в принципе не способны понять, что я здесь одна. – Она уже почти всхлипывает. – Я одна должна справляться с кризисом, я одна знаю, что у нас кризис, я одна волоку на себе все управленческие обязанности. Я ведь даже просила их! Едва ли не умоляла, чтобы мне позволили повысить одного из психологов до должности менеджера, так чтобы мне хотя бы было с кем поговорить обо всем этом. Кстати, я думала о тебе.
– И что они сказали? – «Меня повышают?»
– Мы бы предпочли, чтобы персонал не был в курсе наших финансовых трудностей. Предполагаем, что это только временно, и, повторяю, мы предпочли бы, чтобы об этом знало как можно меньше людей. – Рэйчел произносит это гнусавым тонким голосом, как в мультфильмах, и изображает пальцами кавычки. – Та же бессмыслица, что и раньше. В общем, они всем врут. И вранье в данном случае означает замалчивание правды.
– Я рада, что вы мне рассказали. Вам определенно нужно было немного облегчить душу и с кем-то поделиться. Я не жду никакого повышения или другой должности, но, если вам понадобится помощь любого рода или поддержка, я всегда рядом. Рассчитывайте на меня. Буду счастлива оказаться хоть чем-то полезной. И конечно, я буду молчать как рыба. – Никакой выгоды мне это не принесет, но почему бы не сохранить лицо.
– Я не могу… не могу тебя ни о чем просить. Видит бог, я и так завалила тебя работой дальше некуда. Навесила на тебя самых трудных пациентов, ты ведешь самые серьезные групповые сеансы… Я не могу тобой рисковать. Если мы тебя потеряем, все наше заведение просто развалится. И – о боже, боже – я еще и обвинила тебя в том, что ты беременна.
– Рэйчел, это моя работа, а свою работу я люблю. И надеюсь, хорошо ее выполняю. Невозможно знать о том, какой груз лежит у вас на плечах и как вам необходимо хоть какое-то подспорье, и не помочь. Позвольте мне сделать это. Дайте какое-нибудь задание. Давайте я возьму что-то на себя, пусть вам станет хоть чуть-чуть легче.
По глазам Рэйчел я вижу, что ей отчаянно хочется согласиться. Она уже думала об этом. Ждала подходящего случая, чтобы со мной поговорить. Я снова окружена сиянием, и теперь оно почти слепит взгляд.
– Я только что провела миллион встреч с персоналом по вопросам медикаментов. А еще на мне кураторские встречи, как тебе известно. Сэм, я пока даже не просмотрела заключения, что мне прислали из ДПЗ. – Она берет со стола толстую пачку папок, обвязанную лентой и скрепленную печатью ДПЗ. Она похожа на неоткрытый подарок на Рождество.
Так вот почему я до сих пор не вылетела. Заключения еще не прочитаны.
– Нужно было разобраться с ними и послать доклад в ДПЗ, как только доктор Брукс и доктор Янг закончили с заключениями. Но Департамент по вопросам психического здоровья одолевают те же проблемы, что и нас. У них слишком много работы, нехватка персонала и недостаток финансирования. Мы все на одном тонущем корабле.
Это невероятная, выпадающая раз в жизни возможность спасти свою шкуру, и прямо сейчас она лежит передо мной. Вернее, Рэйчел в данный момент держит ее в руках.
– Рэйчел, разрешите мне заняться ими. Немного вас разгрузить. «Отдай мне эти заключения, отдай мне заключения. Отдай. Мне. Заключения».
– Я уже почти без сил. Каждый день смотрю на пациентов и понимаю, что не вправе их подвести. – Взгляд Рэйчел затуманивается. Она смотрит в никуда. «Отдай мне заключения».
– Я могу помочь с административной работой, если надо. Или заменить вас на групповых сеансах, если что… – «Отдай мне заключения» – …или даже написать для вас эти резюме по заключениям ДПЗ.
Мое сердце бьется так же бешено, как в тот момент, когда Рэйчел застукала меня у окна. От прилива адреналина пульс чувствуется везде, даже в кончиках пальцев. На руках проступают вены, а по спине градом катится пот.
Рэйчел смотрит на стопку заключений, но говорит совсем о другом, как будто то, что видят ее глаза, и то, что крутится у нее в голове, никак не связано.
– Я… я не могу допустить, чтобы наши пациенты страдали из-за финансовых проблем. Нельзя, чтобы им стало хуже, им и так пришлось слишком много пережить. – Ее голос становится все тише и тише, мысли явно путаются. Рэйчел совершенно потеряна. Машинально, думая бог знает о чем, но совсем не об этом, она медленно подвигает ко мне драгоценные бумаги. Ее глаза широко раскрыты, а челюсть слегка отвисла. Она разжимает пальцы, и пачка заключений ДПЗ падает в мои подставленные ладони. – Нельзя, чтобы они почувствовали эти перемены на себе. Им необходима поддержка…
Рэйчел прерывается на полуслове. В ушах у меня стоит несмолкающий звон. Желудок подбирается к горлу. Я парю в небесах от счастья и в то же время боюсь до смерти. Она вручает мне билет на свободу. Я провожу потными руками по гладкой поверхности верхней папки и с наслаждением ощущаю тяжесть пачки.
– Что еще? – спрашиваю я, не отрывая взгляда от заключений. Не могу поверить, что это происходит в действительности. Рэйчел впала в транс от тревоги и жалости к себе, и я сомневаюсь, что она вообще меня слышит.
– Вот что ты можешь для меня сделать. – Она по-прежнему смотрит в пространство, как будто приняла кислоту и теперь у нее приход. – Не говори никому, что я тону. Не говори персоналу, даже Дэвиду, что у нас неприятности. Поддерживай впечатление, что все благополучно. Пусть никто не увидит, что за шторой кто-то прячется, так сказать.
Она наконец выныривает из своего странного состояния и фокусируется на мне. Ее руки накрывают мои, мои крепко держат собственное спасение.
Я встаю, стараясь не делать резких движений. Надо как можно скорее убраться из этого кабинета, пока Рэйчел не очнулась окончательно, не разгадала мой трюк и не отняла заключения. Она выпрямляется и снова смотрит мне в глаза, растерянно и смущенно.
– Я никому ничего не скажу, если вы не скажете.
Мы как будто пожали друг другу руки. Скрепили пакт. Пакт между двумя тонущими женщинами – до конца притворяться и убеждать других, что они умеют плавать.
20 декабря, 15:46
Я держу под мышкой пачку заключений, и теперь мне точно известно, что чувствует наркодилер с грузом. Волнение захлестывает меня с головой, но страх еще сильнее. Рэйчел потеряла рассудок к чертовой матери и решила, что лучше всего с заключениями и написанием по ним резюме справлюсь я. Я! Морально неустойчивая, психически нестабильная, разрушающая себя, внушающая суеверный ужас супергерой доктор Саманта Джеймс.
Нужно действовать быстро, потому что поврежденный мозг Рэйчел – это ненадолго. Да, «Туфлос» в дерьме, но это ее не сломит, и она скоро придет в себя.
Я сдергиваю с пачки ленту ДПЗ, и файлы разлетаются, как раскрытый аккордеон. Они сложены по отделам, и, хотя меня так и жжет любопытство, я сдерживаю себя, откладываю в сторону файлы своих коллег и пытаюсь создать организованную и логичную систему написания резюме. Надо скорее перенести что-то на бумагу, на случай, если Рэйчел решит проверить, взялась ли я за работу, и я начинаю с самого скучного: техники, уборщики и рабочие кухни. Затем пойдет охрана, санитары и медсестры и, наконец, самое сладкое: я покопаюсь в заключениях старшего медперсонала.
Весь мой мозг занимает только одна мысль: Трэвис и доктор Брукс дали нам всем пропуска, позволяющие пройти куда угодно, и никто не узнает обо мне правду. Не знаю, что я буду делать, если открою свой файл и прочитаю в заключении, что никуда не гожусь. Поэтому я засовываю папку со своим именем на самое дно, под все остальные.
Дэвид все еще проводит вместо меня групповой сеанс. Скорее всего, по окончании он придет ко мне рассказать, как все прошло. Я потрачу десять минут, может быть, пятнадцать, а потом мое расписание большую часть дня свободно. У меня назначено несколько индивидуальных сеансов, мне надо поработать над историями болезней и сделать еще пару дел, но вместо этого я вешаю на дверь табличку «Идет сеанс», врубаю на полную мощность прибор «белый шум» и расчищаю стол – убираю все другие бумаги и разную дребедень. Вытаскиваю телефон: там сообщение от Эй Джея – как обычно, ряд эмодзи с намеками – улыбаюсь и выключаю его. Сейчас мне нельзя отвлекаться. Я кладу перед собой две ручки – красную для заметок, черную – для резюме, и пачку листов с официальным логотипом «Туфлоса». Все, я готова приступить к делу.
В каждой папке содержатся результаты тестирования и наблюдений, а также краткое обобщение и выводы. Отдельно идут результаты собеседований. Ко всему этому прилагается история работы в «Туфлосе» и резюме, которые мы писали при трудоустройстве.
После того как Трэвис и доктор Брукс завершили свои исследования и изложили их итоги, Рэйчел по идее должна прочитать их заключения, написать свое резюме по каждому члену персонала и вынести решение, оставить его на работе или перевести на другую должность. Но теперь это моя задача. Настоящие заключения экспертов из ДПЗ будут добавлены к нашим личным делам, что хранятся в архиве, и, возможно, их никто никогда не увидит. В ДПЗ будут посланы только отчеты Рэйчел. Мои отчеты.
Я открываю первую папку. Сальваторе Вальбуэна, рабочий-техник. Десять лет службы в психиатрическом центре «Туфлос». Образование? Диплом об окончании школы. Заключения по тестам и собеседованию? Ничего, что следует принять во внимание. Вывод: пригоден к выполнению текущих обязанностей. Я наскоро царапаю какие-то заметки, аккуратно закрываю папку и кладу ее на подоконник, лицом вниз.
Продолжая листать папки, я вижу, что почти весь технический персонал получил такие же заключения – кроме Карлоса, который очень странно и непонятно ответил на все вопросы тестов и собеседований-интервью, так что сделать из всего этого какие-то выводы оказалось невозможно. Объяснение тут простое – Карлос не говорит по-английски, а ни доктор Брукс, не Трэвис не знают испанского. И вместо того чтобы сделать свою гребаную работу, они просто провозгласили, что он «пригоден к выполнению текущих обязанностей». Чтобы показать свою дотошность и внимание к мелочам, я беру красную ручку и большими буквами пишу, чтобы в следующий раз ДПЗ предоставил тем, кто не слишком бегло говорит по-английски, доктора со знанием испанского языка. Ну что, видите? Я вполне способна выполнить это задание.
Я читаю заключения, просматриваю результаты тестов и не могу не задаться вопросом: они что, усреднили баллы тестирования? Может, кто-то показал хорошие результаты, кто-то плохие, но было решено все более или менее сравнять? По моим прикидкам, примерно половина из нас – абсолютно чокнутые люди, и если сюда мы, возможно, пришли нормальными, «Туфлос» весьма эффективно это исправил. Взять хотя бы Рэйчел, образец нормальности и психического здоровья, – в данный момент она просто расползается по швам. Может ли такое быть, что специалисты из ДПЗ сделали нам скидку? Учли уровень стресса, который возникает в подобном окружении и при таких нагрузках? Взяли на себя ответственность и дали некоторым из нас послабление, чтобы мы не вылетели с работы, пока вокруг бушует океан финансовой неопределенности?
Я разобралась почти со всеми заключениями по вспомогательному персоналу, одинаково монотонными и неинтересными. Теоретически мой рабочий день окончен, и я могу пойти домой и открыть бутылку вина. Холодного вина. Или две бутылки. И спокойно покурить. Но прежде чем я начинаю собирать вещи, меня неожиданно охватывает любопытство, и при всем желании я не могу с ним совладать.
Из-под аккуратно сложенных папок я вытаскиваю свою и кладу ее сверху. Несколько секунд сверлю ее взглядом, думая, хватит ли у меня воли и веры в себя, чтобы ее открыть. Папка лежит наверху, следующая в очереди, а я все сижу и собираюсь с силами. Где-то у меня был припрятан огромный пакет с бухлом. Куда к черту я его задевала?
Я засовываю свою папку, к которой так и не притронулась, обратно, под все остальные, и сбрасываю туфли. Нет, пока я еще не могу прочитать о себе всю правду. Я кладу все оставшиеся заключения на пол, снимаю с крючка пальто и сооружаю для себя маленькое гнездышко. Пальто послужит подушкой. Судя по тому, что я увидела в других папках, это будет настоящее развлечение. Я уже готовлюсь хорошенько посмеяться, начав с Джули, но вдруг слышу стук в дверь.
– Это я. Ты еще не ушла? – Я вылезаю из гнезда и открываю Дэвиду дверь. – Привет. Чем ты тут занимаешься?
– Привет. Да делала кое-что для Рэйчел, она попросила помочь. – Я даже не могу сказать Дэвиду, что мне чудом представилась возможность спастись. И не могу признаться, что собираюсь сделать с собственным заключением. – А ты что здесь завис?
– Я уже иду домой. Просто хотел тебе сообщить, что твой сеанс прошел без каких бы то ни было событий. Хотя, возможно, тебе нужно проверить ситуацию с Шоном и его лекарствами. По-моему, он их не принял. Или вообще не принимает.
– Хорошо. Спасибо, Дэвид. – Я машу ему рукой на прощание, он закрывает дверь, и я возвращаюсь к папке Джули.
Я выуживаю ее резюме и проглядываю информацию, выделенную жирным шрифтом. Адрес – Верхний Ист-Сайд, высокий этаж, почтовый индекс 10021. Ну, естественно. Она решила указать в резюме свой средний балл в магистратуре! Господи боже, какой поцелуй в задницу. Она окончила колледж, когда я уже защищала диссертацию. Ей всего двадцать восемь лет. Ученая степень, работает в «Туфлосе» в течение двух лет. Три ее предыдущих места работы – реабилитационные центры. Ни на одной она не задержалась дольше чем на шесть месяцев. Я вижу копии двух характеристик. Первая была написана после полугодовой практики, вторая – год спустя. Все выглядит довольно прилично; по всем параметрам Джули получила в основном три или четыре балла по пятибалльной шкале. Но меня куда больше интересует раздел «Комментарии».
«Не хватает профессионализма в общении с пациентами.
Неуместное использование объятий и других видов физического контакта.
Чрезмерно энергична, настолько, что это отвлекает от дела.
Использует термины, не относящиеся к медицине, в медицинской документации.
Извлекает для себя пользу, наблюдая за тем, как другие члены медперсонала проводят групповые психотерапевтические сеансы.
Примечание: Пожалуйста, не используйте символы в виде улыбающихся лиц ни в какой медицинской документации».
Ха! Поверить не могу, что все это было ей сказано еще год назад, а она по-прежнему ведет себя как чирлидер-шлюшка – член университетского женского общества. Жалкая личность.
Общее заключение ДПЗ гласит: ничего, что следовало бы принять во внимание. Как и все в ней. Ничего примечательного, никакой патологии, кроме способности патологически раздражать окружающих. Заключение по результатам собеседования сообщает, что, возможно, бодро-кипучей Джули не очень подходит работа в данной области, и тем не менее она «пригодна к выполнению текущих обязанностей». Может, стоит взять толстенный черный маркер и изменить это заключение? Под конец я нахожу еще одну драгоценную золотую крупинку:
«Ось 1. Диагноз: Нет (справиться с повышенной тревожностью)
Ось 2. Диагноз: Нет (отвечает в возвышенном, чересчур драматизированном стиле)».
Психиатры считают, что у нее повышенный уровень тревожности и склонность к истерии. Фрейд бы с ума сошел от радости от такого дерьма. Я отбрасываю папку Джули в сторону и продолжаю рыться в заключениях прочих моих коллег, делая при этом некоторые заметки на случай, если нападу на что-то интересное. Но Трэвис и доктор Брукс выполнили свою работу на редкость формально и профессионально. Время от времени, читая чей-то файл, я натыкаюсь на упоминание о каком-либо незначительном недостатке или неуместной для дела черте характера, но пока еще никто не был признан «неподходящим».
Перед тем как приступить к папке Гэри, я выскакиваю в лаунж для персонала за очередной чашкой кофе и упаковкой арахисовых М&M’s. Гэри – последний из магистров; потом я перейду к психиатрам, а потом к двум докторам: это Дэвид и я.
Я пробегаю глазами резюме Гэри, места, где он работал, и характеристики. В основном оценки три балла. Средненько. Ничего особенного. Я открываю результаты тестов и интервью-собеседований, и вот это уже кое-что.
«Ярко выраженное чувство дискомфорта и тревоги при заполнении психологических опросников-тестов и собеседованиях.
Обильное потовыделение при прохождении каждого теста или интервью.
Частые просьбы выйти в туалет или попить воды.
По всем тестам невозможно сделать однозначное заключение: хаотичные противоречивые ответы на вопросы анкет; сбивчивые, непоследовательные ответы на вопросы на собеседованиях.
Пригоден к выполнению текущих обязанностей, однако рекомендуется наблюдение и продолжение образования, а также уменьшение числа контактов с пациентами.
Ось 1. Диагноз: Генерализованное тревожное расстройство[14]
Ось 2. Диагноз: Нет».
Значит, не всем сделали скидку. Вероятно, Трэвис и доктор Брукс провели более тщательную работу с высшим медперсоналом. Я снова смотрю на папку с моим заключением, и сердце начинает трепетать, а ладони становятся мокрыми. Теперь я совсем не уверена, что сумела проскочить. Я быстро пролистываю заключения по двум нашим психиатрам. В их случае Трэвис и доктор Брукс явно проявили профессиональную солидарность. Психиатр всегда прикроет другого психиатра. Я вижу только преувеличенные похвалы и сплошное вылизывание задниц. Говнюки. Я швыряю эти папки поверх остальных. Итак, осталось только две.
Я медленно открываю папку Дэвида, стараясь не оставить на страницах потных отпечатков пальцев или шоколадных пятен. Мне ни за что не хотелось бы даже так замарать репутацию своего лучшего друга. Дурашливый, смешной парень, который умеет улыбаться одним уголком рта, с вечно взъерошенными волосами, которого я знаю, – совсем не тот человек, что работает в «Туфлосе». Дэвид не притворяется, не скрывает своего истинного лица – просто он обладает умением включать и выключать «профессионала».
Все в файле Дэвида совершенно. Даже ксерокопированные подписи на его характеристиках безупречны. На практике он получил только оценки в пять баллов, как и я, а я никогда не думала, что он такой же хороший специалист, ничуть не хуже меня. Рекомендации больше напоминают завуалированные похвалы. «Перфекционист» – разве в этом заложен какой-то негатив? Звучит, как будто он слишком хорошо выполняет свою работу. А я-то думала, что таким реноме обладаю я. Что это я – золотая девочка. Он очаровал даже этих роботов из ДПЗ. Сплошные комплименты, никаких диагнозов, идеальное заключение. Это несправедливо!
Я достаю из пакета желтую конфетку и согреваю ее между пальцами, чтобы она немного расплавилась. И перед тем как начать собирать вещи, оставив одну-единственную папку на потом, размазываю желтую глазурь прямо посередине заключения Дэвида. «Ну что, теперь все уже не так идеально, а?»
21 декабря, 21:46
Я лежу, свернувшись комочком, на диване в квартире Лукаса. Рядом, в ведерке, которое, судя по всему, стоит больше, чем моя месячная арендная плата, охлаждается бутылка шабли, и я дико боюсь испачкать стол круглыми водяными следами от бокала. На мне темно-синие носки, и мне страшно – вдруг на светлом кремово-бежевом диване останутся крошечные катышки? Совершенно очевидно, что здесь мне не место, и я чувствую себя очень некомфортно.
Лукас живет в одном из тех зданий, половину которых занимает отель, а половину – роскошные апартаменты, и все прелести и удобства отеля к его услугам, включая уборку. Уборщица приходит каждый день, так что все здесь выглядит безукоризненно. Хромированные части мебели безупречно сияют, а пушистые белые коврики безупречно пушисты.
Лукас недавно ходил за покупками и теперь устраивает мне фэшн-показ своих приобретений. Он хочет, чтобы я помогла ему выбрать лучший наряд для грандиозного рождественского приема, на который меня не пригласили. «О, я бы взял тебя с собой, Сэм, но ты же знаешь, какая там всегда скукотища. Я хотел избавить тебя от этой смертной тоски». Уверена, это потому, что он до сих пор злится на меня из-за того самого ужина пару недель назад, где я не слишком убедительно смеялась, следуя его щипкам-подсказкам.
– А это «Армани», – провозглашает он, выплывая из гардеробной. – Здесь заостренные лацканы, я такие обычно не ношу, но этот крой просто не имеет себе равных. И как сидит! А строчка! Просто прекрасно.
На мой взгляд, это точно такой же темный костюм, как и тридцать других темных костюмов, что висят в его аккуратнейшей, без единой пылинки, превосходно освещенной гардеробной.
– А в чем разница между этим и предыдущим?
– Ну, во-первых, этот синий.
– Но ты же собираешься надеть черные туфли. Разве можно носить вместе черный и темно-синий? – Я стягиваю с подлокотника дивана кашемировый плед и закутываюсь в него, чтобы скрыть свои дерьмовые носки и джинсы «Олд Нэви».
– Ну разве ты не видишь, что они очень отличаются? У этого совершенно другая фактура ткани. Вот, потрогай. – Лукас подходит ближе. – Давай. Тот гораздо легче.
Я замечаю ценник, свисающий с рукава пиджака. Один лишь пиджак стоит три тысячи шестьсот долларов. Перед тем как прикоснуться к этому чуду портновского искусства, я вытираю ладони о толстовку.
– О да. Очень приятно на ощупь.
В комнату вбегает Маверик и запрыгивает ко мне на колени. Мне кажется, он любит меня больше, чем Лукаса.
Лукас продолжает демонстрировать мне костюмы, рубашки, галстуки и запонки. Он собирает из них разные комбинации и как будто каждый раз примеривает на себя другую личность. Скрываясь в гардеробной, он не прекращает со мной разговаривать, и я не понимаю ни слова – до меня доносится только непрестанное «бу-бу-бу», – но время от времени вставляю что-то вроде «ага» или «правда?», так что он думает, что я внимательно его слушаю. Мои мысли заняты заключением из ДПЗ. Надеюсь, там все так же восхитительно, как у Дэвида. И в то же время я знаю, что, скорее всего, это не так. Маверик облизывает край моего бокала, и я делюсь с ним своим шабли.
– Вот этот! – торжественно произносит Лукас, выныривая из гардеробной. – Я думаю, что этот костюм идеально подойдет для приема.
И «этот костюм», по моему мнению, смотрится так же, как все остальные. Туфли Лукаса кажутся меньше, чем должны быть его ноги, и он не застегнул ремень.
– Ты так полагаешь? Выглядит хорошо. Особенно в сочетании с кокаином на твоем лице.
– С чем? – Он яростно вытирает рот и нос обеими руками и смотрит на ладони – есть ли на них следы. – Нет у меня ничего на лице. – Он быстро выбегает в ванную и промокает свой драгоценный лик полотенцем от «Фретте».
– Я думала, ты завязал с этим дерьмом. Ты мне так сказал. – Я наматываю на шею свой дешевый вискозный шарф и бросаю в сумку вещи.
– Сэм, я не принимал и не принимаю кокаин. Не знаю, что тебе там показалось, что было у меня на лице, но точно не кокс.
– О’кей. А вся эта бешеная энергия, с которой ты примеряешь костюмы – которых, кстати, хватит, чтобы одеть весь Манхэттен, то, что ты говоришь со скоростью сто слов в минуту, – это потому, что утром ты выпил слишком много эспрессо, да?
– Это просто от волнения. Я всегда волнуюсь, когда покупаю новый костюм. Но конечно, тебе обязательно нужно раздуть из мухи слона. Конечно, ты не можешь просто порадоваться за меня и помочь мне выбрать самый лучший вариант. Тебе нужно заставить меня превратиться в одного из твоих пациентов. Сделать так, чтобы даже в собственных глазах я выглядел ненормальным. Тогда ты сможешь начать меня спасать. Как обычно. – Лукас умеет очень быстро выворачивать ситуацию наизнанку и перекладывать всю вину на меня.
– В твоем шкафчике для лекарств стоит бутылочка со средством, которое продается только по рецептам, и на ней чужое имя. И я не могла не заметить «ложечку», которой ты насыпаешь порошок. Она лежит рядом, прямо на виду, долбаный ты идиот. – Я прохожу мимо шкафа, чтобы взять пальто, и в зеркале отражается маленький пакетик кокаина с торчащей из него плоской золотой палочкой. – И если только ты не сменил имя на Майкл Самнер и оксикодон тебе нужен после травмы или операции или еще чего-то в этом роде, то ты врун и наркоман. Счастливого тебе Рождества, говнюк.
Маверик провожает меня до дверей, изо всех сил виляя хвостом. Я наклоняюсь, чтобы поцеловать его на прощание. Как жаль, что я не могу взять его с собой.
– Ты уходишь? Да кто ты такая – святая? Ты слишком чиста и хороша для меня? Это всего-навсего кокаин, Сэм! – вопит Лукас, но я хлопаю дверью, и его голос пропадает.
Раньше, выбежав вот так из квартиры, я всегда какое-то время еще стояла в коридоре. Ждала, что он побежит за мной, извинится и пообещает измениться. Признается, что врал, но больше не будет. Что очень постарается. Но теперь я сразу иду к лифту. Он так ни разу и не вышел.
22 декабря, 11:34
Ричард сидит в кресле для пациентов, и мы по-прежнему никуда не движемся. Он пришел в четверг, потому что в эти выходные будет Рождество и половина персонала взяла дни за свой счет, так что групповые сеансы проводятся нерегулярно. Пачка папок с заключениями привлекла его внимание сразу же, как только он открыл дверь, поскольку именно на это место он обычно кладет свои газеты. Ричард бросил на кучу файлов короткий взгляд, ухмыльнулся и осторожно положил газеты на подоконник. Я не могу сдержаться и то и дело тоже на нее посматриваю. Я так и не прочитала последнее заключение, свое собственное, и мысль о нем не выходит у меня из головы. Разобравшись с файлом Гэри (да и даже файл Джули порядком меня напугал), я осознала, что заключения сделаны с профессиональной точностью, ни одна деталь не упущена, и рекомендации там тоже настоящие и по делу, а не какая-то фигня. Никому из нас не удалось избежать всевидящего ока психиатров. И теперь моя уверенность, что я в безопасности, тает, как снег весной, со страшной скоростью.
Сегодня Ричард снова со мной разговаривает – и снова ничего полезного из беседы я извлечь не могу. Он упоминает погоду, рассказывает, что она отлично подходит для рыбалки, но в городе для рыбы слишком шумно. Описывает Нью-Йорк времен своей молодости, когда он еще не был так приукрашен и обладал неким характером. Теперь, говорит Ричард, город поплыл, размягчился, и одни только миллионеры могут играть и резвиться на его раззолоченных площадках. «Холеные ручки», так он их называет. Люди, которые не отработали ни одного настоящего, честного рабочего дня. Люди, не заслуживающие своих денег, не заслуживающие этого города. Потом он утверждает, что счастье не в деньгах. Я спрашиваю, в чем же тогда. «Откуда мне к черту знать?» – отвечает он.
– Были здесь времена, когда люди ходили по улицам с поднятыми головами, – говорит Ричард, – до того, как рухнул фондовый рынок, до того, как все рухнуло. Они ведь не всегда были такими жалкими. И такими изнеженными. Сейчас слышишь, что дети сидят в школе на уроке и не учатся. А врачи говорят, что они, оказывается, не могут учиться, что у них какая-то там болезнь, и переводят их в особые классы, где учеба начинается позже, и дают им специальные таблетки, чтобы помочь сосредоточиться. Все это полное дерьмо. Как насчет того, чтобы сказать ребенку, как раньше, чтобы он встряхнулся, взялся за ум и начал нормально учиться? Что случилось с дисциплиной? Попробуй теперь что-нибудь пикни – подадут в суд как пить дать.
Пока Ричард разглагольствует, я слышу какой-то шум в коридоре. Не шум поезда метро, линия которого проходит как раз под нашим зданием, и не шум стройки; скорее какой-то беспорядок. Я вполуха продолжаю слушать тираду Ричарда, но в то же время слегка настораживаюсь.
– Родители сидят дома, на своих кучах денег, и нанимают всех этих нянь и домработниц, чтобы они воспитывали их ребенка, – спорю на что угодно, эти папашки даже не знают, как зовут их сыновей и дочек. А мамашки только и заняты тем, чтобы высасывать из своих задниц жир, вставлять в себя разные штуки, резать и подтягивать лицо и…
Его на полуслове прерывает сирена, звук которой вырывается из интеркома, и сообщение, что на втором этаже отделения введен код синий. Сирена ревет, а полный паники механический голос повторяет: «Код синий, код синий», снова и снова. Не успев объяснить Ричарду, что происходит, я выскакиваю из кабинета и мчусь по коридору. Я слетаю вниз по черной лестнице и вижу толпу пациентов и персонала, сгрудившихся вокруг кого-то или чего-то. Вокруг царит полная суматоха. Некоторые пациенты, которым не досталось места поближе, подпрыгивают, чтобы увидеть, что же случилось.
Я хватаюсь за потные плечи и халаты, отодвигаю в сторон у то одного, то другого и пробираюсь к центру. На полу, прямо передо мной, лежит Адель, и один из санитаров выполняет сердечно-легочную реанимацию. Пара пациенток истерически рыдает, и другой санитар предлагает им кислород. Тут же рядом валяется спинодержатель, и испуганные пациенты то и дело наступают на него или спотыкаются. Члены персонала смешались с толпой и наблюдают за действиями санитара. Я замечаю Гэри и делаю ладонью жест «вертолет».
– Всех отсюда, Гэри. Помоги мне.
Гэри кивает и начинает с тех, кто стоит непосредственно справа и слева от него. Как зовут того огромного парня, который дает пациенткам кислород? Кажется, Карл.
– Карл, помогите мне убрать отсюда людей. Адель не сможет дышать, когда все над ней так нависли.
– Я Кайл.
– Извините, Кайл. Помогите мне.
Кайл выпрямляется. Он еще крупнее, чем я помню. Его бритая голова блестит в свете флуоресцентных ламп. Он раскидывает в стороны свои руки – настоящие лапы гориллы – и они охватывают сразу человек по пять с каждой стороны. Но голос у него вовсе не громоподобный, как можно было бы подумать. Он негромко, но настойчиво убеждает пациентов отступить назад. Я тоже присоединяюсь:
– Все отойдите назад, пожалуйста. Спасибо вам за то, что беспокоитесь об Адель, но сейчас нам нужно очистить помещение. Идите, пожалуйста, в свои комнаты или куда-нибудь еще, но здесь должно быть пусто. Прямо сейчас.
Я держу руки над головой и говорю как можно громче. Гэри и Кайл аккуратно, но эффективно оттесняют пациентов в нужном направлении, и толпа редеет. Я слышу сирену «скорой помощи», подъезжающей к больнице.
– Что случилось?
У меня за плечом возникает запыхавшаяся Ширли.
– Я не знаю. Адель без сознания, и Терри делает ей сердечно-легочную реанимацию. Я вроде слышала шум раньше, но не знаю, как конкретно это произошло.
– Судороги. – Гэри отгоняет отставшего пациента, голого по пояс, в одних пижамных штанах. – Она сидела на моем сеансе, и у нее начались судороги. Я послал Тайлера сообщить Рэйчел по интеркому, и она ввела код в действие, а потом вызвали скорую. Я слышал, она только что подъехала.
– У нее эпилепсия? – спрашивает Ширли.
– Понятия не имею, но ей минимум девяносто лет, – рассеянно отвечает Гэри и смотрит на дверь. – А вот и они.
О господи боже мой! Оланзапин!
Мы с Ширли оборачиваемся. Два врача со скорой несутся по коридору с огромными медицинскими сумками и кислородным баллоном. С ними Рэйчел, которая прижимает к своей гигантской груди какой-то файл. Ее блузка выбилась из брюк, да и груди вот-вот вывалятся из выреза; ей приходится придерживать декольте рукой.
Терри поднимает голову, когда слышит, что рядом с ним на пол с грохотом обрушиваются медицинские сумки.
– Она дышит, но едва-едва. Есть слабый пульс.
Мы и пара-тройка любопытствующих, которых так и не удалось загнать в комнаты, отходим, и врачи берутся за работу. Мы все же убеждаем пациентов, что уже снова начинают потихоньку подтягиваться, разойтись, а потом собираемся за небольшой стойкой у лифта. Рэйчел все еще прижимает к себе файл Адель, а когда кладет его на стойку, чтобы просмотреть историю болезни, я замечаю два потных полумесяца, выступивших под ее «арбузами».
– Спасибо всем, что так быстро отреагировали. Господи, ненавижу, когда такое происходит. – Рэйчел испускает глубокий вздох и погружается в файл в поисках нужной информации. – Остальные члены персонала сейчас проверяют, как там пациенты; ну, и вы все, конечно, понимаете, что остаток дня пойдет насмарку.
У меня перехватывает дыхание – от страха, что Рэйчел обнаружит, что причиной всему стали выписанные Адель лекарства.
– Насмарку? – переспрашивает Гэри.
– Когда случается что-то подобное, многие пациенты обычно сильно пугаются, и мы потом весь день присматриваем за ними, следим, все ли в порядке, как они себя чувствуют, как ведут. И в зависимости от того, как Адель будет чувствовать себя позже… ну, ты понимаешь. – Ширли.
– Да уж. На данный момент я даже не готова думать о том, чем это может кончиться. И не собираюсь. – Рэйчел поворачивается к врачам скорой. – В истории болезни нет записей об эпилепсии в анамнезе или судорогах. Проверьте кровь на медикаменты. – Она с тревогой переводит взгляд на меня. Я поднимаю ладони.
Мы все как на иголках, в ушах звенит, нервы словно вибрируют, все вытирают с лиц пот и тяжело дышат. Появляется уборщик Сэл с четырьмя маленькими бутылочками воды.
– Спасибо, Сэл, ты спасаешь жизни, – выдыхает Рэйчел.
– Не, вот эти парни – они да, правда спасают жизни, – возражает он и кивает на врачей.
Мы глотаем воду и смотрим, как они кладут хрупкое тело Адель на носилки, ставят ей капельницу и укрепляют кислородную маску на лице. Они медленно проходят мимо нас и нажимают на кнопку лифта. Рэйчел выходит из-за стойки и о чем-то перешептывается с врачами. Мы видим, как они кивают друг другу и обмениваются рукопожатиями. «Я не могла, не могла ничего напутать с лекарствами». Двери лифта открываются и закрываются, и Рэйчел возвращается к нам, сложив руки на груди и шаркая ногами в меховых зимних сапожках. Слишком тесная юбка мешает ей нормально ходить.
– Состояние стабилизировалось, но кто его знает. Ей ведь уже за девяносто, так что нам остается только сидеть и ждать новостей. Как только у меня появится информация, я вам сообщу. Еще раз всем спасибо за то, что быстро отреагировали и не потеряли голову. А теперь давайте вернемся к работе. Удостоверьтесь, что с вашими пациентами все нормально, постарайтесь их как-то приободрить. Может быть, вечером я организую какие-нибудь игры или кино…
Рэйчел замолкает и отходит к Терри и Кайлу, которые стоят возле лифта. Она жмет обоим руки и энергично кивает, в то время как они что-то рассказывают.
Ширли, Гэри и я медленно бредем к черной лестнице и молча идем к своим кабинетам. Открыв дверь, ведущую на третий этаж, мы видим, что нашего возвращения ждет целая толпа пациентов. «Что случилось?», «Что с Адель?» – раздается на разные голоса. Мы осторожно оттесняем всех вперед, в лаунж или к первую попавшуюся комнату для групповых сеансов.
Мне нужно сесть за стол и тщательно просмотреть свои записи, чтобы понять, что я натворила с лекарствами Адель. Сняла ли я ее с рисперидона, прежде чем выписать оланзапин? И как мне сказать о том, что произошло, Ричарду? После того как я заметила, что они подружились, просто не знаю, какова будет его ответная реакция.
Полностью опустошенная, я открываю свою дверь и обнаруживаю, что в кабинете Ричарда нет.
Часть вторая
27 декабря, 8:37
Теперь, когда невыносимое одиночество Рождества, которое я провела в своей собственной компании, окончилось и весь персонал вернулся в наш сумасшедший – в прямом и переносном смысле – дом, у меня есть время заняться тем, что я так долго откладывала. Я смотрю на папку со своим заключением и не знаю, смогу ее открыть или нет. Нужно быстрее отдать Рэйчел резюме, пока она ничего не заподозрила; полагаю, мне лучше поторопиться и сделать это в течение недели. Для такого занятия не существует подходящего времени, но сейчас у меня дико болит голова, как бывает после удара в ухо, и я совсем не уверена, что нахожусь в достаточно стабильном психологическом состоянии для того, чтобы узнать о своих проблемах с психикой.
Я кладу папку в ящик стола и допиваю кофе, чтобы успокоить нервы и нейтрализовать остатки алкоголя. Потом вешаю на дверь табличку «Идет сеанс», более красивую, чем другие. Мне кажется, что папка не сводит с меня глаз, как монстр, спрятавшийся под кроватью. Я боюсь. Дыхание становится неровным. Никогда раньше я не относилась к документу так, будто он может меня укусить – или, во всяком случае, причинить боль. Но лучше уж знать, чем не знать. Так я хотя бы смогу оценить ситуацию и попробовать ее исправить.
Я опять вынимаю папку из верхнего ящика своего серого, с вмятинами и пятнами ржавчины письменного стола. Отдельные листы вылезли из папки, теперь у них загнутые, смятые уголки, и это здорово меня бесит, потому что выглядит неряшливо и непрофессионально. Я кладу эту устрашающую пачку бумаги перед собой и жду, когда дыхание станет ровнее, а сердце перестанет колотиться.
Дрожащими руками (мои губы тоже дрожат, как будто в унисон) я открываю папку и принимаюсь читать записи. Не подробно, по верхам. Страх уже просто душит меня, даже колени начинают постукивать друг о друга, и я не могу это контролировать. «Пожалуйста, пусть я проскользну в щель». На глаза то и дело наплывают слезы, формируются в крупные капли и падают на стол. Мне трудно сохранять тишину. Я почти в истерике, и изо рта невольно вырываются всхлипы и тоненькие взвизги. Невозможно сильно болит голова, как будто кто-то бьет меня кулаком в основание черепа. «Пожалуйста, пусть я проскользну в щель».
Я перелистываю страницы слишком быстро, чтобы понять, что там написано. Я не дочитываю их, потому что не могу остановиться – мне нужно скорее добраться до конца. Однако взгляд то и дело зацепляется за выражения вроде «склонность к манипулированию» или «нестабильное поведение». Я вижу также «неразборчивость в половых связях» и «импульсивность». И еще «прилагает огромные усилия, только бы не оставаться одной» и «возможно, алкоголизм». В итогах мне встречаются «тяжелое эмоциональное расстройство» и «не противоречит результатам тестирования».
Нет, пожалуйста, нет.
Я знаю, все это ошибка. Это не мое заключение. Я твердо знаю, что обо мне так никто не думает. Мои руки безвольно свешиваются по обе стороны кресла, а голова сама собой запрокидывается. Правда обрушивается на меня, как наковальня. Я раздавлена диагнозом, и сбежать мне не удастся.
Я воображаю себе, что будет дальше. Что со мной станет? Представляю ли я угрозу для себя? Представляю ли я угрозу для других? Меня уволят? Понизят в должности? Или вежливо попросят подыскать себе другое место работы? Если я самый ценный работник в «Туфлосе», могут ли они себе позволить обойтись без меня?
Перед моим внутренним взором возникает яркая картинка: Рэйчел приказывает охране не выпускать меня из поля зрения, пока я собираю вещи, и потом сопроводить до выхода. Секьюрити, отлично натасканные профессионалы, обыскивают мою сумку, чтобы проверить, не прихватила ли я с собой чего лишнего. Все эти сценки будто разыгрываются передо мной прямо на грязном потолке, и, чтобы избавиться от них, я яростно тру глаза кулаками.
Если кто-нибудь об этом узнает, я пропала. Конец работе в «Туфлосе», навсегда испорченная репутация. Все, чего я достигла, над чем так упорно трудилась, – имя, которое кое-что значит, то, как воспринимают меня люди, – все это исчезнет в момент.
Все эти ужасающие мысли пляшут у меня в голове. Я пытаюсь вернуться в реальность, смириться с ней, но это трудно. Я будто вижу себя со стороны, с потолка, словно я – кинозвезда и оператор использует широкоугольный объектив для съемки. Кофе больше не похож на кофе ни вкусом, ни запахом. Я наблюдаю, как моя рука подносит чашку к моим губам, но это не я пью кофе, это кто-то другой. Наклоняюсь над корзиной для бумаг, меня рвет, я вижу, что волосы падают на лицо, но это не меня сейчас выворачивает наизнанку.
Ошарашенная, ничего не понимающая, я бреду по коридору к туалету для персонала – чувствую, что меня еще точно будет рвать. На двери по-прежнему висит табличка «Не работает», но я вхожу, даже не задумываясь. Падаю перед унитазом на колени, обвиваю его трясущимися руками, и, глядя в серую воду, извергаю из себя еще один обильный поток рвоты. Опустошение желудка не приносит облегчения. Ощущение безумия и фантасмагоричности происходящего только усиливается. Я смотрю, как границы, отделяющие меня от пациентов, смешиваются, расплываются в воде унитаза вместе с блевотиной, и пытаюсь скорее смыть это. Но когда я нажимаю на спуск, отвратительная смесь бурно переливается через край и едва не попадает мне в лицо.
Я вскакиваю на ноги и убираюсь подальше от этой мерзости. Выходя из туалета и все еще вытирая слезы, я наталкиваюсь на Сэла из техперсонала.
– Сэл, привет. Э-э-э… у нас тут небольшая проблема в дамской комнате для персонала. – Я показываю на дверь и надеюсь, что Сэл не подумает, будто я плачу. Это вполне может сойти за слезящиеся от вони глаза.
– Здрасте, док. Бегу на групповой сеанс, где случилась неприятность, если вы понимаете, о чем я. – Он зажимает нос одной рукой, а второй машет перед лицом. Вы знаете, как пользоваться вантузом?
– Конечно. Где его взять?
Сэл отцепляет один ключ от гигантской связки, что висит у него на поясе.
– В кладовке. Только не забудьте потом запереть ее, после того как вернете вантуз на место. А ключ оставьте на стойке охраны. – Он уже бежит по коридору и выкрикивает инструкции через плечо.
Я провожаю его взглядом и медленно иду к кладовке. И мне снова кажется, что за мной кто-то наблюдает.
27 декабря, 11.22
Ричард сидит у меня уже полчаса, хотя у меня такое ощущение, словно он только что вошел. Он вроде бы читает газеты, как обычно, но я подозреваю, что он просто ломает комедию. Мне страшно, что он может каким-то образом заглянуть ко мне в голову и прочитать мысли и что ему уже все известно. Заключение экспертов лежит в столе и как будто вопит оттуда, снова и снова повторяя мой диагноз, и мне хочется посильнее хлопнуть ящиком. И хлопать им до тех пор, пока он не заткнется, к гребаной матери.
Все, что я знала всегда, больше не имеет значения. Я смотрю новыми глазами, и слушаю новыми ушами, и стучу по столу новыми кулаками, и плачу не своими, а другими, новыми слезами, и вытираю не свое, другое лицо, и замечаю вдруг, что Ричард тоже все замечает, и как же мне хочется, чтобы все это оказалось лишь сном.
– Вы получили плохие новости или что? – с отвращением, как мне кажется, спрашивает Ричард. – Вы заболели?
– Заболела? Нет. Нет, Ричард, я не заболела.
– А вид у вас больной. Как будто вам нужна помощь. – Говоря это, он загибает уголок газеты и смотрит на меня.
– Спасибо. Я позабочусь о себе. – Я откатываюсь подальше и погружаюсь в себя.
– Вам не надо меня бояться, – выдает Ричард. – Я не сделаю вам ничего плохого.
– Я вас не боюсь. У меня что, такой вид, будто я вас боюсь? Будто мне есть хоть какое-то сраное дело до того, что вы обо мне думаете? А?
Я хватаюсь за лоб. Все, больше я не могу держать себя в руках. Правда словно изрешетила меня пулями, и я не знаю, как это скрыть. Как притвориться, что все нормально. Ричард здесь ни при чем. Он просто оказался на пути несущегося неизвестно куда поезда, и ему предстоит стать «сопутствующими потерями».
– До чего-то вам все же есть сраное дело, – спокойно отвечает Ричард. Его совершенно не смутил мой взрыв. Он явно уже видел такое раньше. И его ничуть не беспокоит, что его врач, его психолог сорвал с себя профессиональную маску и показывает свои настоящие эмоции. – Знаете, это все нормально. Вы не должны всегда быть собранной и спокойной.
– Конечно, должна, – мрачно цежу я. – Моя работа состоит в том, чтобы всегда быть собранной и спокойной. И нормальной. Предполагается, что и в жизни у меня все нормально. И сама я нормальна.
Слезы текут по лицу, и я не могу их остановить. Так же как и соплю, что струится из моей левой ноздри к подбородку. И совладать с грудью, из которой вырываются истерические рыдания. И не могу ничего поделать с венами на лбу, что набухают так сильно, словно готовы взорваться. И с кулаками, которые то сжимаются, то разжимаются – как будто, если проделать это упражнение много раз, все пройдет.
Я не контролирую себя и не могу заставить Ричарда закрыть глаза и не видеть этого. Воротничок моей блузки намок и прилип к шее, и это ощущение невыносимо. Ричард вежливо затыкается, и все, чего я хочу, – это чтобы он ушел, а я могла бы спокойно сблевать в корзину для бумаг.
Я слышу, как закрывается дверь в комнату для групповых сеансов, и, как только звук голосов приглушается, я слегка приоткрываю свою дверь и жестом показываю Ричарду, что он может уйти. Низко наклонив при этом голову, на случай, если кто-то вдруг пройдет мимо и решит заглянуть и понаблюдать, как рушится моя жизнь.
Ричард смотрит на меня, потом на открытую дверь. И аккуратно захлопывает ее ногой в ботинке от «Тимберлэнд».
– У меня еще осталось время. – К счастью, он снова уставился в газету и не видит, в каком я состоянии. – И я единственный человек, перед которым вы можете истерить сколько влезет.
Я не могу дать ему достойный отпор. Забыла, как это делается. И мне приходит в голову, что раз уж ситуация выскользнула у меня из рук, то пусть все остается как есть. Я делаю вид, что Ричарда нет в кабинете, а он, кажется, притворяется, что меня тоже тут нет и никто не мешает ему мирно читать газеты.
Игнорируя Ричарда, я пытаюсь свыкнуться со своим новым положением, как-то разместить все это в мозгу. Я не супергерой, как думала. Я совсем не та девушка, которой прикидываюсь. Я обхватываю лоб руками, ставлю локти на стол и искоса бросаю взгляд на Ричарда. «Ты здесь сумасшедший, а не я». Но четкие линии, разделявшие нас, бледнеют и исчезают, и я вижу здравомыслие и нормальность на его лице и безумие на своем.
Я смотрю на часы – проверить, сколько еще времени мне осталось с ним сидеть, – и вздрагиваю от неожиданно громкой трели телефонного звонка.
– Доброе утро. Сэм Джеймс.
Ричард отодвигает уголок газеты и внимательно наблюдает за мной.
– Это я, – устало выдыхает Рэйчел.
– Здравствуйте, Рэйчел. Что случилось? – Я разыгрываю представление и для Ричарда, и для Рэйчел. Мне кажется, я чувствую на лице свет прожекторов.
– Что у тебя там с заключениями ДПЗ? Ты уже составила резюме? Я не могу больше ждать. Брукс и Янг прислали мне бумаги две недели назад. Если ты с ними не закончила, мне придется заняться этим самой.
Вот мать твою!
– Нет-нет, я практически закончила. Что с ними делать дальше? Отослать в ДПЗ? Или отдать вам? Или… что? – Я начинаю судорожно рыться в ящике, вытаскивая свои заметки и складывая их в стопку. Пока еще я не решила, какое резюме мне написать на заключение о моем психическом здоровье и пригодности к работе. Как мне поступить? Сказать правду? Или солгать в официальной правительственной бумаге, как последней засранке?
– Просто занеси все папки и резюме ко мне в кабинет, когда закончишь. Сегодня утром мне звонил представитель ДПЗ – все прочие больницы и клиники Нью-Йорка уже все отправили. Мы не можем больше откладывать – это непрофессионально, у них создастся именно такое впечатление, и это непременно отразится на нашем финансировании. – У Рэйчел усталый, совершенно погасший голос. Она явно жалеет, что отдала мне заключения.
– О’кей, нет проблем. Я совсем скоро вам все при несу.
Она подавленно вздыхает и дает отбой, даже не попрощавшись. Я продолжаю держать трубку у уха, как будто Рэйчел еще что-то говорит, – не могу допустить, чтобы Ричард понял, что она просто оборвала разговор. Потом бодро щебечу «До свидания» и осторожно кладу трубку в гнездо. Последние пять минут сеанса Ричард читает газету, и на его лице не отражается никаких эмоций.
28 декабря, 15:20
Сегодня Рэйчел назначила срочное собрание. Обычно она никогда так не делает. Ну, или крайне редко. Мы все должны быть в конференц-зале в 16:00, чтобы обсудить некий важный вопрос. Предполагается, что мы также должны закончить свои групповые и индивидуальные сеансы пораньше, чтобы не опоздать. Что за важный вопрос – я не имею понятия. Может быть, дело в заключениях ДПЗ? Меня выпрут с работы в присутствии всех членов медперсонала? Скажут, что я не могу лечить пациентов, и попросят освободить помещение? Я еще не отдала Рэйчел резюме. Возможно ли, что она уже обо всем узнала? Или мой диагноз был ей известен с самого начала?
Минуты тянутся медленно, как часы. Я то и дело поглядываю на циферблат и мысленно тороплю время – пусть унижение скорее закончится, и я смогу уйти и утолить – вернее, утопить – свои печали. В дверь стучат – быстро, лихорадочно – и мое сердце едва не останавливается. Не успев подумать, что можно было бы изобрести какой-нибудь предлог и не открывать, я распахиваю дверь – и передо мной стоит Джули. Она еле доходит до моего кресла для пациентов и падает в него. Ее бьет сильная дрожь.
– Что? Что случилось? – спрашиваю я.
– У нас общее собрание. Мы придем в конференц-зал, и Рэйчел нас всех уволит. – Джули совершенно дезориентирована; видимо, наслушалась самых разных сплетен, и в голове у нее помутилось.
– О чем ты вообще говоришь, Джули? Кого уволят? – «О господи, я была права, вот оно. Все всё знают».
– Я услышала это от Дэвида, он разговаривал по телефону со своим знакомым из ДПЗ. Такое уже бывало раньше. Когда они заканчивают с заключениями, если кто-то не проходит по результатам тестирований и собеседований, то учреждение реструктурируют или всех увольняют. – Джули буквально вибрирует от страха. Она ведет себя так, будто работа – это все, что у нее есть, и, если ее отсюда выкинут, она умрет с голода. На самом деле у нее есть трастовый фонд, средств в котором больше, чем у эндаумент-фонда какого-нибудь серьезного коллежда. Что бы ни случилось, Джули благополучно приземлится на обе ноги, обутые в туфли от «Маноло Бланик». Но предполагается, что эта информация мне неизвестна, поэтому я ей подыгрываю.
– С твоим заключением все в порядке. Ничего с тобой не будет. Успокойся. – Я отворачиваюсь. Джули не знает, что резюме по ее заключению поручено писать мне.
– Нет, не в порядке. Совсем не в порядке. Я знаю, что должна бы работать лучше и все мои методы лечения давно устарели.
– Джули. Прекрати психовать – ничего плохого с тобой не произойдет. Обещаю. Тебе нужно успокоиться и расслабиться. – Надо бы оставить ее одну, и пусть барахтается в своих дерьмово составленных историях болезни. Потому что если уж я могу это сделать, то сможет даже обезьяна.
– Вот у тебя все в порядке! И будет все в порядке! С тобой никто не посмеет плохо обращаться. Рэйчел тебя обожает, так что тебе вообще не о чем беспокоиться. – Джули пытается мне польстить. – Но я…
Я хочу, чтобы все в это верили. Именно этого я и добивалась много лет. И мне удавалось поддерживать такой образ в глазах коллег все эти годы. Но ДПЗ мне обмануть не удалось. Теперь они знают правду, а скоро узнают и все остальные.
– Да со мной тоже не все в порядке. – Я стараюсь как-то преуменьшить свои достоинства, но истины Джули от меня, разумеется, не дождется.
– А, да как бы там ни было – тебе не нужно беспокоиться о том, что тебя уволят.
Джули вздыхает, театрально сползает с кресла на пол, прислоняется к батарее и трет виски. Подол ее юбки зацепился за кресло, и я вижу ее трусы. Они нежно-голубого цвета. Почему-то меня это изумляет.
Дэвид слышит наш разговор через стену, стучится в дверь и тоже присоединяется к общей панике. Он чуть подвигает Джули и сворачивается в кресле. Я замечаю, что носки у него разные. В стрессовой ситуации Джули флиртует больше, чем обычно, – о, как мне это знакомо. Я и сама так делаю. Она прижимается к ноге Дэвида, а он гладит ее по голове. Снова эти двое!
– Вам обеим не о чем волноваться, – говорит Дэвид. – Уверен, что это совещание посвящено не увольнениям, а чему-то еще. – Джули смотрит на него огромными глазами диснеевской принцессы, и мне хочется швырнуть ей в лицо степлер. – Мой знакомый из ДПЗ говорит, что вроде бы сейчас в нашей отрасли какие-то проблемы с финансированием, так что, может, Рэйчел хочет это с нами обсудить. Возможно, и будут увольнения, возможно, временные, но в любом случае первым под удар попадет вспомогательный персонал. Так что пока не гоните лошадей.
Поддерживая беседу на автопилоте, в какой-то момент я вдруг осознаю, что безумно ревную – Дэвид и Джули успокаивают друг друга. А я сижу одна, мне не к кому прислониться, и никто не гладит меня по волосам. Почему они утешают друг друга, а меня бросили? Дэвид – мой лучший друг, а Джули мечтает стать моей лучшей подругой, так какого черта они флиртуют друг с другом, а не со мной? Я что, должна почувствовать себя счастливой только лишь оттого, что они пришли именно в мой кабинет, чтобы почувствовать себя лучше? Может, мое присутствие отгоняет их страхи? Почему никто не гладит меня по голове?
Дэвид смотрит на часы и постукивает пальцем по циферблату:
– Пора идти, леди. Собрание начнется через две минуты.
Он помогает Джули встать, а я придерживаю для них дверь. На мгновение у меня возникает желание поставить Джули подножку, чтобы она шмякнулась лицом о пол и испортила дорогущую работу своего ортодонта, но, разумеется, я этого не делаю. Я спокойно закрываю дверь, и мы все вместе выходим в коридор.
Теперь, когда все расселись по местам, стало ясно, что персонал разделился на несколько групп, где обсуждались различные версии причин столь экстренного собрания. Рэйчел, во главе стола, согнулась над кипой бумаг. Ну а мы теснимся ближе один к другому, что необычно.
Я зажата между Дэвидом и Ширли; Джули умостилась слева от Дэвида. Я все еще тихонько киплю, что меня никто не приласкал и не погладил по голове. Но стресс от предстоящего вытесняет раздражение, и я пытаюсь прочитать, что у Рэйчел на уме. Она ни на кого не смотрит, что означает одно из двух: либо мы все вместе совершили нечто ужасное, либо она сейчас выложит нам новость, о которой не хотела бы знать и сама.
Я настраиваюсь на неизбежное. Страх мечется во мне, как птица в клетке, и я то и дело сглатываю слюну, чтобы не дать ему вырваться наружу. Я жду, когда Рэйчел посмотрит на меня и откроет рот. Жду, что после окончания совещания она отведет меня в сторонку и скажет, что у нее связаны руки. Жду, что она воспользуется справочником DSM и зачитает оттуда список симптомов, которые объяснят всем моим несогласным или непонятливым коллегам, почему я не пригодна к работе с психически больными людьми.
Наконец, после, кажется, нескольких часов полной тишины, Рэйчел открывает совещание. Я так крепко сжимаю подлокотники кресла, что у меня белеют костяшки пальцев.
– Спасибо всем, что пришли сюда сегодня. Я знаю, что объявила сбор в последнюю минуту и что все вы в это время трудились не покладая рук – и спасибо вам за это тоже. Мне очень жаль, но сейчас вы все здесь для того, чтобы услышать печальную новость.
Джули ахает и хватает Дэвида за руку, и у меня немедленно начинает пульсировать в голове, а шея потеет.
– Все вы пробыли здесь достаточно долго и знаете: есть пациенты, которым мы не можем помочь. Все вы хоть раз сталкивались с этой темной стороной нашей работы. И сегодня наступил еще один такой день. Простите, ребята. Мы потеряли Эдди.
По залу прокатывается волна изумленных вздохов. Воздух внезапно становится очень теплым. Мы смотрим друг на друга с открытым ртом, как будто безмолвно задаем вопросы и не слышим ответов. Шок сваливается на меня, как тонна кирпичей, и я тяжело оседаю в кресле. Хотелось бы чувствовать облегчение, что совещание, как оказалось, касается совсем не меня, но я не могу.
Никто не знает, что сказать, что сделать. Джули по-прежнему держит Дэвида за руку, но он поворачивается ко мне. Лицо у него каменное, но в глазах стоят слезы. Он отнимает руку у Джули, кладет обе ладони на мое колено и опускает глаза. Через его плечо я замечаю, что Джули отворачивается и растопыренными пальцами закрывает лицо. У нас с Дэвидом была особая связь с Эдди. Такой у него не было ни с кем другим. И никто об этом не знает. Мы принимали его как должное, но теперь… Я вспоминаю тот день, когда он просунул в мою дверь свою кроссовку без шнурков, а я пообещала поговорить с ним через час.
Он полагался на нас, а мы его подвели. Но вместо того чтобы грызть себя и думать, что мы все же могли бы его спасти, мы утешаем друг друга и шепчем, что действительно ничего нельзя было сделать.
– Причина смерти, судя по всему, суицид, – продолжает Рэйчел. – Наш уборщик Сэл вчера ночью нашел его тело в кладовке внизу. Никакой записки при нем не было, и в его комнате тоже, но мы все же считаем, учитывая все его предыдущие попытки, что это суицид.
Гэри не может больше сдерживаться и заливается слезами. Соседи тут же начинают успокаивать его, поглаживать по спине и повторять, что он никак не мог это предотвратить. Я вкладываю свою холодную, влажную ладонь в руки Дэвида, он поднимает голову, и мы смотрим друг другу в глаза так, будто нам по сто лет и мы знаем все на свете.
Рэйчел все еще что-то говорит – кажется, что к нашим услугам специалисты, на случай если мы захотим обсудить с ними свои переживания. Все мы ведем себя так, будто не слышали ее. Она добавляет, что оставляет нас одних, чтобы мы могли поговорить обо всем без нее. Джули немедленно впадает в панику. Ее трясет, она истерически дышит, и Ширли уводит ее в туалет, чтобы привести в чувство. Все взволнованы, громко говорят, делают резкие жесты, но в том пузыре, где спрятались мы с Дэвидом, все происходит очень замедленно, тихо и спокойно.
29 декабря, 12:47
Прошло почти двадцать четыре часа с тех пор, как стало известно о смерти Эдди, а я все еще не могу прийти в себя. Слова Рэйчел звенят у меня в ушах. Я хожу словно под анестезией, полностью дезориентированная, и мне трудно сфокусироваться на делах. Отчет о происшествии был напечатан и отправлен в архив, и мне приходит в голову – что, если мне станет легче, когда я его прочитаю? Если за трагедией будут стоять факты, получу ли я отпущение грехов?
Я сползаю с кресла и тащусь по коридору в архив. Медсестра, склонившись над ксероксом, печатает объявления о вечеринке с сыром и чизкейком, которая состоится в лаунже для персонала в пятницу. Вот уж куда я точно не пойду. Она мило улыбается, и свет ксерокса делает ее белые зубы неоново-голубыми.
Я прохожу к так называемой регистратуре, отделу, где хранятся истории болезни пациентов, и набираю на замке свой код. Файл с историей болезни Эдди очень толстый и неаккуратный, а отчет о его смерти можно заметить сразу же, не открывая папки: это единственные листы бумаги, вылезающие наружу, с чистыми незагнутыми уголками. Не читая, я делаю копию и засовываю оригинал обратно в папку.
В отчете всего две странички, но он кажется очень тяжелым. Я со стуком сажусь на ковер в своем кабинете и начинаю читать. Его полное имя – Эдвард (Эдди) Уильям Бэйли. Эти формальные слова, которые появляются только после смерти человека, так трудно воспринимать. Даты рождения и смерти написаны рядом. Я понятия не имела, что ему было всего сорок один год. До моего собственного сорокового дня рождения осталось совсем немного лет. Неужели за такой короткий срок человеческая жизнь может оказаться настолько изломанной, непоправимо исковерканной?
Я чувствую, как у меня начинают дрожать плечи. Дрожь спускается вниз по рукам, а потом поднимается вверх, к подбородку и челюсти. Слезы уже бегут по щекам, и я слышу далекое эхо голоса Эдди: тягучие интонации, сливающиеся в одно слово. Больше я никогда его не услышу. Никогда не выпихну его ногу из своего кабинета. Никогда не скажу, что у меня опять нет на него времени. Моя грудь содрогается от рыданий. Я смахиваю слезы и читаю дальше.
Этот отчет – не результаты вскрытия. Здесь нет подписи судмедэксперта. Это просто дополнительный документ, который подшивают к остальным, когда случается что-то серьезное. Вроде драки, или вызова скорой, или попытки самоубийства. Или самоубийство. Пальцы невольно мнут страницы, а слезы оставляют на них сморщенные пятна. Причина смерти – суицид. Из описания я узнаю то, о чем Рэйчел умолчала на собрании. Эдди повесился. Он отогнул металлическую скобу, скрепляющую швабру, вытащил все длинные серые витые шнурки, связал их вместе и сделал веревку. Один конец он приладил к крючку в кладовке, а из другого соорудил петлю и надел себе на шею.
В ширину кладовка не больше ведра для швабры. Ноги Эдди были в ведре, а руки в карманах. Он согнул колени, чтобы не касаться края ведра. На шее была обнаружена фиолетовая странгуляционная борозда. Эдди умер в результате асфиксии. Он не сломал шею, так что смерть была не мгновенной. Он висел в петле и смотрел, как стены кладовки медленно темнеют. И не сделал ни одного движения. Никак не боролся с подступающей тьмой. Кроме швабры, все остальные предметы в кладовке, согласно отчету, были на своих местах. Эдди ни до чего не дотронулся. Наверное, он не хотел, чтобы кому-то потом пришлось за ним прибирать. Замок на двери не был вскрыт или сломан; кто-то просто ее не запер. И кто-то за это обязательно заплатит.
Мои руки падают на колени, комкая отчет. Эдди пришел ко мне за помощью, а я его прогнала. Я сказала «нет». Я сказала «нет» человеку, который всего лишь хотел, чтобы я его послушала. И не важно, были его рассказы правдой или выдумкой. Ему было нужно, чтобы его выслушали, а я его прогнала. Я сказала «нет»… Я сказала «нет»…
Я фальшивка. Никакая я не золотая девочка. Не героиня отделения, спасающая день за днем больные души. Я гребаная актриса, которая прекрасно играет свою роль. И я позволила человеку, живому человеку, проскользнуть в щель, и он умер один, рядом с грязным ведром, покорно и побежденно сложив руки в карманы, в сраной кладовке, потому что какой-то говнюк оставил дверь открытой.
Я вдруг чувствую что-то похожее на острый укол в шею, и на меня наплывает дурнота. О господи. Неужели это я забыла запереть дверь кладовки, когда брала оттуда вантуз? «Боже мой! Что я наделала!» Я со стоном валюсь на ковер, вою, молю о прощении. Я презираю себя за это хныканье, но не могу остановиться.
Я снимаю с себя левую туфлю и изо всех сил швыряю ее в дверь. Она отскакивает на пол с громким стуком. Тогда я снимаю вторую и бросаю ее тоже. Стаскиваю с кресла сумку, она падает, я вываливаю на пол содержимое, думая, что бы мне еще кинуть. Нащупываю жестяную банку с леденцами, и она взрывается, врезавшись в дверной косяк. Весь кабинет теперь засыпан маленькими белыми кругляшками. «Фальшивка. Я – гребаная фальшивка». Пачка бумажных носовых платков не создает никакого шума и поэтому не приносит удовлетворения, а наушники выбросить нельзя. Книга! Я встаю и беру в руки тупой роман, который еще не закончила, и яростно отрываю обложку, так мне не терпится метнуть ее в стену. Но я передумала. Вместо этого я выдираю страницы, сначала по одной, потом целыми пуками, злобными пуками дерьма.
«Эдди! Прости меня! Я должна была быть с тобой. Я должна была быть с тобой».
Тонкие листки дешевой книжонки в бумажной обложке прилипают к мокрым ладоням. Колени подгибаются, я сползаю на пол и хватаюсь за голову. К волосам прилипают клочки бумаги, но я не замечаю. Я выдохлась. Еще несколько тяжелых, панически-быстрых вздохов, и я, откашлявшись, сплевываю сгусток слизи в корзину для бумаг и чуть-чуть успокаиваюсь. Ложусь на пол, чтобы немного отдохнуть. Мольбы о прощении, которые уже никому не нужны, и пугающая пустота «никогда» постепенно находят пещерки в моем мозгу и устраиваются там. В этих местах я прячу воспоминания, с которыми не могу справиться. Я концентрируюсь на дыхании, и вскоре блаженный туман наполняет голову.
Прямо у себя перед носом я вижу завиток, выбившийся из ковра, и мгновенно концентрирую на нем все свои мысли и внимание. На него падает солнечный свет и подчеркивает, усиливает яркость бордовых и фиолетовых нитей. На самом деле ковер и бесцветный, и многоцветный одновременно. Я надавливаю на завиток большим пальцем, отпускаю – и он снова выпрямляется, как крошечная пружинка. Я проделываю это снова и снова – и всякий раз завиток встает, непобежденный. Этот малюсенький штопор не даст себя убить. Я встаю на колени и наклоняюсь к нему как можно ниже. Даю ему щелбан – и он в который раз встает на место, как клоун-неваляшка. Обматываю его вокруг пальца, и мое дыхание становится нормальным. Я вытираю слезы и высмаркиваюсь. И никак не могу отвести взгляд от коврового завитка. Я поглаживаю его, ласкаю, защищаю, и вдруг, сама не знаю почему, начинаю хохотать. Я смеюсь над бордово-фиолетовым завитком и называю его Эдди.
Раздается тихий стук в дверь, и мне кажется, что у меня начались галлюцинации. Стук продолжается – медленный, настойчивый. Так всегда стучит Эдди.
– Эдди? – Я вскакиваю и кидаюсь к двери, чтобы скорее впустить призрак Эдди и показать ему идеальный завиток ковра, который назвала в его честь.
Дэвид аккуратно проскальзывает в кабинет и озабоченно смотрит на меня. Его глаза широко раскрыты. Дэвид очень обеспокоен.
– Сэм? Ты в порядке? Я что-то слышал через стену. Что происходит?
Осознав, что это всего лишь Дэвид, я снова сворачиваюсь на полу, нахожу взглядом коврового Эдди и поглаживаю его.
Дэвид присаживается на пол рядом со мной и смотрит, что я делаю. Потом обводит взглядом кабинет. То еще зрелище. На ковре валяются разодранные, скомканные книжные страницы и все содержимое моей сумки, разбитое или смятое. Туфли в разных углах, шарф обмотался вокруг ножек кресла. Должно быть, Дэвид думает, что я сошла с ума. Дэвид впитывает увиденное и напряженно размышляет. Мне все равно. Мне все равно, что он думает.
Каждый раз, когда я касаюсь коврового Эдди, Дэвид поглядывает на меня с опаской и некоторым смущением. Он замечает отчет о смерти Эдди и кучу использованных носовых платков у моих ног, берет меня за руку и заставляет сесть.
– Сэм, что происходит?
– Осторожно, не наступи на Эдди.
– Сэм, Эдди умер.
– Этот – не умер. – Я лезу в корзину для бумаг, нахожу маленький пластиковый стаканчик, переворачиваю его и накрываю завиток, чтобы никто случайно на него не наступил.
Дэвид усаживает меня в кресло и кладет ладонь на мой влажный лоб.
– Сэм, ты вся горишь. Ты что-нибудь принимала?
– Я ничего не принимала, Дэвид. Со мной все в порядке.
– И никакого алкоголя сегодня? Я слышал, как ты плакала раньше. Ты пила?
– Нет. И не могу найти свою заначку. – Я открываю нижний ящик стола и шарю рукой под обувной коробкой, наполненной карандашами-мелками. Ничего. Странно.
– У тебя сегодня еще есть групповые сеансы?
– Да, есть. И индивидуальные тоже. – «Я профессионал, Дэвид. Перестань разговаривать со мной, как с ребенком».
– Можно мне посмотреть твое расписание?
– Ты знаешь, где оно лежит. Оставь меня в покое, со мной все нормально.
Он держит мое лицо в ладонях и не дает взглянуть на коврового Эдди.
– Что произошло с твоим кабинетом? Здесь как будто ураган пронесся.
– Я хочу остаться здесь, с Эдди. Позаботиться о том, чтобы с ним ничего не случилось.
– Кто такой Эдди, Сэм? – Я показываю на пластиковый стаканчик, прикрывающий Эдди. Дэвид глубоко вздыхает. – Я сегодня подменю тебя на всех сеансах, о’кей? Кажется, тебе нужно взять паузу.
– Ладно. Мне все равно. Делай что хочешь.
Дэвид вытаскивает из принтера лист бумаги, находит в хаосе стола черный маркер и пишет большими печатными буквами «НЕ БЕСПОКОИТЬ». Он приклеивает записку скотчем на дверь снаружи. Потом собирает по всему кабинету скомканные страницы из книги, выбрасывает в корзину, поднимает с пола отчет о смерти Эдди, разглаживает его и кладет на стол, придавив учебником по психопатологии. Наконец, аккуратно ставит мои туфли слева от двери, разматывает шарф и вешает его на крючок.
Он на секунду выходит, оставив дверь приоткрытой, и тут же появляется снова. В руках у него банан, наполовину съеденный бублик и бутылка воды.
– Попробуй это съесть, хорошо? Тебя сейчас здорово трясет. И выпей воду. Никуда не спеши, забудь обо всем. Я тебя подменю. И наплету что-нибудь Рэйчел. Нужно, чтобы ты просто тихонько посидела и пришла в себя, о’кей? Кажется, эта новость про Эдди подействовала на тебя слишком сильно.
Я еще не видела у него таких беспокойных глаз. И я покорно подчиняюсь. Пусть я останусь в безопасности в своем кабинете до конца дня, а кто-нибудь обо всем позаботится.
– Хорошо, я побуду здесь. А ты меня подмени. – Кажется, все действительно становится мне безразлично.
– У меня тоже еще есть сеансы сегодня, так что я найду замену, если не успею везде сам. Обязательно. Не волнуйся и не тревожься ни о чем. Я все улажу. Только, пожалуйста, позаботься о себе. – Дэвид проверяет, крепко ли держится на двери самодельная табличка, и выключает верхний свет, оставив гореть только настольную лампу. – Пиши, если что-нибудь понадобится, ладно? Я попозже забегу проверить, как ты.
Он выходит. Мои веки отяжелели от слез. Две последние ниточки, на которых держится моя жизнь, – работа и здравый рассудок – в конце концов тоже расплетаются. Теперь мне не за что уцепиться, ничто не может связать воедино мою распадающуюся на части личность. Я снимаю с вешалки пальто, накидываю на плечи и надеваю на голову капюшон. Потом проверяю, как там ковровый Эдди, и постепенно проваливаюсь в забытье.
29 декабря, 17:11
Я вздрагиваю и просыпаюсь. Что случилось? Это был сон? Эдди жив? Оглядываю кабинет, вижу следы недавно устроенного разгрома. Значит, это правда.
Который час? Я вытираю липкую струйку слюны с подбородка и смотрю на телефон. 17:11. За то время, что я спала, мне пришло несколько эсэмэс от Дэвида. Он посылал их весь день, но я поставила телефон на беззвучный режим. Он спрашивал, как я. Хотел удостовериться, что все в порядке. Писал, что поговорил с Рэйчел и она поняла, что мне нужно какое-то время побыть одной. Почему они просто не отпустили меня домой? Еще он спрашивал, съела ли я бублик. Я кошусь на упаковку из фольги на столе. Среди сообщений от Дэвида затесалось одно от Лукаса. Я старательно уклонялась от встреч с ним с того самого дня, как опять застукала его с кокаином. Он отправился домой, чтобы отпраздновать Рождество с семьей, и меня с собой не позвал. Очень удобно – использовать нашу ссору как предлог. Теперь он пытается как-то компенсировать это и снова наладить отношения и приглашает меня пойти с ним на вечеринку в честь Нового года.
Как раз в тот момент, когда я заканчиваю читать сообщения, за дверью раздается цоканье высоких каблуков и кто-то стучится к Дэвиду. Джули. Сообщает, что это она, и Дэвид впускает ее. Я мгновенно вскакиваю, чуть не споткнувшись о туфли, и с силой прижимаю ухо к стене, чтобы не упустить ни одной детали из их разговора. Начинает Дэвид:
– Я сказал Рэйчел, что она очень расстроилась из-за смерти Эдди. Просто была не в себе. Рэйчел все поняла. Она вообще относится к людям с сочувствием.
– Это действительно из-за Эдди? – Я практически вижу, как Джули кладет руки на колени Дэвида и заглядывает ему в глаза. Изображает беспокойство за меня. «Не покупайся на ее дерьмо, Дэвид. Не рассказывай ей ничего, мать ее».
– Да, ей сейчас очень тяжело. Хотя фактически Эдди был пациентом Гэри, он очень привязался к Сэм. Постоянно заходил к ней в кабинет, чтобы поговорить. Она питала к нему слабость.
Джули что-то неразборчиво отвечает. Или нет? Не уверена, что они вообще разговаривают в данный момент. Что они там делают?
– Мне пришлось взять истории болезни некоторых ее пациентов, потому что я тоже подменяла ее на индивидуальных сеансах.
Что? Я вне себя от ярости. Джули говорила с моими пациентами? Читала мои доклады, мои заметки, мои файлы? Гребаная Джули?
Я отскакиваю от стены и вцепляюсь себе в волосы. Потом зарываюсь лицом в мех капюшона и визжу от бешенства. Но моего крика никто не слышит. Так. Надо успокоиться и слушать дальше. Я несколько раз хрипло вдыхаю и выдыхаю.
– Она великолепна! Ее отчеты безупречны, а врачебная интуиция просто внушила мне… ну, благоговейный ужас, честное слово!
«Почему бы тебе просто не сделать ему минет прямо сейчас, ты, шлюха!»
– Да, она очень талантлива, я знаю. Прекрасный специалист. – Et tu, Daveed?[15] – Хотя, знаешь, у меня возникла пара вопросов. С назначением лекарств некоторым из пациентов. Кажется немного странным.
Погодите-ка, а какой сегодня день? Господи боже, какой сегодня день недели? У меня был назначен сеанс с Ричардом? Пожалуйста, Господи, скажи мне, что Джули не заменяла меня на сеансе с Ричардом! Я судорожно листаю ежедневник, ищу сегодняшнюю дату, стараясь не издавать ни звука. Нельзя, чтобы Дэвид и Джули знали, что я здесь, – они поймут, что я их слышу. Четверг. Слава богу! Значит, она проводила групповые сеансы и встречалась с другими пациентами.
В голове опять начинает пульсировать. Мне придется все исправлять, что-то делать с той дерьмовой чушью, которую Джули скармливала моим больным. Сеансы, что я провожу, – очень сложные. Ей они не по зубам. У нее нет ни опыта, ни интуиции. Почему Дэвид не нашел на замену кого-то нормального, а не идиотку?
О чем они теперь разговаривают? Я снова прижимаюсь ухом к стене. Слышится голос Дэвида, шелест бумаг и какой-то шум.
– Да, я приведу в порядок кабинет, и встретимся у лифта. Хочешь пойти куда-нибудь выпить или…
Мое тело напрягается как пружина.
– Да, выпить – отличная идея. Хочу обсудить с тобой, как вести документацию. Я прочитала заметки Сэм и… знаешь, почувствовала, что не очень хорошо делаю свою работу. У нее столько разных методов! И еще я не понимаю принцип, по которому она назначает медикаменты.
– Уверен, ты прекрасно со всем справляешься, – разубеждает Дэвид.
– Спасибо. Мне очень нужны твои советы. Может, если ты голоден… может, пойдем потом поужинать?
Это начинается с ушей, потом медленно перемещается в затылок, потом к глазам. Ярость, всепоглощающая ярость. Мне жарко, все тело чешется, везде покалывает, и я воображаю, как моя голова постепенно наливается малиновым цветом, как термометр в мультфильмах. Температура ползет вверх, и голова, кажется, сейчас лопнет. Мышцы сводит судорогой, левый глаз дергается. Я уже пыталась останавливать такие приступы раньше, и все заканчивалось вывихнутой щиколоткой или растяжением связок. Так что теперь я уже знаю, что нужно просто позволить эмоциям взять верх. Пусть унижение и гнев свалят меня на пол. Так все и происходит. Я лежу и смотрю на коврового Эдди, и он меня утешает.
Никогда не думала, что Дэвид может меня предать, но вот лишнее доказательство – доверять нельзя никому. Даже своему лучшему другу. Тем более лучшему другу, который ведет себя так, будто у меня поехала крыша, запирает в кабинете на целый день и отдает моих драгоценных пациентов и самые сложные групповые сеансы своей тупой подружке-шлюхе. Как жаль. Какой гребаный позор.
Когда мои мышцы и суставы каменеют, а уголки рта тянет вниз, что превращает лицо в злобную гримасу, я вдруг чувствую, что вибрирует телефон. Оказывается, все это время я сжимала его в руке. Еле-еле я подношу его к глазам и читаю сообщение от Дэвида:
«Выздоравливай, Сэм. Я еду домой. Звони, если я тебе понадоблюсь».
Если ты мне понадобишься? Ты был мне нужен сегодня и бросил меня. Ты покинул меня ради нее, двуличный говнюк.
31 декабря, 23:47
Сегодня новогодняя ночь. Все с нетерпением ждут, когда она наступит, хотя это сама разочаровывающая ночь в году. Особенно в Нью-Йорке. Люди со всего света собираются здесь, чтобы постоять на страшном морозе в худшем районе на планете, послушать дерьмовых поп-звезд с ужасным качеством звука и посмотреть на знаменитостей из списка D – то есть так себе знаменитостей – и встретить Новый год, наблюдая, как падает на землю шар из уотерфордовского хрусталя. Ура.
Я в чьем-то пентхаусе на Седьмой авеню, в «Центре моды», достаточно далеко к югу от Таймс-сквер, чтобы до меня не доносились запахи рвоты и мочи, но достаточно близко, чтобы слышать звуки и видеть огни. На мне бархатное платье, и я его ненавижу, но его купил Лукас и не забыл сообщить, сколько оно стоит, поэтому я решила, что вроде как обязана его надеть. Я постаралась устроить все так, чтобы мы с Лукасом выходили курить в разное время. Таким образом, я вылезаю на балкон без него и делаю вид, что мы пришли не вместе. Большую часть гостей я уже видела; помню их лица, но не помню имен. Это те самые важные персоны, на которых Лукас старается произвести впечатление. Он счастлив до небес, что я его избегаю; так ему легче поддерживать любую нужную ему иллюзию и влиться в общество этих уродских светских львов и львиц.
Я уже опьянела от шампанского. Это опьянение отличается от всех других. Оно особого рода. Больше похоже на наркотическое, чем на алкогольное. Я одурманена и совсем потеряла ориентацию. Голова кажется мне воздушным шаром, а шея – веревочкой, которой этот шар привязан к моему телу. Холодный воздух и сигареты помогают шарику не оторваться, но тем не менее мне не хочется, чтобы он крепко сидел на плечах, иначе я начну думать о том, что со мной происходит.
ДПЗ поставил на меня официальное клеймо безумия. Это всего лишь вопрос времени – когда все откроется и последствия окутают меня, словно облако смерти.
Я смотрю на этот злой, искусственный город. Эдди больше нет. Разноцветные огни на Таймс-сквер освещают темные тучи и туман, и это напоминает мне грязноватые оттенки засаленных бейсболок, которые носил Эдди.
Мое левое колено неожиданно подгибается, и я хватаюсь за перила, чтобы не упасть. На балкон выскальзывает официант, заменяет мой пустой бокал из-под шампанского на полный и сообщает, что скоро полночь. Мы с ним одни на балконе, и я слышу крики толпы внизу, начинающей обратный отсчет. Оборачиваюсь, чтобы заглянуть внутрь: свет люстр и огоньки елки сливаются в одно слепящее пятно, но я успеваю увидеть Лукаса. Он выкрикивает цифры вместе со всеми, обнимая одной рукой блондинку, а другой брюнетку. Я смотрю, как пялятся на него обе женщины, и в тот момент, когда внизу подо мной взрываются миллионы хлопушек и конфетти устремляются вверх, Лукас притягивает к себе брюнетку и впивается ей в губы страстным поцелуем. Оторвавшись от ее рта, он ловит мой взгляд, улыбается и пожимает плечами. Я поднимаю свой бокал – салют, Лукас! – обнимаю за шею официанта и целую его. Я целуюсь с незнакомцем и думаю о Дэвиде, который где-то в эту секунду целуется с Джули. Наконец я отрываюсь от бедного парня, и при виде его шокированного лица мне становится тошно.
Конечно, меня тут же охватывают страх и паранойя. Я одним глотком выпиваю шампанское и беру с подноса еще один бокал. Официант достает из кармана зажигалку и дает мне прикурить, а потом удаляется внутрь. Теперь я стою на балконе совсем одна. Вокруг, как снежинки, кружатся и падают конфетти, а снизу слышится пение. Мои мысли возвращаются к Лукасу. Я знаю, что мне следует немедленно его забыть и больше никогда не вспоминать. Я не из тех, кто дает себе обещания на Новый год, но сегодня ночью я решаю, что Лукас должен исчезнуть из моей жизни. На сей раз я отпускаю его по-настоящему. Я перевешиваюсь через перила, меня рвет, и я вижу, как моя голова-шарик взлетает и уносится в сияющее синтетическое небо.
3 января, 11:40
С того дня, как Ричард стал свидетелем моей истерики, мы не обменялись ни словом. Даже воздух между нами кажется особенно плотным – так много у нас обоих тайн, и ни он, ни я не хотим в них признаваться. Ни себе, ни окружающим. Когда я не на работе, еще могу притворяться, что меня не ранило насмерть пулей, выпущенной психиатрами из ДПЗ, и я не истекаю кровью. Медленно, пока не умру. Но стоит мне только выйти утром из метро и направиться к «Туфлосу», как сердце проскакивает в горло и начинает биться там.
Поэтому Эдди покончил жизнь самоубийством? Поэтому чуть не умерла Адель? Потому что я плохой специалист? Потому что я проявила небрежность? Меня не уволили, не перевели на другую должность, меня вообще ничто не коснулось. Возможно ли, что мне в самом деле удалось проскользнуть в щель?
Рэйчел еще раз спрашивала меня о резюме, и я опять их не отдала. Теперь я действительно все закончила. Все, кроме своего собственного. Может, мне сказать, что я отдала свое заключение кому-то еще, чтобы он написал резюме? Например, Дэвиду? Это профессионально неэтично – решать за себя, пригодна ли я к занимаемой должности. Но, учитывая хаос, царящий сейчас в «Туфлосе», все законы этики, кажется, полетели к черту в пекло. Может, мне и удастся как-то проскочить.
В любом случае я считаю, что результаты тестирования и интервью, должно быть, все-таки ошибка. Я не могла настолько ослабить контроль над собой, чтобы позволить кому-то увидеть себя настоящую. Я начинаю думать, как же эта ошибка могла быть допущена и что мне с этим делать, но Ричард неожиданно прерывает мои размышления.
– О’кей, у нас осталось пятнадцать минут. Я готов поработать с историей болезни.
– С чем? – резко переспрашиваю я.
– С историей болезни. С теми бумагами, что вы мне постоянно подсовываете. И повторяете, что нужно их заполнить. Вспомнили? – Вроде бы он говорит искренне. И вроде бы он и правда старается придерживаться плана лечения, несмотря на тот факт, что с того времени, как он сюда попал, и до сих пор он не сделал ни одной попытки хотя бы начать со мной сотрудничать.
– О боже мой. Вы хотите заполнить анкеты? Сейчас?
– Вы сказали, что это обязательно нужно сделать. Так что да, хочу.
– О господи. О господи, этого не может быть. – Я сжимаю зубы. – Отлично. Знаете что? – Я улыбаюсь одними губами. – Это просто отлично. Мы поработаем над этой гребаной историей болезни.
Я достаю из ящика его файл и начинаю вырывать из него страницы.
– Что бы там с вами сегодня ни случилось, я в этом не виноват. И думаю, что не стоит вам вымещать это на мне.
– Вы абсолютно правы, Ричард. Может быть, сейчас не самое лучшее время для индивидуального сеанса. Может, вам стоит пойти на групповой. – Я швыряю файл обратно в ящик.
– Так мы не договаривались. Я могу заняться документами, если вы будете задавать мне вопросы. И записывать это дерьмо на бумагу.
– Следите за своей речью, пожалуйста.
– Я считаю, что наш корабль поплыл, Сэм.
– В самом деле? – Я опять вытаскиваю – нет, выхватываю файл из ящика. Я веду себя слишком вызывающе, слишком дерзко, но я настолько приготовилась к падению, что мне уже все равно, каким местом я ударюсь о землю. – О’кей, Ричард. Почему вы оказались здесь? Какой у вас диагноз? Каковы цели вашего лечения в «Туфлосе»? За что вы отбывали срок в тюрьме?
– Я убил свою мать.
3 января, 14:00
Кто-то стучит ко мне в дверь. Никаких сеансов у меня вроде не назначено. Мне кажется, что моя голова словно отделилась от тела и способна думать только о том, что сказал Ричард. Не вставая с места, я открываю и откидываюсь назад – посмотреть, кто это. В кабинет входит долговязый молодой человек с африканскими брейдами на голове.
– Привет, док, – здоровается он и плюхается в кресло.
– Привет. Чем могу помочь? – недоуменно спрашиваю я.
– У меня есть расписание. – Он лезет в задний карман и достает сложенный лист бумаги с сильно потрепанными краями. – Тут говорится, что сейчас у меня сеанс с моим доктором, вот я и пришел.
– А там говорится, кто ваш доктор… – Я вытягиваю шею и читаю его имя на «расписании». – Шон?
Он пялится в листок в поисках ответа.
– М-м-м… нет. Но ведь сегодня вторник, да?
– Да, сегодня вторник. Можно мне это посмотреть?
Шон с несколько обеспокоенным видом отдает мне расписание.
– Я принимаю одно лекарство, и от него мне трудно запоминать. Поэтому я и ношу с собой это. Беру его с собой везде, куда иду. Так я точно не забуду, где сейчас должен быть. Хожу на индивидуальные сеансы, на групповые, и еще в расписании сказано, что номер моей комнаты – 127. И я иду туда, когда приходит время ложиться спать.
Я перечитала листок два раза, и нигде не говорится, кто лечащий врач Шона. Я знаю, что уже видела его раньше, но не могу вспомнить где и когда.
– Шон, у нас с тобой раньше были сеансы?
– Да, по вторникам. – Он тщательно складывает расписание и засовывает его обратно в карман.
– По вторникам в 14:00 ты приходишь ко мне в кабинет? – Почему я, хоть убей, этого не помню?
– Да, и вы спрашиваете, а я отвечаю. Или иногда я спрашиваю.
– О’кей. А у тебя были сеансы еще с какими-нибудь докторами?
– Я не знаю.
– Шон, а как твоя фамилия?
– Рейнолдс.
– Хорошо. Дай мне секунду, я кое-что проверю, ладно?
– Ага. – Шон откидывается назад и вытирает пот со лба.
Я беру трубку и набираю 44, номер, который соединяет говорящего со всеми интеркомами.
– Обращение к персоналу. Если вы находитесь в своем кабинете и не проводите в данный момент сеанс, пожалуйста, возьмите трубку. Если у вас сеанс, уберите звук. – Несколько секунд я молчу, затем повторяю сообщение. Проходит еще несколько секунд. Теперь я уверена, что все, кто занят, отключили звук, и начинаю говорить снова: – Привет всем, это Сэм. У меня короткий вопрос: чей пациент Шон Рейнолдс?
– М-м-м… он был моим пациентом, – отзывается Гэри. – Хочешь, чтобы я зашел к тебе?
– Да, спасибо. – Я слышу, как отключаются остальные специалисты, а Гэри говорит, что будет у меня через минуту.
– Ну как? – интересуется Шон. – О чем мы будем говорить сегодня?
– Шон, к сожалению, я не твой психолог. С тобой работает Гэри. Ты знаешь, кто это? – Мне становится жаль парня. Он, очевидно, опять все перепутал, и я начинаю подозревать, что Гэри что-то намутил с медикаментами.
– Гэри… Гэри… – Он смотрит в потолок, как будто пытается припомнить.
– Как называется то лекарство, что ты принимаешь?
– Такое… оранжевое.
– И ты пьешь только это или что-то еще?
– Ага. – Он еще раз сверяется с расписанием и передает его мне. – Оранжевая утром, розовая вечером. – Еще розовые.
– Понятно. Почему бы нам не подождать Гэри?
– О’кей. – Его глаза тускнеют, и он оседает в кресле. Раздается стук в дверь. Я открываю, и в кабинет входит Гэри.
– Привет, Шон, – здоровается он, и Шон переводит взгляд на него.
– Привет, док, – отвечает он.
Я предлагаю Гэри свое кресло, он садится, наклоняется вперед и упирается локтями в колени.
– Шон, не мог бы ты сделать мне одолжение? Пожалуйста, подожди немного в компьютерной комнате, пока я поговорю с Гэри. Хорошо? Она напротив, на другой стороне коридора. Через минуту-другую я за тобой туда зайду.
– Да, хорошо. Подожду в компьютерной комнате. Извините за ошибку. – Волоча ноги, Шон выходит из кабинета, и я усаживаюсь в нагретое им кресло.
– Что он принимает? – спрашиваю я.
– Хлорпромазин[16].
– Ах да. Он сказал, оранжевые. А какой диагноз?
– Сэм… – Гэри смотрит на меня как-то странно. Не то вопросительно, не то пораженно. – Его диагноз – параноидальная шизофрения плюс эксплозивное расстройство личности[17]. Еще он принимает дифенгидрамин[18].
– Если хлорпромазин так сильно влияет на его память, ты должен снять его с дифенгидрамина.
– Разве не ты должна снять его с дифенгидрамина?
– А ты что, не можешь?
– Сэм, Шон – твой пациент. Препараты, которые он принимает, выписаны твоей рукой. Твоим почерком. Раньше с ним работал я, но потом Рэйчел отдала его тебе. Помнишь?
– Что? Он мой? И это мой почерк? Я никогда не забываю своих пациентов, это просто невозможно. Как же это случилось? – Я ошарашена не меньше, чем олень, попавший под ослепляющий свет фар.
– Не знаю, Сэм. С тобой в последнее время все в порядке?
Это Гэри забывает, кто его пациенты. Это он не может нормально делать свое дело. Не я. Это совершенно на меня не похоже.
– Да, я… я… – запинаюсь, не зная, что сказать. Нет, просто не укладывается в голове. Так это я все напутала с лекарствами Шона? Из-за меня он в таком тумане и не понимает, на каком свете находится? Потому что я назначила ему большую дозу дифенгидрамина вдобавок к хлорпромазину? Невозможно! Я бы никогда так не сделала!
Гэри встает, и в этот момент звонит телефон.
– Здравствуйте. Сэм Джеймс.
– Привет, Сэм. Это Рэйчел. Ну что, ты разобралась с Шоном?
– М-м-м… да. Извините, я что-то запуталась на минутку, и у меня абсолютно вылетело из головы, что сейчас у меня с ним индивидуальный сеанс. Но все улажено, не беспокойтесь. – Я издаю нервный смешок.
– Опять что-то с назначением медикаментов? – устало и как-то разочарованно спрашивает Рэйчел.
«Опять?»
– Нет, – уверенно отрицаю я, изо всех сил пытаясь изобразить бодрую и авторитетную личность, которую знают все в «Туфлосе». – Просто обычная ошибка.
– Перезвони мне, если считаешь, что я слишком тебя нагрузила. Я полагаюсь на тебя, Сэм. Мне нужно знать, что ты справляешься.
– Конечно, справляюсь. Так и есть. Вы же меня знаете.
– Хорошо, – с сомнением в голосе произносит Рэйчел. – Очень на это надеюсь.
4 января, 22:56
Мы с Эй Джеем сидим в каком-то безымянном баре в Ист-Виллидж, так что теперь нам можно целоваться на публике, не привлекая внимания знакомых. Пол усыпан опилками, а барные стулья ужасно неудобные. Телеэкраны расположены слишком высоко над барной стойкой – мне приходится вытягивать шею, чтобы видеть, что происходит, и не пялиться постоянно на Эй Джея. Нам не следовало бы встречаться на людях и притворяться, что между нами есть что-то общее или даже вообще есть о чем поговорить. Это очень неловко. Единственный способ избежать конфуза – напиться, забыть обо всем и позволить сексуальному притяжению помочь нам пережить этот вечер. Эй Джей не курит, поэтому если в разговоре повисает пауза или возникает какое-то стеснение, я беру сигареты, пальто и выхожу на улицу.
Когда я последний раз затягиваюсь «Мальборо», в моем заднем кармане вибрирует телефон. Это Лукас. Я все еще не нарушила обещание, которое дала себе в новогоднюю ночь, и держусь от него на расстоянии. Он спрашивает совета насчет лекарства для Маверика. Скорее всего, хитрая уловка – с одной стороны, не терять лицо и оставаться холодным, с другой – попросить мнения профессионала. Он прекрасно знает, как я люблю его пса. Однако я преодолеваю искушение ответить, выбрасываю окурок и возвращаюсь в бар.
– Я заказал тебе еще выпить, – сообщает Эй Джей. – Подумал, тебе обязательно захочется. – Он зажимает меня между колен, взасос целует в губы и развязывает мой шарф. Я снимаю пальто и вешаю его на спинку барного стула. Шарф запутался в волосах, но Эй Джей продолжает тянуть за конец. – Что это? – вдруг спрашивает он, заметив синяки на виске, которые я обычно прикрываю с помощью прически.
– А, это… – Я торопливо разматываю шарф и засовываю его в рукав пальто, а потом снова завешиваю синяк волосами. У меня вдруг возникает ощущение, что я остро чувствую малейшее движение своего тела. – Небольшое происшествие.
– Какое происшествие? – Он упрямо убирает волосы с моего лица, и я багровею от смущения.
– Инцидент в такси. – Он нежно поглаживает синяки. Мне не больно, но я вижу следы тонального крема на его пальцах, и от паники мой желудок скручивается в узел, а на пояснице проступают капельки пота. – Я ехала в такси позавчера. Возвращалась домой из Верхнего Ист-Сайда. Была там по одному делу. – Я добавляю слишком много подробностей, потому что вру без подготовки. Мне нужно срочно промочить пересохшее горло, и я хватаю виски-колу с барной стойки, делаю жадный глоток и продолжаю: – Я не пристегнула ремень – кажется, я вообще никогда не пристегиваюсь, – а ехали мы по Парк-авеню. Я сижу, рассматриваю деревья с огоньками – лицом к стеклу со стороны водителя, и вдруг он ударяет по тормозам, потому что какой-то урод поворачивает на запад на Семьдесят пятой, а я вмазываюсь мордашкой в пластмассовую перегородку.
Я задыхаюсь. Не могу понять, поверил Эй Джей или нет, потому что он молча продолжает смотреть на меня глазами маленького щеночка, ласково гладит по лицу и растирает шею.
– Ты не обращалась в больницу? У тебя может быть хлыстовая травма или что-то в этом роде. – Он произносит это вполне равнодушным тоном, без особой тревоги, но слова сами по себе предполагают доброе отношение, и мое сердце начинает громко и беспокойно биться, так что шум отдается в ушах.
– Мы были как раз рядом с больницей «Ленокс-Хилл», и я сказала водителю, что выхожу и немедленно иду проверяться. Устроила там настоящее шоу с записыванием номеров машины, лицензии, имя тоже записала… так что платить за поездку мне не пришлось. Я просто дошла до метро и доехала до дома. Наверное, выглядит это ужасно, но на самом деле пустяки.
Ложь дается мне на удивление легко; я почти не думаю, что говорю, все кусочки – пейзажи, названия, примечательные детали – слетают с языка сами собой и складываются в гладкую историю. Я не могу допустить, чтобы Эй Джей узнал, что «небольшое происшествие», в результате которого я обзавелась синяками, – это Лукас. Эй Джей здесь не для того, чтобы спасать меня от Лукаса, а чтобы отвлекать от него. И уж этим границам я размыться не позволю.
Я заказываю нам по шоту, чтобы стереть все из памяти. Время, проведенное с Эй Джеем, – это некая передышка, краткий побег из реальной жизни. От неудач на работе, от катастрофически неправильных решений в личной жизни. Рядом с ним мне совсем не трудно делать вид, что я не страдаю никаким психическим расстройством и не забываю своих собственных пациентов. Когда я с Эй Джеем, мой единственный неправильный поступок – это измена бойфренду. Но с этим я уж как-нибудь проживу.
Я беру очередной шот и надеюсь, что он унесет меня в место, где я забуду, как пыталась вытянуть правду из пациента, который убил свою мать. Мне хочется погрузиться в райское блаженство, где меня не будут мучить подозрения, что всем известны мои тайны. Мне нужно, чтобы алкоголь притупил мои чувства. Пусть я хоть какое-то время не буду помнить о том, что больше не могу верить во все, что раньше считала истиной.
5 января, 13:17
Я в туалете для пациентов, тщательно рассматриваю свое отражение в зеркале и оттягиваю кожу на щеках. Выгляжу я как покойник. Под глазами синие круги, а на ресницах остались крошки от осыпавшейся вчерашней туши. Кожа сухая и сальная одновременно, а цвет лица… одним словом его можно описать как «болезненный». Синяки на висках из фиолетовых прекратились в желто-зеленые, и я даже не потрудилась замазать их тоналкой для тату – это требовало слишком много усилий. И голову мне следовало бы помыть еще несколько дней назад. Я достаю из кармана блеск для губ и размазываю немного по щекам. Может, хоть это придаст мне более живой вид.
Выходя из туалета с опущенной головой и вытирая руки о штаны, я натыкаюсь на монументальное туловище Рэйчел.
– Сэм! А я только что от тебя. Хорошо, что случайно нашла тебя здесь.
– Привет, Рэйчел, что случилось? – Я тут же начинаю стесняться, что на руках у меня – блеск для губ, и стараюсь стереть его, пока Рэйчел ничего не заметила.
– Я заходила, чтобы забрать резюме для ДПЗ. Они нужны мне сегодня. Знаю, тебе пришлось очень нелегко, смерть Эдди стала для тебя тяжелым испытанием, и я хотела дать тебе немного передохнуть, но откладывать это дело больше невозможно. – Она вроде бы и прощает, и осуждает меня.
– Понимаю. Простите за задержку. Суицид Эдди оказался настоящим шоком, мне было очень трудно сконцентрироваться на работе на прошлой неделе. Но я уже пришла в себя, так что вам не о чем беспокоиться. – Мое сердце бьется так громко, что я думаю – а слышит ли это Рэйчел?
– Прекрасно. Рада это слышать. Я подумала, что возьму их прямо сейчас, вместе с заключениями, потому что позже у меня встреча с администраторами, а потом разложу что нужно по личным делам персонала, – с оптимизмом говорит Рэйчел. Она уверена, что я ее не подведу.
– Нет-нет-нет. Я же обещала вам, что сделаю все это сама. Не волнуйтесь, я даже положу заключения ДПЗ в папки с личными делами. Если уж делать – так все, от начала до конца. Я обо всем позабочусь. – Я нагло вру Рэйчел прямо в лицо, и от подступившей паники меня окатывает горячая потная волна. – Я занесу вам резюме днем, а к вечеру заключения будут уже в архиве, в нужных файлах. Идет?
– Они нужны мне сегодня, Сэм. Не позже. Все материалы. И заключения тоже. ДПЗ уже дышит мне в затылок.
Рэйчел обводит меня подозрительным взглядом. Настрой у нее все еще оптимистичный, однако я не убедила ее окончательно. Слабо улыбаясь, она протягивает мне руку. Моя правая ладонь вся в блеске для губ, но я боюсь вытереть ее о штаны, потому что Рэйчел может подумать, что я нервничаю, пытаюсь это скрыть, и у меня потеют ладони. Мне ничего не остается, кроме как пожать ей руку, и я чувствую, как липкая розовая гадость пачкает пальцы Рэйчел. Я широко улыбаюсь, показывая все зубы разом, и быстрым шагом удаляюсь в сторону своего кабинета.
– Увидимся сегодня днем! – кричу я через плечо.
Рэйчел остается возле туалета. Я заворачиваю за угол и – как раз вовремя! – вижу Дэвида и Джули напротив его кабинета. Они стоят слишком близко друг к другу. Дверь открыта, рука Джули лежит на его груди. Я могу видеть только ее спину, не лицо, зато мне прекрасно видно Дэвида и его ослепительную улыбку. Не заметив меня, он делает шаг назад, в кабинет, и на прощание машет Джули, вернее, кокетливо помахивает пальчиками. Джули разворачивается и уходит. Она улыбается, счастливо вздыхает, как глава команды чирлидеров, которую квотербек только что пригласил на выпускной бал, и прижимает к груди стопку файлов.
Увидев, что я, как ведьма на метле, мчусь по коридору, Джули внезапно возвращается в реальность. Она вздрагивает и что-то лепечет, но заикается и замолкает. Наверное, ее крохотный жалкий мозг все же подсказывает ей, что она связалась не с тем человеком и лучше ей меня не злить и извиниться. Приближаясь к кабинету, я набираю скорость. Джули замирает с открытым ртом, придумывая, что сказать, и, поскольку ей не приходит в голову посторониться, я врезаюсь ей прямо в плечо, при этом не сводя с нее глаз. Она спотыкается и почти отбегает от двери. Я продолжаю сверлить ее убийственным взглядом, пока засовываю ключ в замочную скважину. Джули что-то мямлит и пошатывается на своих каблуках, но ничего внятного из ее рта так и не вылетает. Я распахиваю дверь и на прощание крепко хлопаю ее по плечу. Со зловещей улыбкой на губах я наблюдаю, как она пятится назад, с ярко-розовым пятном блеска для губ на безупречно белом свитере.
5 января, 17:34
Я дважды звонила Рэйчел в кабинет, и она ни разу не взяла трубку. Видимо, ушла на собрание администраторов. Прекрасно. Теперь самое время. Можно подбросить ей резюме и при этом не столкнуться с ней лицом к лицу.
Я придерживаю резюме и папки с заключениями левым локтем, а наверху лежит листок с окончательными выводами. С виду он ничем не отличается от обычной служебной записки или памятки для персонала, и я старательно убеждаю себя, что так оно и есть. Толстовка почти полностью прикрывает папки, и я быстро иду по коридору к выходу на черную лестницу. Потом осторожно придерживаю дверь, чтобы она не хлопнула и не выдала мое присутствие. Стук сердца, как это часто бывает, отдается у меня в ушах, и мне кажется, разносится эхом по всей лестнице. Добравшись до нужного этажа, я тихонько приоткрываю дверь и едва ли не на цыпочках снова выхожу в коридор. На полу лежит какой-то пациент и спит, свернувшись в позе зародыша. В другое время я бы обязательно его разбудила, но сейчас, не дыша, обхожу неподвижное тело, уповая на то, что он не проснется. Вход в кабинет Рэйчел находится всего в нескольких ярдах.
Я достаю из-за пазухи лист с выводами, и сердце бьется уже так оглушительно, что мне становится страшно – вдруг этот звук разбудит спящего. Я в последний раз быстро перечитываю то, что написала, нагибаюсь и подсовываю бумагу под дверь Рэйчел. Все кончено. Пути назад больше нет.
Воодушевленная, наполненная какой-то новой силой, я почти на крыльях лечу к лестнице и спускаюсь на первый этаж. Приходится держаться за перила, потому что я боюсь выронить заключения. Дверь, ведущая на первый этаж, открывается с помощью огромной горизонтальной ручки, на которую нужно с усилием нажать. Я протискиваюсь в нее и оказываюсь в нашем архиве. Здесь почему-то нереально жарко. В самом конце помещения, куда почти не проникает свет, стоит старый деревянный шкаф, где хранятся личные дела работников больницы. По идее я не должна иметь доступ ни к этому шкафу, ни к собственно архиву, и я ни за что не сумела бы проникнуть сюда, если бы кто-нибудь позаботился сменить код на двери после того, как комнату переделали в архив. Раньше тут был лаунж для персонала. Я работаю в «Туфлосе» достаточно давно и не раз видела, как помещения меняли свое назначение в связи с увеличением числа пациентов.
И вот теперь я стою здесь, с остатками «контрабанды» в руках, и в алфавитном порядке засовываю исходные заключения ДПЗ в личные дела сотрудников. Я убираю файл с заключением по Фрэнку Игнасио, работнику охраны, в папку с его именем. Дальше идет личное дело Мэри Кинни, моей любимой медсестры. Ее заключение отправляется туда. Никаких заключений с фамилий на букву «J» у меня нет[19]. Наконец, я ставлю на место тоненькую папку с личным делом Джули Уотсон, вытираю пыльные ладони о рубашку и набрасываю на плечи толстовку. Я закончила. Все заключения, которые надо было разложить по личным делам, мирно покоятся там, где они должны быть. А мне нужен большой стакан крепкого напитка, чтобы забыть о том, что я сейчас сделала.
10 января, 11:00
Голова гудит от разных тревожных мыслей. Кажется, они сталкиваются друг с другом и разлетаются в стороны, как бильярдные шары. Мне все время мерещится, что на лице Ричарда горящими красными буквами написано слово «Убийца». Я бросаю на него нервный взгляд и тут же думаю о Рэйчел. Что, если ей вздумается проверить личные дела и самой просмотреть заключения ДПЗ, чтобы убедиться, что я сделала все согласно ее стандартам и нигде не напортачила? Или она достаточно мне доверяет?
Пока я прикидываю и оцениваю все возможные последствия, Ричард вдруг ставит что-то на стол, прямо передо мной, и прерывает ход моих размышлений. Я несколько раз моргаю, чтобы переключиться, и вижу маленькую, как раз на один шот, бутылочку виски «Джек Дэниелс», вроде тех, что продают в дьюти-фри в аэропортах.
– Что это еще за черт?
– Виски. Вас трясет, – бесстрастно сообщает Ричард.
– Ричард, в отделение нельзя приносить алкоголь. Меня могут за это уволить. Уберите это отсюда, пожалуйста, и поскорее.
– Никто не знает, что я принес алкоголь. И никто сюда не зайдет. Дверь заперта, а вам явно нужно выпить.
– Мне не нужно… Нет. Уберите виски, Ричард. Поверить не могу, что после всех уступок, на которые я ради вас пошла, – позволяла вам просто сидеть в кабинете и читать газеты, в то время как вы ни разу не удосужились помочь мне и заполнить анкеты, – вы вот таким образом воспользовались моим доверием. Уберите это с моего стола.
Я не смею смотреть ему в глаза и не смею смотреть на бутылку. Он протягивает руку и убирает виски. «Как, мать его, он сумел пронести в больницу алкоголь?» Я в ярости оттого, что он посмел предложить мне выпить, и в то же время внезапно осознаю, до чего же мне это действительно необходимо.
Ричард отвинчивает крышку и снова передает виски мне. Я держу бутылочку в руках и наблюдаю за ним. Он снимает кепку, достает из кармана еще одну точно такую же бутылочку и открывает ее. Потом чокается со мной и опрокидывает виски в рот. Почти бессознательно я тоже подношу бутылку к губам, глотаю, и горячая сладость обжигает мне горло.
Ричард берет бутылку, которую я все еще держу у губ, и осторожно убирает ее в карман вместе со своей. Снова надевает кепку и утыкается в газеты, как будто ничего не произошло. Я так поражена, что не могу вымолвить ни слова. Проходит несколько минут, но мне кажется, что это были несколько часов. Ричард смотрит на меня поверх очков, и я прихожу в себя. Открываю верхний ящик стола, достаю коробочку с мятными конфетками для освежения дыхания, кладу одну в рот и подвигаю коробку к Ричарду. Он не глядя берет две штуки. Мы вроде как продолжаем игнорировать друг друга, но на самом деле сейчас я слежу за ним внимательнее, чем когда-либо.
12 января, 15:09
Я только что очнулась на полу своего кабинета от очередного беспокойного сна. В последнее время я плохо сплю по ночам, поэтому дневная дрема в кабинете уже становится обычным делом. Сейчас мне приснилось, что я – одна из тех девушек-моделей, что расхаживают на боксерских матчах, держа над головой табло, где написан номер раунда. У меня идеальное тело и идеальные волосы, но я очень маленькая, совсем крохотная, потому что боксерский ринг – это тот самый ринг из игры восьмидесятых, где сражаются два боксера-робота, красный и синий. Лукас был красным боксером, а Эй Джей – синим. И каждый раз, когда кто-то из них наносил удар, их головы отваливались и улетали за пределы ринга, в толпу. Тогда выбегал Маверик, отыскивал среди скамеек нужную голову, приносил ее обратно и приставлял к телу. А я продолжала прогуливаться вокруг ринга со своим большим знаком и, когда я посмотрела на зрителей, увидела, что каждый из них – это Ричард.
Я пытаюсь выбросить сон из головы и не задумываться о том, что он значит. Дело с заключениями ДПЗ закрыто, Рэйчел, кажется, вполне удовлетворена, так что теперь я стараюсь концентрироваться на работе, не упуская из внимания ни одну деталь, чтобы не рвать на голове волосы, представляя себе, что будет, если правда все же выплывет на поверхность. Если мозг будет все время занят, я смогу убедить себя, что все в порядке.
Каждую неделю по пятницам в «Туфлосе» устраивается день посещений. Пациенты, которые хотят увидеться с родными, называют нам их имена, и после того, как мы тщательно проверим их и проведем предварительную беседу, они могут нанести визит в больницу. Передо мной лежит список фамилий родственников, которые дали мне мои пациенты, но до сих пор у меня никак не доходили руки их проверить. И сейчас мне нужно поторопиться, чтобы эти люди смогли завтра прийти в «Туфлос».
Стопка историй болезни на кресле рядом со мной. Я внимательно читаю историю взаимоотношений в семье, скрупулезно изучаю психосоциальные профили, выискиваю и решаю, допускать ли посетителя к больному или нет. Большинство этих имен мне уже знакомо, поэтому я уверенно беру свою большую красную резиновую печать и ставлю «одобрено» напротив той или иной фамилии. Тружусь я с удовольствием – эта работа одновременно и монотонная, что меня вполне устраивает, и полезная.
Я вдруг отвлекаюсь на звук хлопнувшей двери – двери Дэвида. За этим следует глупое подростковое хихиканье. Смеяться так может только один человек.
Мой позвоночник напрягается, словно его скручивает от отвращения, а над бровями начинают выступать капельки пота. Я громко откашливаюсь – пусть не забывают, что они здесь не одни, – но боюсь, никто меня не слышит. Я кашляю еще громче, нарочито, театрально, и для усиления эффекта хлопаю ладонями по подлокотникам кресла. По другую сторону стены раздается еще более громкое хихиканье. Ну конечно, они меня слышат. А может, я на самом деле здесь задыхаюсь. Может, я вообще умираю, но Дэвид, разумеется, слишком занят флиртом с этим пустым свитером, чтобы прийти мне на помощь. Что ж, если я не могу их остановить, то, по крайней мере, сделаю все, чтобы испортить им малину. Я оглядываю кабинет в поисках чего-нибудь тяжелого, что можно швырнуть о стену. Что угодно, лишь бы отвлечь их, сбить с настроя. Однако ничего подходящего я не вижу. Я случайно бросаю взгляд на свою правую руку – в ней зажата большая круглая резиновая печать.
Если открыть ящик стола и как следует шлепнуть по бумагам, то по кабинету разнесется громкое «бум». Да еще и ящик задребезжит. Это уж точно нарушит их романтическое уединение. А если кто-нибудь войдет, то все увидят, что я просто работаю – ставлю штампы напротив имен завтрашних гостей. И никто не посмеет сказать, что я стараюсь разбить пару или спасти своего лучшего друга от самого неправильного на свете решения.
Я обрушиваю печать на первый лист. Стук получается громкий, такой, как надо, и ящик дребезжит даже сильнее, чем я ожидала. Сжав зубы, я бухаю печать на следующий лист, потом на следующий, потом на следующий, и повторяю это снова, снова и снова. Эти удары и звуки очень раздражают, и я уверена, что мне удалось помешать их разговору. Наконец дверь Дэвида, чуть скрипнув, приоткрывается, и я слышу, как Джули, в своих туфлях на шпильках, удаляется. Я выиграла. Для полноты ощущений я ставлю последнюю печать на последний листок с фамилиями посетителей. Я смотрю на море красных кругов со словом «одобрено» внутри и чувствую, как у меня за плечами развевается плащ победителя.
13 января, 9:50
Меня все время преследуют мысли о том, что Рэйчел как-то узнает, что единственный файл с заключением ДПЗ, который я не вложила в личное дело, – это мой собственный файл, мысли о Джули и Дэвиде и о том, что Ричард убил свою мать. От каждого сообщения, что присылает мне Дэвид, ощущение одиночества только усиливается. Он так добр ко мне, что кажется, одних только этих эсэмэс достаточно, чтобы все уладить. Они почти убеждают меня, что ему все еще есть до меня дело, что он не отдал все свои чувства Джули.
Джули, с ее действительно добрым сердцем и серьезным отношением к работе. Кто я такая, чтобы ненавидеть девушку, чья искренность так очевидна – буквально написана на ее совершенном лице? Каким нужно быть говнюком женского рода, чтобы сказать своему лучшему другу, чтобы он держался от нее подальше и вечно вздыхал исключительно по мне, зная при этом, что все его усилия не принесут плодов? Да мной! Я этот самый говнюк женского рода. Но теперь все представляется мне таким бесполезным. Какую выгоду я получу, если буду ненавидеть Джули? И нет ничего хорошего в том, что я злюсь на Дэвида.
Я беру трубку и звоню ему в кабинет. Он отвечает после первого же гудка.
– Привет, Дэвид. – Я неожиданно понимаю, что не придумала заранее, что ему сказать. – Не мог бы ты… э-э-э… зайти ко мне? Пожалуйста.
– Конечно, – вздыхает Дэвид, и я слышу, как он отодвигает кресло. Мне хорошо знаком этот мученический вздох, и я тут же начинаю беситься и сожалеть о том, что решила его простить.
Он заходит, встает позади меня, прислонившись к шкафу для бумаг, и скрещивает руки на груди. Мне нужно развернуть кресло, чтобы оказаться к нему лицом, и когда я это делаю, то задеваю коленями его ноги. Мой кабинет слишком мал для игр подобного рода.
– Дэвид, ты можешь сесть? – с некоторой неловкостью говорю я.
Он не двигается с места и лишь приподнимает брови в ожидании извинений. Как будто я разбила лампу и сказала, что это сделала собака. Я верчусь в кресле, пытаясь найти такое положение, при котором он не будет надо мной нависать, так чтобы мне пришлось смотреть на него снизу вверх – сама подходящая поза для того, чтобы попросить прощения за то, что я вмешивалась в его дела. А ведь он заранее все это спланировал. Говнюк.
– Дэвид. – Я стукаюсь спинкой кресла о стол. Кожу начинает покалывать, а воротничок блузки слишком сильно сжимает горло. – Дэвид, не мог бы ты сесть? Пожалуйста?
Я чуть повышаю голос и смотрю прямо в пол. Протягиваю руку, приглашая его устроиться в кресле для пациентов, но упорно не поднимаю глаз. С усталым вздохом он делает шаг к креслу и садится.
– Чем я могу тебе помочь, Сэм?
– Слушай… – Я в ужасном раздражении, и у меня краснеют щеки. – Я здорово разозлилась из-за всего этого дерьма, но во избежание ядерной войны и холокоста собираюсь тебя простить.
– Ты собираешься меня простить? За что? – Дэвид наклоняется вперед, и от него так и веет моральным превосходством.
– За Джули, Дэвид. Она реально единственный человек во всей больнице, которого я не выношу, и ты решил встречаться именно с ней! И даже не обсудил это сначала со мной. Это смешно. Это… несправедливо! Мог бы принять во внимание и мои чувства, прежде чем пускаться в свои глупые приключения! Что я хочу сказать… господи, да ты хоть представляешь, каково это – делить тебя с ней? И как тебе может одновременно нравиться такая, как она, и такая, как я? Я просто падаю в собственных глазах.
– Ты закончила?
Если бы у меня был отец, наверное, именно такое лицо я бы и увидела, если бы крупно напортачила. В детстве.
– Да. – Я удовлетворенно откидываюсь назад. Теперь он наверняка поймет, что совершил вопиющую ошибку, и осыплет меня извинениями, и между нами все наладится.
– Сэм, ты понимаешь все совершенно превратно. – Так, начинается лекция. – Во-первых, я не встречаюсь с Джули.
– Ха! Ага, конечно. Знаешь, через стену ведь все слышно.
– Заткнись и дай мне закончить. Как я уже сказал, я не встречаюсь с Джули. Но в любом случае здесь у тебя нет абсолютно никакого права голоса. Только я решаю, с кем мне встречаться. Ты не моя девушка. Ты даже не моя бывшая девушка. И твое мнение не имеет совершенно никакого значения. И поэтому я не счел нужным его учитывать, когда мне захотелось невинно поболтать с коллегой по работе, на которую ты безо всяких оснований изливаешь ведра сарказма. – Дэвид выпаливает все это на одном дыхании, и, пока он набирает воздуха для следующей тирады, я откатываюсь к двери и подтягиваю колени к груди, чтобы между ним и мной была какая-то преграда. – Ты ужасно злая и дико бесишься всякий раз, когда думаешь, что кто-то или что-то, по-твоему, угрожает моим чувствам к тебе. Но при этом сама обращаешься со мной так, будто я ничто! Я устал от этого. И если Джули нравится уделять мне внимание и мне это тоже нравится, это ничего не означает. Но даже не воображай, что я стану терпеть твое презрение. Это полное дерьмо. Тебе давно пора повзрослеть и вести себя как нормальная, зрелая личность. Невозможно и сохранить гребаный пирог, и в то же время съесть его! Ты держишь меня на поводке, а если я вдруг смотрю в другую сторону, злишься и устраиваешь истерики. Ты просто сходишь с ума, Сэм. Тебе надо завязать со всей этой дурью, разобраться со своей головой и прийти наконец в себя.
– Я просто… я просто не люблю, когда что-то встает между нами. – Мое эго мгновенно сдувается. Презрение и гнев тут же утихают, и, когда я опускаю ноги на пол, мне кажется, что вся моя жестокость стекает вниз, на ковер, и испаряется.
– Она не встает между нами. Но ты могла бы немного открыться и впустить ее.
– Знаешь, я позвала тебя потому, что хотела сказать – я тебя прощаю. Но ты все так перевернул…
– Ну, я тоже тебя прощаю. И я рад, что ты простила меня, хотя, собственно, было и не за что. А теперь мы можем как-то вернуться к нормальному состоянию? Пожалуйста!
Дэвид встает и протягивает мне руку. Я хватаюсь за нее, и он поднимает меня на ноги. Потом крепко обнимает и напоминает, что не нужно всегда быть такой злой. А я напоминаю ему, что не нужно всегда быть таким размазней. И с удовлетворенной улыбкой я снова занимаю место номер один в сердце Дэвида. Оно мое, и только мое.
17 января, 11:08
Ричард сегодня опаздывает. И, ожидая человека, который убил свою мать, я вдруг осознаю, что никогда и ни с кем не чувствовала себя в такой абсолютной безопасности.
– О’кей, сегодня никаких бумаг, – выпаливаю я, как только Ричард входит в кабинет. Он еще даже не сел, не снял кепку и не положил на край стола свои газеты.
– Никаких бумаг? – Он с надеждой смотрит на газеты.
– Да, никаких бумаг. Нам надо обсудить то, что здесь произошло.
Моя обязанность – сохранять профессионализм. Я ни при каких условиях не должна была пить с пациентом во время психотерапевтического сеанса. Не должна была, но сделала это.
– Я не собираюсь никому рассказывать о виски, Сэм. И нам вообще не обязательно об этом говорить. – Ричард садист.
– Меня не волнует, расскажете вы кому-нибудь об этих бутылках или нет. Мы сидели в моем кабинете и вместе пили, и это никак не должно было случиться. Я – ваш терапевт, я профессионал и нахожусь на рабочем месте. Я не могу вести себя таким образом. И вы тоже не можете! Вы здесь для того, чтобы вылечиться, чтобы вам помогли, и предполагается, что именно я тот человек, который окажет вам помощь.
– Как вы можете мне помочь, если не способны помочь себе самой?
Его слова – словно укол в сердце. Они слишком близки к правде.
– Я могу помочь себе. И я себе помогаю! Вы понятия не имеете, какая у меня жизнь. Не знаете, через что мне приходится проходить каждый день! Вы понятия не имеете!..
– О’кей. – Ричард замолкает, но продолжает на меня смотреть. Я не знаю, что мне еще сказать. Пауза затягивается, и тогда он, как и в прошлый раз, достает из кармана четыре маленькие бутылочки. Четыре порции водки «Грей Гуз». Как настоящий джентльмен, он открывает сначала мои, а потом уже свои. Две он ставит передо мной. Я смотрю на экран монитора. Курсор осуждающе мигает, словно заставляя меня взять себя в руки и заполнить историю болезни Ричарда. Поговорить с ним о том, что он мне рассказал, откинуть страх и не прикасаться к водке.
– Я не могу это выпить, Ричард. Я не могу пить на работе с пациентом. – Я опускаю глаза, стараясь не смотреть ни на него, ни на бутылки.
– И кого вы думаете тут одурачить? Я наблюдал за вами с самого первого дня, как оказался в этой больнице, и на вас большими буквами написано «алкоголик».
– Алкоголик? – Я вскидываю голову. – Почему вы решили, что я алкоголик?
– Ну, во-первых… – он опрокидывает в рот первую бутылочку, – на прошлой неделе я поставил перед вами виски, и вы очень мало раздумывали, прежде чем его проглотить. Во-вторых… – за первой порцией следует вторая, – где, по-вашему, я их достал? – Он машет у меня перед носом пустыми бутылочками.
– А где вы их достали? – У меня мгновенно пересыхает в горле. Я бросаю взгляд на нижний ящик стола. И мне точно известно, где он взял это бухло.
Ричард перехватывает мой взгляд и поднимает ладони вверх.
– Понятно? У какого еще чокнутого мозгоправа в столе лежит пакет с мини-бутылками спиртного?
С этим я спорить не могу. Продолжая тупо пялиться на ящик, я вспоминаю, что прятала пакет под разными штуками для рисования и обувной коробкой с карандашами-мелками. Я собираю эти бутылочки уже лет сто, и несколько месяцев назад, после того как на работе выдалась особенно паршивая неделя, принесла их сюда. Кассир в магазине спиртных напитков, который находится недалеко от моего дома, бросает маленькую бутылочку мне в пакет каждый раз, когда я захожу за бухлом. Он уже успел выучить мои вкусы наизусть. Я хожу в магазин с завидным постоянством. Иногда оставляю там чуть не всю зарплату. Возможно, одни лишь мои покупки помогают им оплатить месячный счет за электричество. А теперь эти бутылочки у моего пациента. Должно быть, их там дюжины.
– Как вы их нашли?
– Я ведь не просто сидел и читал газеты. Я наблюдаю за вами и знаю, что с вами происходит. Я не подозревал, что найду этот пакет, когда решил посмотреть, что там в ящиках, но думал, что обязательно отыщется хоть что-то. – Он немного наклоняется вперед.
– Какого черта? Вы обыскивали мой кабинет? – Я изумленно распахиваю глаза. – Вы просили пойти вам на уступки, и я это сделала. – Я вытягиваю левую руку, а правой начинаю загибать пальцы. – Вы просили дать вам время прийти в себя и просто посидеть здесь с газетами – и я на это согласилась. Вы черт знает как осложнили мне работу; быть вашим психологом практически невозможно, потому что вы никогда ничего не говорите по делу, и я до сих пор не знаю даже причины, по которой вы здесь оказались, – я смиряюсь и с этим! Мне ничего не остается, кроме как доверять вам и делать все новые и новые попытки пробиться к вам… Но знаете что? Хватит! Хватит. Я даже не буду вас спрашивать, когда вы успели порыться в моем столе, потому что и так уже вне себя от злости. Вы хотите, чтобы я вам доверяла, а сами делаете это? – Я хлопаю ладонью по столу, бутылка с водой падает и скатывается на пол.
– Вы оставили меня здесь одного, когда побежали кому-то помогать. Это был экстренный случай. – Произнося слово «экстренный», Ричард небрежно помахивает руками, как будто это преувеличение.
– Потому что я вам верила! А вы этим воспользовались! – Я не могу смотреть на него без отвращения. – Вы воспользовались мной!
– Мне нужно было какое-то средство воздействия. Потому что я хочу, чтобы вы сделали еще одну уступку. Назовите это компромиссом, если хотите.
– Ха! Видимо, вы так шутите. После всего этого дерьма? – Я отворачиваюсь к компьютеру.
– Вам это нужно так же, как и мне.
– Еще один компромисс. – Я качаю головой и стараюсь говорить тише. Мне совершенно не надо, чтобы кто-то из случайно проходящих мимо услышал мои безумные вопли.
– Я принял решение сотрудничать с вами. И собираюсь помочь вам заполнить эти чертовы анкеты, из-за которых вы так стервозничаете.
Я поднимаю брови и улыбаюсь, не разжимая губ. Потом кладу его историю болезни в ящик и аккуратно разглаживаю другие бумаги на столе.
– Вы собираетесь со мной сотрудничать?
– Я знаю, чего это стоит – оставаться здесь. И знаю, что не могу все время молчать. Так что да, я заполню все нужные бумаги.
– И где подвох? Для чего вам было нужно средство воздействия?
– Я не позволю вам обращаться со мной как с пациентом.
– Но вы и есть пациент. Как еще мне с вами обращаться, черт вас задери?
– Как с обычным человеком. Как с равным.
– Я не хочу сидеть здесь и выворачивать перед вами душу, пока вы будете наслаждаться грязными подробностями. Я не подписывался на такое шоу.
– Так вы думаете, мы этим наслаждаемся? Вот что мы делаем, по-вашему?
– Вы тоже должны вскрыться. Вы не будете помалкивать и держать свое при себе, как будто вы имеете на это право, а я нет. Теперь у меня есть доказательства, и я могу сделать так, что вас уволят отсюда за две секунды. Я могу все про вас рассказать. Вы не знаете, где пакет с бухлом. Я скажу вашему боссу, что видел, как вы его обронили, и предъявлю все эти бутылки. А потом намекну, что, наверное, поэтому вы безответственно относитесь к своим обязанностям. Ей останется только сложить два и два и получить четыре. Взять хотя бы то, что случилось с Адель, которая была под вашим наблюдением! И еще я могу упомянуть, что это вы забыли запереть кладовку. Я видел, как вы взяли вантуз и ушли.
– С Адель все в порядке! Ее выписали из больницы, и она полностью здорова! Это была ложная тревога!
– Ложная тревога, вот как, значит? Ложная тревога случилась из-за пьяного терапевта, который ошибся с лекарствами. А как насчет кладовки? Может быть, Эдди бы не повесился, если бы ему негде было это сделать. Вот что я мог бы сказать.
– Почему вы так хотите, чтобы меня уволили? Вам-то это как поможет? И зачем вы за мной следите?
– Я за вами не слежу. И не хочу, чтобы вас уволили, но сделаю так, чтобы это случилось, если вы откажетесь заключить со мной сделку. Вы будете рассказывать мне все о своей жизни, так же как и я буду рассказывать вам о себе. Повторяю, мы станем беседовать как равные. Вот такое условие. Хотите – принимайте его, хотите – нет.
– Позвольте мне подвести итог. – Я тру глаза, которые готовы выпасть из глазниц, и пытаюсь понять, что вообще происходит. – Вы намерены дать мне заполнить вашу историю болезни и фактически способствовать терапии, если я буду делиться с вами подробностями своей личной жизни? А если не буду, вы покажете пакет с бухлом моей начальнице – пакет, который вы украли, – и меня уволят? Вы сообщите ей, что это я виновата в случившемся с Адель и Эдди?
– Да. – Ричард говорит это так спокойно, словно его шантаж – это обычное предложение нормального здорового человека.
– И как вы планируете это провернуть?
– Здесь нечего проворачивать. Все уже сделано. Я знаю, какие лекарства пила Адель, и я лично видел, как вы не закрыли кладовку. Я взял ваше бухло, и теперь оно в безопасном месте. И будет там находиться, если я получу то, что хочу. И ведь вы тоже этого хотите. Ну разумеется, способ вам не подходит, но только так вы сможете заставить меня отвечать на ваши вопросы. И только так вы сможете доказать всем, какой вы прекрасный специалист и талантливый психолог. – Он корчит клоунскую рожу и крутит пальцами.
Откуда он узнал, что я хочу всем доказать, будто чего-то стою? Что мне нужно всеобщее одобрение и восхищение?
– А если я отвечу «да»? – С опаской смотрю на Ричарда. Какие еще козыри припрятаны у него в рукаве?
– Сохраните работу. И окажете мне помощь, в которой я так нуждаюсь. И будете выглядеть героиней.
– А где гарантия, что вы не сдадите меня, даже если я соглашусь на ваше условие?
Он встает и протягивает руку.
– Рукопожатие? И после всего этого вы считаете, что я поверю вашему честному слову?
– Мне больше нечего предложить. И я всегда держу слово. Пожмете мне руку – получите его. Вы выполняете свою часть сделки, а я – свою.
Ричард тоже смотрит на меня с опаской и подозрением. Я улыбаюсь, выливаю в пустую кофейную чашку всю водку и отдаю ему две пустые бутылочки. Потом поднимаю чашку – тост за сделку – и одним махом выпиваю содержимое.
18 января, 22:47
Эй Джей избегает меня. Такое ощущение, что все изменилось. Он сделал то, что собирался сделать, и теперь я ему больше не нужна. Это была просто некая миссия. Как в пословице, еще одна зарубка на столбике кровати – то есть очередная победа.
Мне жизненно необходимо отвлечься от ужасной реальности, но я боюсь его увидеть и навсегда закрепить такое положение вещей. Он меня не любит, он меня не хочет, и больше я ничего не получу. Я забываю, что закрутила интрижку с Эй Джеем, совершенно не заботясь о том, что он думает или чувствует. Я лишь хотела абстрагироваться от Лукаса, а в итоге вышло так, что подсела на Эй Джея, и мне нужно, чтобы я была ему нужна.
Усилием воли я призываю телефон зазвонить. С самого начала нашей незаконной связи я чувствую себя уязвимой и беззащитной, и поэтому постоянно проверяю мобильный. Через каждые две минуты, пока меня не свалит сон, и опять через каждые две минуты, как только проснусь.
Я наливаю еще один бокал вина и считаю оставшиеся в пачке сигареты. В двадцати ярдах от моей парадной двери есть и кулинария с готовыми деликатесами, и магазин, торгующий спиртным, но если есть хоть какой-то способ избежать выхода на улицу, я ни за что не высуну носа наружу. Шесть сигарет. Хватит ли мне этого, чтобы продержаться вечер? Возможно, нет. Тогда я позвоню в службу доставки и в один магазин, и в другой, и мне принесут все, что нужно.
Надежда постепенно умирает, а он – полный говнюк. Это я его использовала! А не он меня! Он был мне нужен всего на минуту, сбежать от Лукаса. И вообще, все это глупости и не имеет значения. Я в нем не нуждаюсь. Он даже не такой уж и красивый. У него глупая улыбка, как у чокнутого Чеширского кота. И не такой уж сексуальный тоже. Он туповат и ведет себя по-детски. И тут мой телефон издает мелодичное позвякивание.
«Привет, детка…» Кровь отливает от сердца и бросается в голову. Я изо всех сил напрягаю мозг, чтобы понять, что скрывается за этим многоточием. Если я отвечу сразу, то это, наверное, будет выглядеть жалко. Как будто я в полном отчаянии и не отхожу от телефона. Я жду, как мне кажется, несколько часов, и отвечаю. Оказывается, прошло всего три с половиной минуты.
«Привет». Нейтральный, ненапряжный ответ. Но теперь начинается это невыносимое ожидание. Я хочу, чтобы он написал что-нибудь очень хорошее, причем немедленно – так я получу доказательство, что он думает обо мне. Я хочу снова вернуть мяч на свою сторону поля. И жду. Жду, когда появятся три мигающие точки – это означает, что он печатает. Ну, давайте, точки, давайте!
Наконец-то.
«Ты идешь сегодня в «Никс»?»
Вообще-то в «Никс» я не собиралась, но теперь начинаю подумывать об этом. Но что-то меня останавливает. Словно на колени взвалили наковальню и я не могу из-под нее выбраться.
Может быть, нужно было знать только одно – что он будет ждать меня в «Никс», и я могу сидеть и выбирать – пойти мне или не пойти. Все изменилось, когда он заметил часть правды две недели назад. Сияние потускнело, и мы больше не двое детей, которые занимаются пустой болтовней и возятся в кровати. Он увидел то, чего не должен был видеть. Он увидел меня. Может быть, может быть, я действительно ему нравлюсь. Какой идиот. Похоже, мне представилась возможность доказать себе, что я больше не обязана это делать. Я посылаю Эй Джею ответ:
«Наверное, сегодня не пойду. Повеселись там без меня».
Опереди его. Брось, пока он не бросил тебя. Сделай ему больно, прежде чем он сам причинит тебе боль.
19 января, 10:19
– Мисс Сэм, мисс Сэм, идите скорее! – Ташондра барабанит мне в дверь и просит помочь.
– Что такое? – Я открываю, и она тут же хватает меня за руку и тащит за собой по коридору.
– Дженни. С ней что-то не так. Она ведет себя очень странно. Она заперлась в туалете и не выходит. И все утро плакала.
– Что с ней? Вы позвали Рэйчел?
– Нет, я побежала за вами, а Люси – за Джули.
– Хорошо.
Мы бежим по коридору и наконец добираемся до женского туалета. Только что примчались Люси и Джули. Дверь кабинки для инвалидов заперта.
– Дженни, что происходит? – спрашивает Джули.
Дженни сидит на полу. Мы видим ее зад в щель между дверью и полом. Она забилась в самый угол и рыдает так, что ее уже начинает тошнить. Нам слышно, как она кашляет и давится слезами, а когда она наклоняется вперед и ее выворачивает, Люси широко раскрывает глаза и испуганно смотрит на меня.
Джули тоже садится на пол рядом с кабинкой.
– Дженни, – тихо и ласково произносит она. – Что там с тобой такое?
Дженни снова кашляет, сплевывает и спускает воду в унитазе. Дышит она тяжело; нам видно, как поднимается и опускается ее спина. Джули просовывает в щель руку и кладет ее рядом с Дженни, ладонью вверх. Я передаю ей несколько бумажных полотенец, и она проталкивает их в щель. Дженни берет пару штук и сморкается.
Джули удается дотянуться до спины Дженни, и она нежно поглаживает ее большим пальцем. Дженни дышит уже чуть медленнее. Ташондра скорчилась в углу, подтянула колени к груди и подпирает подбородок кулаками. Люси наблюдает за Джули, то и дело поворачивается ко мне, а потом смотрится в зеркало. Я тоже наблюдаю за Джули, слежу, как она справляется с ситуацией. Наконец Дженни подает голос.
– Я больше не хочу здесь быть, – хрипло, с трудом выговаривает она.
– Так выходи оттуда, девочка. Мы все здесь, с тобой, – отвечает Ташондра из своего угла.
– Нет, я хочу сказать, здесь, в психбольнице. Я больше не хочу быть здесь. Хочу домой. – Она тяжко вздыхает, ее рука падает на кафель, и я вижу, как с ее ладони скатывается игла от шприца.
– Вот дерьмо. Джули, вызывай врачей. Быстрее. И никому не рассказывай, что происходит. Беги. И сделай все по-тихому.
Я подтягиваю штаны, опираюсь о плечо Люси, чтобы не потерять равновесие, и залезаю на раковину. Потом хватаюсь за стенку, разделяющую кабинки, подтягиваюсь и протискиваюсь в щель между ней и потолком. Мои ноги приземляются прямо на крышку унитаза, и я спрыгиваю вниз. Бицепс Дженни перетянут толстым волосяным жгутом, а на коленях у нее лежит зеленая зажигалка. Я оглядываюсь в поисках ложки, но ничего не нахожу. Однако затем замечаю плавающий в унитазе кусочек фольги.
Голова Дженни запрокинута, челюсть отвисла, а глаза превратились в две узенькие щелочки. Невозможно понять, сколько героина она себе вколола.
– Дженни! – кричу я ей прямо в лицо. – Дженни, это Сэм! Очнись. Очнись! – Я трясу ее за плечи, ее голова мотается, как у тряпичной куклы, и падает на грудь.
Перегнувшись через ее тело, я открываю дверь, а потом вытаскиваю Дженни из кабинки и укладываю на выложенный кафелем пол.
Ташондра молча таращится на это зрелище, а затем начинает плакать. В туалет вбегает Джули.
– О господи, Сэм, она умерла? Господи! – выкрикивает она еще с порога.
– Нет, она жива. Дышит, но еле-еле. Ты вызвала врачей? – Я держу Дженни за запястье и считаю пульс, а потом подношу ухо к ее губам – удостовериться, что она действительно дышит.
– Да, они уже на пути. Я ввела код «синий».
– Молодец. Спасибо, Джули. А теперь возьми Люси и Ташондру, отведи в мой кабинет и все вместе подождите меня там, ладно?
Нельзя оставлять тут Джули. Она может переволноваться и впасть в истерику.
– Хорошо, – отвечает она, но не двигается с места, не в силах отвести глаз от Дженни.
– Сейчас, Джули. Прямо сейчас. – Я бросаю ей ключи.
– О да, конечно. – Джули приходит в себя, поднимает Ташондру и Люси, берет их за руки и выводит в коридор. Я вижу, как к туалету спешат два санитара и два медбрата с каталкой и сумками с медикаментами и оборудованием. Они ввозят каталку внутрь и спрашивают меня, что тут случилось.
– Героин. Не знаю сколько и не знаю когда. Пациенты сказали, она просидела здесь все утро, но о наркотиках не упоминали.
– Как ее зовут? – спрашивает тот медбрат, что покрупнее, подсовывая под Дженни спинодержатель.
– Дженни. Ее зовут Дженни.
Он поднимает ее и со стуком перекладывает неподвижное тело на каталку.
– Что ж, начнем с этого. Дженни! Дженни! – громко произносит он в самое ухо. – Сколько героина ты себе ввела, дорогуша? – Он выталкивает каталку в коридор и увозит по направлению к отделению экстренной помощи. В коридоре уже столпились пациенты и кто-то из персонала.
Больше я ничего сделать не могу, и поэтому возвращаюсь в кабинет. Все трое, Джули, Люси и Ташондра, сидят на полу, прижавшись друг к другу, и плачут.
– Эй, все нормально. Тише, тише, успокойтесь. Не волнуйтесь за нее. Она уже в отделении экстренной помощи. Вы все очень, очень помогли. Люси и Ташондра, а вы поступили очень правильно, позвав меня и Джули. Скорее всего, вы спасли ей жизнь. – Я отираю пот со лба и жадно глотаю воду из бутылки.
– Где она достала наркотики? – спрашивает Джули.
– Не знаю, – отвечаю я, не глядя на нее. Вместо этого я смотрю на Ташондру и Люси. Обе как по команде опускают голову. – Леди, где Дженни достала наркотики? Это очень важно. Если вы все расскажете, у вас не будет никаких неприятностей, обещаю. Она вам говорила? Вы ведь знаете?
Люси поднимает взгляд.
– Дженни сказала, что ее сестра принесла ей лекарство, которое очень ей нужно, – робко произносит она. – Мы подумали, что она говорит про наркотики, но напрямую Дженни не сказала. И не сказала какие.
Сестра, которая сидит на героине. Не без помощи которой на него подсела и Дженни. Как, мать ее, она сюда попала? Отдышавшись, я открываю на компьютере чистый бланк для отчета и начинаю его заполнять. Джули уводит Ташондру и Люси в комнату для групповых сеансов, чтобы побеседовать, а я говорю, что приду к ним, как только закончу. Мне нужна информация из истории болезни Дженни, и я тянусь за ее файлом. Открываю папку, и первое, что я вижу, – это список всех, кто ее посещал за время пребывания в больнице, и вчерашний список разрешенных и запрещенных визитеров. И большой красный чуть расплывчатый штамп «одобрено» напротив фамилии сестры Дженни, Джеки.
20 января, 11:14
Солнце, бьющее в окна, сегодня особенно яростное, и я опускаю жалюзи, потому что экран монитора бликует, и на нем ничего невозможно разглядеть. Но даже так в кабинете необычайно светло. Не просто светло – ослепляюще светло. Я ищу солнечные очки, чтобы можно было хоть как-то работать. Стопка историй болезни на кресле для пациентов кажется все выше каждый раз, когда я на нее смотрю. Не важно, сколько документов я заполняю и перекладываю в другую стопку, с готовой работой, гора на кресле все растет и растет. Я пью простой «Маунтин Дью», без всяких добавок, и он обжигает, как кислота.
Звонит интерком, и я вижу мигающий зеленый огонек напротив линии, соединяющей с охраной. Пространство наполняет голос Рауля:
– Сэм, к тебе пришел какой-то Лукас. Я направил его в твой кабинет. У него был пропуск для посетителей.
Пропуск для посетителей? Где Лукас раздобыл этот гребаный пропуск? Он никогда раньше не приходил ко мне на работу. Я не успеваю снять трубку и сказать Раулю, чтобы он догнал этого говнюка, выставил его из больницы и отнял фальшивый пропуск, – почти мгновенно раздается деликатный стук в дверь. Я поправляю темные очки – свет все еще невыносимо яркий, встаю и открываю ее.
Лукас стоит в коридоре. Там темнее, чем обычно, – должно быть, перегорела лампочка. В руках у него полуувядший букет. Красные розы, завернутые в зеленый целлофан и перевязанные тоненькой белой ленточкой. От букета несет мочой и мусорным баком. Прежде чем я успеваю сказать ему, чтобы он убирался, Лукас вталкивает меня обратно в кабинет, я теряю равновесие и падаю в кресло для пациентов. На меня обрушивается гора файлов, и я никак не могу нащупать пол под ногами, чтобы подняться на ноги.
Мои очки съехали набок, и я вижу только темный силуэт Лукаса на фоне жгущего глаза белого света. Он бросается на меня. Я пытаюсь прикрыть лицо и грудь, но почему-то в моих руках полно роз, и острые шипы впиваются мне в пальцы.
Я отбиваюсь от него ногами, но каждый раз, когда попадаю в цель, моя ступня погружается в его торс, как будто это не человеческая плоть, а мягкая податливая масса, наподобие зефира. Я никак не могу избавиться от роз, и по рукам струится липкая кровь. Лукас рывком открывает ящик стола, сбив банку «Маунтин Дью», и выхватывает оттуда ножницы. Опрокинутая банка лежит на самом краю стола, и из нее выливается жидкость, неимоверное количество жидкости. Она покрывает пол и поднимается выше.
Мои руки и ладони утыканы шипами, и я не могу сжать кулаки. Волосы обмотались вокруг колесиков кресла, я в ловушке, а «Маунтин Дью» уже доходит мне до ушей. Лукас нависает надо мной, держа ножницы над головой; он не издает ни звука. Острые лезвия поблескивают на солнце. «Маунтин Дью» заливается мне в рот, я задыхаюсь, захлебываюсь, и тут все кончается.
Оглушительно громко звонит телефон. Я отрываю голову от ковра и вытираю со щеки струйку слюны. В последнее время мне часто снится этот сон. Иногда я просыпаюсь вся в поту, иногда в слезах, но всегда с тяжелой одышкой, изможденная и без сил. Я кое-как встаю на колени и дотягиваюсь до трубки.
Это Рэйчел. Спрашивает меня, что случилось в туалете с Дженни. До сегодняшнего дня нам так и не представилась возможность поговорить. Я подробно докладываю об инциденте и так же подробно излагаю все наши действия. И даже хвалю Джули. Затем обещаю Рэйчел перезвонить, как только у меня будут какие-то новости из детокса, но она прерывает меня.
– Пока мы не попрощались, – она тоже дышит как-то тяжело, почти как я, – хочу сказать тебе спасибо за резюме и отчет по заключениям ДПЗ. Мне была очень нужна твоя помощь, и, Сэм, поверь, я все оценила. У нас по-прежнему невообразимый хаос, но, когда ты рядом, мне немного легче с ним справляться.
– Ну конечно, Рэйчел! Мы все в одной лодке и занимаемся одним делом. – Я придерживаю трубку плечом и почесываю отпечаток от молнии – я спала, положив голову на пальто.
– Скажи, а что ты сделала с самими заключениями? Я их у себя не нашла. – Мое сердце замирает и перестает биться.
Она должна была рано или поздно задать мне этот вопрос, и теперь мне нужно объясниться. Если я сумею выкрутиться, то можно считать, что кошмар наконец закончился.
– Ах да. Я собиралась принести к вам в кабинет все вместе, и резюме, и заключения, и итоговый отчет, как вы и велели. Но вас не было, кабинет был закрыт, так что я подсунула под дверь то, что пролезло, но папки пришлось отнести вниз. Я разложила их по личным делам персонала. Теперь они там и лежат, в архиве. Надеюсь, я все сделала правильно? – Я задерживаю дыхание и сжимаю зубы, ожидая, что она ответит.
Рэйчел дышит в трубку и шелестит бумагами. Мои веки крепко сжаты, так, что в уголках глаз выступают крошечные слезинки. Плечи напрягаются… и тут я слышу тихий «клик». Кто-то прорывается на линию.
– М-м-м… да, все нормально. Мне звонят по другой линии, так что я тебя отпускаю. Еще раз спасибо, Сэм.
Рэйчел переключается на другую линию, и я наконец позволяю себе сделать глубокий вдох. И выдох. Мышцы расслабляются, я кладу трубку и открываю стол. Мое заключение из ДПЗ, составленное Трэвисом и доктором Брукс, лежит в ящике и как будто таращится на меня. Я осторожно достаю его и прячу в сумку. Здесь оно будет в безопасности.
20 января, 14:23
У нас с Дэвидом поздний ланч. И я все еще, фигурально выражаясь, зализываю раны после нашего разговора пару недель назад. Вернее, разборки, когда он назвал меня злой. Так что внешне все выглядит так, будто между нами мир и согласие, но я пока держусь от него на расстоянии вытянутой руки. Я не сказала Дэвиду ни слова ни о заключениях ДПЗ, ни о том, как фактически разрешила Джеки посетить свою сестру Дженни и принести ей героин, ни о незапертой кладовке. Как обычно, я беру половину его сэндвича, откусываю, и тут Дэвид задает мне вопрос, на который мне совсем не хочется отвечать.
– Поговорим о том, что происходит между вами с Лукасом? – Он говорит с набитым ртом, как будто спрашивает о чем-то малозначительном. Так, пустяки, обычный треп ни о чем.
– А что такое между мной и Лукасом? – Я собираюсь выдать ему самый минимум информации, формальный ответ на вопрос, не больше.
– Я уже довольно давно ничего о нем от тебя не слышал, – продолжает Дэвид, держа ладонь у подбородка, чтобы крошки не попали на стол.
– Ну, я уже довольно давно его не видела. В последнее время мы много ссорились, и у меня кончились силы. Не хотелось разбираться с этим дерьмом, я устала от его поведения и все такое. Так что я решила немного отдохнуть от Лукаса, – отвечаю я, тоже с набитым ртом.
– И как он к этому отнесся?
– Честно? Я даже не уверена, что он вообще это заметил. Спорю на что угодно, вокруг него полно других женщин, всегда есть кому согреть его эго и его постель. Прошло уже… сколько?.. недели три, наверное. Он послал мне пару-тройку сообщений. Спрашивал, намеренно ли я его избегаю. Он знает, что я на него злюсь. Он поцеловал какую-то девку на той пафосной новогодней вечеринке, а до этого опять нюхал кокаин, и мне надоело его вечное вранье. В общем, я свалила. Пока. Думаю, он считает, что мне просто нужно время. – Я длинно, со странным всхлипом вздыхаю и делаю большой глоток кока-колы.
– Но разве ты сама не поцеловала официанта? – Дэвид поднимает бровь, кусает сэндвич и вытирает салфеткой рот. Его кабинет немного просторнее моего, но, когда Дэвид напускает на себя высокоморальный вид, мне кажется, что или он раздувается, или стены начинают сужаться.
– Да, но я поцеловала официанта только в отместку Лукасу, за то, что он присосался к какой-то совершенно незнакомой посторонней женщине. Я не специально вышла на балкон, чтобы целоваться с официантом. Просто он оказался там единственным человеком, когда часы пробили полночь. Я бы и рыбу поцеловала, если бы она была мужского пола, а рядом больше никого не было.
– Ты собираешься с ним порвать?
– Уфф… я не хочу этого делать. Не хочу разговаривать про это дерьмо. Я знаю, что ты его недолюбливаешь и что тебе, типа, известно, что между нами происходит, но честно, у меня сейчас нет сил это обсуждать, и мне бы очень хотелось, чтобы ты оставил меня в покое и больше не говорил про Лукаса.
Да, я ною, потому что не хочу принимать никаких решений насчет Лукаса. И уж тем более чтобы меня заставляли их принимать.
– Я давно не видел следов жестокого обращения, – медленно произносит Дэвид. Со смыслом, естественно.
– «Следов жестокого обращения»? Почему ты называешь это так? Я не пациент. И тебе не нужно меня лечить. Ты давно не видел крови в волосах или синяков. Я поняла. О’кей. Это потому, знаешь, что я давно не была у Лукаса, а он давно не был у меня. Поэтому… Господи. Чего ты от меня хочешь? Я не желаю об этом разговаривать, сказала же. – Я запихиваю в рот остатки сэндвича и надеюсь, что Дэвид воспримет этот как знак – ему пора заткнуться.
– Я думаю, без него тебе лучше. – Он быстро поднимает руки. – Все-все, я молчу, – и тоже быстро доедает сэндвич и сцепляет пальцы.
Я смотрю в окно, на строительные леса. Он все же заставил меня думать о Лукасе и о том, что же я действительно собираюсь делать. Я так привыкла любить или ненавидеть его, что теперь он мне нужен – затем, чтобы хоть чем-то занимать мозг. Любовь и ненависть – это одна и та же гребаная хрень, позитивная и негативная стороны одного и того же чувства, тех же действий, эмоций. А я жажду – другого слова не подобрать – отчаянно жажду безразличия.
Когда он зовет меня, мне есть за что держаться. Есть на что злиться, есть причина вести себя как стерва. Но если это прекратится, где я окажусь? С чем останусь? Заменить это дерьмо нечем, а мне необходима ежедневная доза дерьма, чтобы жить. Я на него подсела, поэтому мне нужно все больше и больше. Я повторяю себе, что больше не хочу, что мне больше этого не нужно, что без этого мне в тысячу раз лучше, но очень скоро мой мозг начинает вопить: еще, еще, еще…
20 января, 15.15
Сейчас у меня групповой сеанс, я сижу, погрузившись в свои мысли, и жду, когда все подтянутся. Теперь я начинаю наконец понимать, что мое время с Лукасом подошло к концу. Истек срок годности нашей связи, потому что я так захотела. Порвав с Эй Джеем, я разбудила в себе некую часть мозга, которая отвечает за здравомыслие. И я знаю, что скоро должна официально разорвать отношения с Лукасом, иначе снова струшу, растеряю всю решительность и вернусь к нему. Целыми днями я думаю о том, как мне будет хорошо без него, и он не сможет больше меня избивать и унижать, и мне все равно никогда не удастся его спасти… а потом моя голова взрывается.
Пациенты уже собрались. Мы рассаживаемся кружком, постепенно все разговоры затихают, и все смотрят на меня. Ждут, когда я объявлю тему сегодняшней беседы.
– Всем привет. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что для некоторых может оказаться немного болезненным. Как вы знаете, это самое безопасное место для того, чтобы обсудить все, что накопилось на душе, все мысли, которые, может быть, терзают вас и не дают покоя. Все вы находитесь здесь для того, чтобы поправиться, отдохнуть, набраться сил и встать на ноги. Иногда очень важно повернуться лицом к своим страхам, и сегодня именно этим мы и займемся.
– Мы будем говорить о мужьях? – спрашивает Нэнси.
– Возможно. Вообще я хотела, чтобы мы побеседовали о жестоком обращении близких. О насилии.
– Ха! – Анна откидывается назад и складывает руки на груди. – Значит, о мужьях.
Мне странно, что она употребляет слово «мужья», потому что она лесбиянка и жестокое обращение ей приходилось терпеть как раз от жены.
В ответ женщины приглушенно хихикают. Я обвожу свою группу взглядом и вижу, как некоторые неосознанно начинают трогать свои шрамы, втягивают головы в плечи и опускают глаза. Сама я тоже почему-то щурюсь, приглаживаю волосы, и мой левый глаз чуть подергивается.
– Вы хотите сказать, что у каждой женщины, что сидит сейчас в этой комнате, был муж, который плохо с ней обращался? – Ташондра.
– Ну, не обязательно муж, но да, каждая женщина в этой комнате в свое время стала жертвой домашнего насилия. – Надеюсь, они не спросят, отношусь ли ко всем и я тоже.
– А мы должны поделиться своими историями? – Нэнси.
– Если захотите. Как я сказала, здесь для этого самое лучшее место, и иногда рассказ о прошлом очень помогает. Может быть, ты хотела бы начать?
– Хорошо, я могу. Привет, меня зовут Нэнси, и я стала жертвой домашнего насилия. Я была замужем, и мой муж, Гленн, избивал меня, когда злился. Вот моя история.
– Привет, я Анна. У меня была жена, и она тоже меня избивала.
– Отлично, леди. Спасибо за начало. Как вы думаете, возможно, кто-то из вас мог бы рассказать немного больше о своем опыте? Я считаю, что это правда может здорово помочь от него избавиться.
– Давай ты, – говорит Анна и кивает в сторону Нэнси.
– О’кей. М-м-м… ну… я была замужем четыре года. У меня есть взрослая дочь от прошлых отношений, и иногда она жила вместе со мной и Гленном, когда у нее случались перебои с работой. И мне нравилось, когда она оставалась в доме, потому что Гленн никогда не бил меня при посторонних. Странно, но даже сейчас, когда я о нем вспоминаю, то не злюсь на него. Скорее чувствую себя виноватой. И еще мне иногда грустно, а иногда страшно. Я все время копаюсь в голове и думаю, что бы я могла сделать по-другому. Чтобы он не злился.
– Да, и я тоже! Я тоже постоянно об этом думаю. – Люси. – Типа, если бы я только вовремя вспомнила, что он ненавидит мою розовую юбку, я бы ее не надела и не нарвалась бы на большие неприятности.
– Да, – продолжает Нэнси. – Всегда есть что-то, что их бесит. Из-за чего ты нарываешься на неприятности.
– О чем бы я еще хотела вас спросить – это о расставании. Как вам удалось вырваться из своего положения? – Я втайне надеюсь, что эти истории смогут как-то помочь и мне. И еще невольно удивляюсь – вообще есть ли у нас всех мозги.
– Ну, в моем случае все просто. Гленна арестовали. И когда его посадили в тюрьму, все и прекратилось. Само собой. Ко мне пришел сотрудник из социальной службы, помог мне найти адвоката, и мы подали на развод, пока он сидел за решеткой. Он и сейчас там сидит.
– Как ты набралась смелости подать на него заявление? – Ташондра.
– А я и не подавала. Его взяли за грабеж. Я даже и не заикалась копам или адвокатам, что он меня бил. Слишком боялась.
– Боялась, – повторяю я и стараюсь прогнать воспоминание: я забиваюсь в угол между унитазом и стеной и прикрываю голову. – Очень часто жертвы домашнего насилия слишком напуганы, чтобы заявить об этом в полицию. Как вы считаете, почему это происходит? Разве мы не должны попросить о помощи? Что же нас останавливает? – Разве я должна употреблять местоимение «мы»?
– Да потому… что, если у тебя не будет доказательств? Достаточно доказательств? Мужчины всегда врут, всегда говорят, что они и пальцем тебя не трогали, что ты упала, была пьяна, поэтому и синяки и ссадины. Что, если копы поверят ему, а не тебе? – Люси.
– А еще они всегда обещают, что убьют тебя, если ты кому-нибудь расскажешь. Гленн сказал, что закопает меня и никто никогда об этом не узнает.
– Когда моя жена меня била… вернее, когда заканчивала, она говорила, что любит меня, просила прощения. Иногда плакала и уверяла, что не стремилась сделать мне больно. И я ее жалела. Не хотела, чтобы у нее были из-за меня проблемы. – Анна поглаживает длинные шрамы на руках. Я вспоминаю, как Лукас бросал мне пакет со льдом.
– Так. И если он делает это, любя меня, что же он сделает, когда меня возненавидит? – Я практически вижу, как эти слова вылетают у меня изо рта, словно облачка с репликами персонажей комиксов. И мне бы очень хотелось втянуть их обратно, чтобы никто ничего не услышал.
– Верно, мисс Сэм. И лучший способ сделать так, чтобы они тебя возненавидели, – это обратиться к копам. – Нэнси отвлекает внимание группы. Кажется, никто не заметил, что я выдала себя.
– Я боялась того, что мне некуда будет пойти. – Дайана. – Дом был его. Машина – его. И что случилось бы, стукни я на него копам? Я снова оказалась бы бездомной. И деньги тоже были его. Да все.
– Значит, вы считали, что должны терпеть это, чтобы не остаться без жилья? – спрашиваю я.
– Да. И без друзей. – Это Сью. – В моем случае друзья тоже были его. Когда я думала о том, чтобы уйти от него, поняла, что все наши друзья – на самом деле его друзья. Я знала, что останусь совсем одна. Мы очень долго были женаты, а до этого я жила как будто в изоляции, ни с кем не общалась, и получилось так, что всех людей, с которыми была знакома, я узнала через него. Так что, если бы я ушла от него или написала заявление копам, у меня не осталось бы ни дома, ни машины, ни денег, ни друзей. И что хуже?
Сью убежала от мужа с помощью других женщин, переживших насилие, и они прятали ее в местах, о которых никто не знал. Им приходилось перемещаться только ночью, менять внешность и имена. Перед тем как Сью – тогда еще ее звали Ребекка – сбежала, муж избил ее почти до смерти. Он сломал ей обе глазницы, а треснувшее ребро прокололо ей легкое.
– Интересно, что ты использовала слово «изоляция». Многие из тех, кто избивает своих близких, стараются изолировать своих жертв от других людей. Разрушают их связи с семьей, с друзьями, иногда даже заставляют бросить работу, переехать. Так жертву легче контролировать. – Я опять вспоминаю Лукаса, его просьбы жить вместе у него, оставить свою квартиру, свою независимость, попытки заставить полагаться только на него.
– А мне всегда казалось, что это стыдно. – Это Хлоя. – Как будто… не знаю, как будто я по идее должна была бы с этим как-то справиться. Иметь силы остановить его. Я думала, что, если кому-нибудь обо всем расскажу, меня будут жалеть или осуждать. И боялась, что меня сочтут слабой.
Хлоя получила образование в одном из университетов «Лиги плюща» и сделала блестящую карьеру в финансовом мире. Она работала в крупном банке на Манхэттене, когда женщины еще были редкостью в банковском деле. Муж, с которым они прожили около двадцати лет, периодически подсыпал ей какие-то наркотики и насиловал. Она просыпалась в чужой одежде, в отелях, где не регистрировалась – по крайней мере, она этого не помнила, в незнакомых районах. И только когда ей пришло в голову оборудовать сумочку встроенной видеокамерой, она узнала, что с ней происходит на самом деле.
Женщины продолжают делиться друг с другом историями, как им удалось выжить, а я мысленно уношусь к своей собственной истории.
Когда они сравнивают орудия избиения – ремни, кулаки, бутылки, – я думаю о том, как Лукас зажимал меня в углу ванной.
Когда Сью говорит, что ее муж умел бить так, чтобы не оставалось следов, я задаю себе вопрос: а не практиковался ли Лукас на других женщинах?
Когда Нэнси говорит о том, что для Гленна поводом для избиений был гнев, когда Люси сообщает, что Джулиус всегда заводился от ревности, а Анна – что она никогда не знала, чем в очередной раз вызовет злобу, я вспоминаю Лукаса и спиртное. Смогла бы я остановить это, если бы он был трезвым?
И к тому моменту, как мы все узнаем, как той или другой «счастливице» удалось сбежать, меня поражает мысль: почему же я до сих пор не сбежала?
24 января, 10:44
– Значит, сегодня первый день нашей сделки. – Ричард переступает порог кабинета. Чувствуется, что он воодушевлен и в то же время немного опасается.
– Значит, вы это так называете? Я бы назвала это скорее шантажом.
– Вы так и будете постоянно злиться? Я же сказал, это пойдет на пользу и вам и мне.
– Я не буду злиться, Ричард. Давайте приступим – мне нужно заполнить историю болезни. Начинайте говорить.
Он зависает над креслом, как будто мои слова застали его врасплох, и думает, как ответить.
– Я не знаю, что говорить. Разве вы не сами задаете вопросы? – Видимо, он продумал все только до того момента, как зажмет меня в кулаке. Что делать дальше, он пока не понимает.
– У вас нет никаких мыслей, никаких идей, как сделать первый шаг? – Мне страшно расспрашивать его о подробностях убийства. – Ну что ж, почему бы вам тогда просто не продолжить ту историю, что вы начали рассказывать несколько недель назад. О вашей матери. – Сказав это, я быстро отворачиваюсь.
– Какую историю о матери? – Ричард наконец садится и, как обычно, устраивается: кладет газеты на край стола, на них – кепку, а потом достает из кармана две маленькие бутылочки текилы. Он отвинчивает крышки и передает одну мне. Мы чокаемся, и он повторяет:
– Какую историю? Что я вам рассказал?
Мы выпиваем текилу до дна.
– Ричард. Вы сказали, что вас посадили в тюрьму, потому что вы убили свою мать, – почти заикаясь, лепечу я и протягиваю ему пустую бутылку, чтобы он спрятал ее в карман. Он так и поступает, а затем достает вторую текилу, вкладывает мне в руку и зажимает кулак.
– Для этого вам понадобится больше чем одна порция. Да и мне тоже.
Мы снова повторяем ритуал, и Ричард наконец приступает.
– Моя мать была особенной женщиной. На самом деле особенной. Она была матерью-одиночкой, и мужчины, который помогал бы ей с хозяйством, у нее не было. У меня нет ни братьев, ни сестер, так что я рос только с ней. Мы жили вдвоем – я и она. В Вудсайде. Там селятся в основном ирландцы. И хотя район был небезопасный, она, кажется, никогда ничего не боялась, потому что была ирландкой. Отец умер, когда я был еще грудным ребенком, и это стало для нее ударом. Очень тяжелым ударом.
Ричард смотрит в окно. Он вытянул ноги перед собой, а руки сложил на животе. Атмосфера в кабинете очень странная. Текила немного притупила мои чувства, но все же я стараюсь держаться настороже. Мне правда страшно. И я не могу поверить, что ему удалось заставить меня согласиться на эту «сделку».
– Я никому не рассказываю эту историю, Сэм. – Он переводит взгляд на меня.
– А я не пью в кабинете с пациентами, Ричард. Вы ведь сами этого хотели. Вы сказали, что желаете, чтобы с вами обращались как с равным, а не как с пациентом.
– Справедливо. Хорошо. Просто я… я не знаю, как все это… выложить.
– Я хочу услышать все, что вы считаете нужным мне рассказать. – Стандартный ответ психолога.
– Ох, прямо вот «все». Уж мне эти женщины. – Он глубоко вздыхает и продолжает: – Очень сложно объяснить, как это было. Я жил со своей матерью, Фрэнсис, в доме на три семьи на Шестьдесят четвертой улице. Вы знаете Вудсайд? – Я киваю, хотя единственная вещь, которая мне известна о Вудсайде, – это то, что он находится в Куинсе. Больше я ни о чем понятия не имею.
– Жилье было так себе, но нам казалось, что этого вполне достаточно. Рядом проходил наземный участок седьмой линии метро, и я днем и ночью слышал, как мимо проезжают поезда. Стены дрожали, вещи падали с полок. Я все время подметал, потому что что-то обязательно падало и разбивалось. – Ричард смотрит на строительные леса на доме через улицу, как это часто делаю я. Он задумчиво потирает большие пальцы, чуть меняет позу и снова продолжает: – Мой отец умер, когда я был маленьким, и я его не помню. Я слышал разные истории от Фрэнсис, но не знаю, что из этого правда, а что нет. Кроме меня, никакой семьи у нее не было, потому что ее брат и сестры уехали из Куинса, когда там стало опасно.
Она говорила, что они перебрались в Огайо, где можно без страха растить детей, но она с ними не поехала, потому что хотела быть с отцом, а у него в Куинсе была хорошая работа. Когда он умер, она могла присоединиться к ним, но тогда уже – как она мне говорила – ее семья этого не захотела. Они не хотели, чтобы мы жили в Огайо, потому что я был «незаконным ребенком», и это могло плохо на них повлиять, не знаю уж почему. И мы остались в Вудсайде.
– Когда умер ваш отец? – спрашиваю я, отпивая кофе.
– Я был совсем крохой, так что году в шестьдесят втором или шестьдесят третьем, наверное. Точно не знаю.
– Вы пытались выяснить, что именно произошло? – Я машинально беру ручку и открываю блокнот, чтобы записать все, что он скажет, но потом вспоминаю об уговоре. Предполагается, что я не буду обращаться с ним как с пациентом. И я сую ручку обратно в керамическую кружку.
– Вроде как он погиб, когда на работе произошел несчастный случай. Подробностей не знаю. Фрэнсис говорила, что отец и она не были официально женаты и из-за этого компания, на которую он работал, не помогла ей деньгами. Не предоставила никакой компенсации. Она всегда жутко бесилась, когда вспоминала об этом. Всю жизнь не забывала. Говорила, что родила сына, потому что мой отец хотел сына, а теперь его некому воспитывать. Она ненавидела эту компанию лютой ненавистью.
– А чем занимался ваш отец?
– Строительством. Думаю, он был кровельщиком. В пятидесятых у ирландских парней без образования было не так уж много возможностей заработать на жизнь. Либо иди в паб, либо на стройку. Наверное, он упал с крыши и разбился или что-то в этом роде, но подробностей я никогда не выяснял, нет. И вот после его смерти остались только я и Фрэнсис.
– Думаю, вам обоим пришлось очень тяжко.
– Вы собираетесь все это записывать? Не хочу, чтобы эту историю записывали. – Блокнот по-прежнему лежит у меня на столе, и он открыт, но никаких заметок я не делала.
– Я слушаю вас не как психолог, помните? И вы будете слушать меня не как мой пациент. Просто один человек разговаривает с другим. Точно так, как вы сказали.
– Значит, вы не будете спрашивать меня, что я чувствую? – Он делает пальцами «кавычки».
– Постараюсь.
Ричард обводит меня скептическим взглядом и закидывает руки за голову. Его локти торчат в стороны, как крылья, и кажется, что в моем маленьком кабинете он занимает все свободное пространство.
– Она работала учительницей, и я ходил в частную школу до забастовки учителей в шестьдесят восьмом. Она ходила на все митинги и даже размахивала плакатом, а как же. И злилась на тех женщин, кто не ходил. Но на самом деле она не хотела бороться за права учителей или что-то там отстаивать. Ей просто хотелось как-то выливать свой гнев. И когда забастовка кончилась, она отказалась вернуться в школу Святой Терезы. Сказала, что там к ней не проявляли должного уважения и она не хочет больше видеть эти рожи. И мне тоже пришлось оттуда уйти. После второго класса. И я пошел в обычную государственную школу.
И тут возникла проблема. День рождения у меня летом, и они никак не могли решить, буду ли я самым младшим учеником в четвертом классе или самым старшим в третьем. Я уже очень хорошо читал, плохим поведением не отличался, а школы тогда были переполнены, и везде царила абсолютная неразбериха, так что третий класс я пропустил. Помню, Фрэнсис хвасталась всем соседям, что я здесь самый умный ребенок.
В новой школе дела у меня пошли неплохо, но скоро мне пришлось опять перейти в другую, потому что в нашей школе, номер 78, дети учились только до шестого класса. И я должен был получать только хорошие оценки, потому что Фрэнсис хотела показать всем, какой я умный.
А сама она чувствовала себя в то время не очень-то. Настоящей работы у нее не было; она была уборщицей, убиралась у кого-то дома несколько раз в неделю. И это страшно ее злило – то, что приходится наскребать на хлеб, прибирая за другими. И когда я приходил из школы, она заставляла меня убирать наш дом.
Обычно она сидела на желтом пластмассовом стуле, что стоял у нас на кухне, повязав голову шарфом, и курила. И стряхивала пепел на пол и велела мне все тут убрать. А потом проезжал поезд, что-то падало и разбивалось. Она специально ставила на эту полку на кухне всякие маленькие сувенирчики и вазочки, все самое хрупкое, потому что знала, что они рано или поздно разобьются.
Я помню один случай…
Рядом с ее желтым стулом на табурете лежала фляжка с вермутом. Проехал поезд, фляжка свалилась на пол, и все разлилось. Она пила весь день, и единственное, что осталось в доме из бухла, была эта самая фляжка с вермутом. В тот день она в первый раз меня ударила. Мне было девять лет.
– Вы помните, как именно это случилось? – перебиваю я.
– Конечно, помню. Не помнить такое невозможно. Как бы я ни старался это забыть, я помню все. Абсолютно все. Как пахло на кухне. Цвет плитки. Маленькие пятнышки на растворе между плитками. Помню, что еще подумал – а линолеум может разбиться? У нее был развязан один шнурок, и я испугался, что если она заметит, то опять меня ударит, поэтому потихоньку завязал его, пока возился у нее под ногами, собирая пепел.
Когда упала фляжка, она закричала, чтобы я скорее ее поднял. Я бросил щетку, подбежал и наклонился, чтобы поднять фляжку, и тут она ударила меня в бок. Крикнула, что все выливается. Что я все делаю слишком медленно. Я протянул ей фляжку, но она выбила ее у меня из рук. А потом стала бить меня по голове, сбоку, раз за разом все сильнее, и орала, что я разлил ее лекарство. Я не помню, больно она била или нет, но помню, как зазвенело у меня в ухе, когда она его задела. Я молчал, потому что знал – она пьяная, и, если я скажу хоть слово, будет только хуже. Потом она оттолкнула меня и приказала начать уборку сначала.
Этот тоненький звон, который стоит в ушах, когда тебя бьют по голове, сбоку… Я слышу его сейчас, он становится все громче, и я зажмуриваюсь, чтобы отогнать боль. Как мне знаком этот звук. Я точно знаю, что чувствовал в тот момент Ричард, и слишком отчетливо представляю себя на его месте.
– Резиновых перчаток для уборки у нас не было, и руки у меня покраснели и чесались – от чистящего средства, оно было очень едкое, и оттого, что я тер пол как ненормальный. Фрэнсис засыпала, потом просыпалась и заставляла меня опять и опять начинать все сначала. Я занимался этим всю ночь напролет, пока не настало время идти в школу. Я был весь в пятнах от отбеливателя, а штаны у меня порвались на коленках. – Ричард затихает и снова смотрит в окно, на рабочих на лесах. После некоторой паузы он наклоняется вперед и смотрит на часы на моем столе. – Если я продолжу, то вам совсем не останется времени.
– Ничего. Этот сеанс можно целиком посвятить вашей истории. – У меня такое ощущение, что вместе со своей историей он рассказывает и мою.
– Условия были не такие. – Ричард выпрямляет спину, прячет ноги под кресло и скрещивает руки. – А что вы мне собираетесь рассказать?
Я пожимаю плечами, распахиваю глаза и вскидываю руки.
– А что бы вы хотели знать?
– Я хочу знать, зачем вы прятали в ящике эти бутылочки.
– Ну… – выпаливаю я и замолкаю, но набираюсь храбрости и заговариваю снова: – В то время они были мне очень нужны. Все как-то разладилось, причем все разом, и спиртное было единственным средством, которое помогало мне держаться. Вы сами назвали правильное слово. Я алкоголик.
– И это все?
– Нет, не все, но наш сеанс подошел к концу, и, если уж нам предстоит нарушить все правила и стереть все границы, вам придется дать мне время, чтобы к этому привыкнуть.
– Вы расскажете мне, что с вами действительно произошло? – искренне спрашивает он.
– Может быть, в следующий раз. – Я аккуратно складываю бумаги и прибираю на столе. – Я ведь, знаете ли, тоже ни с кем не делюсь своими историями, как и вы. И не каждый день мой собственный пациент шантажирует меня моим собственным бухлом, а потом поит меня им же и расспрашивает о кровавых подробностях моей жизни. Так что, – я громко фыркаю, – вы уж простите, что я не бросаюсь в это с головой, как утка в воду.
– Мне нет необходимости вас спаивать. На самом деле таким образом я даже истощаю свой запас – то, чем я вас шантажирую. Просто я подумал, что вам наверняка понадобится принять что-нибудь для храбрости, прежде чем вы откроете себя другому.
Я бросаю блокнот в ящик. Ричард берет газеты, надевает кепку и выходит. И только когда дверь за ним закрывается, я вспоминаю, что он не рассказал мне ничего о том, как и почему убил свою мать.
31 января, 11:02
Ричард заходит в кабинет и устраивает обычный ритуал. Газеты и кепка укладываются на углу стола. Из кармана достаются четыре бутылочки «Грей Гуз».
– Фрэнсис начала работать на стадионе «Шей стэдиум» в семидесятом году. После того как «Метс» выиграли Мировую серию в шестьдесят девятом, она решила, что на «Шей» можно неплохо заработать, ведь команда стала такой популярной. Кем тогда могла работать женщина? Либо быть официанткой, либо чистить туалеты. Ну, она и стала официанткой. Разносила пиво и хот-доги и все такое зрителям на трибуне. Иногда пьяные фанаты давали ей большие чаевые. А иногда ничего не давали.
– А вы ходили с ней на игры? – спрашиваю я.
– Нет, я никогда не был на «Шей стэдиум». И видимо, никогда не пойду. Вы не фанат «Метс», Сэм?
– Нет уж. Я фанатка «Янкиз». – Я достаю из-за компьютера флажок «Янкиз» и помахиваю им перед носом Ричарда.
– Да, Фрэнсис тоже не была фанаткой «Метс». Она работала там только ради денег, бейсбол ей был безразличен.
– Сколько вам было лет, когда она туда устроилась?
– Ну, раз это был семидесятый, то лет восемь или девять. Я тогда уже учился в школе номер 78. Помню это потому, что все ребята были без ума от «Метс» и всех поражало, что моя мама работает на «Шей стэдиум». Они всегда просили меня принести им оттуда какого-нибудь дерьма, типа сувениров – считали, что я хожу на игры бесплатно. Это я им так сказал. Не хотел, чтобы кто-то знал, что я никогда не был на бейсбольном матче.
– Вы никогда не ходили на бейсбол?
– В детстве я не мог. А потом попал в тюрьму, так что… нет. Не пришлось.
– Конечно, это все объясняет, но знаете, вам на самом деле необходимо побывать на игре. Это самая лучшая вещь на свете. Это свобода, это Америка, это… нормально! Вы обязаны пойти, правда. – Я кручу флажок между пальцами.
– Я застрял в психбольнице, а вы говорите мне о свободе и нормальности?
– Да. Иногда это единственное место, куда я могу отправиться, чтобы почувствовать себя по-настоящему живой.
Я представляю себе стадион «Янки стэдиум» и пытаюсь вспомнить, почувствовать его запах. Слышу голос комментатора Боба Шеппарда и крики толпы. Смотрю, как загорается табло… но Ричард внезапно возвращает меня в реальность.
– Когда я отсюда выйду, постараюсь попасть на игру.
– Постарайтесь. Вам нужно. Но извините. Продолжайте, пожалуйста. – Я снова в кабинете, и звуки матча постепенно затихают.
Ричард открывает рот, и тут в спинку моего кресла ударяется дверь. Я быстро оборачиваюсь и вскакиваю на ноги.
– Шон! – Поверить не могу, что я оставила эту гребаную дверь открытой!
– Здрасте, док. У нас ведь сейчас сеанс?
– Шон, ты меня напугал. – Я хватаю его за плечи и, споткнувшись о кресло, быстро вываливаюсь вместе с ним в коридор. На столе, на самом виду, стоят четыре бутылочки «Грей Гуз». Я со злостью хлопаю дверью. – Сейчас у меня сеанс с другим пациентом, Шон. И я не разрешаю тебе врываться ко мне в кабинет без предупреждения. Понятно? Сначала ты должен постучать, а потом уже входить. – Наверное, вид у меня дикий, потому что я жутко боюсь, что Шон застукал меня на месте преступления. То есть за распитием спиртных напитков на рабочем месте.
– Простите, док. Я думал, у нас сейчас сеанс.
Он их видел? Он видел бутылки или нет?
– Нет, не сейчас. Наши с тобой сеансы начинаются в два часа, о’кей? А сейчас еще даже двенадцати нет. Пойди проверь в своем расписании. А теперь мне нужно вернуться к пациенту.
Задыхаясь и обливаясь потом, я возвращаюсь в кабинет, запираю дверь на замок и для верности дергаю ручку. Не открывается. Значит, мы в безопасности. Я падаю в кресло и замечаю, что Ричард успел убрать бутылки.
– Вы их спрятали? Господи!
Он распахивает пиджак, как уличный торговец, который предлагает краденые товары, и показывает горлышки бутылочек, торчащие из внутреннего кармана.
– Слава богу. – Я запрокидываю голову. Я и так уже вишу здесь на волоске, и если Шон заметил бухло и кому-нибудь об этом обмолвится… От взрыва адреналина у меня скручивает желудок и почему-то болит горло.
– На чем я остановился? – спрашивает Ричард и как ни в чем не бывало достает бутылки и ставит их обратно на стол. Видимо, он не понимает, что нас чуть не поймали. Или ему все равно.
– «Шей стэдиум», тысяча девятьсот семидесятый. – Я никак не могу отдышаться.
– Да, «Шей». Фрэнсис начала там работать после того, как «Метс» выиграли Мировую серию. Ей больше не нужно было убираться в чужих домах, и у нее завелись кое-какие деньги, но счастливее она от этого не стала. Она сидела на кухне на своем желтом стуле и пила всю ночь и все так же заставляла меня чуть ли не вылизывать все языком. Наверное, ей было плохо. Пока я все чистил, она плакала и говорила мне, что никто ее не ценит и что она всегда что-нибудь для кого-нибудь делает, но никто ничего не делает для нее.
Кажется, она очень плохо спала. У нее сильно болела голова, и, когда случались эти приступы, она заставляла меня выключать везде свет и задергивать занавески. Говорила, чтобы я заткнулся и молчал и принес ей льда. А потом она ложилась на диван, клала ноги на спинку и стонала. Когда мимо проходил поезд, у нее делалось такое лицо, будто она умирает. Я помню, что очень хотел ей помочь, но боялся даже подойти.
– Значит, у нее были приступы мигрени? У меня тоже. Вы боялись, что она взбесится, если вы к ней подойдете?
– Я не мог угадать, как она отреагирует. Даже когда у нее болела голова, она могла наорать на меня и избить. А иногда говорила, что я – единственный человек на свете, который ей дорог. Это сбивало меня с толку. Я был слишком маленький и ничего не понимал. И поэтому все это сильно меня пугало. Когда она бывала хорошей и доброй, я очень радовался и надеялся, что теперь так и будет. Но потом она опять менялась. Типа… сегодня она любит меня и нуждается во мне, а завтра уже ненавидит и кричит, что я сломал ей жизнь.
– Ричард, тогда вы в самом деле были совсем еще маленьким. Вы и не смогли бы ее понять, как бы ни старались. – От жалости к нему у меня разрывается сердце. В глазах так и стоит картинка: маленький мальчик в рваных штанах и грязной футболке, со шваброй в руках, смотрит на свою больную мать, а мимо проезжает поезд метро. И мне больше всего на свете хочется как-то запрыгнуть в эту картинку и защитить малыша.
– Да. Я помню это чувство, когда не знаешь, как повернуться, что сказать, что будет правильно, а что нет, какой она станет через минуту. И… был один день. Очень плохой день. Суббота или воскресенье. «Метс» играли днем. Фрэнсис не спала всю ночь и мне тоже не давала, опять заставляла драить квартиру, снова и снова. Закончил – начинай сначала. И она опять пила и плакала. Но даже когда она напивалась или ей было плохо, она никогда не выходила на люди, не приведя себя в порядок. И в дом никого не пускала, если не была к этому готова. И вот в тот день она отправилась на работу. Накрашенная, в чистой форме. И выглядела настоящей красоткой.
День был солнечный, и мы с друзьями из нашего района пошли гулять. Бесились, играли. Фрэнсис всегда велела мне быть дома к тому времени, как она вернется со стадиона. Говорила, что не желает беспокоиться и думать, где я шляюсь, и что ей не хочется обременять соседей и просить их за мной присматривать. Я помню, что в тот день нам было очень весело. Часов ни у кого не было, и мы определяли время по солнцу. На самом деле никто не знал, как это делать, но Джесс, один парень из нашей компании, все говорил, что сейчас полдень, поэтому домой еще не пора. Джесс был постарше нас, и мы ему верили. И вот полдень, как выяснилось, длился уже несколько часов. Мы распрощались и разошлись по домам.
Я слушаю Ричарда и как наяву вижу сцены из фильмов «Площадка», «Бронксская история» и «Дневники баскетболиста». Сцены, где чумазые мальчишки играют на улице. Я снова представлю себе Ричарда в грязной футболке, как он вместе с другими бегает по пыльной площадке, как они перебрасываются большими серебряными колпаками от колес вместо фрисби.
– Еще только подойдя к парадной двери, я увидел, что Фрэнсис уже сидит на своем желтом стуле. Я попросил прощения за то, что опоздал. Она курила, а в окне было солнце, и дым в лучах казался огненным, и я тогда подумал, что она похожа на дракона. Она сказала, что на «Шей» сегодня был особенный день. И если я переоденусь и умоюсь, то она кое-что мне покажет. Я пошел к себе в комнату, сделал, как она мне велела, умылся и переоделся в чистое. Я не слышал, как она вошла – как раз натягивал шорты. Оглянулся – а она стоит в дверях.
Голос Ричарда звучит словно издалека. Он больше не смотрит в мою сторону. Его глаза снова прикованы к рабочим, лазающим по лесам. И он потирает большие пальцы.
– Она вошла ко мне с большой бейсбольной битой в руках. B тот день на стадионе раздавали биты, и она протянула ее мне. Но когда я дотронулся до кончика, она вдруг занесла ее над головой и размахнулась. Не как бейсболист. Просто подняла ее очень высоко и обрушила на меня, как будто гвоздь хотела забить. Я попытался прикрыть голову и увернуться, но она завизжала, чтобы я стоял прямо, как мужик. Если я разочаровал ее, как все мужики, то должен получить свое и терпеть боль, как мужик. Она замахивалась битой, снова и снова, и била меня. Потом наконец устала, упала на пол и разрыдалась. В комнате был настоящий хаос, повсюду валялись вещи – Фрэнсис все разнесла – и она сказала: посмотри, что ты заставил меня сделать. Обе моих руки были сломаны.
Я не могу ничего с собой поделать – ахаю, и закрываю лицо руками, и стараюсь незаметно сморгнуть набежавшие слезы, чтобы Ричард их не заметил. У него были переломаны руки; вот почему он не может как следует согнуть левую и она торчит под странным углом. Он поворачивается ко мне и заканчивает историю:
– Она увидела это и поняла, что мне нужна медицинская помощь. И отправилась к себе в спальню, чтобы сменить одежду и поправить макияж. А я попробовал надеть рубашку, хотя мне было очень больно двигать руками. Но на мне были шорты, и я сумел обуть туфли, на которых не было шнурков. Она вернулась за мной, прикрыла своим шарфом мои плечи и отвела к доктору. Он жил не очень далеко, вниз по нашей улице.
В те дни в каждом районе обязательно был такой врач – к нему всегда обращались, если ребенок падал, например, и что-нибудь ломал или подворачивал ногу, в общем, все такое. Я не знаю, платили им или нет. Рентгена мне не делали и гипс тоже не накладывали, потому что в больницу мы не пошли. Тот доктор сделал мне шины из деревяшек, которые обмотал ватой и бинтами. Потом согнул мои руки в локтях и продел их в перевязи. Уже наступил вечер, мы шли домой, и она говорила, что я не должен никому рассказывать, потому что если кто-то узнает – все узнают, – какой я на самом деле плохой, меня точно увезут от нее и запрут в каком-нибудь приюте.
– Ричард, вы никогда не были плохим! Вы ни в чем не виноваты! – Я вытираю слезы и лезу за носовым платком. – Ваша мать… никогда нельзя делать такое с ребенком. – Я больше не могу скрывать слезы, Ричард видит, что я плачу, и краснеет. Я знаю, каково это – когда тебя бьют и ты веришь в то единственное, во что в состоянии поверить: во всем виновата ты сама. Ты навлекла это на себя. Господи, как мне это знакомо! – Она была больна, Ричард. Вы не могли ее остановить.
– Да, я знаю. Очень больна. – Он отворачивается к окну, и я понимаю, что он закончил. Через некоторое время Ричард вздыхает и кладет руки на колени.
– Разве теперь не ваша очередь говорить? – Он закончил со своей историей и сейчас пытается как бы оттолкнуть от себя эмоции, переложить их на меня, избавиться от бремени.
– Наверное… наверное, да. Но мне трудно сосредоточиться на себе после того, что вы только что мне рассказали. Поверить не могу, что ваше детство было таким ужасным. – Рассказать ему о себе? О Лукасе? Признаться, что я лучше, чем кто-либо, понимаю, что он чувствовал?
– Ну, так было не все время. Случались и нормальные, хорошие дни. Она не всегда меня избивала. Но, как я полагаю, истории, в которых все хорошо, – не те истории, что вы хотите услышать. Правильно? В тюрьме меня постоянно расспрашивали только о том, что ужасного было в моей жизни. Никому не интересно знать, что я ел хлопья с молоком на завтрак или что моя мама делала все, чтобы я учился на отлично. Не важно, что мне никогда не приходилось беспокоиться о том, что мы будем есть или что мне носить, даже когда у нас почти совсем не было денег. Им хочется слушать только про то, как меня мучили и как я страдал.
– Вы рассказывали кому-нибудь то, что рассказали сейчас мне?
– Нет. Держал все в себе. Вообще старался больше помалкивать, когда сидел. Делал то, что мне говорили, но потом, когда меня оставляли в покое, просто читал книги. Парни все ржали, что я мог бы получить тюремную ученую степень – столько книг прочитал.
– А вам нравилось читать, да? – Я еще не готова излить Ричарду душу. Поэтому каждый раз перевожу разговор на него и слушаю.
– Да, мне нравилось читать. С книгами не надо разговаривать.
Мне вдруг становится смешно. Я вижу Ричарда в тюремной камере с потрескавшимся бетонным полом и портретом Фары Фосетт на стене, согнувшимся над потрепанным Кораном или «Войной и миром».
– Ваши руки в итоге зажили? Все как следует? – спрашиваю я, хотя и знаю, что это не так.
– Большей частью да. Вот эта странно сгибается, но я могу нормально ей двигать и делать все, что делают здоровой рукой. Мне пришлось долго ходить с теми шинами, и поэтому лето выдалось не очень-то, но зато я мог читать. И я все время сидел дома, и она не бесилась так часто, как обычно. Так что если подумать, то лето было не таким уж и паршивым. Даже наоборот. – Ричард смотрит на часы, потом на меня, потом опять на часы. – В этот раз вы мне ничего не рассказали. Значит, в следующий – ваша очередь.
Он встает и нежно похлопывает меня по плечу и затем выходит из кабинета. Я остаюсь одна и снова и снова перебираю про себя подробности его рассказа. Он рос без отца – совсем как я. С ним жестоко обращались, и он чувствовал себя растерянным и виноватым, мучился и не знал, как этого избежать. Совсем как я. И вынужден был найти способ, чтобы спастись. Совсем как я.
31 января, 12:01
Слизывая с губ последние капли водки, я иду к комнате для групповых занятий. Сейчас, в двенадцать часов, у меня сеанс терапии для тех, кто излечился от зависимости – наркотической, алкогольной или какой-нибудь еще. Все уже здесь, сидят полукругом, слоняются по комнате; некоторые в пижамах, некоторые в пальто. Нэнси и Ташондра прижимаются друг к другу и о чем-то сплетничают. Они то и дело посматривают на других пациентов и хихикают, прикрывая рот рукой.
Я уверенно вхожу в зал, словно не выпила только что две мини-бутылочки водки, и присаживаюсь на край стола. На доске у меня за спиной что-то написано – кто-то не протер ее после предыдущего сеанса. Я особенно не вглядываюсь в слова, но читаются они как «лицемерка», «врунья» и «фальшивка».
Все, на что я сегодня способна, – это раздать всем бумагу, выставить на стол свою коробку из-под обуви с карандашами-мелками и попросить пациентов нарисовать свои чувства.
Пока они выбирают цвета, я открываю галерею фотографий в телефоне и просматриваю их. Обычно, расставшись с мужчиной, я пересматриваю все его фото, а потом удаляю их – удаляю его из своей жизни. По какой-то непонятной причине мне не хочется стирать фотографии Эй Джея. Я прокручиваю их назад и нахожу ряд снимков, сделанных в «Никс-баре», где мы все целой компанией, а потом нахожу ту, где Эй Джей нахально облапил меня за грудь и никто этого не замечает. Я ухмыляюсь и стараюсь не рассмеяться, когда рассматриваю остальные фото.
Перед глазами предстает Эй Джей, голый, как примат; он лежит в постели и хохочет и держит в руках коктейль. Я как раз гляжу на снимок, где у него точно такое же лицо, и это меня завораживает. На какое-то мгновение я забываю, почему решила, что хочу его забыть. Почему оборвала эту нить, убежала от него, позволила ему раствориться в прошлом. Но зато, видя его смеющиеся, прищуренные глаза, вспоминаю, отчего меня так потянуло тогда прыгнуть, как я это называла, в кроличью нору. На долю секунды мое сердце замирает – я мысленно возвращаюсь к нашему первому поцелую и как будто снова ощущаю чувство свободы, которое вдруг охватило меня с головой в тот момент.
Я вспоминаю прошлое, думаю о своих решениях, о том, не стоит ли мне их пересмотреть, удивляюсь самой себе – что же все-таки заставило меня его бросить… словом, чувствую себя невероятно одиноко и отчаянно пытаюсь найти спасательную шлюпку, за борт которой можно было бы уцепиться, но за плечо внезапно заглядывает Люси.
– Кто это? Ваш муж?
– Люси! Ты меня напугала! – Я быстро выключаю телефон и кладу его на стол, лицом вниз. – Что такое?
– А он симпатичный, ваш муж. Я так и знала, что ваш мужчина должен быть настоящим красавцем.
– Ха-ха… ну… спасибо, Люси, только это не мой муж. Просто человек, которого я когда-то знала. – Идея влезть в спасательную шлюпку Эй Джея лопается и мелкими брызгами опадает на пол.
Люси передает мне свой рисунок и спрашивает, хорошо ли она справилась. Лист бумаги от края до края закрашен розовым. Я просила изобразить свои чувства, значит, чувства Люси – розовые. Она так сильно нажимала на мелок, что на бумаге кое-где остались толстые хлопья. Они осыпаются на линолеум. И точно так же Эй Джей отлипает от моей жизни и теряется в безвестном пространстве. Где ему самое место.
Я опять беру телефон, чтобы удалить фотографии, и читаю новое сообщение от Лукаса:
«Ты не сможешь без меня жить. Я тебе нужен. Ты покончишь жизнь самоубийством. Может быть, туда тебе и дорога».
Это четвертое эсэмэс с Нового года. Не отвечая, я вырубаю телефон.
– Мисс Сэм, я хотела спросить, – подает голос Нэнси, явно подстрекаемая Ташондрой. – А что, ни у кого из вас, психологов, никогда не было проблем с наркотиками?
– Я не знаю, Нэнси. А почему ты спрашиваешь?
– Ну… я думаю, если бы они у вас были, вы бы лучше нас понимали. Но если вы всегда трезвые и никогда не веселитесь, не напиваетесь на вечеринках и все такое, тогда как же вы можете нам помочь?
– Это очень интересный вопрос, Нэнси. Давайте обсудим его всей группой. Каково ваше мнение на этот счет? Вы тоже считаете необходимым на собственном опыте узнать, что такое зависимость, чтобы лечить людей, которые этим страдают? – Я тихонько рыгаю и ощущаю в горле вкус водки.
– Да, я считаю, что у вас получалось бы лучше, если бы вы знали, что именно мы чувствуем. – Стефан. Старается привлечь внимание девушек, выступая на их стороне.
– А как ты думаешь, врач-онколог лучше бы лечил пациента, если бы у него самого был рак? – коварно спрашиваю я и удивляюсь – зачем мне эти игры в адвоката дьявола?
– Ну, нет. Но может быть, он бы сумел сделать так, чтобы пациент лучше себя почувствовал. Лечение эффективнее не стало бы, но врач больше сочувствовал бы, ласковее разговаривал. Вот это могло бы измениться, если бы врачи имели собственный похожий опыт. – Снова Стефан. Уже забыл о девушках и по-настоящему увлекся темой.
– О’кей, согласна. – Между нами устанавливается связь. – Я думаю, ты прав – если бы врач на собственном опыте ощутил то же, что и его пациент, он бы лучше понимал, что происходит у того на душе – и не важно, о чем речь, о раке, зависимости или еще чем-нибудь.
– Да, – отвечает Стефан. – Но с другой стороны… вам не кажется, что в таком случае врач может как бы застрять в этом своем собственном опыте? Ну, вроде… если он вылечился, то будет думать, что лучший способ вылечиться – это тот, каким он выкарабкался из этого сам. Или даже не лучший, а вообще единственный способ. Так что, возможно, лучше, когда ты просто учитель или просто доктор и никогда в жизни не испытывал ничего подобного на своей шкуре?
– Стефан, я думаю, это отличная мысль и отличный вывод. – Я обращаюсь ко всей группе: – Когда вы проходили реабилитационный период, встречались ли вам люди, чей опыт помогал справиться с пристрастием, улучшал ваше состояние, ускорял процесс выздоровления? Ташондра? Нэнси? Леди, вы начали эту дискуссию, так что вы теперь скажете? – Мне становится действительно интересно и не терпится узнать – что, если мой диагноз, моя болезнь на самом деле как-то помогает в лечении пациентов?
– Мисс Сэм… да мы просто хотели узнать, ходите ли вы на вечеринки. Вот и все.
Остальные хихикают и отвлекаются, поняв, что Ташондра и Нэнси пытались всего лишь вытащить из меня пищу для сплетен. Но меня не оставляет мысль, что они случайно коснулись чего-то важного. Может быть, это и хорошо, что я пьяница. Может, то, что я вечно выбираю неправильных мужчин и неправильных друзей и просыпаюсь с кровавыми ссадинами и фингалами, приносит им какую-то пользу? То есть моим пациентам. Помогает мне видеть все иначе, не так, как другие психологи?
Я включаю телефон и перечитываю сообщение от Лукаса. А потом стираю его, вместе с тремя другими и всеми фотографиями. И его, и Эй Джея.
2 февраля, 21:37
Судьбоносный ужин. Мы оба знали, что это в конце концов должно было произойти. И почему-то решили, что чем пафоснее будет ресторан, тем лучше. Наверное, потому, что мы оба склонны соблюдать правила приличия, и, если вокруг нас будут нарядные люди и все такое, нам с меньшей вероятностью захочется проткнуть друг другу глаз ножом.
Лукас достаточно умен, чтобы понимать, зачем мы здесь находимся, но предпочитает делать вид, что ничего особенного не происходит. Что ж, каждый спасается как может. Вместо того чтобы заполнять неловкую тишину разговорами о политике или еще о чем-то нейтральном, он осыпает меня комплиментами и ненужными и незаслуженными похвалами. Возможно, это попытка остановить надвигающийся на полной скорости поезд, но я не поддаюсь его шарму. Похоже, я приобрела своего рода иммунитет. Несмотря на все его старания окольным путем изменить мое решение, я твердо знаю – сегодня между нами все закончится.
Меня не покидает ощущение, что я смотрю кино. Актриса в роли Сэм Джеймс играет сцену разрыва с Лукасом. Это делает она, а не я. Камера скользит по ресторану, оператор снимает сдвоенные столики, за которыми сидят более успешные, более счастливые и более подходящие друг другу пары. Я вижу изящные тарелки с красивой горкой из тщательно подобранной смеси крохотных овощей, на которых лежит малюсенькая порция тартара из тунца. Все это украшено замысловатыми разводами зеленоватого соуса. Тарелки на подносе в руках рослого официанта проплывают мимо нашего стола, и камера фокусируется на Сэм и Лукасе.
Лукас откинулся на спинку стула и положил ногу на ногу. Между пальцами зажата тонкая ножка бокала для вина. Он смотрит на меня и в то же время не смотрит. Мы ждем вторую перемену блюд, и еще несколько минут к столику никто не подойдет. И если существует подходящее время для того, чтобы выдавить из себя то ужасное, что я собираюсь сказать, то оно настало.
– Я так больше не могу. – Слова выходят из моего рта, я даже чувствую, как вибрируют голосовые связки, когда я их произношу, но все равно – это говорю не я.
Это похоже на дом, в котором начинается пожар. Сначала загорается одна комната, потом огонь перекидывается на другую, и, наконец, пламя охватывает все здание. Я чувствую себя так, словно нахожусь под водой. Он признается, что спал с Клэр, официанткой из «Никс», и молит о прощении. Но мне вдруг становится жарко. Как будто я попала в тот горящий дом.
Лукас плачет прямо за столом. Мне страшно неловко за него, и меня смущают взгляды, которые кидают в нашу сторону окружающие. Он полностью раскис. Он раскачивается взад-вперед и бессвязно бормочет, что плохо со мной обращается в последнее время (и это просто какой-то сюрреализм, потому что он никогда не обращался со мной хорошо, и между тем никогда не признавал это в открытую), а потом вдруг разъяряется и начинает почти кричать, что он не виноват, что у него серьезная проблема, и разве это не моя работа – решать такие проблемы?
Лукас вертится и раскачивается. И Джекил, и Хайд сливаются в одну плачущую, совершенно расквасившуюся сущность. Наша официантка весьма тактично делает вид, что не замечает разыгравшейся за столом сцены, и аккуратно ставит перед нами тарелки с основным блюдом.
Никогда в жизни стейк не интересовал меня меньше, чем сейчас. Лукас тычет вилкой в свои кавателли и смотрит на меня глазами потерявшегося щенка. Я внимательно изучаю его лицо и холодно прикидываю, есть ли за этим хоть что-то человеческое. Может, он настолько потерял себя, что больше уже никогда не найдет. И удивляюсь, что мне вообще когда-то пришло в голову искать в нем человека. Сейчас я вижу только пустоту, черную и всепоглощающую. Его там нет. Там никого нет. А я ждала, что появится… ждала все это время.
– Я не могу тебя потерять. Я знаю, что должен исправиться и что нельзя вести себя так, как я себя вел, но я изменюсь. Обещаю тебе. Только не оставляй меня. – После каждой фразы он маленькими глоточками прихлебывает вино.
Я собираюсь что-то ответить, но Лукас вдруг откашливается и совершенно меняется. У него становятся другие глаза, он смотрит прямо на меня и хмурится. Жалкий, сломленный, несчастный человек исчез. Вместо него напротив меня сидит жесткий бизнесмен, готовый порвать всех конкурентов, потому что на кону миллионная сделка. Он ставит бокал на стол и подзывает официантку. Он только что рыдал, но его веки совсем не покраснели, а от слез на щеках не осталось и следа. Мне кажется, что все это мне просто привиделось. На лице Лукаса не отражаются никакие эмоции, он абсолютно бесстрастен. Подходит официантка, и он заказывает двойную порцию водки с мартини.
– Сэм. Это не нормальные разумные переговоры. Я изливаю перед тобой душу, а ты вообще как будто ни в чем не участвуешь. И как, по-твоему, я должен на это реагировать?
– Погоди… что? – Я сбита с толку.
– Я прошу тебя переехать ко мне – и ты отказываешься. Я пытаюсь изо всех сил донести до тебя, как тебе следует себя вести, – ты это игнорируешь. Если бы ты потрудилась обратить на меня хоть немного своего драгоценного внимания, может быть, я бы не спал с другими женщинами. Ты когда-нибудь задумывалась о том, какую роль во всем происходящем сыграла ты?
– Ты сейчас говоришь о моей вине в том, что ты трахался с другими женщинами? Это невероятно, честное слово. – Я улыбаюсь.
– Нет, Саманта. Тебе надо научиться слушать. Я сказал «какую роль ты сыграла». Я не возлагаю всю вину на твои плечи, потому что знаю – часть ее лежит и на мне.
– Значит, на тебе лежит часть вины? Часть? Я не втыкала твой член в чужую вагину. Это делал ты. Я не швыряла сама себя о стены, не разбивала собственное лицо об унитаз, не била себя по голове. Это делал ты!
– И я за это извинился. Ты знаешь, что я вспыльчивый. Если бы ты только научилась вовремя затыкаться, я бы на тебя так не злился. – Он залпом допивает водку-мартини и заказывает еще. Маленькая палочка для коктейля с нанизанной оливкой вот-вот вывалится из бокала.
До меня наконец доходит, что я «веду переговоры» с эмоциональным террористом, мне никогда – никогда! – не удастся до него достучаться. Он слышит и видит лишь себя. Я смотрю… не знаю, на что я смотрю, видимо, в никуда. Сознание как будто выключается, и я больше не участвую в разговоре. Я чувствую, как шевелятся мои губы, но что за слова я произношу – не знаю. Вино холодной струей пробегает по горлу, но я не ощущаю, что пью. Вижу, как моя рука опускается в сумку и достает кошелек, но не помню, чтобы я спрашивала счет. Слышу скрежет отодвигаемого стула – да, это встала я, но какими были мои последние слова? Мое тело действует само по себе; я отцепляю ключи от квартиры Лукаса от своего кольца и отдаю их ему, взамен на свои. Замечаю одобрительные улыбки официантов, направляясь к выходу, но не ощущаю, как мои ноги касаются пола.
Я словно дом после урагана. Нужно дождаться, когда утихнет ветер. Но как только все успокоится, я разгребу то, что осталось от гостиной. Отциклюю полы и заново покрою их лаком. Вытащу из рам разбитые стекла и вставлю целые. Буду долго ходить по окрестностям, пока не найду сорванную бурей крышу. Потом, доска за доской, я перетащу ее во двор и прибью их все обратно. И когда на него снова налетит сильный ветер и кто-то постучит в мою дверь и скажет: «Я маленькая бедная овечка, я отбилась от стада и сильно проголодалась. Пусти меня переночевать!» – я твердым голосом отвечу: «Как бы не так! И не подумаю!»
7 февраля, 11:22
– Первый раз меня арестовали в тысяча девятьсот семьдесят седьмом. Вы слышали про аварию в энергосистеме в Нью-Йорке в семьдесят седьмом? – Ричард передает мне две бутылочки с «Джек Дэниелс» и снимает кепку. Его план заставить меня обращаться с ним как с равным с помощью шантажа в конце концов превратился в еженедельную рутину: мы вместе выпиваем и рассказываем друг другу о себе. Хотя… не совсем так. Мне нужно, чтобы он полностью раскрылся передо мной, и до сих пор я придерживаю свои истории при себе, чтобы ему было легче это сделать.
– Да, я тогда еще не родилась, но знаю об этом. – После того как в прошлый раз нас чуть не застукали, я принесла с собой два маленьких пластиковых стаканчика от кулера. – Я перелью это сюда. Нам надо вести себя осторожнее.
Ричард кивает и подвигает ко мне две другие бутылочки. Я открываю их все и вытряхиваю содержимое в стаканчики.
– И вот, когда вырубили электричество, мы с друзьями решили повалять дурака. Было жарко, скучно, света нигде не было, и мы пошли мародерствовать по магазинам. Нас таких было много – целые шайки едва подросших ребят. – Он убирает пустые бутылки во внутренний карман.
– Вы серьезно? А я-то думала, вы были хорошим мальчиком. – Я вытираю губы.
– Я был подростком. А у подростков мозги не на месте.
– Это правда.
Я слушаю Ричарда и закидываю руки за голову. Я сама постоянно воровала бухло. И для этого мне даже не нужна была темнота. Помню, я надевала обычные штаны, а поверх них – свободные, на несколько размеров больше, и стягивала их в талии старым кожаным ремнем. Я засовывала бутылки в карманы нижних штанов, и огромные верхние джинсы скрывали все выпуклости. А кассир обычно выставлял меня вон, потому что я была совсем малявкой, и никогда не замечал, что я уже успела кое-что с собой прихватить.
– Мы набрали бухла в винном магазине, а потом отправились за сигаретами и содовой. Думали, нас ни за что не поймают. Везде были пожары, и копы просто не успевали со всем справиться. Но нас все-таки взяли за задницу. Не повезло. Всех повязали. И меня, и Джесса, и остальных парней. Нас засунули в полицейский фургон и повезли в участок. Помню, нам было очень страшно. Пока ехали, все молчали. Не сказали друг другу ни слова.
В участке было полно народу. В основном подростки, как и мы. Все стояли в очереди, и у всех брали отпечатки пальцев и фотографировали. Помню, руки у меня так сильно потели, что им пришлось несколько раз макать мои пальцы в чернила, чтобы получились нормальные отпечатки. У меня тогда не было водительских прав, и ни у кого из нас не было вообще никакого удостоверения личности. И потому что в участке просто яблоку негде было упасть – так много они воришек насобирали по всему городу, – копы просто спрашивали, как нас зовут, и им приходилось верить нам на слово. Я, конечно, не назвал свое настоящее имя. Я читал в то время «Американца», ну и сказал, что меня зовут Генри Джеймс. Они откатали мне пальцы и записали как Генри Джеймса.
– И даже не проверили? Не может быть, чтобы вам удалось такое провернуть. – Я допиваю последний глоток виски.
– Нет, ничего они не проверили. Говорю же, в участке была целая толпа подростков, потому что все в ту ночь решили чем-нибудь поживиться. Это был хаос. Нас с Джессом посадили в одну камеру, и там было так много людей и очень жарко. А потом копы начали бросать туда еще и черных, и желтых, и стало вообще как в аду.
– Черных и желтых? Сейчас мы больше не употребляем эти слова. Но продолжайте.
– А тогда употребляли. Время было расистское. И вот что в этой истории самое безумное. Копы-ирландцы были такими страшными расистами, что, когда камеры совсем переполнились, они стали выпускать белых ребят. Входили за решетку со своими дубинками, оттесняли черных и азиатов в сторону, а белых хватали за воротник, вышвыривали наружу и велели убираться ко всем чертям. Так что сидеть остались только черные и азиаты. А нас отпустили. Меня и Джесса.
– Отпустили домой? Просто разрешили выйти из участка, и… все? И штраф не заставили заплатить? Неужели вообще ничего?
– Нет. Никаких штрафов. Как будто ничего и не было. Только что мы с Джессом толкались в камере, и вдруг снова очутились на улице. Мы пошли домой пешком, потому что метро не работало. Было ужас как жарко. В воздухе стоял дым, и дышалось с трудом. Сначала мы неслись со всех ног как угорелые, а потом чуть-чуть замедлились, посмотреть, что происходит вокруг. А вокруг был полный бардак. Машины перевернуты, окна в домах разбиты, повсюду стекло. Дома горели. А люди стояли на улицах как завороженные, вертели головами и не знали, что делать. Воняло страшно. И только слышно было, как трещит огонь.
– Я помню, что видела кадры документальной съемки семьдесят седьмого, но и представить себе не могла, как все было на самом деле. В две тысячи третьем тоже отключали электричество из-за аварии, и я была здесь, но ничего похожего на то, о чем вы рассказываете, не происходило. – Я кладу ноги на стол и почти ложусь в кресле.
– Говорю же, время было безумное. В ту ночь Джесс проводил меня до дома, и мы пообещали друг другу никогда и никому не говорить, что нас арестовали. Джессу было уже больше восемнадцати, так что для него это могло кончиться очень плохо, если бы кто-нибудь узнал. Он сказал, что назвался Джимом Моррисоном.
– И это больше никогда не всплывало? То, что вы однажды подверглись аресту.
– Конечно, всплывало. Потому что отпечатки есть отпечатки, их никуда не денешь. Так что, когда меня посадили по-настоящему, я уже был в их системе. Но они не знали моего настоящего имени. Я попал в тюрьму всего через два года после того случая, но удостоверения личности у меня все еще не было. И семьи тоже. И никто не мог за меня поручиться, то есть, я думаю, с именем и фамилией у них возникла проблемка. После того дня, как я назвал себя Генри Джеймсом, мне стало нравиться это имя, и иногда я даже так представлялся незнакомым людям.
– Как будто надевали другую личность, да? – Иногда у меня тоже возникает желание сменить личность. Спрятаться за чем-то более устойчивым, чем моя профессиональная репутация.
– Да, что-то типа того. Может, я хотел стать кем-то другим, потому что, когда видел свою реальную жизнь, мне казалось, что не очень-то хорошо быть мной.
– И когда вы снова стали называть себя Ричардом?
– Наверное, я опять начал думать о себе как о Ричарде в тюрьме. Но там никто не зовет тебя по имени, так что это было только у меня в голове. А когда я вышел и оказался в «доме на полдороге», вот тогда все и стали звать меня Ричардом.
– А как вас называла Фрэнсис?
– Она называла меня Ричи. – Он лезет в карман и вынимает еще две бутылки, которые мы еще не выпили. Две текилы «Патрон Сильвер». Он ставит их на стол, но я его останавливаю:
– Давайте не будем больше пить сегодня. Вы уже поведали мне «историю дня», и спиртное нам не нужно.
– Вы уверены? Вы-то мне еще ничего не рассказали. Точно не хотите? – Он помахивает бутылочкой.
– Нет. Я хочу сделать это на более или менее трезвую голову. – Я глубоко вздыхаю – так глубоко, как только могу, – и покрепче хватаюсь за подлокотники кресла. – Несколько недель назад вы спросили меня, зачем я спрятала в кабинете эти бутылки.
– Да, я помню. – Он зажимает текилу между коленями. Вроде бы и не достать, но в то же время она на виду.
– Все это время я очень много думала, и кажется, теперь лучше понимаю, почему так много пью. И видимо, причина не в том, что со мной вечно происходит что-то… неправильное, ненормальное… нездоровое, что ли. – Я зажмуриваю глаза – не хочу видеть его реакцию.
– Я знаю.
– Знаете? – Я открываю один глаз. – И почему, как вы считаете, я пью?
– Люди пьют не потому, что с ними происходит то, о чем вы сказали, Сэм. Люди пьют, потому что они сами неправильные, ненормальные и нездоровые.
– И вы знаете, что я такая? – Я открываю оба глаза, и мои руки падают на колени.
– Я знаю, что вы несчастливы. Что с вами не все в порядке. Что вы пытаетесь удержаться на веревочке – вернее, удержать свою жизнь на веревочке, связываете ее, чтобы она не расползлась, но веревочка ускользает у вас из пальцев.
– Откуда вам все это известно?
– Нужно просто приглядеться повнимательнее, Сэм. Вы никого не можете обмануть.
– Ричард, я обманываю всех. – Разве он не видит, как я мастерски разыгрываю профессионала-супергероя? Как на работе я прячусь за маской «само совершенство» и никто ни о чем не догадывается?
– Это означает только одно – никто не смотрит на вас по-настоящему.
– Возможно, это и есть самая большая засада.
– Так почему вы так много пьете?
Мне и так страшно поделиться с ним этим, а он такой проницательный и сообразительный… мне только труднее сказать правду.
– У меня… У меня проблема. Эта… болезнь. – Сердце бьется в горле. Я готовлюсь произнести кошмарные слова вслух. В первый раз. – Ужасная болезнь. И я вроде как всегда догадывалась, что со мной не все нормально, и всегда хотела разобраться с этим и справиться с… проблемой. Но никто никогда не ставил мне официальный диагноз. И вот недавно все же поставили. – Мне в рот, кажется, напихали лезвий, адреналин скрутил живот в узлы. Я не могу это сказать. Нет, я не могу сказать это вслух.
– У вас пограничное расстройство личности? – Ричард говорит это за меня.
– Что? – Я давлюсь слюной. – Вы знаете, что это такое? Вам известно, что такое пограничное расстройство личности? – Слова вываливаются из меня, словно блевотина.
– Да. У Фрэнсис это было.
– О господи, – глупо произношу я. Потому что я в шоке. Он знает, что означает моя болезнь? И знал, что она у меня есть? – О’кей, достаточно. Я не могу это с вами обсуждать. – У меня кружится голова, и мне нехорошо. Где же, мать его, катарсис? Я думала, что, если признаюсь кому-то, мне станет легче. Ведь так и предполагается!
– Вы не можете обсуждать это и ни с кем другим.
Я рыдаю, обхватив голову руками. Слезы текут по щекам, как реки, и довольно громко шлепаются на стол. Мне нужно сбежать.
– Я знаю, каково это. Как вы страдаете, – мягко, ласково произносит Ричард, но ответить ему я не могу. Слова застряли у меня в глотке, и я уже вообще ничего не понимаю. – Вы ни в чем не виноваты. Вы просто больны. Но это не значит, что вы плохой человек.
– Пожалуйста, перестаньте. – Я глотаю слезы, хватаю бутылочку «Патрон Сильвер», которую Ричард продолжает держать между коленями, мгновенно отвинчиваю крышку и опрокидываю текилу в рот. Он услужливо открывает вторую, отдает ее мне и забирает пустую. Я выпиваю вторую бутылку и запрокидываю голову. Мои волосы распущены, я прижимаю их затылком к подголовнику, и мне очень больно, однако я не двигаюсь, крепко-крепко закрываю глаза и чувствую, что слезы теперь затекают мне в уши. Мне приходится дышать как можно глубже, чтобы сглотнуть комок в горле, который меня душит. Руки становятся влажными и холодными, я закрываю лицо, хотя и понимаю, что это не заставит Ричарда уйти. Но сейчас это необходимо мне как воздух. Я хочу, чтобы он ушел. Теперь он слишком много знает, а мне надо было держать свой идиотский рот на замке. – Это была плохая идея. Я не могу разговаривать с вами так. Не могу рассказывать о своей жизни. Я здесь, чтобы помогать вам. А вы обо мне беспокоиться не должны. И мне плевать на гребаную сделку. Это неправильно, и все.
– Я никуда не уйду.
– Нет, уйдете. Мы не можем больше этим заниматься. То есть – встречаться и беседовать как равные. Ричард, серьезно, я не могу. Я так охраняла эту тайну. Загнала ее глубоко внутрь. Под кожу и мускулы, под ребра, в живот – самое укромное и темное место. Там она и должна была оставаться. А теперь я выпустила ее наружу, и у меня такое чувство, будто я распылила в кабинете отравляющий газ и уже почти не могу дышать.
Ричард встает. Но не уходит, а нагибается над столом, приближается ко мне, смотрит на меня, и я ощущаю, как его льдисто-голубые глаза проникают мне в самую душу и он знает обо мне что-то, чего не знает никто в этом мире.
Я должна выбраться.
Я должна выбраться.
Я должна выбраться.
Я не могу дышать, но дышу все быстрее и быстрее. Сердце рвется из груди. Я покрываюсь холодным потом.
Я должна выбраться.
9 февраля, 19:21
Я сижу в прачечной, жду, когда достирается чужое белье и машина освободится, и мне вдруг приходит в голову, что теперь, когда мы с Лукасом больше не вместе, мне придется заниматься стиркой гораздо чаще. Шум и пощелкивание стиральных машин слегка вводит меня в транс, и я постепенно погружаюсь внутрь себя, туда, где хранятся все мои секреты. Передо мной встают сцены нашего с Лукасом прошлого – как кадры старой кинопленки, нечеткие, исцарапанные и поблекшие.
Я вспоминаю самое начало, когда все было так волнительно, и я легко обманывала себя, закрывала глаза на «красные флажки». Вижу, как он приносит мне цветы, и убеждаю себя, что это не в знак извинения, а просто так. Теперь, когда смотрю на все это, я понимаю, что должна была, видимо, купить в аптеке новые глаза. Которые видели бы все так, как оно было на самом деле. О, эти кадры. Вот он выходит из туалета в каком-то клубе, а за ним выбегает брюнетка с виноватым лицом. Вот он прячет свои пузырьки с таблетками и пакетики с наркотиками в моей квартире и в своей. Я мотаю головой, чтобы прогнать эти воспоминания, но вместо этого перед моим мысленным взором предстают самые ужасные картины. Не то, как он напивается, соловеет от наркотиков, изменяет мне. А как он меня избивает.
Я вижу, как он за волосы тащит меня в ванную. Я обеими руками перехватываю его запястье, чтобы он не содрал с меня скальп. Он выдавливает мне на голову шампунь из пластиковой бутылки, шампунь заливает мне лицо и жжет глаза. Я тянусь за полотенцем, чтобы вытереться, Лукас не упускает возможность и молотит кулаками по не прикрытым локтями ребрам. Я слышу звон в ушах – сколько же раз в жизни я его слышала! – когда он с силой бьет меня раскрытой ладонью по голове, сбоку. Он толкает меня все ближе и ближе к унитазу. Я хватаюсь за него, чтобы встать, и, когда оказываюсь совсем близко, он сует мою голову внутрь и обрушивает на нее сиденье. Много, много раз. Следы всегда скрывают волосы.
Домохозяйки и студенты вытаскивают свои вещи из машин и закладывают их в сушилки, но меня будто парализовало. Я не могу сдвинуться с места. Я помню металлический вкус крови во рту. Помню мысль: нужно потерпеть еще совсем немного, в конце концов все закончится. Он выдохнется. Помню, что, когда он закуривал сигарету, это как раз и означало конец. Я всегда ждала, когда щелкнет зажигалка, зная, что тогда смогу потихоньку начать зализывать раны. Он всегда затаскивал меня в ванную, и лишь сейчас, сидя в прачечной, я внезапно понимаю почему. Чтобы потом легче было убрать. Он ни за что не допустил бы, чтобы я испачкала его мебель кровью. Даже вне себя от ярости, в доску пьяный, Лукас оставался перфекционистом до мозга костей.
Все, моя память переполнена, и мозг сейчас лопнет. Меня начинает трясти. Из глаз катятся слезы. Я забрасываю сумку с грязным бельем на плечо, так и не добравшись до стиральной машины, и иду обратно, к себе домой.
Я открываю дверь квартиры и швыряю сумку на пол. Слезы уже льются бурными потоками, и я лихорадочно вожусь со штопором, пытаясь откупорить бутылку вина. Я говорила себе, что держу ее только на тот случай, если кто-то заглянет в гости, и мне необязательно пить самой. Хватаю первый попавшийся бокал – огромный, пузатый и без ножки, совсем не для вина, наполняю его до краев и, прислонившись к холодильнику, делаю два больших-пребольших глотка. Потом медленно сползаю вниз и достаю телефон.
Я снова скатываюсь назад. Как мне казалось, я достигла какого-то, пусть и небольшого, успеха, приводя свою жизнь в порядок, но сейчас, в эту секунду, он как будто утекает вместе со слезами. Я представляю себя в будущем – вот я лежу в луже на кухонном полу. Мне нужно то, что раньше приносило облегчение, старые проверенные решения для старых надоевших проблем. Мой самый верный друг, самое лучшее решение и облегчение – вино. Я наливаю себе еще и продолжаю пить.
Дрожь вроде бы унялась, но голова не прояснилась. Я чувствую ненависть и отвращение. Страх и собственную бесполезность. Думаю о шантаже Ричарда и о своих ошибках. Адель, Эдди, Дженни и ее сестра – героиновая наркоманка. Лекарства Шона. Вино помогает, но не совсем. Мне нужно чем-то себя отвлечь. Ощутить себя любимой. Мне нужен Эй Джей.
Я набираю код на телефоне и прокручиваю старые сообщения. Не помню, когда я в последний раз разговаривала с Эй Джеем. Я не ходила в «Никс» уже лет сто. И если уж на то пошло, лет сто не напивалась в стельку, как сейчас. Я бросаю взгляд на пузатый бокал, на донышке которого еще осталось немного красного вина, и снова его наполняю. На сей раз белым. Его я тоже держала в холодильнике на случай внезапных гостей. У гостей же должен быть выбор – красное или белое. Когда ко мне в последний раз приходили гости? Хоть кто-нибудь приходили? Но мне нужно сосредоточиться и сфокусировать взгляд на сообщениях от Эй Джея. Последний раз он мне писал, когда спрашивал, собираюсь ли я в «Никс». А я его завернула. И теперь, кажется, поползу к нему и буду умолять, чтобы он принял меня обратно.
Вино улетает моментально. Расходится, как шлюхи по два доллара. И все равно такое ощущение, что я пью слишком медленно. К тому же моя способность долго не пьянеть, судя по всему, успела ослабеть – меня окутывает теплый, плотный алкогольный туман. Я открываю в телефоне фотографии и напоминаю себе, чего мне не хватает. Да, я удалила большинство снимков, но несколько все-таки оставила. Самые лучшие. Я пытаюсь вспомнить, как это бывало, сделать так, чтобы в животе снова запорхали бабочки. Пусть алкоголь примет решение за меня.
Я натыкаюсь на свой последний ответ Эй Джею и перечитываю его раз пятьдесят. «Повеселись там без меня». Повеселись там без меня. А ведь именно этим он и занялся. Он «веселился» до меня, «веселился» со мной, а теперь «веселится» без меня. Эй Джей не изменился. Лукас не изменился. Но я изменилась. Да, я изменилась. И старыми способами можно решить только старые проблемы, а это не то, что мне сейчас нужно. Я заглядываю в бокал. В нем розовато-оранжевая смесь красного и белого вина. Я смотрю на эту пузатую стекляшку и не понимаю, почему она имела надо мной такую власть.
Я встаю и выливаю все, что осталось в бокале, в раковину. Запах щекочет мне нос. Потом открываю морозилку и достаю бутылку водки «Титос». Еще один вариант для гостей. Заглядываю в гостиную и вижу две бутылки скотча на книжной полке. Те самые, что я так долго хранила «для декора»: показать, что могу иметь алкоголь и не пить его. В каждой осталось меньше чем на один шот. Я снимаю их с полки и тоже отправляю содержимое в раковину. Скотч такой едкий, что жжет глаза, а от сочетания алкогольных ароматов меня начинает тошнить. В кухне пахнет так, будто меня только что вырвало в корзину для бумаг, как случалось много – и не сосчитать сколько – раз.
Бутылки громко позвякивают в целлофановом мешке; я волоку его вниз, к мусорному баку. Вернувшись в квартиру, тщательно мою бокалы жидкостью для мытья посуды с запахом яблока, а потом снимаю с себя одежду, бросаю ее в корзину с грязным бельем и залезаю в душ. Я включаю горячую воду на максимум и смотрю, как розовеет моя кожа.
10 февраля, 9:13
Я вхожу в конференц-зал и вижу, что все уже здесь и даже сидят за столом. Как всегда, у нас утреннее совещание. Перед каждым лежит конверт, и кое-кто уже открыл его и смотрит, что там внутри. Пара охранников, санитары и медсестры стоят у стены. В руках у них такие же конверты. Сама не понимаю, как я могла опоздать. Я никогда не опаздываю на утренние совещания.
Дэвид отодвигает свободный стул рядом с собой и подзывает меня кивком. Свой конверт он еще не распечатал. Я плюхаюсь на сиденье, и он многозначительно постукивает по циферблату своих часов и поднимает бровь. «Ну да, я опоздала, и что теперь? По крайней мере, я не спала с Джули».
– Теперь, когда все наконец собрались, – Рэйчел смотрит прямо на меня, – мы можем начать. Вы, конечно, заметили, что сегодня здесь присутствуют новички. Они, так сказать, представляют своих коллег на этом очень важном для всех нас совещании. Для тех, кто не помнит или не знает, – это Сэл из технической поддержки… – Сэл улыбается и машет рукой, – Джерард и Абдул, двое из наших санитаров… – Джерард поднимает кружку с кофе, приветствуя остальных, а Абдул, щурясь, разглядывает конверт, – и Рауль из охраны. – Рауль не шевелится. Его лицо совершенно бесстрастно, а гигантские стероидные мускулы едва не рвут форму. – Я попросила их присоединиться к нам, потому что нам нужно обсудить некоторые вещи, которые происходит в последнее время в больнице и начинают всерьез меня беспокоить.
В конвертах, которые я раздала, – новые этические нормы поведения для персонала «Туфлоса». При приеме на работу все вы получали свод похожих правил и более или менее знакомы с тем, что это такое. Но время от времени нам присылают из управления исправленные, модернизированные, так сказать, версии; обычно в них рекомендуется употреблять одни термины вместо других и добавляются некоторые новые пункты. Мне нужно, чтобы каждый из вас поставил свою подпись на бумагах, которые я сейчас всем выдам, – это означает, что с новыми этическими нормами поведения вы ознакомлены.
Все уже засунули носы в конверты и внимательно изучают правила. Все, кроме Ширли. Ширли клала с прибором на этические нормы поведения. Она работает в «Туфлосе» уже примерно пять жизней – то есть ей пришлось сталкиваться с пересмотром этических норм не меньше пяти раз, и она совершенно не собирается менять свою манеру поведения, чтобы удовлетворить какую-то паршивую администрацию.
Гэри шумно перелистывает страницы – проверяет, не нарушает ли он какие-нибудь правила. Дэвид держится свободно и расслабленно и спокойно попивает кофе. К конверту он даже не прикоснулся. Но я не сомневаюсь, что он тщательнейшим образом прочитает все, что там написано, когда будет один в своем кабинете, и обязательно примет это к сведению.
– Обратите внимание, – продолжает Рэйчел, – что вы должны придерживаться этих норм не только на рабочем месте, но также и в общественных местах. Даже в метро или за семейным ужином – везде, где вас могут рассматривать как представителя данного заведения.
– Что? Мне нельзя материться даже в баре в Бушвике? – возмущается Гэри.
– Гэри, не нужно понимать каждое предложение буквально. От тебя требуется следовать основным этическим нормам, соблюдать внешние приличия, потому что, в больнице ты находишься или нет, работаешь ты все равно тут, а нам необходимо поддерживать профессиональный имидж.
– Откуда эти нововведения? С чего бы вдруг? – Я бросаю пакет на стол и откидываюсь назад, как будто мне все это безразлично, но догадываюсь, что это как-то связано со мной, и сжимаюсь от страха.
– Что ж… это вызвано рядом событий, произошедших в «Туфлосе» в последнее время. Из них можно сделать лишь один вывод – в нашей больнице нарушаются не только этические нормы поведения, но и закон. И чтобы это прекратилось, нам всем придется пересмотреть свои взгляды на то, что дозволено, а что нет. И вести себя соответствующе. И это касается абсолютно каждого. – Рэйчел обводит зал указательным пальцем, будто держит нас под дулом пистолета. – Психологов, медперсонала, охраны – всех. Никто не смеет нарушать правила. Даже психиатры получили такие же конверты и так же обязаны подписать бумагу о том, что со всем ознакомились и согласны.
– А что это за события? – спрашивает Джули. Уж она-то точно может быть уверена, что ничего не нарушала.
– Дело в том, что Сэл и другие работники клининговой службы в последнее время стали находить в нашем отделении алкоголь.
В моих ушах раздается пронзительный тоненький звон, а тело будто охватывает пламенем. Я вдруг не знаю, куда мне девать руки и ноги. Они здорово мне мешают. Как мне себя вести, чтобы случайно не привлечь к себе внимания? «Спокойно, спокойно. Никто на тебя не смотрит».
– Алкоголь? – словно просыпается Дэвид.
– Да. Маленькие бутылочки, вроде тех, что можно найти в мини-баре в отеле. Они обнаруживаются повсюду – в корзинах для мусора в мужских туалетах, в комнатах для групповых сеансов, к тому же в самых разных местах валяются осколки этих же самых бутылочек.
«Чертов Ричард!»
– А они разве стеклянные? Я всегда думал, что пластмассовые, – подает голос Гэри.
– Как выясняется, стеклянные. И их очень много. Пациенты не могут выходить за пределы больницы. Балкон для курения – это единственное место, где они могут оказаться на свежем воздухе, если только мы не отправляемся в какую-либо специально организованную поездку под строгим надзором. Учитывая погоду, можно сказать, что в последнее время таких поездок не было. Посетителей всегда обыскивают, но эти бутылочки такие маленькие, что их, вероятно, все же можно спрятать.
– Может быть, кто-то из новых пациентов принес этот запас с собой, когда его клали в больницу? – Абдул, санитар.
«Господи, запас. Не говори запас! Это типичное мое слово».
– Нет, вероятность почти нулевая. – Джерард, другой санитар. – Мы тщательно проверяем все личные вещи пациента при приеме в больницу. Никакого алкоголя, оружия, наркотиков и прочих недозволенных предметов. Если мы что-то находим, то сразу же конфискуем.
– И куда деваются все эти конфискованные вещи? У нас есть специальный сейф, или склад, или что-то в этом роде? Если кто-то пронес в больницу кучу мини-бутылок, то их обязательно должны были обнаружить. – Гэри задает вопрос, и почему-то его голос звучит виновато. И я надеюсь, что у остального персонала тоже складывается такое же впечатление, и молюсь про себя, чтобы никто не посмотрел в мою сторону. Я попираю кулаком подбородок и рассеянно рассматриваю зал, словно тема разговора мне совершенно неинтересна.
– Прежде чем запереть все в особом сейфе в отделении охраны, мы заносим все конфискованные предметы в список. Никто и никогда не пытался пронести большой запас мини-бутылок с алкоголем. – Да, Джерарда точно ни в чем не обвинят.
– А в отделении всегда находится хотя бы один охранник, в любое время, днем и ночью. Так что нет никакой возможности проникнуть к нам и что-то украсть. Кроме того, только офицерам известен код сейфа. – И Рауля тоже не обвинят.
– А найденные бутылки пустые или полные? – И меня тоже ни в чем не обвинят.
– Ну разумеется, пустые, – ухмыляется Ширли.
– По-моему, это совсем не очевидно. Пациенты могли оставить их для других пациентов. Мы уже сталкивались с таким раньше. Помните случай, когда Фрэнки и Гарри устроили игру «найди валиум»? Оставляли зашифрованные записки, где спрятано лекарство, которое одному из них прописали, а другие хотели использовать для оттяжки? У нас здесь по меньшей мере сотня алкоголиков. Возможно, в этом и кроется ответ. – Отвлеки их внимание, пусть думают о ком угодно, только не о тебе.
«Можно ли снять отпечатки пальцев с бутылок? Ведь нельзя же, правда? Могут ли они как-то связать их с Ричардом? Или со мной?»
– Все бутылки, обнаруженные Сэлом и другими, были пустыми. Правда, у нас и раньше бывали прецеденты, когда пациенты находили способы пронести в больницу алкоголь или наркотики, но я не уверена, что это такой случай. Что действительно странно, это алкоголь премиум-класса, а не дешевая бурда. «Грей Гуз», «Патрон Сильвер», только дорогие бренды. И это не одна-две бутылочки. За последние несколько недель их число растет.
Излагая подробности, Рэйчел старается не смотреть ни на кого слишком долго или пристально, чтобы не это не выглядело так, будто она подозревает или обвиняет конкретного человека. Но мне все время кажется, что я чувствую ее взгляд на себе.
14 февраля, 11:01
Сегодня Ричард выглядит встревоженным. Он сидит очень прямо, не знает, куда деть руки, шелестит газетами, возится с застежками. Я смотрю на него с подозрением, и он начинает говорить:
– Я знаю, что вам было реально тяжело рассказать мне о своем диагнозе. Поэтому решил, что будет справедливо, если я расскажу вам о самом тяжелом и ужасном случае в моей жизни.
– Прежде чем мы приступим к историям, мне нужно с вами поговорить. – Я наклоняюсь вперед и опираюсь локтями о колени. – Это ведь вы разбросали по отделению пустые бутылки?
– Бутылки? Какие бутылки? А… эти. – Видимо, Ричард уже погрузился в воспоминания.
– Да, эти. Что вы с ними делали? Уборщики и пациенты начали их находить. Повсюду. Нельзя же шантажировать меня этим бухлом и моей тайной и в то же время так себя подставлять. Вас застукают.
– Я не разбрасывал их, а выбрасывал. По одной или две, в разные корзины для мусора, в разных частях отделения. Никогда рядом с вашим кабинетом или своей комнатой. Только в местах, куда имеют доступ все. Они никогда не узнают, что это я. И уж точно никак не подумают на вас.
– У нас даже было совещание, посвященное этим бутылкам. Мы с вами заигрались, и я слишком долго не понимала, насколько это опасно. Но теперь все. Больше никаких бутылок. Держите их подальше от меня и от моего кабинета. Я серьезно.
– Это потому, что вы считаете – они обо всем догадаются? Что это вы?
– Не важно почему! Я сказала, теперь этому конец. Я больше не пью, и уж точно не пью с вами. И разговор окончен. А теперь, пожалуйста, начинайте свою историю. – Я с негодующим видом скрещиваю руки и хмурю лоб. Я готова принять вызов.
– Это не значит, что вы слезли с крючка, знаете ли. Даже если мы не будем пить вместе, ваш запас все еще у меня. Сделка остается сделкой. – Ричард наставляет на меня свой огромный палец.
– Отлично, – киваю я. – Но бутылки из моего запаса больше никогда не появятся в этом кабинете. Вы меня понимаете? Я вообще не знаю, почему начала с вами пить! Вам следовало бы держать свое орудие шантажа при себе и не открывать эту банку с червями. И лучше вам подальше их запрятать, потому что сейчас все ищут, откуда они взялись.
– Я решил, что вам не помешает немного расслабиться – или набраться храбрости, чтобы рассказать о себе. И привыкнуть к нашему договору.
– Вам бы понадобилось гораздо больше спиртного, чем две крохотные бутылочки, чтобы заставить меня согласиться. Я сказала да, потому что вы меня шантажировали, а не потому, что была пьяная в стельку.
– Понял. Ваш запас я попридержу в качестве доказательства, если оно потребуется.
– Верно, если потребуется. Я тоже поняла. И повторю: никакого бухла в этом кабинете. – Я демонстративно откидываюсь назад.
Некоторое время Ричард молчит и ждет, когда атмосфера в комнате снова станет нормальной. Наконец он поворачивает голову вправо – в шее у него хрустит, потом два раза влево и приступает:
– Я еще не рассказывал об этом ни одной живой душе на планете. О том, что произошло в тот день. – Начало он явно отрепетировал.
– Почему же вы рассказываете мне? – тихо и мягко вступаю я.
– Вы – единственный человек, который мне встретился за все эти годы, кому этот рассказ мог бы принести пользу. Может быть, помочь стать лучше.
– Вы полагаете, что сделаете меня лучшим человеком, чем я есть? – Я улыбаюсь и едва сдерживаюсь, чтобы не фыркнуть ему в лицо.
– Просто выслушайте меня, Сэм. Пожалуйста. Ваш сарказм и недоверчивость в этой истории явно лишние. Мне было восемнадцать. Я встречался, уже довольно долго, с девушкой у которой, похоже, тоже было пограничное расстройство личности. Это я узнал позже, в тюрьме, – что нас привлекают люди, чем-то похожие на наших родителей. Даже если схожесть выражается в плохих чертах характера. Потому что ты уже как бы знаком с ними и даже к ним привык. Так что, наверное, меня тянуло к женщинам, которые манипулировали людьми и у которых съехала крыша… – Ричард останавливается на полуслове. – Простите, я совсем не хотел сказать, что у вас съехала крыша. Просто с этими пограничными состояниями все так сложно. Сегодня ты лучший человек на свете, а завтра – демон из ада. И я никогда не мог предсказать, с кем я буду говорить на следующий день.
Я киваю, отпиваю кофе и машу рукой, чтобы он продолжал.
– Ну так вот. Я встречался с этой девушкой, и, наверное, Фрэнсис стала ревновать, потому что, когда она видела, что я одеваюсь, собираюсь на свидание, устраивала какую-нибудь истерику или вдруг заболевала, и я обычно оставался дома и ухаживал за ней. А наша встреча с той девушкой, естественно, отменялась. Я привык выбираться на свидания по ночам, когда Фрэнсис вырубалась. Кстати, ее тоже звали Саманта. Хм. – Он словно только что об этом вспомнил.
Через некоторое время Фрэнсис тоже начала ходить на свидания, может быть даже только затем, чтобы не уступать мне – у меня-то ведь кто-то был. В нее всегда влюблялись мужчины. Она какое-то время встречалась с очередным поклонником, а потом ей становилось скучно, он начинал ее утомлять или бесить, и она переключалась на другого. И каждый раз, когда она порывала со своим мужчиной, всегда была со мной очень приветлива. Я бы даже сказал, мила и нежна. А в тот раз… в тот раз ее ухажер пришел к нам домой. Хотя я никогда никого из них не видел.
Она так долго была в хорошем настроении, и я уже подумал, что ей стало лучше. Но в ту ночь к нам заявился этот тип – забрать ее, они собирались куда-то пойти. Я был выше его, и, наверное, в этом-то и оказалась проблема, потому что он тут же почувствовал ко мне неприязнь. Говорил со мной снисходительно, и в то же время это были едва прикрытые гадости. И еще он грубо схватил Фрэнсис, сграбастал ее за талию. Я помню, что хотел ему врезать, но Фрэнсис вдруг тоже начала нападать на меня вместе с ним. Они оба уже успели напиться. Потом они ушли. А я остался ждать ее дома. Беспокоился за нее, потому что этот тип мне очень не понравился. Я позвонил Саманте, сказал, что мы не можем сегодня увидеться и что я должен быть дома.
Фрэнсис вернулась очень поздно. Наступила весна, и солнце стало вставать раньше. Так вот, когда она пришла, на улице уже светало. Я столько раз видел ее в бешенстве. И она столько раз вымещала на мне дурную ночь или что-то еще. Но еще никогда она не была в таком состоянии. Ее платье было разорвано, а косметика размазалась по лицу. Видимо, она и тот парень поссорились и подрались. Или… или он…
Ричард дышит глубже и размереннее, как будто позволяет воспоминаниям выплыть на поверхность. Он закрывает глаза и продолжает:
– Я помню, что даже икры у нее были в потеках грязи. Я очень испугался. Первым делом она спросила, зачем я ее дожидался. Сказала, что если я отдал ее прямо в лапы к монстру, то нечего сидеть и притворяться, будто я за нее волнуюсь. Я знал, что она попадет в неприятности, и не должен был ее отпускать. Она сунула в рот сигарету и стала рыться в кухонных шкафах. Достала сковородку и пошла на меня. Я был намного выше и больше ее, но все равно пригибался и закрывал голову руками. Она била и била меня этой сковородой и кричала, что я совсем ее не люблю и ни за что не должен был отпускать ее с этим ужасным типом. А потом загасила сигарету мне о шею.
Ричард невольно трогает след от ожога.
– Когда у сковородки отломилась ручка, я уже подумал, что все, все кончилось. Но нет. Наверное, с ней случилось что-то очень плохое, и ей нужно было на ком-то оттянуться. Сравнять счет. И конечно, ей было кого во всем обвинить. Она пиналась и швыряла в меня всем, что ей под руку подворачивалось. И через какое-то время я вдруг огрызнулся. Она в тот момент била меня зонтом, и я вырвал его у нее из рук и бросил на пол на кухне. Весь пол был завален барахлом. Я никогда не слышал, чтобы человеческое существо издавало такие звуки – когда я впервые в жизни попытался за себя постоять, она завизжала так, будто внутри ее сидел сам дьявол. Она замолотила в мою грудь кулаками, а я схватил ее за плечи и старался остановить. Она вопила, махала кулаками, вырывалась, а я удерживал ее на расстоянии вытянутой руки, чтобы она не могла меня достать. Я потихоньку оттеснял ее в угол, чтобы у нее не было пространства как следует размахнуться, но… но… когда я подталкивал ее вперед и мы медленно двигались через кухню… я… на что-то наступил, споткнулся и упал лицом вперед. – Ричард дрожит и задыхается. – Я держал ее за плечи, и поэтому врезался в нее со всей силы. Она тоже потеряла равновесие и упала, а я рухнул на нее. Она ударилась головой о ступеньку кладовой, так, что голова отскочила и ее лоб стукнулся о мое лицо. Я тут же понял, что произошло нечто ужасное, потому что она вдруг замолчала. Ее лицо застыло… на нем была такая жуткая гримаса… рот исказился от крика. Я не знаю, треснул у нее череп, или я сломал ей шею, или что там случилось на самом деле, но сразу понял, что она мертва. Была – и нет. Секунду, буквально секунду назад я пытался ее остановить, а в следующую секунду она умерла. Я помню, что присел рядом и приложил к ее губам носовой платок, чтобы понять – дышит она или нет. Я не знал, как нащупать пульс. Я сидел на полу, никак не мог отдышаться, а солнце уже взошло, и тут в нашу заднюю дверь постучала миссис Чой.
Я не могу как следует вздохнуть. Ричард, всегда такой огромный, заполняющий весь кабинет, становится как-то меньше, мягче, и мне кажется, что в моем кресле для пациентов сидит восемнадцатилетний мальчик.
– Миссис Чой жила во второй квартире в нашем доме. Она знала, что Фрэнсис меня бьет, и, если слышала крики, иногда заходила к нам… спешила мне на помощь. Фрэнсис никогда не прикасалась ко мне в присутствии других.
Я услышал, как она стучит, и сразу запаниковал, потому что понимал – у нас беда. Но заднюю дверь мы никогда не запирали, и она просто вошла в дом. Наверное, ужаснулась. Все было перевернуто вверх дном, на полу сломанная сковорода, зонт, я, весь в бухле, в ожогах и ссадинах, Фрэнсис тоже на полу. А вокруг осколки стекла, я задыхаюсь и давлюсь в платок… Она тут же выбежала и сразу позвонила в полицию. Они добрались до нас минут за двадцать, но я не сдвинулся с места. Не мог пошевелиться. И скорая тоже приехала. Врачи ворвались на кухню и стали спрашивать меня, что случилось. А я не мог ни звука из себя выдавить. Меня начало рвать, прямо посреди кухни. Врачи копошились над Фрэнсис, что-то с ней делали и все время кричали, требовали, чтобы я им ответил. Копы заходить не стали, но я заметил, что они стоят у парадной двери. Потом наконец один из врачей со скорой спросил, все ли со мной в порядке. Я ничего не сказал. Миссис Чой топталась рядом с полицейскими, мотала головой и заламывала руки. Помню, что меня всего трясло и постоянно рвало до тех пор, пока в желудке ничего не осталось. Какой-то врач набросил на меня большое шерстяное одело. А все остальное было словно в тумане.
Потом пришли полицейские и тоже начали задавать вопросы, но мне казалось, что они говорят на каком-то незнакомом языке. Я не понимал ни слова и не мог им ответить. Я не знал, что случилось, и не знал, что им сказать. Потом я помню, как сидел в полицейской машине, сзади, все еще в том самом одеяле, и два копа впереди что-то говорили, но я их не слышал. Они отвезли меня в больницу, и я оказался в каком-то маленьком помещении, закрытом занавесками. И копы, и медсестры – все разговаривали, а я никого не слышал. Все было как в ту ночь, когда отключили электричество, – кругом хаос и полная тишина. Не знаю, как долго я там пробыл. Должно быть, несколько часов. Они приносили мне какие-то бумаги, чтобы я их заполнил, опять задавали вопросы, но я не мог отвечать. И больше я ничего не помню – до тех пор, как обнаружил себя в тюремной камере.
Мой мозг работает медленно, как будто его заморозили, и поэтому нужные слова приходят ко мне не сразу.
– Ричард, но вы же были не виноваты. Как вас могли обвинить в убийстве, когда вы ее не убивали? Это же была явная самозащита. – Я закрываю рот ладонями и говорю сквозь щели между пальцами.
– Как я уже сказал – вы единственная живая душа, которая знает эту историю.
– Почему вы им ничего не сказали? Не показали синяки и ожоги? – Я уже почти в истерике. Я плачу и молю бога, чтобы все сложилось иначе, как будто могу изменить прошлое.
– Я не мог. Не мог ее так опозорить, рассказав, что она со мной делала. Все, что я чувствовал, – это собственная вина. Потому что всю мою жизнь, сколько я себя помню, я твердо знал – все плохое, что со мной происходит, – это моя вина. Фрэнсис всегда твердила, что это я виноват, что она меня бьет, я виноват, что она пьет, я виноват, что она не может работать. Даже в ту ночь она сказала, что это я виноват в том, что тот мужчина ее избил. – Он говорит, и по его тону я чувствую, что он до сих пор верит в свою вину. И его история слишком хорошо мне знакома. До мельчайших подробностей.
– И вы хотите сказать, что не было никакого расследования? Но как это возможно? Как можно засадить человека в тюрьму на полжизни просто так, по щелчку пальцев?!
– Не просто так. Это трудно объяснить. – Он качает головой и смотрит в пол.
– Поверить не могу, что вы даже не попытались себя защитить и отправились за решетку. На полжизни!
– Меня посадили не потому, что я не пытался себя защитить, Сэм. – У него дрожат губы. – А как раз потому, что попытался.
Я рыдаю что есть мочи и отчаянно стараюсь увидеть разницу между собой и Ричардом. Между собой и Фрэнсис. Я – Ричард, вечно виноватый, вечно избиваемый ребенок. Я – Фрэнсис, больная женщина с нестабильной психикой, у которой вся жизнь идет насмарку. Я играю все роли в этой пьесе, и они пристали ко мне так, что не отодрать. Я должна выбраться.
14 февраля, 12:11
История Ричарда разыгрывается в моей жизни. Я в истерике и не могу избавиться от мысли, что это моя судьба. Вот что меня ждет. Я валюсь на пол в кабинете Дэвида, цепляюсь за его колени и умоляю простить меня.
– Я не могу быть такой, Дэвид, не могу! Он убил ее! Он убил ее, потому что она была такой же, как я, и он убил ее! – Я рыдаю, запинаюсь, бессвязно повторяю одно и то же и оставлю следы на его безупречных брюках. – Таких людей, как я, убивают, Дэвид!
– Эй, эй, эй. Тише, тише. – Дэвид приглаживает мои волосы и держит за подбородок. – Кто? Кто кого убил?
– Ричард! Поэтому он сидел в тюрьме – он убил свою мать.
Мои глаза так распухли от слез, что они больше не льются. Выдавить хоть одну сейчас так же трудно, как выдавить шар, наполненный водой.
– У нее было пограничное состояние. И у меня пограничное состояние! И он убил ее, потому что у нее было пограничное состояние! – Я прячу лицо у него на коленях, надеясь, что от признания мне станет легче, и в то же время не меньше надеюсь, что он каким-то чудом меня не услышит.
– Тише, Сэм. Все хорошо. Тише, успокойся. – Дэвид сползает со своего кресла на пол и устраивается рядом со мной. Он обнимает меня одной рукой, а другой гладит по плечу. Я сморкаюсь, всхлипываю и трясусь. Дэвид все шепчет мне в ухо «тише, тише» и тихонько целует в волосы. И это меня успокаивает.
Слезы останавливаются, дыхание замедляется и выравнивается. Мы с Дэвидом сидим на полу, как большая куча, и мне уютно в его объятиях. Мокрые волосы прилипли к моему лбу, он осторожно убирает их с лица и заглядывает мне в глаза. Но я смотрю прямо перед собой.
– Дэвид, – спокойно говорю я. – У меня пограничное расстройство личности. Это подтвердили специалисты из ДПЗ. Я всегда знала, что со мной не все в порядке, но не догадывалась, что дело настолько плохо. Рэйчел попросила меня написать резюме по заключениям, что составили психиатры из ДПЗ. Я прочитала свои результаты, и это правда. У меня пограничное расстройство личности. – Я длинно прерывисто вздыхаю и продолжаю: – У нас с Ричардом продолжаются сеансы, и все-таки продвинулись вперед. Он рассказал мне, что убил свою мать, а я рассказала ему, что у меня ПРЛ. Тогда он сказал, что у нее было то же заболевание, и меня как будто прорвало. Это было уже слишком. Я испугалась и впала в истерику. Разревелась прямо перед ним и практически выпихнула из кабинета. А потом пришла к тебе. – Я покачиваюсь взад-вперед, обхватив щиколотки мокрыми ладонями. – И еще я изменяла Лукасу. С Эй Джеем. Мы переспали несколько раз. Каждый раз, когда Лукас всерьез меня доставал, я бросалась к Эй Джею. Но у меня с ним все кончено. И с Лукасом я тоже порвала, почти две недели назад. Не знаю, почему не рассказала тебе раньше.
Дэвид ничего не отвечает. Он дает мне выговориться, выложить все, что так тяготит мою душу. Он только гладит меня по рукам и волосам, кивает и иногда шепчет «тише, тише».
Я все еще смотрю прямо перед собой. Слезы высохли, и теперь глаза сильно жжет.
– У меня такое ощущение, будто все рухнуло. Раньше я знала, кто я такая и что делаю, а теперь мне сказали, что у меня эта гребаная болезнь, и мир перевернулся. Все изменилось. Лучше бы я никогда не узнала.
– Хватит, Сэм. Хватит. Ты не можешь сидеть тут и ведрами лить на себя дерьмо. Ты ни в чем не виновата. Это диагноз. Теперь тебе о нем известно, и мы с ним справимся. Это не определяет того, какая ты на самом деле. Как бы понятнее выразиться… – Он разворачивает меня лицом к себе. – Ты бы никогда не сказала такого своим пациентам с ПРЛ. Никогда и ни за что. Так какого черта ты говоришь это про себя?
– Когда это случается лично с тобой, все по-другому. – Я не могу взглянуть ему в глаза.
– Почему ты не пришла ко мне и не рассказала сразу?
– Я просто не знала, как это сказать. И я боялась, что если ты узнаешь все о Эй Джее, то будешь злиться на меня за то, что я… изменница. – Я поднимаю на него умоляющие глаза.
– Жаль тебя разочаровывать, но я и так знал про Эй Джея. И рад, что у тебя все кончилось. И с ним, и с Лукасом.
Я качаю головой. Да, Дэвид всегда опасался Лукаса и того, что может выйти из нашей связи.
– Но все остальные думают, что он само совершенство.
– Я вижу тебя каждый день, Сэм. И замечал и синяки, и кровь в волосах. Я говорил тебе – ты плохо все скрываешь.
– И ты думаешь, всем тоже это известно?
– Нет, не думаю, что кто-нибудь догадывался. Людям хотелось верить, что вы – идеальная пара. Никому не хочется знать правду. Всем нравится притворяться, потому что так действительность выглядит гораздо привлекательнее. – Дэвид умеет объяснять так, что все сразу становится понятно.
– И как мне теперь отстроить свою жизнь заново? Я не знаю, как мне дальше жить.
– А тебе и не надо строить все заново.
Теперь мы сидим лицом друг к другу, скрестив под собой ноги. Я, согнувшись, прячу лицо в ладонях. Мы слышим, как по коридору ходят пациенты и коллеги, и понижаем голос.
– Так что мне теперь делать? Все, что у меня было, – ушло. Мои отношения окончены. Я больше не обладаю идеальной репутацией на работе, я психически нездорова – у меня ничего не осталось, – шепчу я.
– Во-первых, тебе надо отдышаться. Расслабиться и привыкнуть к своему новому положению. А потом мы решим, какой будет следующий шаг.
– Меня уволят?
– Ну конечно, никто тебя не уволит. Ты – золотая девочка, забыла? Рэйчел тебя обожает. Наша больница без тебя просто развалится.
Дэвид не знает, что Рэйчел ничего не известно и что я благополучно спрятала свое заключение.
– Но разве они не обязаны меня уволить? То есть разве это не означает, что я не пригодна к исполнению текущих обязанностей? – Мне нужно, чтобы Дэвид меня подбодрил, несмотря на то что я не рассказываю ему всю правду.
– Нет. Сэм, ты же знаешь. То, что у тебя ПРЛ, не значит, что ты не можешь делать свое дело. Может быть, благодаря своей болезни ты даже делаешь его лучше. Может быть, именно поэтому ты самый лучший специалист из всех нас.
Я не могу не рассмеяться – так абсурдно звучат его слова. Но… возможно, он и прав. Может быть, у меня так хорошо получается лечить пациентов, потому что я – слепой, ведущий других слепых.
– Ты злишься на меня? В последнее время я была тебе не очень-то хорошим другом. Я просто никак не могла смириться, что между тобой и Джули что-то есть.
– Я никогда на тебя не злюсь. И не злился. Только беспокоился.
– Прости меня. Я чувствую, что теперь все должно измениться. Мне нужно собрать свою жизнь по кусочкам и скрепить ее.
– Что ж, очень хорошо, что ты бросила Лукаса и закончила интрижку с Эй Джеем. Ни один из этих говнюков не был тебя достоин. И не делал тебе ничего хорошего. Теперь тебе нужно только прекратить пить с пациентами на рабочем месте.
Я резко выпрямляюсь.
– Как, твою мать, ты об этом узнал?
У меня краснеют уши, а спина становится мокрой. Стены кабинета вдруг начинают сужаться и давить на меня, как всегда, когда на меня нападает приступ паники.
– Однажды, во время вашего сеанса с Ричардом, я проходил мимо твоей двери и услышал, что вы разговариваете. Это показалось мне странным – ты ведь говорила, что он все время молчит и дело стоит на месте. Я очень удивился. Словом, когда он вышел, я потихоньку последовал за ним и увидел, как он выбрасывает маленькие бутылочки из-под какого-то алкоголя в мусорный бак в мужском туалете.
– Ты думаешь, на собрании все об этом догадались?
– Нет. Ты великолепная актриса. Никто не умеет врать так убедительно, как ты. – Дэвид улыбается и протягивает мне бумажный носовой платок.
– Вы с Джули сегодня вечером куда-нибудь пойдете? – Я выкладываю на стол все свои карты. Задаю все вопросы, которые меня волновали, рассказываю обо всех своих тревогах и страхах.
– Нет, Сэм, – твердо отвечает он. – Я знаю, ты считаешь, что между нами с ней что-то есть, но это не так. Я не встречаюсь, Джули. И вообще ни с кем не встречаюсь, раз уж об этом зашла речь. Я тебе уже говорил. Она подбиралась ко мне, только чтобы стать ближе к тебе.
– А вот это уже ерунда, и ты сам это знаешь. Она хотела стать ближе к тебе! А меня использовала как средство, чтобы подлезть к тебе.
– Мне прекрасно известно, что ты ее ненавидишь, но опять же, как я тебе уже говорил, Джули – совершенно безобидное существо. Мне жаль, что ты так расстроилась, когда услышала нас в кабинете. Но честное слово, ничего не было. Даже и близко. – Он произносит это спокойно и убежденно, и кажется, я ему верю.
– Кто-то реально должен что-нибудь сделать с этими стенами, – говорю я. – Это ненормально, что мы можем слышать друг друга. Дикость какая.
Дэвид озабоченно смотрит на меня:
– С тобой ведь все будет в порядке?
Из моей груди вырывается нервный смешок. Мне уже неловко, что я устроила еще одну сцену и ворвалась к Дэвиду, чтобы он спас меня и отпустил мне грехи.
– Думаю, да. Мне нужно о многом подумать. И… Дэвид. Ты не должен никому говорить о том, что я тебе рассказала. Никто ничего не знает. – Я протягиваю ему согнутый мизинец. – О’кей?
– Никто, кроме Ричарда, – напоминает он и продевает свой мизинец сквозь мой.
Часть третья
21 февраля, 10:57
Я не завтракала, так что у меня куча чудесных предложений от автомата с закусками. Я принимаю решение, что сырные шарики и арахисовые M&M’s вполне сойдут за настоящую еду, и набиваю ими рот. Мне постоянно хочется сладкого, потому что я завязала с выпивкой и организм переживает абстинентный синдром. Ричард уже сидит у меня в кабинете, готовый продолжать, и я начинаю прямо с того места, где мы остановились в прошлый раз.
– Что было на суде?
– Суд я помню плохо, потому что все еще как будто находился в тумане. Все расплывалось перед глазами. Я никому не рассказывал, что на самом деле произошло в тот день. Ни адвокату, ни судье, ни копам. Они склепали историю из вещественных доказательств, найденных на месте преступления, и показаний миссис Чой. Не знаю, что она им там наговорила. – Он тянется за моими сырными шариками и кидает один в рот. – Помните, я рассказывал вам историю об аварии и о том, как во всем городе вырубилось электричество? Когда меня арестовали за мародерство?
– Да, вас и Джесса. И потом отпустили. Прекрасно помню.
– И помните, они не записали мое настоящее имя, потому что я им его не сказал?
– Да. – Я предлагаю ему взять еще один сырный шарик, но он отказывается.
– Я ведь все время молчал и сначала проходил под именем Джон Доу[20]. Потом меня стали называть младший Уильямс – фамилия Фрэнсис была Уильямс. А потом копы нашли мои отпечатки в системе, и я получил имя Генри Джеймс. В конце концов я признался, что меня зовут Ричард Макхью. Но всем было уже безразлично. Подсудимый – вот какое было у меня имя. Убийца – еще одно. Такое мне дали «удостоверение личности».
Никаких записей о моих переломанных руках, естественно, не было. Мы же не обращались в больницу. Никто не догадался, что синяки, шрамы и ожоги – и никто не смог бы это доказать – достались мне от Фрэнсис. Они могли быть от чего угодно. От глупых подростковых игр. От школьных драк. От спорта. Теоретически я мог и сам себя порезать или прижечь. Если у меня были такие наклонности. Я ничего не говорил, никаких свидетельств очевидцев не было, и им было не от чего оттолкнуться. И меня изобразили монстром. Жестоким мучителем матери. Дурным семенем. Синяки они объяснили просто – Фрэнсис пыталась защититься. А потом на ее теле нашли следы побоев, которые оставил тот парень, – и свалили все на меня. Я даже имени его не знал – кого мне было обвинять?
Точно так же говорили тогда женщины на сеансе, где мы обсуждали домашнее насилие. Власти никогда не верят жертвам.
– Они сказали, что я убил свою мать. Когда тебе повторяют что-то много раз, то ты и сам начинаешь в это верить. Сколько раз я слышал, что ничего не стою, что от меня нет никакой пользы, что я плохой, неправильный… – Глаза Ричарда словно заволакивает туман, и я спрашиваю себя – может быть, он верит в это и по сей день?
– Каково вам пришлось в тюрьме? – Я ставлю локти на стол и подпираю подбородок кулаками, как ребенок, которому сейчас расскажут страшную историю о привидениях.
– Каково? Господи. Как вам объяснить. Было так много всего. Чувство одиночества, которое мне, в общем, нравилось. Никто меня не трогал, не беспокоил. Если всегда держаться в стороне, то рано или поздно тебя оставляют в покое. Сначала я сидел в Грин-Хэйвен, но это было недолго. Потом, когда я отбыл два с половиной года наказания, меня перевели в другую тюрьму, с менее строгим режимом. Адвокат объяснял что-то о переполненных камерах и преступлениях первой степени… я уже не помню. Я был счастлив оказаться там, где у меня будет чуть-чуть больше свободы. – Он вытирает соленые пальцы о салфетку и прячет ее в карман.
– Куда вас перевели?
– В Огденсберг.
– Серьезно? Я думала, туда сажают в основном насильников. Многих наших пациентов направляют к нам после того, как выпускают из Огденсберга.
– Да, насильников там полно. Но не все они такие уж плохие. Но в Огдене мне стало хуже. Я начал лучше понимать, что со мной происходит. Большую часть заключенных никуда не переводят – как правило, у них не меняется ни обстановка, ни охрана. До меня стало постепенно доходить, в какой ситуации я оказался. Я будто осознал, что все это реально, и ко мне стали приходить мысли о времени. Мне было двадцать один год, и предстояло провести за решеткой больше лет, чем я успел прожить. Я вспомнил себя совсем маленьким, почти младенцем, и как давно это было. И еще я думал о том, что все мои воспоминания о жизни, все, что со мной было, со временем вытеснят воспоминания о том периоде, что я провел здесь. Тюремные воспоминания. Внешний мир поблекнет и исчезнет. А когда меня выпустят, получится, что я просидел за решеткой больше лет, чем пробыл на свободе. И это стало меня пугать.
– О, маааааааать твою, – тяну я, как будто слово «мать» состоит из четырех слогов. – У вас впереди было еще целых двадцать лет. – Эта мысль не укладывается у меня в голове. Двадцать лет назад я как раз заканчивала школу. А еще через двадцать лет мне будет почти шестьдесят.
– И у меня началась депрессия. Я перестал есть. Я не хотел уморить себя голодом или что-то в этом роде. Просто перестал, потому что мне было все равно. Я больше не получал от пищи ни удовольствия, ни удовлетворения. Голод я всегда переносил легко, и потом, тамошняя еда мне все равно не нравилась. Я стал худеть, и мне не спалось по ночам. Мне хотелось все время проводить в одиночестве – столько, сколько возможно. Так что я сидел в своей камере, сам по себе, среди беспорядка и разбросанных вещей, и, наверное, кто-то из администрации это заметил.
Когда я бросил есть, один из охранников это заметил, доложил начальству, и они отправили меня к психиатру. Сказали, что мне полезно будет с кем-нибудь поговорить. Я не разговаривал с людьми несколько лет и не думал, что смогу. Но он настаивал, устроил мне прием у теремного мозгоправа, а еще надавал брошюрок о групповой терапии. Я сходил на пару сеансов и посетил пару врачей. Я был молод и просто делал, что мне велели.
– Вы рассказали кому-то из врачей, что произошло с вашей матерью?
Ричард бросает на меня обиженный взгляд:
– Вы же знаете, что нет.
– Почему же? Мне кажется, вам представилась возможность разобраться со своими чувствами по отношению к несчастному случаю с Фрэнсис. И вообще – с чувствами к Фрэнсис.
– Я никогда и никому не признавался, какая у меня была жизнь. Даже в детстве, друзьям – они не знали, как Фрэнсис со мной обращалась. Да я даже девушке своей об этом не говорил – сказал только, что у Фрэнсис бывают мигрени, поэтому мне и приходится иногда оставаться дома. А ведь я любил ее… ту девушку. Она была почти такая же сдвинутая, как Фрэнсис, но всегда понимала меня и прощала, когда я отменял свидание. Если уж я ей ничего не рассказывал, то, конечно, не мог рассказать никому вообще.
– Я бы хотела услышать побольше о вашей девушке. – Я собираю со стола пустые пакеты из-под сырных шариков и конфет и кидаю их в корзину для бумаг.
– О моей девушке? Я думал, вы хотели узнать, что было в тюрьме.
– Да, но в следующий раз давайте поговорим о ней.
– Хм… О’кей.
– А пока продолжим разговор о психологах. Как проходили ваши сеансы?
– Ну, не так, как ваши. У меня был один психолог. Мужчина. В то время еще совсем молодой, ненамного старше меня, лет тридцати наверное. И он постоянно спрашивал, что же на самом деле случилось. Не верил обвинителям. Не верил доказательствам. Не считал меня жестоким. И вот он задавал мне все эти вопросы, а я не отвечал. Сидел в его кресле, слушал, не грубил, ничего такого, только молчал. Не игнорировал его, не читал газеты. Просто не отвечал на вопросы.
– Вообще ни слова не произносили? Молчали как рыба? Даже не здоровались?
– Я не произнес ни единого слова за шесть лет.
– Что? Шесть лет? Я не думала, что вы имели в виду… такое. Решила, что вы не обсуждали ни с кем мать, или суд, или несчастный случай… Но полное молчание в буквальном смысле слова…
– Видимо, мне нечего было сказать. – Мой шок Ричарда совершенно не беспокоит.
– И когда это началось? Когда вы перестали разговаривать?
– Примерно в то время, когда заболел. Вообще, после того… случая я мало говорил. Но еще отвечал, если меня заставляли, на суде, например, или адвокатам, но кроме этого – нет. Повторю – мне было нечего сказать.
– Этого не может быть. Не могу себе представить, как это – не разговаривать.
Репутация молчальника явно пришла за Ричардом из тюрьмы.
– Этот самый док был единственным, кто не пытался заставить меня говорить. Многие начинали беситься, орать на меня. Некоторые боялись и старались держаться от меня подальше. Один парень решил, что мне отрезали язык. Ходил за мной несколько недель и рассказывал всем, что мне вырезали язык за то, что я стукач. Считал, что со мной дружить лучше всего, потому что я никогда и никому ничего не разболтаю. Его звали Виктор. Этот урод вечно нашептывал мне на ухо свои секреты. Он совратил двух своих племянников и говорил, что, если его выпустят, сделает это снова.
Я морщусь и зажимаю руки между коленями.
– Но вернемся к доктору. Он вел себя примерно так, как и вы. Назначил мне время для сеансов, и я приходил к нему в кабинет. Он задавал мне кучу вопросов, самых разных, но ответов не ждал. Спрашивал, как мне живется в тюрьме. О суде тоже спрашивал. И о том, как я жил до тюрьмы, до несчастного случая. Он называл это «травмирующим событием». Наверное, он был реально хорошим мозгоправом, или, может, видел что-то такое по моим глазам, или не знаю, что еще, но вскоре он начал кое-что понимать. Сообразил, что наши с Фрэнсис отношения были не очень-то нормальными.
Однажды он спросил, не соглашусь ли я пройти медицинское обследование. Врачи мной не занимались с тех пор, как я ушел из школы Святой Терезы. Ну и я, видимо, кивнул или пожал плечами, и он решил, что я не против. Отвел меня в медчасть, с нами пошел еще один врач, и меня осмотрели с ног до головы и проверили все, что только можно. Взяли кровь на анализ, сделали рентген и легкие тоже смотрели – не знаю, как это называется.
– Хмм, он искал доказательства своей теории. Что-то показалось ему подозрительным, и он хотел найти какие-нибудь признаки, свидетельства того, что он прав.
– Бинго. Рентгеновские снимки показали, что у меня были переломаны руки. И он увидел шрамы и ожоги от сигарет у меня на спине и ногах. И видимо, пазл сложился. Тогда он стал расспрашивать меня об этом. Я, как обычно, ничего не отвечал. Но он все равно все узнал.
– Все узнал? Вот так вот взял и догадался?
– Да, так и было. И начал приносить мне книги. О том, что, как он думал, со мной происходит. О депрессии. О болезнях, о том, как ведут себя такие люди, как Фрэнсис. О шоке. О пост… как вы его там называете… расстройстве.
– Посттравматическое стрессовое расстройство. ПТСР.
– Спасибо, дорогой доктор.
– Не за что, дорогой пациент.
– Он дал мне прочитать кое-что о стокгольмском синдроме. Вам ведь об этом известно? Заложники в банке в Швеции?
– Да, конечно, известно. То есть этот доктор сделал вывод, что вы проявляете симптомы, сходные с теми, у кого наблюдается стокгольмский синдром, просто посмотрев на ваши рентгеновские снимки и побеседовав с вами? Хмм… травматическая связь… это невероятно.
– Он сказал, что, может быть, поэтому я никогда не защищался. И что если шрамы и ожоги оставила Фрэнсис, то это все объясняет.
– Это действительно все объясняет. Абсолютно все. – Я вздыхаю.
– Ну, и ему стало интересно, в чем же была проблема Фрэнсис. Тогда я и узнал о пограничном расстройстве личности.
– Этот человек не перестает меня изумлять. Как его звали? Что с ним сейчас, где он? – Мне становится понятно, почему Ричарду так нужно было выпустить из себя все это. Почему он сидит в моем кабинете каждый вторник и рассказывает свою историю.
– Не знаю. Вроде бы он вышел на пенсию или… не знаю. Я еще был за решеткой. Понятия не имею, где он обретался. Иногда он приходил меня навестить, не как терапевт, а как обычный человек. Иногда мы даже вместе обедали. Но я так и не сказал ему ни слова. А теперь жалею. Мне хочется его поблагодарить.
– Вы не помните его имени?
Ричард колеблется.
– Это было так давно. Я знал его как доктора Марка.
– Отлично, – саркастически усмехаюсь я. – Это может здорово помочь. – Я бросаю ручку на стол. – Вы на самом деле не помните его фамилию?
– Нет. Может, Шарф или Штайн… что-то еврейское.
– Ну ладно, хоть что-то. Вы никогда не пытались разыскать его?
– После того как меня выпустили? Нет, я не хотел никому надоедать или беспокоить.
– Ричард, этот доктор помог вам. Вы сказали, что хотели бы его поблагодарить. Даже притом, что вы действительно открыли мне душу за последнее время, мне все равно нужно бы поговорить с кем-то, кто вас знает!
– Мне пятьдесят пять лет. А ему сейчас, должно быть, уже шестьдесят с лишним. Вряд ли ему понравится, если бывший заключенный ни с того ни с сего объявится у него на пороге.
– Вы разрешаете мне попробовать его найти?
– Для чего?
– Для того чтобы эффективнее помогать вам! Для того чтобы побеседовать с кем-то, кто хоть что-то про вас знает! Я ведь фактически стреляю вхолостую, Ричард, если можно так выразиться. Мне необходимо обсудить ваш случай с профессионалом.
– Мой случай? Так вот что я для вас такое? Вы хотите разобраться в «моем случае»? Видите? Именно об этом я и говорил, когда принес вам бухло. Вы согласились не обращаться со мной как с пациентом. – Он громко фыркает, вздыхает, откидывается назад и с негодованием смотрит в окно. Его глаза сверкают.
– А еще вы говорили, что если сделка состоится, и все ее условия с обеих сторон будут выполнены, и мы расскажем друг другу свои тайны, то я смогу начать вас лечить, чтобы вам стало лучше, – мягко парирую я и кладу руку на его странно согнутый локоть. – Разве это не часть договора? Разве это не моя работа?
Ричард набирает полные легкие воздуха и медленно, с закрытыми глазами, выдыхает. Потом накрывает мою руку ладонями. От того, какие они огромные и неожиданно нежные и теплые, по мне вдруг словно пробегает искра.
– Хорошо. Давайте, ищите. Но вам может не понравиться то, что вы обнаружите.
21 февраля, 14:37
Я только что вышла из кабинета Рэйчел после совещания и спускаюсь по черной лестнице, держа в руках сумку, бутылку воды, кружку с кофе и две истории болезни. Такое ощущение, что ноги я ставлю неправильно, не прямо, а на внешнюю сторону стопы, и от этого меня шатает, словно новорожденного олененка. Лестница и стены тоже покачиваются. От бутылки отлетела крышка. Я засовываю истории болезни в сумку и хватаюсь за перила, чтобы удержать равновесие.
Ступеньки становятся все меньше и меньше, и, когда я добираюсь до первого этажа и берусь за горизонтальную ручку двери запасного выхода, оказываюсь в два раза больше ее. Я открываю дверь, протискиваюсь внутрь и обнаруживаю себя в ярко освещенном коридоре. Дверные проемы увешаны гирляндами и разными рождественскими украшениями. Странно. Я готова поспорить на что угодно, что уже почти весна. Подходя к своему кабинету, я хромаю и раскачиваюсь все сильнее. Это уже смешно. При каждом шаге из бутылки выплескивается немного воды, но она не падает на пол, а зависает в воздухе прямо передо мной. Я прохожу сквозь эти водные капсулы, и мои волосы и лицо намокают. Прохлада освежает, и я стараюсь вытряхнуть из бутылки побольше влаги.
В конце коридора уже виднеется дверь моего кабинета. Огромная, как гора, она сверкает и переливается разными цветами, как будто ее выложили драгоценными камнями и кусочками зеркал. Перед ней стоит маленькая серая лошадка, а на лошадке сидит обезьянка – коата. Она сжимает в лапках бокал мартини и курит «Мальборо лайт». Я приближаюсь к двери, и обезьянка начинает смеяться. Присматриваюсь внимательнее и вижу, что обезьянка – это Лукас, а лошадка – Сид, бармен из «Никс-бара». Они распахивают передо мной дверь, и вслед за ними я захожу в кабинет. Здесь все выглядит совершенно обычно, как всегда. Сумка, которую я только что держала в руках, висит на крючке, на столе – полная бутылка воды и кружка кофе. Истории болезни, что я приносила Рэйчел, аккуратно лежат рядом с телефоном.
Лошадка Сид забирается в кресло для пациентов и сворачивается клубочком, собираясь вздремнуть. Он трогательно складывает все четыре копытца вместе, зевает и пристраивает на них свою лошадиную мордочку. Обезьянка Лукас допивает мартини, в последний раз затягивается сигаретой и кидает окурок в бокал, где еще осталось немного жидкости. Он похлопывает Сида по голове – тот уже уснул – и вспрыгивает ко мне на стол.
– Что ты здесь делаешь? – спрашиваю я.
– Я пришел тебя убить. Какая-то вещь в твоем кабинете отравлена, и, когда ты найдешь ее, ты умрешь. – Обезьянка Лукас берет трубку и набирает номер телефона дома моей матери.
– Как мне ее найти?
– Тебе придется все перепробовать и проверить.
Он выпрямляет спиральный телефонный провод и карабкается вверх по стене. Потом цепляется за грязную пластмассовую пластину на потолке и висит вниз головой, держась за нее лапами и прижимая к себе огромный телефон. Я копаюсь в ящиках стола, пытаясь отыскать там что-то, чего быть не должно. Например, старинный пузырек с лекарством, с черепом и скрещенными костями на наклейке. Такие показывают в мультфильмах в субботу утром. Я слышу, как обезьянка Лукас щебечет что-то в трубку, договариваясь с моей матерью. Они плетут заговор у меня за спиной.
Паника пронзает меня, как сердечный приступ. Я начинаю судорожно рыться в черных дырах кабинета. Делаю глоток воды из бутылки и сплевываю. Пробую кофе. Достаю из мусорной корзины наполовину съеденный бублик и пробую его тоже – вдруг он отравлен. Ничего. Ничто меня не отравляет. Паника не стихает. Чем дольше длятся мои поиски, тем больше предметов возникает в кабинете. Он наполняется вещами быстрее, чем я успеваю их проверять. И все, что я слышу, – это статический шум на другом конце телефонного провода и безумное обезьянье хихиканье.
Похоже, мне все-таки удается перекопать всю кучу – я уже вижу ковер под разбросанными историями болезни, каждую из которых я полизала, карандашами, ручками – всеми канцелярскими принадлежностями, покрытыми липкой слюной, напитками, сигаретами, мусором – словом, всем тем, что я перепробовала, проверяя, не этот ли предмет отравлен. Все. Я разгребла кучу и ничего не нашла. Я поднимаю взгляд на обезьянку Лукаса, чтобы спросить, что же я упустила, и вдруг вижу, как сверху на меня опускается огромное лезвие гильотины, с которого стекает какая-то ядовитая зеленая гадость… слишком быстро, чтобы можно было увернуться.
Я тут же просыпаюсь – с мокрыми, прилипшими к щекам волосами и пульсирующей головной болью. Во сне я вроде бы плакала, моя грудь сжимается от всхлипов; я трогаю лицо и понимаю, что слезы – настоящие. Должно быть, мое подсознание что-то уловило, потому что в телефоне меня ждет сообщение от Лукаса: «Сэм, мне нужно с тобой поговорить». Я по очереди открываю все ящики стола и смотрю на потолок. Нет, ничего из сна не осталось. Но кружка кофе, оставшаяся с утра, и бутылка воды так и стоят на столе. Сообщение я стираю.
24 февраля, 17:41
Я позвала Дэвида к себе в кабинет, чтобы он помог мне найти неуловимого доктора Марка.
– Дэвид, ты должен помочь мне все это просмотреть. – Я сижу на полу, а вокруг разложены документы, данные на Ричарда, с которыми он прибыл к нам, и его история болезни. Я внимательно читаю все бумаги, чтобы удостовериться, не пропустила ли я чего-нибудь важного.
Дэвид усаживается рядом со мной.
– Что именно мы ищем?
Теперь, когда он все знает, мне все еще немного неловко смотреть ему в глаза, поэтому я не свожу глаз с бумаг.
– Я пытаюсь разыскать психиатра, который работал с Ричардом в тюрьме. Он рассказал мне о нем сегодня утром, и этот доктор, похоже, очень талантливый специалист, который умел читать между строчками и смог узнать Ричарда лучше, чем все мы. Мы можем узнать, правда ли все эти его истории или нет. И какого хрена он все-таки здесь оказался! Я должна поговорить с этим чудо-мозгоправом.
– В какой тюрьме он сидел?
– В Огденсберге. И ходил на сеансы к местному терапевту. Марк с фамилией на букву «С». Ричард не помнит ее. Или никогда не знал. Он называл его просто «доктор Марк».
– Ты не пробовала сайт Огдена? Может, там есть фамилии медперсонала?
– Нет, не стала тратить время, потому что Ричард сказал, что этот Марк ушел, пока он еще отбывал срок. Значит… он попал в Огден… в каком это было году? Восемьдесят четвертом? Когда он сидел в Грин-Хэйвен? Можешь найти это?
– М-м-м… – Дэвид шелестит бумагами. – Сейчас, погоди. Да, вот. Похоже, его арестовали в мае семьдесят девятого, а судебный процесс начался тоже в семьдесят девятом, в сентябре. Его отправили в Грин-Хэйвен в феврале восьмидесятого, а потом перевели в Огденсберг в сентябре восемьдесят второго.
– О’кей. Он рассказал, что пробыл в Огдене некоторое время, а потом у него началась депрессия, и его послали к психиатру. В датах я не уверена. Там ничего об этом не говорится?
– Нет, никакой информации о лечении у психиатра. Здесь только условия досрочного освобождения и какие-то термины из юриспруденции, которых я не понимаю. Но ничего по нашей части. Не в этих документах, по крайней мере.
– Как вообще заключенного могут перевести из одной тюрьмы в другую? – Я захлопываю папку и смотрю на Дэвида.
– А он тебе ничего не объяснил?
– Да, сказал, что тюрьма была вроде как переполнена. И еще – что это было преступление первой степени. И поэтому они выбрали его? Как-то так.
– Я никогда не слышал о том, чтобы человека, обвиненного в убийстве, перевели в тюрьму с менее строгим режимом.
– Да, и я тоже. Но может быть, это было непредумышленное убийство. Мотив убийства они так и не установили, и его обвинили в непредумышленном убийстве. Такое возможно?
Я ничего не знаю ни о судебной системе, ни о приговорах – ни о чем.
– Найди этого доктора, Сэм. Что-то в этой истории не сходится.
– Да я понимаю. Что-то действительно не так. Этот человек – загадка. Сплошной знак вопроса. Он рассказывал мне о тюрьме, о детстве, но это не объясняет, какого черта он оказался у нас. Ты можешь себе представить – я работала с ним несколько месяцев и все еще понятия не имею, что в нем ненормального в смысле психики и почему он находится в психиатрической больнице! Мы должны найти этого врача!
Мы с Дэвидом возбужденно перебираем бумаги, пытаясь отыскать хоть что-то, что навело бы нас на след доктора.
– Я, пожалуй, попробую все же покопаться в Интернете. Все-таки надо попробовать. Глупо упускать такую возможность – а вдруг? – Дэвид встает и отодвигает от стола мое кресло.
– Давай. Марк с фамилией на «С», возможно, односложной, типа Штайн. А я продолжу искать здесь.
Набрав в поисковике несколько слов, Дэвид получает сотни разных ссылок.
– Я нашел всех заключенных Огдена! – Он внимательно вглядывается в экран. – И я могу им написать! Тут есть сайт, вроде социальной сети для сидельцев.
– Дэвид, сосредоточься.
– Еще есть сайт ДПЗ, связанный с судмедэкспертам и. – Он продолжает читать, открывает какие-то страницы. С пола мне не видно, какие именно. – Совершенно бесполезный. Тут только специалисты, возглавляющие отделы… ага, погоди-ка. – Дэвид берет мой телефон и набирает номер, который видит на экране. Я замираю в ожидании, но на самом деле уже почти не надеюсь узнать, что Ричард делает в «Туфлосе».
– Здравствуйте, меня зовут Дэвид Блумфилд. Я штатный психолог из психиатрической больницы «Туфлос» на Манхэттене. Простите, с кем я говорю? – Я напрягаю слух, стараясь поймать хоть слово на другом конце линии. – Кэти. Еще раз здравствуйте. Не могли бы вы мне помочь? Дело в том, что мой пациент одно время отбывал срок в Огденсберге, и я хотел бы связаться с психиатром, который там с ним работал. Не могли бы вы узнать, как его звали? – Он прикрывает трубку рукой и шепчет: – Жду. Фу, какая противная музычка.
Я снимаю очки и потираю переносицу.
– О’кей, я продолжаю рыться в этом дерьме.
Дэвид хватает ручку и бешено сигналит мне, чтобы я дала ему что-нибудь, на чем можно писать. Я выхватываю из корзины для бумаг замасленный по углам бумажный пакет из-под сэндвича, и Дэвид начинает быстро записывать то, что говорит Кэти из Огденсберга.
– Марк. Единственное, что мне известно, – что его звали Марк. Он работал психиатром примерно в начале – середине восьмидесятых. – Он пишет еще что-то. – А с каких годов у вас ведутся записи? – Он снова прикрывает трубку и одними губами произносит: – У них нет списков врачей, которые работали там до появления Интернета.
– Как же они начисляли зарплату? Где ведомости? – с негодованием шепчу в ответ я. – И разве в восьмидесятых еще не было компьютеров? Скажи Кэти, пусть копнет поглубже. – Дэвид драматически таращит глаза, кивает и машет мне, чтобы я отстала.
Он внимательно слушает и опять кивает. Я понимаю, что это наша единственная ниточка, единственный шанс разобраться в этой истории. Дэвид снова ждет на линии, пока Кэти ищет ответы на наши вопросы. Я все еще ковыряюсь в бумагах, но осознаю, что толку от этого мало. Все равно что пытаться найти иголку в стоге сена. Все данные о Ричарде, которые содержатся в его истории болезни, туманны, беспорядочны и противоречат друг другу.
– Да, штатный психиатр, я полагаю. – Дэвид практически кричит в телефон. – Он лечил нашего пациента в начале восьмидесятых, возможно, восемьдесят втором – восемьдесят третьем. – Дэвид закрывает трубку ладонью и снова шепчет: – Как долго Ричард ходил к нему на сеансы?
Я пожимаю плечами и качаю головой.
– Я не уверен, Кэти. Ну как, есть результаты? – Пауза. – Это было бы отлично. Имя и фамилия – это было бы просто замечательно. Спасибо вам. – Он смотрит на меня и делает косые глаза. Ноги он положил на стол, голову закинул назад, а трубку зажал между ухом и плечом. «Я стараюсь, – читаю я по губам. – Я стараюсь».
Он вдруг выпрямляется, быстро ставит ноги на пол, хватает пакет из-под сэндвича и принимается бешено писать.
– Адреса нет, о’кей. Нет проблем. Как это пишется? О-А-Н. О’кей, прекрасно. – Дэвид вскакивает на ноги и победно вскидывает руку вверх, как статуя Свободы, держащая факел. – Есть! – шепотом кричит он.
Но отпраздновать победу мы не успеваем. Кэти добавляет что-то еще, и на лице Дэвида отражается разочарование.
– Ага, ясно. В таком случае продиктуйте мне все имена, пожалуйста. – После нескольких «угу» и «ага» он наконец закругляет разговор: – Огромное вам спасибо, Кэти. И вам тоже хорошего дня.
Он вешает трубку и разворачивает кресло ко мне.
– Их трое. В восьмидесятых в Огденсберге работало трое врачей. Три психиатра по имени Марк с фамилией, которая начинается на букву «С». У нас есть какая-нибудь дополнительная информация? Ричард еще что-нибудь говорил?
– Нет. Что-то короткое. Похожее на фамилию еврея.
– Что ж, восхитительно, потому что этих трех парней, должно быть, принимал на работу Вуди Аллен. У нас есть Марк Слоан, Марк Шифф[21] и Марк Стил. Кэти дала мне номера их телефонов того времени.
– Три человека по имени Марк с фамилией на «С», и все работали в Огденберге в восьмидесятых, и все – психиатрами? – Я сваливаю все бумаги в кучу и пододвигаю к столу кресло для пациентов, чтобы сесть рядом с Дэвидом. – Либо имя Марк было самым популярным в мире, либо эта Кэти что-то перепутала. Залезем-ка мы в Гугл.
28 февраля, 10:32
Ричард и я сидим у меня в кабинете и едим один бублик на двоих – со сливочным сыром и зеленым луком. Он пришел раньше, чем я ожидала, я как раз завтракала, а он выглядел голодным. Мы заключили сделку и по ее условиям должны были разрушить стены, которыми себя окружили, когда он стащил мой запас бухла и стал меня этим шантажировать. Но теперь это не имеет значения. Я не пила ни глотка уже несколько недель. И мне известны его тайны, а ему – мои.
– У вас сыр на губе, – говорит Ричард и протягивает мне салфетку.
– Спасибо. Что ж, вернемся к делу. Хотите верьте, хотите нет, но я все еще хочу поработать с вашей историей болезни. Закончить с тем самым дерьмом, над которым бьюсь с тех пор, как вы здесь появились: информация о психическом здоровье, информация о физическом здоровье, аресты, госпитализации и так далее.
– А что, в моей истории болезни ничего этого нет? – Он хитровато ухмыляется.
– Нет. А почему вы улыбаетесь?
– Я не улыбаюсь. Слушайте, вы же помните, как я просил вас ничего не записывать? И прошу о том же сейчас. Очень. Я не хочу оставлять никаких следов. – Он не смотрит на меня и мнет кепку, лежащую на стопке газет.
– А как насчет Огдена и доктора Марка? Разве вы не должны были подписывать разные согласия на то или иное или бумаги об освобождении?
Ричард качает головой.
– Он никогда не заставлял меня ничего подписывать. Даже не просил. Я всю жизнь провел под контролем, вечно на виду. И повторю – я не хочу, чтобы остался какой-то бумажный след.
– Ставили ли вам в тюрьме официальный диагноз депрессия?
– Думаю, да. Доктор Марк говорил, что у меня все симптомы депрессии и этого… все время забываю… пост… – как его там. Но я считал, что это все ерунда. Я же не ветеран войны и не участвовал в сражениях.
– Интересно, что вы так говорите. – Несмотря на протесты Ричарда, я все же делаю заметки и наконец заполняю раздел «диагноз».
– Интересно? Почему?
– Ну, вы жили с Фрэнсис. Я бы сказала, что это была битва длиной в жизнь.
– Хм. Но все равно, мне же не приходилось бояться за собственную жизнь, пользоваться оружием или убивать людей.
– Вы в этом уверены?
Ричард молчит и как будто размышляет.
– Зачем вам нужно заполнять этот файл? Историю болезни, я имею в виду. Знаю, я должен выполнить условие сделки, но… – Он выпрямляет спину.
– Мы можем начать с раздела «история семьи»; он является частью оценки психологического состояния личности. Того самого, который вы наотрез отказались заполнять.
– Семейная история, хм. Да вам вроде все уже известно? Мой отец – загадка. Здесь все абсолютно глухо, я его не знал. Фрэнсис, наверное, тоже, но мы знаем ее имя и фамилию. Так что же еще вам нужно?
– Ставили ли Фрэнсис официальный диагноз пограничное расстройство личности?
– Нет. По крайней мере, у меня на этот счет нет никакой информации.
– Кстати, тогда это не называлось пограничное расстройство личности. Вы не знаете, она не посещала врача? Не лечилась от этого? Не принимала никакие медикаменты?
– Понятия не имею.
«Да ты вообще хоть что-то знаешь?»
– О’кей. Дети?
– Только я вроде как.
– Нет, я хочу сказать – у вас есть дети?
– Вы считаете, я бы об этом не упомянул? – Ричард яростно смотрит на меня, возмущенный вопросом.
– О’кей. Беременности, окончившиеся раньше срока?
– Я не знаю! – Он картинно воздевает руки и откидывается назад. – В те времена женщины об этом молчали. Если такое случалось. Как-то справлялись с этим сами. Иногда просили денег на аборт.
– Кто-либо из ваших партнерш просил у вас денег на аборт?
– Никто. Но моя девушка – перед тем как меня посадили – делала мне какие-то намеки. Однако из этого ничего не вышло. Я думаю, она таким образом пыталась заставить меня бороться и постоять за себя в суде. Тогда это было обычным делом. Если девчонка хотела изменить что-то в отношениях или привязать к себе парня, то говорила, что беременна. Такое случалось то и дело.
– Вы с ней общаетесь? И поддерживали ли общение, пока находились в тюрьме?
– Нет.
– Но вы же говорили, что она, типа, любовь всей вашей жизни. Или нет?
– Да что я мог знать? Я был почти ребенком, когда меня посадили. Меня упрятали за решетку на двадцать лет! Как я смел попросить ее дождаться меня? У нее впереди была целая жизнь. Целая жизнь! И я не собирался ее разрушать из-за того, что разрушил свою.
– Простите, я не хотела вас так задеть. Видимо, вам все еще больно об этом думать.
– Слушайте, она была чокнутой девчонкой. Если бы она сидела сейчас у вас в кабинете, вы бы, наверное, тоже поставили ей диагноз пограничное расстройство личности. Она была абсолютно непредсказуема. То любила меня, то ненавидела. Но то, что меня должны были посадить, оказалось для нее совсем невыносимым. Она не могла оставаться одна. Не справлялась с этим. Даже набросилась на меня раз. Видимо, она думала, что я могу что-то с этим сделать. Как будто я сам себя осудил и назначил срок. Она считала, что я мог бы как-то противостоять им. Защитить себя на суде. И обвинила меня в том, что я бросил ее одну. Я уверен, что она меня ненавидит. Если вообще помнит.
– Ну конечно, она вас помнит. Вы никогда не пытались узнать, действительно ли она была беременна?
– Мне это даже в голову не приходило. Она была страшная врушка.
– А какая она вообще была?
– О, она была красавицей. Самая хорошенькая девчонка в квартале. Голубые глаза, блондинка, все, что надо, при ней. Миниатюрная, изящная, стильная. Словом, шикарная девушка. Но выражалась она… вы не поверите. В те времена девушки не ругались так, как вы теперь. Это было неслыханно. Даже если на девчонке горел лифчик, она и то не могла выматериться. Но боже мой, как же ругалась Саманта! Моряк бы покраснел, честное слово. И еще она была очень смешная. Остроумная, с чувством юмора. И ничего не боялась. Могла сбить тебя с ног – буквально или своими ядовитыми словами, а пока ты приходил в себя, стояла рядом и невинно хлопала ресницами.
– Вот это женщина. Можно только восхититься.
– Это правда. Истинная правда, – согласно кивает Ричард. – Но это была ее светлая сторона. Она была сложной и сбивала с толку. Рядом с ней я всегда был на нервах, потому что не знал, какая версия Саманты сейчас передо мной предстанет. То же самое ощущение возникало у меня с Фрэнсис. Но с Самантой, по какой-то причине, я чувствовал себя так, будто могу более или менее контролировать ситуацию. Я действительно обладал такой способностью – повернуть ее в другую сторону, чтобы она оставалась собой, а не свихнутой на всю голову буйнопомешанной. Она могла быть и такой.
– Может, это потому, что вы были равны. Она не имела над вами такой власти, как Фрэнсис.
– Может. Да, может, в этом было дело.
– И как все окончилось?
– Меня посадили. Я решил оборвать между нами все связи. Так было справедливо. Как я сказал, у нее впереди была целая жизнь. И я не хотел, чтобы она перестала жить нормальной жизнью из-за меня.
– Вы все еще думаете о ней?
– Как это относится к моей истории болезни?
– Мне просто интересно.
– С тех пор как я здесь, думаю о ней чаще. В тюрьме, в самом начале, думал постоянно, днем и ночью. Боялся за нее – что она будет без меня делать? Но такие мысли с годами проходят. Как будто выцветают. Уверен, что она вышла замуж, родила детей. Что у нее все получилось. Когда я вышел из тюрьмы, еще даже до того, как оказался в первом «доме на полдороге», сразу подумал о том, чтобы найти ее. Но прошло слишком много лет. Я не захотел влезать к ней в жизнь и портить ее.
– Вы, кажется, немного зациклились на том, что не стоит беспокоить людей из прошлого. То же самое вы сказали на днях о докторе Марке.
– А вы бы хотели, чтобы ваше прошлое снова возникло у вас на пороге?
– Нет… думаю, нет. – Я беру в руки засаленный пакет из-под сэндвича, на котором Дэвид записал имена докторов из Огденсберга. – Кстати, о докторе Марке. Какая-нибудь из этих фамилий не кажется вам знакомой? – Я зачитываю ему короткий список. – Ни одну не узнаете?
– Да-да, что-то еврейское. Очень похоже.
– Какая из них?
– Ну, одна-то точно. – Ричард отворачивается и смотрит в окно.
Мы с Дэвидом узнали, что доктор Стил умер в девяносто шестом году. Хотелось бы надеяться, что таинственный психиатр-чудотворец из Огдена – это не он. Я послала сообщение доктору Слоану и доктору Шиффу, но ответа пока еще не получила.
1 марта, 16:46
Мои ноги прямо в туфлях лежат на столе, а блузка висит на спинке кресла. Без спиртного мой организм бунтует. Из-за абстинентного синдрома я потею, как свинья. Ужас. Моя блузка мокрее швабры. Я запираю дверь и делаю очередную попытку дозвониться до доктора Марка с фамилией на «С».
После шести гудков кто-то наконец снимает трубку.
– Алло?
– Алло. – Я торопливо сбрасываю ноги на пол. – Здравствуйте. Меня зовут доктор Саманта Джеймс. Я штатный психолог в психиатрической больнице «Туфлос» на Манхэттене. Я ищу доктора Марка Слоана.
– Да, я вас слушаю.
Наконец-то!
– Здравствуйте, доктор. Извините, что беспокою. Я звоню в связи с вашим бывшим пациентом из Огденсберга, Ричардом Макхью. Я оставила вам несколько сообщений.
– О, да-да, я их получил. Так чем я могу вам помочь?
Это действительно он! Тот самый врач! Мое сердце подкатывается к горлу, и я вскакиваю с кресла в одном лифчике.
– Дело в том, что Ричарда направили на лечение сюда, в «Туфлос», и я пытаюсь собрать кое-какие материалы о его прошлом. – А еще я пытаюсь одновременно удержать трубку и натянуть на себя влажную блузку. – Он очень закрытый человек, и я не могу извлечь почти никакой информации из поступивших с ним материалов. Недавно он упомянул, что у вас с ним были своего рода отношения, когда он отбывал срок в тюрьме, и я подумала – возможно, вы могли бы поделиться со мной какими-то догадками на его счет? Высказать свое мнение?
– Каких озарений вы от меня ждете? – Голос доктора Слоана гораздо моложе, чем я представляла. – Прошло уже очень много времени с тех пор, как я лечил Ричарда Макхью.
– Я жду… чего угодно. Любых сведений, которые помогут мне лучше его понять. Каков был его диагноз? Наши тестирования свидетельствуют о наличии депрессии, ПТСР, суицидальных идеях, еще есть некоторые комментарии по оси 2, но никакого настоящего диагноза. Официальной истории семьи у меня тоже нет – кроме того, что он сам мне рассказал. Мы проводим еженедельные терапевтические сеансы уже несколько месяцев, но мне все еще не ясно, почему его направили в психиатрическую лечебницу. – Я прижимаю трубку ухом к плечу и застегиваю пуговицы на рубашке.
– Мне запомнилось, что это был один из самых поразительных пациентов, с которыми мне приходилось сталкиваться.
– В самом деле? И что вас так в нем заинтересовало? – Я вспоминаю слова Ричарда: «Вам может не понравиться то, что вы обнаружите», – и мне хочется выспросить у доктора Слоана все, что он знает.
– Ну, в тюрьме не так уж часто можно встретить человека такой комплекции – высоченного, мускулистого, к тому же молодого и сильного, который при всем этом предпочитает держаться в стороне. Когда мне сообщили, что он не разговаривает и не ест, я был крайне заинтригован. Подумал, что здесь кроется какая-то непростая история.
– Как вам удалось разгадать эту историю, если он никогда с вами не разговаривал?
– Большей частью по глазам и по осанке. Когда он впервые вошел ко мне в кабинет, я увидел сгорбленного человека с опущенными плечами и головой. Он смотрел на меня исподлобья – ну, вы понимаете, что я хочу сказать. Да, я прекрасно его разгадал. А его глаза загорались, когда я касался какой-то, видимо, важной для него темы. Я долго думал и наконец решил провести полное обследование, и все понемногу стало вставать на свои места.
– Он говорил мне об обследовании. Как вы узнали, откуда у него все эти шрамы и прочее?
– Я не знал. Но когда высказал предположение, что здесь замешана его мать, он неожиданно изменился. Стал держаться по-другому. Словно долго нес тяжелый груз, а я вдруг снял этот груз с его плеч. Он поднял голову, выпрямил спину. Это было удивительно. Я еще никогда не наблюдал столь разительной и быстрой перемены в поведении пациента.
– Это вы рассказали ему о ПРС? – Я словно взволнованный ребенок, которому не терпится открыть сразу все рождественские подарки, – слишком поглощена вопросами, чтобы как следует сконцентрироваться на ответах.
– Да. После того как я осознал, что в его случае присутствовало жестокое обращение со стороны матери, он как будто настроился на меня еще больше. По нему было видно, что он жаждет объяснений, хочет понять, почему она была такой. Я задавал ему вопросы о ее поведении, о его детстве, и он по-своему отвечал мне – не говоря ни слова. То вдруг выпрямлялся, то начинал потирать большие пальцы, когда что-то совпадало. Я сложил два и два, и по симптомам стало ясно, что у нее был чистой воды ПРЛ.
– Невероятно. Вы смогли поставить диагноз женщине, которая умерла, исходя из молчания ее сына. Поразительно, абсолютно поразительно.
Я не могу поверить, что все это произошло в действительности. Как этот парень смог обо всем догадаться? И как он до сих пор помнит все эти подробности?
– Разумеется, официального диагноза я поставить не мог – она давно была мертва, к тому же я не только никогда не лечил ее лично, но даже и не видел, и у меня не было никакой истории болезни, вообще ничего, на чем я мог бы основываться. Так что это была всего лишь профессиональная интуиция, полагаю. Или что-то в реакции Ричарда убедило меня, что я прав. Он очень много и охотно читал в тюрьме, все время держался сам по себе, в контакт ни с кем не вступал, и я стал давать ему литературу по психологии и психиатрии – брошюры и статьи, где описывались симптомы пограничного расстройства личности. Ричард буквально проглатывал все, что я ему приносил. Думаю, к тому времени, когда освободился, он стал настоящим экспертом по ПРЛ. Он взял мой медсправочник по параметрированию DSM и зачитал его почти до дыр.
Не Ричард ли оставил тогда все эти открытые справочники в компьютерной комнате?
– Не припомните ли вы чего-либо еще, что было важно, по вашему мнению? И не могли бы вы мне сказать, почему его послали на лечение в психиатрическую больницу? Как я говорила, у меня нет ни информации, ни диагноза. Ему не ставили официальный диагноз в тюрьме? Он говорил, что не заполнял никакие бумаги. Но вы ведь их наверняка заполняли? У вас остались записи, которые могли бы быть мне полезны? – Я записываю все, что он говорит, в надежде сложить воедино все кусочки головоломки.
– Видите ли, с тех пор, как я вышел на пенсию и перестал работать в пенитенциарной системе, у меня больше нет доступа к этим материалам.
– Вы помните мельчайшие подробности о Ричарде. Вы уверены, что больше никак не можете мне помочь?
– Честно, я не помню, поставили ему тогда официальный диагноз или нет. А подробности застряли у меня в памяти потому, что это наше молчаливое общение было крайне необычным. Уникальным, можно сказать. Но постановка диагноза – настолько обыденная вещь… Их я, как правило, не запоминаю. Нет нужды.
– К нему приходили посетители? Кто-нибудь навещал Ричарда в тюрьме?
– Об этом я точно ничего не знаю. – Доктор Слоан вдруг как будто замыкается в себе.
– А вы никогда не пытались разузнать что-нибудь о его девушке? Мы недавно говорили о ней – когда его посадили, у него была девушка. Вам о ней ничего не известно?
– Нет, не припомню. – Я слышу слегка раздраженные нотки в его голосе, как будто он устал от моих расспросов.
– Простите, что никак от вас не отстану, но я в отчаянии. Я делаю все, чтобы понять, что происходит с Ричардом, вот уже много месяцев, и вы единственный человек, который способен прояснить ситуацию. Вы уверены, что у вас нет ничего, что могло бы мне помочь? Записи, заметки… хоть что-нибудь? Любая мелочь? Мне необходимо знать, почему его сочли нужным поместить в больницу. Должен быть какой-то диагноз, обязательно.
Доктор Слоан глубоко вздыхает.
– Я еще поддерживаю отношения с некоторыми коллегами из Огденсберга. Если вы в таком безнадежном положении… что ж, наверное, я смогу просмотреть кое-какие файлы, и, может быть, там что-то и найдется.
– Это было бы замечательно! Мне пригодится любая, абсолютно любая информация. Спасибо вам.
– Если я что-нибудь отыщу, то непременно вам позвоню.
– О, пожалуйста, доктор Слоан. Спасибо, что уделили мне время.
Повесив трубку, я никак не могу отделаться от ощущения, что я все еще там же, где и была. Марк Слоан не ответил на мои вопросы. То есть ответил, разумеется, но не на те. И о чем предупреждал меня Ричард?
2 марта, 15:20
Я сижу за столом и роюсь в Интернете, когда раздается стук в дверь. Я закрываю страничку браузера, дотягиваюсь до ручки и открываю.
Мне приходится снять очки и встать, чтобы полностью осознать, что за посетитель стоит на пороге моего кабинета. Это Лукас. Здесь, у меня. На работе. Я смотрю на его руки и даже заглядываю за спину в поисках букета роз. В этой сцене всегда присутствует букет роз. Потом принюхиваюсь. Если я не смогу уловить запах его туалетной воды, то, значит, все это сон. Однако нос забивает аромат амбры и специй с едва заметными нотами алкоголя и фруктов. У меня тяжелеют руки и темнеет в глазах. Букет Лукас не принес, но он держит перед собой серый картонный поднос с четырьмя стаканами кофе – наверняка дорогого и с каким-нибудь вычурным вкусом. Запах туалетной воды и спрея для волос вытесняют запахи ванили, карамели и кофейного пара.
Сколько раз я видела это во сне? Я знаю, что должна немедленно захлопнуть дверь и позвать Дэвида, но не могу пошевелиться. Мне вдруг приходит в голову, что кофе – это некий жест извинения или предложение мира. Сколько я уже торчу в дверях, как статуя?
– Привет, Сэм. – Голос Лукаса, одновременно хрипловатый и какой-то прилизанный – словно соленая морская вода, с шорохом набегающая на гладкую гальку, – заползает в мой кабинет, как туман.
– Я не могу… – Я не здороваюсь в ответ, потому что не в силах составить связное предложение. Мне нужно стряхнуть с себя шок и сказать ему, чтобы он убирался из отделения.
– Я понимаю, что не должен тут находиться, но мне было необходимо с тобой увидеться. Ты не отвечала на мои сообщения, но я знал, что могу всегда найти тебя здесь.
Слова Лукаса помогают мне стряхнуть паутину, опутавшую мой мозг.
– Нет, ты не должен тут находиться. Это абсолютно запрещено. Это нарушение неприкосновенности частной жизни, и, если ты сейчас же не уйдешь, я вызову охрану.
– О’кей, о’кей. – Он поднимает свободную руку, как будто сдается. – Обещаю, я пробуду здесь совсем недолго.
– Ты вообще нисколько здесь не пробудешь, Лукас. Мне нечего тебе сказать. Пожалуйста, уходи.
– Ну давай хотя бы выпьем кофе – это все, о чем я прошу. Просто выпей со мной кофе и послушай меня пару секунд.
– Нет. Я хочу, чтобы ты ушел.
– Я принес все самые вкусные сорта: карамельный, ванильный и один шоколадно-мятный. Можешь выбрать любой, какой тебе понравится. Или все? Можешь забрать все, но, пожалуйста, можно я зайду? На одну минуту?
Он показывает подносом на мой стул для пациентов и аккуратно, но настойчиво протискивается мимо меня. Я вижу, что между двумя стаканами зажат пропуск для посетителей. Надеюсь, Рауль обыскал его как следует. По полной.
Лукас ставит поднос на угол стола и замирает у кресла, ожидая разрешения сесть. Он приподнимает брови и морщит лоб. Я тихо прикрываю дверь, и он воспринимает это как приглашение устроиться поудобнее, глубоко вздыхает, подтягивает брюки и опускается в кресло. Потом оглядывает кабинет, поворачивается и смотрит в окно. Я тут же представляю себе, как на стройке через улицу что-то вдруг ломается и огромная, толстая, длинная труба пробивает мое окно и отрубает Лукасу голову. Жаль, что это не может произойти на самом деле.
Я подвигаю свое кресло ближе и встаю между ним и дверью. Она слегка приоткрыта – достаточно, чтобы кто-то услышал меня, если я повышу голос. Сердце бьется тяжело и часто, и я то и дело напоминаю себе, что я не сплю.
Я бросаю взгляд на часы на столе. 15:21.
– У тебя есть четыре минуты. Потом я вызываю охрану.
– Ну расслабься же, расслабься – выпей кофе. – Лукас подталкивает поднос ко мне. Я не двигаюсь. – Ладно, хорошо. – Он вытаскивает из углубления стакан с надписью «карамель», сдирает крышечку из фольги и дует на кофе, который и так уже явно остыл. Капли конденсата с крышки падают на мой стол. – Я пришел с тобой помириться.
– У меня и так уже все мирно и спокойно.
– Рад за тебя, но у меня – нет. Я все еще очень расстроен из-за того, что случилось.
– Это твоя проблема, Лукас, а не моя.
– Да. Это моя проблема. Но единственный способ решить ее зависит от тебя. Не могла бы ты найти немного доброты в своем сердце и выслушать меня? Я работаю над собой, пытаюсь стать лучше. И мне нужна твоя помощь. Твоя работа – помогать людям, ведь так? Разве это не будет непрофессионально с твоей стороны – отказать человеку, который просит тебя помочь? – Он широко улыбается и отпивает кофе. Говнюк.
– За работу мне платят. И ты – не моя работа.
– Вот, пожалуйста… – Лукас лезет в задний карман и достает бумажник из телячьей кожи. – Сколько ты берешь за четыре минуты своего времени? Двадцать долларов? – Он выкладывает новенькую двадцатидолларовую купюру на стол и убирает бумажник.
– Ты – не моя работа. Три минуты.
– Какая ты важная. – Он ставит стакан на стол и теперь лезет за платком, промокнуть пятна от кофе на рубашке от «Томас Пинк». – Дело в том, что я начал кое с кем встречаться…
В смысле с психологом или с девушкой? Не знаю, что взбесило бы меня больше.
– …и она думает, что лучший способ сдвинуться с места и уйти от прошлых отношений – это поговорить с тобой и подробно обсудить все, что между нами было. Прийти к пониманию.
– Я уже пришла к пониманию. Ты говнюк. И теперь уже не мой говнюк.
«А своей девушки или своего терапевта».
– Мне ничего от тебя не добиться, да?
– Да. Две минуты.
– Ну и как мне сдвинуться с места, перестать посылать тебе сообщения и приходить к тебе на работу, если ты не желаешь просто протянуть мне руку?
– Запретительный судебный приказ?
– Сэм, я серьезно. Я не хочу продолжать тебя беспокоить, но, если я должен как-то жить дальше, мне нужно, чтобы в моей жизни была ты.
– В том, что ты говоришь, нет никакого смысла. Если тебе требуется поставить точку в отношениях, тебе достаточно выйти и закрыть дверь с той стороны. А теперь я заканчиваю этот разговор. Навсегда. Если ты будешь продолжать меня преследовать, я официально заявляю, что достану запретительный приказ и сделаю твою жизнь настолько неприятной, насколько смогу. Ты причинил мне уже достаточно вреда, так что пришло время засунуть хвост между ног и убраться куда подальше. Одна минута.
– Значит, ты отказываешься помочь мне стать лучше? Ты отказываешься помочь тонущему человеку.
– Хороший заход.
– Я не делаю никаких заходов. Просто хочу прояснить ситуацию – я прошу тебя о помощи, а ты говоришь «нет».
– Да, все правильно. Время вышло. – Я беру телефон и набираю номер охраны, не дожидаясь, пока Лукас встанет, начнет меня останавливать или протестовать. Рауль берет трубку, называет свое имя и спрашивает, кто звонит. – Привет, Рауль. Это доктор Джеймс. Не мог бы ты оказать мне услугу? Пожалуйста, пришли ко мне кого-нибудь проводить гостя. Сам он не очень уверен, уходить ему или нет. – Говоря это, я смотрю прямо на Лукаса, и он понимает, что я не шучу и не притворяюсь. – Спасибо, Рауль, жду.
Лукас быстро встает, поправляет складки на брюках, накидывает на плечи угольно-серое кашемировое пальто и выпрямляет спину. И на прощание обводит меня неодобрительным взглядом.
– Я думал, ты меня хоть немного уважаешь, Сэм.
Я отодвигаю свое кресло, освобождая ему дорогу, и аккуратно распахиваю дверь. Перед тем как уйти, Лукас еще раз осматривает кабинет. Проходя мимо меня, он неожиданно протягивает длинную, с идеальным маникюром, руку к столу и щелчком опрокидывает открытый стакан с кофе. Двадцать долларов тут же намокают, и липкая сладкая жидкость заливает и стол, и кресло для пациентов.
– Упс… – говорит он и уходит.
Я слышу в коридоре шаги Рауля.
3 марта, 13:14
Я думала пойти поговорить с Дэвидом, но поняла, что мне нужно выбраться из офиса, и поэтому решила отправиться в парк. Сейчас как раз то время года, когда дни становятся длиннее и солнце светит ярко, но на улице все еще прохладно. Я глубоко дышу, очищая легкие, очищая всю себя, и острый свежий воздух щекочет нос.
Я усаживаюсь на один из складных зеленых стульев и наблюдаю за пробегающими мимо людьми. Как раз рядом со мной стоит большой знак с надписью «Не курить», и я тушу окурок о столб. Больше никакого бухла, никаких дешевых развлечений с дешевыми мужчинами, но с сигаретами я не рассталась. Все куда-то спешат, целеустремленно наклонив головы, все слишком легко, не по погоде, одеты, как будто легкие куртки помогут ускорить наступление тепла и приход настоящей весны. Кто-то обхватил себя руками от холода, кто-то дует в стакан горячего кофе.
Разглядывая прохожих, я закуриваю еще одну сигарету и замечаю, что напротив меня устроился бомж. Он сидит прямо на земле и тоже курит. На нем черные перчатки без пальцев поверх обычных серых, и я удивляюсь, как ловко он управляется со своим бычком. Как это у него получается? На секунду наши глаза встречаются, и он показывает на знак «Не курить». Я зажимаю сигарету между губами и разворачиваю его в другую сторону. Надписи больше не видно. Бомж улыбается, показывает мне большой палец и подставляет лицо солнцу.
Как давно я не чувствовала солнечных лучей на лице. Когда пила, я старалась избегать дневного света. Он означал похмелье, головную боль, рвоту, унитазы и мусорные корзины, куда выворачивалось содержимое моего желудка. На свету невозможно было спрятать синяки, полученные от Лукаса, или тайком целоваться с безымянными незнакомцами. При дневном свете невозможно спрятать правду. Мне кажется, что я всю жизнь от чего-то пряталась, не могла показаться другим – и теперь вся на виду. Когда в октябре в нашу больницу привезли Ричарда, я помню, что вроде бы даже предчувствовала какие-то изменения, но и предположить не могла, что изменюсь я сама. Его появление совпало с исчезновением той меня, которую я знала, – всех моих привычных «я» – женщины-жертвы, женщины-супергероя, женщины-катастрофы, женщины-карикатуры. Раньше у меня под рукой всегда были костыли, на которые я могла опереться, – во всем на свете при случае можно было обвинить алкоголь. «Я была пьяна, я никогда бы так не поступила, если бы не напилась». Я купалась в жалости к себе и играла роль несчастной жертвы, снимая с себя всю ответственность. Теперь осталась только настоящая, живая плоть, все маски сброшены. Мне пора привыкнуть быть только собой. Встать наконец на ноги и ощутить под собой твердую почву.
Я поднимаюсь и бросаю на тротуар недокуренную сигарету. Мне кажется, что я стала выше, чем раньше. Как будто до этого тащила на спине тяжелый рюкзак, который оттягивал плечи вниз, а теперь вдруг сняла его. Проходя мимо стойки охраны, я хлопаю ладонью по ладони Рауля. Мой кабинет согрет солнцем, и, как только я сажусь в кресло, меня начинает немедленно клонить в сон. Ничего, скоро мне выходить.
Но телефон прогоняет сладкую дремоту. После третьего звонка я хватаю трубку и едва ли не рычу:
– Да?
– Доктор Джеймс?
– О… – запинаюсь я и выпрямлюсь. – Да, это я.
– Здравствуйте, это Марк Слоан. Как у вас дела?
– О, здравствуйте, Марк. Не ожидала, что вы позвоните.
– Нет ли у вас свободной минутки?
– Да, конечно. Разумеется, есть.
– После того как мы с вами поговорили, я покопался в тюремных файлах. Искал, не встретится ли мне какая-нибудь полезная для вас информация.
– И? Вам удалось что-то найти?
– Да. Как упоминал, я поддерживаю отношения с некоторыми сотрудниками Огденсберга. Сейчас там почти не осталось никого, кто работал в одно время со мной, но пара человек все еще на своем посту. Словом, я получил доступ к файлам. Все картотеки и архивы доинтернетного, так сказать, периода, конечно, полная неразбериха, но тем не менее, хоть и в бумажном виде, все материалы сохранились. Полагаю, когда занимаешься расследованиями, это может очень пригодиться!
– Без сомнений. Простите, могу ли я прервать вас на секунду? Я вспоминала наш с вами разговор и поняла, что некоторые мои вопросы так и остались без ответов. Каков был диагноз Ричарда? Эти сведения есть в архиве?
– Да, это как раз то, что я искал, в числе прочего. Депрессия и ПТСР. Эта информация должна быть в его истории болезни, еще со времен заключения. Разве ее там нет?
– Нет. Там вообще практически ничего нет. Но знаете, вот что не дает мне покоя – Ричарду поставили диагноз депрессия и ПТСР еще в тюрьме, но ведь это было много лет назад. Однако после того как он вышел на свободу, никакого диагноза ему не ставили.
– Как это? – Кажется, Марк Слоан не совсем понимает, о чем я.
– Другими словами, сейчас я не могу определить, чем он болен, потому что у него не наблюдаются симптомы ни одного психического расстройства.
Надеюсь, что доктор Слоан все же сумеет уловить мою мысль.
– Да, и что? Нет, все без толку.
– По-моему, он здоров. Что он делает в психиатрической больнице?
– А… – Кажется, наконец дошло. – Что ж, думаю, вы должны обсудить это с ним. – Опять тупик.
– О’кей, – вздыхаю я. В этом квесте под названием «Разгадай Ричарда» я постоянно проигрываю. – Кажется, вы хотели сказать мне что-то еще?
– То, что я хотел вам сообщить, не относится к Огденсбергу. Это материалы из Грин-Хэйвен, тюрьмы, где он сидел до этого. Помните, вы спрашивали меня, не было ли у него посетителей?
– Да. Там говорится, что он вступал с кем-то в контакт?
– Нет. В записях сказано, что несколько раз к нему приходила женщина-блондинка. И каждый раз он отказывался с ней встретиться. Она проходила досмотр, ждала его в комнате для свиданий, но он к ней не выходил.
– Блондинка? А есть там еще что-нибудь о том, как она выглядела? В записях не говорится, что она была маленького роста, например?
– Самая интересная деталь – это то, что она была беременна.
7 марта, 13:57
Ричард снова заскочил ко мне в кабинет, уже после дневного сеанса. Он сидит в кресле для пациентов и ждет, когда я поставлю свою подпись – согласие на некоторых изменениях в расписании, которые он предлагает. И хотя я видела его на этом самом месте уже очень много раз, сегодня все выглядит по-другому.
Я кладу его бумаги на стол и смотрю в окно, на рабочих. Это здание ремонтировали несколько лет, и сейчас я вижу, как они наконец-то разбирают леса. То и дело огромная доска опускается вниз и укладывается в грузовик. Ричард следит за моим взглядом и тоже оборачивается к окну.
– Наконец-то закончили, а?
– Да, – отвечаю я. – Они отреставрировали старое здание. Теперь оно смотрится чудесно. Настолько чище.
– Как будто ему подарили новую жизнь.
– Знаете, я тут думала… – Я бросаю ручку и снимаю очки. – Мы с вами – одинаковые. Мы верили в то, как нас воспринимают окружающие. Видели себя их глазами. Все раскрашивали нас так, как им было удобно. Вы были монстром, я – супергероем. Но все это неправда. Наконец-то мы с вами просто люди. Мы – равные. Все как вы говорили.
– И монстров не существует, Сэм. И супергероев тоже. – Он понимающе улыбается, берет кепку и надевает ее.
Я улыбаюсь в ответ и отдаю Ричарду подписанную бумагу. Он кладет ее в карман и открывает дверь.
На пороге стоит Шон. Вид у него немного встревоженный, словно он боится, что снова пришел не туда или не в то время.
– Привет, Шон. Ричард уже уходит.
Ричард кивает и отходит в сторону.
– О, здравствуйте, док. О’кей, хорошо. А то я уже подумал, что, может, опять все перепутал. – Он облегченно вздыхает.
Я прощаюсь с Ричардом и встаю, чтобы поприветствовать Шона.
– Садись, располагайся поудобнее и клади свои вещи, куда тебе захочется.
Я сажусь сама, и Шон тоже устраивается в кресле. Он смотрит по сторонам, думая, куда бы ему пристроить пакет. В нем он держит все свое самое ценное имущество. Я тоже осматриваю кабинет в поисках подходящего места и вдруг замечаю, что Ричард оставил на моем столе свои газеты. В конце сеанса он всегда забирал их с собой, но сегодня по какой-то причине этого не сделал.
Шон решает, что самое лучшее и надежное – это положить пакет на колени. Он смотрит на меня и ждет, когда я начну беседу. Однако в этот самый момент звонит телефон.
– Извини, Шон, подожди секунду, пожалуйста. – Я беру трубку. Это Рэйчел; она застряла на какой-то конференции и просит меня заменить ее на встрече, которая должна состояться через час. Я показываю Шону палец – одну минуту! – и открываю ежедневник. Чтобы чем-то себя занять, он начинает листать газеты Ричарда. Я сверяюсь со своим расписанием на сегодня, кое-что сдвигаю, делаю пометки и обещаю Рэйчел, что помогу ей. Сделаю все, что нужно. Я снова золотая девочка. Рэйчел осыпает меня благодарностями, и я, довольная, даю отбой. Наконец-то жизнь снова становится более или менее нормальной. – Еще раз извини, Шон. Теперь я готова уделить тебе все свое внимание. Ну, расскажи мне, как у тебя дела? Как поживаешь?
– Э-э-э… док. А почему эти газеты такие старые? Этим новостям уже лет сто. – Он протягивает мне пару газет, что лежали сверху.
– Старые, в самом деле? – Я бросаю взгляд на первую страницу «Нью-Йорк таймс» и обращаю внимание на дату – весна 2012 года. Я быстро перебираю остальные газеты. Все они относятся к одному периоду. Апрель и май 2012 года.
11 марта, 13:41
Уходя домой, я захватила газеты Ричарда с собой и теперь укрепляю дух с помощью кофе и «Гаторейда», пытаясь набраться храбрости, чтобы как следует их пересмотреть. Они все еще лежат в сумке, с которой я хожу на работу, рядом с кофейным столиком. Я нервно расхаживаю по квартире, изредка на нее поглядываю и жду Дэвида – попросила его прийти и помочь мне разобраться.
Я брожу по комнатам, не зная, чем себя занять. В квартире убрано, все вещи лежат на своих местах, пыль стерта, и я в который раз взбиваю диванные подушки и проверяю телефон. Время словно остановилось. Я иду в ванную и достаю из-под раковины лак для ногтей. Потом сажусь на диван и начинаю приводить в порядок руки. Я и не замечала, что они, оказывается, так дрожат.
От звонка домофона я подскакиваю чуть не до потолка, и открытый пузырек с серым лаком летит на пол. Тягучая струя выплескивается вверх и окрашивает ножку кофейного столика. Когда я подхожу к домофону, мое сердце гулко бьется в груди, словно колокол.
Я вижу на экране лицо Дэвида, нажимаю на кнопку, чтобы его впустить, и наблюдаю, как он стоит в вестибюле, дожидаясь лифта. В левой руке у него пакет, а правой он ерошит свои вечно растрепанные волосы.
Звякает подъехавший лифт. Я стою в дверях, Дэвид появляется из-за угла, поднимает голову и, кажется, изумляется, увидев меня в коридоре.
Он проходит мимо меня к дивану, достает из пакета другой пакет, из вощеной бумаги, выкладывает из него сэндвичи и молча садится.
– Разве ты не хочешь узнать, зачем я попросила тебя прийти? – Я приношу из кухни тарелки и сажусь рядом с Дэвидом. Мое сообщение, как я теперь понимаю, могло показаться ему непонятным и чересчур загадочным, однако мысли Дэвида, судя по всему, заняты чем-то совершенно другим, и ему не до решения моих головоломок. – И ты абсолютно не заинтригован? Почему ты так странно себя ведешь?
– Сэм, я знаю, что ты попросила меня приехать, расследовать вместе с тобой «нечто очень странное». Не уверен, что именно ты имела в виду, но я сейчас думаю не об этом. Прежде чем мы погрузимся в твое увлекательное занятие, мне хотелось бы с тобой поговорить. О’кей?
– Ну ладно. – Я тоже делаю серьезное лицо, под стать ему. Что может быть важнее и интереснее, чем разгадать тайну газет Ричарда пятилетней давности?
Сгорбленный над кофейным столиком Дэвид глубоко вздыхает и теребит бумагу, в которую завернут его сэндвич. Я сижу, поджав под себя ноги, опершись спиной о подлокотник дивана, и смотрю на него.
– Я много думал с того дня, когда у тебя началась истерика в моем кабинете. Помнишь?
– Да…
– И я знаю, что ты считаешь свой диагноз смертным приговором, потому что у этой болезни дурная репутация. Однако у меня другое мнение. – Он снова глубоко вздыхает и разворачивает сэндвич. Я кусаю свой, хотя от волнения во рту у меня совсем пересохло, и жду продолжения. – Я всегда об этом знал, Сэм. И то, что ты рассказала мне о результатах тестирования ДПЗ, для меня ничего не изменило. – Он встает и идет на кухню, чтобы принести попить. – Так что… тебе официально сообщили об этом впервые, а я знал всегда. И это никак не влияло и не влияет на то, что я о тебе думаю, несмотря на то что сама ты стала думать о себе по-другому. – По-прежнему не глядя на меня, Дэвид передает мне стакан спрайта. – На самом деле я даже рад, что это произошло. Потому что для тебя это – хорошая мотивация, чтобы заново переосмыслить свою жизнь. А я… – он откусывает кусок сэндвича и говорит с полным ртом, – ждал, когда же это случится. – Дожевывает, глотает и продолжает: – И еще я думал, что, может быть, когда ты снова обретешь почву под ногами и придешь в порядок… может быть, мы могли бы… – Дэвид умолкает и серьезно смотрит мне в глаза.
Я знаю, что он сейчас скажет, и мне нужно остановить его до того, как он произнесет эти слова. Я тянусь к нему, чтобы закрыть его рот ладонью, но теряю равновесие, роняю сэндвич на диван, пытаюсь подняться, но вместо этого падаю прямо на него.
– Дэвид… – Я смахиваю разлетевшиеся салатные листья в тарелку и пробую соорудить из кусков целый сэндвич. Спасибо судьбе за это маленькое происшествие, потому что так я могу спрятать взгляд. – Дэвид. Кажется, я знаю, что ты собираешься сказать, но, наверное, пока не готова это услышать. – Господи, как коряво я говорю! – Сейчас мне нужно, чтобы ты был моим другом, и – опять же, пока – не могу стать для тебя чем-то большим.
Пальцы моей правой руки в майонезе, а в другой руке я держу тарелку с разобранным на части сэндвичем с индейкой, Дэвид наблюдает за моими неуклюжими попытками вытащить из-под себя ноги и сесть нормально и не то чтобы улыбается… но на его лице странное выражение, и я не могу разобрать, что оно означает.
– И что, по-твоему, я собираюсь сказать? – Вот теперь он действительно улыбается. Даже ухмыляется.
– Что? – Я вдруг пугаюсь, что поняла все неправильно. Я предполагала, что он предложит мне стать его девушкой, или попросит моей руки, или скажет, что любит меня, или… мать его, что-нибудь в этом роде. – Я думала… думала, ты хотел сказать, что мы… что ты… что хочешь… – Совершенно смешавшись, я умолкаю. Какой ужас. Какая дура. Я ведь понятия не имею, что он имел в виду. С чего я решила…
Дэвид в который раз глубоко вздыхает и ставит тарелку на стол. Потом отнимает тарелку у меня, тоже ставит ее на стол, сжимает мои руки в своих ладонях и целует их. Теперь губы у него в майонезе.
– Сэм, я хотел сказать, что давно питаю к тебе определенные чувства. Не совсем дружеские. Но конечно, тебе и так об этом известно. Ты всегда опережаешь всех минимум на два шага. Я знаю, что ты еще не готова. Я подожду. Я ждал шесть лет и подожду еще шесть, если это необходимо. Или шестьдесят.
Он снова целует мои руки, слизывает с губ майонез и возвращается к своему сэндвичу.
– Ты… ты ведь понял, что я хотела, чтобы ты это сказал, да?
Вроде бы он даже доволен таким поворотом событий. Я никак не ожидала, что он готов ждать меня сколько потребуется.
– Я все понял. – Его уверенность меня несколько нервирует. – Я знаю тебя, Сэм. Я просто хотел, чтобы ты чувствовала – я здесь, рядом. Всегда рядом.
Дэвид улыбается, и вся неловкость и мои страхи тут же улетают в окно, как будто их и не было.
11 марта, 19:11
Дэвид стоит на кухне и моет посуду после ужина, напевая себе под нос какой-то навязчивый мотив из сериала. На плече у него висит полосатое бело-голубое полотенце. Вымыв одну тарелку, он тщательно вытирает ее и ставит точно на то место, где она и должна стоять. Такое ощущение, что он живет здесь уже много лет.
Я сижу на полу в гостиной, полностью готовая начать расследование. «Тайна газет Ричарда». Они все еще лежат в моей оливково-зеленой холщовой сумке, прислоненной к ножке кофейного столика, теперь навсегда отмеченного полосой серого лака для ногтей. Я вытаскиваю их наружу и сразу же ощущаю запах Ричарда.
Если бы Шон не обратил мое внимание на даты, сама бы я, наверное, никогда ничего не заметила. А ведь и в самом деле, Ричард приносил с собой именно эту стопку, день за днем, несколько месяцев подряд, с самой первой нашей встречи. Я вглядываюсь пристальнее и вроде бы узнаю фотографии, шрифт заголовков… С каждым разом газеты становились все потрепаннее, уголки все больше загибались, потом понемногу начали отрываться. Но я ничего не видела; мне и в голову не приходило бросить на них более внимательный взгляд. Да и с чего бы? Это ведь просто газеты, обыкновенные, ничем не примечательные, вполне безобидные. Мы каждый день читаем газеты. Откуда было взяться подозрениям? Газеты Ричарда меня совершенно не интересовали. И не заинтересовали бы, если бы не Шон.
Теперь я понимаю, почему он вечно клал на них кепку. Конечно, за много месяцев я могла бы и заприметить, что на первой странице всегда красуется одна и та же статья.
17 апреля 2012 года – дата на самой верхней газете, «Нью-Йорк таймс». Потом идет «Пост» от 3 мая. Все остальные газеты также вышли весной 2012 года. Страницы пожелтели и порвались на сгибах. Поля усеяны пятнами и жирными отпечатками пальцев.
Когда я начинаю листать их, неожиданно натыкаюсь на сделанные карандашом заметки и клейкие листочки, засунутые куда-нибудь в середину. Кажется, в «Дэйли ньюс» и «Нью-Йорк пост» скрываются богатейшие залежи неизвестной пока информации.
Почерк у Ричарда мелкий, кудрявый и местами абсолютно нечитаемый. Нацарапанные наскоро строчки перемежаются пометками, тщательно выписанными печатными буквами. Кроссворды и судоку тоже заполнены информацией. Еще мне встречается несколько отксеренных листов, приклееных поверх газетных страниц. Они содержат какие-то материалы на медицинские темы. А на маленьких клейких листочках иногда попадаются названия лекарств, которые продаются только по рецептам. Они жирно обведены. Здесь масса сокращений, которые я не могу расшифровать. Я собираюсь и готовлюсь узнать все, что здесь написано. Делаю глубокий вдох – и вижу перед собой потрепанные кеды Дэвида.
– Эй. Я закончил с посудой. Чем ты тут занимаешься? – Он опускается на пол рядом, целует меня в лоб и берет в руки экземпляр «Нью-Йорк таймс».
– Вот почему я просила тебя прийти. Это газеты Ричарда. Те самые, что он всегда носит с собой. Во вторник он оставил их у меня на столе, и я взяла с собой домой.
– Так вот что ты имела в виду под большой загадкой? В самом деле удивительно, нечего сказать.
– Он читал их не ради новостей.
– Нет? Тогда для чего они ему? – Дэвид перелистывает «Нью-Йорк таймс», находит большую статью про мэра Блумберга, проверяет дату и хмурится. – Почему она от двенадцатого года?
– Именно это я и хочу выяснить. Смотри… – Я открываю свою газету примерно посередине и показываю ему карандашные записи, клейкие листочки и все остальное.
– Что это такое, господи?
– Это информация. Заметки, которые Ричард и кто-то еще прятали в газетах, которые он читал каждый день.
– Заметки о чем? – Дэвид пробегает страницы глазами, слишком быстро, но, конечно, он замечает, что внутри все действительно исписано.
– Заметки обо мне.
12 марта, 14:39
Все газеты Ричарда разложены перед нами на полу. Дэвид притащил настольную лампу, чтобы было лучше видно, и блокнот, чтобы заносить туда найденную информацию и по возможности ее классифицировать. Пока что в блокноте четыре заголовка: «Сэм», «ПРЛ», «Туфлос» и «Лечение».
– На странице «Таймс» приклеенная копия опросника психосоциального профиля личности, – сообщает Дэвид. – Откуда-то выдрана, не заполнена. Тут есть и другие анкеты. Все пустые.
Я не могу вычислить принцип, которым руководствовался Ричард, оставляя одни материалы и, возможно, выбрасывая другие. Почему здесь есть одни документы, но нет других?
– А вот еще кое-что интересное, в «Файнэншиал таймс». – Он поднимает голову и фыркает. – В это невозможно поверить – ты что, всерьез думала, что он читает «Файнэншиал таймс»? – Дэвид поправляет сползшие очки и возвращается к газете. – Здесь выписаны все симптомы пограничного расстройства личности, по порядку. Некоторые обведены красной ручкой.
– Какие именно?
– Почти все. И напротив обведенных симптомов какие-то инициалы. С. Д. и Ф. У. С. Д. – это совершенно очевидно ты, но кто такая – или такой – Ф. У.?
– Фрэнсис Уильямс. Его мать.
– О, вот дерьмо. Здесь заметки о вас обеих – какие симптомы наблюдались у тебя, а какие у нее.
– Прочитай мне вслух.
– О’кей. Номер один – и я цитирую DSM – «Склонность прилагать чрезмерные усилия с целью избежать реальной или воображаемой участи быть покинутым». Здесь стоят и твои инициалы, и инициалы его матери. Номер два. «Склонность вовлекаться в интенсивные и нестабильные бла-бла-бла взаимоотношения… бла-бла-бла… чередование крайностей – идеализация и обесценивание». Инициалы матери и твои тоже, но со знаком вопроса. Номер три. «Расстройство идентичности». Только мать. Номер четыре. «Импульсивность, проявляющаяся как минимум в двух сферах, которые предполагают причинение себе вреда». Здесь и ты, и мать, и еще стрелочка, которая ведет к более подробным заметкам. – Дэвид щурится. – Нет, не могу прочитать. Ты можешь? – Он передает мне газету и подвигает лампу поближе.
– Тут сказано: Ф. У.: пьет, курит, мужчины, не ест. С. Д.: пьет, мужчины, наркотики? Наркотики со знаком вопроса. – Я злобно сую газету Дэвиду. Меня бесит то, что думает обо мне Ричард.
– Откуда он узнал, что ты так много пьешь? И о мужчинах тоже?
– Возможно, вот ответ. – Я показываю ему экземпляр «Метро». Там список баров, в которые я хожу, дни, по которым я обычно их посещаю, имена всех барменов и названия напитков, которые я всегда заказываю. Рядом – список магазинов, предлагающих готовую еду, которые находятся в моем районе, и список магазинов, торгующих спиртным. Кстати, слово «шабли» написано с ошибкой. А вот «Миллер лайт» нет. – Помнишь, ты нашел бумажку с моим именем? На ней был мой адрес и маршрут, которым я добираюсь до работы по утрам. Думаешь, она выпала отсюда? Очередная заметка Ричарда?
Дэвид опускает газету на колени и смотрит на меня:
– Должно быть, да. Но зачем ему это?
Я задумываюсь. В голове вдруг всплывают слова Ричарда: «Вам может не понравиться то, что вы обнаружите». Они представляются мне в виде большой сияющей надписи.
Я встряхиваю волосами и возвращаюсь к расследованию.
– Как насчет остальных симптомов ПРЛ? Где там эта газета?
– Вот она. На. – Дэвид отдает мне «Файнэншиал таймс» и принимается за что-то другое.
Моими инициалами помечены еще три симптома: номер шесть, «аффективная неустойчивость, очень переменчивое настроение»; номер семь, «постоянно испытываемое чувство опустошенности»; и номер восемь, «неадекватные проявления сильного гнева или трудности, связанные с необходимостью контролировать чувство гнева». Напротив этих трех пунктов также стоят и инициалы Фрэнсис. Однако ей он приписал еще и симптом номер девять: «преходящие, вызываемые стрессом параноидные идеи или выраженные диссоциативные симптомы». Суицидальное поведение, по его мнению, было нехарактерно для нас обеих, и поэтому симптом номер пять не обведен. Неужели он определил все это, просто наблюдая за мной? И столькому научился в тюрьме, что сумел правильно истолковать мою манеру поведения и привычки?
Я нахожу списки книг и справочников и небольшие записки с цифрами и десятичными дробями. Что это? Десятичная классификация Дьюи?[22] Он ходил в библиотеку, чтобы прочитать эти книги? Я внимательно просматриваю все, что нахожу. Оказывается, Ричарда интересовало не только ПРЛ, его симптомы и лечение, но также симптомы депрессии и ПТСР. Напротив некоторых стоят галочки, но никаких инициалов. Да это и не нужно. Депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство – такой диагноз поставили Ричарду в тюрьме.
– О’кей, погоди минуту. Что это вообще значит, черт возьми? Он что, следил за тобой до того, как оказался в «Туфлосе»? Откуда он знает про «Никс»? И про Сида? Он что, ходил туда и разговаривал с ним?
– Похоже, что так. То есть он написал, что я пью, значит, он видел, как я пью. А потом он нашел у меня в ящике этот пакет с бухлом, и это только все подтвердило.
– А как насчет мужчин? Он ведь сделал пометку «мужчины» напротив твоих инициалов. Откуда он мог узнать про твоих мужчин? Ты встречалась с Лукасом примерно год, верно? Ты ему изменяла? Я имею в виду, с кем-то кроме Эй Джея?
– С Эй Джеем, да… и еще была пара случаев, с другими парнями. Но и в самом деле, как он об этом узнал? Сколько времени он за мной следил?
– Мне не столько интересен срок, как вопрос зачем. Зачем, Сэм? Для чего ему нужна вся эта информация о тебе?
– Я не знаю, Дэвид. – Я глубоко и тяжело вздыхаю, надеваю очки и отпиваю глоток холодного спрайта. – Давай копать дальше.
«Вам может не понравиться то, что вы обнаружите».
Мы листаем страницы, расшифровываем сокращения и разбираем записи, сделанные на полях или свободных местах. Мы заполняем блокнот Дэвида собственными заметками и идеями, выстраиваем их по порядку, и постепенно у нас получается нечто похожее на график. Несколько раз нам встречаются рисунки, сделанные черной ручкой. Они напоминают строительные леса.
– Ни хрена себе! – Дэвид бледнеет и выпрямляется. – Сэм. У него тут отзыв на твой открытый сеанс.
– Что? Какого года? – Я вырываю у него газету и вижу хорошо знакомый мне документ, подписанный Рэйчел. Некоторые куски обведены красной ручкой. Отдельные слова трижды подчеркнуты. Каждый год я, как и все терапевты, должна устраивать открытый сеанс, чтобы начальство могло видеть мою работу в действии. Я держу копию отзыва Рэйчел на сеанс 2012 года.
– Что он там подчеркнул? – Дэвид выворачивает шею, чтобы читать вместе со мной.
– Все то, что говорит обо мне как о хорошем специалисте. Типа «образцово» управляется с трудными пациентами. «Прирожденный лидер», «харизматичная личность», «проявляет понимание и эмпатию». Рэйчел поставила мне самые высокие оценки по всем критерим, и Ричард отметил их красным восклицательным знаком. Как он сумел заполучить этот отзыв?
– А у тебя нет копии? Я храню копии всех своих отзывов в кабинете.
– Правда? А нам их выдают? – Не помню, чтобы Рэйчел когда-нибудь давала мне копию отзыва. Однако многое в моем прошлом словно покрыто туманом. Я помню, что после всего вышла из ее кабинета, чувствуя себя мошенницей. И одновременно – что я – Вайл И. Койот и сейчас мне на голову упадет огромная таблетка анвила, а у меня с собой только маленький зонтик, и он никак не может меня защитить. Но теперь, когда я вспоминаю этот конкретный случай, нечто вроде алкогольной галлюцинации, то вроде бы после того, как таблетка все же упала на меня и раздавила моего мультяшного героя, мой отзыв, витая в воздухе, словно опавший листок, медленно опустился на землю. Так что, возможно, копии мне и выдавались. – Господи. Если уж он нашел мой запас бухла, то, значит, основательно порылся в кабинете. И следовательно, мог найти все что угодно.
– Вот только отзыв этот от двенадцатого года. Почему он выбрал именно этот год? И у него вряд ли было время, чтобы обыскать все полки и шкафы. Те твои бутылки были в пакете, верно? Их легко обнаружить. А этот отзыв можно искать хоть сто лет – учитывая, сколько документов, папок и подобного барахла лежит у нас в кабинетах. И почему он решил взять это, а не что-то другое? Какой в этом смысл? Должно быть, он держал его у себя с двенадцатого года.
– Я не… я не понимаю. – Я роняю газеты на колени и прислоняюсь к Дэвиду. Это просто сюрреализм. Мы увлеклись своим расследованием – как же, это ведь так интересно – и упустили из виду главное. Что это безумие чистой воды. Зачем мой пациент следил за мной? Когда это началось? Здесь масса информации, но нет ответа на самый важный вопрос.
– Тут есть целая секция, посвященная прощению. Смотри. – Дэвид уже ушел вперед. Он делает все новые и новые открытия и не тратит время на их дотошное изучение. – Он столько раз обвел каждую букву в этих словах, что они даже отпечатались на следующих двух страницах. Тут написано: «прощение», «простить себя», а внизу еще «оправдать». Похоже на книгу из разряда «помоги себе сам». Не могу разобрать их все. Буквы расплылись. И взгляни на кроссворд – «простить себя – значит найти путь к свободе». Он даже вписал это в клеточки.
Простить себя. Это манифест. Своего рода воззвание Ричарда к самому себе. Вот ключ к его душе и внутреннему состоянию.
– А кому принадлежит другой почерк? Напоминает врачебный. – Большая часть газет теперь лежит на коленях у Дэвида.
– Да, я тоже пытаюсь это понять. У меня тут «Пост», и в нем полно записей о лечении. Но не о самолечении, что самое интересное. Это научные материалы. О технике управления эмоциями и все такое прочее. Здесь даже упоминается диалектическая поведенческая терапия, и все описано довольно подробно! Господи боже мой! Что же это такое? Что происходит? – Я пытаюсь сдерживаться и фокусировать внимание только на расследовании, но мне уже немного страшно, и еще я разочарована тем, что мы пока так и не пришли ни к каким выводам.
– Ну, ДПТ – один из самых эффективных методов лечения личностных расстройств.
– Благодарю вас, доктор Блумфилд! – саркастически произношу я и воздеваю руки к небу. – Почему мой пациент держит список методов лечения личностных расстройств в газете столетней давности? А? Зачем? Ясно, что его мать страдала от ПРЛ и он до сих пор носит в себе огромное чувство вины, потому что не смог ей помочь и вообще – убил ее! Все это мне ясно. Но почему в этих гребаных газетах информация обо мне? Какое отношение это имеет ко мне?
– О боже. Да ведь я знаю, чей это почерк.
– Чей? Откуда ты знаешь? – Я сую голову Дэвиду под локоть, чтобы увидеть, что он нашел.
– Это тот тюремный мозгоправ. Марк с фамилией на «С». Ну, парень из Огденсберга! Тот, который догадался обо всем, что случилось с Ричардом, несмотря на его молчание.
– Доктор Слоан? С чего ты взял?
– Смотри. – Дэвид вручает мне «Дэйли ньюс». – Вот письмо, подписанное инициалами М. С. То есть копия письма. И в нем явно содержится ответ на некий вопрос, потому что в первых строчках говорится, что он получил информацию, о которой просил Ричард. И еще в этом же письме имеется список основных способов лечения ПРЛ. В некоторых местах все размазалось, но кажется, это и есть ключ! А дата в углу? 27 марта 2012 года. Как раз того же периода, к которому относятся все эти газеты. Вернее, после этого числа он и начал их собирать.
Я читаю нечеткую копию письма, выцветшую от времени, с расплывшимися пометками на полях, сделанными рукой Ричарда. Оригинал письма, видимо, был сложен, так что отпечаталась только часть последнего предложения: «…удачи в поисках…» Но последних слов нет.
13 марта, 9:22
Я сижу на общем утреннем совещании и пялюсь в немытое окно. Из-за здания напротив выглянуло солнце. Свет только подчеркивает потеки грязи, пыль и сажу и совершенно затушевывает вид. Это похоже не на окно, а скорее на стену из засохшей кошачьей блевотины.
У меня заметно дрожат колени. Завтрак мне пришлось пропустить, потому что мой чересчур чувствительный желудок на нервной почве может тут же спустить все, что я съела, с другого конца. Я литрами глотаю кофе, и от количества выпитого у меня уже сводит челюсти, и я невольно скриплю зубами.
Газеты Ричарда лежат в моей сумке. Я то и дело ныряю под стол и проверяю, все ли на месте, как будто, почувствовав неладное, они могут выскочить и убежать. Мне хочется, чтобы Рэйчел как можно быстрее закончила со всей этой ерундой, чтобы я могла убраться отсюда и как можно скорее найти Ричарда.
Рэйчел что-то бубнит, персонал вяло или живо реагирует, но я ни на что не обращаю внимания. Для меня время замедлилось, но совещание проходит в обычном режиме, и это невыносимо.
Наконец я замечаю, что все начинают собирать свои бумаги, складывать папки и рыться в карманах в поисках ключей от кабинетов, а потом тянутся к выходу. Дэвид кивает мне, я опрокидываю в рот последние капли кофе, вешаю сумку на плечо и, не дожидаясь обычного обмена любезностями с коллегами, пулей вылетаю из конференц-зала и несусь по коридору к своему кабинету.
Я достаю историю болезни Ричарда и аккуратно раскладываю ее по листам перед собой. Случайно взглянув на блузку, я вижу, как вздымаются пуговицы на груди – так сильно бьется сердце. Пальцы дрожат от неимоверного количества кофеина.
На первой же странице истории болезни – расписание Ричарда. Я смаргиваю белые прозрачные штучки, которые плавают в воздухе и мешают мне как следует видеть, и смотрю, что у него назначено на понедельник, на десять часов. Сколько бы я ни старалась, мне никогда не удавалось запомнить расписание пациента наизусть. Так. Значит, понедельник, десять утра. О, вот как. Оказывается, в данный момент Ричард находится всего в нескольких шагах от меня, в компьютерной комнате. Часы сообщают мне, что до десяти осталось еще шесть минут.
Я использую это время, чтобы подготовить сцену. Медленно достаю из сумки газеты, стараясь не повредить их еще больше – они и так здорово затрепаны. Мы с Дэвидом строго следили за тем, чтобы не нарушить порядок, в каком они были сложены, и оставить на своих местах все вложенные листочки и бумажки. Ричард педантичен до крайности; края стопки всегда были идеально выровнены, а страницы идеально разглажены. Я тщательно складываю газеты и чуть не по линейке подгоняю углы друг относительно друга. Наконец газеты выглядят так, будто сам Ричард положил их на край моего стола, рядом с креслом для пациента.
Я еще никогда так не психовала перед встречей с ним – разве что в самый первый раз, когда никто о нем ничего не знал и мы кормились только сплетнями и домыслами – что за преступление он совершил, как он будет себя вести, не прихлопнет ли кого из нас. Кажется, я несколько часов готовила кабинет к «очной ставке», но выясняется, что сейчас всего без четырех минут десять.
Я открываю бутылку воды и пью медленными глотками, что по идее должно меня успокоить. Как бы не так. Мне все мерещится, что время остановилось, однако секунды все же идут. Маленькие белые цифры на электронных часах показывают 9:59, потом раздается чуть слышный щелчок, и наконец-то – 10:00. Я отодвигаю кресло и встаю.
Ричард сидит за компьютером, внимательно уставившись в монитор. В компьютерной комнате только два других пациента – Барри и Ташондра. Ташондра тоже сидит за компьютером и даже двигает мышкой – непонятно зачем, потому что ее монитор выключен. Предполагается, что здесь должна находиться Ширли, но ее нет.
Ричард оборачивается, видит меня, но на его лице ничего не отражается. Он как будто все еще погружен в чтение. Он тычет пальцем в грудь и одними губами произносит: я? Я киваю и показываю на свой кабинет. Он бросает последний взгляд на экран, закрывает страницу и выключает компьютер.
Потом отодвигает от стола потертый синий пластмассовый стул, и Барри испуганно вскидывает голову, встревоженный звуком. Он резко разворачивается, чтобы посмотреть, что случилось, замечает в дверях меня, Ричарда, идущего мне навстречу, и машет мне рукой. Я натянуто улыбаюсь и вместе с Ричардом выхожу из комнаты.
13 марта, 10:04
Я до мельчайших деталей отрепетировала предстоящий разговор вместе с Дэвидом, но в эту минуту все слова вдруг застревают у меня в горле, и я не могу выдавить из себя ни звука. Ричард садится.
– Разве у нас назначен сеанс? – неуверенно спрашивает он.
Я смотрю на него, пытаясь сложить из отдельных слогов хоть какое-то внятное предложение, и невольно бросаю взгляд на газеты. Ричард перехватывает его и поворачивается ко мне:
– Ах, это…
– Да. Это. – Все едкие комментарии и спокойные, четкие вопросы, что я так тщательно продумала, высыпаются у меня из головы, видимо, через дырки в ушах, и грудой опадают на пол.
Ричард несколько раз хрипло вздыхает, переплетает пальцы на животе и по привычке смотрит в окно, на здание напротив. Но лесов больше нет, на месте бывшей стройки теперь новенький сияющий фасад.
– Вы все прочитали? – Он откидывается назад, как будто не осознает, насколько важна эта беседа.
– Да. Все, что смогла разобрать.
– И?
– И? И? «И» ответьте мне сами! Что я должна обо всем этом думать? Вы следили за мной? Вы вообще пациент или кто? – Меня словно раскупорили, как бутылку шампанского, и слова вылетают из меня сами собой. И кажется, я на грани истерики.
– Эй, эй. – Ричард быстро выпрямляется и обеспокоенно смотрит мне в лицо. – Разумеется, я пациент «Туфлоса»! Меня зовут Ричард Макхью, и я никогда не врал. Большей частью не врал. И никогда не врал вам. Напрямую.
– Что это значит? – У меня трясутся колени, по спине градом льет пот, и я горько сожалею о том, что выдула столько кофе. Последняя кружка явно была лишней.
– Ну, возможно, я попал в это заведение не совсем честным путем. – Он нервно потирает большие пальцы.
– Возможно? Так вы все-таки не пациент? – Я пододвигаю свое кресло ближе к двери. Мне снова страшно быть с этим человеком наедине. Как в первый раз.
– Формально пациент, потому что сюда меня направил врач. Но это не являлось обязательным условием моего досрочного освобождения. Нет такого закона. Человека не посылают в дурдом в обязательном порядке, после того как он отбыл срок в тюрьме. И еще – я здесь действительно не для того, чтобы лечиться. – Он поднимает ладони вверх. Жест «ну ладно, сдаюсь».
– Тогда что вы тут делаете? И как, черт вас раздери, вы к нам попали?
– Это было не слишком трудно. Все, что потребовалось, – знакомый доктор, который сделал звоночек другому доктору. И вот я уже на пороге больницы.
Я уже почти задыхаюсь, потому что в левой ноздре у меня застряла сопля, и я заметно посвистываю носом. Я вытаскиваю из коробки платок за платком и громко, с хрюканьем, сморкаюсь. Должно быть, Ричарду противно это слышать, потому что на лице у него написано неприкрытое отвращение.
– Успокойтесь, Сэм.
– Вы хоть понимаете, что все настоящие пациенты находятся здесь, потому что им это необходимо, – бросаю я, все еще прижимая платок к носу. – Для некоторых это вопрос жизни и смерти. Они приходят к нам, чтобы вылечиться, выписаться и начать жить нормально. А вы проникаете тайком, под фальшивым предлогом, с какими-то собственными гребаными эгоистичными планами и психопатичными… я не знаю чем… Вы превращаете лечение в шутку! Это не просто неэтично, это ужасно! Я даже не могу вам этого объяснить! Об этом вы не подумали? Вы не подумали, что ваша ложь и манипуляции системой… Вы не подумали, как это может повлиять на других?
– Честно – нет. – Его спокойствие резко контрастирует с моей горячностью. Складывается такое ощущение, будто мы играем в двух разных фильмах.
– А о чем вы думали? Объясните же мне! – Я со всей силой хлопаю ладонью по газетам, но, к моей пущей ярости, они даже не разлетаются.
– Я и объясняю, но вам нужно успокоиться. Мне тоже нелегко, знаете ли. И я не буду с вами разговаривать, пока вы так себя ведете. – Ричард складывает руки на груди и замолкает.
Я испускаю нечеловеческий вздох.
– Пожалуйста, продолжайте. Я успокоюсь.
На самом деле я в бешенстве. Мне хочется схватить его за плечи и трясти до тех пор, пока я не добьюсь правды – кто же все это время просиживал часы в моем кабинете?
– О, вы разрешаете? Спасибо. Как я уже говорил, попасть в психиатрическую больницу довольно легко. Нужно, чтобы кто-то обладающий соответствующими полномочиями просто выписал вам направление. Я никогда не врал, Сэм. Я не сказал ни слова неправды. И мне важно, чтобы вы это знали.
– Доктор Марк. Это он «обладает соответствующими полномочиями», верно? Он выписал вам направление?
– Да, это он. Мы общаемся уже много лет. Я сказал ему, что мне нужно лечение и я провел некоторое исследование на тему того, какая больница лучше, и решил остановиться на этой.
– Вы говорили, что потеряли с ним связь после того, как он ушел из Огденсберга.
– Да, вы правы. Вот в этом я действительно солгал. И очень об этом сожалею. Но я не мог допустить, чтобы вы узнали правду, пока я не буду к этому готов.
– Готов? К чему готов? Да что же такое происходит? – Мне хочется разреветься и затопать ногами. Почему он мне не отвечает?
– Готов вам все рассказать.
– А сейчас вы готовы?
– Наверное, мне просто придется это сделать. Вы нашли газеты, все прочитали. Мне не хочется видеть вас такой растерянной и запутавшейся. И меньше всего на свете я хотел вас испугать.
– Я уже давно набрала номер охраны, осталось только нажать кнопку вызова. Как мне вас не бояться? Я прочитала ваши заметки – подробные, странные; практически каждая из них – это вмешательство в мою частную жизнь. Что мне теперь думать? Вы полагали, я найду в них какие-то ответы? Сейчас у меня еще больше вопросов, чем было, а ответов – ни одного. – Я вдруг осознаю, что почти кричу, встаю и включаю ногой «белый шум».
– Может быть, будет проще, если вы начнете задавать мне эти вопросы? А я на них отвечать.
Я обессиленно падаю в кресло.
– Я не понимаю ничего. Зачем вам понадобились списки симптомов из DSM?
– Я многое забыл. Мне нужно было понимать, как правильно себя вести. Когда у тебя депрессия, ты, естественно, проявляешь признаки депрессии. Но когда она проходит, трудно вспомнить, особенно через много лет, как это было. Вы здесь лучший доктор, как я выяснил, и если что, вы бы раскололи меня в момент. Поэтому мне требовалось освежить память.
– Значит, список симптомов был вам нужен, чтобы реалистично изображать депрессию? А как насчет ПТСР? Это было вранье?
– Нет. Сэм… вы меня не слышите. Или не слушаете. Ничего из того, что я вам рассказывал, не было враньем.
– Вы действительно убили свою мать? Или это чушь? – Все кружится у меня перед глазами, и я уже не могу отличить правду от лжи.
– Все, о чем я говорил, случилось на самом деле. До последних подробностей. Когда мы с вами разговаривали, я никогда не врал. Никогда.
– Но вам нужно было вести себя правильно, чтобы никто в отделении не догадался, что вы – фальшивый пациент?
– Таков был план. Но как оказалось, мне даже не пришлось притворяться. Я был самим собой. Никогда не чувствовал, что играю роль. В этом заведении легко на самом деле впасть в депрессию.
– Так зачем вы здесь, если по медицинским показателям вам это не нужно?
Я зажимаю голову между коленями и откатываюсь от Ричарда как можно дальше. Записи и липкие листочки, найденные в газетах, со страшной скоростью мелькают перед моим внутренним взором. Я не могу сосредоточиться. Мне нужно задать так много вопросов. И я все еще ничего не понимаю.
Ричард не отвечает. Он то сплетает, то расплетает пальцы и скрещивает ноги.
– Вы писали о прощении. – Я поднимаю голову и смотрю на него. Он откровенен, и это немного меня успокаивает.
– Да. Это все доктор Марк. – Ричард говорит медленно и четко. Он хочет, чтобы я на самом деле поняла, и делает для этого все, что в его силах. – Когда я вышел из тюрьмы, мне не стало лучше. Это оказалось куда труднее, чем я думал. Я предполагал, что свобода смоет с меня все плохое и я смогу построить новую жизнь. Но ничего не получалось. Чувства освобождения не было. И не важно, сколько книг я прочитал, сколько мантр повторил, сколько раз твердил себе, что мне можно, мне позволено двигаться дальше, идти вперед, я все равно был не способен даже пошевелиться. Меня не оставляло ощущение, что мое наказание еще не закончено. У меня не было семьи. И почему? Потому что я убил того… ту, кто была моей семьей. И когда мне стало совсем плохо, я позвонил человеку, который был мне ближе всех. Доктору Марку. Мы проводили сеансы по телефону. Я тогда жил в «Ревелэйшенз», «доме на полдороге». Он сказал, что мне не стоит оттуда выходить. Что мне важно оставаться в безопасном месте, пока я выздоравливаю. Поэтому мы еженедельно созванивались.
– Вот почему он так хорошо вас помнил. Но ничего мне не сказал. Почему он скрыл от меня, что продолжал вас лечить?
– Ну… – Ричард смотрит вниз и крутит пальцы рук. – Поэтому я так заволновался, когда вы захотели его разыскать. И сказал, что не помню его фамилии. Я позвонил ему и сообщил, что еще не готов с вами поговорить и не хочу, чтобы он обо мне рассказывал – если вы его все же найдете. Он ответил, что не может вам врать и в принципе против всякого обмана. Тогда я попросил его быть… порасплывчатее. Судя по всему, я все-таки лгал больше, чем мне казалось. И я еще раз прошу за это прощения. Обманывать вас никогда не входило в мои намерения.
– Я надеюсь, вы все же скажете мне, в чем заключались ваши намерения.
– Доктор Марк заложил мне в голову эту идею о прощении. Не так давно вы говорили то же самое. Он сказал, для того, чтобы двигаться дальше и обрести чувство свободы, мне необходимо простить себя за все, что я сделал. «Простить себя – значит найти путь к свободе» – это его слова. И я попытался выяснить, как это сделать. Спрашивал терапевтов из «Ревелэйшенз». Вот в чем проблема с вами, с врачами – вы всегда говорите, что нам нужно сделать, но не говорите как. Ну, и я прекратил все расспросы и стал читать книги – по философии, по психологии. Мемуары, биографии. Сам искал ответ. И он пришел ко мне. Компенсация. Мне нужно было компенсировать то зло, что я совершил. «Око за око», сказано в Библии. Я убил человека. Значит, я должен был спасти другого человека.
– И вы пошли искать, кого бы вам спасти? – Я фыркаю. – Почему же вы не нанялись в пожарные, например?
– Помните Джесса? Моего друга из Вудсайда?
– Конечно.
– Ну так вот. Когда я вышел из «Ревелэйшенз», решил его найти. Мне больше не с кого было начать. И оказалось, что его номер есть в телефонной книге и живет он все в том же районе. Я позвонил, и мы встретились на Манхэттене, попили кофе. Он нисколько не изменился. Такой же долговязый и худой, те же волосы. Наверное, он мне обрадовался. Выяснилось, что он работает в строительной компании и занимает довольно крупный пост. Я сказал, что мне нужна работа. Что-нибудь неофициальное, без налогов и всякого такого. И Джесс устроил меня на одну из своих строек. – Взгляд Ричарда возвращается к окну.
– Так вы… так вы работали на этой самой стройке?! Через улицу? Так вы меня и нашли? – Неужели Ричард все время, до октября, был там?
– Я попросил, чтобы меня устроили именно туда. Я уже нашел вас, но мне нужно было узнать о вас больше, прежде чем встретиться лицом к лицу.
– Ричард, но это же безумие. Сколько времени вы там провели, прежде чем явились сюда? – Я подтягиваю подол блузки и стараюсь спрятать руки в рукава. Инстинктивная попытка защититься. «Вам может не понравиться то, что вы обнаружите».
– Пару недель или месяцев – не больше. Несколько раз я проследил ваш путь от работы до дома. Когда я вас нашел, не был уверен, что мне делать. Поэтому поначалу просто наблюдал. Издалека.
– Поэтому вы взяли документы из «Туфлоса»? Чтобы лучше меня узнать? Как у вас оказался отзыв о моем открытом сеансе?
– На самом деле мне просто повезло. Я не знал, где мне искать информацию, и стал шарить по мусорным бакам в переулке. Большая часть документов была порезана на полоски. Но я то и дело натыкался на целые бланки или анкеты и всякие штуки такого рода. В основном незаполненные. Но мне все равно показалось, что они могут мне пригодиться – на случай, если я когда-нибудь сумею проникнуть в больницу. Но однажды мне попался этот самый отзыв. Самая первая информация, которую я о вас получил. Бумага была скомкана и залита кофе, но внизу стояла подпись, и я решил, что это важная штука. Поэтому сунул ее в карман.
Там говорилось, что вы – практически совершенство. Лучший специалист в больнице. Всегда всем помогаете. Но позже я стал следить за вами и увидел вас вне работы. И до меня дошло, что с вами далеко не все в порядке. Я так долго изучал пограничное расстройство личности после несчастного случая с Фрэнсис, что почти мгновенно различил знакомые симптомы. И понял, что вы страдаете.
На меня нападает странная неподвижность – словно кто-то накрыл меня теплым одеялом. Из глаз струятся слезы – тоже теплые и совсем не горькие. Наконец-то я начинаю понимать.
– Вот почему у вас был список методов лечения. Вы пришли, чтобы вылечить меня. Вы знали, как это сделать, вы всему научились и попросили выписать вам направление в «Туфлос», чтобы «спасти меня». Так вы могли получить прощение и вместе с ним свободу.
– Да. Я пришел за тобой. Ради тебя.
– Но почему? Почему я?
21 марта, 7:44
В поезде с человеком может произойти интересная вещь. Ты как бы находишься между началом и концом пути, и в этом смысле поезд – самое подходящее место для перемен. Я оставляю ту, кем я была, на станции на Четырнадцатой улице, а к последней остановке становлюсь той, кем буду отныне.
Выйдя из вагона, я бросаю заключение из ДПЗ в мусорный бак на платформе номер 1 и вижу, как уборщики тут же высыпают мусор в желтый контейнер. Я прекратила бороться с правдой, разжала кулаки и признала, что я такая, какая есть. Теперь я начну путь к спасению.
Чтобы добраться от метро до больницы, нужно пройти через противный, продуваемый всеми ветрами туннель, приготовившись к тому, что сейчас тебя закидает всем, что только можно найти на свалках города. Я не могу начать день, пока не достану из глаза какую-то нереально огромную фигню – как она туда поместилась? – и не вытащу из волос весь строительный мусор.
Мы встречаемся с Дэвидом на углу, и я беру его за руку. Он целует меня в щеку, и на сердце тут же теплеет. Он передает мне стакан с кофе, и мы направляемся к «Туфлосу». Сегодня вторник.
Когда мы минуем охрану, Дэвид спрашивает:
– Когда у тебя сегодня сеанс с твоим отцом?
– В одиннадцать, – отвечаю я. – Как обычно.
Примечания
1
От греческого слова τυφλός, в библейском значении «слепой», «слепой разумом». (Здесь и далее примеч. пер.)
(обратно)2
Биполярное аффективное расстройство (ранее – маниакально-депрессивный психоз) – психическое расстройство, проявляющееся в виде аффективных состояний – маниакальных и депрессивных, а иногда и смешанных, при которых у больного наблюдаются быстрая смена симптомов мании (гипомании) и депрессии (например, тоска со взвинченностью, беспокойством либо эйфория с заторможенностью). Возможны многообразные варианты «смешанных» состояний.
(обратно)3
Дик – уменьшительное от Ричард; в то же время на сленге dick (англ.) означает «член».
(обратно)4
Шот (англ. shot) – порция напитка в одну унцию (30 мл), обычно крепкого, выпиваемая залпом, одним глотком.
(обратно)5
«Патрон Сильвер» – марка текилы.
(обратно)6
Десенсибилизация – методика уменьшения негативного напряжения, тревоги и страхов по отношению к пугающим и травмирующим объектам или ситуациям.
(обратно)7
«Дом на полдороге» (англ. halfway house) – учреждение социальной реабилитации для неблагополучных групп людей, например бывших наркоманов, заключенных и пр.
(обратно)8
«Блумингдейлз» (англ. Bloomigdale’s) – один из старейших и крупнейших универмагов Нью-Йорка.
(обратно)9
Расстройство приспособительных реакций (расстройство адаптации) – состояния субъективного дистресса и эмоционального расстройства, препятствующие социальному функционированию и продуктивности и возникающие в период адаптации к значительному изменению в жизни или стрессовому жизненному событию.
(обратно)10
Оксикодон – обезболивающий препарат, полусинтетический опиоид. Иногда заменяет морфин.
(обратно)11
PhD – Pholosophi Doctor (лат.) – ученая степень, присуждаемая в некоторых странах Запада.
(обратно)12
«Медикейд» – американская государственная программа медицинской помощи нуждающимся.
(обратно)13
Поздняя (тардивная) дискинезия – в широком смысле любые насильственные непроизвольные движения, которые развиваются чаще всего на фоне длительного приема лекарственных средств (например, нейролептиков и др.) и стойко сохраняются после отмены препарата от месяца до нескольких лет.
(обратно)14
Генерализованное тревожное расстройство – психическое расстройство, характеризующееся общей устойчивой тревогой, не связанной с определенными объектами и ситуациями.
(обратно)15
«И ты, Давид?» (лат.) – по аналогии с «И ты, Брут?».
(обратно)16
Хлорпромазин (у нас известен как аминазин) – нейролептик, обладающий антипсихотическим действием и сильным седативным эффектом.
(обратно)17
Характеризуется неустойчивостью настроения со склонностью к периодическим вспышкам гнева, ненависти, насилия или привязанности.
(обратно)18
В определенных дозах оказывает снотворный эффект.
(обратно)19
Фамилия Саманты – Джеймс, англ. James, как раз начинается с буквы J.
(обратно)20
Это имя и фамилию обычно используют СМИ или полиция, когда настоящее имя потерпевшего или обвиняемого неизвестно. Так же называют пациентов в больницах, которые, например, страдают амнезией и не могут назвать свое имя.
(обратно)21
Фамилия Шифф – англ. Schiff – тоже начинается с буквы «С».
(обратно)22
Десятичная классификация Дьюи – система классификации книг, разработанная американским библиотекарем Мелвилом Дьюи.
(обратно)
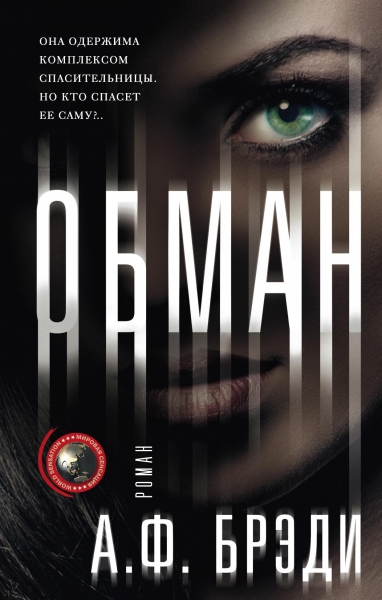
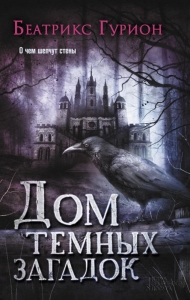





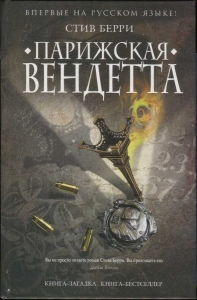



Комментарии к книге «Обман», А. Ф. Брэди
Всего 0 комментариев