Мэри Кубика Моя малышка
Pretty Baby Copyright © 2015 by Mary Kyrychenko «Моя малышка»
© «Центрполиграф», 2018
© Перевод и издание на русском языке, «Центрполиграф», 2018
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2018
Хайди
В первый раз я увидела ее на платформе станции Фуллертон. Она стояла, прижимая к себе младенца, будто хотела защитить и его, и себя от идущего по фиолетовой линии до Линдена поезда-экспресса, который стремительно проносился мимо. 8 апреля, температура около плюс восьми, хлещет проливной дождь, дует сильный порывистый ветер. В такой день прическу делать бесполезно.
Одета девушка в джинсы, разорванные на колене, и тонкое нейлоновое пальто – примерно такого же оттенка зеленого бывает военная форма. Ни капюшона, ни зонтика. Промокшая до нитки, она стоит, спрятав подбородок в воротник, и смотрит прямо перед собой. Пассажиры вокруг съежились под зонтами, но никто не предлагает ей укрытия. Младенец, заботливо укрытый от дождя маминым пальто, крепко спит, как детеныш в сумке кенгуру. Удивляюсь, как можно спать в такую холодную, дождливую погоду, да еще и под грохот поезда. Из-под пальто выглядывает замызганное шерстяное розовое одеяльце, и я сразу решаю, что ребенок – девочка. У ног незнакомки, обутых в насквозь промокшие ботинки на шнуровке, стоит старый потертый чемодан из коричневой кожи.
На вид ей не больше шестнадцати. Девушка очень худая. Сразу решаю, что от недоедания, хотя, возможно, это просто природная худоба. Одежда висит на девушке мешком. Джинсы слишком широкие, пальто заметно велико.
По громкой связи объявляют о прибытии поезда, идущего по коричневой линии. Толпа спешащих на работу пассажиров быстро набивается в теплые сухие вагоны, но девушка не двигается с места. На несколько секунд замедляю шаг, чувствуя потребность что-то сделать, что-то предпринять. Но потом вхожу в поезд вместе с остальными равнодушными. Пробравшись к свободному месту, сажусь, а когда двери закрываются и поезд приходит в движение, смотрю в окно на удаляющуюся фигурку под дождем с ребенком на руках. Эта картина не дает мне покоя весь день.
Еду в центральный район Чикаго, Луп, и выхожу на станции Адамс/Уобош. Осторожно спускаюсь по ступенькам с платформы на затопленный дождем тротуар. В нос сразу ударяет отвратительный запах канализации из-под решетки на углу улицы. Голуби вразвалочку нарезают круги вокруг мусорных баков, поблизости расположились бездомные, а миллионы жителей города пробегают мимо, спеша из точки А в точку Б.
Между встречами, на которых обсуждаем повышение уровня грамотности взрослого населения, и подготовкой к тесту по программе средней школы, а также занятиями с мужчиной из Мумбай, которому нужно сдать экзамен на знание английского, представляю, как девушка с ребенком целый день стоит на перроне, провожая взглядом отъезжающие и прибывающие поезда. Пытаюсь найти безобидное объяснение. У младенца колики, и вибрации от движения поездов – единственное, что помогает бедному ребенку заснуть. Зонтик у девушки был. Ясно его себе представляю: ярко-красный с золотистыми маргаритками. Но налетел мощный порыв ветра и вывернул его наизнанку. В такую погоду зонты часто ломаются. Впрочем, возможно, девушка оставила зонтик дома просто потому, что не могла одновременно унести в руках и его, и ребенка, и чемодан. Малышку она, конечно, оставить не могла. Но зачем брать чемодан, если она никуда не едет, да еще и притом, что из-за него приходится отказываться от зонтика? Может, девушка кого-нибудь ждет? А может, успела запрыгнуть на поезд красной линии через несколько секунд после того, как от платформы отъехал мой поезд?
Когда вечером возвращаюсь домой, девушки на станции нет. Крису рассказывать не стала. И так знаю, что он скажет: «Тебе-то какое дело?» Зои сидит за кухонным столом. Помогаю ей сделать домашнее задание по математике. Зои говорит, что терпеть не может математику. Ничего удивительного – сейчас она ненавидит всех и вся. Зои двенадцать. Точной даты не помню, но у меня этот период подростковой ненависти наступил гораздо позже – лет в шестнадцать – семнадцать. Впрочем, в наши дни дети взрослеют быстрее. Например, в детском саду я играла и учила буквы, а Зои уже вовсю читала и обогнала меня по уровню компьютерной грамотности. И у мальчиков, и у девочек переходный возраст начинается раньше, чем у моего поколения, – иногда на целых два года. У десятилеток уже есть мобильные телефоны, а бюстгальтеры теперь начинают носить лет с семи-восьми.
Поужинав, Крис, как обычно, скрывается в кабинете, где изучает наводящие скуку таблицы, и выходит много позже, чем мы с Зои легли спать.
На следующий день она снова на том же месте. Эта девушка. И опять льет как из ведра. Апрель только начался, а метеорологи уже предсказывают, что в этом месяце выпадет рекордная норма осадков. Говорят, самый дождливый апрель в истории наблюдений. Вчера из аэропорта О’Хара сообщили, что за день выпало 0,6 дюйма осадков. Уже начало затапливать подвалы и находящиеся в низинах улицы. Рейсы самолетов отменяют и задерживают. Напоминаю себе, что, по примете, чем мокрее апрель, тем больше цветов в мае. Надев кремовую куртку из водоотталкивающей ткани и резиновые сапоги, отправляюсь на работу.
На девушке те же рваные джинсы, зеленое пальто и ботинки. Старый чемодан снова стоит у ее ног. Она ежится на холоде, а ребенок плачет и беспокойно вертится на руках у матери. Девушка укачивает младенца и что-то успокаивающе бормочет. Читаю по губам – «тише, тише». Стоящие под огромными зонтами женщины потягивают из стаканчиков кофе навынос и обмениваются мнениями. «Разве можно выносить ребенка из дома в такую погоду? – с высокомерным неодобрением произносят они. – Девчонка что, совсем не соображает? Да еще и без шапочки!..»
Мимо проносится экспресс фиолетовой линии, потом подъезжает и останавливается поезд коричневой линии. Толпа, словно двигаясь по конвейерной ленте, все с тем же равнодушием устремляется внутрь. И опять я медлю. Снова хочу хоть что-то предпринять, однако боюсь без спроса влезть в чужие дела и обидеть девушку. Между желанием помочь и навязчивостью очень тонкая грань, которую я переступать не желаю. Есть миллион причин, по которым девушка может стоять под дождем с чемоданом, держа ребенка на руках. Вовсе не обязательно предполагать, что ей некуда идти, хотя именно эта мысль неотвязно меня преследует.
Среди людей, с которыми я работаю, подавляющее большинство – иммигранты. В их среде нищета – обычное дело. Статистика грамотности в Чикаго выглядит уныло. Примерно у трети взрослых жителей города образовательный уровень очень низкий, а это значит, что они не могут составить заявление о приеме на работу, прочесть указатели или разобраться, на какой остановке линии «Л» им выходить. А помочь детям с уроками – и вовсе не выполнимая задача.
У нищеты разные лица, но все одинаково мрачные.
Старухи, спящие свернувшись в клубок на скамейках в городских парках. Все их немногочисленное имущество сложено в тележку, украденную из супермаркета. Пропитание эти несчастные добывают, роясь в городских помойках в поисках объедков.
Мужчины, в морозные январские дни сидящие прямо на тротуаре, привалившись к стенам чикагских небоскребов. Несмотря на неудобные позы, они крепко спят, прислонив к себе картонные таблички: «Помогите ради бога. Нет денег на еду».
Дома, в которых живут нищие, находятся в ужасающем состоянии, и расположены они в опасных, криминальных районах. В лучшем случае эти люди отказывают себе в продуктах, в худшем – голодают. Они вынуждены обходиться без элементарной медицинской помощи, даже прививки для них – непозволительная роскошь. Их дети учатся в школах, не получающих надлежащего финансирования. Большинство ребят в таких учреждениях трудные, с серьезными проблемами в поведении, здесь процветает насилие. А еще такие дети, по статистике, очень рано начинают сексуальную жизнь, и таким образом процент населения, живущего в нищете, неуклонно пополняется. Девочки-подростки рожают слабых младенцев со слишком низким весом, которые не получают ни медицинской помощи, ни прививок. Дети болеют и голодают.
Больше всего нищих среди чернокожих и латиноамериканцев, однако от этой беды не защищен никто, включая белую девушку с младенцем. Все эти соображения вихрем проносятся в голове. Решаю, как поступить. Подойти к девушке? Сесть в поезд? Подойти… сесть… подойти…
Но тут, к моему удивлению, девушка заходит в вагон. Успевает проскользнуть внутрь за несколько секунд до того, как раздается сигнал, предупреждающий, что двери вот-вот закроются. Я спешу следом, гадая, куда мы едем – девушка, ребенок и я.
Вагон переполнен. Какой-то мужчина любезно уступает свое место девушке. Та молча опускается на металлическое сиденье рядом с человеком в строгом деловом костюме и длинном черном пальто. Тот косится на младенца, будто перед ним марсианин. По дороге на работу каждый занят своим делом. Одни разговаривают по мобильным телефонам, достают ноутбуки и прочие гаджеты. Другие читают книги, газеты или рабочие бумаги. Третьи потягивают кофе и смотрят в окно на пасмурный горизонт, но в такую погоду трудно что-то разглядеть. Девушка осторожно достает ребенка из рюкзака-кенгуру и разворачивает розовое шерстяное одеяльце. Как ни удивительно, под ним младенец остался сухим. Поезд между тем подъезжает к станции Армитедж. Проносимся так близко к кирпичным зданиям и домам на три-четыре квартиры, что, должно быть, у жильцов в кухонных шкафах подскакивает посуда, а грохот заглушает телевизор. И так каждые несколько минут, весь день до поздней ночи. Оставляем позади Линкольн-Парк и направляемся в Старый город. За время пути ребенок успокаивается. К явному облегчению других пассажиров, пронзительный плач сменяется тихим хныканьем.
К сожалению, протиснуться к девушке не могу, поэтому приходится стоять гораздо дальше, чем хотелось бы. Стараясь сохранять равновесие в покачивающемся вагоне, высматриваю ее между пассажирами и их портфелями. Ловлю взглядом то белую щечку младенца, раскрасневшуюся от плача, то впалую щеку матери. Белый комбинезончик, соска, которую жадно сосет ребенок, и застывший взгляд девушки. Какая-то женщина проходит мимо и замечает:
– Какая хорошенькая малышка!
Девушка выдавливает улыбку. Сразу становится заметно, что улыбается она редко. Сравниваю ее с моей Зои. Да, эта девушка определенно старше – во взгляде столько горечи и ни следа детской впечатлительности. Не говоря уже о младенце. Хочется верить, что Зои до сих пор думает, будто детей приносит аист. Но рядом с бизнесменом девушка кажется совсем ребенком. Волосы подстрижены неровно – с одной стороны до плеча, с другой короче. Цвет тускло-коричневый, как на старой пожелтевшей фотографии с эффектом сепии. Кое-где виднеются выкрашенные в рыжий цвет пряди. Глаза сильно накрашены, но из-за дождя тушь размазалась. На лоб падает длинная, словно выполняющая роль защитного заслона, челка.
Замедляя ход, поезд въезжает в Луп. Дорога начинает изгибаться и поворачивать. Девушка снова укутывает ребенка в розовое шерстяное одеяльце, потом сажает в рюкзак-кенгуру. Значит, выходить они будут раньше меня. Так и оказалось – девушка покидает вагон на станции Ван Бёрен. Смотрю в окно, стараясь не потерять ее в толпе спешащих прохожих, всегда заполняющих улицы в это время дня.
Однако мои попытки не увенчались успехом, и вскоре девушка с ребенком скрывается из виду.
Крис
– Как дела? – спрашивает Хайди, стоит мне войти в дверь.
Меня встречает сильный запах тмина, голос диктора новостей с кабельного канала, доносящийся из гостиной, и орущая из другого конца коридора стереосистема Зои. По телевизору рассказывают о рекордной норме осадков, парализовавшей Средний Запад. Все вещи, висящие и стоящие возле двери, одинаково мокрые – пальто, зонты, обувь. Пополняю коллекцию мокрых вещей собственными и мотаю головой, как отряхивающаяся собака. Войдя на кухню, чмокаю Хайди в щеку – скорее в силу привычки, чем из желания проявить нежность.
Хайди уже переоделась в пижаму – красную, фланелевую, в шотландскую клетку. Медные локоны – это ее натуральный цвет – из-за дождя лежат не так пышно, как обычно. Контактные линзы Хайди сняла и заменила очками.
– Зои! – кричит жена. – Иди ужинать!
Вряд ли дочка услышит призыв из-за закрытой двери своей комнаты в другом конце коридора, да еще и сквозь оглушительный вой любимого бойз-бенда.
– Что на ужин? – спрашиваю я.
– Чили. Зои!
Люблю чили, но в последнее время Хайди подает это блюдо исключительно в вегетарианском варианте, причем кладет в него не только обычную и черную фасоль, нут и тмин, но и готовит, как она ее называет, «вегетарианскую говядину», чтобы создать впечатление, будто мясо в тарелке есть, и при этом ни одна корова не пострадала. Хайди достает из шкафчика миски и накладывает в них чили. Жена не вегетарианка, но когда две недели назад Зои наотрез отказалась есть мясо, потому что в нем слишком много жиров, Хайди решила, что в ближайшее время наша семья перейдет на овощной рацион. С тех пор мы успели отведать вегетарианский рулет, спагетти с вегетарианскими фрикадельками и вегетарианские сэндвичи с говядиной. Ни кусочка мяса.
– Давай я ее позову, – предлагаю я и шагаю по узкому коридору нашей квартиры. Стучу в вибрирующую от громкой музыки дверь и с любезного разрешения дочери просовываю голову в ее комнату. Сообщаю, что пора ужинать. Зои отвечает, что сейчас придет. Дочка лежит на кровати с балдахином и что-то строчит в желтой тетради – той самой, вся обложка которой оклеена вырезанными из журналов фотографиями кумиров подростков. Как только вхожу, Зои поспешно захлопывает тетрадь и тянется за небрежно отброшенными в сторону обучающими карточками по социологии.
Про вегетарианское мясо не упоминаю. Направляюсь в нашу с Хайди спальню, чтобы переодеться в домашнее. На ходу начинаю ослаблять галстук и едва не спотыкаюсь о кошку.
Вскоре все мы сидим за кухонным столом, и опять Хайди спрашивает, как у меня дела.
– Хорошо, – отвечаю я. – А у тебя?
– Терпеть не могу фасоль, – объявляет Зои, зачерпнув ложкой чили и тут же брезгливо роняя обратно в тарелку.
Звук телевизора в гостиной приглушен, и все же взгляды наши невольно устремляются к нему. Стараемся прочитать вечерние новости по губам диктора. Зои небрежно разваливается на стуле и отказывается есть. Дочка – вылитая Хайди. То же круглое лицо, вьющиеся волосы и карие глаза. Не говоря уже о губках бантиком и россыпи веснушек на вздернутом носике. Похожи как две капли воды.
– Что нового? – спрашивает Хайди.
Едва удерживаюсь, чтобы не состроить гримасу. Самому говорить о работе не хочется, а истории Хайди про беженцев из Судана, старающихся получить политическое убежище, и взрослых людей, не умеющих читать, сильно портят настроение. Лучше уж посидеть молча, глядя на экран телевизора и пытаясь угадать, что говорит диктор.
Однако послушно рассказываю Хайди, как разговаривал по телефону с клиентом, желающим собрать полную информацию об объекте инвестирования, как составлял договор купли-продажи, как вынужден был в три часа ночи беседовать по конференц-связи с клиентом из Гонконга. Потихоньку выскользнул из спальни и прокрался в кабинет, а закончив разговор, принял душ и отправился на работу. Хайди и Зои еще видели десятый сон.
– Завтра утром еду в Сан-Франциско, – напоминаю я.
Хайди кивает:
– Помню. Надолго?
– На один день.
Потом спрашиваю, как дела у нее, и жена рассказывает про молодого человека, иммигрировавшего из Индии в США полтора месяца назад. Он жил в трущобах Мумбай.
– В Дхарави. Это одни из самых огромных трущоб в мире, – объясняет Хайди. – Представляешь, зарабатывал меньше двух американских долларов в день.
Потом принимается рассказывать, как там обстоит дело с туалетами. Оказывается, их мало, и расположены они далеко друг от друга. Чтобы не стоять в очередях, большинство местных жителей попросту ходят в речку.
Молодого человека зовут Аакар, и Хайди помогает ему освоить нашу грамматику. Задача не из легких.
– Английский выучить очень сложно, – в который раз повторяет Хайди.
– Знаю, – отвечаю я.
Такой уж человек моя жена – у Хайди душа болит за всех несчастных и обездоленных. Когда делал ей предложение, находил это качество очень милым и просто восхитительным, но после четырнадцати лет брака слова «иммигрант» и «беженец» вызывают только раздражение. Главным образом потому, что не могу избавиться от ощущения, будто о них жена заботится больше, чем обо мне.
– А у тебя как день прошел, Зои? – спрашивает Хайди.
– Полный отстой, – ворчит дочка, откинувшись на спинку стула и глядя на чили с таким видом, будто на ужин ей предложили полную тарелку собачьего дерьма.
Смеюсь про себя. Ну, хоть кто-то из нас ответил честно. Хочу забрать свои слова обратно. Мой день тоже полный отстой.
– Отстой? А что случилось? – спрашивает Хайди.
Люблю, когда жена употребляет жаргонные выражения. В ее устах они звучат неестественно и поэтому забавно. По своей инициативе Хайди произнесла бы это слово, только если бы речь зашла об отстоявшемся осадке.
Потом жена спросила:
– Почему не ешь чили? Слишком острое?
– Сказала же – терпеть не могу фасоль.
Пять лет назад Хайди принялась бы рассказывать дочке про голодающих детей в Индии, Сьерра-Леоне и Бурунди. Но сейчас заставить Зои съесть хоть что-то – уже большое достижение. Одни продукты она «терпеть не может», в других слишком много жира – например, в мясе. Поэтому теперь вся семья по ее милости довольствуется «вегетарианской говядиной».
В стоящем на полу у двери портфеле звонит мобильный телефон. И Хайди, и Зои поворачиваются в мою сторону, гадая, не умчусь ли я посреди ужина вести важные переговоры в кабинет. Вообще-то раньше в этой комнате была третья спальня, но мы решили переоборудовать ее в мой кабинет, когда стало ясно, что больше детей у нас с Хайди не будет. До сих пор, когда жена туда заходит, замечаю, каким взглядом она окидывает офисную мебель – стол, книжные полки, мое любимое кожаное кресло. Видимо, представляет на их месте кроватку, пеленальный столик и обои с веселыми африканскими зверушками.
Хайди всегда мечтала о большой семье. Но, к сожалению, не получилось.
Даже когда ужин совсем короткий, редко удается поесть спокойно – обязательно раздастся противное треньканье мобильника. Иногда отвечаю, иногда нет – зависит от обстоятельств. Главным образом от того, какой сегодня день, какое у меня настроение и – что гораздо важнее – какое настроение у Хайди. Ну и, конечно, от того, может ли это быть что-то срочное. Сегодня вечером демонстративно набиваю полный рот чили, и Хайди улыбается – похоже, в знак благодарности. Улыбка у Хайди очаровательная – очень милая, добрая и располагающая. А главное, каждый раз искренняя – идет изнутри, а не просто расцветает на губах. Когда Хайди улыбается, вспоминаю нашу первую встречу на благотворительном балу. Хайди была одета в кружевное винтажное платье без бретелек. Красное. И помада под цвет. Хайди тогда была просто картинка. Да что там картинка – шедевр! Тогда она еще училась в колледже, а в благотворительной организации проходила стажировку. Теперь Хайди этой организацией практически управляет. В те счастливые деньки мог не спать всю ночь, а вздремнув часика четыре, чувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Тридцатилетние казались глубокими стариками, а о том, какой будет моя жизнь, когда стукнет тридцать девять, даже не задумывался.
Хайди считает, что я слишком много работаю. Да, семидесятичетырехчасовая рабочая неделя для меня норма. Бывает, домой возвращаюсь только в два часа ночи. Или весь вечер и всю ночь просиживаю, запершись в кабинете, и разбираюсь с делами только к рассвету. Телефон звонит в любое время суток, будто я врач, лечащий тяжелобольных пациентов, а не менеджер, специализирующийся на слияниях и поглощениях. Но Хайди работает в некоммерческой организации. Только один из нас зарабатывает достаточно, чтобы мы могли позволить себе квартиру в районе Линкольн-Парк, оплатить обучение Зои в дорогой частной школе и еще откладывать на колледж.
Телефон перестает звонить, и Хайди снова поворачивается к Зои. Все-таки хочет узнать подробнее, как у дочки прошел день. Оказалось, миссис Питерс, учительница географии в седьмом классе, сегодня не пришла, и заменяла ее полная… Зои поспешно осекается, подыскивая более уместное слово, чем выражения, которых нахваталась от трудных подростков. Наконец находит – зануда.
– Почему зануда? – спрашивает Хайди.
Избегая встречаться с матерью взглядом, Зои уставилась в тарелку с чили.
– Откуда я знаю? Зануда, и все.
Хайди отпивает маленький глоток воды. На лице выжидательное, вопросительное выражение. С таким же видом Хайди ждала, когда я в подробностях расскажу о разговоре с клиентом в три часа ночи.
– Она что, была вредная?
– Нет, не очень.
– Слишком строгая?
– Нет.
– Слишком… страшная? – вставляю я, пытаясь разрядить обстановку.
Привычка Хайди постоянно задавать вопросы иногда создает в доме напряженную атмосферу. Хайди убеждена: если у ребенка внимательная мать – даже слишком внимательная, – в тяжелый подростковый возраст он вступит с уверенностью, что его любят. Однако сам я помню, что в «тяжелом подростковом возрасте» только и думал, как бы сбежать от родителей. Чем больше настойчивости они проявляли, тем больше я отдалялся. Но Хайди набрала в библиотеке психологических книг о стадиях развития ребенка, любящем воспитании и секретах счастливой семьи. Жена твердо решила, что должна все сделать правильно.
Зои хихикает. В последнее время случается это нечасто, но стоит дочке захихикать, как она будто снова превращается в шестилетнего ребенка, чистого и неиспорченного.
– Нет, – отвечает она.
– Ну, значит, просто зануда. Скучная, старая зануда, – выдвигаю предположение я. Отодвигаю черную фасоль к краю миски и принимаюсь высматривать что-нибудь посъедобнее. Помидор. Кукуруза. Принимаюсь искать перец. «Вегетарианской говядины» избегаю.
– Да. Вроде того.
– Что еще новенького? – спрашивает Хайди.
– А?..
На Зои футболка, разрисованная разноцветными пятнами. На груди ярко-розовыми, усыпанными блестками буквами написаны слова «мир» и «любовь». Волосы собраны в боковой хвост. Прическа кажется слишком взрослой для девочки с оранжевыми брекетами на торчащих в разные стороны зубах. Все левое предплечье изрисовано ручкой – тут и символ мира, и ее имя, и сердечко. Вдруг замечаю еще одно имя – «Остин». Это что за новости? Какой еще Остин?
– Ты не дорассказала про свой день, – напоминает Хайди.
Кто такой, черт возьми, Остин?
– Тейлор за обедом пролила молоко прямо на мой учебник по математике.
– Надеюсь, книга не слишком пострадала? – спрашивает Хайди.
Тейлор – лучшая подруга Зои. Девочек с четырех лет водой не разольешь. Даже носят одинаковые бусы разных цветов в знак дружбы. С черепами. Придет же такое в голову. Бусы Зои ярко-зеленые. Дочка не снимает их ни днем ни ночью. А мама Тейлор, Дженнифер, лучшая подруга Хайди. Если правильно помню, познакомились они в парке. Девочки возились в песочнице, матери переводили дух на скамеечке неподалеку. Хайди говорит, что их свел вместе счастливый случай. На самом деле началось знакомство с того, что Зои швырнула песком в глаза Тейлор. Если бы Хайди не взяла на прогулку бутылку с водой, которой быстро умыла ревущую и совершенно не счастливую Тейлор, а Дженнифер не переживала тяжелый развод и не искала человека, перед которым можно выговориться, история закончилась бы совсем по-другому.
Зои ответила:
– Не знаю. Кажется, не слишком.
– Новый учебник покупать не надо?
Молчание.
– Еще что-нибудь случилось? Что-нибудь хорошее?
Зои качает головой. Вот и весь рассказ про отстойный день. Из-за стола дочка поднимается, так и не съев чили. Хайди удается уговорить ее откусить несколько кусочков кукурузного хлеба и допить стакан молока, после чего жена велит Зои доделать уроки. Дочка уходит в свою комнату, и мы остаемся одни. Телефон звонит снова. Хайди встает и принимается собирать посуду. Пытаюсь понять, можно мне уйти или нет. Решив не рисковать, начинаю помогать Хайди. Та выбрасывает порцию Зои в мусорное ведро.
– Вкусное получилось чили, – вру я.
На самом деле совсем невкусное. Ставлю посуду рядом с раковиной и подхожу к Хайди со спины, прижимаю ладонь к красной клетчатой фланели пижамы.
– Кто еще едет в Сан-Франциско? – спрашивает Хайди. Выключает воду и поворачивается ко мне.
Прижимаюсь к ней. Ощущение давно знакомое и привычное. Супружеские объятия уже стали для нас второй натурой. Мы с Хайди вместе почти полжизни. Прежде чем жена откроет рот, знаю, что она скажет. Выучил все ее жесты и выражения лица. Сразу распознаю приглашение в ее взгляде, когда Зои давно спит или ночует у подружки. Поэтому теперь понимаю – притягивая меня к себе и сцепив руки на моей пояснице, Хайди демонстрирует вовсе не привязанность. Это знак собственничества. Ты мой.
– Да так, пара коллег из офиса, – отвечаю я.
Снова вопросительно-выжидательный взгляд. Хайди хочет услышать подробности.
– Том, – добавляю я. – И Генри Томлин.
Невольно запинаюсь. Эта запинка меня и выдает.
– Еще Кэссиди Надсен, – робко признаюсь я. Фамилию мог бы и не говорить – Хайди отлично знает, о какой Кэссиди речь. Надсен – пишется «Кнадсен», но первая буква не произносится, потому что фамилия скандинавского происхождения.
Хайди сразу убирает руки и отворачивается к раковине.
– Поездка строго деловая, – подчеркиваю я. – Командировка, и ничего больше.
Зарываюсь лицом в волосы Хайди. Пахнет сладкой, сочной клубникой и гораздо менее приятной смесью городских запахов: улица, поезд, дождь.
– Кэссиди тоже так считает? – спрашивает Хайди.
– Если нет, сразу поставлю в известность, – отвечаю я.
Умолкаем, и в кухне становится тихо. Если, конечно, не считать звона тарелок и столовых приборов, которые жена буквально забрасывает в посудомоечную машину. Воспользовавшись представившейся возможностью, быстро ускользаю и отправляюсь в спальню собирать вещи.
Хайди
Просыпаюсь утром. Крис уже уехал. Рядом, на искусственно состаренной деревянной тумбочке, стоит чашка с кофе. Напиток, разумеется, остыл, к тому же, зная Криса, уверена, что муж, как всегда, перелил миндальных сливок. И все-таки, он сварил мне кофе. Сев на кровати, тянусь за чашкой и пультом. Вяло перескакивая с канала на канал, натыкаюсь на прогноз погоды. Разумеется, обещают дождь.
Наконец выбираюсь из-под одеяла и плетусь по коридору в кухню. Стены увешаны фотографиями Зои от детского сада и до седьмого класса. Дочка уже на кухне – стоит и наливает молоко в миску с хлопьями.
– Доброе утро, – произношу я.
Зои вздрагивает от неожиданности.
– Хорошо спала? – спрашиваю я и осторожно целую дочку в лоб.
Зои сразу застывает и напрягается. В последнее время не выносит объятий, поцелуев и прочих нежностей. И все же как мать чувствую потребность как-то проявить свою любовь. Крис в таких случаях просит дочку «дать пять», а еще у них есть свое особое секретное рукопожатие. Но мне эти способы не по душе, поэтому целую Зои и чувствую, как та отстраняется. В любом случае дневная норма нежностей выполнена.
Зои уже надела школьную форму – сарафан в шотландскую клетку с плиссированной юбкой, синюю кофточку и замшевые туфельки с ремешками. Конечно, эти вещи Зои ненавидит всей душой.
– Нормально, – бормочет дочка в ответ и направляется с миской к столу.
– Может, сока налить?
– Не хочу пить.
Однако замечаю, как Зои поглядывает на кофемашину. Дочка уже заводила разговор насчет утреннего кофе, но я считаю, что детям его пить ни к чему. Ни один двенадцатилетний ребенок не нуждается в кофеине, чтобы взбодриться с утра. Но свою чашку наполняю до краев и еще добавляю сливок. Беру себе хлопьев с изюмом и, присоединившись к Зои, пытаюсь завести разговор о предстоящем дне. Но единственное, что слышу в ответ, – односложные «да», «нет» и «не знаю». Вскоре Зои убегает в ванную чистить зубы, а я остаюсь в пустой кухне. За окном в эркере мерно барабанит дождь.
Выходя на улицу, встречаем в подъезде соседа, Грэма. С довольной улыбкой он жмет на кнопки новомодных часов, которые в ответ пищат и сигналят на разные голоса.
– Какая приятная встреча! Доброе утро, дамы, – мурлычет Грэм с самой кокетливой улыбкой, которую мне доводилось видеть. Довольно длинные светлые волосы Грэма прилипли к мокрому лбу. Не сомневаюсь, что, вернувшись домой, он приведет прическу в порядок с помощью изрядного количества геля, и волосы будут, как обычно, стоять торчком. Грэм весь мокрый. От дождя или от пота, трудно сказать.
Сосед явно возвращается с ежедневной утренней пробежки по берегу озера. Грэм с головы до ног одет в спортивные вещи от «Найк», а дорогущие часы на запястье призваны подсчитывать количество миль и время, за которое они преодолены. Спортивный костюм даже слишком тщательно подобран – ярко-зеленая полоса есть и на куртке, и на кроссовках. Грэм – классический метросексуал, хотя Крис считает, что не только.
– Доброе утро, Грэм, – здороваюсь я. – Как пробежка?
Прислонившись к выкрашенной в песочный оттенок стене с белыми панелями внизу, Грэм берет специальную бутылку с водой для спортсменов и выжимает большой глоток.
– Замечательно! – отвечает он.
На лице такой восторг, что Зои краснеет от неловкости. Дочка устремляет взгляд на мыски туфель и принимается возить ногами по полу, точно пиная невидимый камушек.
Грэму тридцать с чем-то. Квартира досталась ему в наследство от давно умершей матери. Вдобавок к полученным по завещанию деньгам Грэм заработал целое состояние, подав в суд на больницу. Получил в качестве компенсации сотни тысяч долларов, не меньше. Однако все эти деньги растратил на навороченные часы, дорогие вина и роскошную мебель.
Квартиру Грэм собирался продать, но потом передумал и поселился здесь сам. Заменил разномастные предметы интерьера, принадлежавшие матери, на ультрастильную мебель в минималистском стиле, будто сошедшую со страниц каталога. Четкие линии, острые углы, нейтральные оттенки. Единственное, что не вписывается в минимализм, – разбросанные по полу страницы рукописей, распечатанные на принтере.
– Гей, – уверял Крис после того, как мы впервые побывали в гостях у соседа. – Точно говорю – гей.
К такому выводу мужа подтолкнул не только интерьер, но и заполненные одеждой шкафы, которые Грэм нарочно оставил открытыми, чтобы похвастаться. У меня столько нарядов сроду не было.
– Попомни мои слова. Вот увидишь, – уверенно заявлял Крис.
Однако к Грэму регулярно заглядывали женщины, причем настолько сногсшибательные, что даже у меня при взгляде на них дух захватывало. Яркие блондинки с голубыми глазами, цветом которых они явно были обязаны контактным линзам, и фигурами как у куклы Барби.
Грэм стал нашим соседом, когда Зои была еще совсем маленькой. Дочка его просто обожала. Едва завидев, летела к нему, словно фруктовая мушка к старым коричневым бананам. Будучи писателем, Грэм большую часть дня проводил дома, уставившись на экран компьютера и упиваясь кофе и сомнениями в собственном таланте. Грэм много раз нас выручал, когда Зои болела и ни я, ни Крис не могли отпроситься с работы. Грэм с готовностью пускал Зои на свой стеганый диван, где они вместе смотрели мультфильмы. Если что-то понадобится – хоть масло, хоть салфетки, – можно смело обращаться к Грэму. И дверь он всегда готов придержать. А еще он пишет чудесные сочинения и не раз выручал Зои с уроками, когда ни я, ни Крис помочь не могли. Вдобавок Грэм умеет готовить великолепный соус к индейке – задача, с которой мне самой справиться не под силу. Причем выяснилось это в самом разгаре подготовки к ужину в честь Дня благодарения, на который были приглашены родственники Криса.
Короче говоря, Грэм – настоящий друг.
– Не желаете как-нибудь составить компанию? – предлагает сосед, имея в виду пробежку.
Бросаю взгляд на многочисленные бутылки с водой, свисающие со специального пояса Грэма, и решаю, что мы, пожалуй, воздержимся.
– Лучше не надо, – говорю я.
Сосед дружески ерошит Зои волосы, и дочка снова заливается румянцем, но теперь розовым от удовольствия, а не багровым от смущения.
– А ты как относишься к бегу? – спрашивает Грэм у Зои.
Та пожимает плечами. Удобно быть двенадцатилетней. В ответ на любой сложный вопрос достаточно пожать плечами и застенчиво улыбнуться, чтобы тебя оставили в покое.
– Надумаешь присоединиться – буду рад.
И снова эта кокетливая, многозначительная улыбка. Белоснежные зубы образуют идеально ровный строй, на щеках легкая небритость. Грэм пытается посмотреть Зои в глаза, но дочка избегает его взгляда, точно чумы. Не потому, что сосед ей не нравится. Даже наоборот – очень нравится.
Прощаемся и выходим на улицу, под дождь.
Провожаю Зои до школы, потом отправляюсь на работу. Зои учится в католической школе в нашем районе. Рядом расположена огромная католическая церковь в греческом стиле – серый кирпич, тяжелые деревянные двери и высокий, возносящийся к небу купол. Украшена церковь очень богато – золотые росписи на стенах, витражи в окнах, мраморный алтарь. Школа расположена прямо за церковью и в таком соседстве кажется совсем незаметной. Впрочем, здание ничем не примечательное – обычная школа из красного кирпича с обычной детской площадкой, на которой сейчас толпятся ученики в одинаковых клетчатых формах и разноцветных дождевиках. Висящие на спинах портфели больше самих школьников. На ходу буркнув что-то неразборчивое, Зои торопливо убегает. Стоя возле бордюра, смотрю, как она присоединяется к другим семиклассникам, а потом они вместе спешат укрыться от дождя под крышей. Малыши все как один цепляются за ноги родителей и объявляют, что в школу идти не хотят.
Как только Зои скрывается в дверях, направляюсь к станции Фуллертон. За время пути дождь, и до того сильный, успевает превратиться в настоящий ливень. Перехожу на неизящный бег и несусь по улице, наступая в лужи и обрызгивая ноги грязной водой.
Вспоминаю про девушку и ее ребенка и думаю: вдруг они сейчас точно так же мокнут под дождем? Добежав до станции, прикладываю карточку к турникету и торопливо поднимаюсь на платформу по скользким ступенькам. Гадаю, увижу ли сегодня юную мать и младенца, но их нет. Конечно же рада, что сегодня им не пришлось стоять на перроне в такую непогоду. Но все-таки думаю, где они и, главное, все ли с ними в порядке? Есть ли у них надежная крыша над головой? В общем, испытываю смешанные чувства. Нетерпеливо жду поезда и, когда он наконец приходит, торопливо сажусь. Оказавшись в вагоне, не свожу глаз с окна, высматривая в толпе пассажиров зеленое пальто, ботинки на шнуровке, потрепанный кожаный чемодан и промокшее розовое одеяльце, из-под которого выглядывает голая головка с легким пушком. Представляю беззубую улыбку ребенка.
Сегодня в нашу благотворительную организацию, занимающуюся распространением грамотности, приводят на экскурсию третьеклассников. Вместе с волонтерами читаем им стихи, а потом предлагаем написать и проиллюстрировать свои собственные. Показать плоды творчества всем решаются только самые смелые. Школьники, которых к нам приводят, в основном принадлежат к низшему классу. Большинство афро- или латиноамериканцы. Эти дети из бедных семей. Есть среди них и такие, которые дома говорят не на английском, а на каком-нибудь другом языке – испанском, польском или китайском.
У большинства оба родителя работают – конечно, если речь идет о семьях, где родителей двое, а таких немного. В основном детей растят матери-одиночки. Мам – и отцов, если они есть, – эти школьники почти не видят. Те не имеют возможности заниматься сыновьями и дочерьми, озабоченные более насущной проблемой – как заработать на жизнь? Утро, проведенное в нашем центре, призвано не только показать детям красоту слова с помощью сонетов и хокку. В наши двери они входят безо всякого энтузиазма, с недовольным ворчанием, а несколько часов спустя, благодаря прилежной работе и вниманию всего нашего коллектива, уходят с уверенностью в собственных силах и пониманием, что учиться – интересно и важно.
Но как только экскурсия заканчивается, снова начинаю думать про девушку и ребенка. К обеденному перерыву дождь утихает до легкой мороси. Надев плащ, быстро шагаю по Стэйт-стрит, на ходу жуя полезный батончик мюсли. Это мой обед. Спешу в библиотеку – надо забрать книгу, которую заказали специально для меня. Обожаю библиотеку с ее залитым солнцем вестибюлем (впрочем, на это сегодня рассчитывать не приходится), гранитными горгульями и миллионами книг. Каждый раз наслаждаюсь приятной тишиной и восхищаюсь, сколько всего здесь можно найти, сколько областей знаний охвачено – от французского языка до средневековой истории и гидравлической инженерии. А для самых маленьких посетителей есть сказки. Нет, для меня книгу не заменят никакие бурно развивающиеся современные технологии.
Проходя мимо прислонившейся к красной кирпичной стене бездомной женщины, замедляю шаг и вкладываю в ее протянутую руку долларовые купюры. Женщина улыбается. Многих зубов не хватает. На голове черная шляпа из тонкой ткани, которая вряд ли греет. Женщина невнятно бормочет что-то, смутно напоминающее «спасибо». Обращаю внимание, как почернели ее зубы. Должно быть, принимает наркотики – вероятнее всего, метамфетамин.
Отыскиваю свою книгу на нужной полке и, переходя с эскалатора на эскалатор, поднимаюсь на седьмой этаж. Огибаю охранников, школьную экскурсию, праздношатающихся мужчин, женщин, переговаривающихся слишком громко для библиотеки… В залах тепло, спокойно и уютно. Направляюсь к шкафам, где выставлена художественная литература. Собираюсь подыскать какое-нибудь приятное чтение – скажем, последний бестселлер «Нью-Йорк тайме».
И тут, к своему удивлению, замечаю ее – девушку с ребенком. Скрестив ноги, она сидит прямо на полу между стеллажами. Младенца пристроила на коленях. Чемодан стоит рядом. Похоже, девушка рада хоть немного отдохнуть от своей ноши. Достав бутылочку из кармана зеленого пальто, протягивает ребенку. Тот с готовностью открывает ротик. Девушка тянется за книгой на нижней полке. Ныряю в соседний ряд, хватаю первый попавшийся фантастический триллер и наугад открываю на сорок седьмой странице. Гладя одной рукой ножки ребенка, девушка тихо читает вслух «Аню из Зеленых мезонинов».
Младенец совершенно спокоен. Сквозь просвет между металлическими полками наблюдаю, как он сосет молоко из бутылочки, пока на дне не остаются одни пузырьки. Потом глазки у ребенка сами собой закрываются, и он погружается в сон. Младенец лежит тихо, только время от времени подергивает ручками и ножками. Девушка продолжает читать, поглаживая крошечные пальчики ног. Начинаю чувствовать себя неловко оттого, что стала непрошеной свидетельницей такой личной сцены – общения матери с ребенком.
Подходит библиотекарша.
– Вам помочь? – спрашивает она.
Едва не подпрыгиваю, сжимая в руке все тот же научно-фантастический триллер. Ощущение такое, будто меня застукали на месте преступления. Вдобавок с мокрого плаща на пол капает вода. Но лицо у библиотекарши мягкое, добродушное. На меня она смотрит с приветливой улыбкой.
– Нет, спасибо, – торопливо отвечаю я. Стараюсь говорить тише: не хочу разбудить младенца. – Я уже нашла.
И со всех ног спешу к эскалаторам с моей новой книгой в руке.
По пути с работы домой забегаю в видеопрокат и выбираю девчачью романтическую комедию. Посмотрим вместе с Зои. Еще покупаю коробку обезжиренного попкорна.
С тех пор как мы поженились, Крис всегда вел «кочевой» образ жизни. В раннем детстве Зои расстраивалась, когда папа, не успев приехать, отправлялся куда-то снова. Когда у него бывали командировки, я всегда придумывала для нас с дочкой разные интересные занятия и удовольствия. Смотрели фильмы, вместе спали в нашей большой кровати, пекли на ужин блинчики, сочиняли истории, придумывая, будто Крис – отважный путешественник во времени. Гораздо более увлекательная профессия, чем инвестиционный банкир, которого вдобавок вечно отправляют в деловые поездки.
Поднимаюсь на лифте на пятый этаж нашего старого дома. Зайдя в квартиру, удивляюсь, почему у нас так темно и тихо. Обычно оглушительная музыка, доносящаяся из комнаты Зои, приветствует прямо с порога. Но сегодня не слышно ни звука. Включаю лампу в гостиной и окликаю дочку. Подхожу к двери ее спальни и стучусь. Через щель из-под двери виднеется полоска света, но ответа никакого. Захожу внутрь.
Зои лежит, раскинувшись на пушистом кремовом коврике, который мы постелили на паркетный пол. Дочка все еще в форме, хотя обычно переодевается, как только приходит из школы, меняя клетчатый сарафан и кофточку на что-нибудь более яркое, с блестками или стразами. Дыхание у Зои размеренное. Дочка спит, поэтому не тревожусь. И все же странно, с чего она вдруг легла поспать днем? Зои прижимает к груди желтую тетрадь, будто задремала неожиданно, от усталости. Но, перед тем как уснуть, она укрылась плюшевым одеялом и подложила под голову подушку с надписью «Обними и поцелуй». Обогреватель, который Крис купил после многочисленных жалоб Зои на холод, установлен на двадцать шесть градусов. Должно быть, в двух футах от отопительного прибора, да еще и под одеялом, жарко, как в духовке. Щеки Зои раскраснелись. Еще немного – и одеяло загорится. Жму на кнопку и выключаю обогреватель, но спальня охладится еще не скоро.
Окидываю внимательным взглядом комнату. Если бы Зои не спала, то возмутилась бы и принялась меня выгонять. Стены здесь голые, кирпичные – такие встречаются в нашем доме безо всякой системы. Крис думает, что из-за этого у Зои в комнате холодно. На незастеленной кровати под балдахином лежит лоскутное одеяло. К стенам на шпатлевку приклеены постеры со знаменитостями подросткового возраста и тропическими пейзажами. Открытый рюкзак валяется на полу. Батончик мюсли, который сунула Зои в руку перед школой, чтобы было чем перекусить, лежит нетронутый. По полу раскиданы скомканные записки от одноклассников. Прижавшись к Зои, дремлют кошки – уж эти всегда рады возможности погреться.
Осторожно глажу дочку по длинным волосам и тихо зову ее по имени – один раз, потом второй. Просыпается Зои моментально и сразу резко садится, широко распахнув глаза, будто ее застали за чем-то нехорошим, недозволенным. Зои порывисто вскакивает, и кошки вместе с ней. Бросив одеяло на кровать, поясняет:
– Я сегодня устала.
Окидывает лихорадочным взглядом комнату, словно проверяя, какой «компромат» я могла заметить. Никакого. Сейчас почти семь часов. Солнце за темными плотными тучами уже, наверное, начало садиться. А где-то в Сан-Франциско Крис, скорее всего, ужинает в каком-нибудь безумно дорогом, роскошном ресторане и любуется через стол на Кэссиди Надсен. Старюсь отогнать эту мысль.
– Молодец, что отдохнула, – говорю я, глядя на следы от подушки на щеке и усталые карие глаза. – А вообще как дела?
– Нормально, – отвечает Зои, хватая с пола желтую тетрадь и прижимая к груди, будто животное детеныша.
– Как там миссис Питерс? Вышла на работу?
– Нет.
– Наверное, заболела, – предполагаю я. Эпидемия гриппа в этом году поздняя, но сильная. – Кто заменял? Опять вчерашняя зануда?
Зои кивает. Вот и весь ответ.
– Пойду готовить ужин, – произношу я, но Зои, к моему удивлению, говорит:
– Я уже поела.
– Да?..
– После школы проголодалась. Не знала, во сколько ты придешь, вот и решила не ждать.
– Правильно, – киваю я. – Чего поела?
– Жареного сыра, – отвечает Зои и для верности прибавляет: – Еще яблоко.
– Ладно…
Только сейчас замечаю, что до сих пор не сняла плащ и резиновые сапоги. Даже сумка все еще висит наискосок на плече. Оживившись, радостно достаю фильм и попкорн.
– Устроим сегодня киносеанс? – предлагаю дочке. – Только ты и я.
Зои молчит. Лицо равнодушное, в отличие от меня – ни следа веселой улыбки. Начинаю чувствовать себя глупо. Не успевает Зои открыть рот, а я уже заранее предвижу, какой будет ответ.
– Не могу… – произносит Зои. – Завтра контрольная по математике. Среднее значение, мода, медиана…
Роняю DVD с фильмом обратно в сумку. Девчачьим посиделкам у телевизора сегодня не бывать.
– Давай помогу готовиться, – предлагаю я.
– Не надо. Я уже карточки написала, буду заниматься по ним, – качает головой Зои и показывает упомянутые карточки в качестве доказательства.
Стараюсь не обижаться и не принимать отказ на свой счет. Когда мне было двенадцать… вернее, шестнадцать… или даже семнадцать… сама бы скорее зубы лечить пошла, чем провела вечер с мамой.
Киваю:
– Как хочешь.
Не успеваю выйти из комнаты, как Зои тихонько, точно мышка, подкрадывается к двери и запирается изнутри на замок.
Крис
Сидим в номере отеля – Генри, Том, Кэссиди и я. Номер мой. На телевизоре стоит наполовину опустевшая коробка из-под пиццы пепперони. Ура, наконец-то мясо! По полу раскиданы пустые банки из-под газировки – меню сегодня безалкогольное. Генри в ванной. Что-то долго не возвращается – по большой нужде, что ли, пошел? Том в углу разговаривает по телефону, зажав пальцем ухо, чтобы было лучше слышно. По моей кровати раскиданы листы с секторными диаграммами и гистограммами. Всюду стоят грязные тарелки – на столе, на полу. Тарелка Кэссиди на столике у стены. Пицца почти не тронута, рядом банка с диетической колой. Беру себе кусочек и запихиваю в рот. Кэссиди бросает на меня многозначительный взгляд. Пожимаю плечами и оправдываюсь:
– А что такого? Хайди в последнее время перешла на вегетарианское меню. Просто восполняю недостаток протеина.
– Сколько же тебе протеина надо? Целый «Нью-Йорк стрип стейк» сжевал, и все мало, – улыбаясь, поддразнивает Кэссиди.
Улыбка игривая. Кэссиди Надсен лет двадцать с чем-то, ближе к тридцати. Недавно получила диплом магистра бизнес-администрирования. В компании работает месяцев десять. Очень талантливая, просто поразительно, но, в отличие от многих «ботаников», ни внешностью, ни привычками «ботаника» не обладает, да и застенчивостью не отличается. Такие девушки могут с умным видом употреблять «страшные» слова вроде «фидуциарная обязанность» или «хеджирование», однако оставаться при этом сексапильными. Телосложение у Кэссиди типа «фонарный столб» – высокая, тонкая, а наверху, в зоне декольте, круглые сияющие шары, так и притягивающие взгляд.
– Вот и жена меня так же пилит. Думал, здесь отдохну.
Кэссиди пристроилась на краю кровати. Одета в юбку-карандаш и туфли на каблуках высотой сантиметров семь. Девушке с таким ростом каблуки носить вообще не обязательно, однако благодаря шпилькам соблазнительная фигура выглядит еще более эффектно. Кэссиди проводит руками по золотистым волосам. Стрижка у нее короткая, элегантный боб.
– Значит, я тебя пилю… Обидно слышать.
За окном зажигаются городские огни. Тяжелые шторы раздвинуты. Справа виднеется Трансамериканская пирамида, офисный небоскреб 555 на Калифорния-стрит и залив Сан-Франциско. Уже начало десятого. В соседнем номере громко работает телевизор. За стеной кто-то смотрит бейсбол. Отборочный матч. Беру с тарелки Кэссиди еще пепперони и слушаю. «Гиганты» ведут со счетом 3:2.
Генри выходит из ванной. Когда распахивается дверь, изо всех сил стараемся игнорировать вонь.
– Крис. – Генри протягивает мне телефон.
Интересно, мыл ли он руки? Не исключено, что весь разговор вел, восседая на унитазе. Изысканными манерами Генри не отличается. Замечаю, что ширинка у него расстегнута. При других обстоятельствах сказал бы, но теперь, когда из-за Генри провонял весь мой номер, решил промолчать.
– Тебя. Аарон Свиндлер.
Беру телефон. Той же рукой Генри хватает кусок пиццы. Аппетит сразу пропадает.
Аарон Свиндлер – наш потенциальный клиент, и ухо с ним надо держать востро. Стараюсь говорить своим самым располагающим тоном и направляюсь в угол тесного номера.
– Здравствуйте, мистер Свиндлер, – приветствую клиента я и, как и подобает, начинаю с маленькой светской беседы. – Хорошо сегодня играют «Гиганты»…
Хотя из-за стены уже доносятся негодующие вопли и свист. Похоже, «Гиганты» уже успели уступить лидерство.
Не всегда мечтал стать инвестиционным банкиром. В шесть лет, например, у меня было много высоких целей. Космонавт, баскетболист, парикмахер (тогда мне эта профессия казалась классной – что-то вроде хирурга, только для волос). А когда начал взрослеть, меня уже волновал не столько сам род занятий, сколько оплата. Начал мечтать о пентхаусе на Золотом побережье Калифорнии, шикарной спортивной машине, всеобщем уважении. Перебрал много профессий – юрист, врач, летчик, но ни одна не подходила. К тому времени, когда пора было поступать в колледж, я уже стал испытывать к деньгам такую любовь и нежность, что решил специализироваться на финансах. Тогда собственный выбор казался мне идеальным. Сидеть в аудитории среди других ребят с большими запросами, говорить о деньгах и только о них. Деньги, деньги, деньги.
Оглядываясь назад, понимаю, почему Хайди понравилась мне с первой же встречи. В отличие от остальных знакомых, составлявших мой круг общения, деньги ее не волновали совершенно. Наоборот, Хайди больше интересовали малоимущие – те, у кого денег нет. Я же старался попасть в избранное общество людей обеспеченных и привилегированных. Только и думал о том, у кого больше всех денег и как бы обогатиться самому.
Аарон Свиндлер долго и нудно рассуждает о производных финансовых инструментах, и тут в противоположном углу номера начинает звонить мой телефон. Мобильник лежит на кровати, на полосатом покрывале, рядом с Кэссиди. Сорокалетний холостяк Генри поворачивается на звук, но глядит не на телефон, а на длинные ноги Кэссиди в прозрачных колготках.
Жду важного звонка, который никак нельзя пропустить, поэтому жестом прошу ее ответить. Кэссиди жизнерадостно чирикает в трубку:
– Здравствуй, Хайди.
Съеживаюсь, как сдувшийся шарик. Черт! Даю ей знак, что сейчас подойду, но проклятый Аарон Свиндлер продолжает болтать. Вынужден выслушивать подробную беседу между Кэссиди и женой. Кэссиди рассказывает, как прошел полет, как мы ходили в стейк-хаус и какая в Сан-Франциско погода. Погода!..
С Кэссиди Хайди встречалась ровно три раза. Помню точно, потому что после каждой такой встречи меня наказывали продолжительным молчанием. Между прочим, Кэссиди не я на работу принимал! А в том, что она такая красавица, и вовсе нет моей вины. Познакомились они с Хайди летом, на корпоративном пикнике в ботаническом саду. До этого я Хайди про Кэссиди не рассказывал. Да и о чем было говорить, когда она к нам пришла всего месяца полтора назад? Упоминать про Кэссиди не было необходимости, да и вообще, я справедливо счел, что это попросту неразумно. Но стоило Кэссиди, одетой в длинный сарафан без бретелек, впорхнуть в тень клена, где мы прятались от тридцатиградусной жары и немилосердно потели, как Хайди сразу смутилась. Принялась неловко теребить собственные насквозь мокрые джинсовую юбку и блузку. Уверенности в себе как не бывало.
«– Кто такая? – спросила жена, когда обязательный ритуал обмена фальшивыми улыбками и любезностями закончился и Кэссиди отправилась портить идиллию другой супружеской паре. – Твоя секретарша?»
До сих пор ломаю голову: если бы Кэссиди Над сен и впрямь оказалась секретаршей, было бы лучше или хуже?
Позже, когда вернулись домой, застал Хайди с пинцетом. Стоя перед зеркалом, жена выдергивала седые волоски, которых у нее от силы несколько штук. Вскоре после этого наш туалетный столик заполонили многочисленные средства по борьбе с морщинами и антивозрастные кремы.
Вспомнив обо всем этом, возвращаю Генри мобильный телефон со словами:
– Держи, Генри.
Нарочно стараюсь говорить громче, чтобы Хайди услышала, что мы с Кэссиди не одни. Беру мобильник и выбегаю в коридор. Не поймите неправильно – Хайди очень симпатичная, привлекательная женщина. Глядя на них с Кэссиди, никто бы не подумал, что одна старше другой на десять лет. И все же самой Хайди эта разница в возрасте не дает покоя.
– Привет, – здороваюсь я.
– Что это было? – сразу спрашивает Хайди.
Представляю жену дома, под одеялом, в красной фланелевой пижаме или ночной рубашке в горошек, которую выбрала Зои, когда мы покупали подарок маме на день рождения. Хайди смотрит новости по телевизору в спальне, на коленях лежит открытый ноутбук. Волосы небрежно собраны на затылке, чтобы не лезли в глаза. Жена ищет в Интернете информацию о трущобах в Дхарави или статистику по количеству людей в мире, живущих за чертой бедности. Что-то в этом роде. Хотя кто знает? Может, когда меня нет дома, Хайди смотрит порно. Однако тут же отметаю эту мысль. Моя жена слишком правильная, чтобы смотреть порнографию, – для нее это было бы оскорблением эстетического вкуса. Должно быть, Хайди ищет, как использовать в хозяйстве «вегетарианскую говядину». В качестве кошачьего корма? Нет, лучше кошачьего наполнителя…
– Ты о чем? – прикидываюсь дурачком. Обои в коридоре отеля ужасные – все в красных геометрических узорах, от которых рябит в глазах.
– Почему к твоему телефону подходит Кэссиди?
– А-а… – тяну я. – В этом смысле…
Рассказываю о звонке Аарона Свиндлера, потом как можно скорее меняю тему. Выпаливаю первое, что приходит на ум.
– Как погода, дожди еще не закончились? – спрашиваю я. Что может быть банальнее разговоров о погоде?
Оказалось, не закончились. Льют с утра до вечера.
– Почему не спишь? – задаю следующий вопрос я. В Чикаго сейчас почти двенадцать.
– Что-то не хочется, – отвечает Хайди.
– Так сильно скучаешь? – предполагаю я, хотя оба мы знаем, что дело не в этом. Еще с тех пор, как мы начали встречаться, в командировках я бываю чаще, чем дома. Хайди давно привыкла к моим частым отлучкам. Говорят, в разлуке чувства крепнут. Во всяком случае, так говорит Хайди, когда я спрашиваю, не скучает ли она без меня. Жена, конечно, не признается, но, по-моему, ей нравится, когда вся кровать в ее полном распоряжении. Хайди любит спать по диагонали, раскинувшись на животе, и постоянно тянет на себя одеяло. В общем, нашему браку мои постоянные ночевки в отелях только на пользу.
– Конечно, скучаю, – произносит Хайди и вполне предсказуемо добавляет: – Но в разлуке чувства крепнут.
– Давно хотел спросить, чья это цитата? – интересуюсь я.
– Не помню. – Слышу, как Хайди что-то печатает на клавиатуре. Щелк, щелк, щелк. – А как вообще дела?..
– Нормально, – отвечаю я, страстно желая, чтобы жена ограничилась этим ответом. Но моя Хайди не из таких.
– Нормально? И все? – настаивает она.
Приходится подробно рассказывать о рейсе, отложенном из-за дождя, стакане апельсинового сока, который пролил на себя, когда попали в зону турбулентности, обеде с клиентом на Рыбацкой пристани и причинах, по которым меня безумно раздражает Аарон Свиндлер.
Но в ответ на мой вопрос, как прошел день, жена принимается рассказывать не о себе, а о Зои.
– Как-то она себя странно ведет, – делится Хайди.
Усмехаюсь. Прислонившись спиной к красным обоям, сползаю вниз по стене и усаживаюсь прямо на пол.
– Хайди, Зои двенадцать, – успокаиваю жену я. – Это нормально.
– Сегодня она спала днем.
– Ну, устала, решила вздремнуть, что тут такого? – отвечаю я.
– Крис, в двенадцать лет дети днем не спят.
– Может, заболела? Грипп начинается? Сейчас ведь эпидемия, – говорю я. – Уже куча народу заразилась.
– Может быть, – произносит Хайди, но потом прибавляет: – Хотя не похоже. На вид здорова.
– Ну, не знаю, Хайди. Самому мне двенадцать было давно. И вообще, я же мальчик, в ваших женских делах не разбираюсь. Мало ли что с ней может быть – проблемы роста, половое созревание. А может, просто не выспалась. Бывает.
Живо представляю, как у Хайди отвисает челюсть.
– Думаешь, у Зои уже началось половое созревание? – пугается жена. Будь ее воля, Зои до сих пор носила бы подгузники и пижамки для младенцев. Не дожидаясь ответа, Хайди решительно заявляет: – Нет, конечно. У Зои еще даже месячные не начались.
Меня передергивает. Месячные? У Зои? Даже думать не хочется о том, что наша дочка будет пользоваться тампонами, а я – выслушивать отчеты от Хайди на эту тему.
– Посоветуйся с Дженнифер, – предлагаю я. – Спроси, начались ли у Тейлор… – строю гримасу и с трудом выдавливаю из себя это слово, – месячные.
Мне ли не знать, что женщины могут решить любую проблему за дружеской беседой? А если Тейлор тоже вступила в период полового созревания, Хайди с Дженнифер организуют горячую линию – будут созваниваться и отправлять друг дружке эсэмэски, консультируясь по самым разным вопросам – от появления волос на теле до спортивных лифчиков для уроков физкультуры. И все будут довольны.
– Обязательно спрошу, – решает Хайди. – Хорошая идея. Да, надо обсудить с Дженнифер.
Ободренная, Хайди на секунду умолкает. Представляю, как она закрывает ноутбук и ставит его на мою сторону кровати. Сегодняшней ночью он будет ее единственным компаньоном.
– Крис… – вдруг начинает она.
– Что?
Но жена тут же передумывает.
– Не важно.
– Что случилось? – настаиваю я.
По коридору, взявшись за руки, идет пара. Торопливо подбираю под себя ноги, чтобы дать им пройти. Женщина помпезным тоном произносит:
– Прошу прощения, сэр.
Киваю в ответ. Надо же – до сих пор держатся за руки, хотя обоим никак не меньше шестидесяти пяти. Гляжу пожилым супругам в спину. На обоих одинаковые брюки хаки и плащи. Только сейчас вспоминаю, что мы с Хайди в последний раз брали друг друга за руки давным-давно. Мы как колеса в машине – работаем слаженно, но каждый сам по себе.
– Да так, ничего.
– Точно не хочешь рассказать?
– Может, когда домой приедешь.
Голос звучит устало. Кажется, Хайди наконец позволила сну себя одолеть. Должно быть, сейчас она все глубже забирается под наше теплое одеяло, из-за которого я потею даже в разгар зимних морозов. Представляю нашу спальню: свет выключен, телевизор выключен, очки Хайди лежат на обычном месте – на тумбочке у кровати.
Тут вдруг откуда ни возьмись появляется совершенно неуместная и нежеланная мысль, от которой спешу поскорее избавиться. Интересно, а в чем спит Кэссиди Надсен?
– Ладно, – соглашаюсь я. Изнутри нашего номера кто-то начинает стучать в дверь. Зовут меня. Поднимаюсь с пола и говорю Хайди, что мне пора. Желаем друг другу спокойной ночи. Говорю, что люблю ее. Хайди, как всегда, отвечает: «Я тоже». Конечно, мы оба знаем, что правильнее говорить «я тебя тоже», иначе получается, что Хайди признается в любви к себе. Но такая уж у нас привычка.
Когда возвращаюсь в номер и вижу Кэссиди, все еще сидящую на краю кровати в узкой юбке и туфлях на шпильках, невольно принимаюсь угадывать, в чем же она все-таки спит. В атласной комбинации? В кокетливой ночной рубашке с оборочками?
Хайди
Просыпаюсь с мыслями о Кэссиди Надсен. Не помню, что мне сегодня снилось, поэтому не могу сказать, видела ли ее во сне, или мысли об этой особе атаковали меня сразу после пробуждения. И все из-за вчерашнего неловкого разговора. Снова и снова вспоминаю, как непринужденно она ответила на мой звонок Крису, как жизнерадостно прочирикала: «Привет, Хайди». Для меня звук ее голоса был не менее раздражающим, чем царапанье гвоздей по стеклу.
По пути на работу стараюсь не думать ни про девушку, ни про ее ребенка, но это задача не из легких. В поезде прилагаю все усилия, чтобы сосредоточиться на научно-фантастическом триллере, а не сидеть, уставившись в залепленное грязью окно, высматривая успевшее стать таким знакомым зеленое пальто. В перерыв обедаю с коллегой. В библиотеку не пошла, хотя едва сумела удержаться. Сейчас бы бродила между стеллажами в секции художественной литературы, разыскивая девушку с младенцем. Очень беспокоюсь за них обоих: где они ночуют, что едят? Размышляю, чем могу помочь. Может, денег ей дать, как той женщине с черными зубами, которая вчера просила милостыню возле библиотеки? Или дать девушке адрес специального приюта для женщин? Решаю, что именно это и должна сделать – разыскать девушку и отвезти ее в приют на Кедзи-авеню. Там позаботятся и о ней, и о ребенке. Тогда я смогу быть спокойна и перестану тревожиться за их судьбу.
Собираюсь бежать в библиотеку. Обед с коллегой все равно скучный, да и сама коллега тоже. Но тут звонит мобильный телефон. Наконец-то мне перезвонила моя дорогая подруга Дженнифер. Извиняюсь и бегу из столовой в свой кабинет, чтобы поговорить спокойно. Все мысли о девушке и ребенке временно вылетели из головы.
– Ты меня спасла, – объявляю я, плюхаясь на свой жесткий, холодный и совершенно не эргономичный стул.
– От чего? – сразу интересуется Дженнифер.
– От страшного недуга – taedium vitae.
– Переведи.
– От скуки, – поясняю я.
У меня на столе стоит в рамке наша фотография – Дженнифер с Тейлор и я с Зои. Сфотографировались года четыре назад. В те счастливые времена наши веселые, улыбчивые восьмилетние малышки еще не стеснялись появляться на людях в обществе мам. Девочки сидят у нас на коленях. Глаза у Тейлор большие, а когда она улыбается, уголки рта опущены вниз, отчего выражение лица кажется грустным. Мы с Дженнифер сидим, прижавшись друг к другу щеками, чтобы попасть в кадр.
Дженнифер давно в разводе. Ни разу не встречала ее бывшего мужа, но, судя по описаниям, этот человек отличался ослиным упрямством и мрачным, тяжелым характером. Настроение у него портилось легко и часто, из-за чего супруги постоянно ссорились, и Дженнифер приходилось ночевать на диване – упрямый муж ни в какую не соглашался уступить жене кровать.
– У Тейлор ведь еще не началось половое созревание? – сразу перехожу к делу я.
Хорошо иметь близкую подругу. Можно говорить все как есть, не редактируя свои слова и не подвергая их цензуре.
– Ты про месячные, что ли?
– Ну да.
– Нет. Слава богу, пока не начались, – отвечает Дженнифер.
На меня сразу накатывает огромное облегчение.
Но тут все дело портит моя чересчур въедливая натура. У всех свои слабости, и эта у меня одна из главных.
– Как думаешь, это нормально? Может, уже пора? – волнуюсь я.
Роясь в Интернете, прочла, что менструации могут начаться и в тринадцать, и даже в восемь. Но на сайтах, на которые я заходила, пишут, что случается это приблизительно через два года после того, как у девочки начинает расти грудь. А у Зои в ее двенадцать лет грудь совершенно плоская.
– Наши девочки ведь не отстают?..
В моем голосе звучит тревога, и, должно быть, Дженнифер это заметила. Подруга работает в больнице клиническим диетологом. Обращаюсь к ней по любым вопросам, связанным со здоровьем, будто тот факт, что Дженнифер трудится в лечебном учреждении, делает ее экспертом во всех областях медицины.
– Расслабься, Хайди. В этом деле отстать невозможно. У всех свой ритм, каждая девочка взрослеет в свое время, – заверяет Дженнифер, потом прибавляет, что в любом случае контролировать созревание Зои не в моих силах.
– Хотя ты, конечно, будешь стараться изо всех сил, – с легкой укоризной прибавляет Дженнифер. – Знаю я тебя.
Такую прямоту можно себе позволить, только говоря с лучшей подругой. Смеюсь – Дженнифер попала в точку.
Потом разговор заходит про весенний футбольный сезон. Наши дочки играют в команде для девочек. Обсуждаем, что они думают про свою новую ярко-розовую форму, подходит ли для команды название «Счастливые звездочки» и до какой степени все девочки влюблены в тренера, двадцатилетнего студента, не прошедшего отбор в университетскую сборную. Впрочем, мамы наши тоже не могут устоять перед чарами тренера Сэма, чему мы с Дженнифер выступаем живым примером. Живо обсуждаем его густые темные волосы, загадочные карие глаза, идеальную спортивную фигуру. Сэм и силен, и ловок, а таких крепких икроножных мышц мы еще ни у кого не видели – впрочем, чего еще ожидать от футболиста? Обсуждать нашего красавчика-тренера – отличный способ отвлечься от тревожных мыслей: и о созревании Зои, и о девушке с младенцем. С этой темы плавно переходим к разговору об одноклассниках девочек, а конкретно – об Остине Белле. В этого мальчика влюблены все, включая наших Зои и Тейлор. Дженнифер признается, что обнаружила в тетради у дочери изящно выведенные слова «миссис Тейлор Белл». Вспоминаю имя «Остин», написанное на бледной руке дочки розовым фломастером. Буква «О» в форме сердечка.
– У нас в школе тоже был такой мальчик. Брайан Бахмайер, – делюсь я, вспоминая его вечно взлохмаченные, стоящие торчком волосы. Глаза у Брайана были разного цвета – один голубой, другой зеленый. Семья его приехала из Сан-Диего, штат Калифорния. Это само по себе внушало к новичку уважение, а Брайан вдобавок знал все модные танцы – карлтон, джигги, тутси-ролл. Все девчонки были от него без ума, а парням оставалось только завидовать.
Помню, как на своей первой вечеринке пригласила Брайана танцевать. И то, что он ответил «нет», помню тоже.
Думаю про Зои и Тейлор. Пожалуй, наши девочки не так отличаются от нас, как мне казалось.
Раздается стук в дверь. Поворачиваюсь и вижу Дану, нашу незаменимую секретаршу, дежурящую в приемной. Дана напоминает, что у меня сейчас урок с двадцатитрехлетней девушкой из Бутана, маленького южноазиатского государства, расположенного между Индией и Китаем. Ей только что дали политическое убежище. Почти всю жизнь девушка провела в лагере беженцев в соседнем Непале. Ютилась в бамбуковой хижине с земляным полом, выживала только благодаря продуктовым пайкам. А потом ее отец покончил с собой, и девушка попросила убежища в Соединенных Штатах. Единственный язык, которым она владеет, – непали.
Прикрыв телефон ладонью, шепотом отвечаю Дане, что сейчас приду.
– Долг зовет, – говорю Дженнифер.
Сегодня после школы Зои отправляется к Тейлор в гости с ночевкой. Еще раз по-быстрому все согласовываем. Зои так рада, что я ее отпустила, что сегодня утром, перед тем как бежать в школу, даже попрощалась.
День тянется медленно и невыносимо скучно. Дождь стихает, но небо над городом по-прежнему затянуто тяжелыми серыми тучами, в которых скрываются верхушки небоскребов. В пять часов прощаюсь с коллегами и спускаюсь на лифте на первый этаж. Редко ухожу с работы так рано, однако сегодня не могу удержаться от соблазна. Сегодня квартира будет в моем полном распоряжении – Зои ночует у Тейлор, а рейс Криса задержали, поэтому прилетит муж только после десяти часов вечера. Маленькое безобидное удовольствие, насладиться которым удается так редко… Предвкушаю, как завалюсь на диван в теплой, уютной пижаме, посмотрю какой-нибудь женский фильм и одна съем целый пакет попкорна, приготовленного в микроволновке. А потом еще побалую себя шариком мятного мороженого с шоколадом!
Тучи начинают рассеиваться. Солнечные лучи отважно пробиваются через образовавшиеся просветы, так что сегодня впервые за несколько дней можно увидеть закат. Воздух холодный, температура всего четыре градуса. Вдобавок дует ветер. Натягиваю кожаные перчатки и накидываю на голову капюшон. Вместе с другими прохожими, спешащими домой с работы, почти бегу к станции «Л». Кое-как протискиваюсь в переполненный вагон. Пассажиры набились как сельди в бочку и стоят вплотную прижатые друг к другу. Поезд, покачиваясь на рельсах, прокладывает себе путь по извилистым путям.
Высадившись на станции Фуллертон, осторожно спускаюсь по мокрым ступенькам. Идущий рядом мужчина закуривает сигарету. Запах табака всегда казался мне приятным, потому что напоминает о доме. Выросла я под Кливлендом. Наша семья жила в доме семидесятых годов, построенном в колониальном стиле. Стены были покрашены с помощью губки, и мама была в полном восторге от получившегося эффекта.
Папа дымил как паровоз – выкуривал по полпачки «Мальборо Ред» в день. Однако в доме он никогда не курил, каждый раз выходил в гараж. И в машине тоже, если на заднем сиденье ехали брат и я. У мамы с этим было строго. Но от папы всегда пахло табаком. Запах впитался в одежду, волосы, руки. Весь воздух в гараже был прокурен, и мама жаловалась, что сквозь тяжелую металлическую дверь запах проникает в нашу белоснежную кухню. Все предметы обстановки были белого цвета – шкафчики, рабочие поверхности, холодильник, массивный стол в фермерском стиле. По утрам, не успевал папа встать с кровати, как сразу прокрадывался в гараж с чашкой кофе и «Мальборо Ред». Бывало, папа выходил из гаража на кухню, а я сидела за столом и завтракала шоколадными шариками. Папа смотрел на меня с милой, обаятельной улыбкой (ничего удивительного, что мама вышла замуж именно за него!) и предостерегал: «Не кури, Хайди. Это плохая привычка». Прямо так и говорил. Потом мыл руки, присоединялся ко мне за столом, и мы вместе принимались весело хрустеть шоколадными шариками.
Спускаясь по ступенькам, думаю о папе. Пальцы невольно тянутся к золотому ободку обручального кольца, которое повесила на цепочку и ношу на шее. Ощупываю все знакомые углубления и выпуклости. На внутренней стороне выгравированы слова «Вместе навсегда».
На какую-то секунду кажется, будто замечаю в толпе папу. Вот он стоит в рабочей одежде, купленной в магазине «Кархартт», одна рука засунута в задний карман, в другой пачка сигарет. Папа глядит на меня и улыбается. С петли на поясе свисает молоток, на лоб надвинута кепка с эмблемой бейсбольной команды «Кливленд Индиане». Темные волосы, как всегда, торчат во все стороны. Мама постоянно умоляла его подстричься. «Папа», – едва не произношу вслух, но, быстро опомнившись, качаю головой. Нет, папа никак не может здесь оказаться. Или может?.. Конечно же нет, решаю я. Что за глупости?
Вдыхаю вредный табачный дым, испытывая и удовольствие, и грусть одновременно, и вдруг слышу детский плач. Я как раз сошла со ступенек. Не удержавшись, оборачиваюсь, высматривая младенца. И сразу вижу знакомую девушку. Дрожа от холода, она сидит под путепроводом, прислонившись спиной к кирпичной стене, вдоль которой выстроились лотки с газетами и журналами и зловонные мусорные баки. Девушка сидит прямо на холодном, мокром бетоне, среди луж, и укачивает ребенка. Девочка плачет. По движениям девушки замечаю, что она начинает нервничать, как и все матери, которым, несмотря на все усилия, никак не удается утешить младенца. Еще немного – и бедняжка совсем отчается. У Зои в возрасте этой малышки были сильные колики. Дочка могла надрываться от крика часами, поэтому чувство бессилия и глубокая усталость, которые вижу в глазах девушки, мне до боли знакомы. Однако мне ни разу не приходилось укачивать ребенка холодным весенним вечером посреди улицы, сидя прямо на бетоне. И подаяния просить тоже не приходилось. Девушка сжимает в протянутой руке мокрый бумажный стаканчик из-под кофе, который, должно быть, выудила из ближайшего помойного бака. Прохожие мельком окидывают ее взглядом, некоторые бросают в стакан завалявшуюся в карманах мелочь – кто четверть доллара, кто горстку пенни. Можно подумать, ей помогут эти жалкие гроши. У меня перехватывает дыхание. Эта девушка всего лишь ребенок. Ребенок с младенцем. Никто не заслуживает такой тяжелой судьбы – жить на улице и просить милостыню, чтобы раздобыть денег на пропитание. И особенно дети. Вспоминаю, сколько мы в свое время истратили только на детское питание и подгузники. Если эта девушка покупает подгузники для ребенка, на себя у нее ничего не остается. Нет денег ни на еду, ни на крышу над головой, ни на зонтик вроде того, что я себе представляла – с яркими золотистыми маргаритками.
Меня толкают спешащие мимо пассажиры. Отхожу в сторону, не в силах присоединиться к ним. Все торопятся вернуться в сухие, теплые дома, где их ждет вкусный домашний ужин. Но я не могу последовать их примеру. Ноги приросли к асфальту, сердце колотится быстро-быстро. Недовольный, пронзительный и безутешный плач малыша просто невозможно вынести. Наблюдаю за девушкой, которая начинает укачивать младенца все резче и резче. Вот она устало произносит, держа на весу стаканчик:
– Помогите, пожалуйста.
«Слышала – она просит о помощи? Что тебе еще нужно?» – говорю себе. Однако равнодушные прохожие как ни в чем не бывало бегут домой, оправдывая свое бездействие парой мелких монет, брошенных в стакан. Монет, которые все равно собирались бросить в керамическую свинью-копилку на полке у себя дома.
Невольно трепеща от волнения, направляюсь к девушке. При моем приближении она вскидывает подбородок. На секунду наши взгляды встречаются, но девушка быстро отворачивается и вытягивает вперед руку со стаканом. Узнаю изможденный, мрачный взгляд битого жизнью и не привыкшего к доброму отношению человека. Взгляд этот настолько неприветлив, почти враждебен, что едва не попятилась. Глаза у девушки холодного оттенка синего, по краям опухших век слишком много туши. Подумываю, не сбежать ли. А может, достать из кошелька двадцатидолларовую купюру, опустить в стакан и отправиться домой? Двадцать долларов – это вам не мелочь. Если экономить, на двадцать долларов можно питаться целую неделю, говорю себе в минуту нерешительности. Но тут же напоминаю себе, что она мать, и, скорее всего, потратит деньги на детское питание, поставив нужды ребенка выше своих. Девушка очень худа, намного тоньше Зои, хотя, казалось бы, куда уж тоньше?
– Хочешь, накормлю ужином? – предлагаю я, однако тон совсем не так решителен, как слова.
Мой тихий голос дрожит, его почти заглушают городские шумы. Такси мчатся по дороге и сигналят пешеходам, перебегающим дорогу в неположенном месте, на станции по громкой связи объявляют о скором прибытии поезда коричневой ветки из Лупа, потом состав с грохотом подъезжает к платформе. Ребенок продолжает плакать. Люди проходят мимо, болтая по мобильным телефонам и смеясь. В темном небе среди туч слышится раскат грома.
– Спасибо, не надо, – отвечает девушка. В голосе звучит горечь. Ей, пожалуй, было бы легче, если бы я просто бросила в стакан двадцатку и ушла. Легче сейчас, но тяжелее потом, когда ее начнет мучить голод, а плач ребенка окончательно издергает нервы. Девушка встает и, удобнее перехватив младенца, наклоняется, чтобы поднять свой кожаный чемодан.
– Попробуй положить ребенка на животик, – торопливо советую я, чувствуя, что девушка вот-вот сбежит. – От колик иногда помогает.
Жестами показываю, что надо делать. Девушка едва заметно кивает.
– Я тоже мама, – прибавляю я.
Она окидывает меня пристальным взглядом с ног до головы, гадая, почему я до сих пор торчу около нее, а не убегаю, кинув в стакан несколько пенни, как все остальные.
– Есть один приют… – начинаю я.
– В приют не пойду, – перебивает девушка.
Вспоминаю огромную спальню в учреждении для бездомных, где тесными рядами выстроились десятки коек.
Похоже, девушка не робкого десятка. Ответ прозвучал жестко и несгибаемо. Однако соответствуют ли слова чувствам? Одета девушка в те же самые вещи, в каких увидела ее в первый раз: пальто защитного цвета и ботинки на шнуровке. И то и другое грязное и мокрое. Неровно подстриженные сальные волосы уныло обвисли. Должно быть, голову не мыла давно. Когда же она в последний раз принимала теплый душ и спала в кровати? Кстати, ребенку бы тоже ванна не помешала.
Представляю, как в такой же ситуации очутилась Зои. При одной мысли я едва не расплакалась. Зои, такая же колючая, ощетинившаяся, облачившаяся в защитную броню, просит милостыню около станции. Зои, ставшая года на три-четыре старше, с младенцем на руках.
– Давай я тебя покормлю. Пожалуйста, соглашайся, – повторяю свое приглашение.
Но девушка поворачивается и шагает прочь. Головка ребенка выглядывает поверх ее плеча. Младенец беспокойно вертится в объятиях матери. Меня охватывает отчаянное желание сделать хоть что-то. Но девушка удаляется и скоро совсем скроется в вечерней толпе пассажиров.
– Подожди, – окликаю я. – Послушай, пожалуйста.
Но девушка продолжает шагать вперед. Роняю сумку на мокрый тротуар и делаю первое, что пришло в голову: стягиваю свой водонепроницаемый дождевик с подкладкой и спешу к перекрестку на углу Фуллертон и Халстед. Девушка ждет, пока на светофоре загорится зеленый, и можно будет перейти запруженную машинами улицу. Набрасываю дождевик ей на плечи, прикрыв и ребенка тоже. Девушка бросает на меня неприязненный взгляд.
– Вы что делаете? – начинает она обвиняющим тоном, но я поспешно отступаю на пару шагов, чтобы девушка не смогла сунуть плащ обратно мне в руки. Стою посреди улицы в одной блузке-тунике с короткими рукавами и тоненьких леггинсах. Голые руки сразу начинает холодить.
Между тем на светофоре включается зеленый свет.
– Буду ждать в ресторане «У Стеллы», – говорю я. – На случай, если передумаешь.
Девушка пересекает Фуллертон вместе с остальными пешеходами. «У Стеллы» – ресторан американской кухни, где жарят восхитительные блинчики. Работает круглосуточно. Очень простое, демократичное местечко.
– На улице Халстед! – кричу ей вслед.
Девушка замирает посреди улицы и оборачивается на меня через плечо. Лицо озаряет свет фар.
– На улице Халстед! – повторяю громче. Вдруг не расслышала?
Стою на углу и гляжу ей вслед, пока она не скрывается из вида. Детского плача больше не слышно. В меня врезается какая-то женщина. Одновременно произносим «извините». Зябко ежась, скрещиваю руки на груди. Чувствую себя голой. Вроде апрель, а холодно, как осенью. Свернув на Халстед, спешу к ресторану «У Стеллы». Интересно, придет ли девушка? Сумеет ли отыскать место встречи? И вообще, слышала она меня или нет?
Когда вбегаю в ресторан, стоящая у двери хостес удивляется:
– В такую погоду – и без пальто! Насмерть простудитесь!
Внимательный взгляд карих глаз обводит меня с ног до головы – волосы растрепались, одежда слишком легкая. В доказательство, что я не бродяжка, выставляю вперед дорогую сумку – из фиолетовой кожи, стеганую, с узором в огурец. Можно подумать, у бездомных и без того жизнь недостаточно тяжелая – голод, отсутствие крыши над головой и чистой одежды… Но вдобавок приходится терпеть унизительное всеобщее презрение – всех бездомных считают лентяями, нечистоплотными, наркоманами…
– Столик на одного? – уточняет хостес, эффектная женщина с белоснежной кожей и глазами миндалевидной формы.
Не желая так быстро сдаваться, отвечаю:
– Нет, на двоих.
Хостес ведет меня к круглому столику в углу, у окна. Отсюда можно смотреть на Халстед. Заказываю кофе со сливками и сахаром. Сижу, не спуская глаз со спешащих прохожих. Люди постарше возвращаются с работы домой, молодежь направляется в многочисленные бары Линкольна. Их смех доносится до меня сквозь щели в окнах ресторана. Гляжу на пеструю толпу. Люблю наблюдать за людьми. Деловые мужчины в темно-серых костюмах и ботинках за тысячу долларов, уличные рок-музыканты в одежках из секонд-хенда, матери с нарядными колясками, старик, ловящий такси. Но сегодня ни на кого не обращаю внимания. Высматриваю среди прохожих девушку. Несколько раз кажется, будто в толпе мелькают пряди мокрых русых волос, нейлоновая ткань тонкого пальто, развязавшийся шнурок на ботинке. Уже несколько портфелей приняла за кожаный чемодан, а в визге шин на мокром асфальте мерещится детский плач.
Приходит эсэмэска от Дженнифер – подруга сообщает, что приехала домой с работы, и девочки отлично проводят время. Чтобы скрасить ожидание, проглядываю электронную почту. Почти все письма по работе плюс несколько рекламных. Потом гляжу в окно. Когда же наконец закончится дождь? Похоже, не скоро. Официантка, женщина за сорок с пышными рыжими волосами и прозрачной белой кожей, предлагает принять у меня заказ. Отвечаю:
– Нет, спасибо. Дождусь друзей.
Женщина улыбается и кивает:
– Конечно.
Однако за неимением других занятий принимаюсь изучать меню и останавливаю выбор на французских тостах. Но потом решаю, что ограничусь кофе, ведь мои «друзья» могут и не прийти. Смотрю на часы. Если к семи часам девушка с ребенком так и не появятся, заплачу за кофе, вознаградив официантку щедрыми чаевыми за долготерпение, и сразу отправлюсь домой, где меня ждут фильм, попкорн и тревожные размышления о судьбе девушки и ребенка.
Наблюдаю, как посетители приходят и уходят. Смотрю, как они едят, едва не пуская слюни при виде обильных порций немецких блинчиков и гамбургеров с картошкой фри. Не люблю есть одна. Официантка возвращается и подливает в мою чашку еще кофе. Спрашивает, не принести ли уже счет. Отвечаю, что нет.
Сижу и жду. На часы гляжу каждые две с половиной минуты. Восемнадцать тридцать восемь. Восемнадцать сорок. Восемнадцать сорок три.
И тут замечаю ее. Девушку с ребенком.
Уиллоу
– Ко мне давно никто не относился по-доброму. Только Хайди, – говорю я старухе с серебристо-седыми волосами, слишком длинными для ее возраста. Пожилые женщины обычно стригутся намного короче. Типичная прическа бабушек. Вспоминаю, как мама делала такую стрижку миссис Даль, когда я была маленькая. А еще завивала волосы при помощи ярко-розовых щипцов. Вставляла в розетку и ждала, пока нагреются, а потом больше получаса старательно накручивала на них тонкие темно-серые пряди. Закончив, обрызгивала укладку лаком. Моей обязанностью было подавать маме шпильки, поэтому мы сидели поблизости, в крошечной ванной, и слушали, как миссис Даль долго и нудно рассказывает про искусственное осеменение скота у себя на ферме. Мне было восемь лет, поэтому ничего не понимала, однако, когда мама и миссис Даль произносили какое-нибудь слово по буквам – нарочно, чтобы мы не поняли, – принималась вслух складывать их вместе. «С-п-е-р-м-а». «В-у-ль-ва».
– Тогда почему ты так ее подставила? – спросила старуха. Длинные седые волосы расчесаны на прямой пробор. Зубы огромные, как у лошади.
– Не хотела, чтобы с ней случилось что-то плохое, – произношу я. – Или с ее семьей.
Старуха вздыхает. Не успела она войти в холодную комнату, как сразу стала поглядывать на меня с подозрением. Близко не подходит, стоит у двери и внимательно смотрит из-за очков в прямоугольной оправе. Глаза у нее серые, кожа тонкая и морщинистая, будто мятая бумажная салфетка. Представилась старуха Луизой Флорес. Причем имя произнесла так медленно, будто я почему-то обязательно должна его запомнить.
– Начнем сначала, – говорит она, садясь на второй стул. Принимается раскладывать вещи на столе, который нас с ней разделяет – диктофон, секундомер, блокнот, фломастер. Не нравится мне эта Луиза Флорес.
– Она предложила накормить меня ужином, – произношу я. Мне сказали, что этой седой старухе лучше все выкладывать честно и напрямик. Так советовали те, кому тоже пришлось иметь с ней дело: мужчина с усами и пращевидной повязкой на подбородке и угрожающего вида женщина, с ног до головы одетая в черное.
– Миссис Вуд предложила тебя накормить?
– Да, мэм, – киваю я. – Хайди.
– Как мило с ее стороны, – с горечью произносит женщина. Записывает что-то фломастером в блокноте. – Значит, укусила руку, которая тебя кормит? Слышала такое выражение?
Сижу молча, уставившись прямо перед собой, но Луиза Флорес настаивает на ответе:
– Так слышала или нет? Знаешь, что значит «кусать руку, которая тебя кормит»?
Серые глаза пристально смотрят на меня. В прямоугольных стеклах очков отражается единственная флуоресцентная лампа на потолке.
– Нет, – вру я. Позволяю волосам упасть на лицо, чтобы не видеть Луизу Флорес. Чего не видишь, то тебе не повредит – такая у меня народная мудрость. – Ни разу не слышала.
– Да, начало многообещающее, – с неприятной усмешкой произносит Луиза Флорес и нажимает красную кнопку на диктофоне. Потом прибавляет: – Но сейчас меня интересует не миссис Вуд. О ней поговорим потом. Когда велела начинать сначала, имела в виду – с самого начала. С Омахи.
Хочу сказать, что на самом деле началось все не с Омахи, и мне это прекрасно известно.
– Что с ней теперь будет? – вместо этого спрашиваю я.
Мысленно повторяю, что не желала ей зла. Честное слово, не желала.
– С кем? – спрашивает Луиза Флорес, хотя отлично понимает, о ком речь.
– С миссис Вуд, – ровным, ничего не выражающим голосом поясняю я.
Старуха откидывается на спинку вертящегося стула.
– А тебе разве не все равно? Или просто время тянешь? – Луиза Флорес устремляет на меня пристальный, точно у хищной птицы, взгляд. Совсем как Джозеф. – Учти, времени у нас полно, – прибавляет она, скрестив руки на груди. Одета Луиза Флорес в безупречно свежую белую блузку. – Спешить мне некуда.
Однако, судя по резкому тону, она все-таки не прочь поторопиться.
– Что с ней будет? – повторяю я. – С Хайди?
Вспоминаю этот теплый, уютный дом и мягкую постель, в которой мы с малышкой лежали рядышком под коричневым одеялом, нежным, точно мех кролика. По всему дому на стенах были развешаны семейные фотографии. Все трое Вудов стоят рядом и улыбаются в камеру. Веселые, счастливые. В этом доме всегда было тепло. Я не про температуру, а про другое тепло, которое идет изнутри. В последний раз чувствовала что-то такое, когда еще жила с мамой. За восемь лет Хайди оказалась первой, кто заботился обо мне, как мать. Да, она первая отнеслась ко мне по-хорошему.
Луиза Флорес самодовольно усмехается. Взгляд серых глаз холодный и непроницаемый. Тонкие губы растянуты в фальшивой улыбке.
– Любое доброе дело наказуемо. Еще одна поговорка, – произносит она. Представляю миссис Вуд в оранжевой тюремной робе – такой же, как у меня. На лице – ни следа доброй улыбки.
Хайди
Девушка стоит на улице Халстед перед дверью ресторана и заглядывает внутрь через стекло. Не решается зайти. Дошла до самого крыльца, но все еще колеблется. Замечаю, что ребенок плачет, но уже не так безутешно. Скорее просто хнычет. Девушка завернула младенца в мой дождевик и старается держать его горизонтально – так, как я показала. Делать это ей неудобно, ведь надо еще держать чемодан. Умница, думаю я. Запомнила совет. Девушка берется за дверную ручку. На какую-то секунду начинаю бояться не того, что она передумает, а того, что вот-вот войдет. Сердце начинает биться быстро-быстро. Принимаюсь лихорадочно соображать, что же я ей скажу.
Сзади к девушке подбегает молодой человек и, спеша попасть внутрь, едва не сбивает ее с ног. Покачнувшись, девушка отступает в сторону. Неужели уйдет? И все из-за этого женоподобного молодого нахала с обильно обмазанными гелем волосами. Однако, входя в ресторан, он все же придерживает для нее дверь. Девушка замирает в нерешительности. Смотрит на него, потом окидывает взглядом улицу. Остаться или уйти? Уйти или остаться? Через секунду молодой человек резко, нетерпеливо интересуется:
– Будешь заходить?
В многолюдном, шумном ресторане едва различаю его голос. Позвякивает посуда и приборы, переговариваются посетители.
Судя по сердитому выражению лица, что бы девушка ни ответила, парень с удовольствием захлопнет дверь прямо у нее перед носом. Нервно сглатываю и жду ответа. Останется или уйдет? Уйдет или останется?
Девушка решает остаться. Заходит в ресторан, и хостес окидывает ее таким же подозрительным взглядом, как и меня. Грязное пальто, рваные джинсы, этот затхлый запах, который сопровождает всех, кто живет на улице. Ребенок между тем затихает, завороженно разглядывая лампы на потолке. В тепле младенец сразу успокаивается, да и шум, который действует на нервы мне, похоже, оказал на ребенка благотворное воздействие.
– Столик на одного? – достаточно грубо уточняет хостес.
Быстро встаю и машу рукой:
– Она со мной!
Судя по выражению лица, хостес догадалась, почему ребенок завернут в плащ, а я пришла в одной тунике с короткими рукавами. Хостес кивает на меня. Девушка прокладывает себе путь между ламинированными столиками и страдающими избыточным весом едоками, едва помещающимися на виниловых диванчиках. Мимо снуют официанты с подносами.
– Все-таки пришла, – говорю я, когда девушка останавливается возле меня. Ребенок поворачивается на звук моего голоса. В первый раз вижу этого малыша вблизи. Младенец улыбается беззубой улыбкой и издает звук, напоминающий воркование голубя.
– Вот, – произносит девушка, протягивая что-то зеленое, пластиковое, прямоугольное. Моя библиотечная карточка! – В кармане нашла.
Даже не пытаюсь скрыть, что это для меня неожиданность. Глупо было отдавать плащ, не проверив карманы. Вспоминаю, как вчера засунула туда карточку по пути из библиотеки на работу. В другой руке сжимала научно-фантастический триллер. Ах вот оно что – значит, девушка пришла вернуть мою карточку.
– Спасибо, – говорю я и забираю ее, едва удержавшись от соблазна дотронуться до ребенка, погладить пухлую щечку или мягкие, светлые, похожие на пух волосики.
– Сейчас вместе поужинаем, – объявляю я. Верчу карточку в руках, потом убираю в стеганую сумку.
Девушка не отвечает. Продолжает стоять на том же месте, глядя себе под ноги. Взгляд настороженный, подозрительный.
– Какое вам до меня дело? – спрашивает девушка, по-прежнему не глядя на меня. Замечаю, что руки у нее грязные.
– Просто хочу помочь.
Девушка ставит чемодан на пол и, зажав его между ног, поудобнее перехватывает ребенка, который вдруг ни с того ни с сего начинает вертеться. Впрочем, с младенцами так часто бывает. Должно быть, на лампы нагляделся вдоволь и теперь хочет кушать.
– Главное не то, что мир может предложить тебе, а то, что ты можешь в него привнести[1], – тихо, почти шепотом произносит девушка. Растерянно гляжу на нее. Девушка поясняет: – Это из «Ани». «Аня из Зеленых мезонинов».
Она цитирует «Аню из Зеленых мезонинов». Вспоминаю, как вчера она сидела на полу библиотеки с ребенком на коленях и читала эту книгу. Интересно, с какими еще произведениями детской классики она знакома? Читала ли «Ветер в ивах»? А «Таинственный сад»?
– Как тебя зовут? – спрашиваю я. Девушка не отвечает. – Меня – Хайди, – представляюсь я, надеясь, что она последует моему примеру. Впрочем, так в любом случае будет правильнее – в конце концов, из нас двоих взрослый человек я. – Хайди Вуд. У меня тоже есть дочка. Зои. Ей сейчас двенадцать.
Надеюсь, упоминание о Зои поможет ей проникнуться ко мне доверием. И действительно – через пару секунд девушка садится, осторожно придерживая ребенка. Неловко опустившись на банкетку, она достает из кармана пальто немытую, облепленную растворимым детским молоком бутылочку. Наполняет ее холодной водой из стакана, стоящего на столе, и подносит к ротику ребенка. Вода слишком холодная, к тому же такое питье младенцу не полезно – это вам не детское питание и тем более не грудное молоко. Сначала ребенок медлит, но потом берет соску. Видимо, привык пить простую воду. К тому же она хоть как-то помогает ослабить чувство голода.
– Уиллоу, – вдруг произносит девушка.
– Так тебя зовут? – спрашиваю я.
Девушка медлит, затем кивает. Значит, Уиллоу.
Мы с Крисом выбрали для дочки имя Зои просто потому, что оно нам обоим понравилось. Другие варианты – Джулиэт, София, Алексис – решили приберечь на потом, уверенные, что они нам еще понадобятся. А для мальчика приготовили имя Зак – хорошая бы получилась парочка, Зак и Зои. А Крис, конечно, хотел назвать сына в свою честь. Мечтали, как переберемся в домик на севере, например в Лэйквью, или на западе, в Роско-Виллидж. По закладной придется платить чуть поменьше, зато до школы и работы добираться намного дольше. Выбирая колыбельку для Зои, невольно заглядывалась на детские двухэтажные кроватки – такие хорошенькие, белые, решетчатые… Представляла, что мне еще много раз предстоит покупать стильные одеяльца, обставлять детские и переступать через разбросанные по полу игрушки. Даже решила, что дети наши будут на домашнем обучении – их образованием займусь сама. Все-таки дешевле, чем отправлять всех в частную школу вроде той, в которой сейчас учится Зои. Иначе мы рисковали истратить на образование воображаемых детей около сорока тысяч долларов в год.
Врач употребил термин «гистерэктомия». Удаление матки. По ночам лежала в кровати без сна и думала о том, что для меня означает это слово. Для врача и для Криса это была просто операция, медицинская процедура. А для меня – убийство. Не будет у нас ни Джулиэт, ни Зака, ни Софии, ни Алексис. Покупать детские одеяльца и обучать целую ораву детишек на дому мне теперь не придется.
Джулиэт, конечно, была. Однако после «простой» процедуры, которая была вовсе не простой, от нее не осталось и следа. Врач сказал, что понять, мальчик это или девочка, нельзя было. Крис мне потом много раз это повторял. И все же я была уверена, что зародышем, выброшенным, точно мусор, вместе с моими женскими органами, была Джулиэт.
До сих пор не могу удержаться и хожу по детским магазинам, скупая крошечные одежки: то возьму сшитый из натуральных материалов комбинезончик со зверушками, то тянусь за хорошеньким фиолетовым. Придя домой, складываю покупки в коробки, на которых нарочно написала «Хайди. Работа», и прячу в кладовку, смежную с нашей спальней. Крису и в голову не придет в них рыться. Думает, что там бумаги с удручающей статистикой по уровню грамотности или учебники по английскому.
– Красивое имя, – киваю я. – А девочку как зовут? Это ведь девочка?
– Руби, – после небольшой паузы выговаривает Уиллоу.
– Мило. Ей подходит, – говорю я, и это не просто комплимент. – Сколько ей?
Снова пауза. Потом Уиллоу нерешительно произносит:
– Четыре месяца.
– Готовы сделать заказ? – спрашивает неизвестно откуда выскочившая рыжеволосая официантка.
Уиллоу вздрагивает и растерянно косится на меня. Папка с меню лежит перед ней нетронутая.
– Мы еще подумаем, – говорю я, но предлагаю сразу заказать для Уиллоу чашку горячего шоколада. Сидя на виниловом диванчике, она ежится от холода. Обхватываю руками собственную чашку. Кофе уже успел остыть, и официантка подливает еще.
– Шоколад со взбитыми сливками или без? – уточняет она.
Уиллоу бросает на меня вопросительный взгляд, будто спрашивая разрешения. Забавно – стоило официантке упомянуть про взбитые сливки, и девушка сразу превращается в ребенка. Уиллоу – как знаменитая оптическая иллюзия, ваза Рубина. В зависимости от того, как посмотреть на рисунок, можно увидеть или два повернутых друг к другу профиля, или изящную вазу. Так и с Уиллоу – то перед тобой жесткая, независимая молодая женщина с ребенком, то беззащитная девочка, питающая слабость к горячему шоколаду и взбитым сливкам.
– Конечно, со сливками, – объявляю я. Пожалуй, даже слишком пылко. Вскоре официантка возвращается с вожделенным напитком. Над блюдцем и белой чашкой поднимается пар, а сверху лежит похожая на сугроб горка, усыпанная шоколадной стружкой. Уиллоу тянется за ложкой и погружает ее в сливки, потом начинает слизывать, явно наслаждаясь вкусом. Должно быть, давно не приходилось баловать себя лакомствами.
Как вообще могло получиться, что девочка-подросток вроде нее очутилась на улице? Одна, без заботы и опеки. Конечно, задавать вопросы напрямую не стоит, иначе Уиллоу точно сбежит. Некоторое время она просто сидит и смотрит на взбитые сливки, потом накидывается на них, отправляя в рот полные ложки и не замечая, что вся измазалась. Руби с интересом – а может, даже с жадностью – наблюдает за мамой. Потом Уиллоу подносит чашку к губам и начинает пить – слишком быстро, слишком жадно, морщась и обжигая язык. Ложечкой вылавливаю из своего стакана с водой кубик льда и бросаю в горячий шоколад.
– Так быстрее остынет, – говорю я.
Уиллоу отпивает глоток. Теперь напиток не такой горячий.
Замечаю над ее левым глазом синяк. Пожелтевший, почти заживший. Когда Уиллоу хватается за меню, выбирая себе ужин, замечаю, что ногти у нее длинные и обломанные, края почернели от грязи. В каждом ухе по четыре дырки для сережек, включая одну наверху, в которую вдета черная заклепка. Другие украшения, спускающиеся вниз вдоль мочки, – серебристые крылья ангела, готический крест и рубиново-алые губы. Однако пара у губ отсутствует – в левое ухо снизу ничего не продето. Представляю сережку, валяющуюся на грязном тротуаре рядом со станцией Фуллертон, где на нее наступают прохожие, или на проезжей части посреди улицы, где по ней ездят машины. Длинная челка свисает Уиллоу на лоб, закрывая глаза. Когда девушка хочет посмотреть на меня, сдвигает ее в сторону, а потом челка падает снова, точно занавес или вуаль. И на руках, и на лице кожа красная и потрескавшаяся. Тут и там виднеются точки запекшейся крови. На губах тоже трещинки. У ребенка то же самое. Кажется, у Руби вдобавок экзема – на белой нежной коже виднеются красные шероховатые участки. Лезу в сумку, достаю мини-упаковку лосьона и пододвигаю к Уиллоу.
– Когда холодно, всегда кожа на руках пересыхает. Вот, возьми, помогает.
Уиллоу берет лосьон, и я прибавляю:
– Руби тоже пригодится. Намажь ей щечки.
Смахнув со лба челку, Уиллоу кивает и тут же следует моему совету. От холодного лосьона Руби морщится. Серо-голубые глаза наблюдают за мамой с любопытством и легким неодобрением.
– Сколько тебе лет? – спрашиваю я.
Уиллоу отвечает с такой быстротой и готовностью, что сразу становится понятно – врет.
– Восемнадцать, – произносит она, не глядя на меня. До этого на все вопросы Уиллоу отвечала после долгих пауз, с запинками. Теперь же ее торопливость сразу убеждает меня, что девочка накинула несколько лет. И вот передо мной снова беспомощный ребенок с наивными глазами, мало чем отличающийся от Зои.
По закону дети становятся взрослыми в восемнадцать лет. Начиная с этого возраста они могут жить независимо, родители больше не имеют над ними власти. Не обязаны они и опекать взрослых детей. Восемнадцатилетнему позволено многое, что для семнадцатилетнего неприемлемо. Например, можно, если пожелаешь, жить одному на улице. Если Уиллоу семнадцать или, что более вероятно, пятнадцать или шестнадцать, возникают определенные вопросы. Где родители девочки и почему она не с ними? Уиллоу сбежала из дома? Или ее выгнали? Взгляд снова останавливается на желтом синяке. Может, девочку били? Если Уиллоу несовершеннолетняя, ее могут против воли вернуть домой – конечно, при условии, что у нее есть дом. В противном случае ответственность за нее должны взять на себя органы опеки.
Однако оставляю подозрения при себе. Пусть Уиллоу думает, что я ей поверила. Раз сказала – восемнадцать, значит, восемнадцать.
– Есть специальные приюты для матерей с детьми.
– Сказала же – в приют не пойду.
– Я сама работаю с молодыми девушками. Такими, как ты. Они беженки, приехали из разных стран. Я им помогаю здесь устроиться.
Официантка возвращается, чтобы принять заказ. Я останавливаюсь на тостах, Уиллоу решает заказать то же самое. Догадываюсь, что она в любом случае взяла бы то же, что и я. Должно быть, девушка не хочет показаться слишком наглой, заказав огромный бургер, когда я ограничилась бы салатом. Официантка забирает меню и скрывается за открывающейся в обе стороны алюминиевой дверью.
– Зря ты так, бывают очень хорошие приюты. И крышу над головой дадут, и медицинскую помощь предоставят, и психологическую, и образование помогут получить. Встанешь на ноги. Там тебе подскажут, как устроиться на работу, составят вместе с тобой резюме, а Руби устроят в ясли. У меня там знакомые. Хочешь, позвоню? – предлагаю я.
Но Уиллоу отвернулась и уставилась на пожилого мужчину, который сидит за столиком один и аккуратно разрезает сэндвич пополам.
– Не надо мне помогать, – ощетинивается Уиллоу и надолго умолкает.
– Хорошо, как скажешь, – уступаю я. Понимаю – если буду настаивать, она возьмет ребенка и кожаный чемодан и просто уйдет. – Хорошо, – повторяю я, на этот раз тише. Мы пришли к компромиссу – я не вмешиваюсь в ее дела, а она остается. Уиллоу доедает тосты почти в полном молчании. Руби засыпает у нее на коленях. Прежде чем отправить кусочек тоста в рот, Уиллоу подцепляет его вилкой и макает в кленовый сироп. Ест она с жадностью. Я же, наоборот, не спешу и наблюдаю за Уиллоу. Сироп течет по ее подбородку. Девушка вытирает его рукавом пальто.
Интересно, когда она в последний раз нормально ела? Это всего лишь один из многих вопросов, которые меня интересуют. Сколько Уиллоу лет на самом деле? Откуда она? Как и почему осталась без крыши над головой? Давно ли живет на улице? Кто отец Руби? Откуда у Уиллоу под глазом синяк? Часто ли она заходит в библиотеку – каждый день или от случая к случаю, под настроение? Для поддержания разговора едва не упоминаю добродушную библиотекаршу из отдела художественной литературы, но вовремя передумываю. Уиллоу ведь не знает, что я ее там видела. Не знает, что я пряталась в соседнем ряду и шпионила за ней, когда она вслух читала «Аню из Зеленых мезонинов».
Едим молча. Слышны только обычные во время еды звуки – как мы жуем и глотаем, как выдавливаем из пластиковой бутылки кленовый сироп, как Уиллоу роняет на пол вилку. Девушка нагибается за ней и, подняв, сразу вонзает в хлеб, будто бедняжку много дней или даже недель морили голодом.
Доев, Уиллоу берется за ручку чемодана и порывается встать.
– Уходишь? – спрашиваю я, не в силах скрыть боль в голосе.
Конечно же Уиллоу замечает мою интонацию.
– Да, – кивает она.
Руби на секунду просыпается, но потом снова начинает дремать.
– Подожди, – прошу я с тем же отчаянием, что и возле станции.
Уиллоу снова ускользает, и я не в силах удержать ее. Выуживаю из сумки кошелек и достаю двадцатидолларовую купюру. Чтобы заплатить за наш ужин, не хватит. Придется расплачиваться картой.
– Давай вместе сходим в аптеку, – почти умоляюще произношу я. – Купим самое необходимое. Детское питание, – начинаю перечислять я. – Подгузники…
Мазь гидрокортизон от экземы. Полезные злаковые батончики для Уиллоу. Крем от опрелостей. Зубную пасту. Зубную щетку. Шампунь. Расческу. Витамины. Бутилированную воду. Перчатки. Зонт. Но тут сама понимаю, что идея, мягко говоря, глупая – ведь тогда, кроме содержимого чемодана, Уиллоу придется таскать с собой еще и эти «предметы первой необходимости».
Девушка долгим взглядом смотрит на единственную купюру в моем кошельке. Не тратя времени на раздумья, вытаскиваю двадцатку и протягиваю девушке.
– Сходи в аптеку, – прошу я. – Купи все, что нужно. Для себя, для ребенка…
Секунду Уиллоу медлит, потом выхватывает деньги у меня из пальцев. Молча кивает – должно быть, это означает «да» и «спасибо».
Прежде чем Уиллоу успевает уйти, прошу:
– Подожди.
Не подумав, хватаюсь за нейлоновое пальто. Некачественная ткань на ощупь кажется непривычной – я такие вещи не ношу. Когда Уиллоу устремляет на меня взгляд холодных голубых глаз, торопливо отдергиваю руку и прошу:
– Не уходи, пожалуйста. Подожди секунду.
Нахожу в сумке простую черную визитку с моим именем и телефонными номерами, написанными белыми буквами, легко читаемым шрифтом Comic Sans. Один телефон мобильный, другой рабочий. Вкладываю карточку ей в руку.
– На всякий случай, – начинаю я.
Но тут мимо проносится официант, на одной руке удерживая над головой полный поднос. Нараспев произносит:
– Извините, дамы.
Уиллоу пятится от него, пятится от меня и медленно отступает к дверям, скрываясь из вида. Остаюсь стоять одна посреди ресторана «У Стеллы» и мысленно умоляю девушку вернуться. Но она, конечно, уже ушла. Не замечая моего огорчения, подходит рыжая официантка и протягивает счет.
Домой возвращаюсь долгой дорогой, но ни холода, ни сырого тумана не чувствую. Захожу в букинистический магазин на Линкольн-авеню и покупаю «Аню из Зеленых мезонинов». За книгу плачу всего два доллара. В состоянии она неважном – некоторые листы вываливаются, между пожелтевшими страницами спрятаны забытые сокровища: закладка с кисточками, старая фотография маленькой девочки в белых гольфиках и ее дедушки в синих клетчатых брюках. Книга с подписью: «Маме. 1989 год».
На лестничной площадке встречаю соседа Грэма. Он выбрасывает в мусоропровод бутылку из-под вина.
– Между прочим, бутылки надо бросать в специальный контейнер, тогда их отправят на переработку. Так полезнее для экологии, – укоризненно напоминаю я. Слышу в своем голосе «учительские» нотки, которые так раздражают Криса.
Но Грэм только смеется. Дверь квартиры он оставил нараспашку. На диване с бокалом шабли возлежит очередная блондинистая королева красоты. Обмениваемся взглядами. Вежливо улыбаюсь, но девушка на мою улыбку не отвечает.
– Опять попался. Экологическая полиция, руки вверх! – шутит он, но бутылку выбрасывать передумывает.
Специальные баки, о которых я говорила, стоят возле черного хода. Ничего удивительного, что человеку, не слишком заботящемуся о проблемах окружающей среды, лень преодолевать такой путь. Но для меня это важно. Собираюсь было объяснить, что стеклянная бутылка разлагается чуть ли не миллион лет, но вовремя прикусываю язык.
Очень хочется с кем-то поделиться, рассказать про сегодняшний вечер в ресторане «У Стеллы». Крис на роль доверенного лица не подходит. Даже Дженнифер меня не поймет – подруга слишком разумная и здравомыслящая. Нужен кто-то такой же спонтанный и порывистый, как я. Тот, кем руководят чувства, воображение и эмоциональное отношение к ситуации, для кого фантазия не пустой звук. Кто-то вроде Грэма.
Но из открытой двери квартиры соседа доносятся звуки акустической гитары – это играет стереосистема. Королева красоты зовет Грэма по имени. Взяв бутылку под мышку, сосед говорит, что ему надо идти. Прощаюсь и смотрю, как он закрывает за собой дверь. Гляжу на украшающий ее квадратный венок самшита. Из квартиры доносятся веселые взвизгивания девушки.
Дома фильм смотреть передумываю. Вместо этого укладываюсь в кровать с «Аней из Зеленых мезонинов». Когда Крис наконец приезжает из аэропорта, быстро прячу книгу под кровать. От глаз ее надежно скрывает темно-серая оборка покрывала, заглядывают за которую только кошки. Притворяюсь, что уже сплю.
Крис укладывается рядом со мной и медленно целует. Однако прикосновения его губ только лишний раз напоминают о Кэссиди Надсен.
Уиллоу
Мама была самой красивой женщиной на свете. Длинные черные волосы, тонкое лицо с высокими скулами, безупречный изгиб бровей и самые яркие синие глаза, которые я когда-либо видела. «Люблю тебя, как белка орехи» – говорила она. Или: «Люблю тебя, как мышка любит сыр». По полдня проводили, выдумывая варианты позабавнее. «Люблю тебя, как толстяк тортики». А потом покатывались со смеху. Это была наша игра.
Жили мы в штате Небраска, в маленьком деревенском домике в пригороде Огаллалы. Мама, папа, Лили и я. Поэтому началось все с Огаллалы, а вовсе не с Омахи. Сначала были мама и папа, и только потом Джозеф и Мириам. Это была совсем другая жизнь, да и я сама была совсем другая.
Мама часто рассказывала, как они с папой поженились. Говорила, что к тому моменту уже ждала меня. Ни ее, ни папу это не смущало, а вот мамины родители были очень недовольны – считали, что это неприлично. Оказалось, папа им вообще-то не нравился. Поэтому в один прекрасный день, когда маме было девятнадцать лет, они поехали далеко, в Де-Мойн, нашли там часовню и обвенчались. Пока Лили спала, мы сидели на крыльце нашего сборного домика и красили ногти на ногах в красный цвет. Мне тогда было восемь лет. Мама рассказывала про уютную маленькую церковь у обочины дороги, про то, как шла по проходу к алтарю в белоснежном платье – без бретелек, длиной до колена. Описывала мама и короткую фату. Сказала, что такой фасон называется «птичья клетка», поэтому всегда представляла, как на голове у мамы сидят канарейки. Говорила мама и про священника, который их поженил. Утверждала, что фамилия его была Любовь – преподобный отец Любовь. Но даже в восьмилетием возрасте мне не верилось, что священника действительно так звали. Помню, как мама произнесла: «Вот так нас поженила любовь». Она сидела, глядела на нашу скучную невзрачную улицу и на мальчишек, пинавших мяч на лужайке. Потом еще раз повторила «лю-ю-юбовь» – протяжно, нараспев. Мы обе рассмеялись.
Мама сказала, что папа выглядел очень элегантно. Нарядился в рубашку и галстук, а пиджак взял взаймы у друга. Мне очень трудно было представить папу в пиджаке, рубашке и галстуке. В костюме я его ни разу не видела. К сожалению, фотографий со свадьбы у мамы с папой не было. Ни у него, ни у нее не было фотоаппарата. Зато у них имелся документ, в котором было указано, что они муж и жена, и для родителей он был ценнее любых снимков. Мама показывала мне эту бумагу. Сверху красовалась надпись: «Брачный сертификат», а снизу подпись: «Преподобный отец Любовь».
А потом, месяцев через шесть, родилась я. Про этот день мама тоже рассказывала. Говорила, что я, видно, рассудила, что спешить некуда, и рожала она поэтому очень долго. А когда папа в первый раз взял меня на руки в больничной палате, держал очень осторожно, будто хрупкую вазу. Бабушки с дедушками в больницу не приехали. Я их вообще ни разу не видела. Мамины родители с нами не общались, а папины уже умерли. Время от времени мы ходили к ним на могилу на кладбище на Пятой улице. Оставляли одуванчики рядом с двумя надгробными камнями, на которых было написано: «Эрнест Дэллоуэй» и «Ивлин Дэллоуэй».
Бабушка постоянно говорила маме, что она вылитая Одри Хепбёрн. Потому ее и назвали Холли, в честь Холли Голайтли[2]. Поэтому мама собирала длинные черные волосы в высокую прическу-улей и порхала по дому с сигаретным мундштуком в руке, хотя не курила. Все как в фильме. Еще каждый день наряжалась в старомодные платья в горошек и сыпала цитатами Одри Хепбёрн, делая вид, будто это ее собственные мысли. А я сидела на диване и смотрела на маму во все глаза.
Ничего удивительного, что папа женился именно на ней. Не встречала женщин красивей мамы.
Много раз просила рассказать, как они познакомились. Маме эта история никогда не надоедала. Случилось это в городе, в салуне, где папа работал барменом. Какой-то нахал стал приставать к маме, и папе это не понравилось. Папа заметил, что этот тип продолжает с ней разговаривать и держит за руку, хотя мама ясно сказала, чтобы оставил ее в покое. Папа поспешил на выручку, как благородный рыцарь, – так рассказывала мама. А еще говорила, что выйти замуж за папу было лучшим решением в ее жизни, хотя теперь бабушка с дедушкой из ее жизни исчезли. Раз – и пропали, сказала мама, изобразив широкий жест, будто фокусница.
Папа работал дальнобойщиком, поэтому дома бывал редко. Ездил от одного побережья до другого, возил какие-то грузы, а иногда, чтобы побольше заработать, – и токсичные материалы. Мы очень скучали по папе, когда он был в рейсе, и особенно мама. Но когда папа возвращался, всегда баловал маму вниманием – целовал и дотрагивался до нее в таких местах, что она краснела. Чтобы встретить папу как следует, мама наряжалась, завивала волосы и красила губы яркой ягодной помадой. Куда бы папа ни ездил – в Вермонт, Джорджию или еще куда-нибудь, – отовсюду привозил подарки для меня и Лили. Совсем скромные – брелок, открытку, маленькую статую Свободы. Но мы им все равно очень радовались. Когда приезжал папа, будто наступали и Рождество, и летние каникулы одновременно. Для мамы у него тоже были подарки, но папа говорил, что покажет их, только когда мы с Лили ляжем спать. Иногда просыпалась ночью и слышала, как они смеются у себя в спальне.
Денег у нас было немного, но мама обожала ходить по магазинам. Конечно, те вещи, которые ей нравились, мы себе позволить не могли. Поэтому мама брала меня и Лили и отправлялась в магазин, просто чтобы примерять платья и крутиться перед зеркалом. Мы это делали, только когда папа был в отъезде. Мама просила не рассказывать папе, чтобы он не расстроился.
Она очень любила рассуждать про «когда-нибудь». Когда-нибудь у мамы будет свой салон красоты, и ей не придется больше стричь клиенток в ванной, смежной с нашей с Лили комнатой. Когда-нибудь мы переедем в большой дом, и будет он не сборным. Когда-нибудь мама отвезет нас в Чикаго и покажет удивительное место – Магнифисент-Майл. Мама рассказывала про эту улицу, будто речь шла о каком-то сказочном месте. Мне даже иногда и впрямь казалось, будто это сказка, но мама уверяла, что нет. Говорила про магазины «Гуччи» и «Прада» и про одежду, которую там купит, когда у нее будут деньги. Когда-нибудь. У мамы был целый список мест, которые обязательно надо посетить. Эйфелева башня, могила Одри Хепберн в каком-то маленьком швейцарском городке, Магнифисент-Майл.
В моем детстве всего у нас в хозяйстве было мало, всего не хватало. Даже в восемь лет понимала это, однако о большем не мечтала. Я была счастлива в нашем сборном домике в пригороде Огаллалы, и, хотя мама обожала помечтать про «когда-нибудь», мне ничего менять не хотелось. Мама часто повторяла: «Конечно, у нас ничего нет, зато мы есть друг у друга».
Но однажды и этой привилегии мы лишились.
Крис
У Хайди пунктик – обязательно все делать правильно. И особенно это касается сортировки мусора и сдачи на переработку. Все относим в специальные контейнеры – банки, бутылки, газеты, батарейки, фольгу. Вешалки она всегда возвращает в химчистку, а не выбрасывает. Стоит мне прийти из магазина с полиэтиленовым пакетом, устраивает выговор – надо было взять с собой сумку из дома. Даже во сне слышу ее суровый голос, произносящий: «Это можно сдать на переработку». Данную фразу Хайди повторяет всякий раз, когда я хочу выбросить один-единственный конверт или листок бумаги – о ужас! – в мусорное ведро. Молоко покупаем только в стеклянных бутылках, которые потом можно использовать. Стоят они при этом бешеные деньги.
В нашей квартире пауков не давят, а выносят на балкон или – в случае, если погода плохая, – в подвал дома, где они могут спокойно плодиться и размножаться среди картонных коробок и старых велосипедов. Раздавить паука ботинком или спустить в унитаз – бесчеловечно.
Кошки у нас появились после того, как Хайди нашла под помойным баком у задней стены дома двух котят. Их мать растерзала бродячая собака. В один прекрасный день Хайди явилась в квартиру с двумя грязными комочками. Весили бедняги не больше фунта-двух, под редкой шерсткой торчали косточки. Хайди объявила: «Они будут жить у нас». Меня, как всегда, не спросила. Так в нашем браке решаются любые вопросы. Хайди сказала, и все тут.
Я их зову Первая и Вторая. Да, оба котенка оказались кошками, поэтому я в нашем женском царстве единственный представитель мужского пола. Хайди дала новым питомцам имена Одетта и Сабина, но мне они показались глупыми. Называть беспородных кошек человеческими именами – перебор, сказал я. Особенно красивыми французскими. Первая кошка трехцветная, вторая – черная, с довольно длинной шерстью и сверкающими в темноте глазами. По примете, именно такие приносят неудачу. Эта зверюга меня не выносит.
Поэтому в субботу утром совершенно не удивился, когда вылез из кровати и нашел Хайди стоящей посреди гостиной и глядящей на меня своим фирменным взглядом потерявшегося котенка. Хайди только что закончила телефонный разговор и сразу принялась рассказывать про какую-то несчастную бездомную девушку со станции Фуллертон. Было почти десять часов утра, но за окном было так темно, что казалось, будто гораздо раньше – часов пять-шесть. После утомительной командировки в Сан-Франциско собирался посидеть, откинувшись на спинку кожаного кресла, и весь день смотреть бейсбол. Но Хайди уже выпила для храбрости кофе и приготовилась идти в атаку. Жена стояла посреди комнаты в халате и тапках и сжимала в руке мобильный телефон. Сразу понял: что-то она недоговаривает. В Чикаго сотни тысяч бездомных, но Хайди по какой-то причине заинтересовалась судьбой именно этой девушки. Нет, не подумайте – Хайди всегда обращает внимание на бомжей, на всех до единого, мимо пройти спокойно не может. Но привычки вскакивать из-за них спозаранку в выходной у Хайди раньше не наблюдалось.
– В городе полно приютов для бездомных, – произношу я.
На улице идет дождь. Опять. По всем каналам показывают репортеров, стоящих на улицах и шоссе по колено в воде. Говорят, дороги стали опасными и непроходимыми. Даже огромные скоростные магистрали Эйзенхауэра и Кеннеди закрыли. Вот-вот объявят чрезвычайное положение. В новостях показывают установленные на улицах желтые знаки «Разворачивайся, утонешь». Звучит оптимистично. Насквозь промокшая репортерша в золотистом пончо стоит где-то в Лупе. Бедняжку хлещут струи дождя – можно подумать, стук капель по крышам и окнам не демонстрирует достаточно убедительно, что льет сегодня, как из ведра. Репортерша предупреждает, что быстрый поток воды высотой даже в несколько дюймов может унести машину. «От автомобильных поездок лучше воздержаться, – вещает девушка с таким встревоженным видом, будто ее и правда волнует наша безопасность. – Если есть возможность, постарайтесь их отложить».
– В приют она не пойдет, – возражает Хайди с такой уверенностью, что сразу понимаю: жена не просто видела эту девушку на улице, а говорила с ней.
Из того, что Хайди рассказала по своей воле и что мне удалось из нее вытянуть, картина складывается следующая: жена заметила возле станции Фуллертон бездомную девушку-подростка, собирающую милостыню. На руках у нее был младенец. Когда вошел в гостиную, собираясь посмотреть телевизор, Хайди только что закончила разговор по мобильному. Когда спросил, с кем она говорила, жена поспешно ответила:
– Да так, ни с кем.
Но я сразу понял, что это был кто-то очень важный. Однако жена не хочет, чтобы я о нем знал. Вот что бывает с мужьями, которые постоянно мотаются по командировкам, думаю я. Жены начинают им изменять. Вскакивают с кровати в несусветную рань, чтобы вести тайные беседы с любовниками, пока мужья отсыпаются после работы. Вид у Хайди виноватый, взгляд такой, будто ее застукали на месте преступления. Совсем не похожа на мою добропорядочную жену. Спрашиваю:
– С мужчиной говорила?
Вспоминаю, как вчера вечером в кровати Хайди от меня отстранилась. Неужели причина в любовнике? Сразу принялся гадать – бывал ли этот тип у нас дома? Может, ушел незадолго до моего приезда? Вернулся я в начале двенадцатого. Зои дома не было, а Хайди уже лежала в кровати. Когда Зои была маленькая, они с Хайди своими руками делали плакаты с надписью «Добро пожаловать». Украшали наклейками, рисунками, фотографиями и другими симпатичными, любимыми девочками любого возраста мелочами. Но с тех пор прошло лет пять-шесть, и теперь мой приезд никакой реакции не вызывает. Только кошки ждали у двери и встретили сердитым мяуканьем, даже не прося, а требуя еду. Ни дать ни взять ультиматум: «Не накормишь – пеняй на себя». Кошачьи миски из нержавеющей стали, которые Хайди никогда не забывает наполнить, вчера вечером были пусты.
– Хайди, – повторяю я, на этот раз нетерпеливее. – Ты говорила с мужчиной?
– Нет-нет, – быстро, без запинки отвечает жена с нервным смешком. Не могу понять – то ли врет, то ли по сравнению с моим предположением о супружеской измене ее секрет кажется безобидным пустяком.
– Тогда с кем? – не сдаюсь я. – С кем ты разговаривала?
Повисла пауза. Жена решала, признаваться или нет. Я уже изрядно рассердился, когда она нехотя сообщила, что говорила с девушкой. С той, у которой ребенок.
– С бездомной? – уточняю я. Уф, прямо гора с плеч свалилась.
– Она только что звонила, – поясняет Хайди. Щеки раскраснелись – то ли от кофеина, то ли от смущения.
У меня отвисает челюсть.
– Ты ей дала свой номер?
Вид у Хайди становится смущенный и виноватый. Отвечает жена не сразу. Потом робко произносит:
– Вчера, когда повела ее в ресторан и накормила ужином, оставила визитку.
Ну, это уже ни в какие ворота. С тревогой гляжу на стоящую передо мной женщину – растрепанные медные волосы, дикий из-за избытка кофе взгляд – и гадаю, куда подевалась моя жена. Да, Хайди неисправимая идеалистка и оптимистка, она всем старается помочь, но в этот раз жена зашла слишком далеко.
– Накормила ужином?.. – начал было я, но тут же встряхиваю головой и перехожу к более важному вопросу: – Зачем она звонила?
Смотрю во взволнованные глаза Хайди и отчаянно желаю, чтобы на моем месте оказался кто-то другой. Хайди направляется к кофемашине, будто и так уже не выпила слишком много кофеина. Наполняет сувенирную кружку, которую Зои подарила ей на День матери несколько лет назад. Кружка черная, керамическая и украшена фотографиями Хайди, которые после неоднократной «стирки» в посудомоечной машине теперь различить трудно. Хайди добавляет в кофе миндальные сливки. Отлично, еще только сахара не хватает.
– Уиллоу говорит, Руби всю ночь плакала. Бедняжка глаз не сомкнула. Уиллоу очень волнуется. Ну и устала, конечно. У девочки наверняка колики. Помнишь, с Зои было так же? Всю ночь не спала. Я за нее волнуюсь, Крис. Вернее, за них обеих. Из-за того, что ребенок постоянно кричит, а помочь некому, у матерей часто начинается послеродовая депрессия. Я уже не говорю о синдроме тряски младенца[3].
Не найдясь с ответом, тупо переспрашиваю:
– Уиллоу? И Руби? Так их зовут?
Хайди отвечает, что да.
– Что за имя – Уиллоу[4]? Так деревья называют, а не людей. А Руби…
Но договорить не решаюсь. Хайди глядит на меня будто на воплощение зла. Воплощение зла, стоящее посреди гостиной в одних боксерах. Прохожу мимо Хайди и направляюсь на кухню, чтобы самому выпить кофе. Может, тогда эта несусветная история уляжется в голове. Вот бы оказалось, что я просто не так понял жену. Бывает, после сна туго соображаешь. Стою, уставившись на гранитную столешницу, и не спеша потягиваю напиток. Жду, когда он подстегнет мою мыслительную деятельность.
Но когда выхожу из кухни, Хайди уже стоит у двери, натягивая массивную оранжевую куртку прямо поверх халата.
– Ты куда? – ошарашенно спрашиваю я.
Волосы у жены по-прежнему торчат во все стороны. Хайди скидывает тапки и засовывает ноги в стоящие у двери резиновые сапоги.
– Я пообещала, что приду. Мы договорились встретиться.
– Встретиться? Где?
– Возле станции Фуллертон.
– Зачем?
– Нужно посмотреть на девочку.
– Хайди, – произношу своим самым благоразумным тоном, – сними хотя бы пижаму.
Жена опускает взгляд на сиреневые полы махрового халата, из-под которых выглядывают яркие пижамные штаны в цветочек. Хайди кивает, несется в спальню и переодевается в джинсы. Жена так спешит, что даже халат снимать не стала.
Это же просто нелепо, думаю я. В мои обязанности входит подготовка презентаций и графиков, призванных убеждать клиентов, поэтому сразу представляю, как наглядно продемонстрировал бы Хайди, что она ведет себя просто глупо. На одной оси перечислил бы все причины, по которым ее поведение вызывает оторопь: странную тягу спасать всех подряд бездомных, раздачу визиток кому ни попадя, готовность выскочить из дома под проливной дождь в сиреневом халате и жуткой оранжевой куртке. На другой оси разметил бы уровни неадекватности поступков. Вне всякого сомнения, дикий наряд намного обогнал бы ситуацию с визиткой.
Однако понимаю, что Хайди только рассердится, и никакого результата все равно не добьюсь. С кожаного кресла уголком глаза наблюдаю, как Хайди бежит в гардеробную, хватает сумку и зонтик и выскакивает за дверь, крикнув:
– Скоро вернусь!
Вяло отвечаю:
– Пока.
Кошки, как всегда, прыгают на подоконник и ждут, пока Хайди выйдет на улицу, чтобы проводить ее взглядами. Готовлю себе омлет. Упаковку из-под яиц отнести в специальный контейнер, естественно, забываю. Подогревая в микроволновке бекон, чувствую себя предателем – мы ведь вроде как на вегетарианской диете. Завтракаю перед телевизором. Сразу после отборочных матчей начнутся матчи НБА. Во время рекламы переключаюсь на канал CNBC – при моей работе за новостями с Уолл-стрит следить нужно постоянно. В голове все время крутится одна мысль. Деньги, деньги, деньги.
Вспыхивает молния, и раздается раскат грома, от которого содрогается весь дом. Как там Хайди? В такую погоду и на улице. Остается надеяться, что жена и впрямь скоро вернется. Снова вспышка, снова гром. Молюсь, чтобы до конца игры не вырубило электричество.
Примерно через час Зои доставляют домой Тейлор и ее мама. Когда дочка заходит в квартиру, я все еще в одних боксерах. Из дверного проема на меня разинув рты смотрят Дженнифер и Тейлор, обе промокшие до нитки. Да, зрелище то еще – сижу в трусах, темные волосы на груди предстали перед гостьями во всей красе. Весь растрепанный, да и помыться не помешало бы.
– Зои! – восклицаю я, поспешно вскакивая и едва не проливая кофе.
– Привет, пап, – выдавливает готовая сквозь землю провалиться от стыда Зои. Еще бы – полуголый отец в одной комнате с лучшей подругой. Заворачиваюсь в плед из искусственного меха и пытаюсь свести все в шутку.
– Не думал, что ты так рано вернешься. Застала папу врасплох, – говорю я. Но в глазах Зои это, конечно, слишком слабое оправдание.
Уверен, дочке еще неоднократно придется за меня краснеть. Зои поспешно хватает Тейлор за руку и тянет по коридору в свою комнату. Слышу, как закрывается дверь, и представляю, как Зои доверительным тоном говорит подруге: «Не обращай внимания на папу, он у меня такой лузер!»
– Крис, Хайди дома? – спрашивает Дженнифер, глядя куда угодно, только не в мою сторону.
– Нет, – отвечаю я.
Интересно, известно ли Дженнифер что-нибудь про эту девушку? Может быть. Лучшая подруга знает про мою жену почти все. Поплотнее заворачиваясь в плед, гадаю, что Хайди рассказывает обо мне. На сто процентов уверен, что, стоит повести себя как полный козел, Дженнифер узнает об этом первой. Так что подруга жены в курсе и про мою сексапильную коллегу, и про то, что я опять уехал в командировку.
– Не знаешь, когда вернется?
– Нет.
Дженнифер принимается теребить ремешок сумки. Между прочим, женщина она вполне интересная и могла бы выглядеть красиво, если бы не расхаживала повсюду в больничной форме. Дженнифер работает в больнице. Уверен, у нее в шкафу ничего нет, кроме форменных штанов и рубашек всех цветов радуги. Из обуви Дженнифер носит исключительно резиновые больничные сандалии. Спору нет, вещи, судя по виду, удобные, но ведь полно другой, совершенно обычной удобной одежды. Почему бы хоть иногда не надеть джинсы или, скажем, спортивный костюм?
– А в чем дело? – спрашиваю у нее. – Может, я могу помочь?
Вопрос вежливый, но глупый. Дженнифер типичная озлобленная разведенка и не испытывает ко мне ни малейшей симпатии по одной простой причине – я мужчина. И тот факт, что посреди дня расселся перед теликом в одних трусах, ее мнение только подтверждает.
Дженнифер качает головой.
– Да нет, это наши женские дела, – отвечает она и прибавляет: – Но за предложение спасибо.
Потом Дженнифер заходит за Тейлор, и, когда они уходят, Зои обращает на меня взгляд, исполненный самого праведного гнева, на какой способен двенадцатилетний ребенок.
– Папа, ну ты вообще! Не стыдно по дому в трусах ходить?
Дочка убегает к себе в комнату и хлопает дверью.
Отлично, думаю я. Лучше не придумаешь. Хайди носится по улицам, разыскивая каких-то бродяжек, а странным в этом доме считают меня.
Хайди
Не знаю, пьет Уиллоу кофе или нет, и все равно покупаю для нее мокаччино, в который прошу положить побольше взбитых сливок. Идеальный способ взбодриться. Еще беру булочку с корицей и – на всякий случай – ягодный кекс. Вдруг Уиллоу не любит корицу? Утром в субботу на улицах безлюдно, однако несусь вперед, выставив локти. Готова отпихнуть с дороги всякого, кто встанет на моем пути.
Идет дождь, апрельское небо затянуто темными тяжелыми тучами. На дорогах огромные лужи, по которым проносятся машины. Разлетаются фонтаны брызг. Фары у автомобилей включены, и, хотя уже начало одиннадцатого, светофоры по-прежнему работают в ночном режиме – на дневной система не переключилась. Еще бы – темно так, что не вериться в наступление утра. Держу над головой зонтик, и все равно промокла из-за брызг. Вспоминаю разные выражения про сильный дождь: «Льет как из ведра», «Дождь стеной», «Проливной дождь».
Уиллоу ждет точно на том месте, на котором обещала. Прохаживается по Фуллертон-авеню, укачивая визжащую во весь голос Руби. Обе промокли насквозь. Компания фанатичных бегунов в водоотталкивающих спортивных костюмах огибает Уиллоу по широкой дуге. Даже сходят на проезжую часть, рискуя попасть под машину, лишь бы не помогать девочке-подростку, которая за ночь будто состарилась лет на тридцать. Мешки под глазами и морщины, будто у женщины средних лет. Глаза покраснели, веки опухли. Уиллоу спотыкается о край трещины в асфальте, резко вскидывает Руби на плечо и не просто хлопает, а почти бьет ее по спинке.
– Успокойся… тише… – бормочет Уиллоу, но в голосе ни мягкости, ни заботы. Больше всего ей сейчас хочется заорать: «Заткнись! Заткнись! Заткнись!»
Движения резкие, сердитые. Помню, как сама изо всех сил старалась сдерживаться, когда Зои своими криками и плачем не давала спать ночи напролет. Терпения решительно не хватало. О послеродовой депрессии знаю не много – мне повезло, у меня ее не было. Однако пресса и телевидение полны шокирующих историй о женщинах, у которых в голове сами собой возникают непрошеные мысли о том, чтобы причинить вред собственным детям. Помимо воли начинают представлять, как ударяют их ножом, топят, сбрасывают с лестницы или въезжают с ними на машине прямо в озеро – причем бедных женщин самих эти картины приводят в ужас. По работе встречала женщин, которые так боялись невольно навредить ребенку, что отдавали своих детей другим людям, чтобы уберечь их. Проникаюсь к Уиллоу уважением – она ведь могла просто оставить младенца на крыльце церкви или приюта. И сейчас молодая мать сдерживается из последних сил, чтобы не накричать на дочку. Между тем бегуны озадаченно хмурятся. Думают, не рановато ли этой девочке нянчиться с младенцем. Однако упорства и самоотверженности у нее побольше, чем у многих взрослых женщин. Мне было легче – я ведь могла позвонить маме и пожаловаться или на некоторое время поручить дочку заботам Криса. Не знаю, как бы справилась без помощи или поддержки. Первый год материнства – самый трудный. По крайней мере, так думаешь, пока твоему чаду не стукнет двенадцать.
– Я тебе кофе принесла, – говорю, подойдя сзади.
Уиллоу вздрагивает. Можно подумать, стаканчик кофе может решить проблему! Уиллоу не место на улице. Девочка голодает, она совершенно измучена. Вот-вот подогнутся ноги. Сразу видно, что всю ночь бродила по улице, укачивая Руби. Вид у Уиллоу сонный, однако глаза сердитые, будто только ищет, на кого бы кинуться. Уиллоу резко выхватывает у меня из руки стакан. Замечаю, что координация у нее нарушена. Девушка плюхается прямо на мокрый асфальт и в одну секунду проглатывает и булочку с корицей, и ягодный кекс.
– Всю ночь ревела, – яростно жуя, произносит Уиллоу. Из уголков рта вываливаются маленькие кусочки, но она ловит их на лету. Потом устраивается в дверном проеме, под синим навесом магазинчика сувениров. В витрине висят китайские колокольчики поющего ветра, под ними выставлены керамические фигурки птиц. Магазин открыт. Через окно за нами наблюдает хозяйка.
– Когда она в последний раз ела? – спрашиваю я, но Уиллоу лишь с затравленным видом качает головой.
– Не помню. Бутылочку не берет. Только кричит.
– Не берет бутылочку? – переспрашиваю я.
Уиллоу качает головой и принимается слизывать взбитые сливки языком, точно собака, лакающая из миски воду.
– Уиллоу, – окликаю я.
Но она на меня даже не смотрит. От Уиллоу пахнет чем-то затхлым – мокрой грязной одеждой, давно не мытым телом. Но запах, исходящий от подгузника Руби, еще хуже. Окидываю взглядом улицу и думаю, куда Уиллоу ходит в туалет. Работники ресторанов и баров без разговоров выставят ее за дверь, точно бродячую кошку. На некоторых окнах даже вывешены объявления: «У нас не общественный туалет». Может, общественный туалет есть в парке неподалеку? Или хотя бы биотуалет?
– Уиллоу… – снова начинаю я, опускаясь на корточки рядом с ней.
Девушка внимательно и настороженно глядит на меня. Отодвигаюсь в сторону, давая ей три фута личного пространства. Однако Уиллоу вцепилась в стаканчик с кофе и жалкие остатки выпечки так, будто боится, что отниму.
– Уиллоу, – с трудом произношу я. – Дай подержать Руби.
До чего же хочется взять на руки ребенка! До сих пор помню, как пахнут дети – молоком и присыпкой. Запах кислый и неприятный, но при одном воспоминании хочется ощутить его снова. Ожидаю резкого отказа, поэтому оказываюсь застигнутой врасплох той легкостью, с которой Уиллоу передает мне рыдающую девочку. Конечно, довериться мне она решается не сразу. Сначала окидывает внимательным взглядом. Должно быть, гадает, кто эта женщина и что ей нужно. Однако потом, наверное, вспоминает какую-нибудь цитату – как в случае с «Аней из Зеленых мезонинов». Что-нибудь про доверие. Может быть, из «Питера Пэна», про пыльцу фей, исполняющую желания. Уиллоу передает ребенка охотно, радуясь возможности отдохнуть. Все-таки всю ночь проносила на руках около тринадцати фунтов живого веса. Уиллоу сразу расслабляется и приваливается к стеклянной двери.
У меня на руках Руби сразу затихает. Конечно, мое умение обращаться с детьми тут ни при чем. Скорее дело в смене положения и в том, что Руби заинтересовалась новым лицом – приветливым, улыбающимся. Отбрасываю зонтик и встаю, частично защищенная от дождя синим навесом. Осторожно покачиваю Руби и тихонько напеваю. Вспоминаю детскую комнату Зои, эти сиреневые простынки «Дамаск» и оттоманку, на которой часами сидела, держа на руках дочку и укачивая ее, хотя она давно уже заснула.
Должно быть, тяжелый подгузник Руби весит фунтов десять, не меньше. Он уже начал протекать и запачкал ее комбинезончик, а теперь и мою куртку. Когда-то комбинезончик был белым, но теперь из-за различных выделений детского организма от первоначального оттенка не осталось и следа. Пастельными нитками вышито слово «Сестренка». На ощупь Руби горячая, от лобика так и пышет жаром, щечки пылают. У ребенка высокая температура.
– У Руби есть сестра? – спрашиваю я, пытаясь тыльной стороной ладони определить температуру. Тридцать восемь? Тридцать девять? Не хочу пугать Уиллоу, поэтому стараюсь отвлечь ее обычными вопросами. Главное, чтобы девушка не обратила внимание, как я дотрагиваюсь губами до лобика Руби. Кажется, температура все сорок.
– А?.. – растерянно переспрашивает Уиллоу.
Указываю на вышитую надпись: две сиреневых «С», нежно-розовая «Е», голубая «Т» и так далее.
Мимо, разбрызгивая из-под колес воду, проносится велосипедист. Уиллоу глядит ему вслед. Красная спортивная кофта, черные шорты, серый шлем, рюкзак, накачанные икры. Мне такая атлетическая форма и не снилась.
– В секонд-хенде купила, – не глядя на меня, поясняет Уиллоу.
– A-а, ну да, конечно, – киваю я. Глупый вопрос – в таком возрасте она просто не успела бы родить еще одного ребенка.
Провожу пальцем по щечке Руби. Кожа мягкая, нежная. Девочка смотрит на меня ясным, невинным взглядом и хватается пухлым кулачком за мой указательный палец. Младенчество – единственное время в жизни, когда полнота считается милой и симпатичной. Руби засовывает в рот пальчик и принимается деловито сосать.
– Она, наверное, проголодалась, – с надеждой предполагаю я, но Уиллоу качает головой.
– Нет. Я же сказала – бутылочку не берет.
– Дай я попробую, – говорю я и прибавляю: – Ты ведь устала.
Не хочу представить дело так, будто считаю Уиллоу плохой, неумелой матерью. Не желаю ее обидеть. Но угадать, что нужно младенцу, подчас бывает сложнее, чем разобраться в международной политике и алгебре или поладить с девочкой-подростком. То ребенок хочет есть, то не хочет. Принимается плакать безо всякой видимой причины. В один день за обе щеки наворачивает пюре из груши, а на следующий даже смотреть на него не желает.
– Если ты против – не буду, – прибавляю я.
– Ладно, – с равнодушным видом пожимает плечами Уиллоу.
Протягивает мне бутылочку молочной смеси, в которой осталось унции три-четыре, не больше. Все стенки облеплены, по дну болтается один осадок. Что бы ни подумала Уиллоу, никак не могу кормить этим ребенка. Видя, что я медлю, девочка принимается плакать.
– Уиллоу, – произношу погромче, стараясь заглушить детский плач.
Она отпивает глоток горячего кофе и поводит плечами.
– Что?
– Давай я помою бутылочку. Сделаем новую смесь.
Молочные смеси до безобразия дорогие. Я помню. Каждый раз вздрагивала, когда на дне бутылочки что-то оставалось. Когда родилась Зои, собиралась кормить ее только грудью и никак иначе. Первые семь месяцев строго следовала этому принципу. Планировала включать в рацион смеси, только когда Зои исполнится годик. Но потом ситуация поменялась. Сначала и я, и врач считали, что причина моих болей – последствия родов. Думали, что это нормально, однако ошиблись. К тому времени я снова была беременна. Ждала Джулиэт, хотя, конечно, тогда нельзя было определить, мальчик это или девочка. Прошло меньше полутора месяцев после зачатия, когда у меня начались кровотечения. К тому времени сердце у нее уже качало кровь, черты лица принимали определенную форму, а ножки и ручки вот-вот должны были образоваться. Выкидыша у меня не было. Это было бы слишком просто. Решение оборвать жизнь Джулиэт пришлось принимать мне.
Уиллоу посмотрела на меня странным взглядом, в котором читались настороженность и сомнение. Однако при этом в нем сквозили усталость и равнодушие. Мимо под ручку прошли одетые в спортивные костюмы студентки. Одни держали зонтики, у других на головах были капюшоны. Хихикая, девушки вспоминали вчерашнюю вечеринку. Судя по обрывкам разговора, погуляли изрядно. Гляжу на свой фиолетовый халат.
– Как хотите, – произносит Уиллоу, провожая взглядом скрывающихся за углом студенток. До нас до сих пор доносится их смех.
Протягиваю ребенка Уиллоу и, подхватив зонтик, спешу в ближайшую аптеку. Покупаю бутылку воды и ацетаминофен в каплях. Надо сбить температуру. Когда возвращаюсь под навес, выливаю остатки смеси на асфальт и смотрю, как они стекают в ближайший водосток. Потом мою бутылочку и развожу новую смесь. Уиллоу протягивает драгоценный порошок, потом снова передает мне Руби. Надеюсь, что плачущую малышку удастся успокоить, но и сейчас она отказывается брать бутылочку, будто я подсовываю ей яд.
Руби начинает кричать.
– Успокойся, – уговариваю я, укачивая ребенка. А ведь Уиллоу точно так же провела всю ночь, и без всякого толка. Даже я уже начинаю ощущать усталость и раздражение. До чего же ей пришлось тяжело – без помощи и поддержки, одна на холоде, голодная. А может, и напуганная. Вспыхивает молния. Принимаюсь считать секунды – раз, два, три. Раздается громкий, яростный раскат грома. Уиллоу смотрит наверх. Зрачки округляются. Значит, она и впрямь боится грозы. Совсем как маленькая.
– Не бойся, – произношу я и сразу вспоминаю, как по ночам успокаивала в детской прижавшуюся ко мне Зои. – Это просто гром. Вреда он нам не причинит.
Уиллоу смотрит на меня взглядом, значение которого понять не могу. Я уже успела вымокнуть до нитки. У женщины в магазине хватило наглости резко постучать в стеклянную дверь. Читаю по губам. Велит, чтобы мы уходили.
– Что теперь делать? – спрашиваю вслух.
Уиллоу тихо произносит, скорее говоря сама с собой, чем обращаясь ко мне.
– «Разве не приятно подумать, – произносит она, – что завтра будет новый день, в который не сделано еще никаких ошибок?»[5]
– Опять «Аня из Зеленых мезонинов»? – уточняю я.
– Да, – кивает Уиллоу.
– Твоя любимая книга? – спрашиваю я.
Снова кивок.
Продолжаем сидеть под навесом. Не могу же я начать подгонять Уиллоу, чтобы она вышла с ребенком обратно под дождь.
– Вчера вечером по пути домой купила эту книгу, – признаюсь я. – Если честно, не читала, но всегда хотела прочесть. Вместе с дочкой, Зои. Но она как-то очень быстро выросла…
Не успела оглянуться, а маленькая девочка, которой я читала книжки-раскладушки, превратилась в большую, для которой читать с мамой – стыд и позор. Что скажут школьные друзья, если узнают? Зои полагает, что в таком случае репутация ее будет безнадежно загублена.
Тут в голову сама собой закрадывается мысль, которая часто посещает меня в такие моменты. Если бы можно было начать сначала и вернуться в те времена, когда Зои была маленькой, что бы я сделала по-другому? Кто знает – вдруг отношения у нас сейчас были бы получше? А может, с Джулиэт поладить было бы легче?..
Но, конечно, от всех этих вопросов никакой пользы. Детей у нас с Крисом все равно больше не будет.
– Ты эту книгу с мамой читала? – спрашиваю я, гадая, ответит ли Уиллоу на такой личный вопрос.
– Нет, – после небольшой запинки отвечает она. – С Мэттью.
– С Мэттью? – повторяю я. Вдруг Уиллоу больше ничего не расскажет?
Но, к моему удивлению, она продолжает, откинув потемневшую от дождя челку с глаз:
– Это мой…
Уиллоу смотрит на ищущую червяков малиновку. Первый признак, что весна наступила. На деревьях вдоль улицы появились почки, сквозь мокрую землю прорастают крокусы.
Уиллоу выдерживает довольно долгую паузу.
– …брат, – наконец договаривает она.
Киваю, довольная, что сумела что-то о ней узнать. Первый кусочек головоломки. У нее есть брат. Брат по имени Мэттью, который читал ей «Аню из Зеленых мезонинов».
– Твой брат читал «Аню из Зеленых мезонинов»? – спрашиваю я, стараясь не слишком выказывать удивление. Обычно такие книги девочки читают с мамами, а не с братьями. Хочу спросить Уиллоу про маму. Почему они не читали вместе? Но в последний момент сдерживаюсь.
– Да.
При упоминании о брате на лице Уиллоу проступает светлая грусть. Девушка тихонько вздыхает. Интересно, где сейчас этот Мэттью? Но тут Руби разражается громким плачем. Вспоминаю про ацетаминофен. Осторожно начинаю, стараясь не напугать Уиллоу.
– По-моему, у Руби небольшая температура. Купила в аптеке тайленол. Надеюсь, поможет.
Протягиваю Уиллоу коробочку, чтобы она своими глазами убедилась, что там и впрямь лекарство, а не снотворное, чтобы по-тихому украсть ребенка.
Уиллоу бросает на меня встревоженный взгляд. Голос становится тоненьким, почти детским.
– Она заболела? – спрашивает Уиллоу. Вид у нее при этом тоже как у ребенка.
– Не знаю.
Из ротика у Руби текут слюни. Не нравится мне это. Против тайленола Уиллоу ничего не имеет. Читаю инструкцию. Уиллоу держит Руби, пока выжимаю ей в ротик капли с ягодным вкусом. Руби затихает, потом причмокивает губами. Тайленол – лекарство вкусное. Потом ждем, пока средство подействует и Руби перестанет плакать. Ждем и думаем. Думаем и ждем.
Что мне делать, когда – вернее, если – девочка успокоится? Попрощаться и отправиться домой? Оставить Руби с Уиллоу здесь, под дождем? Подгузник на ребенке переполненный, наверняка под ним сыпь. Да, тут бы кто угодно разрыдался.
– Когда ее в последний раз осматривал врач? – спрашиваю я.
– Не знаю, – отвечает Уиллоу.
– Как это – не знаешь? – удивленно восклицаю я.
– В смысле, не помню, – исправляется Уиллоу.
– Тогда надо срочно показать ее доктору.
– Нет.
– Я заплачу. И за прием, и за лекарство.
– Нет.
– Тогда вам обеим надо в приют. Укроетесь от дождя, выспитесь…
– В приют не пойду, – повторяет Уиллоу, совсем как вчера вечером. На этот раз тон такой, будто разговаривает с человеком, который туго соображает. В приют. Не. Пойду. Впрочем, я ее не виню. Сама бы десять раз подумала, прежде чем отправиться в приют для бездомных. Место это не самое благополучное, тяжелая жизнь постояльцев обоего пола сделала опасными людьми. Не говоря уже о заразных болезнях, которые там запросто можно подцепить – туберкулез, гепатит, даже ВИЧ. К тому же иногда в приют не пускают с личными вещами. Значит, Уиллоу придется бросить чемодан вместе со всем содержимым. В приютах распространяют наркотики. Тех, кто употребляет, там хватает. Все вокруг кишит вшами и клопами. Ляжешь спать – проснешься без обуви. В холодное время года люди выстраиваются перед приютом в очередь и ждут часами, чтобы получить крышу над головой и теплую постель. Однако мест хватит не на всех.
– Уиллоу, – начинаю я. Хочу сказать так много! Над головой проносится по виадуку поезд «Л», заглушая мой голос. Жду, когда состав проедет, и продолжаю: – Не можешь же ты и дальше скитаться по улицам. Для младенца это неподходящая жизнь, да и для тебя тоже.
Уиллоу смотрит на меня голубыми глазами. Кожа сероватого оттенка, остатки макияжа только подчеркивают мешки под глазами.
– Думаете, мне нравится на улице жить? – ощетинивается она. Потом прибавляет: – Нам некуда идти.
Крис
Открывается дверь. На пороге стоят они. Обе мокрые, будто в одежде плавали. На руках у Хайди младенец, от девушки исходит невыносимая вонь. Тру глаза, отчаянно надеясь, что мне почудилось. Конечно же Хайди не стала бы притаскивать в дом девчонку с улицы. В дом, где живет ее дочь. Достаточно на нее взглянуть, чтобы понять – перед тобой малолетняя бродяжка. Одежда рваная и грязная. На вид не намного старше Зои. В глаза мне не смотрит – ни когда Хайди сообщает, что ее зовут Уиллоу, ни когда я невозмутимо произношу: «А меня Крис». Не хочется выглядеть слишком глупо, когда выскочит оператор и окажется, что я стал жертвой розыгрыша с участием скрытой камеры.
Хайди объявляет:
– Ночевать она будет у нас.
Вот так. Хайди решила – и точка. Как и в случае с котятами, стою ошарашенный, не в силах выговорить ни «да» ни «нет». Хотя мое мнение тут в любом случае никого не волнует. Хайди заводит девчонку в наш коридор и велит снимать мокрые ботинки. Когда Уиллоу разувается, на пол выливается целый галлон воды. Оказалось, ботинки были надеты на босу ногу. Носков нет, все ступни в каких-то волдырях. Невольно морщусь. Хайди тоже уставилась на ноги Уиллоу. Знаю, о чем думает жена – как бы вылечить девочку? Я же надеюсь, что это не какая-нибудь заразная болезнь.
Из своей комнаты выходит Зои. Слова: «Что за…» – замирают у дочки на губах. Полагаю, Зои отлично известно неприличное слово, которым можно закончить эту фразу, и едва не договариваю за нее. Но Хайди уже ведет девушку дальше и представляет ее остолбеневшей Зои. Дочка бросает на меня вопросительный взгляд, желая получить объяснение. Могу только пожать плечами.
В гостиной Уиллоу сразу уставилась на телевизор, по которому идет баскетбольный матч – «Чикаго булле» против «Пистоне». Не найдя, что еще сказать, ляпаю:
– Любишь баскетбол?
Уиллоу ровным голосом отвечает:
– Нет.
Однако взгляд от телевизора отвести не может, будто в первый раз увидела такое чудо. Стоило девчонке открыть рот, сразу чую неприятный запах. Значит, с зубами у нее тоже не все в порядке. Да и неудивительно: кто знает, когда она их в последний раз чистила? И вообще, несет от нее просто омерзительно. Бочком подбираюсь к окну и приоткрываю раму. Хайди бросает на меня исполненный негодования взгляд.
– А что? – пожимаю плечами я. – В комнате душно.
К сожалению, из-за дождя распахнуть окно на всю ширь не получится. Будем надеяться, что небольшого потока свежего воздуха хватит, чтобы вонь выветрилась. Девчонка нервничает. Вид такой, будто угодила в ловушку. Лихорадочно оглядывает комнату, точно ищет кровать, под которой можно спрятаться. Даже не знаю, что больше смущает в ситуации: появление в доме уличной девицы или то, с какой нежностью Хайди держит на руках ребенка. Будто родного. Поддерживает ладонью головку, укачивает. Такое впечатление, что она уже чувствует потребности младенца, словно он ее собственный. Хайди смотрит на ребенка жадным взглядом. Когда перед началом рекламы телевизор на секунду затихает, становится слышно, как Хайди тихонько мычит песенку.
– Я к себе, – объявляет Зои и, протопав по коридору, со всей силы хлопает дверью.
– Не обращай внимания, – спешит извиниться перед Уиллоу Хайди. – Она просто… подросток.
– Ей не понравилось, что вы меня привели, – предполагает Уиллоу.
Поразительная догадливость, думаю я. Но Хайди торопливо возражает:
– Нет-нет, дело вовсе не в этом. Зои…
Жена пытается найти подходящий ответ, однако терпит неудачу. Да уж, сказать тут нечего.
– У Зои такой период… Ее сейчас все подряд раздражает.
Да уж, и особенно новые жильцы, нагрянувшие в дом без предупреждения.
– Спать можешь здесь, – объявляет Хайди и ведет Уиллоу по коридору в мой кабинет. Там стоит элегантный кожаный диван, на который мы укладываем спать гостей. Вот только эта девушка не гостья. Наблюдаю с порога, как Хайди передает ей ребенка, потом убирает стопки моих рабочих документов с дивана и кладет их на письменный стол.
– Хайди… – произношу я, но жена и ухом не ведет. Слишком занята – сбрасывает подушки с дивана.
– Тебе надо выспаться, – говорит она Уиллоу. Та стоит, держа в одной руке младенца, а во второй – мокрый чемодан. Похоже, дискомфорт от ситуации она испытывает ничуть не меньший, чем я.
– И как следует поесть, – прибавляет жена. – Любишь курицу?
Уиллоу робко, едва заметно кивает.
– Тогда приготовлю курицу тетраццини. Или еще лучше – пирог с курицей. Как раз то, что нужно. Любишь пирог с курицей?
В голове вертится одна мысль: «Мы ведь теперь вегетарианцы». Получается, Хайди где-то прятала курицу? В спешке жена сбивает со стола на пол стопку с распечатками таблиц и мой дорогой, навороченный калькулятор для финансистов. Девчонка поднимает калькулятор и проводит пальцами по кнопкам, прежде чем смущенно протянуть его мне.
– Спасибо, – бормочу я, потом снова повторяю: – Хайди!
Но жена проталкивается мимо меня, оставив нас с Уиллоу наедине секунд на двадцать, и убегает в кладовку за постельным бельем. Выдергиваю из розетки ноутбук и принтер. Девчонка молча наблюдает. С трудом удерживая в руках и то и другое, выхожу из комнаты, споткнувшись о провод от принтера. Проходя мимо кладовки, рявкаю:
– Хайди!
Когда жена наконец удостоила меня вниманием, рычу:
– Пошли, поговорим. Прямо сейчас.
Хайди относит белье на диван и с обиженным видом следует за мной. Можно подумать, это я без спросу притащил в дом неизвестно кого.
– О чем ты, черт возьми, думала? – шиплю я. – Притащила девицу прямо в дом!
Принтер тащить нелегко. Теряю баланс и врезаюсь в стену узкого коридора. Помочь Хайди не предлагает.
– Ей некуда идти, Крис, – настаивает жена, застыв передо мной в жутком сиреневом халате, с обвисшими от дождя волосами. Во взгляде что-то вроде радостного предвкушения. Примерно так же она смотрела на меня лет двенадцать назад, когда приготовила романтический сюрприз – расставила всюду свечи и, закинув ногу на ногу, расположилась обнаженная прямо на столе, с бокалом в руке, рядом с бутылкой вина «Шато Сен-Пьер». Тогда она специально достала бокалы за десять долларов, которые мы приберегали для особых случаев.
– И долго она у нас жить будет? – спрашиваю я.
Хайди пожимает плечами:
– Пока не знаю.
– Хотя бы примерно. День? Неделю? – повышаю голос. – А, Хайди?
– У Руби температура.
– Так отнесите ее к врачу, – настаиваю я.
Хайди упрямо качает головой:
– Уиллоу не хочет.
Тащусь дальше по коридору. Придется перекочевать из кабинета в кухню. Поставив на стол ноутбук и принтер, с досадой вскидываю руки к потолку.
– Какая разница, что она хочет? Твоя Уиллоу сама ребенок, почему ты ее слушаешь? И вообще, может, она сбежала откуда-нибудь. Тут пахнет укрывательством. Если ее ищут, знаешь, какие у нас потом могут быть проблемы?
Нахожу в кухонном ящике справочник и начинаю перелистывать в поисках номера полиции. Или лучше звонить в экстренную службу? Случившееся смахивает на незаконное проникновение. Помогите, у меня в доме незнакомая девушка.
– Ей восемнадцать, – возражает Хайди.
– Откуда ты знаешь? – спрашиваю я.
– Уиллоу сама сказала, – наивно отвечает Хайди.
– Не смеши, дураку понятно, что она младше, – заверяю я. – Надо куда-нибудь позвонить.
– Крис, мы не можем так с ней поступить! – восклицает Хайди, выдергивает из моих рук тяжелый справочник и захлопывает, не замечая, что смяла несколько страниц под желтой обложкой. – Откуда мы знаем, вдруг с ней плохо обращались? – продолжает жена. – Били? Что, если она подвергалась сексуальным домогательствам? Даже если Уиллоу и правда сбежала, у нее на это была причина.
– Тогда звони в органы опеки, пусть они разбираются. Это не твоя забота.
Хотя что я говорю? Конечно же ее. Спасать всех брошенных, обиженных, притесняемых, обездоленных, несчастных – забота моей Хайди. Сразу чувствую, что в этом споре мне не победить.
– Ты про нее вообще ничего не знаешь! Вдруг она нас зарежет? – все же пускаюсь в атаку я.
Между прочим, хороший вопрос. Так и вижу сюжет в утренних новостях: «Семья из трех человек зарезана в собственной квартире в районе Линкольн-Парк».
Тут в дверях кабинета появляется эта девица и внимательно смотрит на нас. Глаза красивого цвета, голубые, вот только белки красные. Вид у нее усталый. Волосы уныло свисают, губы не улыбаются. На лбу синяк. Возможно, насчет домашнего насилия Хайди права.
– То же самое могу спросить у вас. А вдруг вы меня зарежете?
Окинув взглядом серовато-бежевые стены и потолок, она произносит.
– Он пошлет с небес и спасет меня[6]
От неожиданности у меня челюсть отвисла. На сто процентов уверен, что сейчас ворвется ведущий Питер Фант вместе с телевизионной группой. Обалдело переспрашиваю:
– Он?..
– Бог, – поясняет девушка.
Хайди смотрит на меня, будто на поганого язычника. Потом разворачивается на каблуках и направляется в ванную, объявляя:
– Уиллоу, сейчас наполню тебе ванну. Полежишь, а я пока присмотрю за Руби. Вот увидишь, переоденешься в чистое и сухое – и сразу почувствуешь себя совсем по-другому. Думаю, вещи Зои тебе будут впору. Она с радостью с тобой поделится.
Беззастенчивое вранье, думаю я. Зои одним воздухом с этой девчонкой дышать не хочет, не то что одеждой делиться. Между тем у себя в комнате дочка включает на полную громкость музыку. Поет какой-то бойз-бэнд. Хайди берет у Уиллоу ребенка, и обе направляются в ванную.
Как только дверь за ними закрывается, принимаюсь искать в ящиках чистящее средство «Лизол».
Уиллоу
Про маму теперь мало что помню. Даже фотографий нет, чтобы посмотреть на ее длинные черные волосы, смуглую кожу и красивые синие глаза. И все из-за Джозефа. Стоя посреди отведенной мне комнаты, сказал, что я не должна жить прошлым. На кровати лежало лоскутное одеяло, окна сквозили, поэтому зимой здесь всегда было холодно, а летом, наоборот, слишком жарко. Золотистые обои в цветочек отслаивались во всех углах, по каждому шву. И все-таки могу припомнить, как выглядела мама. Вспоминаю ее профиль в зеркале ванной, когда она стригла миссис Даль. Помню, как она смеялась, смотря какую-то передачу. Как загорала в старом пластиковом шезлонге на жухлой лужайке. Я тогда сидела рядом и копалась в земле, ища червяков. Помню, как мама что-то пекла на кухне, сверяясь с кулинарной книгой Джулии Чайлд, которую взяла в библиотеке. Мама еще опрокинула на себя полбанки дижонской горчицы и засмеялась.
Джозеф порвал все мамины фотографии прямо у меня перед носом. Сначала пополам, потом на мелкие кусочки – нарочно, чтобы нельзя было склеить. Заставил подобрать обрывки с пола и вынести в мусор, а мальчики стояли и смотрели. А потом велел отправляться в свою комнату и не выходить, пока не разрешит. Как будто это я устроила в комнате беспорядок.
– Сиди тихо, поняла? – приказал Джозеф. Он был мужчина высокий, ростом метр восемьдесят, у него была густая рыжая, цвета тыквы, борода и строгий ястребиный взгляд. – Проси Бога, чтобы простил тебя.
Можно подумать, любить маму – это грех. Вот почему воспоминания о ней у меня слабые, ненадежные. Тогда по ночам я лежала на кровати, укрывшись лоскутным одеялом, и пыталась вспомнить, как мама смеялась или гладила меня по волосам. Это меня успокаивало. А какая у нее форма носа? Были ли у нее веснушки? Как звучал мамин голос, когда она произносила мое имя?
– Что случилось с твоими родителями? – спрашивает Луиза Флорес.
Стаскивает темно-синий жакет, аккуратно складывает пополам, точно открытку, и кладет на стол рядом с диктофоном и секундомером. Обращаю внимание, как она худа.
– Вы ведь наверняка и сами знаете, мэм, – отвечаю я.
В углу, прикидываясь невидимкой, сидит дежурная офицер. Сказала, что пока я могу не отвечать на вопросы, если не захочу. Могу дождаться мисс Эмбер Адлер или моего адвоката. Но, живо представив разочарованный взгляд мисс Адлер, решаю все рассказать сейчас, пока она не пришла.
– Хочется услышать это от тебя, – произносит старуха, хотя знаю, что на одном из листов в лежащей перед ней папке бумаг наверняка об этом написано. И про мамин старый «датсун-блубёрд», и про аварию. Машина перевернулась на трассе 1-80, под Огаллалой. Свидетели говорили, что автомобиль вилял и ехал зигзагами. Папа потерял управление, а потом завертел руль слишком сильно, и машина перевернулась. Представляю, как автомобиль кувыркается по дороге, а мама с папой пытаются удержаться.
Мы с Лили тогда были дома одни. Когда родители уходили, за нами никто не присматривал. Заботу о Лили мама доверяла мне, хотя мне было всего восемь. Я тогда здорово навострилась – меняла ей подгузники, укладывала спать, нарезала яблоки и морковку мелкими кусочками, чтобы Лили не подавилась. Все, как учила мама. А еще всегда запирала входную дверь на задвижку и никому не открывала, даже соседке миссис Грасс, которая постоянно бегала к нам за молоком и яйцами. Мы с Лили лежали на ковре перед телевизором и смотрели «Улицу Сезам» – это была ее любимая передача. Из всех персонажей Лили особенно нравился мамонт Снаффи. При виде него она всегда смеялась. Ковер был густой, как мех у Снаффи. Лили тыкала в мамонта пальчиком и заливалась смехом.
Мама редко оставляла нас с Лили одних дома, но говорила, что взрослым иногда надо заниматься своими, взрослыми делами. То же самое мама сказала в то утро, когда они с папой сели в машину. Когда они ехали по засыпанной гравием подъездной дорожке, мама сидела, высунувшись в окно. Ее длинные черные волосы трепало ветром, поэтому лица было не разглядеть, но я слышала, как мама велела:
– Присматривай за Лили как следует.
Потом прибавила еще что-то, но я разобрала только «люблю» и «тебя». Люблю тебя, как пчелка мед. Люблю тебя, как арахисовое масло мармелад. Люблю тебя, как рыбка воду.
Мама хотела, чтобы я присмотрела за Лили. Это были ее последние слова. Такой я видела ее в последний раз – мама сидела, высунув голову из окна старого, раздолбанного «датсуна», и ветер бросал волосы ей в лицо. «Присматривай за Лили как следует». Я собиралась исполнить ее наказ, но потом потеряла и Лили тоже.
Хайди
Первой купаем Руби. Воду набираю теплую, но не горячую – у младенцев кожа нежная. Собираюсь выйти из ванной, чтобы не мешать Уиллоу, но тут девушка с усталым видом поворачивается ко мне и просит:
– Помогите, пожалуйста.
С готовностью соглашаюсь. Держу девочку в руках, а Уиллоу льет на нее воду. Невольно вспоминаю Джулиэт. Вместе с ней я потеряла не просто ребенка, а саму возможность иметь детей. Всех, которые у меня могли бы быть. Одно время часами думала про маленькую Джулиэт. Она мне даже во сне снилась. Пыталась представить, как она могла бы выглядеть. Какие у нее были бы волосы – светлые и тонкие, как у Зои? Или густые и темные, как у Криса? Его мать говорит, что родился он уже с пышной шевелюрой. По примете, женщин, дети которых появляются на свет с волосами, во время беременности мучает изжога.
Давно не позволяла себе думать о малышке Джулиэт. Но вот эти мысли снова вернулись, напоминая про всех малышей, которых у меня не будет. Едва не произнесла вслух «Джулиэт». Джулиэт Вуд. Сейчас ей исполнилось бы одиннадцать лет, и, если бы все пошло по плану, за Джулиэт последовали бы другие малыши, каждые два года новый. София, Алексис, маленький Зак.
Отвлекает меня взвизгнувшая Руби. Моя девочку, Уиллоу забрызгала все пальто. Зеленые рукава кажутся черными. Я предлагала ей снять пальто перед тем, как начнем мыть Руби, но Уиллоу отказалась. Руки ее чуть подрагивают, когда она растирает между ладонями ванильный гель для душа, моет головку Руби, подмышки, попку. Крошечные ягодицы сплошь покрыты алой сыпью. Такая же виднеется под мышками и в складочках кожи по всему тельцу. Явные признаки грибковой инфекции – красную сыпь окружает белая корка. Составляю в уме список покупок – крем от опрелостей, мазь клотримазол… Когда гель для душа попадает Руби в глаза, и она резко вскрикивает, добавляю еще один пункт – детский шампунь без слез. Запасных подгузников у Уиллоу нет, поэтому заворачиваю Руби в синее полотенце из органического хлопка, а для надежности закалываю булавку. Значит, надо купить еще подгузники и детские салфетки.
Собираюсь унести Руби из ванной, чтобы Уиллоу могла спокойно помыться, но тут она снова меня останавливает. Похоже, не хочет расставаться с ребенком ни на минуту. Не доверяет мне. Во всяком случае, пока. Впрочем, это абсолютно естественно, думаю я. Она ведь меня совсем не знает. Я ведь тоже не дала медсестре унести новорожденную Зои из палаты, хотя врач настаивал, что мне нужен отдых.
Больше всего сейчас хочется пойти с Руби в гостиную, покормить, а потом сидеть с девочкой на руках, пока не заснет. Стелю на фарфоровую плитку пола второе полотенце и кладу на него ребенка. Руби сосет собственные пальчики ног. На секунду застываю, глядя на нее как завороженная. Настоящая маленькая гимнастка!
Уиллоу запирает за мной дверь. Стою в коридоре, опершись рукой о стену. Даже дыхание перехватило. Крис сидит на кухне, за столом, и что-то яростно печатает на ноутбуке. Уже успел вставить принтер в розетку, и некрасивый черный провод тянется через всю кухню. Хочу сказать, что это опасно, но не решаюсь. Когда встречаюсь с мужем взглядом, он всем своим видом показывает, что категорически не согласен с моим решением. С мрачным видом качает головой и снова поворачивается к жидкокристаллическому экрану. Разглядывает какие-то таблицы, заполненные напечатанными мелким шрифтом цифрами. Из комнаты Зои доносятся оглушительные звуки поп-музыки. В коридоре даже фотографии на стенах дрожат. Гляжу на снимки Зои. Вот дочка сияет беззубой улыбкой, а вот, спустя несколько лет, стоит перед камерой с покрасневшим от холода носом. Зубы растут криво, потому что слишком крупные для ее челюстей. На следующих фотографиях Зои уже в брекетах. Зои всегда любила дни, когда в школу приходит фотограф, потому что тогда ученикам разрешают надеть собственные вещи, а не форму, как обычно. Когда Зои была маленькой, я решала, в чем она будет фотографироваться. На этих снимках дочка в основном одета в атласные платьица и шерстяные свитеры. На голове ободки с цветами или тюлевыми помпонами. Но годы шли, и моя малышка превратилась в подростка. По фотографиям это сразу заметно – исчезли и оборочки, и бантики, зато появились животные и графические принты, спортивные куртки, черные топики. Все эти предметы одежды ярко отражают то, какой теперь стала Зои, то есть замкнутой и вечно надутой.
Стучусь в дверь ее комнаты.
– Чего? – резко отзывается она.
Вхожу внутрь. Зои сидит на кровати с любимой желтой тетрадью в руках. Обогреватель включен, температура после нашего разговора о том, что не годится превращать спальню в духовку, понижена до двадцати четырех градусов. Но Зои все равно сидит завернувшись в одеяло и конечно же дуется. И шерстяные нарукавники натянула. Вот еще одна часть ее стиля, которой совсем не понимаю. Нарукавники черные с блестками, подарила их дочке подруга. Когда Зои в первый раз пришла в них из школы, меня по глупости угораздило спросить: «У тебя что, руки мерзнут?»
Судя по взгляду, этот вопрос только подтвердил давнее подозрение Зои, что мать отстала от жизни и ничего не понимает. Заговариваю первой и сама слышу, как испуганно звучит мой голос, – боюсь, что двенадцатилетняя дочь меня оттолкнет.
– Уиллоу не во что переодеться после ванны. Давай что-нибудь подберем, – робко произношу я, трусливо продолжая стоять в дверях.
– Издеваешься, что ли? – отвечает Зои, хватает мобильник и принимается ловко и быстро настукивать эсэмэску. Остается только догадываться, какие гадости про меня дочка отправляет Тейлор.
– Прекрати! – восклицаю я и, запрыгнув на кровать, тянусь за телефоном. Выхватываю мобильник у дочки из рук и вижу на дисплее какие-то загадочные аббревиатуры. Что все это значит – понятия не имею. Например, что такое J2LYK[7]?
– Это мое! – возмущенно восклицает Зои и порывается отобрать у меня мобильник.
Но я напоминаю:
– Учти, деньги тебе на телефон кладем мы с папой.
Продолжая держать в руке мобильник, встаю с кровати. Мы договорились – Зои разрешено пользоваться мобильным телефоном только в том случае, если мы с Крисом будем просматривать список звонков и эсэмэски. На всякий случай.
Выражение лица у Зои как у обиженного малыша, которого только что отшлепали.
– Отдай, – требует она, устремив на меня взгляд огромных карих глаз. Они такие большие, что взгляд всегда кажется грустным. Зои вытягивает руку. На предплечье снова что-то нарисовано. До чего хочется вернуть телефон! Я ведь не собиралась ее злить. Но Зои просто пылает от негодования. Должно быть, сейчас она меня просто ненавидит. Кто сказал, что быть матерью легко?..
Скучаю по тем дням, когда сидела в старом кресле-качалке с маленькой Зои на руках и смотрела в окно. Сиденье было мягкое и пушистое, ручки украшены резьбой. Укачивала дочку, пока та не засыпала, а потом еще долго сидела с ней на руках, пока не заканчивала играть запись с колыбельными песнями, а солнце не садилось.
Смотрю в окно спальни Зои на затянутое тучами небо. Благодаря тому, что живем мы на пятом этаже, поверх крыш более низких зданий видно Луп. Вот почему мы с Крисом буквально влюбились в эту квартиру четырнадцать лет назад и решили, что покупать будем только ее. Вид просто потрясающий. С южной стороны Луп, с восточной – кусочек озера Мичиган. Даже торговаться не стали – заплатили ровно ту цену, которую просили. Слишком боялись, что квартира достанется кому-нибудь другому.
– Не надо никому рассказывать про Уиллоу, – спокойным, ровном тоном произношу я. – Во всяком случае, пока.
– По-твоему, я должна врать лучшей подруге? – возмущается Зои.
Мысленно отвечаю – «вот именно». Однако отвечаю по-другому:
– Я же сказала – никому.
– Почему? Она что, прячется? Типа программа по защите свидетелей? – спрашивает Зои тоном, который удается только двенадцатилетним.
Игнорирую вопрос и спрашиваю:
– Ну так что насчет вещей для Уиллоу?
С видом несчастной жертвы Зои встает с кровати и нехотя направляется в гардеробную. Сзади замечаю, что брюки почти висят у нее на бедрах.
– Это временная мера, – срывается у меня с языка. – И вообще, скоро пойдем и купим тебе что-нибудь новенькое.
Жалкая попытка к примирению.
Тоном, исполненным горечи и соблазна, Зои произносит:
– Кто она вообще такая? Одна из твоих клиенток?
– Не совсем, – отвечаю я. Ничего удивительного, что дочке сразу пришла в голову именно эта мысль. Я ведь постоянно рассказываю домашним истории о бездомных, безграмотных людях, с которыми встречаюсь каждый день.
– Зои, Уиллоу нужна наша помощь.
Надеюсь, что заставить ее подумать о долге помогать ближнему будет проще, чем Криса. Когда Зои была маленькой, мы с ней пробирались через глубокие сугробы, чтобы отнести курточки, из которых дочка выросла, в приют для женщин с детьми. Еще отдавали игрушки и книги в детскую больницу, где лечили малышей с лейкемией, лимфомой и другими страшными формами рака. Ни один ребенок не заслуживает таких страданий. Постоянно напоминала Зои о тех, кому посчастливилось меньше, чем нам, и кому мы обязательно должны помогать. Зои сдергивает с вешалки ярко-розовые спортивные штаны и рубашку в фиолетовую и светло-серую полоску. Швыряет вещи мне в протянутые руки и бормочет:
– Все равно они мне не нравятся.
Вижу, потребность заботиться о ближних сменилась только ехидством и сарказмом.
– Они некрасивые, – прибавляет Зои.
– Это временно, – снова бормочу я, отступая из комнаты.
Когда иду по коридору, Крис поднимает голову от ноутбука и опять качает головой. Кладу одежду на диван и остаюсь ждать в коридоре. Скоро Уиллоу выходит из заполненной паром ванной, завернувшись в синее полотенце. В мокрых руках она держит Руби. На цыпочках заходит в кабинет и закрывает дверь. Щелкает замок.
Отправляюсь в ванную и, собрав с пола грязную одежду, бросаю в пустую корзину для белья. Сверху стоят стиральный порошок и пятновыводитель, рядом лежат полотенца. На кухне достаю кошелек, в который складываю мелкую сдачу, и говорю Крису, что скоро вернусь. Преодолев шесть лестничных маршей, бегу в нашу домовую прачечную. Находится она в подвале. Прежде чем успеваю выскочить за порог, Крис спрашивает:
– Ну, и что мне с ней делать?
– Вернусь через пять минут, – выпаливаю я, хотя понимаю, что муж имел в виду совсем другое. Убегаю, прежде чем Крис успевает возразить.
Прачечная пуста. Помещение маленькое, на полу старый паркет. Вдоль стены стоят пять стиральных машин и столько же сушилок. И те и другие работают так себе, явно не оправдывая тех денег, которые приходится в них забрасывать. Кладу комбинезончик Руби с надписью «Сестренка» на стиральную машину и обрабатываю грязь пятновыводителем. Потом беру давно не стиранное розовое одеяльце. Следом выуживаю из корзины одежду Уиллоу. Пальто, которое застегиваю перед тем, как положить в машину. Джинсы. От них комбинезончик может окраситься в синий, поэтому откладываю штаны в сторону. Постираю в другой машине. Потом выдергиваю из-под свитера когда-то белую майку. И застываю. Приглядываюсь внимательнее, надеясь, что многочисленные пятнышки крови просто мне померещились из-за слабого освещения. Впрочем, это может быть не кровь, а что угодно. Например, брызги кетчупа, или соуса, или вишневого сока. Нюхаю майку, надеясь учуять запах томатной пасты или вустерского соуса. Однако пахнет немытым телом. И кровью. Принимаюсь снова осматривать вещи Уиллоу – потертые джинсы, свитер с распущенными петлями, комбинезончик Руби. Все вещи одинаково грязные, но больше ни на одной не видно брызг засохшей крови. Схватив пятновыводитель, принимаюсь жать на бутылку со всей силы, но потом замираю, сообразив, что засохшую кровь так просто не отстираешь. Скомкав майку, поднимаюсь с ней наверх и по пути выбрасываю в мусоропровод. Представляю, как эта вещь падает с высоты пяти этажей в мусорный бак возле черного хода, унося с собой свои секреты.
Нет, об этом Крис узнать не должен ни в коем случае.
Уиллоу
Мама рассказывала, что у нее есть сестра Аннабет, но, если это и была правда, никакая тетя или другая родственница нас с Лили не забрала.
– Как ты попала к Джозефу и Мириам? – спрашивает Луиза Флорес.
Когда я спросила, какая у нее должность, она ответила – помощник главного прокурора. Часы на стене показывают 14:37. Опускаю голову на холодный металлический стол в кабинете, где проводят допросы, и закрываю глаза.
– Клэр! – окликает меня эта суровая женщина.
Берет меня за руку и резко встряхивает. Луиза Флорес уже предупреждала, что никакие мои уловки на нее не подействуют. Отдергиваю руки и прячу под стол, чтобы она не могла дотянуться.
– Я есть хочу, – говорю я.
Не помню, когда в последний раз ела. Но перед тем как меня поймали копы, рылась в мусорном баке. Нашла половину хотдога – холодного, с соленым огурцом, соусом и горчицей. Горчица загустела, на булке виднелись следы помады. Но взяли меня, конечно, не там, а посреди Мичиган-авеню. Я стояла и любовалась витриной магазина «Прада».
– Поешь, когда договорим, – отрезает Луиза Флорес. Руки у нее старческие – морщинистые, все в выпирающих венах. В палец врезается золотое обручальное кольцо. Кожа на руках и подбородке отвисла.
Поднимаю голову и, глядя в эти серые глаза за прямоугольными очками, повторяю:
– Я есть хочу.
Потом снова роняю голову на стол и закрываю глаза. Повисает пауза. Затем Луиза Флорес велит мужчине в углу купить мне что-нибудь поесть. Со звоном кидает монеты на металлический стол. Дожидаюсь, когда мужчина уйдет, и прибавляю:
– И пить тоже.
Решаю не поднимать головы, пока не принесут еду. Но Луиза Флорес опять начинает задавать вопросы, которые старательно игнорирую.
– Как ты попала к Джозефу и Мириам?
И:
– Расскажи про Джозефа. Он ведь преподаватель?
Да. Преподавал. Вот почему, когда они с Мириам пришли и объявили себя дальними родственниками папы, социальная работница была в полном восторге. Джозеф и Мириам с двумя сыновьями, Мэттью и Айзеком, жили в Элкхорне, штат Небраска. Совсем рядом с Омахой, самым большим городом в Небраске. Дом у них был хороший, намного лучше сборного, где мы жили в Огаллале. Старинный, в два этажа, с тремя спальнями и большими окнами, выходившими на окружавшие дом холмы. Рядом находились парк и бейсбольное поле, но я там ни разу не была. Только слышала, как о них говорили соседские дети, катавшиеся по улице на велосипедах или кричавшие приятелям, чтобы захватили биту для игры. Но Джозеф запрещал играть с этими детьми. Мне вообще играть не разрешалось. Целыми днями я занималась хозяйством, заботилась о Мириам и скучала по маме с папой. В остальное время глядела в окно, на детей и старалась придумать как можно больше фраз, начинавшихся с «люблю тебя, как». «Люблю тебя, как корица сахар», «Люблю тебя, как дети игрушки».
К тому времени как объявились Джозеф и Мириам, Лили уже забрали. В приюте она провела всего три недели. Когда мама с папой погибли, нас отправили в специальный интернат для сирот. Я тогда и слова такого не знала – «интернат». Учреждение было маленькое: всего там жили восемь детей и множество постоянно сменявших друг друга взрослых. Интернат был семейного типа, поэтому одна пара, Том и Энн, проживала там постоянно. Остальные надолго не задерживались. К каждому ребенку был прикреплен социальный работник. Еще были учителя и какой-то мужчина, который постоянно привязывался ко мне с вопросами: «Расскажи, почему ты грустишь, Клэр. Расскажи, что ты чувствовала, когда погибли твои родители».
Оглядываясь назад, понимаю, что в приюте было не так уж и плохо. Когда пожила с Джозефом и Мириам, он стал казаться почти дворцом. Но для восьмилетней девочки, которая только что осиротела, хуже места нельзя было и вообразить. В приюте не нравилось никому, и особенно мне. Некоторые дети обижали других. Остальные все время плакали. Этих ребят забрали у родителей, или те сами их отдали, а иногда и попросту бросили на произвол судьбы. В приюте нам с Лили почти завидовали потому, что наши родители умерли – по крайней мере, мы были желанными детьми, и нас любили.
Лили удочерили, что для сироты считается величайшим счастьем. Сирота. Вчера я была просто маленькой девочкой из Огаллалы, а сегодня превратилась в сироту. Это короткое слово означало очень многое. Из-за него люди глядели на меня с жалостью. Обращали внимание на дешевую, поношенную одежду, которая была мне мала. Вещи нам присылала благотворительная организация. Родители жертвовали одежду, из которой их дети выросли. Узнав, что ты сирота, люди кивали с таким видом, будто хотели сказать: «Ну, тогда все понятно».
Сиротство объясняло все – мой печальный взгляд, вспыльчивость, привычку подолгу сидеть в углу и плакать.
Лили удочерили Пол и – представьте себе! – Лили Зигер. Забрали мою малышку Лили. Она была хорошенькая, милая девочка с кудряшками – черными, совсем как у мамы. Пухленькие кулачки, столько раз сжимавшие мой палец, круглые щечки и невинная улыбка. Мама велела за ней присмотреть. Я подслушивала разговоры Пола и Лили с социальной работницей. Говорили про совпадение с именами – мол, это судьба.
– Конечно, мы ее будем звать как-нибудь по-другому, – заявила Лили-старшая, красивая блондинка, вся в украшениях из бирюзы. Тон она использовала такой, будто речь шла о кличке собаки. – А то запутаться можно.
Социальная работница охотно соглашалась:
– Да, конечно.
Я закатила истерику. Подняла крик. Имя для Лили выбирала мама, и эти люди не имеют права его менять. Я схватила Лили и побежала через весь дом к черному ходу, отчаянно ища укрытие, где можно спрятаться. Кинулась к лесу, но с ребенком на руках бежать тяжело, и меня быстро догнали и вернули. Энн отняла у меня Лили и сказала:
– Тут уж ничего не поделаешь.
А ее муж Том принялся меня ругать:
– Зачем напугала малышку?
Лили плакала и тянула ко мне пухлые ручки, но Энн унесла ее. Том держал меня изо всех сил, а я вырывалась, лягалась и, кажется, даже укусила его. Помню, что Том вскрикнул, а потом сразу выпустил меня. Я ворвалась в дом и принялась везде искать маленькую сестренку.
– Лили! Лили! – кричала я, заливаясь слезами. Повторяла до изнеможения. Врывалась в спальни других детей, в занятые туалеты. А потом увидела в окно отъезжающий серебристый фургон.
Это был первый из последних трех раз, когда я видела сестру. Ей дали другое имя – Роз. Потом я поняла, что Зигеры вообще-то люди неплохие. Но когда ты восьмилетний ребенок, у которого недавно погибли родители, а потом вдобавок забрали сестру, начинаешь ненавидеть всех вокруг. Именно так со мной и было. Я возненавидела всех и каждого.
– Расскажи про Джозефа, – настаивает Луиза Флорес.
– Не хочу про него говорить, – отбиваюсь я. Поворачиваю голову так, чтобы щека лежала на столе. Так не видно лица Луизы Флорес. Спрашиваю: – Как вы нас нашли?
Принимаюсь ковырять коросту на руке. Показывается кровь.
– Как нашли? – повторяет за мной старуха.
Краем глаза замечаю, как она усмехается. Сразу ясно, что я ей не нравлюсь. Очень сильно не нравлюсь.
– Тупо повезло, – отвечает Луиза Флорес. Судя по интонации, она имеет в виду, что речь идет о моей тупости. – А насчет ребенка нам подсказали.
– Подсказали? – переспрашиваю я, сразу вскидывая голову. Во взгляде Луизы Флорес читается удовлетворение. Понятно, о чем она сейчас думает: «А ты ведь и правда тупа, как пробка».
– Да, Клэр. Нам позвонил один человек…
Перебиваю:
– Кто?
– …человек, пожелавший остаться анонимным, – договаривает Луиза Флорес.
– Но зачем? Почему?.. – вслух произношу я. Впрочем, долго гадать не приходится. Ответ нахожу сразу. Это мог быть только один человек. Он меня с самого начала невзлюбил, это уж точно. Я подслушала, как за стеной они говорили обо мне. Ругались, ссорились. Думали, я не слышу.
– Расскажи про Джозефа, – не сдается Луиза Флорес.
– Я уже сказала – не хочу говорить о Джозефе.
– Тогда про Мириам. Про нее ты говорить согласна?
– А про нее и рассказывать нечего.
Моя дешевая сумка соскальзывает на пол, но подбирать ее не собираюсь.
Луиза Флорес с невозмутимым видом осведомляется:
– В каком смысле?
– В прямом.
Лучше и не скажешь. Мириам была пустым местом. Мне она не нравилась, но все-таки я ее немножко жалела. Роста она была маленького, меньше метра пятидесяти. Волосы седые, мышиного серого цвета. Кожа неровная, вся в морщинах. Мириам целыми днями сидела в своей комнате. Мне и двух слов не сказала. Разговаривала только с Джозефом.
Но когда они с Мэттью и Айзеком приехали в приют меня забирать, Мириам выглядела совсем по-другому. В тот день Джозеф нарядил ее в симпатичное хлопковое платье с короткими рукавами и V-образным вырезом, а пояс был завязан пышным бантом. Мэттью с Айзеком были одеты в белоснежные рубашки и отглаженные брюки. Даже Джозеф выглядел очень элегантно в полосатой рубашке и галстуке. Взгляд у него был добрый. Таким я его видела в первый и последний раз. Проследил, чтобы Мириам приняла таблетки и накрасила губы. Велел ей улыбаться каждый раз, когда легонько подтолкнет ее в бок. По крайней мере, думаю, что так и было, потому что с тех пор ни разу не видела Мириам улыбающейся. В любом случае впечатление на социальную работницу они произвели хорошее. Та решила, что отдать меня Джозефу и Мириам – идеальный вариант. Рассуждала про то, какая это огромная удача и счастье. Скорее наоборот – неудача и несчастье. Социальная работница клялась, что Джозеф и Мириам прошли все проверки и посещали специальные занятия для тех, кто хочет взять под опеку ребенка. Вдобавок у них есть свои дети. Джозеф с Мириам благополучно получили лицензию. «Ты вытащила счастливый билет», – говорила социальная работница.
Никто не спрашивал, хочу я жить с Джозефом и Мириам или нет. Мне тогда было девять лет. Никого не волновало, чего я хочу. По всеобщему мнению, я должна была радоваться, что меня забирают из приюта, что не придется оставаться там до восемнадцати лет. Семья у Джозефа и Мириам была полная и даже довольно большая – считалось, что это тоже плюс. Хотя трудно сказать. Но социальная работница говорила, что у нее есть убедительное доказательство их благонадежности – документы. Потом она усадила меня на стул, посмотрела в глаза и произнесла:
– Пойми, Клэр, ты ведь взрослеешь, становишься старше. Может быть, это твой единственный шанс попасть в семью.
Но у меня была семья – мама, папа, Лили. Другой мне было не надо.
Лили удочерили сразу же, потому что ей было всего два года. Бесплодные пары вроде Пола и Лили Зигер присматривают как раз таких детей – младенцев или, если не получится, малышей лет двух-трех. Лили едва помнила родителей, а со временем и вовсе начисто их забудет. Будет считать себя дочкой Пола и Лили.
Но «взрослая» девятилетняя девица никому не нужна. А десятилетняя или одиннадцатилетняя подавно. Надо торопиться, сказала мисс Эмбер Адлер, социальная работница.
Я собрала немногочисленные вещи, которые мне позволили взять с собой. Одежду, книги, фотографии мамы, которые Джозеф потом порвет.
– Про Джозефа тебе тоже сказать нечего?
Я подумала о нем. Джозеф был высоченный, здоровый, со зловещим хищным взглядом и римским профилем. Рыжие волосы были подстрижены совсем коротко, как у военного. Борода топорщилась во все стороны. Ночами я не спала и, лежа в постели, в страхе прислушивалась: вдруг сейчас заскрипят деревянные половицы и за дверью раздадутся его шаги? Когда Джозеф ложился ко мне в кровать, колючая борода задевала мое лицо.
– Нет, – сказала я, глядя старухе прямо в глаза. – Нет, мэм. Страшнее Джозефа человека нет.
Хайди
Мысли про кровь на майке не выходят из головы. По пути из прачечной прохожу мимо соседа, Грэма. Я настолько встревоженна и растерянна, что, когда он своим обычным жизнерадостным тоном объявил: «Хорошеешь с каждой встречей!», пришлось просить, чтобы повторил.
– Что? – переспрашиваю я, и Грэм смеется.
Только тут обращаю внимание, что до сих пор одета в халат. Волосы растрепаны, вдобавок душ так и не приняла. К тому же голова немного кружится. Не мешает подкрепиться. Опираюсь неверной рукой о стену. Грэм подходит ко мне вплотную, не заботясь о таких мелочах, как личное пространство. Выглядит сосед, как всегда, безупречно. Одет в пуловер с молнией на вороте, темные джинсы и кожаные лоферы.
Но, хотя знаю, что видок у меня жуткий, уверена в искренности Грэма. По взгляду сразу видно – сосед и впрямь считает меня красивой. Игриво берет под руку и приглашает на вечеринку – в кафе «Спьяга» будут отмечать чью-то помолвку. Трудно представить, чтобы Грэму не с кем было пойти на праздник. Соседа всегда сопровождает очередная красавица-блондинка в маленьком черном платье и в туфлях на высоких каблуках.
Руки у меня дрожат. Заметив это, Грэм спрашивает, что случилось. Отчаянно хочется прижаться к нему, зарыться лицом в серый пуловер и рассказать про все. Про девушку, про ребенка, про кровь. Во взгляде Грэма читается искренняя тревога. Между бровей пролегла морщинка. Сосед не сводит с меня глаз, пытаясь понять, о чем я недоговариваю. Приходится отвести взгляд.
Грэм чувствует, что Хайди Вуд, у которой всегда все под контролем, угодила в неприятную ситуацию.
– Все нормально, – вру я.
Думаю то про кровь, то про грибковую инфекцию у малышки, то про Криса. Муж считает, что я не должна была помогать несчастному ребенку. А еще я впервые за много лет снова подумала про маленькую Джулиэт.
Но Грэм так просто не сдается. Другой бы просто кивнул и сменил тему. А сосед пристально вглядывается в мое лицо, пока не изображаю улыбку и не говорю, что у нас и правда все нормально. Через некоторое время Грэм понимает – пытаться что-то из меня вытянуть бесполезно.
– Тогда пошли со мной, – приглашает он и тянет меня за руку.
Невольно начинаю передвигать ногами по ковровому покрытию. Смеюсь. Грэму всегда удается меня насмешить.
– Я бы с удовольствием, сам знаешь, – отвечаю я.
– Ну так за чем дело стало? Пожалуйста! Вечеринка будет скучнейшая. Я ведь терпеть не могу всю эту пустую болтовню! – уговаривает Грэм.
Но мне прекрасно известно, что сосед кривит душой.
– Грэм, не могу же я пойти на вечеринку в халате.
– По пути заскочим в Трайбеку, купим что-нибудь роскошное.
– Сто лет ничего роскошного не надевала.
– Ну хорошо, тогда практичное и симпатичное, – делает уступку Грэм.
Но идея роскошно нарядиться и прикинуться его подружкой начинает мне нравиться. Невольно задумываюсь, почему у Грэма до сих пор нет ни жены, ни постоянной девушки. Вдруг Крис прав, и он все-таки гей? Неужели все эти красотки – просто прикрытие?
– Сам понимаешь, не получится, – говорю я.
Грэм делает такое лицо, будто я ранила его в самое сердце, прощается и направляется к лестнице в одиночестве.
Остановившись перед дверью, позволяю себе немного помечтать. Вот я в роскошном наряде, купленном в Трайбеке, ужинаю с Грэмом в кафе «Спьяга». Вот иду, опираясь на руку своего эффектного кавалера. Но, увы, все это лишь фантазии.
Захожу в кабинет. Уиллоу сидит на краю разложенного дивана и держит на руках ребенка. Она уже переоделась в вещи Зои, а полотенце, должно быть, отнесла обратно в ванную.
– Где моя одежда? – испуганным, дрожащим голосом спрашивает Уиллоу. – Куда вы ее отнесли? Я не…
Во взгляде тоже страх, и ребенка она укачивает резкими, нервными движениями.
– Твоя одежда в прачечной, скоро постирается, – перебиваю я, глядя в испуганные голубые глаза с опухшими веками. – Там были пятна, – прибавляю я тихо и торопливо, чтобы Крис не услышал из кухни. Внимательно смотрю на Уиллоу, надеясь, что сейчас она сама объяснит, откуда взялась кровь. Только бы не пришлось спрашивать ее об этом напрямую. Меньше всего хочу выгонять Уиллоу с ребенком на улицу, но, если ее пребывание в нашем доме может представлять опасность для моей семьи, для моей дочери, ей придется уйти. Знай про брызги крови Крис, давно бы уже выставил Уиллоу за порог.
Стою, устремив на нее умоляющий взгляд. Ну же, давай, расскажи какую-нибудь безобидную историю…
– Кровь из носа шла, – наконец произносит Уиллоу, прерывая мои размышления. – Со мной бывает.
Девушка смотрит в пол. Так часто делают люди, которые нервничают. Или врут.
– Платка с собой не было, вытереть было нечем, – продолжает Уиллоу. – Только майкой.
Что ж, вполне возможно – холодный весенний воздух воздействует на слизистые оболочки, и начинается кровотечение.
– Значит, кровь из носа шла? – переспрашиваю я.
Уиллоу робко кивает.
– Хорошо, – киваю я. – Тогда понятно.
И выхожу из комнаты.
Уиллоу
Мэттью как-то сказал, что Джозеф раньше собирался поступить в семинарию и стать католическим священником. Было это давно, еще до того, как он женился на Мириам. Но потом Мириам залетела, и с мечтой о сане пришлось распрощаться.
– Залетела? – растерянно переспрашиваю я. Мне тогда было лет десять – одиннадцать. Что такое секс, знала. Спасибо Джозефу – научил. Впрочем, сам он никогда не говорил вслух о том, что делал со мной, заходя ночью в мою комнату, прижав меня к кровати и зажав рот мокрой от пота ладонью, чтобы не кричала. Но я не думала, что от этого могут появиться дети.
– Ага, – пожал плечами Мэттью. Он был на целых шесть лет старше и знал много такого, чего не знала я. – В смысле – забеременела.
– А-а, – протянула я, хотя не понимала, какое отношение беременность Мириам имела к тому, что Джозеф так и не стал католическим священником.
Мэттью только глаза закатил.
Но этот разговор произошел гораздо, гораздо позже.
Сначала и Мэттью, и его брат Айзек со мной не общались. Джозеф запретил. Не велел им со мной разговаривать и даже смотреть в мою сторону. Как и мне, Мэттью и Айзеку запрещено было больше, чем позволено. Братьям нельзя было смотреть телевизор, играть в мяч, кататься на велосипедах с соседскими детьми, читать книги – точнее, все, кроме Библии. А когда Мэттью и Айзеку задавали что-нибудь прочесть по школьной программе, Джозеф неодобрительно брал книгу в руки и говорил, что она богохульная.
Мама с папой религиозностью не отличались. О Боге говорили только – как я потом узнала – всуе. В церковь мы не ходили. Впрочем, висела в доме одна картина с Иисусом. Мама говорила, что она принадлежала ее родителям. Висела картина на кухне, и главное ее предназначение состояло в том, чтобы прикрывать испорченный участок стены, куда я случайно попала мячом, – играли с папой в доме. Кто такой этот мужчина на картине, долго не знала – если бы спросили, могла бы заявить, что это президент Соединенных Штатов. Или дедушка. Про картину мы никогда не говорили. Она просто висела на стене, и все.
– Говоришь, опекун тебя насиловал? – спрашивает Луиза Флорес, хотя по глазам вижу – ни слову не верит. – Ты рассказывала об этом социальной работнице?
– Нет, мэм.
– Почему? Она ведь время от времени проверяла, как ты там, приносила письма от Пола и Лили Зигер…
Пожимаю плечами:
– Да, мэм.
– Тогда почему ты ей не пожаловалась?
Смотрю на зарешеченное окно, но оно находится слишком высоко, чтобы увидеть улицу. Только клочок голубого неба и белых пушистых облаков. Ни парковки, ни машин, ни деревьев отсюда не видно.
Социальная работница была нормальная женщина. К ней я ненависти не испытывала. Ездила мисс Эмбер Адлер на старой раздолбанной машине и возила с собой кучу папок в потрепанной сумке «Найк». Сколько ей было лет, точно не знаю – может, тридцать, а может, сорок. Из-за тяжелой сумки спина у нее все время была сгорбленная, будто у старушки с остеопорозом. Мисс Эмбер Адлер часто работала из машины, все бумаги возила на заднем сиденье. Моталась из интернатов в дома опекунов и обратно, встречалась со своими многочисленными подопечными. Кабинет у нее, кажется, где-то был, но мисс Эмбер Адлер туда заглядывала редко. Женщина была достаточно приятная, но вечно замороченная – все время повторяла, что у нее «дел по горло». Обращалась ко мне то «Кларисса», то «Клэрис». Говорила моя социальная работница быстро, движения у нее были резкие. Главная ее задача состояла в том, чтобы поскорее разобраться с делами.
Мой переезд к Джозефу и Мириам для мисс Эмбер Адлер означал всего лишь еще одну галочку в списке ее дел.
– Видишь ли, Клэр, я изучила твое личное дело. Там написано, что дом регулярно посещала социальная работница, но о том, что Джозеф тебя якобы насиловал, ты ни разу не упомянула. Зато… – Луиза Флорес нагибается и достает из стоящего у ног портфеля толстую зеленую папку. Начинает перелистывать страницы, открывая личное дело в тех местах, где наклеила желтые стикеры. – Зато тут более чем достаточно записей о твоем трудном характере, вспыльчивости, непослушании, уклонении от домашних обязанностей, нарушении правил, отсутствии уважения к старшим и плохой успеваемости. – Луиза Флорес сидит неподвижно, точно в засаде, и пристально смотрит на меня через стол. Потом прибавляет: – А также о склонности приврать.
Через месяц после того, как меня привезли в дом под Омахой, Джозеф в первый раз наведался в мою спальню. Сначала просто хотел посмотреть на то, на что, по моему мнению, глядеть не имел никакого права. Потом стал трогать, хотя мне это совсем не нравилось. Когда я сказала, что не хочу раздеваться, торопливо раздевавшийся Джозеф, стараясь говорить ласковым тоном, ответил:
– Не будь дурочкой, Клэр. Я теперь твой папа, а папе на тебя смотреть можно.
Пришлось стянуть ночную рубашку, а Джозеф смотрел. Давно так не пугалась. С первого класса, когда Айви Дун подговорила меня вызывать призрак Кровавой Мэри из зеркала в ванной.
В первый месяц Мириам из своей комнаты выходила редко. Целый день ходила в одной и той же грязной ночной рубашке и не мылась, пока от нее не начинало вонять на весь дом. Со мной и сыновьями почти не разговаривала, общалась только с Джозефом, да и то лишь затем, чтобы попросить за что-то прощения. Бухалась на колени, рыдала, целовала его ноги и умоляла: «Джозеф, прости меня, пожалуйста». Джозеф отпихивал ее ногой и шел себе дальше. Говорил, что она жалкая, никчемная, омерзительная. Как-то, разъярившись, грозил, что выкинет в окно, и пусть ее бродячие собаки сожрут.
– Ну, что скажешь? – интересуется Луиза Флорес. Ждет, что объясню свое плохое поведение.
Джозеф говорил, что мне никто не поверит. Его слово будет против моего, и все решат, что я вру. И вообще, он не делает ничего такого, чего не должен делать хороший папа.
– Нет, – бормочу я.
Луиза Флорес закатывает глаза, захлопывает папку и велит:
– Ну давай, расскажи про эти… изнасилования.
Когда плохо себя вела, Джозеф в наказание сажал меня переписывать строчки из Библии, слово за словом, пока руку не сводило и мышцы не начинало жечь. Карандаш дрожал в пальцах. Так я узнала про финикийскую царицу Иезавель, которую выбросили из окна за то, что убила Божьего пророка. Кровь ее забрызгала стену, ее растоптали всадники и растерзали собаки. Остались только череп, ноги и кисти рук.
Мэттью и Айзек ходили в школу, а мы с Мириам оставались дома одни. Если кто-то стучал в дверь, открывать запрещалось. Надо было сидеть тихо, чтобы казалось, будто в коттедже никого нет. Джозеф говорил, что дверь нельзя открывать ни в коем случае, потому что могут прийти плохие люди и сделать мне что-то плохое. Даже приближаться к двери боялась. В доме было темно, занавески все время задернуты – точнее, везде, кроме моей спальни. Смотрела в окно, как Мэттью и Айзек идут по улице, где мы жили, мимо мальчишек на велосипедах, болтавших про бейсбол и футбол, мимо маленьких девочек с косичками, рисовавших мелками на асфальте целые картины. Некоторые ребята кричали Мэттью и Айзеку вслед обидные прозвища. В округе их считали белыми воронами, потому что мальчики не ездили на велосипедах и не умели играть в мяч. Друзей у них не было, а если кто-то из ребят стучал в дверь, желая пригласить их в компанию, надо было сидеть очень тихо и притворяться, будто нас нет дома. Постепенно ребята заходить перестали. Вместо этого начали обзывать Мэттью и Айзека на автобусной остановке, толкать, пихать их, бросать им в голову крепко скатанные снежки.
Когда по ночам я плакала по маме и папе и мне было грустно, одиноко и страшно, Джозеф заходил в мою спальню и говорил, что будет мне хорошим отцом. Тогда я ему верила. Те же слова он повторял, наваливаясь на меня всей потной массой поверх лоскутного одеяла. Говорил, что это должны делать все хорошие отцы. Рассказывал, будто такова была предсмертная просьба моих родителей – чтобы они с Мириам забрали меня к себе. Этого хотели папа и мама. А еще угрожал, что если буду упрямиться, Лили придется плохо. Каждый раз, когда раздевалась слишком медленно, спрашивал:
– Ты ведь не хочешь, чтобы с Лили случилось что-нибудь плохое?
Все время думала про Лили. Как она там? Это что, тоже было предсмертное желание мамы и папы – чтобы Лили взяли к себе Зигеры? Но даже тогда подозревала, что Джозеф все врет.
К тому времени Лили исполнилось три года. Единственными папой и мамой для нее были Пол и Лили-старшая. А тех, кто похоронен в двух одинаковых сосновых гробах на кладбище в Огаллале возле Пятой улицы, под полузасохшим кленом, Лили даже не помнила. Вместе с мисс Эмбер Адлер я наблюдала, как эти гробы опускали в землю. Потом мне это во сне снилось. С кладбища мисс Эмбер Адлер сразу отвезла нас на своей раздолбанной машине в интернат. Мне снилось, как их руки, от которых остались только кости, пытаются пробиться через деревянные стенки и дотянуться одна до другой.
Крис
Смотрю, как Хайди жарит в масле курицу, морковь, горох и зелень. Все это лежит в сковороде. Вот жена добавляет сливочное масло, лук, куриный бульон из банки. Радуюсь удаче – настоящее мясо, а не вегетарианское! Наконец Хайди ставит пирог запекаться в духовку. На меня старается не смотреть. Когда все же встречаемся взглядами, повторяет:
– Девочке нужна наша помощь.
Похоже, это ее новый девиз. Ставлю ноутбук и принтер на пол, чтобы можно было поесть. Причем делаю это насколько могу демонстративно – пусть Хайди видит, сколько неудобств доставила мужу. Хайди игнорирует мои оханья, когда поднимаю тяжелый принтер, и стук, с которым почти роняю его на пол. Нога запутывается в проводе. Бормочу «черт» и едва не падаю. Но Хайди и это нипочем. Душ так и не приняла, по-прежнему одета в сиреневый халат, а волосы собраны в растрепанный узел. На носу очки. Когда Хайди достает из кухонных шкафчиков тарелки, руки чуть подрагивают. Зои у себя в комнате, все еще слушает бойз-бенд и, вне всякого сомнения, фантазирует, как хорошо живется без родителей. Даже не догадывается, что из-за фокусов Хайди нас запросто могут лишить родительских прав. Причина за стеной, отдыхает по совету Хайди. Время от времени доносится воркование ребенка, которому дали тайленол, чтобы снизить жар.
– Ты дрожишь, – замечаю я.
Нахмурившись, Хайди отвечает:
– Весь день не ела.
Но подозреваю, что это не единственная причина. На столешнице лежит телефон Хайди, а рядом с ним – конфискованный мобильник Зои. Хайди кто-то звонит, она берет телефон, глядит на дисплей и кладет его обратно.
– Кто там, ошиблись? – спрашиваю я, потягиваясь. Все-таки принтер и впрямь тяжелый.
– Да так, реклама, – отвечает Хайди.
Но когда жена идет звать Зои и Уиллоу к столу, украдкой гляжу на телефон. Звонила Дженнифер Марк – уже во второй раз. И оставила два голосовых сообщения.
Усаживаемся за стол, как одна большая счастливая семья. Ребенка держит Хайди. Уиллоу – Хайди со всей силой пинает меня по ноге, когда по ошибке называю ее Уилмой, – набрасывается на угощение так, будто не ела неделю. На меня не смотрит, зато время от времени косится на Хайди. Села от меня как можно дальше, будто чем-то опасным заразиться боится. Интересно, Уиллоу всех мужчин терпеть не может, или это только мне повезло? При каждом моем резком движении вздрагивает. Стоит отодвинуть стул от стола или пойти за молоком, сразу напрягается.
Хайди глаз не сводит со спящего младенца. На губах играет улыбка. Жена всегда мечтала иметь много детей. Интересно, как бы мы тогда жили? Хайди хотела завести пять-шесть ребятишек, а может, и больше. Но сам я был не уверен. Детей, конечно, хотел. Но подозревал, что обзаводиться такой оравой для меня чересчур. Впрочем, она ни разу не спрашивала моего мнения по этому поводу. А прежде чем начал всерьез обдумывать такую перспективу, врач поставил диагноз, изменивший нашу жизнь. Дети перестали быть проблемой. Проблемой стало выживание моей жены.
И все же время от времени думаю, как бы мы жили, будь у Зои братик или сестренка. Неужели тогда у нас были бы такие же напряженные, неловкие семейные ужины, когда все молчат, и только слышно, как мы едим? Возможно, тогда за столом было бы весело. Дети дурачились бы, дергали друг друга за волосы, дразнились, а не сидели насупившись, как наша единственная дочка. Про единственных детей говорят, что из-за отсутствия братьев и сестер они растут эгоистичными и неуживчивыми. Как раз про нашу Зои. Наблюдаю, как дочка краешком глаза поглядывает на Уиллоу. Интересно, что сейчас выражает ее лицо? Злость? Зависть? Что-то еще? Что-то совсем другое?
Зои сидит за столом, завернувшись в серое одеяло. Дочке вечно холодно. Выковыривает вилкой из пирога куриные внутренности и спрашивает:
– Это еще что?
С глубоким отвращением смотрит на растекшийся по тарелке куриный бульон.
– Пирог с курицей, – отвечает Хайди, отправляя собственную вилку в рот. – Попробуй. Тебе понравится.
Жена одновременно умудряется и удерживать ребенка, и есть. Сразу видно, опытная мать. Давно ли она так же сидела за столом с маленькой Зои? Между тем дочка заявляет, что терпеть не может горох, и принимается отделять его от моркови, курицы и зелени. Потом ковыряет корочку и берет в рот крошечный кусочек.
Повисает пауза.
– Что это за имя такое – Уиллоу? – спрашиваю я.
Телевизор включен. Рассказывают об итогах сегодняшних баскетбольных матчей, но, как всегда во время ужина, звук отключен. Смотрю на цифры счета, показывают особенно эффектные броски и заброшенные мячи.
– Крис! – рявкает Хайди, будто я спросил о чем-то неуместном. Например, о размере груди или о политической принадлежности. Ничего не поделаешь, я человек прямой, застенчивостью не отличаюсь. В нынешней ситуации содержится изрядная доля иронии – меня Хайди с пристрастием допрашивает о каждом пустяке, а эту незнакомку пустила за стол, ничего о ней не узнав, даже фамилии. А вдруг девчонка – преступница в бегах?
– А что такого? Просто спрашиваю. Интересно. Ни разу не встречал никого по имени Уиллоу.
Разве что дерево.
– Очень красивое имя, – с напором произносит Хайди. – Такое изысканное, изящное…
– В нашей школе есть одна Уиллоу. У нас с ней общая география, – вдруг ни с того ни с сего объявляет Зои. Мы настолько не привыкли, чтобы дочка участвовала в общем разговоре, что были ошарашены. Наверное, еще больше остолбенели бы, если бы наша гостья что-нибудь сказала. – Уиллоу Брахер. – Потом Зои прибавляет: – Парни ее дразнят «Уиллоу Трахер».
Молчание становится совсем уж неловким. Между тем черная кошка упорно бросается на кирпичную стену. Тараканы там, что ли?
– Уиллоу, а фамилия у тебя есть? – спрашиваю я.
Хайди снова восклицает:
– Крис!
– Да, сэр, – тихо отвечает она.
Где-то подо всеми этими жесткими уличными замашками скрывается наивная деревенская простушка. Даже не знаю, почему мне так кажется – может, причина в едва уловимом выговоре, а может, дело в том, что она обратилась ко мне «сэр». Наблюдаю, с какой жадностью она ест. Едва тарелку не вылизала. Не спрашивая, хочет ли Уиллоу добавки, Хайди кладет ей второй кусок. Сначала девчонка съедает начинку. Корочку оставляет на потом. Видимо, эта часть пирога ей нравится больше всего. Конечно, ведь это единственное, что Хайди не приготовила сама, а воспользовалась готовой смесью.
Сколько бы этой девице ни было лет, восемнадцать ей быть никак не может. Впрочем, мало ли, кто как выглядит? Решаю думать, что Уиллоу восемнадцать. Когда нагрянет полиция, смогу с самым искренним видом изображать недоумение: «Но, сэр, девушка сказала, что уже совершеннолетняя». После ванны пахнет от нее гораздо лучше. Но даже сидя за столом, чисто вымытая, в одежде Зои, Уиллоу сразу производит впечатление маргинальной особы. После душа густо и неровно накрасила ресницы, крашеные волосы выглядят неопрятно, все уши истыканы дырками для серег, некоторые, судя по красноте, воспалились, ногти обгрызены почти до основания, глаза бегают. Под моим пристальным взглядом Уиллоу чувствует себя некомфортно. Еще один подозрительный признак – выглядывающий из-под челки синяк.
– Так… Фамилия, значит, есть. Может, скажешь, какая?
– Крис, я тебя очень прошу…
Девушка что-то невнятно бубнит себе под нос. Кажется, что-то вроде молитвы – разбираю слова «верить» и «Бог». Но когда прошу говорить погромче, коротко выпаливает:
– Грир.
За окном начинает орать сигнализация. Переспрашиваю:
– Как?
Девушка повторяет громче:
– Меня зовут Уиллоу Грир.
После ужина, чтобы не забыть, записываю это имя на обратной стороне завалявшегося в кошельке чека.
Просыпаюсь утром и вижу, что выглянуло солнце. После долгих пасмурных, дождливых дней даже непривычно – солнечный свет кажется слишком ярким. После сна все тело онемело. Повернуться не могу, точно древний старик. Бока почти не чувствую. Перекатываюсь на спину, правая рука задевает металлическую ножку кровати. Мысленно произношу все известные мне ругательства, пытаясь сообразить, почему вообще сплю на полу рядом с кроватью. Подо мной жесткий коврик букле. Лежу, завернувшись в ярко-малиновый спальный мешок Зои.
И тут вспоминаю: ночевать в походных условиях вызвался по собственной инициативе. Заявил – не допущу, чтобы дочка спала одна, когда в доме посторонний человек. Хайди велела не валять дурака и предложила поменяться с дочкой местами. Но я был непреклонен. Пусть мои девочки ложатся вместе на нашу двуспальную кровать, а я буду их охранять. Тогда обе будут под надежным присмотром. Даже кошки сегодня спали здесь, в крепко запертой спальне. А как иначе? Ведь эта девица ночует напротив. На всякий случай даже подпер дверную ручку стулом, чтобы уж точно не ворвалась.
Переворачиваюсь на бок и в первый раз в жизни заглядываю под кровать. Чего там только нет – одиноко пылящийся носок, игрушечный кролик Зои, пропавший, когда дочке было одиннадцать, сережка.
– Что ты так смотришь? – спрашивает Хайди, когда встаю с пола и захожу на кухню. Дом наполняет аромат яичницы, блинчиков и свежесваренного кофе. Хайди хлопочет у плиты, придерживая на бедре ребенка одной рукой и переворачивая блины другой. Даже удивительно, насколько естественно она выглядит с младенцем. Человек незнакомый решил бы, что перед ним мать с дочкой. Можно подумать, совершил путешествие на машине времени, и теперь вижу перед собой Хайди с маленькой Зои. Ребенок схватился за золотую цепочку – ту самую, без которой жена из дома не выходит, – и, зажав в пухлом кулачке, тянет изо всех сил. С цепочки свисает обручальное кольцо отца Хайди – единственная вещь, которую она пожелала забрать, когда он умер. Они с матерью договорились – все остальные вещи, с которыми связаны дорогие воспоминания, теща оставляет себе, а кольцо достается моей жене. Хайди с ног сбивалась, разыскивая цепочку точно такого же золотисто-желтого оттенка, как кольцо. Между прочим, золото девятьсот девяносто девятой пробы, поэтому цепочка стоила бешеные деньги – почти тысячу долларов. А теперь младенец ее, того и гляди, порвет, а жене хоть бы что.
– Ничего, – вру я, доставая чашку из кухонного шкафчика и наливая себе кофе. – Доброе утро, Уиллоу, – обращаюсь к сидящей за столом девице.
Та ест и яичницу, и блины одновременно. Стол и полосатая рубашка Зои закапаны кленовым сиропом.
Сбегав за угол, покупаю в киоске газету. Завтракать отправляюсь на наш маленький деревянный балкончик, висящий под небольшим углом. Просто не могу оставаться в одной комнате с Хайди и этой девицей. В присутствии этой парочки просто не знаю, куда себя девать. На улице градусов десять, не больше. Ставлю босые ноги на ограду балкона, надеясь, что их хоть как-то согреет солнцем. Листая газету, нахожу прогноз погоды. Сегодня обещают максимум тринадцать градусов. Невольно начинаю просматривать объявления – вдруг попадется что-то о пропавших или беглых девушках-подростках? Скажем, «разыскивается несовершеннолетняя девушка, подозреваемая в убийстве родителей». Изучаю криминальную хронику. Интересно, чем Лиззи Борден так насолило ее семейство?[8] Сейчас полезно было бы это знать…
Накануне Хайди отправила меня по магазинам. После ужина сбегал в аптеку, где некоторое время с растерянным видом стоял напротив полок со всеми возможными видами подгузников. Других покупателей не было. Беря упаковку под мышку, думал о том, что в тридцать девять покупать подгузники уже поздновато.
Дома Хайди уложила девочку на паркет и развернула обкаканное синее одеяло. Ребенок принялся радостно сучить ножками. Хайди вытерла ей попку ароматизированной салфеткой, которую потом бросила на грязное одеяло. Да, его теперь придется выкинуть.
Когда Хайди взяла младенца на руки, меня чуть не стошнило при виде отвратительной алой сыпи на ягодицах у малышки. Хайди принялась натирать их кремом. Девица наблюдала с таким видом, будто даже не подозревала, что ребенку надо хоть иногда менять подгузники, иначе могут быть последствия. Грустными глазами Уиллоу наблюдала, как Хайди достает из пластиковой упаковки белый комбинезончик и надевает его на младенца, прикрывая крупную родинку на ножке.
Потом Хайди передала девочку Уиллоу. Та держала ее далеко не так ловко и уверенно, как моя жена. Считается, что у матерей должен просыпаться инстинкт, но у этой девицы он, видимо, был не слишком развит. Трясла младенца, точно мешок с картошкой. Интересно, это вообще ее ребенок?
Однако с Хайди своими соображениями делиться не стал – и так знал, что жена скажет. Начнет обзывать недоверчивым циником. «Конечно же ребенок ее», – скажет она с таким видом, будто Хайди это доподлинно известно. Каким образом – при помощи шестого чувства?
Вечер, казалось, тянулся бесконечно, и отнюдь не в хорошем смысле. Больше часа напряженно просидели перед телевизором в полном молчании. Потом не выдержал, выключил ящик и заявил, что пора ложиться спать. Часы на стене показывали 8:46. Возражать никто не стал.
Прежде чем отправиться в спальню, отвел Хайди в сторону и прошептал:
– Только на одну ночь.
Жена пожала плечами и ответила:
– Там видно будет.
Пока доставал из шкафа спальный мешок и подпирал дверь стулом, Зои ныла, что моя идея ночевать всем вместе – полный отстой. Мол, я ей всю жизнь порчу. Не дай бог друзья узнают, стыда не оберешься. Это же какое-то извращение – спать втроем…
С каких пор наша двенадцатилетняя дочка знает про извращения и людей, которые спят втроем?
Уиллоу
Джозеф преподавал религиоведение в местном колледже, где получали дополнительное образование взрослые. Рассказывал про Библию, по большей части про Ветхий Завет. Джозеф говорил о Боге, который устроил Всемирный потоп и осыпал дождем из огня и серы целые города, чиня расправу над всеми жителями: женщинами и детьми, хорошими людьми и плохими. Доставалось всем без исключения. Что такое сера, не знала, но Джозеф показывал мне картинки в учебниках. На них огненный дождь проливался на Содом и Гоморру, а жена Лота превращалась в соляной столп.
– Вот, – с торжественным, серьезным видом произносил Джозеф, а я смотрела на его густую рыжую бороду и думала, как ее ненавижу. – Это кара Божья. Знаешь, что такое кара, Клэр?
Ответила, что нет. Тогда он принес большой, тяжелый словарь, и мы вместе нашли это слово. Там было написано «казнь, наказание».
– Вот так, – произнес Джозеф, снова показывая эти картинки, – Бог наказывает людей, которые его разгневают.
Из-за Джозефа думала, что грозы случаются только тогда, когда натворю что-то плохое и разгневаю Бога. Поэтому всегда боялась грома, молний и дождя, а в Омахе в середине лета во всем этом недостатка не было. В жаркие, влажные июльские дни голубое небо заволакивали страшные темные тучи, и я знала, что сейчас Бог со мной за все рассчитается. Завывал ветер, деревья клонились к самой земле, ветки ломались пополам, а мусор из бака на углу поднимало в воздух. Я падала на колени, как учил Джозеф, снова и снова моля Бога о прощении.
Что я такого делала, чтобы настолько прогневить Бога, понятия не имела. Но, когда сверкали молнии или грохотал гром, каменела от страха, а несколько раз даже обмочилась. Стояла у себя в комнате на коленях, молилась и поглядывала в окно – не падает ли дождь из огня и серы? Так и пряталась у себя, пока буря не заканчивалась и не уходила дальше, в Айову и Иллинойс, наказывать других грешников.
Джозеф рассказывал про ад – место, куда попадают те, кто грешит. Там их непрерывно мучают всякие демоны, драконы и сам дьявол. Вечное наказание. Озера пламени. Печи. Всюду огонь, огонь, огонь. Ничего удивительного, что начала его бояться.
Конечно, старалась быть хорошей девочкой. Пока Джозеф был на работе, а Мэттью с Айзеком в школе, готовила ужин и относила поднос Мириам. Впрочем, сама она никогда к еде не притрагивалась – только если Джозеф прикажет.
Целые дни Мириам проводила или сидя неподвижно, точно статуя, с взглядом лунатика, или отчаянно кидаясь в ноги Джозефа и упрашивая простить ее. Иногда Мириам становилась раздражительной, срывалась на Джозефа и мальчиков и требовала, чтобы перестали читать ее мысли. Так и повторяла: «Хватит читать мои мысли». А еще: «Убирайтесь». Принималась хлопать себя ладонью по лбу, будто выгоняла из головы Джозефа, Мэттью и Айзека. В такие дни Джозеф запирал Мириам в комнате, а ключ всегда носил с собой, даже когда уходил из дома. Приходилось слушать из-за двери крики о том, как Джозеф не только читает ее мысли, но и внушает ей их.
Я решила, что Мириам сумасшедшая, и боялась ее. Не так, как Джозеф, но по-своему она тоже внушала мне страх.
Я исполняла все обязанности, занималась хозяйством. Стирала, убирала, готовила. А когда Мириам начинала кричать, напевала себе под нос, чтобы заглушить ее голос. Но напевать можно было, только когда Джозефа не было дома, иначе он принимался ругаться. Я знала только песни, которые слушала мама – например, Пэтси Кляйн. Но Джозеф считал, что это богохульная музыка, и слушать ее, а тем более петь – святотатство.
Меня в комнате Джозеф никогда не запирал. По крайней мере, тогда. Джозеф и так знал, что не убегу. Все время грозился, что, если не стану слушаться, Лили будет плохо. Поэтому идти против его воли не осмеливалась.
Когда Мириам застывала, точно статуя, я заходила к ней в комнату, а она меня даже не замечала. Вообще в мою сторону не смотрела, даже когда я помогала ей встать с постели. И никогда не моргала. Время от времени я снимала с кровати грязное постельное белье и стирала его. А потом возвращалась в комнату, отводила Мириам в ванную, усаживала в ванну и мыла, потому что Джозеф сказал, что это моя обязанность. Я исполняла все приказы Джозефа – почти всегда.
Лишь один раз отважилась сказать ему «нет». Тогда Джозеф залез ко мне в постель, и я призналась, что мне больно. Свернулась в клубок и обхватила себя руками, надеясь, что так Джозеф ко мне не подберется. Тогда он встал над моей кроватью и произнес:
– Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные! Притчи, 30:17.
Сразу представила, как меня клюют и рвут когтями вороны и орлы. Это будет мне наказанием за то, что разгневала Господа. Грех препятствовать отцу в исполнении родительского долга. Тогда я раздвинула ноги и позволила Джозефу на меня влезть, а потом лежала смирно-смирно. Когда мама водила нас к доктору, всегда говорила: «Не будешь вертеться, больно не будет». Вот я и не вертелась, но больно все равно было – и во время, и после, когда Джозеф говорил, что я веду себя как хорошая девочка и он мной доволен.
Я потом много об этом думала и гадала, сколько еще раз Джозеф должен был наведаться ко мне в спальню, чтобы хорошая девочка превратилась в плохую.
Крис
Доедаю завтрак и отправляюсь в душ. Перед тем как помыться, тщательно вытираю плитку, чтобы точно не подцепить какую-нибудь отвратительную инфекцию от этой девицы. Волдыри у нее на ногах, мягко говоря, не внушают доверия. Полчаса спустя Хайди вырастает передо мной, уперев руки в бока, и спрашивает:
– Не надоело дурака валять?
Беру портфель и отвечаю:
– Нет, не надоело.
Прощаюсь с Зои и направляюсь к двери, но перед уходом беру Хайди за руку и вытягиваю на лестничную площадку. Аромат приготовленного ею завтрака доносится даже сюда. Мимо проходит сосед – должно быть, отправился за газетой.
– Не забывай звонить, – велю я. Между тем сосед на лифте спускается на первый этаж. – Каждый час. Если хоть на минуту запоздаешь, сразу звоню в полицию.
– Крис, не перегибай палку, – отвечает Хайди.
– Каждый час, – повторяю я. – Тебе ведь несложно? – И прибавляю риторический вопрос: – В конце концов, что ты о ней знаешь?
Чмокаю жену в щеку и ухожу. В поезде невольно слушаю разговор двадцатилетних приятелей. Болтают про вчерашние пьяные похождения, жалуются на головную боль и сообщают, что вчера по приходе домой их стошнило. Позже, наслаждаясь тишиной и уединением в своем кабинете, достаю из кармана чек и гляжу на написанное на нем имя. Уиллоу Грир. Потягиваюсь в кожаном кресле. Кабинет мой находится на сорок третьем этаже небоскреба в Норт-Луп. Понимаю, что меморандум о предложении – тот самый, который я обязан подготовить и ради которого притащился в офис этим солнечным воскресным утром, – сейчас занимает мои мысли меньше всего. Нужно составить буклет и подробно изложить сведения о деятельности компании, которую мы продаем, – финансовые отчеты, описание бизнеса и все в таком духе. Но меня волнует совсем другая проблема.
Включаю компьютер, печатаю слова «Уиллоу Грир» и жму на «Enter». Пока идет поиск, сижу, уставившись в стену. По дороге надо было купить кофе. В моем кабинете окон нет, но я рад, что у меня, по крайней мере, есть своя территория. Многие другие наши аналитики довольствуются отсеками в общем зале. Порывшись в ящиках стола, нахожу две блестящие монеты. Два раза по четверть доллара. Как только разрешу загадку Уиллоу Грир, сразу отправлюсь к автомату за кофе.
Вдруг звонит телефон. Торопливо хватаю трубку. Саркастичным тоном Хайди объявляет:
– Одиннадцатичасовой доклад. Все благополучно.
Проверяю время на компьютере – десять пятьдесят девять.
Слышно, как плачет младенец.
– Почему ревет? – спрашиваю я.
– Снова жар начался, – отвечает Хайди.
– Лекарство дала?
– Ждем, когда подействует.
– Попробуй прохладный компресс, – советую я. – Или ванночку с водой комнатной температуры.
Когда Зои была маленькой, ей это иногда помогало. Но на самом деле хочется вовсе не давать добрые советы, а заявить: «Видишь, во что вляпалась? А я предупреждал…»
– Ладно, – говорит Хайди. Перед тем как жена кладет трубку, успеваю напомнить: – Перезвони ровно через час. Буду ждать.
И снова поворачиваюсь к компьютеру. Первым делом просматриваю фотографии, ожидая увидеть лицо Уиллоу. Но вместо нее вижу тезку – какую-то рыжеволосую знаменитость. А вот еще одна Уиллоу Грир, брюнетка. Ее снимков в социальных сетях видимо-невидимо. Скромностью девушка не отличается – грудь едва не вываливается из декольте, поверх пояса джинсов нависает достаточно полный живот. На нашу Уиллоу совсем не похожа. Продолжаем поиски. Так, город Уиллоу в округе Грир, штат Оклахома. Дома, выставленные на продажу, в другом городе Грир, штат Южная Каролина. Если верить сайту телефонного справочника, в Соединенных Штатах живет шесть человек с таким именем, не путать со Стивеном Гриром, проживающим на улице Уиллоу-Ридж-Драйв в Цинциннати. На сайте есть информация только о четырех Уиллоу Грир из шести. Выдергиваю лист бумаги из принтера и принимаюсь записывать. Уиллоу Грир из Олд-Сэйбрук. Нет, этой сейчас за сорок. Старовата. Уиллоу Грир из Биллингсли, штат Алабама, еще старше – шестьдесят пять. Но на всякий случай записываю и ее тоже. Что, если миссис Грир из Биллингсли, штат Алабама, бабушка нашей Уиллоу? Возрасты остальных не указаны.
Записываю все, что удается обнаружить, и тут в голову приходит мысль: вдруг в телефонный справочник заносят только совершеннолетних? Или, что еще более осложняет задачу, только тех, у кого есть в собственности какая-нибудь недвижимость? Быстро печатаю «Зои Вуд, Чикаго, Иллинойс». Моя догадка оказалась верной – по запросу ничего не найдено. Черт возьми. Некоторое время сижу в глубокой задумчивости. Допустим, мне надо найти что-нибудь про Зои. Где я буду искать? Принимаюсь заходить на сайты социальных сетей – «Фейсбук», «Майспейс». К сожалению, других не знаю. Пожалуй, расследование пошло бы гораздо веселее, привлеки я к делу двенадцатилетнюю дочку. По крайней мере, с моим мобильником Зои управляется гораздо ловчее меня. Подумываю, не позвонить ли дочке, но вовремя вспоминаю, что Хайди конфисковала ее телефон. Да, не повезло. Принимаюсь перебирать разные вариации «Уиллоу Грир» – «Уиллоу Г.», «Грир Уиллоу». Пробую по-другому написать имя – «Виллоу», «Уилоу», даже «Уило». Мало ли как ее могли записать при рождении?
Тут натыкаюсь на аккаунт в «Твиттере» какой-то У. Грир. «@ПропадаюБезТебя». В делах «Твиттера» я полный профан, однако сообщения этой девицы мрачны и депрессивны, тут и там упоминается самоубийство. «Сделаю это сегодня». Но девушка на фотографии точно не та, ни малейшего сходства. К тому же этой точно есть восемнадцать или даже девятнадцать. На фотографиях демонстрирует порезанное запястье, и улыбка какая-то дикая. Последний твит опубликован две недели. Неужели и правда с собой покончила?
– Привет.
Торопливо перевожу компьютер в спящий режим и, откинувшись на спинку кресла, стараюсь держаться непринужденно, будто меня только что не застигли за посторонним делом в рабочее время. И вообще, получается, что я в некотором смысле шпионю за этой девицей. Хотя какое это шпионство? Всего лишь необходимое расследование.
Однако уверен, что выражение лица у меня виноватое.
В дверях стоит Кэссиди Надсен. Юбку-карандаш и каблуки заменила на менее формальный и гораздо более привлекательный наряд: обтягивающие джинсы и просторный свитер цвета слоновой кости, спадающий с одного плеча и выставляющий напоказ красную бретельку бюстгальтера. Кэссиди поправляет свитер, но он тут же соскальзывает снова. Скрестив ноги, – почему-то кеды на ней выглядят даже более эротично, чем шпильки, – прислоняется к косяку.
– Ты ведь, кажется, хотел на выходных поработать дома.
– Хотел, – признаю я и комкаю чек, на котором написано «Уиллоу Грир». – Надо подготовить меморандум о предложении, – прибавляю я, перебрасывая чек из руки в руку. – Но дома все вверх дном…
– Проблемы с Зои? – уточняет Кэссиди. Впрочем, на ее месте любой решил бы, что дом скорее способен перевернуть вверх дном двенадцатилетний ребенок, чем жена и мать семейства.
– Нет, – признаюсь я. – Вообще-то с Хайди.
Кэссиди с понимающим видом извиняется. Решила, что мы поссорились. Ее лицо принимает преувеличенно встревоженное выражение. До чего же светлые у нее все-таки волосы! И глаза серо-голубые, и кожа белая…
– Сочувствую, – произносит она, без приглашения входя в кабинет и усаживаясь на один из металлических стульев без подлокотников, стоящий рядом со столом. – Поделиться не хочешь? – предлагает она, кладя ногу на ногу и подаваясь вперед.
Такой вопрос могла задать только женщина. Стоит мужчине почувствовать, что кто-то хочет поплакаться ему в жилетку, сразу спасается бегством. Женщины, наоборот, обожают изливать друг дружке душу.
– Рассказывать особо не о чем, просто Хайди в своем репертуаре, – говорю я. Тут же раскаиваюсь в своих словах (прозвучало как упрек) и смущенно прибавляю: – Нет, ты не подумай, я не в плохом смысле.
– Хайди – хорошая женщина, – кивает Кэссиди.
– Лучше всех, – с жаром соглашаюсь я, стараясь выкинуть из головы совершенно неуместные мысли о Кэссиди Надсен в шелковых комбинациях и ночных рубашках с оборочками.
Когда мы с Хайди поженились, мне было двадцать пять, а ей двадцать три. Гляжу на свадебную фотографию, приколотую к пробковой доске на стене. «Да, очень изысканно», – с некоторой язвительностью отозвалась по этому поводу Хайди, когда в последний раз была у меня в кабинете. Провела пальцами по снимку, а я пожал плечами и сказал: «Рамка сломалась. Был аврал, очень торопился, вот и сшиб ее со стола». Хайди с понимающим видом кивнула. Кому, как не жене, знать, что у меня на работе постоянно авралы?
Впрочем, случившееся с фотографией можно считать символичным. Защитное стекло нашего брака тоже треснуло. Причем трещины самые разные – необходимость выплачивать по закладной на квартиру, ребенок-подросток, недостаток общения, накопления на старость, рак. Кэссиди принимается рассеянно поглаживать лампу у меня на столе. Ногти у нее длинные, накрашены прозрачным лаком. Лампа старинная, с зеленым абажуром. Кэссиди берется за цепочку, накручивает на тонкий пальчик и тянет. Тут в голову закрадываются мысли об измене, но сразу их отметаю. Нет, никогда. У нас с Кэссиди такого не будет.
Включается мягкий желтый свет, гораздо более приятный, чем слишком яркое белое флуоресцентное свечение потолочных ламп.
Мы встречались всего несколько месяцев на тот момент, когда я сделал Хайди предложение. Знал, что хочу быть только с этой девушкой. Она нужна мне, как воздух. Пиши я, как в детстве, письмо Санта-Клаусу, первым пунктом в списке желаний указал бы: «Жениться на Хайди». Я вообще привык получать все, что захочу. Помнится, все подростковые годы провел в брекетах. Ныл, жаловался, говорил, что они втыкаются мне в десны и царапают внутреннюю сторону щеки. «Ничего, зато потом спасибо скажешь», – говорила мама. Она всю жизнь промучилась из-за кривых зубов, которые ненавидела всей душой. Так оно и оказалось – я действительно был глубоко благодарен маме за то, что решила выправить мой прикус. После многих лет мучений моя улыбка могла расположить кого угодно. Она творила чудеса на вечеринках, собеседованиях, обедах с клиентами и, конечно, при общении с дамами. Хайди говорила, что на том благотворительном балу, где мы познакомились, первым делом обратила внимание именно на мою улыбку. Бал был в декабре, и Хайди была одета в красное. За билет пришлось выложить бешеные деньги – целых двести баксов. Однако руководство выразило пожелание, чтобы сотрудники внесли свой вклад в благое дело. В том году девизом фирмы были слова «брать и отдавать». Рассудили, что репутации компании пойдет на пользу, если на балу наши люди займут два стола на шестнадцать-двадцать человек, и каждый пополнит сборы, заплатив за билет двести баксов. Вообще-то никто из нас даже не знал, на что именно собирают средства.
Просветила меня Хайди, прямо на танцполе. Так я узнал об уровне безграмотности в Чикаго даже больше, чем нужно.
Да, я привык добиваться всего, чего хочу. Но, женившись на Хайди, понял, что с этой привычкой придется распрощаться.
– Ну, и что у вас за семейная проблема, мистер Вуд? – спрашивает Кэссиди и, откинувшись на спинку стула, проводит пальцами с безупречным маникюром по коротким волосам: – Хотите поговорить об этом?
– Нет. Лучше не надо, – отвечаю я. Вспоминаю последний случай, когда Хайди сделала что-то, как я сказал, – прежде чем бежать к этой бездомной девице, надела джинсы. Потом предпоследний – купила арахисовое масло в виде брикета, а не в банке. Короче говоря, одни мелочи. В важных делах я неизменно проигрывал.
– Се ля ви? – спрашивает Кэссиди.
Киваю:
– Се ля ви.
Такова жизнь.
Гляжу в серо-голубые глаза Кэссиди Надсен и вспоминаю, как опрокинул на безупречно чистую рубашку эспрессо, когда впервые ее увидел. Тогда Кэссиди вошла в конференц-зал, одетая в красный обтягивающий брючный костюм. Такой смелый наряд могла себе позволить только Кэссиди Надсен. Туфли на ней были черные. Естественно, на шпильках. Начальник, вдруг как-то сразу съежившийся и растерявшийся, пробормотал что-то про «нашу новенькую» и не сводил глаз с ягодиц Кэссиди, пока та не опустилась на свободное место рядом со мной. Потянулась за салфетками, оставшимися на столе после вчерашнего обеда, и стала промокать пятно на моей рубашке с непринужденностью, которой опять же никто, кроме нее, себе позволить не может.
«Прямо роковая женщина», – сказала Хайди в тот летний день в ботаническом саду, когда они с Кэссиди в первый раз встретились. Жена смотрела вслед моей соблазнительно покачивающей бедрами коллеге. «А роковая женщина – это какая?» – спросила Зои. Хайди кивнула на Кэссиди, одетую в вишневого цвета платье без бретелек, и просто ответила: «Вот такая».
Беру монеты со стола и объявляю, что отправляюсь к автомату.
– Тебе что-нибудь взять? – спрашиваю я, надеясь, что Кэссиди ответит отрицательно, и, когда вернусь, кабинет будет пуст. Кэссиди и впрямь произносит: «Нет, спасибо». Шагаю по пустому коридору в нашу убогую офисную кухню, где стоит автомат. Решаю взять энергетический напиток с самым большим содержанием кофеина, какое удастся найти. По пути обратно в кабинет открываю банку.
Обдумываю, какие шаги предпринять в расследовании загадочного дела Уиллоу Грир. С керамических плиток коридора ступаю на золотистый ковролин и тут же вижу у себя в кабинете Кэссиди Надсен на четвереньках, собирающую с пола с десяток упавших ручек. Широкий свитер почти подметает пол, ворот выставляет напоказ красный бюстгальтер во всей красе. Лифчик открытый, на косточках, украшен французским кружевом, спереди изящный бантик.
В руке Кэссиди держит мобильный телефон. Прищурившись, смотрю на часы на стене. 12:02. Сердце падает.
– Тебе звонит Хайди, – докладывает Кэссиди и протягивает телефон. – Я подошла. Надеюсь, ты не против.
Хайди
– Почему эта женщина все время отвечает по твоему мобильному? – рычу в трубку, едва услышав вялое «алло» Криса. Голос звучит настороженно, однако муж безуспешно пытается изображать наигранную бодрость. Одним словом, тон виноватый. Выхожу из гостиной. Уиллоу сидит на краю дивана, положив на плечо полотенце и прислонив к нему ребенка. Руби должна скоро срыгнуть. Уиллоу тихонько похлопывает ее по спинке, как я учила. И все же младенца она держит неловко, неправильно – девочке же неудобно! И потом, как Руби будет дышать? Только бы Уиллоу ее не уронила!
– Привет, Хайди! – произносит Крис, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие и невозмутимость. – Как вы там?
Представляю эту женщину в его безликом, похожем на коробку кабинете. Должно быть, сейчас слушает наш разговор. Должно быть, Крис сейчас украдкой поглядывает на часы и жестами показывает Кэссиди Надсен, что зануда жена опять привязалась с дурацкими вопросами. «Почему на твои звонки отвечает она? Почему не предупредил, что она тоже придет? Кто еще сейчас в офисе? Том? Генри?» Чувствую, как кровь приливает к голове и краснеют щеки. Даже уши пылают. Ощущаю приближение головной боли. Прижимаю два пальца к вискам и с силой нажимаю.
Прерываю звонок. Жаль, что, когда говоришь по мобильному, нельзя швырнуть трубку. Трудно выпустить весь пар, всего лишь нажав на кнопку. Стою на кухне, тяжело дыша, и перебираю в уме все причины, по которым ненавижу Кэссиди Надсен. Она сногсшибательная женщина. Вдобавок умна и проницательна. А до чего стильная! Ей бы для модного журнала сниматься, а не корпеть над нудными таблицами в офисе у Криса.
Но самая главная причина, почему я ее не выношу, проста и выражается одной фразой. С Кэссиди Надсен Крис проводит больше времени, чем со мной. Вместе разъезжают по всей стране, ночуют в дорогих роскошных отелях. Мы ведь с Крисом когда-то мечтали, что будем путешествовать вместе. Вдобавок с Кэссиди Надсен он постоянно ходит в шикарные рестораны, где мы ужинаем только по большим праздникам: дни рождения, годовщины и так далее.
В ушах так и звенит ее бойкий, чересчур оживленный голосок: «Привет, Хайди. Крис только что вышел, скоро вернется. Хочешь, передам, чтобы перезвонил?» Но я ответила, что подожду. Так я и сделала. Стояла и смотрела на электронные часы на микроволновке. Крис вернулся ровно через четыре минуты. Все это время слушала, как Кэссиди Надсен переставляет вещи на столе моего мужа. Потом что-то стукнуло и рассыпалось – должно быть, уронила ручки и карандаши. Крис ставит их в раскрашенную кружку, которую Зои сделала ему в подарок на уроке труда давным-давно.
– Ой! – Кэссиди Надсен хихикает, точно подросток.
Должно быть, в старших классах была в команде поддержки.
Представляю ее в костюме чирлидерши – коротенькая, почти ничего не прикрывающая полиэстеровая юбочка и топик, обнажающий живот. Вероятно, такие же фокусы проворачивала в школе, на уроках математики. Тоже «роняла карандаш», потом принималась его эротично поднимать, а потом в случае конфликта с учителем громко жаловалась, что он на нее совершенно не по-учительски смотрит.
Прежде чем вернуться к Уиллоу и Руби, стараюсь взять себя в руки. Тут слышу, как скрипнула дверь комнаты Зои. Дочка наконец вышла из своего убежища в гостиную. Некоторое время стоит тишина. Наконец Зои смущенным, напряженным тоном спрашивает:
– Тебе было страшно?
Затаившись на кухне, гадаю, о чем это она.
– В смысле? – уточняет Уиллоу.
Она по-прежнему одета в вещи Зои, теперь ставшие липкими от сиропа и мятыми после сна. Тут Руби громко рыгает, будто пьяница. Девочки хихикают. Да, дети удивительным образом умеют разряжать обстановку.
– В смысле, на улице, – поясняет Зои. Представляю, как она указывает на окно, за которым шумит дорога. Такси проносятся взад-вперед, машины сигналят, воют сирены, на углу играет на саксофоне уличный музыкант.
– Да. Наверное, было, – смущенно признается Уиллоу. – Я грозы боюсь.
Снова осознаю, до какой степени эта отрастившая мощную броню девушка-мать сама еще ребенок. Ранимый, беззащитный ребенок, обожающий взбитые сливки и блинчики и боящийся такого безобидного природного явления, как гром. Профили – ваза. Профили – ваза.
Представляю, каково остаться на бурлящих энергией улицах Чикаго, когда город наконец засыпает. Когда садится солнце, Луп начинает искриться огнями. Очень красивое зрелище. Но в нашем районе, в миле или двух от пригорода, с наступлением ночи становится совсем темно. Только кое-где расставлены фонари, многие из которых не горят. В ночное время на охоту выходят «чудовища» местного разлива – хулиганы и мелкие преступники. Собираются в городских парках и дверных проемах вдоль Кларк и Фуллертон-стрит. Наш район считается благополучным, однако преступность процветает и здесь. В утренних новостях часто рассказывают об инцидентах, произошедших в Лэйквью или Линкольн-Парк. Ночные ограбления, драки, всплеск насилия… Постоянно показывают сюжеты о женщинах, на которых напали по пути от автобусной остановки до дома или в подъезде, когда руки у них были заняты сумками с покупками. Ночью в районе становится зловеще темно и тихо. А если тебе, как Уиллоу, некуда идти, тут любой испугается.
Захожу в гостиную. Девочки со смущенным видом поглядывают друг на друга. При виде меня Зои вздрагивает и спрашивает:
– Тебе чего?
Можно подумать, я не имею права находится в собственном доме. Зои не хотелось, чтобы я застигла ее за разговором с Уиллоу, который дочка вдобавок начала по собственной инициативе. Зои считает нужным скрывать, что уделила гостье хоть какое-то внимание.
– Хочу кое-что показать, – объявляю я. – Вам обеим.
И выхожу в коридор. Тайленол подействовал только больше чем через час, однако температура у Руби наконец-то спала. Когда у девочки был жар, она сердито плакала, не успокаиваясь ни на секунду, даже когда мы с Уиллоу брали ее на руки. Пробовали кормить, укачивали, давали соску, но результата никакого. А потом, по совету Криса, набрали в ванну воды комнатной температуры и опустили туда Руби. Прием подействовал, Руби немного утихла, и мы для верности еще раз обтерли мазью ее попку, поменяли подгузник, а заодно и переодели малышку. Крис вчера купил только одни голубые ползунки, поэтому достаю из кладовки коробку с одеждой для младенцев. Ту самую, на которой написано «Хайди. Работа». Несу в гостиную. Пусть девочки всласть пороются в крохотных одежках с оборочками и мультяшными зверятами. Чего тут только нет – и крошечные тюлевые юбочки, и флисовые пижамки, и атласные балетки на маленькие ножки.
Снимая с коробки синюю крышку, предупреждаю Зои:
– Только папе не говори.
Уголком глаза замечаю, что Уиллоу опускает руку в коробку и дотрагивается до ткани, но тут же отдергивает пальцы, будто боится что-то запачкать или испортить. Сразу представляю, как неизвестный мне злой, деспотичный взрослый человек бьет Уиллоу по руке, когда девочка точно так же тянется к какой-то желанной вещи. Бедняжка шарахается и с расстроенным, обиженным видом опускает глаза.
– Бери все что хочешь, не стесняйся, – говорю я, достаю самую дорогую вещицу и кладу на ладонь Уиллоу.
Та проводит пальцами по вертикальным рубчикам, будто в первый раз дотрагивается до вельвета. Потом осторожно подносит бордовый комбинезончик с цветочками на груди к лицу и трется о него щекой.
– Откуда у нас это все? – спрашивает Зои, вынимая бархатное платьице с юбочкой из тафты, рассчитанное на возраст полтора-два года. Когда дочка замечает сумму на ценнике, у нее отвисает челюсть. – Девяносто четыре доллара? – восклицает она, глядя на неношеное синее платьице с бантом на поясе. Где-то в коробке лежат прилагавшиеся к нему колготочки, которые стоят не намного меньше.
– Давно купила, – отвечаю я. – Больше десяти лет назад.
Тогда в обеденный перерыв я отправлялась по магазинам.
Брала то одну вещицу, то другую. Разумеется, тайком, Крису ничего не рассказывала. А если муж интересовался, откуда у нас такие долги по кредитке, отвечала, что купила подарок беременной коллеге или бывшей однокурснице.
– Значит, это мое? – спрашивает Зои, потянувшись за панталончиками в цветочек, идущими в комплекте с летним платьицем.
Думаю, как бы выкрутиться. Можно, конечно, ответить «да» и на этом закрыть тему. С другой стороны, Зои может удивиться, почему на всех вещах не срезаны ценники.
– Это у меня что-то вроде хобби, – наконец признаюсь я. – Коллекция. Одни собирают пробки от бутылок, другие карточки со спортсменами, а я – детскую одежду.
Девочки уставились на меня, точно на пришелицу с Марса.
– Вижу симпатичную вещичку и не могу удержаться, – прибавляю я. – Они ведь такие милые…
В качестве доказательства показываю им малюсенькие меховые сапожки.
– Но… – начинает Зои. Здравым смыслом дочка явно пошла в Криса. – Если эта одежда не для меня, – продолжает она, – то для кого?
Похоже, дочка не успокоится, пока не услышит ответ. Посматриваю то на Зои, то на Уиллоу. Обе вопросительно смотрят на меня. Ни дать ни взять хороший и плохой полицейский. В большие карие глаза Зои стараюсь не смотреть – взгляд одновременно и язвительный, и требовательный. Не могу же признаться, что накупила все это для Джулиэт уже после того, как врач объявил, что у меня больше не может быть детей. По-прежнему продолжала мечтать о большой семье, представляла, как Зои и Джулиэт вместе возятся с игрушками на ковре в гостиной, а я наблюдаю, стоя в дверях с заметно округлившимся животом. Не могу же я признаться Зои, в какое уныние повергает мысль, что у меня будет всего один-единственный ребенок. Хотя я не бездетна, но без желанной огромной семьи чувствую себя одиноко. Даже когда и Зои, и Крис дома. Семья из троих человек кажется слишком маленькой, ее мне недостаточно. После операции осталась пустота, которую я заполняла фантазиями и детскими одежками, сложенными в коробку. Я даже смогла убедить себя, что когда-нибудь у меня появится маленькая девочка, непременно появится.
Решаю сменить тему и предлагаю:
– Давайте подберем что-нибудь для Руби.
Втроем принимаемся с энтузиазмом рыться в коробке. И все же исходящий от этих вещиц запах новизны в очередной раз напоминает о моей несостоятельности.
В конце концов останавливаемся на бордовом комбинезончике для прогулок и белом с волнистым узором для дома. Наблюдаю, как Уиллоу раздевает девочку и пытается натянуть на нее распашонку. Малышка разражается протестующим криком и принимается брыкать ножками. Движения Уиллоу нерешительны и полны опаски. Она глядит на комбинезончик, на воротник, слишком узкий для круглой головки Руби, потом пробует еще раз. Она же все делает не так – надо придержать ворот, чтобы оставить зазор для носика, и надевать быстрее, чтобы ткань не закрывала ротик.
– Давай я.
Произношу эти слова резче, чем хотела. Чувствую на себе пристальный взгляд Зои, но обернуться не решаюсь. Сажусь на место Уиллоу и принимаюсь осторожно надевать на девочку распашонку, потом аккуратно защелкиваю пуговички.
– Готово, – объявляю я.
Вдруг оживившись, Руби хватается за золотую цепочку у меня на шее.
– Нравится? – спрашиваю я. Судя по блеску в глазах и широкой беззубой улыбке, очень. Вкладываю папино обручальное кольцо Руби в ладошку. Пухленькие пальчики сжимаются в кулачок.
– Это кольцо моего папы, – произношу я и продолжаю одевать малышку – комбинезончик, белые носочки с кружевами… Руби весело взвизгивает. Прижимаюсь носом к ее животику и произношу «ути-ути» или еще что-то в том же роде – маленькие дети такие присказки обожают. Совершенно забываю про Уиллоу и Зои, а те наблюдают, как я целую ручки и шейку Руби. Когда принимаюсь сюсюкать, замечаю на лице Зои почти испуг. Да, навык ворковать над малышами с годами никуда не девается.
Внезапно дочка вскакивает и восклицает:
– Хватит уже сюсюкать! Слушать противно!
Голос звучит резко и пронзительно – такой высокой ноты может достичь только девочка-подросток. Зои выбегает из гостиной и снова скрывается у себя в комнате, с грохотом хлопнув дверью.
Уиллоу
– Какой у Мириам был диагноз? Шизофрения?
Качаю головой:
– Не знаю.
За расположенным под потолком зарешеченным окном небо меняет цвет – из голубого становится оранжево-красным. Дежурный в углу наигранно, демонстративно зевает. Луиза Флорес бросает на него резкий взгляд и спрашивает:
– Что, скучаешь?
Тот сразу садится прямее: вскидывает подбородок, выпячивает грудь, расправляет плечи, втягивает живот.
– Никак нет, мэм, – по-военному отвечает он.
Однако Луиза Флорес продолжает буравить его таким взглядом, что даже я краснею от смущения.
Какая у Мириам была болезнь, я не знала, но была уверена, что тут не обошлось без Джозефа.
– Ты упоминала, что Мириам иногда принимала лекарство, – уточняет Луиза Флорес. Согласно киваю. – Какое?
– Маленькие белые таблетки, – отвечаю я. – А изредка – еще одно, другое.
Рассказываю, что после таблеток Мириам и выглядела, и чувствовала себя гораздо лучше и начинала вставать, но если принимала слишком много, наоборот, не могла подняться с постели. Впрочем, Мириам всегда ощущала усталость – и с таблетками, и без.
– Джозеф водил ее к врачу?
– Нет, мэм. Мириам из дома не выходила.
– Что, вообще?
– Да, мэм. Никогда.
– Почему Джозеф не давал ей таблетки регулярно?
– Говорил, Господь ее и без лекарств исцелит, если на то будет его воля.
– Но иногда Мириам все же принимала препарат?
– Да, мэм. Когда мисс Эмбер Адлер приходила.
– Твоя социальная работница?
– Да, мэм.
– Если Мириам не выписывал рецепт врач, откуда Джозеф брал таблетки?
– Из шкафчика с лекарствами, в ванной.
– Это понятно, Клэр. Но речь, скорее всего, идет о сильнодействующем препарате. В аптеках такие лекарства не продают без рецепта врача.
Отвечаю, что понятия не имею. Джозеф не рассказывал, где их берет, просто приказывал сбегать в ванную за пластиковым пакетиком.
Тут Луиза Флорес перебивает:
– Значит, таблетки лежали в пластиковых пакетиках?
Киваю:
– Да, мэм.
Луиза Флорес записывает что-то в блокноте рядом со словом «фанатик». Уже полчаса разглядываю его в перевернутом виде, но что означает, не знаю.
Джозеф высыпал из пакетика таблетки и заставлял Мириам их принимать. Иногда приходилось силой разжимать ей челюсти, засовывать таблетки в рот и ждать, пока проглотит. Случалось, ожидание затягивалось. Мириам терпеть не могла эти пилюли.
Раз или два в год Джозеф держал жену на таблетках некоторое время. Тогда она начинала выходить из комнаты и мыться, а мы пока проветривали спальню, чтобы выветрилась нестерпимая вонь. Делать уборку было поручено мне. Надо было обязательно управиться до приезда мисс Эмбер Адлер с ее огромной сумкой «Найк», полной личных дел подопечных.
Джозеф доставал ящик с инструментами, принимался ремонтировать все, что нуждалось в починке, и закрашивал потеки на стенах. Лампочки в доме меняли и скрипучие петли на дверях смазывали только перед приездом Эмбер Адлер.
Каждый раз Джозеф покупал мне новое платье взамен затхлых лохмотьев, которые приносил домой и швырял на мою кровать в белом мусорном пакете, будто только что выудил из мусорного бака соседей – впрочем, так оно, возможно, и было. Как-то раз Джозеф даже приобрел пару туфелек из лакированной кожи. Обновка оказалась слишком велика, но Джозеф велел все равно их надеть, чтобы мисс Адлер видела.
Социальная работница привозила письма от Пола и Лили Зигер. Сказала, что может дать приемным родителям сестренки мой новый адрес, но после того, как Джозеф порвал мамины фотографии, я, конечно, ответила – нет, спасибо. Пусть лучше Эмбер Адлер сама доставляет письма. В них Лили Зигер подробно рассказывала, как дела у Роз (Лили). Она всегда указывала в скобках «Лили», будто иначе не пойму, о ком речь. Миссис Зигер писала, что Роз (Лили) растет не по дням, а по часам и, судя по фотографиям, становится все больше похожа на нашу маму, которая была потрясающе, сногсшибательно, удивительно красивой женщиной. Можно подумать, многочисленные комплименты могли как-то компенсировать тот факт, что она погибла.
Лили (Роз) уже учит алфавит и умеет считать до десяти, а еще замечательно поет. Как она подражает желтой древеснице! По словам Лили-старшей, этих птиц возле их дома в Колорадо обитает видимо-невидимо. Миссис Зигер прилагала фотографии очаровательного домика с треугольной крышей, окруженного лесом. Вдалеке виднелись горы, а рядом с моей Лили бегала какая-то небольшая собака – кокер-спаниель или вроде того. Кудряшки у сестренки все такие же черные, совсем как у мамы. Только теперь волосы у нее выросли длинные и заколоты в два хвостика. На заколках – божьи коровки. Одета Лили в ярко-желтый сарафанчик с рюшечками. На затылке – бант размером с ее голову. Сестричка весело улыбается. А на балконе стоит Пол Зигер в рубашке и полосатом галстуке. Стоит и смотрит на маленькую Лили. Значит, фотографирует Лили-старшая, больше некому. У всех вид счастливый, даже у собаки.
Дальше в письме говорится, что недавно Роз (Лили) записали на уроки балета, и теперь она обожает исполнять перед Полом и Лили всякие пируэты. Для занятий ей купили красное трико и тюлевую юбочку, и теперь это у Роз (Лили) любимая одежда. А с осени Роз (Лили) начнет ходить в подготовительную школу Монтессори[9] в городе.
– Что такое школа Монтессори? – спросила я у мисс Эмбер Адлер.
Та посмотрела на меня, улыбнулась и сказала:
– Это очень хорошая школа.
И погладила меня по руке.
Тогда я спросила, почему у Пола и Лили Зигер нет своих детей. Почему им понадобилась моя Лили? Мисс Эмбер Адлер ответила, что иногда так бывает. У кого-то из них не может быть детей, а может, у обоих сразу. Тут уж ничего не поделаешь. Сразу вспомнила, как Джозеф говорил, что, если бы Господь захотел исцелить Мириам, он бы это сделал. И тогда я подумала: если бы Господь захотел, чтобы у Пола и Лили родились дети, они бы у них были. И тогда они не забрали бы мою Лили.
Я много думала про домик с треугольной крышей, где теперь жила сестренка. Про высокие деревья, про горы, про собаку. Вот было бы хорошо побывать в этом доме, погулять по лесу и снова увидеться с Лили! Гадала, пригласят меня туда когда-нибудь или нет.
Лили-старшая сказала, что я могу написать Роз (Лили), если захочу, а она прочтет девочке мое письмо вслух. Так я и сделала. Рассказала, какие красивые тюльпаны растут перед нашим домом (на самом деле цветов у нас не было), наврала, что хожу в школу (на самом деле не ходила). Единственное, что я читала, – Библия, единственное, что писала, – строки из Второзакония или Книги Левит. Табели об успеваемости, которые Джозеф показывал Эмбер Адлер, были поддельными. Те самые, с моими якобы плохими оценками. Джозеф просто снимал копии с табелей Мэттью или Айзека и переправлял имена сыновей на мое. Чего на этих табелях только не было – плохие оценки по математике или естественным наукам, замечания учителей о том, как я плохо себя веду и грублю им…
– Тебе что, не нравится в школе? – спрашивала Эмбер Адлер.
– Да нет. Нравится, – отвечала я.
– Какой твой любимый предмет? – интересовалась она.
Школьных предметов я знала мало, поэтому наугад ляпнула – математика.
– Но, Клэр, тут написано, что по математике у тебя двойка.
Тогда я пожимала плечами и говорила, что предмет, конечно, интересный, но сложный. В ответ Эмбер Адлер принималась в очередной раз напоминать, как мне повезло, что Джозеф с Мириам взяли меня к себе. Редкие опекуны могут похвастаться такой снисходительностью и пониманием по отношению к трудному приемному ребенку.
– Старайся лучше, – велела она, а разговаривая с Джозефом и Мириам, предлагала подыскать репетитора.
В письмах я рассказывала маленькой Лили, как мне живется в большом городе, Омахе. Описывала здания, которых никогда не видела, но, как предполагала, именно так они и должны выглядеть. Омаха сильно отличалась от Огаллалы. По крайней мере, такое впечатление у меня складывалось по запахам, звукам и поведению играющих на улице детей. Когда мы с Лили жили дома, мама нам рассказывала про Омаху – о людях, зданиях, музеях и зоопарках. В своих письмах я писала про братьев, с которыми почти не разговаривала, и про школьных друзей, которых вовсе придумала. Хвалила добрых учителей в своей школе.
Лили-старшая писала ответы. В подробностях описывала, что они с Полом подарили Роз (Лили), когда ей исполнилось четыре годика. Новый четырехколесный велосипед с детским сиденьем, светло-зеленый с розовым, с кисточками на руле и белой плетеной корзинкой. Фотографии, конечно, прилагались. Вот маленькая Лили сидит на велосипеде в защитном шлеме, а Пол Зигер подталкивает ее сзади. Следом бежит кокер-спаниель. Потом Лили-старшая рассказала, что скоро они едут отдыхать на пляж, в Калифорнию. Роз (Лили) в первый раз увидит океан. Лили-старшая поинтересовалась, бывала ли я когда-нибудь на курорте? По такому случаю Роз (Лили) купили новый купальник и пляжное платьице. В следующий раз Эмбер Адлер привезла рисунки моей сестренки – океан, рыбки и какие-то кляксы на песке, отдаленно напоминающие ракушки. А в небе – ярко-желтое солнце с лучами на весь лист. На обратной стороне Лили-старшая аккуратным красивым почерком вывела: «Роз (Лили), четыре года».
Зигеры были люди неплохие, даже, пожалуй, хорошие. Со временем я это поняла. Но одно дело – то, что понимаешь умом, и совсем другое – что чувствуешь сердцем.
Хайди
Утром Зои неохотно подбирает для Уиллоу другой наряд – черные легинсы, которые дочке слишком коротки, а гостье будут еще короче, – и спортивную кофту, забрызганную краской. В прошлом году Зои в ней ходила на рисование.
– Зои, – укоризненно произношу я, – она же вся грязная.
– Ладно, – отрывисто бросает дочка, сдернув с вешалки запасную форменную кофточку и сунув ее Уиллоу в руки. – Держи.
Девочки завтракают кукурузными хлопьями, потом Зои скрывается в ванной и одевается в школу. Руби крепко спит у меня на коленях. Наконец-то – с пяти часов утра малышка плакала и нервничала. Проснулась из-за вновь поднявшейся температуры. Когда ребенок плачет, его надо укачивать. Кресла-качалки у нас не было, поэтому я прижала малышку к груди и ходила с ней по квартире, пока Руби наконец не успокоилась, а у меня не разболелась спина. Но мелкие неудобства меня не смущали. Я испытала такое глубокое удовлетворение, когда Руби наконец устала кричать и медленно закрыла глазки.
Только тогда я опустилась в кожаное кресло. Сидела и не сводила глаз с чуть подрагивающих ресничек Руби, с ее крошечных пальчиков, крепко обхвативших мой большой палец. Смотрела на крошечную ножку, с которой на пол соскользнул кружевной носочек. Любовалась тонкими волосиками, пушком на головке, белой кожей. Сидела, как завороженная, и совсем потеряла счет времени. Забыла, что пора вести Зои в школу, а самой бежать на работу.
Не успела опомниться, а Зои уже стояла в дверях, набросив на плечо портфель. Дочка одета в куртку, застегнутую только наполовину. На запястье висит зонтик.
– Идешь? – спрашивает она.
Окидываю взглядом собственный наряд – халат и теплые тапки из овечьей шерсти.
– Мама! – рявкает Зои.
Только что заглянула в комнату и увидела, что я до сих пор в пижаме. Не двигаюсь с места, боясь разбудить Руби. С языка само собой срывается «тсс». Нельзя, чтобы Зои своими криками потревожила ребенка.
Дочка хмурится и с недовольным видом поглядывает то на часы, то на меня. Напряженная поза сменяется подчеркнуто расслабленной. Зои опускает плечи и горбит спину, рюкзак соскальзывает с плеча на локоть. Дочка вешает его обратно и выразительно вздыхает.
Шепчу:
– На работу сегодня не пойду.
Вот так, сразу, я приняла решение.
– В школу идешь одна, – прибавляю я, ожидая, что Зои сейчас запрыгает от радости. Дочка ведь давно упрашивала, чтобы я перестала ее провожать. Лучшая подруга Зои, Тейлор, ходит в школу сама, а моя Зои, получается, отстает.
Но восторгов что-то не видно. От удивления Зои открывает рот, потом с непередаваемым презрением интересуется:
– Как это – на работу не пойдешь? Ты ведь каждый день на нее ходишь.
Истинная правда. Даже когда у маленькой Зои был грипп, больничные брала крайне редко и только в самых исключительных случаях. Часто уговаривала остаться дома Криса, а когда муж не мог, звонили его родителям, живущим в западном пригороде. Если и они не имели возможности посидеть с внучкой, обращались к Грэму.
Но, глядя на крепко спящую у меня на коленях Руби, понимаю, что просто не могу уйти, и все тут. Мой палец по-прежнему зажат в пухлом кулачке.
– Много отгулов накопилось, – тихо поясняю я и напоминаю Зои, чтобы не забыла взять в школу обед. На кухне в бумажном пакете лежат «муравьи на бревне», вегетарианские пирожные из зелени с изюмом. С тех пор как Зои принялась «следить за весом», это ее излюбленное лакомство. Пытаюсь припомнить, следила ли я за весом в двенадцать лет. Очень сомневаюсь. Этот период у меня тоже начался гораздо позже, чем у дочки – лет в шестнадцать – семнадцать. Зои хватает пакет. Бумага громко хрустнула. Руби пошевельнулась и совсем чуть-чуть, едва заметно приоткрыла глазки. Потом потянулась и снова крепко уснула как ни в чем не бывало.
– Хорошего дня, – шепотом желаю Зои.
Дочка небрежно бросает:
– Пока.
Выходит в коридор, оставив дверь комнаты нараспашку. Приходится просить Уиллоу, чтобы закрыла. Надеюсь, Зои не забудет, что нельзя никому рассказывать про нашу гостью – ни одноклассникам, ни тем более учителям. Укрывать беглеца в течение более двух суток считается преступлением класса «А». Наказание – до года тюремного заключения, несколько лет условного срока или крупный штраф.
Но одно дело – знать, и совсем другое – думать, что все это может относиться к тебе. Трудно поверить, что сейчас к нам домой заявится полиция или что меня будут судить только за то, что помогла бедной девушке с ребенком. Интересно, где были эти хваленые полицейские, когда Уиллоу поставили огромный желтый синяк на лбу? Или когда ее совращал какой-нибудь похотливый тип? Интересно, как она рожала Руби? Неужели одна, ночью, в темном переулке, под ржавой пожарной лестницей и капающим кондиционером? Лежала, опершись об изрисованную граффити кирпичную стену, между кишащими крысами мусорными баками, а крики роженицы заглушал шум большого города.
Именно так представляю себе роды Уиллоу. Сижу в кожаном кресле со спящей Руби на коленях и смотрю на Уиллоу. Та молча пристроилась у окна и глядит на прохожих. Отсчитываю в уме четыре месяца – март, февраль, январь, декабрь. Получается, Руби появилась на свет в декабре. Картину дополняет грязный мокрый снег и пронизывающий до костей холод. Должно быть, когда во время родов у бедняжки шла кровь, она сразу же замерзала. Представляю на месте Уиллоу Зои. А ведь Уиллоу тоже чья-то дочь. Но где ее мать? Почему не защитила свою девочку от такой ужасной участи?
Уиллоу продолжает сидеть у окна. Волосы свесились на лицо, взгляд уже не такой усталый, как раньше, и кожа стала нежнее, ведь больше девушка не проводит целые дни на прохладном весеннем воздухе. Высокой Уиллоу не назовешь, примерно дюймов на шесть ниже меня. Когда стоим рядом, вижу ее затылок, где натуральные светлые пряди перемежаются выкрашенными в рыжий. Невольно вытягиваю руку и дотрагиваюсь до ее красной, воспаленной, покрытой коркой мочки уха. Уиллоу сразу побледнела и отпрянула, будто я ее ударила.
– Извини, – ахаю я, поспешно отдергивая руку. – Прости. Я не нарочно…
Смущенно умолкаю. Собравшись с мыслями, предлагаю:
– Надо полечить тебе уши. Неоспорин, наверное, поможет.
Температура у Руби окончательно не спадает, а тут еще и уши Уиллоу. Понимаю, что, пожалуй, все-таки придется обратиться к врачу. Через некоторое время Уиллоу робко просит разрешения взять мою книгу «Аня из Зеленых мезонинов». Конечно же отвечаю «да». Читать Уиллоу уходит в бывший кабинет Криса. Старый томик несет, прижимая к сердцу. Интересно, какие дорогие воспоминания у девушки связаны с этим романом? Уиллоу помнит текст настолько хорошо, что может свободно цитировать. Разумеется, можно задать прямой вопрос, но сразу представляю, как Уиллоу прячется под панцирем, сворачивается в клубок, точно броненосец или растение стыдливая мимоза, складывающая листья, стоит до нее дотронуться.
Соскальзываю с кресла и устраиваюсь за кухонным столом с ноутбуком и чашкой кофе. Руби по-прежнему лежит у меня на коленях, завернутая в одеяльце. Открываю поисковик и ввожу запрос «Жестокое обращение с ребенком».
Узнаю, что в нашей стране из-за домашнего насилия или небрежения взрослых каждый год погибают более тысячи детей. А обращений в социальные службы по этому поводу ежегодно набирается более трех миллионов. Тревогу бьют учителя, местные власти, друзья семьи, соседи, а иногда лица, пожелавшие остаться анонимными. Жестокое обращение может привести к физическому ущербу – сильные ушибы, трещины костей, раны, на которые необходимо накладывать швы, поврежденный позвоночник или шея, черепно-мозговые травмы, ожоги второй-третьей степени и так далее – список огромен. Эмоциональные последствия не менее тяжелы – даже у самых маленьких жертв бывает депрессия, дети начинают бояться взрослых, часто наблюдаются случаи асоциального поведения, пищевые расстройства, случаются попытки самоубийства, подчас психологическая травма провоцирует раннее начало половой жизни. И, как следствие, весьма вероятна беременность в подростковом возрасте. Сразу представляю беременную Уиллоу. Те, кто в детстве подвергался домашнему насилию, чаще страдают алкоголизмом и наркозависимостью, становятся участниками противоправных действий. Школьная успеваемость таких детей намного ниже, чем их ровесников, растущих в благополучных домах.
Кто же отец Руби, думаю я, наливая себе вторую чашку и случайно закапав столешницу сливками. Взрослый любовник? Ровесник? Учитель, который принудил ее силой, воспользовавшись властью над учениками, или очаровавший наивную девушку улыбками и приветливостью? А вдруг это ее родной отец или отчим? Сосед? Брат?..
И тут вспоминаю, как Уиллоу упомянула про брата Мэттью. Того самого, который читал «Аню из Зеленых мезонинов». Может, он и есть отец ребенка? Тут слышу шаги Уиллоу и поспешно захлопываю ноутбук, чтобы она не увидела страшных слов на экране – «избиение», «сексуальные домогательства», «изнасилования». Едва переводя дух, встаю и пытаюсь принять небрежную позу, однако явно переигрываю. Уиллоу спрашивает разрешения включить телевизор. Конечно же, отвечаю, что она может смотреть все что захочет, но только звук пусть сделает потише. Уиллоу устраивается в кожаном кресле и включает «Улицу Сезам», программу для малышей, которую Зои в последний раз смотрела года в четыре. Предпочтения Уиллоу кажутся мне очень странными, не знаю, что и думать.
Но постепенно мысли об Уиллоу отступают. Сосредотачиваю все внимание на Руби. Вместо того чтобы думать о несчастных детях, с которыми плохо обращаются, планирую большой шопинг. Надо купить кресло-качалку – так удобнее укачивать младенца. Теперь не гадаю, откуда взялся желтый синяк на голове у Уиллоу, а представляю, как сижу с Руби на руках у большого окна в эркере и смотрю на падающий дождь.
Крис
Вместо одного дня Уиллоу и Руби провели в нашем доме два, а потом и три. Сам не знаю, как это получилось. Прихожу домой с работы, исполненный решимости объявить Хайди, что пора и честь знать. Тщательно продумываю, что буду говорить, как дам девчонке пятьдесят долларов – нет, даже сто. Этого ей хватит надолго, пока не устроится. Перечислю все приюты для бездомных в Чикаго, чтобы Хайди убедилась, что я не бессердечный сухарь, выгоняющий ребенка на улицу. Более того – сам отвезу Уиллоу с Руби в приют. На такси. Удостоверюсь, что ее приняли, и только тогда уеду. Сам, лично спрошу, дают ли они места матерям с детьми.
Заранее решаю, что скажу Хайди. По пути с работы составляю подробные планы на листе бумаги. Поезд качает, поэтому записи получаются неразборчивые, будто курица лапой строчила. Шагая к дому от станции Фуллертон, филигранно оттачиваю в уме каждое слово. Мы ее не бросим, будем и дальше помогать, поддерживать, скажу я. Проследим, чтобы Уиллоу и Руби ни в чем не нуждались.
Пристально посмотрю в красивые карие глаза Хайди, и жена поймет, что это и впрямь самый лучший вариант. Буду осторожен и тактичен, в качестве оправдания своих действий напомню жене об интересах нашей дочери. «Зои уже думает, что об Уиллоу ты заботишься больше, чем о ней». Тогда Хайди со мной согласится. Надо поставить вопрос так: или Зои, или Уиллоу. Тут уж Хайди спорить не станет.
Но, как говорят, «план писали на бумаге, да забыли про овраги». Не успеваю дойти до дома, как вдруг раздается раскат грома. А ведь вечер был такой тихий… Тут же стеной обрушивается холодный дождь. Небо над Чикаго затягивает свинцовыми тучами. Перехожу на бег, чувствуя, как стремительно холодает. Днем было одиннадцать градусов, а ночью температура вполне может опуститься до минусовой. Это каким же бессердечным чудовищем надо быть, чтобы выгнать девчонку в такую непогоду? Именно так Хайди и скажет, думаю я, поднимаясь на крыльцо дома, отряхивая мокрое пальто и мотая головой.
Захожу в квартиру. Девчонка сидит на диване, злобная черная кошка примостилась у нее на коленях. Хайди с Зои делают уроки на кухне. Обсуждают что-то про теорию вероятностей – вероятность простых событий, вероятность совпадающих событий. Интересно, какова вероятность, что в самый дождливый апрель в истории наблюдений будет еще один ливень?
Хайди уже два дня не ходит на работу. Два дня! Сначала я запрещал оставлять эту девицу одну дома. Боялся за сохранность документов, ювелирных украшений, электроники. Осматривал все наши вещи, прикидывая, что из них можно стащить. Хайди заметила, как я задумчиво разглядываю наш сорокадюймовый плазменный телевизор. Видно, представила, как девица ковыляет по улице, таща его под мышкой, и сказала:
– Крис, не валяй дурака.
Жена хотела упрекнуть меня в излишнем пессимизме, я же ответил:
– Не будь наивной.
Однако Хайди использовала мои тревоги в своих интересах – как повод не ходить на работу и сидеть дома. А ведь я рассчитывал совсем на другой ответ – думал, жена наконец вышвырнет девчонку за дверь. Жена издевательски сообщает, что не может уйти из дома, оставив Уиллоу одну. Вдруг воровка скроется с нашим телевизором или обручальным кольцом отца Хайди?
Ребенок сладко спит на расстеленном на полу одеяльце. По телевизору показывают прогноз погоды. Синоптики говорят о грозах и штормах, предупреждают о возможных торнадо, пугают разрушениями. Жителям городов Диксон и Элдена дома покидать не рекомендуется. Циклон движется из центральной части Иллинойса и из Айовы. На карте демонстрируют красные и оранжевые круги.
Хайди спрашивает:
– Что, опять дождь полил?
Вешаю мокрую крутку на крючок у двери и снимаю ботинки. Вопрос жены заглушает шум ливня. Отвечаю – да, полил.
– Только что, – прибавляю я. – А еще сильно похолодало.
Гром грохочет так, что, кажется, даже дом вздрагивает.
– Похоже, гроза будет сильная, – замечает Хайди и бросает взгляд на Уиллоу.
Та гладит кошку, не сводя глаз с черных туч за окном. Когда небо озаряет молния, Уиллоу едва не подпрыгивает, потом вжимается в диванные подушки, точно пытаясь спрятаться.
Целую Хайди и Зои. Потом отправляюсь на кухню, где Хайди оставила для меня ужин. Тарелка стоит на столешнице, прикрытая бумажным полотенцем. Несу ее к микроволновке. Заглянув под полотенце, вижу свиные отбивные. В присутствии девчонки есть свои плюсы – хотя бы вегетарианская диета закончилась.
Сквозь щели в окнах в квартиру проникают сквозняки. Становится заметно холоднее. Ветер завывает, деревья раскачиваются. Хайди встает с кресла и пересекает комнату, чтобы включить газовый камин. С ним будет теплее.
И тут краем глаза замечаю ужас на лице Уиллоу, когда та вскакивает с дивана, уронив на пол черную кошку. Слежу за ее перепуганным взглядом и вижу, что он устремлен на камин. Огонь сияет оранжевым светом среди искусственных углей. Языки пламени танцуют за решеткой. Обе кошки сразу подбираются поближе и уютно располагаются возле камина, не обращая внимания на страхи Уиллоу.
– Огонь, – тихим, дрожащим голосом произносит она, тыча в него пальцем.
Камин черный, с черной решеткой и резко выделяется на фоне белой стены. Окружен он всякими полочками, на которых Хайди расставляет свои любимые безделушки: снежные шары, вазы, коллекцию винтажных стеклянных банок.
– Огонь, – повторяет Уиллоу, точно пещерный человек, которому в первый раз удалось развести костер. Глаза стеклянные, лицо побледнело.
Хайди сразу выключает камин. Пламя над нарисованными черными поленьями исчезает.
– Уиллоу, – произносит Хайди таким же дрожащим голосом, каким только что говорила девчонка. Но тон жены звучит по-другому, успокаивающе.
Мы с Зои молчим. Кошки смотрят на остывающий камин.
– Успокойся, Уиллоу, бояться нечего, – произносит Хайди. – Это же всего лишь камин. Он совершенно безопасен.
Жена бросает на меня растерянный взгляд. Пожимаю плечами. Уиллоу садится обратно на диван. Видимо, девчонка намерена вести себя как ни в чем не бывало.
Поев, отправляюсь к себе в комнату. Говорю, что надо кое-кому позвонить по работе, – так мне точно не станут мешать. Однако звонок, который собираюсь сделать, не имеет к работе никакого отношения. Все это время я пытался напасть на след Уиллоу Грир, однако всюду меня ждали тупики. Решил расширить поиски и не ограничиваться одним Гуглом. В офисе все свободное время ищу в Интернете сведения об этой девице.
Отыскал сайт Национального центра по поиску пропавших детей и просмотрел все свежие объявления. Даже подписался на рассылку, чтобы меня извещали по электронной почте о недавних случаях пропажи детей. Теперь знаю про всех разведенных супругов, крадущих ребенка друг у друга. Но про Уиллоу пока ничего не попалось.
Обнаружив аккаунт в «Твиттере» на имя «У. Грир» – «@ПропадаюБезТебя», провел слишком много времени, читая унылые твиты этой девушки и угрозы что-нибудь с собой сделать. Смотрел на фотографии порезанных бритвой запястий – хотя, может, она просто нарисовала эти раны? Отвечали ей другие подростки, вырезающие на коже всякие слова: «жирная», «прошла любовь» и даже «сука». Кое-кто даже подгонял У. Грир, чтобы она поскорее исполнила свои намерения. На других фотографиях были многочисленные татуировки этой девушки – на плече и на ноге разнообразные оккультные символы, на ладони что-то вроде бабочки с черно-желтыми крыльями. Еще отыскал крупный план лица, скрытого за прямыми длинными рыжими волосами. В ушах серьги, похожие на те, что носит Уиллоу, – с крыльями ангела. Неужели совпадение? Внимательно всматриваюсь в серьги – они не просто похожие, а точно такие же. Может, все-таки напал на след?
Что, если это профиль нашей Уиллоу Грир? Могла же она выложить чужую фотографию. У других в профилях каких только картинок ни выставлено – собака, кошка, Мэрилин Монро. Здесь не обязательно использовать свою фотографию. Решаю завести собственный аккаунт в «Твиттере» @БизнесменЗ. Загружаю первую попавшуюся фотку из Интернета – какой-то мужчина-модель с голубыми глазами и густыми светлыми волосами. Позирует без рубашки, демонстрируя накачанные мышцы живота. А что, можно же помечтать. Отправляю сообщение @ПропадаюБезТебя. «Больно было?» – спрашиваю я, имея в виду порезы. Потом беру телефон и набираю номер. Есть у меня один старый приятель, бывший однокурсник. Работает частным детективом, в основном выполняет заказы мужей и жен, подозревающих вторую половинку в измене. Зовут приятеля Мартин Миллер. У него всегда наготове куча занятных историй про богатеньких дамочек, тайком встречающихся с любовниками в дешевых отелях. На своем сайте Мартин обещает разыскать кого угодно – хоть любовь юности, хоть сбежавшего из дома подростка. Вдруг и мне поможет?
Обрисовываю Мартину ситуацию. Тот клянется никому не рассказывать. Меньше всего хочется, чтобы Хайди узнала, что я нанял частного детектива. Или чтобы Мартин донес о нашем укрывательстве кому надо. Нет, думаю я, снова просматривая сайт. Мартин обещает клиентам полную конфиденциальность. И вообще, он ведь мой друг, я его знаю.
Однако почему тогда Мартин распространяет пикантные истории про развлечения сливок общества в отелях? Мы, помнится, сидели в каком-то баре на Логан-сквер и ржали, как кони. Впрочем, было это давно, лет пять назад, и мы оба были пьяны в стельку. Нет, на Мартина точно можно положиться.
Позже, лежа в малиновом спальном мешке на полу, вспоминаю, какими глазами девчонка смотрела на пламя в камине. Почему девочка-подросток так боится молний и огня? Зои подобных мелочей перестала бояться лет с восьми. Мне почти жаль Уиллоу. Почти. Сочувствовать – это не мое. Зато у Хайди сострадания на всю семью хватит.
Хайди
Уиллоу осваивается в нашем доме постепенно – так же как камни медленно точит эрозия и они становятся галькой. О себе Уиллоу рассказывает мало, почти ничего, но я уже успела привыкнуть к ее скрытности и перестала задавать вопросы. Конечно, очень хочется узнать хоть что-то о ее прошлом, семье, но знаю, что ответы будут краткими и односложными.
Единственный член семьи, про которого мне известно, – брат Мэттью. К присутствию в доме гостьи мы, хозяева, относимся по-разному. Крис с трудом старается держаться в рамках приличий, но на самом деле просто терпит Уиллоу. Но каждый день Крис настойчиво интересуется, сколько еще девушка будет у нас оставаться.
– Один день? – выпытывает муж. – Два?
Всякий раз отвечаю, что не знаю. Он качает головой и произносит:
– Хайди, это уже ни в какие ворота.
Тогда напоминаю, что за все время, проведенное в нашем доме, Уиллоу не сделала ничего плохого. Все члены семьи живы и здоровы, домашняя утварь на своих местах. Уиллоу и мухи не обидит, говорю я. Однако Крис упорно сомневается.
И все же время от времени вспоминаю брызги крови на майке, которую выбросила в мусоропровод. Теперь она, должно быть, на какой-нибудь свалке в Долтоне. Интересно, Уиллоу сказала правду? Может, у нее действительно шла кровь из носа? Или… Другие варианты даже рассматривать отказываюсь. Не важно, что я делаю, принимаю душ или готовлю ужин, – не могу выкинуть из головы эти кровавые пятна.
А когда не думаю про кровь, мысли мои целиком сосредоточены на малышке Руби. Держа девочку на руках и слыша ее плач, представляю тех так и не родившихся детей, о которых так мечтала. Которых собиралась завести. Даже по ночам снятся младенцы – живые, мертвые, хорошенькие, как ангелочки, настоящие ангелочки с крыльями. Вижу во сне Джулиэт, эмбрионы, бутылочки, детские туфельки. Иногда всю ночь снится, как я рожаю. А в другой раз вижу кровь на ночной рубашке. Потом эта кровь начинает потоком течь у меня между ног, пачкая белье, такое же белое, как ткань рубашки.
Просыпаюсь напуганная, в поту, а Крис и Зои спокойно почивают всю ночь, даже не шелохнувшись.
К Уиллоу дочка относится, как ко всему и всем – с враждебностью. Иногда сидит, уставившись на гостью из другого угла комнаты, и во взгляде читается чуть ли не ненависть. Зои ворчит из-за того, что приходится делиться с Уиллоу одеждой и убавлять звук телевизора, когда она хочет посмотреть какую-нибудь модную у подростков программу. Если Уиллоу в туалете, а у меня руки заняты, Зои наотрез отказывается подержать Руби. Бутылочку ей тоже не дает, а когда девочка, как с ней часто бывает, разражается настойчивым, жалобным плачем, Зои демонстративно закатывает глаза и выходит из комнаты.
Привыкаю готовить три раза в день, а не два, радуясь, что есть кому вылизать тарелку до блеска. Вдохновенно стряпаю салаты, супы, лазанью, тетрацини с курицей. Уиллоу все съедает с одинаковым удовольствием и никогда не отказывается от добавки – наоборот, только благодарит. Зои же на любые блюда смотрит с унылым видом и задает вопросы вроде: «Это что вообще?» или «Мы же вроде вегетарианцы?». Тон при этом типичный подростковый – пронзительный и ноющий. Наблюдаю, как Зои выуживает из салата одни листья и жует их, точно кролик, и испытываю глубокое удовлетворение оттого, что второй едок, Уиллоу, скушает все до последней крошки, и не придется выбрасывать хорошие продукты.
Днем, когда Зои в школе, сижу и смотрю на Уиллоу и Руби. С младенцем она обращается неуклюже, неловко – сразу видно, что не хватает опыта. Тогда беру ребенка у нее из рук и предлагаю: «Давай лучше я». Потом, правда, прибавляю: «Тебе надо отдохнуть». Нарочно, чтобы Уиллоу не обиделась. Не знаю, как Уиллоу относится к тому, что я в любой момент могу просто взять и забрать у нее ребенка. Впрочем, меня это, откровенно говоря, не особо волнует. Целую лобик малышки и шепчу: «Ах ты, моя красавица». А потом начинаю укачивать и всячески ее забавлять, надеясь увидеть прелестную младенческую улыбку.
Сажусь в новое кресло-качалку. Заказала в интернет-магазине, доставили сегодня утром. Крис его еще не видел. Дополнительно заплатила почти сто долларов за срочную доставку, но эту подробность мужу сообщать не стану. Сажусь, откинувшись на спинку, и начинаю тихонько раскачиваться с ребенком на руках. Напеваю себе под нос колыбельные Пэтси Кляйн. Этими песенками меня в детстве убаюкивала мама. Мелодии явно привлекают внимание Уиллоу, хотя она старается не подавать вида.
Наблюдаю за девушкой уголком глаза и с опаской гадаю, когда она решит забрать Руби. Скоро ей надоест смотреть детские программы – на этот раз включено «Маппет-шоу», – и Уиллоу захочет уйти в кабинет с ребенком и «Аней из Зеленых мезонинов». Инстинктивно прижимаю к себе Руби крепче, будто собираюсь защищать ее от родной матери.
Впрочем, Уиллоу в доме уже третий день, а я по-прежнему не знаю о ней ничего, кроме имени, которое, как справедливо заметил Крис, может оказаться и вымышленным. Не считая упоминания о брате Мэттью, это все, что мне известно о гостье.
Про себя Уиллоу не рассказывает, а я не спрашиваю, боясь спугнуть. Вдруг она уйдет и заберет ребенка? Начинаю придумывать всякие истории о том, как Уиллоу с младенцем оказалась на улице. Но все это, конечно, выдумки – с таким же успехом могла бы сочинить, что ее унес от родного дома торнадо, как в «Волшебнике страны Оз», или она сбежала, спасаясь от охотника, посланного добыть ее сердце, как в сказках братьев Гримм. Время от времени Уиллоу как будто решается и начинает говорить, но стоит ей пробормотать одно слово, или даже несколько слогов, как девушка резко обрывает саму себя и делает вид, будто ничего сказать не хотела.
Уиллоу очень серьезна для своего возраста, даже мрачна. Никогда не улыбается. Если бы не юное лицо, ее можно было бы принять за старушку – взгляд битого жизнью человека, скромное, сдержанное поведение. Чаще всего Уиллоу сидит тихо, как мышка. Пристроится на диване и уставится в телевизор, хотя явно думает о своем. В основном Уиллоу предпочитает мультфильмы и почти не пропускает «Улицу Сезам» – эту передачу смотрит как завороженная. Заговаривает, только когда Крис, Зои или я к ней обращаемся.
Ест Уиллоу торопливо, с жадностью, будто в первый раз получила возможность полакомиться в свое удовольствие домашней пищей. По вечерам, когда пожелаем друг другу спокойной ночи, слышу, как Уиллоу запирает за собой дверь в кабинет, точно боится, что без задвижки кто-нибудь непременно к ней проберется, пока она спит.
Иногда посреди ночи слышу из-за стены, как Уиллоу разговаривает во сне. Произносит одну и ту же фразу: «Поедем вместе». Иногда она повышает голос, и тон звучит умоляюще, отчаянно. «Поедем вместе». «Поедем вместе». Интересно, кого она зовет и куда?
Уиллоу всегда убирает после себя со стола. Относит посуду в раковину, моет и вытирает, хоть я и говорю, чтобы не утруждалась, – в доме есть посудомоечная машина. «Не надо, – говорю я. – Потом поставлю в машину, она и помоет». Однако Уиллоу продолжает упорно полоскать тарелки и вилки, будто считает это своей обязанностью. По два, по три раза проверяет, не осталось ли на них остатков пищи. Можно подумать, я ее ругать буду. Представляю, как некий взрослый человек бьет Уиллоу ремнем за то, что плохо помыла посуду, а потом с размаху ударяет по лбу, и остается большой синяк.
Покачиваюсь с Руби в кресле, а Уиллоу молча сидит на диване. Руби вертится в моих объятиях. Рот занят соской, поэтому зареветь не может, но вижу, что очень хочет издать пронзительный вопль. Взгляд беспокойный, глазки поблескивают. Снова начался жар. Смачиваю полотенце и прикладываю к головке Руби. Продолжаю мурлыкать колыбельные в надежде, что это ее хоть немного успокоит.
Тут Уиллоу неожиданно поворачивается ко мне и тихо, скромно спрашивает:
– Если так любите детей, почему у вас всего один ребенок?
У меня сразу дыхание перехватывает. Можно соврать. Можно сменить тему. Никто еще не задавал мне таких вопросов, даже Зои. Одиннадцать лет назад я была совершенно раздавлена. Зои было меньше года, она обожала нежиться у мамы на ручках – конечно, когда у бедняжки не было колик. Тогда на ее вопли сбегались соседи и настоятельно просили утихомирить ребенка, чтобы хоть кто-то в доме смог выспаться. Зои было всего пять-шесть месяцев, когда я узнала, что жду второго ребенка, Джулиэт. С одной стороны, мы с Крисом не планировали так скоро обзаводиться следующим, но с другой, никаких предосторожностей тоже не предпринимали. Новость о беременности привела меня в полный восторг. Думала, вот оно – начало большой семьи, о которой так страстно мечтала.
А вот насчет реакции Криса была не уверена. «Как быстро», – только и произнес муж в день, когда сообщила, что снова в положении. Я стояла в дверях ванной с положительным тестом на беременность в руке. «У нас ведь уже есть ребенок», – прибавил Крис. Но потом муж улыбнулся и обнял меня. Несколько недель только и говорили о том, как назовем малыша, и решали, поселить их с Зои в одну комнату или в разные.
Первыми заметила кровянистые выделения. Сначала они были почти прозрачными, потом стали темно-красными. За ними последовали боли. Уверенная, что это признаки выкидыша, поспешила к доктору, но тот меня успокоил, сказав, что ребенок на месте.
А потом биопсия подтвердила рак шейки матки степени Т1b. Врач настоятельно рекомендовал радикальную гистерэктомию, а это значило, что сначала необходимо сделать аборт. «Процедура несложная и неопасная», – уверял врач нас с Крисом. Прочла в Интернете, что мне просто все выскребут изнутри. Стоило представить, что так поступят с моей Джулиэт, и сразу решила – нет, ни в коем случае. Однако Крису каким-то образом удалось убедить меня, что аборт необходим. «Если бы срок был большой, тогда, конечно, дело другое, – говорил он, повторяя слова доктора. – Или если бы рак был на начальной стадии». Потом прибавлял от себя: «Без тебя вырастить Зои не смогу». Подумала – если умру, Крис с Зои останутся одни. Будь рак и впрямь на начальной стадии, лечение можно было отложить и заняться им после родов. Но мой случай был не таким. Пришлось делать выбор – ребенок или я. Выбрала себя, и с тех пор это решение не дает мне покоя.
Доктор и Крис поправляли меня всякий раз, когда я называла Джулиэт «ребенком». Они-то всегда говорили «зародыш». После аборта врач сказал, что нельзя было определить, мальчик это или девочка. Мол, репродуктивные органы начинают формироваться только на третьем месяце беременности. И все же я была уверена, что это именно девочка Джулиэт. Глядела на познавательные брошюры, которые вручил мне доктор, и сердито думала, что так закрутилась с работой и ребенком, что не сделала мазок и не сходила к врачу на обязательный осмотр через полтора месяца после родов – просто решила, что эти ненужные формальности мне ни к чему. В брошюрах говорилось, что рак шейки матки можно обнаружить на ранней стадии при помощи обычных мазков – тех самых, которые я поленилась сделать. А больше всего злило то, что я не входила ни в одну группу риска. Не курила, проблем с иммунитетом не имела и, насколько мне было известно, не была заражена вирусом папилломы человека. Мой случай оказался редким, исключительным. Одним на миллион. Я не должна была заболеть.
Доктор удалил мне матку, а потом, видно, подумал – гулять так гулять – и вырезал вообще все: и фаллопиевы трубы, и яичники. Кроме шейки матки, распрощалась с частью вагины и лимфатическими узлами. Физически восстановилась через полтора месяца, морально так и не оправилась.
То, что время от времени мне ни с того ни с сего начало становиться невыносимо жарко, было неожиданностью. Вдобавок теперь я страдала розацеа. Сердце вдруг принималось стремительно колотиться, почти выскакивая из груди. Приходилось падать на стул и некоторое время переводить дыхание. Но ведь такое испытывают только пожилые женщины! Ночью, когда не вставала к ребенку, не могла заснуть оттого, что буквально обливалась потом. Бессонница приводила к плохому настроению и раздражительности в течение дня. В жар бросать постепенно перестало, и все же неприятные симптомы время от времени проявлялись.
У меня была менопауза. А ведь мне тогда даже до тридцати было далеко. В результате обмен веществ замедлился, при том же режиме питания на моей до этого стройной талии начал откладываться жир. Крис утверждал, что не замечает, но я-то все видела. Разве, примеряя в магазине брюки, можно не заметить, что вместо четвертого размера тебе теперь требуется восьмой? На женщин вроде Кэссиди Надсен – молодых, изящных, здоровых – стала поглядывать с завистью. Они могут выносить и родить ребенка, когда только пожелают, а я – нет. Я молодая женщина, но из-за операции постарела преждевременно.
– Надо во всем видеть хорошее, – говорил Крис, пытаясь меня подбодрить. – Зато больше с месячными мучиться не придется.
Слово «месячные» Крис произнес с легкой брезгливостью, для меня же они теперь стали недостижимой мечтой. Что угодно отдала бы, лишь бы снова понадобилось бежать в аптеку за тампонами! Ведь это означало бы, что я здорова и могу иметь детей. Но, увы, теперь ничего не получится.
– У меня был рак, – признаюсь я, с трудом выговорив отвратительное слово. – Рак шейки матки. Пришлось все удалить.
Интересно, Уиллоу хоть знает, что такое шейка матки?
Она по-прежнему сидит на диване, глядя в телевизор на Берта, Эрни и их любимую резиновую уточку. Эрни начинает негромко петь.
– Но вы хотели еще детей? – настаивает Уиллоу.
– Да, – произношу я, ощущая оставленную после Джулиэт пустоту в сердце. – Очень.
Крис сказал, что мы можем усыновить сироту или даже нескольких. Но после рождения собственной дочери приемных детей не хотела. Мечтала о родных. Не могла представить, как ращу чужого ребенка. Чувствовала себя обманутой. Все, больше никаких детей.
– Вы хорошая мама, – говорит Уиллоу. Косится на сверкнувшую за окном молнию. Грохочет гром, и Уиллоу произносит, говоря скорее сама с собой, чем со мной: – Моя мама тоже была хорошая.
– Расскажи про свою маму, – выпаливаю я.
И Уиллоу рассказывает – неуверенно, с запинками. Оказывается, у ее мамы были черные волосы и синие глаза, и звали ее Холли. Работала парикмахершей, принимала клиенток на дому, в ванной. Делала стрижки, завивки, укладки. Любила готовить, но получалось чаще всего так себе. То сожжет курицу, то, наоборот, недожарит, так что внутри мясо останется розовым. А еще мама Уиллоу обожала слушать музыку, особенно кантри – Долли Партой, Лоретта Линн, Пэтси Кляйн. Все это Уиллоу рассказывает, не глядя на меня. По-прежнему не сводит глаз с ярких, забавных персонажей «Улицы Сезам» на экране – Большой Птицы, Элмо, Коржика.
– Где сейчас твоя мама? – спрашиваю я.
Уиллоу молчит. Тогда начинаю в свою очередь рассказывать ей про отца. Инстинктивно тянусь к обручальному кольцу, висящему на цепочке у меня на шее. Когда речь зашла о Пэтси Кляйн, сразу вспомнила ее песни, ее голос. В юности смерть певицы произвела на мою маму такое впечатление, что песни «Схожу с ума» и «Прогулки после полуночи» постоянно звучали в доме и стали неотъемлемой частью моего детства. Помню, как мама с папой кружились по медно-коричневому ковролину в гостиной, держась за руки и приникая щекой к щеке.
– Это его кольцо? – спрашивает Уиллоу, указывая на цепочку.
Честно отвечаю – «да». Потом зачем-то рассказываю, как мы с Крисом сбивались с ног, подыскивая для кольца подходящую золотую цепочку. Ради папы должна была подобрать в точности нужный оттенок. Крис специально заказал эту цепочку, заплатив больше тысячи долларов.
«На эти деньги можно было поехать отдыхать. Или купить телевизор, – говорил муж. – Или новый компьютер». Но я ответила решительным «нет». Мне нужна была именно эта цепочка.
«Это кольцо, – сказала я Крису в тот день в Уобош, посреди ювелирного ряда, – единственное, что у меня осталось от папы». Из моих усталых, красных от бессонницы глаз лились слезы. С тех пор как умер папа, не спала по ночам. Как сильно тогда горевала, Уиллоу не рассказываю. Скончался папа тихо и мирно, потерпев поражение в борьбе с мелкоклеточным раком легкого. Увы, когда папа узнал, что болен, метастазы уже распространились на мозг, печень, кости. О том, что папа наотрез отказывался лечиться, упоминать не стала. Несмотря ни на что, он продолжал выкуривать полпачки «Мальборо Ред» в день. Мама даже похоронила его с сигаретами и неоново-зеленой зажигалкой. Эти подробности тоже опускаю.
Зато рассказываю, какой был красивый осенний день, когда мы хоронили папу на кладбище возле церкви под ясенелистным кленом, листва которого за ночь сделалась оранжевой. Рассказываю, как гроб вынесли из церкви и понесли к вершине холма, где находилось кладбище. Накануне ночью шел дождь, и мокрая земля чавкала под ногами. Мы с мамой шагали сзади. Поддерживала ее под локоть – отчасти чтобы не поскользнулась, отчасти потому, что потеряла одного родителя и отчаянно цеплялась за другого, и в переносном, и в буквальном смысле слова. Когда гроб опустили в могилу, мы возложили на крышку цветы, лавандовые розы, букет из которых мама держала в руках в день свадьбы.
Тут Уиллоу устремляет на меня взгляд усталых голубых глаз и произносит:
– Ненавижу розы.
Таким же тоном люди говорят, что ненавидят террористов или нацистов. В общем, когда речь идет о серьезных вещах, а не просто о нелюбви к запаху пережаренного попкорна или виду полных женщин, затянутых в корсеты. Вот так, просто – «ненавижу розы». Изо всех сил стараюсь не обидеться. Напоминаю себе – о вкусах не спорят, каждому свое. И все же странный ответ на мою исповедь.
Повисает долгая пауза. Уже решаю, что с откровениями на сегодня закончили, и вдруг Уиллоу произносит:
– Моя мама погибла.
Последнее слово прозвучало так, будто она не совсем в этом уверена или толком не знает, что оно означает, – в том же смысле, что и малопонятное образное выражение. Просто так принято говорить. «Моя мама погибла».
– Что с ней случилось? – спрашиваю я.
Молчание. Уиллоу сворачивается в клубок, снова скрывшись внутри своего панциря. Не сводит глаз с телевизора, однако взгляд кажется застывшим и ничего не выражает. Похоже, Уиллоу с трудом удерживается от слез. Окликаю ее:
– Уиллоу!
И снова никакого ответа. Уиллоу не обращает на меня внимания, будто не замечает, как пристально я смотрю на нее, на ее растрепанные волосы и намазанные гигиенической помадой губы, желая услышать ответ на свой вопрос. Но так его и не дожидаюсь. Потом, видимо не выдержав моего внимательного взгляда, Уиллоу забирает у меня ребенка и уходит в кабинет.
Крис
Перепрыгивая через две ступеньки, спускаюсь на платформу станции. Тут начинает звонить мобильный. Генри. Остановившись на полпути, возвращаюсь на тротуар и встаю, прислонившись к ограде, отгораживающей лестницу от улицы. Улицы полны машин и пешеходов, спешащих домой с работы. Еще не совсем стемнело. Сегодня один из редких дней, когда я освободился вовремя. Движение на дороге сильно затрудняет автобус. Какой-то житель пригорода или приезжий пытается обогнуть препятствие, едва не сбив полдесятка пешеходов. Визжат тормоза, сигналят другие водители. Кто-то орет:
– Ну ты козел!
Потом показывает незадачливому автомобилисту неприличный жест.
Заходящее солнце светит прямо в глаза. Прикрываюсь, выставив ладонь козырьком, и произношу в трубку:
– Слышать ничего не хочу.
Но, из-за шума слова Генри в любом случае разобрать не так-то просто. Из трубки до меня доносится его противный громкий смех – можно подумать, гвоздями по грифельной доске царапают.
– И тебе привет, Вуд, – бодро отзывается Генри. Представляю его сидящим на толчке со спущенными штанами. На коленях лежит журнал «Плейбой». – Не забудь поцеловать на прощание свою очаровательную женушку. Вылетаем завтра утром.
– Куда на этот раз? – спрашиваю я.
– Намечается дорожное шоу1, – отвечает Генри. – Едем в Денвер через Нью-Йорк.
Дорожное шоу – элемент практической подготовки компании-эмитента при выпуске ее ценных бумаг (облигации, акции и т. д.), серия встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками в разных городах.
– Черт, – произношу я. Не буду врать, что удивлен. К этой поездке мы готовились уже давно. И все-таки время выбрали ужасно неудобное. Вот Хайди разозлится…
До дома добираюсь благополучно. Выхожу на станции Фуллертон и по лестнице спускаюсь с платформы на улицу. Прислонившись к металлической ограде возле лотков с газетами и журналами, сидит бездомный. Глаза у мужчины закрыты. Такое впечатление, что он крепко спит. Рядом стоит черный мусорный пакет, в котором, видимо, спрятано все его имущество. Бродяга ежится во сне. Еще бы, температура на улице всего десять градусов.
Моя первая мысль – как бы не споткнуться. Мужчина вытянул длинные тощие ноги в голубых пижамных штанах на весь тротуар. Пижама, судя по виду, больничная. Как и остальные прохожие, перешагиваю через его ноги, но вдруг что-то заставляет остановиться и обернуться. Смотрю на красные щеки и уши бродяги, обращаю внимание, что он спит, засунув руку в пакет, – видно, чтобы не украли. Достаю из заднего кармана кошелек и принимаюсь рыться внутри, старательно отгоняя звучащий в ушах голос Хайди. Кладу перед мужчиной десятку, надеясь, что тот проснется, пока ее не унесет ветром.
Вот повезет, если единственное доброе дело, до которого я снизошел за долгое время, останется незамеченным.
Когда прихожу домой, телевизор включен. Идет «Улица Сезам». Хайди положила ребенка на животик и объясняет Уиллоу, как часто это нужно делать. Видно, жена надеется, что мохнатые монстрики отвлекут девчонку. Руби терпеть не может, когда ее укладывают на живот. Лежит и дрыгает руками и ногами, точно рыбка, выброшенная на берег.
Зои стоит на кухне и смотрит на свой телефон, по-прежнему лежащий на столешнице. При моем появлении вздрагивает, будто пойманная за чем-то недозволенным. Медленно отходит, стараясь не шуметь. Дочка не хочет, чтобы Хайди узнала, что она крутилась возле телефона.
Жена приветствует меня фразой:
– Думала, придешь пораньше.
На меня даже не смотрит, все внимание поглотил ребенок. Хайди агукает тоненьким голоском, строит гримасы, меня же полностью игнорирует.
И вообще, сейчас всего семь часов.
– Можно тебя на минутку, Хайди? – интересуюсь я, вешая куртку на крючок у двери.
Рассеянно покосившись в мою сторону, Хайди берет младенца и передает девчонке. Та держит Руби так неловко, что, кажется, вот-вот уронит. Тут на экране появляется мамонт Снаффи. Уиллоу уставилась на него, точно завороженная. А Зои эту программу смотрела года в два…
Стараясь ступать как можно тише, Хайди следует за мной в спальню. Я же, наоборот, стараюсь топать погромче, будто хочу что-то этим продемонстрировать. Кошки разбегаются, боясь, что наступлю им на хвосты, и прячутся под кроватью. Переодеваюсь из рубашки в спортивную кофту, белую с бордовым – спортивная команда моего колледжа, «Вперед, Феникс!». Потом рассказываю жене про дорожное шоу. Говорю, что день-два проведу в Нью-Йорке, потом еще на несколько дней отправлюсь в Денвер. Выезжаю завтра с утра.
Ожидаю недовольства, вскинутого вверх указательного пальца, усталого закатывания глаз, уничижительных комментариев насчет Кэссиди Надсен, допроса, поедет ли с нами эта девица… Но тут Хайди преподносит мне сюрприз. Сначала молчит, потом просто пожимает плечами и произносит:
– Ладно, поняла.
Потом берет корзину с бельем и отправляется в подвал, в прачечную, чтобы постирать мне рубашки перед поездкой. Это настолько не в привычках Хайди, что мне бы насторожиться, но я слишком рад, что меня в кои-то веки не отчитывают за командировки, точно школьника.
Собираю вещи, потом разогреваю на ужин остатки пиццы. Хайди находит нужное количество мелочи и отправляется стирать. Зои у себя в комнате, делает домашнее задание по географии – во всяком случае, так она утверждает. Но вижу, что вместо учебы дочка сидит на кровати с желтой тетрадью на коленях. Той самой, куда записывает все свои сокровенные мысли. Например, что папа у нее полный олух, а мама с приветом. А может, дочка пишет не о нас, а об Остине. Интересно, есть в ее дневнике что-нибудь про Уиллоу? Откуда мне знать? Вдруг окажется, что Зои талантливая поэтесса, а мы и не в курсе? Сидит и заполняет страницы лимериками пополам с одами.
Таким образом, остаюсь с Уиллоу наедине в гостиной. Атмосфера сразу становится неловкой. Сидим в полном молчании, только ребенок издает обычные младенческие звуки – воркует, взвизгивает, сопит. Невольно смотрю на руки Уиллоу – не видно ли татуировки? Черно-желтой бабочки? Принимаюсь гадать – когда татуировки сводят, остаются ли шрамы? И как они выглядят – белые участки кожи, остатки рисунка?
Однако кисти рук у девчонки совершенно гладкие. Но сережки такие же, как на той фотографии в Твиттере. Любопытно… Убедившись, что Уиллоу в мою сторону не смотрит, захожу на свой аккаунт в «Твиттере». @ПропадаюБезТебя на мое сообщение не ответила. Зато у меня успело появиться восемь новых фолловеров. Испытываю глупую, совершенно неуместную гордость.
Впрочем, если это действительно аккаунт Уиллоу, как она может ответить? Ведь девчонка не имеет доступа к компьютеру. Или имеет? Она ведь притащилась к нам в дом не с пустыми руками. Уиллоу приволокла старый, почти бесформенный чемодан из потрескавшейся кожи и поставила в угол кабинета. Что, если внутри ноутбук или смартфон с вай-фай? Впрочем, ни разу не видел Уиллоу с гаджетами, да и никаких звонков из кабинета не доносилось.
Впрочем, у нее, кажется, вообще с техникой проблемы. Даже с телевизионным пультом еле управляется. Трудно поверить, что у нее может быть смартфон или компьютер. Хотя кто знает? Наши с Хайди телефоны защищены паролями, ими Уиллоу воспользоваться не может, даже тайком.
Девушка продолжает сидеть, уставившись в телевизор. Переключаю канал на новости. Как раз передают результаты бейсбольных матчей. Сегодня первый день чемпионата. Полагаю, в бейсболе Уиллоу не разбирается, да и не хочет разбираться, но на телевизор глядит все так же внимательно – лишь бы не пришлось со мной общаться. На диване расположилась настолько далеко, насколько возможно. Забилась в самый угол, хотя я сейчас за обеденным столом, футах в десяти от нее. Уиллоу потягивает из стакана воду. Замечаю, как рука дрожит. По воде пробегает рябь.
– Где ты жила раньше? – спрашиваю я.
Больше молча сидеть нет сил. И вообще, кто, если не я, будет задавать Уиллоу такие вопросы? В семье я единственный, кто хочет разобраться, кто такая эта девчонка. Мне представился уникальный шанс – Хайди дома нет, никто не помешает расспросить Уиллоу как следует.
Девчонка уставилась на меня, но не нагло, с вызовом, а наоборот, робко, испуганно. Однако отвечать не спешит.
– Не хочешь отвечать? – спрашиваю я.
Некоторое время Уиллоу продолжает молчать. Потом едва заметно качает головой.
– Нет, сэр, – шепчет девчонка.
Все-таки приятно, когда к тебе обращаются «сэр».
– Почему? – спрашиваю я. Пытаюсь расслышать в ее речи какой-нибудь специфический акцент, но меня ждет неудачи. Уиллоу говорит как типичная представительница Среднего Запада. У меня выговор точно такой же.
Отвечает Уиллоу боязливо, осторожно. Голос звучит так тихо, что приходится податься вперед, чтобы расслышать, иначе слова заглушает младенческий лепет.
– Вы меня домой отправите.
Стараясь ее не спугнуть, уточняю:
– А ты, значит, домой не хочешь?
Между тем спортивные новости закончились и начались криминальные. В Южном Эшленде кто-то пробрался в дом и зарезал хозяев. Этот сюжет сразу привлекает внимание Уиллоу. Хватаю пульт и переключаю канал как раз в тот момент, когда из дверей выносят на носилках мешки с телами. Нет, лучше будем смотреть «Магазин на диване».
– Уиллоу, – окликаю я. Имя на этот раз не перепутал. Надеюсь, хоть это ее ко мне немножко расположит. – Почему ты не хочешь домой? Просто так или есть какая-то причина?
– Есть причина, сэр, – признается Уиллоу и принимается теребить бахрому на диванной подушке. В мою сторону не смотрит.
– Какая?
– Просто… – Уиллоу запинается. – Просто…
Уже решаю, что она так и не закончит фразы, но тут Уиллоу договаривает:
– Просто мне там не нравилось.
Ничего не скажешь, исчерпывающий ответ.
– Почему? – настаиваю я.
Девчонка молчит.
Окликаю:
– Уиллоу!
На этот раз голос прозвучал резко. Начинаю терять терпение. Вдобавок времени осталось не так много – Хайди скоро вернется. Но девчонка будто окружила себя невидимой стеной. Я ведь уже заметил – разговаривая с ней, нельзя показывать раздражения, иначе сразу замыкается в себе. И вообще, прежде чем задавать вопросы, надо ее подготовить. Так же семена цветов перед посадкой советуют на ночь класть в воду, чтобы потом быстрее взошли. Нет, надо как-то пробиться через ее броню.
Сразу меняю тон и пускаю в ход все свое обаяние. Улыбаюсь и пробую другой подход.
– Дома тебя обижали? – спрашиваю я, усердно демонстрируя доброту и сочувствие. Конечно, это не мои сильные стороны, но стараюсь, как могу.
Уиллоу наконец поднимает голову. Взгляд слишком серьезный для девочки ее возраста. Под глазами мешки, белки красные. Сползаю на кончик стула и с нетерпением жду ответа. Что же она скажет? Уиллоу открывает рот. Кажется, готова.
– Говори, не бойся, – подбадриваю я.
Но тут слышу, как в замке поворачивается ключ. Хайди вернулась из прачечной. Угораздило же так не вовремя! Уиллоу вздрагивает, страшно напуганная безобидным позвякиванием ключа. Стакан выскальзывает из пальцев и падает на пол. Ковер пушистый, поэтому стекло не разбилось, но вода, конечно, пролилась. Уиллоу тут же бросается на четвереньки и принимается лихорадочно вытирать воду полой рубашки. При этом опасливо косится то на Хайди, то на меня. Похоже, боится, что попадет. При этом бормочет себе под нос что-то неразборчивое о грехах и прощении.
Ключи. Ключ в замке. Дома ее держали взаперти? Надо запомнить этот случай, вдруг пригодится? Я, конечно, не такой сострадательный, как Хайди, но сейчас невольно проникаюсь сочувствием к девчонке, униженно ползающей по полу и умоляющей Бога, чтобы простил.
– Деточка, не надо, перестань, – ласково уговаривает Хайди. Достает из кухонного ящика бумажные полотенца и спешит сама вытереть ковер. – Не волнуйся, ничего страшного.
Наклоняюсь, чтобы поднять с пола стакан. Но стоит приблизиться к Уиллоу, вижу в ее взгляде такой страх, что понимаю – все, момент прошел, на дальнейшие откровения рассчитывать не приходится.
Снова ночуем в запертой спальне – Хайди, Зои, кошки и я. Встаю очень рано, даже солнце еще толком не взошло. Напоминаю Хайди, чтобы в мое отсутствие не нарушала заведенного правила. Они с Зои должны спать в одной комнате, закрыв дверь на задвижку.
Из дома выхожу в пять часов, таща чемодан и портфель. У подъезда ждет такси, на котором собираюсь ехать в аэропорт О’Хара. Девчонка и ребенок спят. Дверь в кабинет, естественно, заперта. Должно быть, тоже подперла ручку моим вертящимся креслом – на всякий случай. Вдруг мы проберемся в комнату, пока она спит?
Рассвет окрашивает небо в золотистый оттенок. В такси на полную громкость орет радио – передают какое-то ток-шоу. Сосновым освежителем воздуха в машине не пахнет, а прямо-таки воняет. Мчимся по шоссе 1-90. Кладу портфель на сиденье рядом с собой. Достаю блокнот и ручку, собираясь поработать по дороге. Даже когда нет пробок, дорога до аэропорта О’Хара занимает не меньше получаса. Судя по тому, что уже в начале пути движение затрудненное, пробки сегодня будут, и еще какие. Открываю портфель и тут вижу записку, нацарапанную на фиолетовом стикере. Понимаю, что это ответ на вчерашний вопрос. При одном взгляде на этот незнакомый почерк перехватывает дыхание.
Записка совсем короткая – всего одно слово.
«Да».
Уиллоу
Луиза Флорес просит рассказать поподробнее про Мэттью и Айзека, моих сводных братьев, – кажется, так называется наше родство. Но слово «брат» звучит тепло, по-семейному, а одной семьей мы не были. Ни с Джозефом, ни с Мириам, ни с Айзеком. А Мэттью… Мэттью – совсем другое дело.
Сидя в скудно обставленной комнате, по другую сторону стола от Луизы Флорес, вспоминаю Мэттью. Ростом он пошел в отца, но волосы были другие – коричневые, как шоколадные пирожные, которые пекла мама. Глаза у Мэттью тоже коричневые – темно-карие. Должно быть, когда-то давно Мириам выглядела так же, пока не превратилась в серую мышь. Айзек же, наоборот, ничего не взял от матери и целиком и полностью пошел в Джозефа. Волосы у него были рыжие, причем везде – и на руках, и на ногах, и на лице.
– Поподробнее? О чем? – уточняю я.
– Какие у тебя с ними были отношения? Подвергалась ли ты сексуальным домогательствам с их стороны? Или этим занимался только Джозеф?., если, конечно, ты говоришь правду. А может, они тоже были жертвами? Как они относились к кататоническому ступору матери?
– К чему? – переспрашиваю я.
– Так называется то, про что ты рассказываешь.
Луиза Флорес объясняет, что, судя по моим описаниям, Мириам страдала болезнью, которая называется кататоническая шизофрения. «Если, конечно, не сочиняешь», – прибавляет Луиза Флорес. Эта женщина не слишком-то верит в мою правдивость. Представляю, как Мириам сидит в углу комнаты в плетеном кресле, уставившись прямо перед собой, и ничего не предпринимает, а в соседней комнате ее муж проводит время в свое удовольствие.
Моя спальня была смежной с комнатой Мэттью и Айзека. В первый год общая стена была единственным, что нас объединяло. Ели мы отдельно, за столом вместе не сидели. Когда проходили мимо друг друга в коридорах, опускали глаза или отводили взгляд. Мэттью и Айзек раньше жили в разных комнатах, но, когда Джозеф с Мириам привезли меня, братьям пришлось поселиться в одной. Может быть, это им не понравилось. Не знаю. В этом доме никто рта не раскрывал – боялись. Большую часть дня Мэттью и Айзек проводили в школе, а когда возвращались, сидели у себя – делали уроки или читали Библию. Джозеф запрещал Мэттью и Айзеку со мной разговаривать. Стоило мальчикам хотя бы мельком глянуть в мою сторону, сразу принимался читать нотации о вреде дурного влияния.
За все время, что жила в доме, Айзек ни капли не изменился. Даже наоборот, постепенно стал еще больше похож на отца. Всячески старался ему угодить. С крыши бы спрыгнул, если бы Джозеф велел. Но Мэттью был другим.
Помню ту ночь, когда мы в первый раз заговорили друг с другом. Мне было десять лет. Прошел почти год с тех пор, как меня забрали из приюта. Джозеф уже успел наведаться в мою спальню раз двадцать. Было уже далеко за полночь, но я лежала в кровати и не могла уснуть. Впрочем, такое со мной теперь случалось часто. Вспоминала маму и папу и старалась придумать как можно больше «люблю тебя, как». Вдруг в коридоре заскрипели деревянные половицы. Кто-то шел к моей двери. Я затаила дыхание, уверенная, что сейчас зайдет Джозеф и навалится на меня всей своей тяжелой, потной массой. Задрожала, сердце заколотилось быстро-быстро, ладони намокли, перед глазами все помутилось, в ушах зазвенело. Как всегда. Но тут дверь открылась, и в проеме возник совсем другой силуэт, не похожий на фигуру Джозефа. И голос был другой – тихий и добрый. Звучал он неуверенно, даже испуганно, а значит, мне этого человека бояться не стоит.
– Ты знала, что тараканы могут жить без головы неделю? – шепотом спросил он.
Это был Мэттью. Узнала по голосу.
– Правда? – отозвалась я, тоже шепотом, села на кровати и оперлась на локти. В комнате было почти темно, только фонарь за окном мигал – то включится, то опять выключится. И так всю ночь.
– Ага, – кивнул Мэттью. – Иногда даже целый месяц. А дохнут оттого, что им пить нечем.
– Надо же.
Минуту или около того Мэттью стоял в полном молчании, потом закрыл дверь и вернулся в свою комнату. На следующий день нашла под матрасом книгу. От посторонних взглядов ее прятало лоскутное одеяло и оборки на матрасе. Это была детская энциклопедия про насекомых и пауков. Сразу поняла, что книгу принес Мэттью. Когда Джозеф ушел на работу, а мальчики отправились на автобусную остановку ждать школьный автобус вместе с соседскими ребятами, которые толкали и дразнили их, я села на кровать и буквально проглотила энциклопедию в один присест.
В Огаллале я ходила в школу, поэтому читать научиться успела. Мама каждый вечер перед сном просила меня что-нибудь прочесть ей вслух – то заметку из модного журнала, то рецепт из кулинарной книги Джулии Чайлд, то письмо. Читала я хорошо. За день изучила энциклопедию Мэттью от корки до корки и тайком отнесла обратно к нему в комнату. Спрятала под кроватью, пока Айзек или Джозеф не вернулись. Узнала много нового про уховерток, богомолов, цикад и стрекоз. Оказалось, продолжительность жизни слепня – от тридцати до шестидесяти дней, королева пчел на зиму зарывается в землю и впадает в спячку, а периодических цикад можно увидеть только раз в тринадцать – семнадцать лет.
Через несколько дней Мэттью подложил мне в комнату новую книгу – «Морские анемоны». Из нее я узнала, что морские анемоны, они же актинии, похожи на цветы, но на самом деле это кораллы. Актинии хищники, и они не стареют, как другие животные и растения. В книге говорилось, что они бессмертные. Оказалось, они охотники – впрыскивают в свою добычу парализующий яд и проглатывают. Питаются они рыбой, креветками и планктоном. Мне эти актинии совсем не понравилось – с виду такие красивые и воздушные, а на деле жестокие и коварные. Заманивают своих жертв в ловушку, прельщая очарованием. Нет, так нечестно, подумала я.
Еще через несколько дней под матрасом обнаружилась энциклопедия «Горные породы и минералы». Потом еще одна книга, и еще. Почти каждую неделю Мэттью потихоньку приносил мне что-нибудь из школьной библиотеки. Так я прочла «Паутинку Шарлотты», «Дневник маленькой девочки» и «Из архива миссис Базиль Э. Франквайлер, самого запутанного в мире». Чтению посвящала каждую свободную минуту, когда не убирала дом, не мыла Мириам и не готовила на ужин салат с треской и сэндвичи.
Время от времени посреди ночи Мэттью останавливался у двери моей спальни по пути в туалет или на кухню за стаканом воды. Я научилась отличать шаги Мэттью от шагов Джозефа. Мэттью шел тихо, осторожно, а возле моей комнаты замирал в нерешительности. Джозеф же, наоборот, шествовал уверенно. В мою белую дверь он заходил без малейших сомнений и колебаний. Мэттью открывал ее медленно, осторожно, чтобы не скрипнула, а Джозеф сразу раскрывал нараспашку, не боясь, что шум разбудит домочадцев. Мэттью оставался всего на пару секунд и уходил, сообщив какой-нибудь любопытный факт, который мне был совершенно не нужен, – и ему, скорее всего, тоже. Впрочем, дело было не в фактах. Между нами установилась связь, что-то вроде дружбы.
Я была не одна. В одну ночь Мэттью говорил:
– Ты знала, что крокодил не может высунуть язык?
В другую:
– Ты знала, что единственное слово с тремя буквами «е» подряд – «длинношеее»?
Приходилось признаваться, что нет, всего этого я не знала. Потом остаток бессонной ночи проводила, пытаясь подобрать еще одно слово, в котором три «е» подряд. Вот Мэттью удивится, когда утру ему нос. Но на ум приходили только похожие слова – «короткошеее», «толстошеее»… Так ничего и не придумала.
– Ты знала, что Венера – самая жаркая планета? Температура поверхности четыреста пятьдесят градусов Цельсия.
Что такое градусы Цельсия, я не знала, да и планеты припоминала с трудом. Много воды утекло с тех пор, как я сидела в классе школы в Огаллале и учила про Солнечную систему и про то, что температуру измеряют в градусах. На следующий день Мэттью принес книгу по астрономии.
А однажды спросил:
– Ты знала, что моим родителям платят почти двадцать баксов в день за то, что они тебя воспитывают?
– Серьезно? – удивленно спросила я. Понятия не имела, что людям за это полагается вознаграждение. – Кто им платит?
Может, деньги берут из крошечных сбережений, которые скопили мама и папа? Или социальная работница раскошеливается?
Мэттью покачал головой в темноте:
– Никто. Это государственные деньги, от штата Небраска.
Он стоял в дверях в клетчатых пижамных штанах и белой майке с желтыми пятнами спереди. Мэттью был высокий и тощий, и майка уже была ему коротка.
– За Лили штат тоже платит? – спросила я.
Неужели Пол и Лили Зигер нашли легкий способ зарабатывать двадцатку в день, заботясь о моей сестренке?
Но Мэттью ответил – нет.
– Тем, кто усыновляет детей, денег не дают. Наоборот, твоим Зигерам самим пришлось заплатить, чтобы им отдали Лили. Десять тысяч долларов или около того.
– Сколько? – подскочила я. Десять тысяч долларов – очень большая сумма. Получается, Зигеры купили мою сестренку, точно товар в магазине. Не знала, что и думать – то ли радоваться, что ради Лили они готовы были выложить такие деньги, то ли огорчаться, что с ней обращаются, будто с вещью. Прямо список покупок – одежда, арахисовое масло, спрей от насекомых, ребенок…
Подумала – интересно, если когда-нибудь у меня будет больше десяти тысяч долларов, смогу ли я выкупить Лили обратно? А может, Зигеры сами ее вернут – как покупку, которая не устроила, не подошла. Тогда скоплю денег и заберу ее себе.
Но что меня уж точно смутило, так это то, что Джозефу и Мириам платят за опекунство. Получается, меня, в отличие от Лили, не покупали.
– Откуда ты знаешь? – спросила я у Мэттью.
Тот пожал плечами:
– Просто знаю, и все.
Потом закрыл дверь и ушел.
– Почему ты ни разу не попыталась сбежать? – спрашивает Луиза Флорес.
Дежурный в углу, успевший расслабиться и откинуться на спинку стула, кажется, тоже желает услышать ответ на этот вопрос. Действительно – почему я не предприняла ни одной попытки побега? Кошусь на него. Дежурный устремил на меня внимательный взгляд карих глаз, в котором читается вопрос: «Вот именно – почему?» Одет в синюю форму, которая слишком ему велика. Он еще совсем молодой парень.
– Мне было страшно, – отвечаю я. – Боялась остаться, боялась уйти. Боялась, что Бог прогневается, если ослушаюсь Джозефа. Так он мне говорил, и я в это верила.
Я понимала, что бежать мне некуда – во всяком случае, на тот момент. Мало того – если убегу, Джозеф сделает Лили что-то плохое. Он меня постоянно этим пугал. А если и нет, то Господь нашлет на меня бури и хищных птиц, а потом превратит в соляной столп, как жену Лота. Или устроит потоп, и я утону.
– Я тогда была маленькая, – напоминаю Луизе Флорес.
До того, как перебралась к Джозефу и Мириам, верила и в Санта-Клауса, и в Зубную фею, и в Пасхального кролика. До тех пор, пока у меня не выпал клык. Положила зуб под подушку и всю ночь ждала, что придет фея и положит вместо него золотые монетки. В Огаллале именно так всегда и случалось. Но фея не пришла. Тогда я подумала, что она просто не может найти меня в новом доме в Омахе. Наверное, сейчас летает по всей Огаллале и ищет меня.
Потом стала думать про наш сборный домик на Кеньон-Драйв. Наверное, там уже поселилась другая семья. Может, у них даже есть маленькая девочка, которая теперь спит в моей кровати. Укрывается моим стеганым одеялом, ярко-розовым в оранжевый горошек, и любуется на ярко-синие занавески, которые мама сшила из ткани, которую купила задешево на распродаже, хотя этот цвет у меня в спальне ни к чему не подходил. Вдруг эта девочка спит, прижимая к себе мою любимую игрушку – мягкого фиолетового котенка? Читает с мамой мои книги с картинками? Просыпается утром и вместо выпавшего зуба обнаруживает под мягкой подушкой золотую монетку, а мне не достается ничего?
Однажды поделилась всеми этими мыслями с Мэттью. Рассказала, что Зубная фея меня потеряла, но я надеюсь, что она все-таки меня найдет, и не выбрасываю свой зуб. Спросила, что делать. Может быть, можно как-нибудь передать фее зуб. Он ей очень нужен, она ведь строит из детских зубов сверкающий белый замок у себя в стране фей.
– В стране фей? – переспросил Мэттью.
Тогда объяснила, что из зубов фея сооружает не только замок, но и деревню для всех своих подружек, и называется эта деревня страна фей. Мэттью молча уставился на меня, будто не знал, как ответить. Потом с запинкой произнес:
– Клэр, зубных фей не бывает, – долго молчал, а потом прибавил: – Лучше выброси этот зуб.
Тогда, как и в тот день, когда погибли мама с папой, умерла маленькая часть меня. Про Санта-Клауса и Пасхального кролика спрашивать побоялась. Но когда наступило Рождество, а подарки мне так и не принесли, я сразу поняла почему. И причина была вовсе не в том, что в этом году я плохо себя вела.
Через несколько дней Мэттью оставил у меня под матрасом книгу сказок. «Златовласка», «Три поросенка», «Румпельштилцхен». Особое внимание обратила на сказку про гамельнского крысолова – странного человека, который играл на волшебной дудке, услышав звуки которой дети покидали свои города и шли за ним. Больше их никто и никогда не видел. Читая эту историю, представляла в образе крысолова Джозефа, одетого как средневековый шут на картинке – в пестрое трико и лосины. Вот Джозеф идет по улицам Огаллалы, играя на дудочке и уводя за собой детей. Детей вроде меня.
Не знаю, чего больше боялась в этом доме. Самого Джозефа с его ястребиным взглядом и крючковатым носом, его рассказов о мстительном Боге, того, что он может причинить вред Лили? Джозеф в подробностях рассказывал, как подвесит ее за ноги и зарежет заживо. Брал меня холодной рукой за шею и рисовал страшную картину в жутких деталях, употребляя слова вроде «сухожилия» и «нервы». Что все эти слова значат, толком не понимала, но все равно очень пугалась.
Как ни странно, из-за угроз Джозефа и рассказов о Божьем гневе в доме чувствовала себя спокойнее и никуда бежать не хотела. Только смотрела в окно на мальчишек, гоняющих на велосипедах, и девчонок, рисующих мелками на асфальте. Эти дети были мои ровесники. Они и понятия не имели, что творится за закрытыми дверями в доме Джозефа и Мириам. Для них они были просто соседями со странностями. У нас в Огаллале тоже такая была – старая вдова миссис Уотерс, которая жила на нашей улице. Бывало, ходила по городу и громко, будто по телефону, разговаривала с покойным мужем.
Представляла, как мамы и папы велят этим ребятам держаться подальше от Айзека и Мэттью, – мол, с этой семейкой лучше не связываться. Сами они с Джозефом тоже не разговаривали. Зато потом наперебой твердили полиции, что сразу заметили – в этом доме происходит что-то подозрительное. Но предпринимать ничего не стали.
Хайди
Как только Крис уходит, тихонько соскальзываю с кровати, чтобы не разбудить Зои. Дочка спит крепко, как младенец. Раскинулась на спине, разметала в разные стороны руки. Поза морской звезды. Утреннее солнце светит ей на лицо золотистым лучом. Во сне лицо у Зои разглаживается – не видно ни нахальства, ни вызова. На губах играет легкая улыбка. Интересно, что ей снится? Тут Зои вздыхает и, перевернувшись на бок, укладывается на только что освобожденное мной нагретое местечко. Укрываю ее одеялом и прикрываю ставень, чтобы солнце не светило в глаза.
Выхожу в коридор и закрываю дверь. Ноги сами собой несут к запертому кабинету. Кладу руку на никелевую ручку. Прижимаю ухо к двери. В комнате тихо. Сердце бьется стремительно. На ладонях выступает пот, так мощна моя потребность – совсем как голод, или желание найти крышу над головой, или раздобыть теплую одежду в мороз.
Я должна взять на руки ребенка. Сейчас мной руководит не здравый смысл, а инстинкт, рефлекс, побуждение. Знаю, что не должна этого делать, и все же на всякий случай тихо поворачиваю ручку двери. О чудо – сегодня она не заперта! Говорю себе, что это знак.
Уиллоу и Руби лежат рядом на раскладном диване. Обе укрыты зеленым шенилевым пледом. Уиллоу устроилась на боку, повернувшись к ребенку спиной и закрыв ухо подушкой, – видно, чтобы младенец не будил. А может, Крис перед отъездом в Нью-Йорк слишком шумно принимал душ. Уиллоу дышит глубоко. Она крепко спит. На цыпочках прокрадываюсь в кабинет, мысленно ругаясь на кошку, которая вбежала за мной следом и залезла под диван. Шторы задернуты, только сквозь щель в середине проглядывают солнечные лучи, розовые с золотистым. Уиллоу не слышит, как я крадусь по мягкому ковру. Представляю, что ее здесь нет. В комнате лежит только младенец и ждет меня.
Привыкнув к полумраку, замечаю, что глазки Руби широко распахнуты. Она внимательно смотрит на белый потолок, а заметив меня, улыбается и принимается бодро сучить ножками и махать ручками. Осторожно поднимаю девочку. Уиллоу вздыхает во сне, но глаз не открывает. Прижимаю малышку в груди и целую в затылок. Из комнаты выходим вместе.
Сажусь в кресло-качалку.
– Вот так, – приговариваю я, ритмично покачиваясь с Руби на коленях. Пересчитываю пальчики ее ручек и ножек. Глажу нежную головку. В комнате тихо, только тикают деревянные часы на стене. Выкрашены они белой краской с эффектом состаренной поверхности. В полутемной комнате римских цифр почти не видно. Солнце поднимается над озером Мичиган, окрашивая золотом восточные стены зданий. На небе серебристо-розовые легкие облачка. Мимо пролетает стая птиц – должно быть, воробьев. На деревянные перила балкона садится горлица и через окно смотрит на нас с Руби. Взгляд глазок-бусинок удивительно внимателен. Птичка склоняет маленькую головку сначала на один бок, потом на другой, будто хочет задать какой-то вопрос. На улице никого, если не считать редких прохожих, спешащих кто на работу, кто на утреннюю пробежку. Проезжает автобус, даже не дав себе труда притормозить на безлюдной остановке. Следом проносится такси.
Оттолкнувшись босыми ногами от паркетного пола, начинаю раскачиваться сильнее. Руби прижимается личиком к моей фланелевой пижаме, ища материнское молоко, точно крошечный поросеночек.
Пока могла, кормила Зои грудью. Считала, что это очень важно. Мы с Крисом никогда этот вопрос не обсуждали – с самого начала знала, что искусственное вскармливание не для меня. Крис спорить не стал. Для него так было удобнее – не нужно самому кормить ребенка из бутылочки. Крис сможет спокойно спать ночи напролет, пока я часами сижу с Зои на руках.
У грудного вскармливания было много плюсов, не в последнюю очередь финансовых. Вдобавок материнское молоко повышает иммунитет. Но, когда кормила Зои при Крисе, муж брезгливо отводил взгляд. Но мне так было удобнее – не нужно было готовить смесь и мыть бутылочки. А еще очень радовалась ощущению близости с ребенком, наслаждалась своей незаменимостью. Да, давненько не испытывала это чувство. Тогда Зои нуждалась во мне, ее надо было укачивать и менять подгузники. Но кормление грудью было единственным, что для дочки могла сделать только я и никто другой.
Отучать Зои от груди собиралась только, когда ей исполнится годик. Но потом я заболела, и мое здоровье вышло на первый план. Пришлось переводить Зои на детское питание из бутылочки раньше времени. Привыкала дочка с трудом. Мне даже казалось, что моя девочка на меня злится. Возмущается, что не спросила ее мнения, когда заменила сосок на резиновую соску. Зои кричала, отказывалась есть. Со временем, конечно, привыкла и приспособилась, но для этого пришлось перепробовать полдесятка разных бутылочек и сосок и самые разные марки детского питания. Наконец отыскали идеальный вариант, который нравился Зои, и от которого у нее не расстраивалось пищеварение.
Руби продолжает тыкаться носиком в складки моей пижамы. И тут понимаю, что ни разу не видела, чтобы Уиллоу кормила ребенка грудью. Тогда почему девочка так настойчиво пытается отыскать под застегнутой пижамной рубашкой сосок? Возможно много объяснений. У Уиллоу нет молока. Или есть, но слишком мало. Прежде чем успеваю обдумать другие причины, в комнату входит Уиллоу собственной персоной. Длинные волосы закрывают лицо. Вижу только глаза – мрачные, недоверчивые. От такого взгляда невольно задумываюсь, действительно ли Уиллоу и мухи не обидит и можно ли ей доверять? Снова вспоминаются брызги крови на майке.
Уиллоу произносит:
– Вы взяли ребенка. Унесли Руби из комнаты.
– Да, – делано спокойным тоном подтверждаю я, поспешно придумывая оправдание. – Руби плакала. Мне не хотелось тебя будить. А я все равно уже встала, собиралась сварить кофе, и тут услышала, как она заплакала.
– Она есть хочет, – тихо произносит Уиллоу, глядя, как ребенок зарывается в мою рубашку.
– Да, – киваю я. – Как раз хотела ее покормить.
Но Уиллоу произносит с напором, какого от нее раньше не слышала:
– Я сама.
Уиллоу косится на кофемашину. Сразу видно, что сегодня ее еще не включали.
– Вы не пили кофе, – произносит она. Говорю себе, что Уиллоу просто не хочет меня утруждать. Убеждаю себя, что резкость в ее тоне мне просто померещилась. Неловко подхватив Руби, Уиллоу берет ее на руки. Чувствую себя так, будто у меня отняли что-то очень дорогое.
Возможно, Уиллоу не такая милая и наивная, как мне сначала показалось.
Усадив Руби себе на бедро, Уиллоу, придерживая ее, направляется на кухню и неловко разводит детское питание. Девочка вертится, в глазах блестят слезы. Руби смотрит на меня. Кажется, ее ручки тянутся именно ко мне. Остаюсь сидеть в кресле, не в силах встать и отправиться варить кофе. Единственное, чего хочу, – чтобы Уиллоу вернула мне Руби. Чувствую, как поднимается давление, под мышками выступает пот, и ткань липнет к телу. Не могу даже сделать глубокий вдох.
Девочка пристально смотрит на меня, пиная ножками Уиллоу и пытаясь ухватиться за ее светлые волосы. Руби покраснела. Наконец малышке надоедает неудобная поза, и она разражается криком. Уиллоу старается не обращать на вопли внимания, но движения ее становятся еще более неловкими. Она роняет бутылочку на пол, белый порошок рассыпается. Могу помочь, но продолжаю сидеть, точно приклеенная. Замираю в кресле, как статуя, и гляжу на ребенка.
Тут в коридоре открывается дверь. Раздается сонный, раздраженный голос Зои. Да, когда-то дочке была нужна я и только я, а теперь она со мной даже разговаривать не желает.
– И чего всем не спится? – сердито интересуется она, заходя в кухню и не глядя на Уиллоу.
С трудом выдавливаю:
– Доброе утро.
Зои плетется в комнату. Медно-рыжие волосы растрепаны и стоят торчком. Дочка молча плюхается на диван и включает телевизор, музыкальный канал МТБ – подростковый аналог кофеина.
– И тебе доброе утро, мамочка, – язвительно бормочу я, не сводя жадных глаз с ребенка и мечтая попробовать себя в роли матери снова, но на этот раз не ошибиться.
Уиллоу
Луиза Флорес хочет больше узнать про Мэттью. Одного упоминания о нем достаточно, чтобы мои губы невольно растянулись в улыбке. Молчу, но Луиза Флорес обращает внимание на выражение моего лица и спрашивает:
– Он тебе нравится?
Улыбка тут же исчезает.
– Мэттью мой друг, – отвечаю я.
Рассказываю, как он проходил мимо моей комнаты по ночам, как прятал книги под матрасом, чтобы я не выросла необразованной тупицей, как Мириам.
Но все это было давно.
Мэттью был на шесть лет старше меня. Когда Джозеф забрал меня из приюта и привез в Омаху, ему было пятнадцать, а мне девять. Вскоре он окончил школу, а к тому времени, когда мне исполнилось двенадцать – а может, тринадцать или даже четырнадцать, точно не помню, – съехал из родительского дома и стал жить отдельно. Однажды, когда Джозеф был на работе, Мэттью собрал вещи и ушел. Но далеко уезжать не стал.
Его одноклассники поступали в колледж, но Мэттью не мог себе этого позволить – платить за обучение ему было нечем. Мэттью устроился работать на заправку на нашей улице. Некоторое время вместо книг приносил мне с работы шоколадные батончики и пакеты с чипсами, то есть все те лакомства, которые Джозеф объявлял дьявольским соблазном.
Где Мэттью ночевал, не знаю. Он не рассказывал. Иногда принимался сочинять, будто живет в красивом, высоком кирпичном доме, и в квартире у него есть кондиционер и телевизор с большим экраном. Но даже тогда я понимала, что он просто врет. В другой раз Мэттью придумал, будто живет на барже, на которой плавает по всей реке Миссури. На самом деле он просто хотел, чтобы я за него не беспокоилась. Впрочем, где угодно было лучше, чем в доме Джозефа, Мириам и Айзека. Во взгляде последнего теперь появился тот же жадный огонь, который зажигался в глазах у Джозефа в те ночи, когда он заходил в мою спальню.
Когда Айзек был в школе, а Джозеф на работе, Мэттью иногда заглядывал к нам. Мириам, конечно, сидела у себя в комнате и ничего не замечала, так что ее в расчет можно было не брать. Мэттью принимался рассказывать, что скоро пойдет служить в армию и что зарабатывает на заправке гораздо больше денег, чем я думаю.
Но я-то видела, какой у него усталый взгляд. К тому же иногда от Мэттью пахло так, будто он давно не мылся и не стирал одежду. Случалось, ложился на кровать у меня в комнате и сразу засыпал, а я пока стирала его рубашку и джинсы или искала в кухонных шкафах что-нибудь съестное. Время от времени Мэттью обходил весь дом, проверяя, не лежит ли где-нибудь забытая долларовая купюра или несколько монет. Все, что находил, Мэттью складывал в карман. У меня появились подозрения, что Мэттью в основном живет на эти деньги, украденные у Джозефа. Как-то раз нашел двадцать долларов в кармане старого пальто, которое Джозеф больше не носил. Глаза у Мэттью загорелись так, будто он наткнулся на золотую жилу и сказочно разбогател, – видимо, для него двадцать долларов были огромной суммой.
Мэттью очень хотел забрать меня из этого дома, но не знал, как это сделать. Обещал, что непременно возьмет меня к себе, когда у него будет больше денег. Мэттью теперь часто рассуждал про то, что сможет себе позволить «когда-нибудь» – совсем как моя мама. Когда-нибудь у него будут деньги. Когда-нибудь он увезет меня далеко-далеко отсюда. Сразу вспомнила, что Джозефу и Мириам платят за опекунство, и подумала – вот бы Мэттью доверили меня опекать! Но все это были наивные детские мечты. Конечно же я понимала, что этому не бывать.
Со временем заметила, что Мэттью меняется. Теперь он говорил со мной о более важных вещах, чем тараканы или температура на Венере. Мэттью рассуждал, как забрать меня из этого дома, подальше от Джозефа. Рассказывал про бездомных, которые живут прямо на улице.
Мэттью продолжал носить мне книги. Брал он их в городской библиотеке. Мысль о том, что можно просто прийти туда и совершенно бесплатно взять любую из многих тысяч книг, приводила меня в восторг. Вот бы побывать в этом чудесном месте! Мэттью говорил, что в библиотеке целых четыре этажа книг, а я гадала, сколько же времени нужно, чтобы все их прочесть. Каждый раз, приходя меня навестить, Мэттью приносил книгу или две и позволял оставить у себя до следующего раза. Убирала дом, стирала, выносила мусор, а потом шла к себе, ложилась на одеяло и погружалась в чтение.
Иногда читали вместе. Мэттью садился на край моей кровати. Для моей маленькой комнатки он казался слишком большим, будто великан, пытающийся втиснуться в кукольный домик. Видела, что Мэттью уже не тот мальчик, который рассказывал мне про Венеру и насекомых. Из тощего, как швабра, подростка Мэттью превращался в мужчину. Стал шире, крепче, говорил низким голосом, а во взгляде читалось гораздо больше разных чувств и мыслей, чем в те дни, когда они с Айзеком вместе шли в школу, опустив глаза и стараясь игнорировать тумаки и тычки других мальчишек.
Я заметила, что тоже меняюсь. Теперь рядом с Мэттью чувствовала себя по-другому. Почему-то при его появлении начинала нервничать, совсем как в тот раз, когда он впервые заглянул ко мне в комнату. Но тогда я не знала, что у него на уме, а теперь-то из-за чего волноваться? Мэттью смотрел на меня так, как до него не смотрел никто, и говорил ласково, совсем как мама и папа. Мы вместе читали то одну книгу, то другую. Особенно мне нравилась «Аня из Зеленых мезонинов». Бессчетное количество раз просила Мэттью снова принести ее из четырехэтажной библиотеки. Когда в книге попадалось трудное слово, Мэттью объяснял, что оно значит, и никогда не смотрел на меня так, будто считает полной дурой.
Я многое узнала из этих книг о природе. Например, выяснила, что гром гремит из-за колебаний воздуха, и есть места, где грозы бывают каждый день. А еще оказалось, что от молний на самом деле много пользы и для людей, и для растений, и вовсе они никакое не наказание. Тогда подумала: а что, если насчет дождя из огня и серы, который проливается на грешников, Джозеф тоже говорит неправду? Может, сильные бури, от которых сотрясается наш маленький домик в Омахе, случаются вовсе не потому, что Господь гневается на меня? Вдруг это просто обычная гроза?
Но делиться этими соображениями с Джозефом, конечно, не решалась.
Как-то раз Мэттью пришел с обожженными руками. И кисти, и предплечья страшно покраснели и были покрыты волдырями. Сразу было видно, как ему больно. Только одно предплечье было перевязано тонким бинтом. Мэттью держался за это место другой рукой. В дом вошел неуверенно, будто не знал, стоит ли мне показываться в таком виде. Я сразу ахнула и побежала к холодильнику за льдом.
Мэттью сказал, что в приюте, где он живет, случился пожар. Я спросила, что это за приют. Мэттью нехотя ответил – приют для бездомных. Вспомнила, как мама собирала нашу старую одежду, чтобы отдать бездомным, но в остальном это слово было для меня чем-то совершенно ко мне не относящимся. Представила, как Мэттью надевает чьи-то обноски и спит на чужом постельном белье, и мне сразу стало очень грустно.
Я сразу поняла, что на этот раз Мэттью говорит правду, потому что он смотрел мне в глаза, а когда рассказывал про баржу на Миссури, всегда отводил взгляд и принимался внимательно изучать отклеивающиеся обои на стенах моей комнаты.
Мэттью пришел с сумкой, набитой вещами. Там лежало все его имущество. Сказал, что больше в этот приют не вернется и в другой тоже не пойдет. Все, хватит с него. Сначала Мэттью не объяснил, при каких обстоятельствах получил ожоги. Но про приют рассказал. Учреждение это было вечно переполнено, кроватей на всех не хватало, и бывали дни, когда приходилось ночевать на полу. Вещи свои следовало прятать, и, найдя их на прежнем месте, Мэттью считал, что ему повезло. Он описывал комнату, заставленную рядами одинаковых коек с тощими матрасами и разномастным постельным бельем. Одни одеяла и простыни были рваные и все в пятнах, другие – чистые и новые. Мэттью объяснил, что брали их из пожертвований. Привозили то, что больше никому не надо. По взгляду Мэттью я видела, что он и сам чувствует себя так, будто никому не нужен, и хотела показать ему, что это неправда.
Потом Мэттью рассказал, что в таких приютах живут в основном наркоманы и алкоголики, а руководство приюта на все, что там творится, смотрит сквозь пальцы. Мэттью признался, что иногда, чтобы получить чистую простыню или полноценный ужин, делал всякие неприятные вещи, за которые ему потом было очень стыдно.
– Какие? – спросила я.
– Лучше тебе не знать, – ответил он.
А потом Мэттью рассказал, что случилось в приюте и откуда у него ожоги, хотя больше я у него об этом не спрашивала. Решила, что эта история, должно быть, такая же неприятная, как и та, про неприятные вещи.
Мэттью сказал, что случился пожар. Может быть, подвела неисправная проводка, хотя, скорее всего, приют подожгли намеренно – так думал Мэттью. Я спросила, кто его поджег и почему. Мэттью ответил – скорее всего, люди, которых не приняли из-за нехватки места. Два человека погибли: мужчина и его десятилетний сын. Все запасные выходы были загорожены койками и всяким хламом, поэтому на улицу удалось выбежать только через главный вход.
Я смотрела на большие красные пятна на руках у Мэттью. Представляла дом, объятый пламенем, черные обугленные стены. Все сгорело. Сразу вспомнила, как Джозеф рассказывал про грешников в аду – том месте, где их карают и подвергают мучениям демоны, драконы и сам дьявол. Наказание без надежды на помилование. Озера огня. Печи. Кругом огонь, огонь, огонь.
Тогда-то я и решила: что бы ни случилось, ноги моей не будет в приюте для бездомных. Хотя сама там никогда не бывала и знала об этих учреждениях только по рассказам Мэттью.
– Где он поселился, когда ушел из приюта? – спросила Луиза Флорес, отвлекая меня от размышлений.
Думаю про Мэттью и про взгляд, полный разных чувств и мыслей, который появился у него, когда он ушел из дома. Мне всегда нравился цвет глаз Мэттью – такой насыщенный, теплый коричневый. Совсем как сироп, которым мама поливала для нас мороженое. Смотрела Мэттью в глаза и не могла наглядеться.
– Клэр, – окликает Луиза Флорес, – слышала вопрос?
Прежде чем успеваю ответить, звонит телефон. Старуха достает мобильник из кармана сумки и, наморщив брови, глядит на дисплей. Потом отодвигает стул от стола так резко, что я вздрагиваю.
– Подожди минутку, – говорит она. – Потом расскажешь.
Затем обращается к парню в углу:
– Глаз с нее не спускай. Скоро вернусь.
И выходит из холодной комнаты. Каблуки стучат по бетонному полу. Когда за Луизой Флорес запирает дверь второй дежурный, парень тихонько шепчет:
– Я бы на твоем месте тоже их укокошил.
Хайди
Утром раздается стук в дверь. Зои в своей комнате, собирается в школу. Одевается, причесывается и так далее. Уиллоу в ванной. Выхожу из спальни и шагаю по коридору. Успела надеть только твидовые брюки и блузку, кардиган остался лежать на кровати. Волосы у меня еще мокрые, но сохнут гораздо быстрее, чем мне бы хотелось.
Теснеее прижимаю Руби к себе. Идя по коридору, замечаю, что дверь в ванную чуть приоткрыта. Уиллоу стоит перед зеркалом и смотрит на свое отражение. Волосы у нее мокрые, как и у меня. Капельки воды падают на рубашку Зои. Один глаз накрашен черной тушью. Уиллоу наклоняется к зеркалу, собираясь красить второй, но потом замирает и оттягивает воротник рубашки, пока не показывается нежная кожа груди. У меня перехватывает дыхание. Только бы ребенок не раскричался. Уиллоу проводит пальцем по каким-то следам на молочно-белой коже вокруг соска. Инстинктивно подаюсь вперед и стараюсь лучше разглядеть, что у нее там за отметины. И тут понимаю, что собой представляют ее шрамы – отпечатки зубов.
В дверь снова стучат. Вздрагиваю и поспешно продолжаю путь, пока Уиллоу не заметила, как я, разинув рот, разглядываю следы на ее груди.
Пришел Грэм. В руках у соседа две чашки кофе с фотографиями чикагских видов. Взглянув на младенца, Грэм проходит мимо меня и ставит чашки на кухонный стол.
– Так вот от кого по ночам столько шума, – говорит он. – Ты не говорила, что ждешь гостей.
Грэм садится, выдвигая ногой второй стул и таким образом приглашая присоединиться к нему.
– А где Крис? – спрашивает сосед, окидывая взглядом царящий в квартире беспорядок. Тут и там валяются детские вещи. Возле раковины выстроились бутылочки, на полу в гостиной упаковки подгузников и детские салфетки, около входной двери корзина с вещами, которые надо постирать. Исходящий от нее запах почти так же силен, как от мусорного бака на улице.
– Неужели уже на работу убежал? – продолжает Грэм, отважно стараясь не морщить нос.
Еще нет и семи утра.
– В Нью-Йорк улетел, – отвечаю я, усаживаясь на стул возле соседа и вдыхая божественный аромат его одеколона. Запах пачули смешивается с запахом кофе. Подношу чашку к губам и делаю глубокий вдох.
Грэм выглядит, как всегда, стильно. Светлые волосы стоят торчком, одет в узкий свитер с высоким воротом и джинсы. Говорит, что работал над книгой с пяти часов. Грэму вообще хорошо пишется с утра пораньше. Сосед зарабатывает на жизнь фрилансом – пишет статьи для сайтов, журналов, иногда для газет. Но ранние утренние часы приберегает для своей истинной страсти – писательства. Грэм уже много лет работает над своим детищем. Роман – его радость и гордость. Он надеется когда-нибудь увидеть свое произведение на полке ближайшего книжного магазина. Прочла пару отрывков, причем ради права удостоиться этой чести пришлось выпить с Грэмом три-четыре бокала вина, а потом еще долго просить и умолять, пуская в ход бесстыдную лесть. То, что прочла, мне понравилось. Даже предложила Грэму работу – попросила подправить текст сайта нашей благотворительной организации, помочь с брошюрами и написать ежегодное обращение к филантропам. Над последним мы с Грэмом корпели много вечеров за бутылочкой-двумя дорогого рислинга, успевшего стать моим любимым. Заседали в квартире у соседа, Крис и Зои оставались дома. К себе возвращалась поздно, веселая и подвыпившая. Однако Крис ни малейших признаков ревности не выказывал, хотя я бы на его месте точно напряглась. Когда прямо спросила мужа, почему он не ревнует, – на пьяную голову, разумеется, на трезвую бы не осмелилась, – Крис дал очень обидный, даже оскорбительный ответ: «Ты не в его вкусе». Помню, какое удовлетворение мелькнуло во взгляде мужа, когда он произнес эти слова. Видно, давно хотел произнести их вслух.
Потом дни, месяцы, годы пыталась понять, что Крис имел в виду. Почему я не во вкусе Грэма? Потому что не являюсь красивой, эффектной блондинкой вроде тех, с которыми он спит? Вернее, наоборот, не спит. Стоит такой девушке заглянуть в гости, и смежная стена между нашими квартирами всю ночь трясется, а хрупкие безделушки едва не падают с полок. Значит, Крис хотел сказать, что для Грэма я недостаточно привлекательна? Для него я просто соседка не первой молодости, с седеющими волосами и первыми морщинами. Грэм видит во мне подружку, доверенное лицо, хорошую приятельницу. Не более того. А может, Крис просто в очередной раз намекал на нетрадиционную ориентацию Грэма: мол, я не в его вкусе, потому что я женщина? Кто знает? Но сейчас невольно гадаю – вероятно, в какой-то другой ситуации, при каких-то других обстоятельствах Грэм мог бы увидеть во мне не просто соседку? Однако сейчас мои мысли занимает подсмотренная в ванной сцена – Уиллоу стоит перед зеркалом и проводит пальцами по отметинам у себя на груди. Отметинам от зубов. Человеческих зубов. И тут, будто почувствовав, что думаю о ней, в коридор выходит Уиллоу. Грэм поворачивается к ней, мило улыбается и вежливо здоровается. Уиллоу молчит. Вижу, она порывалась сразу дать деру, но при виде доброй, приветливой улыбки Грэма замирает и улыбается в ответ. Перед обаянием нашего соседа устоять невозможно.
– Уиллоу, – произношу я. – Это Грэм, наш сосед.
– Как поживаете? – интересуется он.
– Хорошо, спасибо, – отвечает Уиллоу. Потом спрашивает: – Она проснулась?
Конечно, Уиллоу имеет в виду Руби. Отвечаю, что да. Тогда Уиллоу сообщает, что кончилась зубная паста. Отправляю ее в кладовку в конце коридора. Не успевает Уиллоу уйти, как Грэм устремляет на меня исполненный любопытства взгляд, будто надеется, что сейчас подкину ему сюжетную линию для следующего романа.
– Давай, рассказывай, – просит он.
Сразу сообразил, что младенец у меня на коленях и девушка-подросток, отправившаяся в кладовку за зубной пастой, имеют отношение друг к другу.
Сидим бок о бок в поезде линии «Л». На этот раз едем на север. Малышку завораживает все – покачивания вагона, яркий солнечный свет, здания, проносящиеся мимо так быстро, что сливаются перед глазами в одну сплошную полосу – красный кирпич, железобетон, стальные конструкции. Сижу так близко к Уиллоу, что наши колени иногда задевают друг друга. Когда это происходит, Уиллоу непроизвольно старается отодвинуться, хотя в переполненном вагоне пространство для маневров ограничено. Уиллоу вообще не любит, когда возле нее стоят или сидят слишком близко – более того, едва терпит. Каждый раз сморщится и сразу отпрянет, будто ей дали пощечину. Уиллоу предпочитает держать людей на расстоянии вытянутой руки в буквальном смысле слова. Сама ни с кем не сближается и не хочет, чтобы сближались с ней. Уиллоу не любит, когда до нее дотрагиваются. Вздрагивает от малейшего прикосновения. Даже взглядами встречаться избегает.
Интересно, что означает ее поведение, думаю я, наблюдая за ней краем глаза. Растрепанные волосы падают Уиллоу на лицо, скрывая его, точно занавес. Может быть, с ней плохо обращались? А что, если она сама сделала что-то плохое? Почему эта девушка на всех смотрит волком – на Криса, на Зои, на меня? Что это – страх, последствия жестокого обращения? Или, наоборот, угроза? Смотрю на других пассажиров – интересно, что они думают об этой девушке с задумчивым взглядом и с младенцем на коленях? Потихоньку, одним пальцем поглаживаю ножки ребенка – так, чтобы Уиллоу не заметила.
Вдруг люди видят в этой девушке нечто подозрительное? Такое, на что я не обратила внимание? Вернее, обратила, но предпочла игнорировать. Так же, как проигнорировала брызги крови на ее майке. Уиллоу сказала, что у нее из носа шла кровь, и я сразу поверила гостье на слово. «Со мной бывает», – сказала она. Однако за все время, что Уиллоу живет у нас, кровь у нее из носа ни разу не шла.
Путь наш лежит в клинику в Лэйквью, где принимают пациентов без предварительной записи. Температура у малышки все еще держится – то спадет, то вдруг снова поднимется. Тайленол, конечно, оказывает благотворное действие, но это лишь временная мера. Нужно разобраться, отчего у девочки жар и почему она плачет и кричит по нескольку часов подряд.
К педиатру, у которого наблюдается Зои, обращаться было нельзя – это я понимала. Он нас знает, начнутся всякие неудобные вопросы. А клиника, куда можно просто прийти без записи, расплатиться за медицинские услуги наличными и уйти – в нашем случае идеальный вариант. Высаживаемся из поезда и проходим пешком пару кварталов. Клиника расположена на углу шумного перекрестка. Мимо несутся машины, участки тротуара, из-за апрельских дождей превратившиеся в глубокие озера, огорожены барьерами и специальными лентами. Чтобы обойти эти препятствия, люди вынуждены идти по проезжей части. Водители возмущенно сигналят.
Уиллоу прикрывает девочку пальто. Из-под зеленого нейлона выглядывает край розового одеяльца, совсем как в тот день, когда я увидела их в первый раз – под дождем, на станции Фуллертон. Предлагаю понести ребенка, но Уиллоу подозрительно косится на меня и отказывается от помощи.
– Нет, спасибо, – отвечает она.
Но я слышу только «нет». Меня отталкивают, отвергают. Лицо заливается краской стыда.
Дождавшись, когда войдем в вестибюль клиники, начинаю действовать. Пока стоим между стеклянными раздвижными дверьми, быстро выхватываю девочку у нее из рук. Уиллоу даже среагировать не успевает. Впрочем, она и не станет затевать скандал на глазах у работников клиники и других пациентов. В качестве объяснения говорю:
– Скажем, что она моя дочка. Ты все-таки очень молоденькая. Так вопросов будет меньше.
Не дожидаясь ответа Уиллоу, направляюсь к стойке регистратора. Девушка тащится сзади, еле переставляя ноги, и пристально смотрит мне в спину. Кажется, будто взгляд холодных голубых глаз вот-вот прожжет дыру в рубашке.
Уиллоу
– Раньше не выходила из дома, – произношу я. – Это был первый раз.
Рассказываю Луизе Флорес, как в тот день Джозеф и Айзек ушли, и сразу появился Мэттью. Он принес с собой старые кеды и помог мне завязать шнурки – сама я не умела. Сказал – не могу же я идти босиком. Не знаю, где Мэттью раздобыл эти кеды. Даже спрашивать не стала. И про спортивную кофту тоже не спросила – про тонкую оранжевую спортивную кофту с капюшоном, которую Мэттью помог мне надеть.
– Куда мы идем? – спросила я. Этот вопрос мне в тот день предстояло задать в общей сложности три раза.
– Увидишь, – ответил Мэттью, и мы вышли за порог.
– Хочешь сказать, что не выходила из дома… шесть лет? – недоверчиво уточняет Луиза Флорес.
Опускает чайный пакетик в кипяток. Над кружкой поднимается пар. Старуха принимается дергать за веревочку, будто играя с йо-йо. У нее явно не хватает терпения ждать, пока чай заварится.
Мама тоже любила чай, и тоже зеленый. Почуяв знакомый запах, сразу вспоминаю, как мама говорила, что это очень полезный напиток. Пей зеленый чай, и в старости и рак, и сердечные болезни будут не страшны. Жалко, что это волшебное средство не помогает предотвращать дорожные аварии.
– Да, мэм, – отвечаю я, стараясь не смотреть в глаза Луизе Флорес. В ее взгляде явственно читается недоверие. С таким же успехом могла написать на лбу «врунья». – Вернее, выходила, но только на задний двор.
И то редко, мысленно прибавляю я.
– Неужели тебе не пришло в голову, что это плохая идея? – спрашивает Луиза Флорес.
Вспоминаю тот день, когда мы с Мэттью отправились на прогулку. Рассказываю миссис Флорес, что была осень, воздух был холодный, а небо заволакивали плотные тяжелые тучи. До сих пор во всех подробностях помню нашу вылазку.
– Я об этом думала, мэм.
– А Мэттью сказала? Объяснила, что это плохая идея?
– Нет, мэм.
Луиза Флорес выдергивает пакетик из чашки и кладет на бумажную салфетку.
– Почему, Клэр? Если понимала, что лучше остаться дома, почему не попыталась его отговорить? – спрашивает старуха.
Молча пожимаю плечами.
Помню, как жалась к Мэттью, когда мы шли по улице. Пугало все – качающиеся на ветру деревья, проносящиеся мимо автомобили, которые шесть лет видела только из окна спальни. В последний раз в машине сидела, когда Джозеф и Мириам привезли меня из приюта в Омаху. Впрочем, меня и не тянуло на них кататься. В автокатастрофе погибли папа и мама. На машине меня доставили в этот дом. Нет, от автомобилей хорошего не жди.
Помню, как Мэттью потянул меня за рукав, и мы перешли улицу. Оглянулась, чтобы посмотреть на наш дом снаружи. Он был такой хорошенький, почти красивый. Конечно, уже не новый, и все равно наделенный своеобразным очарованием. Свежая белая краска на стенах, черные ставни. Снизу дом был выложен серым камнем, а дверь была красная. Ни разу не видела его с этого угла, с этой стороны. И вдруг я почему-то испугалась и побежала.
– Стой, – велел Мэттью, поймав меня за куртку.
В кедах бегать было неудобно, они казались мне слишком большими, громоздкими, будто приделанные к ногам гири. Я ведь совсем отвыкла от обуви. По дому ходила босиком.
– Куда спешишь? – шутливо спросил Мэттью. Но, заглянув мне в глаза, заметил, что я напугана. Я вся дрожала. – Что с тобой, Клэр? Что случилось?
Я объяснила, что боюсь машин, и туч, и деревьев с голыми ветками, колыхавшимися на холодном ноябрьском ветру. Боюсь детей, которые смотрят на нас из окон своих домов. Детей с велосипедами и мелками. Вдруг они сейчас начнут обзывать нас, как Мэттью и Айзека – чокнутыми, придурочными?
Тогда Мэттью взял меня за руку. Раньше он этого никогда не делал. В последний раз меня водила за руку мама в далеком детстве. Приятно было ощущать теплую ладонь Мэттью, когда мои собственные пальцы были холодными, как ледышки. Мы с ним дошли до конца квартала и свернули за угол. Мэттью подвел меня к странному синему знаку.
– Вот наша остановка, – сказал он.
Я не знала, что значит «наша остановка», но послушно шагала следом. Мы встали под знаком и долго ждали. Там были и другие люди. Они тоже стояли и ждали. Мэттью отпустил мою руку и принялся рыться в карманах брюк в поисках мелочи. Тут налетел порыв ветра и взъерошил мне волосы. Мимо пронеслась машина, в которой оглушительно громко орала музыка. Мне сразу стало трудно дышать. Казалось, на меня все смотрят. «Чего не видишь, то тебе не повредит», – напомнила себе я и плотнее прижалась к Мэттью, стараясь не обращать внимания ни на холодный воздух, ни на громкую музыку, ни на чужие взгляды.
Наконец прямо перед нами остановился большой бело-синий автобус с затемненными окнами. Мэттью сказал:
– Это наш.
Мы поднялись по высоким ступенькам вместе с другими пассажирами. Заметив, что я медлю, Мэттью сказал:
– Не бойся. Никто тебя здесь не обидит.
Он бросил монетки в специальный аппарат, мы прошли вперед по грязному проходу и опустились на синие сиденья. Автобус резко тронулся с места, и мне показалось, что сейчас упаду прямо на замусоренный пол. Возле наших сидений лежала банка, из которой вытекала газировка, и старая обертка от конфеты, а еще виднелись грязные следы чьих-то ботинок.
– Куда мы едем? – спросила я.
Мэттью снова ответил:
– Увидишь.
Автобус катился по оживленной улице. Меня кидало из стороны в сторону на жестком пластиковом сиденье. Каждый квартал мы останавливались, и садились другие пассажиры, пока автобус не оказался забит битком. Как и всегда, когда мне было страшно, стала думать о маме. Вспомнила ее длинные черные волосы и синие глаза. Вспомнила про Огаллалу. Принялась перебирать приятные воспоминания – все подряд, какие придут в голову. В последнее время их стало мало. В основном вспоминались мелочи – например, как каталась в продуктовой тележке в магазине «Сэйфуэй». Там еще лежал написанный синей ручкой список покупок, оставленный другим покупателем. Почерк был изящный, с завитушками – я ни слова разобрать не могла. Лили тоже ехала в своем детском креслице. Потом вспомнила, как мы с мамой ели персики и смеялись, а по подбородкам у нас стекал сок. И как сидели под высоким дубом, занимавшим почти весь задний двор нашего сборного домика, и я читала маме вслух книги, явно не предназначенные для детей.
– Если тебе было страшно, почему не сказала Мэттью, что не хочешь никуда ехать?
На пару минут я задумалась. Смотрела, как Луиза Флорес жует песочное печенье из пакета, и размышляла над ее вопросом. Поводов для страха у меня тогда было много. Боялась незнакомых людей, но еще больше опасалась, что про все узнает Джозеф. Я, конечно, знала, что он на работе, а Айзек в школе. И то, что после уроков он подрабатывает, тоже знала. Но вдруг сегодня кто-то из них вернется раньше обычного? А Мириам? Впрочем, моего присутствия она все равно не замечала, а значит, не должна заметить и отсутствия. И все-таки я беспокоилась.
Тогда почему же я не отказалась от прогулки? Ответ был очень прост. Я хотела выйти из дома. Конечно, мне было страшно, но большая часть моего волнения объяснялась радостным предвкушением. Я очень давно не выходила из дома. К тому времени мне было лет четырнадцать – пятнадцать. Покинуть дом Джозефа и Мириам было третьим в списке моих самых пылких желаний. Первым было, чтобы мама с папой выжили в той аварии. Вторым – чтобы мне вернули мою сестренку Лили. Так, как Мэттью, я не доверяла никому, в том числе и мисс Эмбер Адлер. Именно она приехала в домик в Огаллале с офицером полиции и сообщила нам с Лили, что наши родители погибли. Мисс Адлер опустилась передо мной на колени, встав прямо на ламинат, и с доброй улыбкой на простодушном лице пообещала, что позаботится о нас с Лили. Найдет для нас хороший дом.
Впрочем, социальная работница, конечно, не врала. Она была уверена, что исполнила обещанное.
Но Мэттью был другим. Раз сказал, что бояться нечего, значит, бояться нечего. Сказал, что никто меня здесь не обидит, значит, так оно и есть. И все равно я волновалась, когда мы пересаживались из одного белого с синим автобуса в другой, а потом еще в один. Поэтому пыталась вспомнить про маму все, что только могла – мамину клиентку миссис Даль с ее разговорами про скот, сэндвичи с бананом и майонезом, которые она так любила. Сначала мама съедала корочку, приберегая сердцевину – «самое главное», как она говорила – на потом. Мысли о маме придавали храбрости. «Люблю тебя, как бананы майонез», – говорила мама, а я весело смеялась, глядя, как она ходит по дому, красуясь в черных платьях-футлярах и с прической-ульем.
На автобусе мы проезжали мимо зданий, похожих на многоквартирные дома, которые помнила еще по Огаллале. Перед ними располагались дворы с жухлой травой. Построены здания были из красных глиняных прессованных кирпичей. Вдоль домов тянулись парковки. Над улицей были натянуты провода, от которых через открытое окно автобуса доносилось монотонное жужжание. Мы ехали сквозь какие-то трущобы, мимо полуразвалившихся домов с заколоченными окнами, мимо машин, место которым было только на свалке, и людей с лицами отъявленных бандитов, без дела слонявшихся по покрытым трещинами тротуарам. Проезжали мимо американских флагов, воткнутых в землю среди желтой травы и развевавшихся на сильном ветру, мимо кустов со съежившимися коричневыми листочками, осыпавшимися на землю, и голых деревьев, которых здесь, казалось, были сотни тысяч.
Потом мы увидели в окно огромную площадку, заваленную старыми полуразобранными машинами. Когда спросила, зачем их все сюда притащили, Мэттью объяснил, что их здесь продают. Я удивилась, кому нужна машина без колес и без дверец.
– Разбирают на детали, – пояснил Мэттью. Но тогда стало непонятно, зачем нужны колеса или дверцы без машины. Невольно вспоминаю старый родительский «блуберд». Машина перевернута, на капоте глубокая вмятина, фары разбиты, зеркала держатся на честном слове, бампер и крылья сплющены почти в лепешку. Так машина выглядела на фотографии на передней полосе газеты. «Авария на 1-80. Два человека погибли». Имен мамы и папы в заметке не упомянули. Их называли просто «жертвами» – слово, значения которого я тогда не понимала.
– Куда мы едем? – снова спросила я.
Улыбнувшись, Мэттью в очередной раз ответил:
– Увидишь.
– И куда же он тебя привез? – спросила Луиза Флорес.
Я много лет жила с Мэттью в одном доме, и все эти годы Джозеф держал меня под замком. Интересно, что об этом думал Мэттью? А может, он вообще не задумывался на эту тему, ведь Мэттью был ребенком, а Джозеф его отцом. Для детей все, что делают родители, кажется правильным. Я и сама со временем стала воспринимать все странности в домашнем укладе Джозефа и Мириам как должное. Если и отдавала себе отчет, что есть в их порядках что-то неправильное, то лишь в глубине души. Должно быть, Мэттью тоже привык и ничему не удивлялся. Для детей это обычное дело. Мириам ведь никогда не выходила из дома, и я тоже.
К тому же Джозеф твердил, что никто мне не поверит, ни один человек. Его слово будет против моего. А я всего лишь ребенок. Ребенок, который никому, кроме него и Мириам, не нужен.
– Куда он тебя отвез? – повторяет Луиза Флорес.
– В зоопарк, – отвечаю я.
– В зоопарк? – переспрашивает она с таким видом, будто на нашем месте туда бы отправилась в последнюю очередь.
– Да, мэм, – киваю я, не в силах сдержать широкую улыбку. Потому что зоопарк – мое самое любимое место. Ну, после нашего домика в Огаллале. До этого бывала только в маленьком зоопарке в Линкольне, но зоопарк в Омахе оказался намного больше. Мы видели антилоп и гепардов, горилл и носорогов. Прокатились на паровозике, зашли в огромный павильон в форме купола, где была устроена настоящая пустыня. В тот день Мэттью истратил почти все деньги, чтобы меня порадовать. Даже попкорном угостил!
Наслаждалась каждой минутой, хотя немножко нервничала из-за того, что в зоопарке было много народу. Целые толпы. Знакомых у меня тогда было не много, поэтому все мои представления о человеческой природе основывались на опыте общения с ними. Людей я делила на три категории – хорошие, плохие и ни то ни се. Проблема была даже не в том, что я столько лет провела в доме Джозефа в Омахе, а в том, что круг общения у меня был раз-два и обчелся. Только Джозеф, Мириам, Айзек, Мэттью и, примерно раз в полгода, мисс Эмбер Адлер. Глядела на посетителей зоопарка и гадала, хорошие они люди или плохие. А может, ни то ни се?
Но Мэттью всю дорогу держал меня за руку. Ни разу не отпустил. С ним я чувствовала себя в безопасности. Знала, что Мэттью не даст меня в обиду. Но понимала, что рано или поздно придется вернуться в дом Джозефа и Мириам. К сожалению, вернулись мы скорее рано, чем поздно. Мэттью сказал, что рисковать нельзя. Вдруг Джозеф придет с работы пораньше и увидит, что меня нет? Он ни в коем случае не должен был узнать про нашу вылазку. Иначе, сказал Мэттью, Джозеф взбесится и будет рвать и метать. Тогда я принялась думать: что же он с нами сделает в таком состоянии?
Той ночью мне приснилось стадо антилоп. Они скакали по африканской саванне – вольные, свободные звери. Вот бы и мне так, подумала я.
Хайди
Готовимся ко сну, когда в спальню заглядывает Уиллоу и желает спокойной ночи. Голос, как всегда, звучит робко, нерешительно. Зои лежит на моей кровати, устремив невидящий взгляд на экран телевизора. Идет какой-то юмористический сериал. Каждый раз, когда кто-то произносит «блин» или «песец», невольно передергиваюсь. И когда герои целуются, тоже. С каких пор это успело заменить канал «Дисней»? Не рановато ли моей двенадцатилетней дочери смотреть программы, где через слово вставляют сексуальные намеки и взрослый юмор? Однако Зои, кажется, думает о своем. На экране какой-то мужчина выходит из супермаркета и, направляясь к машине, поскальзывается на льду и с размаху плюхается на пятую точку. Рядом с ним, описав в воздухе дугу, шлепается упаковка яиц. За кадром раздается смех, но Зои не смеется. Дочка поворачивается к Уиллоу. Взгляд карих глаз холоден и неприветлив. Взяв пульт, Зои прибавляет звук, заглушая и без того тихий голос Уиллоу.
Зои обижена. Обижена потому, что я забыла забрать ее с тренировки. Совсем закрутилась с Уиллоу и ребенком. Зои пришлось ждать лишний час, а может, и больше, пока тренер Сэм пытался дозвониться мне на мобильный телефон. Наконец это ему удалось, и Сэм напомнил, что дочь дожидается меня в Экхарт-парке. Между тем солнце садилось все ниже и ниже. К тому времени, как мы доехали до парка, другие девочки из команды давно разошлись. Тренер Сэм старался держаться вежливо, однако тон был холоден. Когда в ответ на бурные потоки моих извинений тренер отвечал «ничего страшного», в голосе чувствовалось раздражение.
До дома доехали в полном молчании. Зои весь вечер не разговаривала ни со мной, ни с Уиллоу. Сразу приняла душ, залезла под одеяло и коротко объявила, что хочет побыть одна. Меня ее реакция, конечно, не удивила. По застывшему взгляду и мрачному лицу сразу поняла, что теперь дочка меня ненавидит, так же как и все остальное. Теперь и я тоже попала в бесконечный список того, что Зои «терпеть не может» – вместе с домашней работой по математике, фасолью и учительницей-занудой. Я, родная мать.
Но ребенок, малышка – это же совсем другое дело. С личика не сходит беззубая улыбка. Девочка что-то весело лопочет. Для меня ее невнятный лепет звучит точно музыка. Жадно прижимаю ее к себе, не желая никому отдавать. Когда девочка снова зарывается носиком в мою рубашку, ища сосок, спешу на кухню за молочной смесью. При этом Уиллоу не предупреждаю и разрешения не спрашиваю. Знаю – если предложу покормить ребенка, девушка заявит, что справится сама, и тогда придется передать малышку ей, а это выше моих сил. Поэтому просто стояла в темной кухне, кормила Руби, щекотала ее крошечные пяточки, вытирала личико махровым полотенцем, когда смесь начинала течь по маленькому подбородку. И тут Уиллоу у меня за спиной объявила:
– Пора давать Руби лекарство, мэм.
Едва не подпрыгнула от неожиданности. Меня застали с поличным. Поймали на месте преступления. С одной стороны, слова Уиллоу звучали вполне вежливо и доброжелательно, однако девушка буравила меня таким взглядом, что я сразу почувствовала себя виноватой. А увидев Уиллоу рассерженной, вдруг стала ее побаиваться. Кто знает, что она может сделать мне или даже ребенку?
И снова ваза сменилась профилями. Беззащитная девочка, испытывающая слабость перед горячим шоколадом, превратилась в уличную девицу, втершуюся ко мне в доверие. Уиллоу стояла на кухне, вытянув руки перед собой, готовая забрать Руби. Одета она была в очередные не нужные Зои вещи: джинсы с дырой на колене и рубашку с длинными рукавами, которые Уиллоу доходили только до середины предплечья. Открытую часть рук покрывали мурашки, волоски встали дыбом. Уиллоу стояла на полу в носках, через дыру в одном из которых наружу выглядывал большой палец. Глядя на этот палец, я поражалась собственной наивности. Как можно было притащить эту особу в дом? Что, если Крис прав на ее счет? Спеша помочь Уиллоу, даже не подумала, какие последствия мои опрометчивые поступки могут иметь для благополучия всей семьи. Так беспокоилась за эту незнакомую девушку, что совсем забыла об интересах Криса и Зои. Вдруг Уиллоу может представлять опасность?
Невольно кошусь на ящик, где среди всяких мелочей – свечей для именинного торта, спичек, неработающих фонариков – лежит швейцарский армейский нож. Я ведь толком ничего не знаю об Уиллоу – кто она такая, почему жила на улице?
Уиллоу не спрашивает, зачем я взяла ребенка. Просто стоит и смотрит на меня. Потом молча забирает девочку. Вот так, легко и просто. Растерянно застываю. Дыхание перехватывает. Помогаю Уиллоу дать Руби жидкий антибиотик, потом она, к моему ужасу, разворачивается и идет прочь. Уносит ребенка, которого я только что держала на руках и кормила. Без Руби чувствую себя обделенной, потерянной. Наблюдаю, как Уиллоу, скрестив ноги, устраивается на диване и кладет девочку на колени, заворачивая ее в розовое шерстяное одеяльце, точно гусеничку в кокон.
У меня же в руке остается только пустая бутылочка. Едва сдерживаю слезы. Отчаянно хочется снова прижать к себе Руби. Снова думаю о своем аборте, о маленькой Джулиэт. На сердце становится невыносимо тяжело. Разрываюсь между тоской по Руби и тоской по Джулиэт, моей Джулиэт, которую после операции выбросили, точно отходы.
Сколько стояла на пороге между кухней и гостиной, не знаю. Мне не хватало воздуха, губы и пальцы рук и ног покалывало. Вцепилась в гранитную столешницу так крепко, что побелели костяшки. Боялась потерять сознание или забиться в припадке. Представила, как корчусь на паркетном полу кухни, а Уиллоу с Зои и дела до меня нет. Одна смотрит «Улицу Сезам», вторая – свой дурацкий ситком. Представив эту картину, начинаю злиться на обеих черствых, равнодушных девиц – пусть даже никакого припадка у меня на самом деле не случилось.
Теперь стою в ванной. Зои лежит под одеялом и смотрит по телевизору свою ерунду. Уиллоу приближается к двери ванной и смущенно замирает. Смотрит, как вешаю драгоценную золотую цепочку с папиным обручальным кольцом на крючок в виде резной птички, выкрашенной красной краской с эффектом состаренной поверхности. И повторяет:
– Спокойной ночи.
Не глядя на нее, бормочу то же самое в ответ. Когда Уиллоу выходит, глубоко вздыхаю. Надеваю атласную ночную рубашку и, закрыв дверь ванной, ложусь в кровать рядом с Зои. Швейцарский армейский нож надежно спрятан под подушкой.
Всю ночь не могу уснуть. Ворочаюсь, стараясь не разбудить Зои. Дочка спит на самом краю, повернувшись ко мне спиной, чтобы случайно меня не коснуться. А ведь раньше Зои сама просилась в постель ко мне и Крису и спала сладким сном между мамой и папой. Теперь же отодвинулась так далеко, что вот-вот свалится с кровати.
Когда наконец удается заснуть, мне снятся младенцы. Младенцы и кровь. Это не те счастливые сны про ангелочков, которые я видела раньше. Нет, это кошмары про окровавленных малышей, умерших малышей, пустые колыбельки. Бегаю из комнаты в комнату в ночной рубашке, ищу маленькую Джулиэт, но не могу найти. Потом принимаюсь осматривать квартиру по второму разу, будто могла ее не заметить. Заглядываю во все места, где любят прятаться кошки. В шкаф, в кладовку, под кровать. Джулиэт нигде нет.
Вдруг опускаю взгляд на атласную ночную рубашку и вижу, что вся она залита кровью, будто булка кетчупом. Смотрю в зеркало. Кровь везде – на рубашке, на руках, даже на волосах, ставших красными. К тому же замечаю, что сразу постарела на десять лет. Просыпаюсь вся в поту.
Уверена, что разбудил меня плач ребенка. Встаю с кровати и на цыпочках крадусь к двери. Электронные часы показывают 2:17. В коридоре темно, только на кухне светятся светящиеся индикаторы духовки. Прижимаю ухо к двери кабинета. Ни звука. Там тихо. Руби не плакала. И все же проверить не помешает – я ведь точно слышала плач. Берусь за никелевую ручку и поворачиваю. Заперто. Пробую еще раз. Сердце начинает биться быстро-быстро. Волнуюсь – вдруг у них там что-то случилось? В голове проносится одна пугающая мысль за другой. Что, если Уиллоу перевернулась во сне и придавила малышку? Или какой-нибудь похититель детей влез по пожарной лестнице, схватил Руби и сбежал? Я должна попасть в кабинет и убедиться, что с малышкой все хорошо. Можно постучать в дверь и разбудить Уиллоу. Она впустит меня, и я проверю, надежно ли заперты окна и как там девочка. Скажу, что беспокоюсь за малышку, – я слышала, как она заплакала. Если Руби действительно плакала, моя тревога оправданна. Но если нет… Если нет, обе – и Уиллоу, и Зои – решат, что у меня с головой не в порядке.
Спешу по коридору на кухню. Замок на двери кабинета совсем простой, открыть его можно любым острым предметом. Скрепка вполне сгодится. Возвращаюсь и, повозившись с импровизированным ключом, поворачиваю его по часовой стрелке. Готово! Дверь открыта. Осторожно нажимаю на ручку, стараясь не разбудить Уиллоу. Раздается тихий скрип. Заглядываю внутрь и вижу, что девушка спит в той же позе, что и вчера – повернувшись к ребенку спиной, закрыв ухо подушкой. Девочка крепко спит. Дыхание ее медленное и размеренное. Руби сбросила с себя зеленый шенилевый плед. Смотрю, как поднимается и опускается маленькая грудка. Мои тревоги и ночные кошмары оказались безосновательны – Руби жива и здорова. Малышка видит десятый сон. Хочу взять ее на руки и сесть с ней в кресло-качалку в гостиной. Прижимать девочку к себе, пока не начнет светать, и на городских улицах не появятся первые автобусы и такси. Хочу любоваться рассветом с Руби на руках – смотреть, как взойдет солнце, как темное апрельское небо окрасится в золотисто-розоватые оттенки. Тут в голову начинают закрадываться другие мысли. Что, если взять Руби и сбежать с ней в такое место, где Уиллоу не сможет нас найти?
Не свожу с Руби глаз. Стою, вжавшись в стену, будто тень, отбрасываемая пробивающимся между темно-серыми занавесками в черноту комнаты лунным светом. Мне эти шторы в складочку никогда не нравились – ткань вечно кажется мятой, морщинистой. Продолжаю стоять на одном месте, неподвижная, точно пытаюсь изобразить один из знаменитых силуэтов – Джейн Остин или Бетховена. Или девиц с картинок, которыми украшают кабины дальнобойщики: фигура – «песочные часы», огромная грудь…
Опираюсь руками о стену. Даже дышать боюсь. Вдруг Уиллоу проснется? От того, что задерживаю дыхание, голова начинает кружиться. В этой комнате тоже есть часы. Кажется, цифры сменяются с «2:21» на «4:18» мгновенно. Встаю возле дивана, одолеваемая желанием сделать хоть что-нибудь – прикрыть девочку пледом или переложить подальше от Уиллоу, чтобы не беспокоиться, что она задавит малышку Руби. А больше всего хочется поднять ее и унести отсюда.
Но нет, нельзя. Уиллоу сразу поймет, что происходит. И уйдет.
Уиллоу
Здесь мы носим оранжевые комбинезоны, на спины которых нашиты слова «Центр содержания несовершеннолетних». Спим в камерах со стенами из голого кирпича, в каждой по два человека. Койки металлические. От коридора нас отделяют толстые прутья. Мимо камер по коридорам всю ночь прохаживаются надзирательницы – суровые женщины с мужским телосложением. Едим в общей столовой, за длинными столами. На потрескавшихся подносах пастельных цветов лежат продукты, призванные составлять полноценный рацион – мясо, хлеб, фрукты, овощи и стакан молока. Вообще-то условия здесь неплохие. По крайней мере, по сравнению с улицей. Когда бродяжничала, приходилось рыться в мусорных ведрах в поисках объедков и ночевать под открытым небом.
Моя соседка по камере – девчонка, которая говорит, что ее зовут Дива. Но я слышала, как надзирательницы обращаются к ней Шелби. Волосы у нее фиолетовые, сливового оттенка, а вот брови самые обыкновенные, коричневые. Дива поет. Постоянно. Всю ночь. Надзирательницы и заключенные из других камер орут, требуя, чтобы заткнулась сейчас же, и обзывают ее грубыми словами. Спрашиваю, за что ее отправили за решетку. Сидя на бетонном полу, – Дива уверяет, что у нее в кровати устроена какая-то ловушка, – моя сокамерница отвечает:
– Много будешь знать, не дадут состариться.
Остается только гадать.
Диве лет пятнадцать или, может, шестнадцать – как мне. По всему лицу дырки от пирсинга – сами сережки заставили снять. У Дивы проколоты губа и нос в нескольких местах. А еще язык. Она мне показывала где и рассказала, что он потом так распух, что стал в два раза больше, чем обычно. Дива несколько дней разговаривать не могла. Это еще что, сказала она. У одной знакомой девчонки язык после такого пирсинга и вовсе стал как у змеи – раздвоенный. Еще у нее проколоты сосок, пупок и даже интимное место. Перед тем как Диву отправили в камеру, ее заставили снять и эту сережку, а надзирательница смотрела.
– Лесбиянка гребаная, – сердито бормочет Дива.
Смущенно отворачиваюсь. Дива снова затягивает песню.
Из-за стенки кто-то орет:
– Захлопни варежку!
Но Дива, наоборот, начинает голосить еще громче – пронзительно, не попадая в ноты. Приятнее слушать, как тормоза у поезда визжат.
За мной приходит надзирательница и выводит из камеры. Надевает наручники, берет за локоть и ведет в холодную комнату, где за металлическим столом обычно ждет Луиза Флорес. Однако сегодня она стоит в углу, повернувшись к двери спиной и глядя в единственное оконце. На старухе дымчатая кофта из колючей шерсти и черные брюки. На столе стоят чашка чая для нее и стакан сока для меня.
– Доброе утро, Клэр, – произносит она, когда мы обе садимся на свои места.
Луиза Флорес не улыбается. Часы на стене показывают начало одиннадцатого. Луиза Флорес велит дежурной снять с меня наручники. Вместо вчерашнего парня здесь сегодня сидит женщина средних лет с седыми волосами, собранными в пучок. Развалилась, прислонившись спиной к стене и скрестив руки на груди. Из кобуры выглядывает рукоятка пистолета.
– Вот, принесла тебе сока, – говорит Луиза Флорес. – И пончик, – прибавляет она, выставляя на столешницу бумажный пакет.
Все понятно – подкуп.
Так же делал Джозеф. Иногда приносил домой шоколадное печенье в целлофановой упаковке, которое брал в столовой у себя в колледже, чтобы ночью покорно стаскивала широкую старую футболку, служившую мне ночной рубашкой, и позволяла ему спустить с меня трусики.
Луиза Флорес надевает очки и, сдвинув их на переносицу, просматривает свои вчерашние записи. Видно, проверяет, на чем мы закончили. А я и так помню – на нашей с Мэттью вылазке. На поездке в зоопарк.
– Что случилось, когда ты вернулась домой? – спрашивает Луиза Флорес.
– Ничего, мэм, – отвечаю я, доставая из пакета шоколадный пончик, усыпанный драже. Жадно запихиваю лакомство в рот. – Приехали мы с хорошим запасом, Айзек и Джозеф еще не скоро пришли, – с набитым ртом невнятно продолжаю я. – Мириам, как обычно, сидела у себя в комнате и ничего не заметила. Приготовила ей обед и взялась за стирку. Потом, когда сказала Джозефу, что весь день стирала, доказательства были налицо – на веревке сохло белье. Джозеф так и не узнал, что я в тот день уходила.
Луиза Флорес показывает на мою щеку и протягивает мне салфетку. Вытираю шоколад, потом облизываю пальцы и залпом выпиваю сок. Подкрепившись, продолжаю рассказ. С тех пор поездки на автобусе с Мэттью стали регулярными. В зоопарк больше не ходили, потому что билеты стоят деньги, и часто меня баловать Мэттью себе позволить не мог. Отправлялись туда, куда пускают бесплатно. Гуляли в парках. Мэттью пришлось снова учить меня качаться на качелях – я и забыла, как надо раскачиваться. А бывало, просто бродили по улицам, застроенным высокими зданиями, по которым туда-сюда спешили люди.
А в один прекрасный день Мэттью привел меня в библиотеку. С раннего детства помнила, с каким удовольствием ходила в библиотеку с мамой. Мне всегда нравился книжный запах и ровные ряды томов на полках. Целые тысячи книг. Нет, миллионы! Мэттью спросил, о чем я хочу почитать, и сказал, что могу выбрать что угодно. Я долго думала и наконец ответила, что хочу почитать про разные планеты. Мэттью кивнул и сказал:
– Ладно. Тогда нам в раздел астрономии.
Он шагал по библиотеке так уверенно, будто был здесь хозяином, а я едва поспевала за ним. В разделе астрономии, как эту науку назвал Мэттью, было много книг, где писали и про Солнце, и про Луну, и про звезды. В библиотеке было тихо. Мы с Мэттью расположились между стеллажами и радовались, что здесь никто нам не помешает. Сидели прямо на полу, прислонившись к шкафам, и по очереди восхищались красивыми фотографиями на обложках книг по астрономии – черное ночное небо, усыпанное сверкающими звездами.
Росла я без мамы, поэтому было много такого, что мне хотелось узнать, но не у кого было спросить. Например, почему время от времени у меня идет кровь и приходится набивать в трусы туалетную бумагу, чтобы их не запачкать? Или почему у меня вдруг начали расти волосы там, где их раньше не было, а некоторые части тела ни с того ни с сего увеличились? Рядом со мной не было ни одной женщины, которой я могла бы задать все эти вопросы. Разве что социальная работница. Но мисс Эмбер Адлер сразу принялась бы допытываться, почему я не обращаюсь со всеми этими проблемами к Мириам. Еще бы – каждый раз перед приездом социальной работницы Мириам принимала маленькие белые таблетки и вела себя почти нормально. Но только почти.
Имелись у меня и совсем другие вопросы – о чувствах, которые меня охватывают, когда рядом Мэттью. Хотелось проводить с ним как можно больше времени, а когда Мэттью уходил, сразу начинала по нему скучать. Каждый день, как только Джозеф и Айзек отправлялись на работу и в школу, с нетерпением ждала появления Мэттью и очень огорчалась, когда он не приходил.
Когда мы с ним отправлялись на прогулки, видела на улицах красивых женщин с развевающимися на ветру волосами – светлыми, темными, рыжими. На лицах макияж, одеты нарядно, модно – в высокие сапоги на каблуках, узкие джинсы, кожаные брюки, туфли на платформе, блузки с вырезом, свитера всех цветов радуги с таким широким воротом, что видно бретельки бюстгальтера. А руки их украшали гроздья браслетов. Женщины с мужчинами прогуливались, держась за руки, и целовались. Курили сигареты, разговаривали по мобильным телефонам. Для меня все это было в новинку.
Конечно, один лифчик у меня был. Джозеф принес, когда в последний раз снабжал меня новой одеждой – скучными коричневыми свитерами и кофтами, в то время как я мечтала о высоких каблуках и браслетах. Вот бы надеть поверх этого лифчика прозрачную блузку и показаться Мэттью!
Когда мы с ним вместе ложились на мою кровать и читали, то тесно прижимались друг к другу и клали головы на одну комковатую подушку. Чтобы заглядывать в книгу, Мэттью приходилось изгибаться, как вопросительный знак. Больше всего любила «Аню из Зеленых мезонинов», хотя мы ее уже сто раз перечитали. У Мэттью она, должно быть, уже в печенках сидела, но он никогда не жаловался. Даже говорил, что ему эта книга тоже нравится.
Но, как бы ни увлекала меня «Аня из Зеленых мезонинов», каждый раз обращала внимание, когда рука Мэттью, переворачивавшая страницы, задевала мою. Или его нога под одеялом касалась моей. Или локоть почти опускался мне на грудь, когда Мэттью старался устроиться поудобнее. Он читал мне вслух про Аню Ширли и Касбертов, а я слушала как завороженная, и вдыхала его приятный запах – смесь мха и сигаретного дыма. Смотрела на пальцы Мэттью и представляла, что почувствую, если сейчас он запустит руки мне под рубашку и дотронется до груди.
Одно я знала точно – с Мэттью будет совсем не так, как с Джозефом. После его «ласк» на моей бледной желтоватой коже остались отпечатки зубов.
Так мы с Мэттью подолгу лежали бок о бок, а потом он вдруг торопливо вскакивал и пересаживался на другой край кровати, будто мы занимались чем-то недозволенным.
Мисс Эмбер Адлер продолжала наносить визиты каждые полгода. Готовясь к ее приезду, Джозеф звал меня, чтобы помогла дать Мириам таблетки. Тогда она переставала целый день торчать у себя и вставала, и мы принимались проветривать дом, чтобы избавиться от запаха из ее комнаты. Я занималась уборкой, а Джозеф покупал мне новенькое платье, сажал меня за стол и причесывал. К тому моменту, как мисс Эмбер Адлер подъезжала на своей раздолбанной машине, где на сиденье лежала огромная сумка «Найк», в доме пахло лимонной свежестью, Мириам вела себя более или менее прилично, а на дверце холодильника висело напечатанное Джозефом сочинение о прочитанной книге, подписанное моим именем.
– Это ты написала? – спрашивала мисс Эмбер Адлер, держа листок в изящных маленьких ручках.
Приходилось врать:
– Да, мэм.
Конечно же никаких сочинений в жизни не писала. И в школу не ходила. Однако Джозеф сидел поблизости с самым честным видом, да еще рассуждал, что с чтением и письменными работами у меня все более или менее в порядке, а вот поведение по-прежнему оставляет желать лучшего. Мисс Эмбер Адлер отводила меня в сторонку и в очередной раз принималась напоминать, как мне повезло, что Джозеф и Мириам взяли меня к себе. Я должна ценить это, работать над собой и отблагодарить добрых супругов послушанием.
Мисс Эмбер Адлер продолжила привозить письма от Пола и Лили Зигер, а потом и от маленькой Лили. Правда, Лили-старшая рассказывала, что Роз (Лили) выросла уже совсем большая. Она хочет отрастить длинные волосы, а недавно сама выстригла себе челку. В школе у Роз (Лили) так много подруг – и Пейтон, и Морган, и Фейт! Она просто обожает школу. Роз (Лили) – такая умная, способная девочка! Ее любимый предмет – музыка. Лили-старшая спрашивала, играю ли я на каком-нибудь музыкальном инструменте, люблю ли петь? Она утверждала, что у Роз (Лили) способности от природы. Должно быть, это семейное, предполагала она. Когда маленькая Лили научилась читать и писать, стала отправлять мне записки на бумаге, украшенной рисунками с ветками деревьев и красными птичками. А сверху значилось имя – Роз Зигер. Каждую осень в конверт вкладывали новую школьную фотографию. Моя Лили всегда была веселая, счастливая, и по снимкам было видно, как она выросла. С каждым днем Лили становилась все больше и больше похожа на маму. Я, к сожалению, пошла в другую родню – когда смотрелась в зеркало, ни малейшего сходства не замечала. Зато маленькая Лили стала просто вылитая мама, какой я ее помню по фотографиям, которые Джозеф заставил меня порвать, как только мисс Эмбер Адлер уехала.
– Я очень радовалась за Лили, – говорю миссис Флорес.
– Почему? – спрашивает та.
– У Зигеров ей было хорошо. Со мной она не была бы такой счастливой, это уж точно.
Стоило только представить, как Джозеф вытворяет с Лили то же, что со мной, как сразу возникало непреодолимое желание огреть его сковородкой по голове. Впрочем, чем старше я становилась, тем чаще меня посещали подобные мысли. Из робкой восьмилетней девочки я превратилась в почти взрослую пятнадцатилетнюю девушку и теперь отлично понимала, что Джозеф не имел ни малейшего права ходить ко мне в комнату.
– Почему ничего не рассказала социальной работнице? – спрашивает Луиза Флорес и прибавляет: – Если ты, конечно, говоришь правду.
Молча отвожу взгляд. На этот вопрос уже отвечала.
– Клэр! – отрывисто рявкает Луиза Флорес.
Когда и на этот раз сохраняю молчание, старуха продолжает, заглянув в свои записи:
– Насколько могу судить, ты ничего не предпринимала, чтобы улучшить ситуацию. Ведь можно было пожаловаться мисс Адлер. Или… – Луиза Флорес снова заглядывает в свои бумаги, – Мэттью. Но ты молчала. Предпочла взять дело в свои руки.
Отказываюсь отвечать. Роняю голову на стол и закрываю глаза. Луиза Флорес с размаху хлопает ладонью по столу. И я, и дежурная подпрыгиваем.
– Клэр! – рявкает старуха.
Все равно не поднимаю головы. И глаз не открываю. Вспоминаю, как мама держала меня за руку. «Не будешь вертеться – больно не будет». Вот я и не верчусь, сижу смирно…
– Юная леди, – продолжает Луиза Флорес, – на твоем месте я бы не отказывалась сотрудничать со следствием. А твоя игра в молчанку ничего не даст. У тебя проблемы, и очень серьезные. Даже не представляешь насколько. Два обвинения в убийстве, да еще вдобавок…
Тут поднимаю голову и устремляю на Луизу Флорес пристальный взгляд. Серые глаза, длинные серебристые волосы, кофта из колючей шерсти, морщинистые кожа и крупные зубы – большие, как у лошади. Серые кирпичные стены вдруг начинают давить на меня, солнечный свет из единственного оконца бьет по глазам. Головная боль настигает без предупреждения. Представляю тело, кровь, кишки на полу. Дверь дома открыта, но не могу сойти с места. Ноги будто превратились в желе. Тут слышу голос, велящий уходить: «Уходи!»
И тут думаю – почему она сказала «два обвинения в убийстве»? Почему два?
Крис
Когда наконец получаю возможность поговорить по телефону с Хайди, слышу, как хнычет ребенок. Спрашиваю, что с девочкой, но единственное, что жена отвечает:
– Ждем, пока подействует тайленол.
Голос звучит так, будто Хайди что-то делает одновременно с разговором. Должно быть, укачивает Руби, чтобы та наконец успокоилась и замолчала.
– Опять жар? – интересуюсь я, печатая на ноутбуке. «Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг…» Едва слушаю подробные рассуждения Хайди. Температура не такая уж высокая, говорит жена и называет конкретную цифру, которую не смогу вспомнить даже под пытками, а потом рассказывает про поход к врачу в какую-то клинику в Лэйквью.
– Обратись в органы опеки, и все проблемы будут решены, – напоминаю я.
Больше не придется возиться с незнакомыми подростками и их детьми. Но Хайди только отмахивается:
– Давай не сейчас, Крис.
Повисает пауза. Жена не хочет, чтобы я снова читал ей нотации и повторял, что поселить у себя в доме незнакомую бродяжку – это полная дикость. К тому же наша квартира и для троих-то тесновата, не то что для пятерых. Не говоря уже о том, что, давая крышу над головой Уиллоу, мы оба рискуем очутиться за решеткой по обвинению в укрывательстве.
«Акции, предлагаемые для продажи…» Между тем Хайди продолжает рассказ о том, как ребенка показывали семейному врачу в клинике в Лэйквью. Чтобы ни у кого не возникло подозрений, выдали Руби за дочку Хайди. Трудно представить жену матерью младенца. Дело конечно же не в возрасте – при других обстоятельствах жена вполне могла бы родить ребенка. Но мы уже так отошли от всей этой кутерьмы – подгузников, бутылочек, прочих обременительных хлопот.
Однако врач и не стала особо вникать, чей ребенок. Единственное, что ее обеспокоило, – упорно держащаяся температура, а Хайди с Уиллоу просто стояли в кабинете, надеясь, что доктор предложит какое-нибудь чудодейственное средство и исцелит малышку.
По голосу слышу, как Хайди устала. Должно быть, на голове опять воронье гнездо и душ принять не успела. Когда Хайди долго не моет голову, волосы у нее обвисают, точно лапша. Под карими глазами, должно быть, мешки, да и глаза покраснели. И координация нарушилась – в середине разговора слышу, как Хайди роняет банку с газировкой. Представляю, как коричневая жидкость впитывается в паркетный пол.
– Вот дерьмо! – восклицает Хайди.
Моя жена никогда не говорит «дерьмо». Наверное, сейчас ползает по полу на четвереньках и вытирает колу бумажным полотенцем. Волосы падают на лицо, но она лишь небрежно перебрасывает их через плечо. Что Хайди сейчас нужно, так это принять приятный расслабляющий душ и как следует выспаться. Вдобавок жена стала рассеянной, как будто в голове одновременно проносится множество самых разных мыслей. Одним словом, ситуация сказывается на ней не лучшим образом.
Хайди говорит, что каждый день добросовестно мазала попку ребенка кремом, поэтому сыпь уже почти прошла. Врач даже внимания на нее не обратил. Когда исключили все другие причины жара, доктор с помощью катетера взяла у девочки анализ мочи и поставила диагноз – инфекция мочевыводящих путей.
– Инфекция? Отчего?
Невольно морщусь. Жжение при мочеиспускании – штука неприятная. А катетеры еще хуже.
– От несоблюдения гигиены, – просто отвечает Хайди.
Еще бы, ребенку же бог знает сколько времени не меняли грязный подгузник, вот бактерии и сделали свое дело – началось воспаление. Теперь девочке дают антибиотики, а матери – то есть Хайди – показали, как правильно вытирать ребенку попку. Хотя уж этот урок жена усвоила на отлично. И в меня его вдалбливала, когда Зои была маленькой. Интересно, что сейчас поделывает Уиллоу? Должно быть, сидит на диване, уставившись в телевизор. Она это любит. Впрочем, чего ждать от неопытной матери? Уиллоу сама еще ребенок, а детям надо про все напоминать. Чтобы мыли руки. Чтобы ели овощи. Чтобы застилали кровать. Чтобы правильно вытирали своим детям попку.
Частный детектив Мартин Миллер мне пока не перезвонил. Размышляю, как бы ускорить расследование. Может, все-таки могу дать ему какую-то важную информацию, которая наведет на след? Однако поиски в Интернете ни к чему не привели. Подумываю, не сфотографировать ли нашу Уиллоу Грир. Однако уверен, что девчонка откажется наотрез, да и Хайди эту идею не одобрит. Вспоминаю потрепанный коричневый чемодан. Когда Уиллоу выходит из кабинета, прячет его под раскладной диван, будто надеется, что так мы с Хайди забудем о его существовании. Может, при случае пошарить внутри? Вдруг наткнусь на документы или мобильный телефон?
Мартин предлагал взять у девчонки отпечатки пальцев. Например, со стакана или с телевизионного пульта – в общем, с любого предмета, до которого дотрагивалась Уиллоу. По отпечаткам можно определить, что она не та, за кого себя выдает. Мартин подробно объяснил, как сохранить отпечатки, чтобы потом их можно было отправить для анализа в лабораторию. Но со всем этим придется подождать до возвращения из командировки.
У. Грир мне так и не ответила. Неужели привела в исполнение многочисленные угрозы и все-таки покончила с собой? А может, сидит себе спокойненько в своей чикагской квартире и нарочно ничего не пишет, чтобы у всех создалось такое впечатление. Мне-то откуда знать? И все же каждый день проверяю свой аккаунт в «Твиттере» – на всякий случай.
– Ее заинтересовала родинка, – продолжает Хайди, прерывая мои размышления.
– Кого? Какая родинка?
– Как это – кого? Врача.
– A-а, родинка у девочки? – откликаюсь я, припоминая довольно крупное пятно сзади на ножке. Обратил внимание, когда Хайди только привела Уиллоу с малышкой в дом и размотала синее полотенце, в которое была завернута девочка после ванны, чтобы помазать сыпь кремом.
– Да, – отвечает Хайди. – Сказала, такое пятно называется капиллярная гемангиома.
И как только запомнила? Даже выговорить трудно. Хайди принимается долго и нудно объяснять, отчего появляются такие пятна. А потом прибавляет, что врач сказала – при желании эту самую гемангиому можно удалить с помощью лазера. Хайди заявляет, что мы должны серьезно об этом подумать. «Мы». В смысле она и я. Будто речь идет о нашем ребенке.
Представляю, как жена, с уныло обвисшими волосами, мешками под глазами и усталым лицом, говорит все это в телефонную трубку.
– Врач сказала, что, когда девочка подрастет, будет стесняться этого пятна. А в младенчестве процедуру сделать легче, потому что сосуды меньше.
У меня пропадает дар речи. Даже не знаю, что ответить. Открываю рот и снова закрываю. Наконец меняю тему:
– Как Зои?
– Нормально, – отвечает Хайди.
Про пятно разговор больше не завожу. Принимаемся обсуждать погоду. Все-таки голос у жены совершенно измученный. Взвалила на себя слишком тяжелую ношу. Мне ее почти жаль. Почти.
Но тут вспоминаю, как мы с Хайди жили до рождения Зои и до того, как вынужденный аборт произвел на нее более тягостное впечатление, чем жена хотела показать. Перепрыгивая через две ступеньки, мы с ней каждый субботний вечер поднимались на крышу многоквартирного дома, где тогда жили, и любовались фейерверками на Нэви-Пиер, пирсе на берегу озера Мичиган. Вспоминаю, как сидели вместе на веранде на одном шезлонге и пили из одной бутылки пива. Смотрели на чикагские виды: центр Джона Хэнкока, Сирс-Тауэр – тогда ее еще не успели переименовать[10]. Тогда у нас была куча планов. Мечтали объехать весь мир, увидеть Великую Китайскую стену, Голубые пещеры на греческом острове Закинф, вместе принять участие в соревнованиях по троеборью. Однако после рождения ребенка обо всем этом пришлось забыть. А ведь с самого начала не хотел, чтобы мы с Хайди превратились в одну из тех семей, где у обоих супругов своя жизнь, и единственное, что их объединяет, – интересы детей.
Мечтал, чтобы мы с Хайди стали партнерами, командой. Но теперь мы больше напоминаем конкурентов. Спортсменов, сражающихся за противоборствующие команды. И все же невольно сочувствую Хайди – одна, без помощи, вынужденная возиться с этой девицей и ее ребенком. Впрочем, Хайди никто не заставлял, это была ее инициатива.
Никак не могу выкинуть из головы записку, которую Уиллоу подложила мне в портфель. Всего одно слово: «Да». Вчера, когда сел в самолет, достал ее снова. А потом еще раз, когда заселились в роскошный отель в самом центре Нью-Йорка. И когда вернулись и Кэссиди, Том и Генри разошлись по своим номерам, заглянул в нее опять. Кэссиди еще так кокетливо помахала рукой, желая спокойной ночи…
Сижу на свежем белоснежном постельном белье в своей величественно обставленной комнате. Перед окном высится кирпичная стена соседнего здания, расстояние до которой составляет меньше десяти футов. Снова вынимаю записку и держу на ладони. Обращаю внимание на каждую деталь. Где Уиллоу взяла этот фиолетовый стикер? Почему почерк такой неровный? Уиллоу нервничала? Спешила? Держала в другой руке ребенка? Или она всегда так неаккуратно пишет?
Интересно, когда Уиллоу подбросила записку в портфель? Вечером, как только мы легли спать? Ночью, потому что не могла заснуть из-за воспоминаний о людях, которые плохо с ней обращались? А может, рано утром? Услышала мой будильник, проснулась и, пока я принимал душ, подкралась к стоявшему возле двери портфелю. Трудно сказать.
С тех пор, как я обнаружил ее записку, прошел день. На сегодня встречи закончены. Том, Генри и Кэссиди ждут меня в баре отеля через двадцать минут. Думаю, сказать ли Хайди про записку. Хотя зачем? Узнав, что девчонку и правда обижали, – во всяком случае, если верить ее словам, – Хайди, чего доброго, настоит, чтобы мы оставили ее насовсем. Как котят. «Они будут жить у нас» – и весь разговор.
Вдруг раздается стук в дверь. Хайди реагирует молниеносно.
– Кто там у тебя? – резко спрашивает она.
Вру:
– Заказал ужин в номер.
Не говорить же, что перед намеченными посиделками в баре Кэссиди обещала зайти и прочесть мой меморандум о предложении, чтобы проверить, нет ли ошибок. Встаю с кровати и направляюсь к двери. По пути рассказываю Хайди, как весь вечер просидел над меморандумом, который, между прочим, собирался закончить еще в выходные. Пойти поужинать не успел, вот и заказал сэндвич с индейкой и чизкейк. Закончу работу, посмотрю матч, поем и лягу спать.
Открываю дверь. Я не ошибся – на пороге стоит Кэссиди. Губы накрашены такой яркой красной помадой, что не могу смотреть ни на что другое. Многозначительно подношу палец к губам, а потом громко – так, чтобы Хайди слышала, – спрашиваю:
– Принесли кетчуп, как я просил?
Кэссиди подавляет смешок. Испытывая немалые угрызения совести, благодарю «официанта» и захлопываю дверь. Когда Хайди говорит, что не будет больше меня задерживать, а то сэндвич остынет, испытываю облегчение.
– Люблю тебя, – произношу в трубку.
– Я тоже, – как обычно, отвечает Хайди.
Бросаю телефон на кровать. Наблюдаю, с каким уверенным видом Кэссиди расхаживает по моему номеру. Будто по своему собственному. Другая на ее месте застеснялась бы, застыла бы в дверях, ожидая, когда ее пригласят войти. Но только не Кэссиди.
Замечаю, что она переоделась. Только Кэссиди придет в голову переодеться из одной приличной одежды в другую ради того, чтобы выпить в баре. Строгий черный костюм Кэссиди сменила на платье в греческом стиле – приталенное, без рукавов. Цвет красно-коричневый. Кэссиди усаживается в низкое желтое кресло, закидывает одну длинную ногу на другую, задает вопросы сначала про меморандум, потом про Хайди.
– Как у нее дела?.. Нормально, – отвечаю я, разворачивая окно с меморандумом во весь экран и протягивая ноутбук Кэссиди. При этом стараюсь, чтобы наши руки не соприкасались. – Хорошо.
Усилием воли заставляю себя смотреть ей в глаза, и только в глаза, а не на ноги, губы или декольте красно-коричневого платья. Грудь у Кэссиди прямо-таки идеального размера – не слишком большая, не слишком маленькая. И фигура в целом стройная и гармоничная. Пропорции соблюдены безупречно. Извинившись, сбегаю в ванную и стою там, рассматривая расставленные возле черной раковины средства гигиены – шампунь, кондиционер, лосьон, мыло. Открываю упаковку с мылом и умываюсь холодной водой, надеясь хоть так отогнать мысли о груди Кэссиди Надсен. И о стройных ногах. И о губах. Алых губах цвета кайенского перца.
Кэссиди окликает меня из комнаты. Вытирая лицо полотенцем, выхожу из ванной и сажусь рядом с ней, во второе низкое желтое кресло. Придвигаюсь к круглому столику. Вместе изучаем текст меморандума. Стараюсь сосредоточиться на долях, акциях и ценах, а не на накрашенном пальчике, порхающем по строчкам, и на красно-коричневом подоле, почти касающемся моей ноги.
Разобравшись в меморандуме, направляемся вниз. В лифте едем вплотную друг к другу. Кэссиди наклоняется ко мне и передразнивает мужчину с накладкой из искусственных волос, который стоит к нам спиной. Сама посмеявшись над собственной пародией, Кэссиди будто без всякой задней мысли дотрагивается до моей руки. Интересно, что думают люди, глядя на нас? Я с обручальным кольцом, она – без. На кого мы больше похожи – на коллег, приехавших в Нью-Йорк в командировку, или на мужа-ловеласа и его любовницу?
В баре отеля сразу усаживаюсь на металлический стул с краю, так что Кэссиди приходится расположиться на низком диване с Томом и Генри. Посидели, выпили. Пожалуй, даже перепили. Болтаем, обмениваемся офисными сплетнями, с удовольствием посмеиваемся над другими сотрудниками и клиентами. Потом принимаемся отпускать шуточки насчет жен. Не обошли и Хайди.
Кэссиди отпивает маленькой глоточек коктейля «Манхэттен». На бокале остаются следы рубиново-алой помады. Потом произносит:
– Вот поэтому, джентльмены, я замуж выходить не собираюсь.
Гадаю, что она имела в виду. Кэссиди не хочет становиться мишенью для сомнительных острот или сама отказывается высмеивать того, с кем поклялась быть вместе в горе и в радости, в здравии и в болезни, пока смерть не разлучит их? А может, в браке Кэссиди не устраивает именно требование соблюдать супружескую верность?
Позже, в туалете, пьяный вдрызг Генри сует мне в руку презерватив.
– Вдруг пригодится? – со знающим видом хохотнул он. Да, Генри Томлин в своем репертуаре.
– Спасибо, конечно, но мы с Хайди давно уже презервативами не пользуемся, – отвечаю я, и все равно запихиваю упаковку в карман брюк. Не хочется оставлять ее лежать возле раковины.
Генри наклоняется ко мне, обдав перегаром от старого доброго виски – теннессийского, «Джек Дэниелс». Видно, решил вспомнить проведенную в южных штатах молодость.
– А я не про Хайди, – шепчет он, подмигивая.
За временем совершенно не следим. Том решает угостить всю компанию за свой счет. Мы с ним заказываем по пильзнеру, Генри – опять «Джек Дэниелс», Кэссиди – коктейль «Алабама Сламмер». Перед тем как пить, снимает с края бокала фрукты – дольку апельсина и мараскиновую вишенку – и отправляет в рот. Бармен предупреждает, что заведение скоро закрывается.
Совсем забываю, что оставил телефон в номере на кровати, под складками белого покрывала.
Хайди
Зои укладывается спать пораньше, жалуясь на головную боль и заложенный нос. То ли весенняя аллергия, то ли обыкновенная простуда. Трудно сказать – в это время года уже начинает летать пыльца деревьев, но сезон гриппа и простуд тоже еще не прошел. Поэтому на всякий случай даю дочке и анальгетик, и антигистамин. Под воздействием лекарств Зои бухается в кровать и мгновенно засыпает. Осторожно, чтобы не разбудить, целую ее в лоб.
По телевизору показывают какое-то реалити-шоу. Сидим с Уиллоу в гостиной. Она тихонько читает «Аню из Зеленых мезонинов», я пристроила на коленях ноутбук и делаю вид, что занята работой, но на деле сосредоточиться не могу. В голову лезут посторонние мысли. Уже три дня не была в офисе, и все это время про свои обязанности даже не вспоминаю.
Конечно, мое отсутствие в фонде заметили. Прислали красивый букет из роз и лилий, а еще открытку «Поправляйся скорее». И то и другое теперь стоит на кухонном столе. Каждое утро набираю номер нашей незаменимой секретарши Даны и, стараясь говорить в нос, сообщаю, что все еще не поправилась. Должно быть, грипп. Ругаю себя за то, что вовремя не сделала прививку. Жалуюсь на температуру тридцать девять, ломоту во всем теле и жуткий озноб – мол, надела на себя все, что было в доме, завернулась в десять одеял, и все равно мерзну. Остается только надеяться, чтобы Зои не заразилась. Впрочем, я ведь хорошая мать и интересы ребенка ставлю выше своих, поэтому дочку на прививку отвела. Потом разражаюсь очень правдоподобным кашлем. Даже не подозревала, что во мне дремлет такой полезный актерский талант!
Разумеется, все это бесстыдное вранье. В последнее время и в этом искусстве изрядно преуспела. Руби спит на полу, на коврике. Не свожу с нее внимательного взгляда, с нетерпением ожидая, когда девочка проснется. Стоит заметить, как малышка чуть шевельнула ручкой или у нее дрогнули реснички, сразу вскакиваю с кресла и спешу к ней, стараясь опередить Уиллоу. Можно подумать, мы дети, участвующие в игре, в которой надо успеть добраться до цели раньше соперника.
Стараясь показать, что действительно работаю, принимаюсь набирать на ноутбуке какую-то белиберду. Перевожу взгляд с Руби на Уиллоу, потом снова на экран и обратно. Даже голова закружилась. Из-за стены доносится смех Грэма и его новой пассии. Голос девушки звучит кокетливо, но неискренне. Значит, снова случайный короткий роман и ничего более. Впрочем, Грэм серьезных отношений и не заводит. Замечаю, как Уиллоу поднимает глаза от книги и тоже прислушивается. Смех у «гостьи» Грэма пронзительный, голос звучит визгливо. Тут наши с Уиллоу взгляды встречаются. Посмотрев в ее холодные голубые глаза, поспешно опускаю голову. Ее пожелтевший синяк вдруг наводит на мысль – интересно, что нужно сделать, чтобы заставить тихую, покладистую Уиллоу озлобиться? Сколько потребуется времени, чтобы дурное обращение породило в девочке ответную жестокость?
Не могу заставить себя на нее посмотреть. Кажется, во взгляде Уиллоу таится угроза. Гляжу на белую стену, на коллаж в деревянной рамке, составленный из наших черно-белых фотографий – Крис, Зои, я, кошки. Посередине коллажа деревянная табличка, на которой вырезано и вручную раскрашено слово «Семья». Похлопываю по карману фиолетового халата, в котором лежит швейцарский армейский нож. Мера предосторожности. «В конце концов, что ты о ней знаешь?» – сказал Крис. И был совершенно прав.
Тут Руби зашевелилась – заморгала, задвигала ручками. Но Уиллоу оказалась быстрее и добралась до малышки первой. Неуклюже поднимает ее с пола. Движения такие неловкие и неуверенные, что кажется, она вот-вот уронит девочку. Вскакиваю и рвусь вперед, собираясь поймать на лету падающего ребенка, но Уиллоу одним взглядом заставляет меня застыть на месте. В глазах читаю самодовольство и даже злорадство. Эта девушка насмехается надо мной, упиваясь победой. Неужели заметила, что я весь вечер только и ждала возможности взять эту прекрасную малышку на руки, когда она проснется? Едва не вскрикиваю от досады. Поспешно прижимаю ладонь к губам.
– Мэм, что с вами? – спрашивает Уиллоу, возвращаясь вместе с девочкой в кресло и заворачивая ее в розовое одеяльце. Когда не отвечаю, окликает меня: – Мэм!
Перемещаю руку с губ на разбитое сердце и вру:
– Ничего, все нормально.
Врать с каждым разом становится все легче и легче. Безо всяких проблем скрываю бушующую внутри бурю под маской спокойствия и невозмутимости.
Тут из спальни доносятся громкие звуки телевизора. Вспоминаю, что забыли его выключить. Видимо, началась реклама, во время которой звук, как всегда, прибавили. Нас громко и настойчиво уговаривают купить кондиционер для белья с запахом эвкалипта. Невольно рассердилась: разве можно так орать? Чего доброго, Зои проснется. Принимаюсь вслух ругать идиотскую рекламу, канал, телевидение в целом и даже кондиционер для белья с запахом эвкалипта, которым ни разу не пользовалась. Спешу по коридору в спальню и выключаю телевизор, с такой силой ткнув в кнопку, что телевизор сдвигается на подставке, задев стену. На двуспальной кровати, под одеялом с жаккардовым рисунком Зои переворачивается на бок, по-прежнему сжимая в руке пульт.
Сердце громко стучит в груди. Как же меня раздражает собственное бессилие! Безумно бесит. Стою, смотрю на экран выключенного телевизора и вдруг чувствую тошноту. Ноги становятся ватными, и я на какую-то секунду решаю, что у меня вот-вот случится сердечный приступ. В глазах темнеет, будто в забрызганных окнах. Тащусь в ванную и, сев на край ванны, опускаю голову между колен и жду, когда кровь снова прильет к мозгу. Протягиваю руку к крану и включаю воду, чтобы Зои, если проснется, не услышала, как я плачу. И тут обращаю внимание на резной крючок в виде красной птички. Рядом не слишком удачно замазанная вторая дыра в стене – напоминание, что в первый раз Крис повесил крючок криво.
Вещицу эту нашла на блошином рынке в округе Кейн, когда лет шесть-семь назад совершала с Дженнифер и девочками небольшую увеселительную поездку. Отъехали от города всего на сорок с лишним миль и добрались только до Сент-Чарльза, но учитывая, что в том году отпуска у нас обеих не было, даже это стало настоящим путешествием. Пока мы с Дженнифер рассматривали старинные коллекционные предметы, которые нам, откровенно говоря, были не нужны, Зои с Тейлор катались на красной тележке, ели хот-доги с попкорном и остались вполне довольны.
Тут замечаю, что цепочки с кольцом на крючке нет. Принимаюсь ощупывать шею и грудь, хотя отлично помню, что повесила ее сюда перед тем, как пожелать Зои спокойной ночи и поцеловать ее в лоб. Золотая цепочка с папиным обручальным кольцом, на котором выгравированы слова «Вместе навсегда», пропала.
Когда выключила свет и вышла из спальни, пошла на кухню мыть посуду. Потом достала из ведра мешок с мусором и отправилась к мусоропроводу. Потом села в гостиной с ноутбуком на коленях и принялась печатать первое, что взбредет в голову, тщетно ожидая, когда Руби проснется.
Эта девчонка украла обручальное кольцо моего отца. Для меня это такой удар, словно он умер еще раз. Сразу вспоминаю то утро, когда мама позвонила из нашего дома в Кливленде. Папа болел уже довольно давно, и такой исход не должен был стать для меня неожиданностью. И все же эта новость совершенно меня подкосила. Не говоря уже о тоне, каким сообщила ее мама. Ни следа печали. Голосом, каким говорят о погоде, мама произнесла: «Он умер». Я была совершенно ошарашена и застыла как громом пораженная. Долгое время верила, что врач ошибся, поставил неверный диагноз. Не может быть, чтобы у папы действительно был рак. Конечно, состоялись похороны. Стояла и наблюдала, как тело какого-то мужчины, похожего на моего папу, опускают в землю. Потом, как и подобает хорошей дочери, бросила на крышку гроба цветы, с которыми мама выходила замуж. Лавандовые розы. Но все это время думала, что хоронят кого-то другого, а не папу. Каждый день пробовала до него дозвониться, волновалась, когда не подходил к мобильному телефону. Иногда трубку брала мама и самым добрым, мягким голосом, на какой была способна, говорила: «Хайди, милая, ты ведь сама понимаешь, что так больше продолжаться не может». Но я вновь и вновь звонила. Тогда мама посоветовала обратиться к специалисту, к человеку, который мне поможет. И с Крисом этот вопрос обсудила. Но я отказалась наотрез. Совсем как после аборта – убийства Джулиэт. Тогда гинеколог тоже рекомендовал обратиться к психологу.
В Нью-Йорке уже почти десять часов. Достаю из кармана мобильник и звоню Крису, чтобы рассказать, что Уиллоу украла у меня кольцо. Однако к телефону муж не подходит. Жду десять минут и пробую снова. Крис сова, поэтому уверена, что он точно не спит. Должно быть, трудится в поте лица над этим своим меморандумом. Во всяком случае, так он мне сказал. Снова не дозвонившись, пишу эсэмэску: «Перезвони срочно». Жду еще двадцать минут, но ответа нет. И тут начинаю закипать.
Нахожу сайт отеля на Манхэттене, набираю номер ресепшн и прошу переключить звонок на телефон в номере Криса Вуда. Приходится шептать, чтобы не разбудить Зои, поэтому девушка несколько раз переспрашивает. Потом исполняет мою просьбу. Крис снова не берет трубку. Девушка извиняется и спрашивает, не хочу ли что-нибудь передать мистеру Вуду. Вешаю трубку. Что, если позвонить снова, но на этот раз попросить соединить меня с номером Кэссиди Надсен?
А может, бросить все да и рвануть в Нью-Йорк, никого не предупредив? Заявлюсь прямо в отель и подкараулю эту парочку. Своими глазами увижу, как они флиртуют и смеются над шутками, понятными только им двоим. Зайду в номер и увижу мужа и Кэссиди в халатах, попивающих шампанское и угощающихся клубникой. Конечно, клубникой, чем же еще? А на дверной ручке висит табличка «Не беспокоить».
Чувствую, как кровь приливает к голове. Даже в ушах зазвенело. Сердце бьется так громко, что, должно быть, даже крепко спящая Зои слышит. Снова начинает кружиться голова. Опять опускаю ее между колен и перевожу дух. Сама не своя от ярости, мысленно награждаю мужа и эту женщину самыми нелестными эпитетами, какие приходят в голову, и представляю, как самолет до Денвера падает и загорается.
– Пора давать Руби лекарство, – вдруг робко произносит эта девчонка. Эта воровка, укравшая папино обручальное кольцо.
Хочется закричать, однако удивительно спокойным тоном произношу:
– Ты взяла кольцо. Обручальное кольцо моего отца.
Едва удерживаюсь, чтобы не схватить ее за шею и не встряхнуть как следует. Уиллоу забрала самую дорогую мне вещь. Однако продолжаю сидеть на краю ванны. Провожу рукой по поле флисового халата, нащупав карман, где лежит швейцарский нож. Он складной, и внутри скрывается много полезных инструментов, которые при желании можно использовать и в качестве оружия – штопор, ножницы, буравчик и, конечно, само лезвие.
– Что? – слабым, растерянным голосом переспрашивает Уиллоу. Голос звучит обиженно, будто в этой ситуации жертва она. Можно подумать, это ее ограбили, ее добротой воспользовались. Голос девчонки звучит тихо, едва слышно. Она начинает торопливо, отчаянно мотать головой. – Нет, я не брала, – шепчет Уиллоу.
Однако при этом отводит глаза и нервно теребит пальцы. Она часто моргает, бледная кожа залилась краской. Так себя ведут, когда обманывают. Поднимаюсь. Уиллоу торопливо пятится обратно в спальню, бормоча себе под нос что-то про Иисуса, прощение и милосердие. Надо думать, это равносильно признанию.
– Где оно? – спрашиваю я, следуя за Уиллоу в гостиную.
Шаги мои тихи, но торопливы, поэтому быстро ее догоняю.
В мягких тапках из овечьей шерсти пересекаю комнату и хватаю Уиллоу за руку. Разворачиваю девушку к себе. Теперь ей приходится встретиться со мной глазами. Но мой взгляд Уиллоу выдерживает со стойкостью, выдающей закоренелую преступницу. Девчонка сразу отпрянула. Не любит, когда нарушают ее драгоценное личное пространство. Она поспешно прячет руки за спиной, чтобы я больше не могла ее схватить.
– Куда ты спрятала папино обручальное кольцо? – требовательно спрашиваю я.
Малышка наблюдает за нами с пола, жуя носочек в горошек, который только что стянула с розовой ножки. Ребенок весел, спокоен и не замечает напряженной, предгрозовой атмосферы в комнате.
– Я не брала, – повторяет свою ложь Уиллоу. Однако твердости в голосе не слышно – произнесенные слова напоминают бесхребетных червяков или пиявок. – Честное слово, мэм, я не трогала ваше кольцо.
Но, что бы Уиллоу ни говорила, глаза у нее бегают, выдавая коварный умысел. Место наивной, ранимой девушки, какой я ее когда-то считала, занимает хитрая, ловкая воровка. Непорядочная особа, научившаяся искусно втираться людям в доверие.
Уиллоу по-прежнему избегает моего взгляда, лишь неловко поводит плечами, будто и впрямь смущена. Ничего не скажешь, умелая притворщица. Речь Уиллоу тороплива, резка, отрывиста. Конечно же девчонка все отрицает: «Я не брала», «Честное слово». Но руки жестикулируют слишком энергично, а щеки покраснели. Все это лишь умелая актерская игра. Да она просто смеется, издевается надо мной! Смотрит невинными глазками, изображает овечку, а сама волчица. Видимо, нарочно торчала целыми днями на станции под дождем, надеясь, что найдется дура, которая пожалеет ее и заглотит наживку. Дура вроде меня.
– Куда ты дела кольцо? – уже с тревогой спрашиваю я. – Что ты с ним сделала?
– У меня его нет, – твердит девчонка. – Я не брала.
И опять принимается мотать головой из стороны в сторону, точно маятник.
Но я не сдаюсь:
– Нет, взяла. Меня не проведешь. Ты его сняла с крючка в ванной. Кольцо моего отца.
– Мэм, – умоляющим тоном произносит Уиллоу.
Девчонка так жалка, что почти готова пожалеть ее. Однако понимаю, что ее мольбы – лишь бездарный спектакль. Уиллоу снова пятится. Делаю шаг вперед. Она вздрагивает всем телом. Нащупываю нож в кармане фиолетового халата и, стиснув рукоятку, выдавливаю одно слово:
– Уходи.
Чувствую, как нож дрожит в руке. Мысленно прошу Уиллоу: «Только не давай мне повода…» Та снова качает головой. Светлые волосы падают на широкораспахнутые глаза. Губы выговаривают одно слово:
– Нет, нет…
Потом Уиллоу начинает униженно просить, чтобы не гнала ее на ночь глядя и позволила остаться хоть ненадолго. Снова припустил дождь, капли барабанят по окну. Пока ливень не слишком сильный, но вполне может разойтись.
– Уходи, – повторяю я. – Уходи сейчас же, пока я не вызвала полицию.
Делаю шаг по направлению к стоящему на столешнице телефону.
– Пожалуйста, не надо! – взмолилась Уиллоу. – Можно я утром уйду?
И косится на дождь, льющий за окном.
– Верни, – твердо произношу я. – Верни то, что украла.
– Пожалуйста, мэм, – тянет Уиллоу. Потом вдруг прибавляет: – Хайди…
Будто пытается до меня достучаться, пробудить сострадание. Однако реакция прямо обратная. Такая фамильярность и наглость вызывают лишь раздражение. Нахальная выходка лишний раз напоминает, с какой бесстыдной, беспардонной особой имею дело. Все остальное – лишь ужимки, призванные усыпить мою бдительность. Эта жалкая мошенница обманом проникла в мой дом и обворовала меня. Потом надо проверить, что еще она стащила. Польскую вазу, бабушкин жемчуг, кольцо Криса?
– Для тебя – миссис Вуд, – холодно поправляю я.
– Миссис Вуд, я правда не трогала ваше кольцо. Клянусь. У меня его нет.
– Значит, уже продала, – киваю я. – Куда? В ломбард?
В районе Линкольн-Парк есть один. Да, точно. На Кларк-стрит висит вывеска, а под ней табличка: «Покупаем золото». Вспоминаю, как сегодня днем ненадолго прилегла вздремнуть. Должно быть, тогда Уиллоу и украла кольцо. Хотя нет, я ведь повесила его на крючок сегодня вечером, перед тем как выключила свет в спальне, навела порядок на кухне и села работать с ноутбуком. Вернее, делать вид, что работаю.
Нет, в ломбард сбегать Уиллоу бы не успела. «А может, я перепутала?» – растерянно думаю я. Такое часто бывает, когда делаешь что-то постоянно, изо дня в день. Думала, что отнесла кольцо в ванную сегодня, а на самом деле это было вчера. Зато одно знаю точно – взяла его именно Уиллоу.
– Сколько тебе заплатили? – резко спрашиваю я.
Девчонка не отвечает. Повторяю вопрос:
– Сколько тебе дали в ломбарде за папино обручальное кольцо?
Пятьсот долларов? Тысячу? Сунув руку в карман, вожу большим пальцем по гладкой рукоятке швейцарского ножа. Нащупываю острое лезвие. Похоже, порезалась. Как течет кровь, не чувствую, но, должно быть, капля или две уже впитались в карман халата.
Между тем Уиллоу начинает ходить по всей квартире и собирать вещи. Бутылочки, молочную смесь, свои рваные джинсы, кожаные ботинки на шнуровке, зеленое пальто, старый чемодан из кабинета. Потом тащит все это в коридор и кучей сваливает возле двери. С мрачным видом поворачивается ко мне. Картинное отчаяние на ее лице сменилось стоической готовностью покинуть мой гостеприимный кров. Но когда Уиллоу входит в гостиную и наклоняется, собираясь поднять ребенка с пола, не могу не вмешаться. Только через мой труп, думаю я, но вслух говорю совсем другое:
– Ты не сможешь как следует о ней позаботиться. Сама понимаешь. Если бы не я, Руби могла бы умереть от этой инфекции.
Да, если не лечить инфекцию мочевыводящих путей, может начаться заражение крови. Без медицинской помощи дело может закончиться летальным исходом. И я не сгущаю краски – между прочим, так сказала врач в клинике, когда спрашивала, как давно болен ребенок. Когда девочка стала нервной, когда в первый раз поднялась температура?
– Неделю назад. Может, две, – печально, с сожалением в голосе произнесла Уиллоу.
Но я сразу посмеялась над ее искренним ответом и сказала:
– Да что ты! Какие неделю-две? Всего несколько дней.
Можно было представить, что о нас подумает врач. Не лечили ребенка неделями! У младенца столько времени держится температура, а мы и не чешемся! Повернувшись к доктору, выразительно закатываю глаза, призывая ее разделить мои чувства. Говорю: «Никакого чувства времени. Ох уж эти подростки. Что день, что неделя – без разницы».
Врач – похоже, сама мать подростка – понимающе кивает и соглашается.
В последнее время ложь срывается с языка с удивительной легкостью, не требуя никаких усилий. Иногда даже сама начинаю верить в собственную искренность.
– Заберешь девочку, – грожу я, – заявлю на тебя в полицию. Обвиню и в краже, и в жестоком обращении с ребенком. Здесь, со мной, Руби будет лучше.
Пусть Уиллоу подумает о благе дочери.
– Когда встретила тебя на улице, – напоминаю я, – у девочки был сильный жар. Вся попка в волдырях, экзема… Бедного ребенка не мыли неделями, еда у вас почти закончилась. Удивительно, как она воспаление легких не подхватила или от голода не умерла. И вообще… – прибавляю я, потихоньку подбираюсь ближе к Руби. Отлично понимаю, что, если Уиллоу воспротивится, буду драться за малышку. Выхвачу из кармана нож, а потом в случае чего скажу, что это была самооборона.
Но по глазам Уиллоу вижу, что девчонка готова уступить. Силу и оружие в ход пускать не придется. Для нее ребенок лишь бремя, обуза. У нее же ни капли материнских чувств. Это я чувствую острую потребность взять девочку на руки, а когда мне в такой возможности отказано, чувствую себя потерянной. Это я чувствую отчаянное желание быть с ней рядом. Я, но не она.
– Младенец тебе только помешает, – заканчиваю фразу я. Догадываюсь, что Уиллоу от кого-то убегает, прячется. От кого, не знаю. Должно быть, от человека, который поставил ей желтый синяк, будь то мужчина или женщина.
– Вы ведь будете о ней хорошо заботиться? – произносит Уиллоу. Звучит не как вопрос, а как просьба. «Мне надо, чтобы вы хорошо о ней позаботились».
Отвечаю, что да. Лицо мое смягчается. С языка само собой срывается:
– Да-да, конечно. Очень хорошо.
Прямо как ребенок, которому обещают подарить котенка при условии, что он будет как следует за ним ухаживать.
– Но тебя под своей крышей больше не потерплю, – прибавляю уже более жестким тоном. Балансирую между необходимостью заполучить ребенка и выставить Уиллоу за порог. – Воровка нам в доме не нужна.
Девчонка снова порывается возразить:
– Я не…
Перебиваю:
– Просто уходи, и все.
Не желаю больше слушать ложь и оправдания. Почувствовав, что не верю в ее невиновность, Уиллоу, чего доброго, примется жалобить меня рассказами о том, как ей нужны деньги.
Нет, эта девчонка украла папино обручальное кольцо, отнесла в ломбард и продала. И поэтому теперь она должна уйти.
Уиллоу не прощается. Только еще раз спрашивает:
– Значит, позаботитесь? О Руби?
Однако искренней заинтересованности в словах не чувствуется. Уиллоу задает вопрос лишь для порядка – должно быть, думает, что так положено в подобной ситуации. Своеобразный этикет. Перед тем как оставить своего ребенка посторонней женщине, надо убедиться, что он в надежных руках. Однако, глядя на девочку, Уиллоу на секунду замирает, а голубые глаза, кажется, даже наполняются слезами. Крокодиловы слезы, думаю я. Вот лицемерка.
Уиллоу подходит к девочке, гладит по головке и шепчет «до свидания». Потом отворачивается и идет к двери, на ходу вытирая рукавом неискренние слезы.
– Буду любить, как родную дочь, – обещаю вслед Уиллоу и запираю за ней дверь. Смотрю в окно, чтобы убедиться, что девчонка ушла. Уиллоу уныло тащится по улице под холодным апрельским дождем. Потом гляжу на малышку, не в силах отвести глаз от ее пухлых щечек, белых волосиков и сияющей беззубой улыбки. «Моя, – проносится в голове. – Теперь ты моя девочка».
Уиллоу
Сама не заметила, как мне исполнилось шестнадцать. Тогда-то и произошли все эти события, за какие-нибудь три недели. Был конец зимы. Не могла дождаться, когда же наступит весна, но снег продолжал сыпаться из мрачных серых туч. Каждый раз, когда отправлялась на прогулку с Мэттью, ужасно мерзла. Спортивной куртки и кед в такую погоду было явно недостаточно. Особенно тяжело было стоять на остановках, дожидаясь автобуса под холодным ветром. Из одежды у меня были только платья и свитера, которые покупал Джозеф, поэтому была вынуждена ходить с голыми ногами.
По ночам мерзла под тонким лоскутным одеялом. Широкая футболка не грела. До утра тряслась и покрывалась гусиной кожей, а когда Джозеф задирал футболку, дрожала еще сильнее. Примерно тогда у меня появилась новая привычка – придумывать, как бы я убила Джозефа, если бы могла. Мысли о маме и придумывание разных «люблю тебя, как» сменились фантазиями о том, как расправляюсь с Джозефом. Сталкиваю с лестницы. Бью по голове сковородкой. Поджигаю дом, пока он спит. Ну допустим, и что потом?.. «Ненавижу тебя, как арахнофоб пауков». «Ненавижу тебя, как кошки собак».
Одним унылым зимним днем мы с Мэттью сели на автобус и поехали в библиотеку. Помню, что едва могла усидеть на месте от радостного предвкушения. Мэттью обещал научить меня пользоваться компьютером. Этого мне ни разу делать не приходилось.
Но не проехали мы и квартала, как Мэттью спросил, очень ли мне холодно. Когда ответила, что да, обнял за плечи и притянул к себе. Сразу почувствовала себя так, будто в автобусе никого нет, только мы двое. Единственное, что имело для меня значение, – теплая, сильная рука Мэттью, дарящая уверенность и чувство безопасности.
Смотрела в его карие шоколадные глаза, надеясь найти объяснение тому, что сейчас почувствовала. Внутри словно что-то растаяло, и руки стали будто желе. Однако Мэттью молчал, и по взгляду было непонятно, о чем он думает. Сидел и смотрел в окно с таким видом, будто ничего не заметил. Но все-таки остаток пути гадала – вдруг Мэттью ощутил то же, что и я?
Мы пришли в библиотеку и, придвинув два стула, сели за один компьютер. Мэттью начал показывать чудеса, которых я раньше не видела. Объяснил, что такое Интернет, и рассказал, что там можно прочесть и про планеты, и про животных, живущих в джунглях, и про пауков. Научил играть во всякие игры. А еще там, в Интернете, была музыка. Мы надели наушники, и Мэттью включил какую-то песню. Слишком громко, но мне это даже понравилось. Здорово было услышать бас-гитару так близко. А еще сразу вспомнила, как мама кружилась по комнате под песни Пэтси Кляйн.
Теперь мы с Мэттью часто ходили в библиотеку. Она стала нашим любимым местом. Там было тихо и тепло, за высокими стеклянными дверьми можно было надежно укрыться от холода и суеты. Библиотека была большая, этажа четыре или даже больше. Ее окружали небоскребы. Иногда мы с Мэттью просто катались на лифте – очень уж мне это нравилось. А еще много разговаривали. Мэттью не уставал повторять, что непременно заберет меня у Джозефа и увезет прочь из этого дома. Осталось только придумать, как это сделать. Тогда часто размышляла о жизни за пределами Омахи, но из-за этих мечтаний выносить Джозефа и Мириам становилось еще тяжелее. Больше всего на свете желала вырваться из стен их дома, но Мэттью говорил, что надо подождать. Сказал, что все устроит, и велел не беспокоиться. Вот я и не беспокоилась.
Но больше всего мне нравилось, когда мы вдвоем находили укромный уголок в пустом проходе между книжными стеллажами. Сидели на полу, вытянув ноги и прислонившись спинами к полкам. Листали книги и по очереди зачитывали интересные факты. Например: «Ты знала, что, если опустить в воду свежее яйцо, оно утонет, а тухлое всплывет?», «Ты знал, что человеческий мозг на восемьдесят девять процентов состоит из воды?». Совсем как в детстве, когда по ночам Мэттью проходил мимо моей комнаты.
В библиотеке прочла биографии Одри Хепбёрн и Пэтси Кляйн. Узнала много нового про место, где теперь живет Лили, – Колорадо. Оказалось, это тридцать восьмой штат, и через него проходит Континентальный водораздел. Нашла кое-что про Магнифисент-Майл, улицу, про которую любила говорить мама. Заодно прочла и про Чикаго, он же «город ветров», он же «город широких плеч».
– Ты знал, что название Магнифисент-Майл придумал Артур Раблофф в 1947 году? – поинтересовалась я.
Но Мэттью лишь спросил:
– Что такое Магнифисент-Майл?
А однажды, когда мы вот так сидели в пустом проходе, Мэттью нащупал мою руку в кармане оранжевой спортивной куртки и сжал ее. Конечно, Мэттью и раньше брал меня за руку – например, в автобусе или когда мне было страшно. Но на этот раз было по-другому, потому что я почувствовала: Мэттью почему-то тоже страшно. Ладонь у него была мокрая от пота. Как только его пальцы сжали мои, сердце у меня будто увеличилось раза в три. Казалось, вот-вот пробьет грудь. Я не понимала, что за чувства испытываю, и жалела, что некого об этом спросить. Больше всего хотелось бы излить душу маме.
Мы долго вели себя так, будто ничего особенного не происходит. Продолжали зачитывать друг другу факты из книг, перелистывая страницы свободными руками. Будто наши другие руки, крепко державшиеся друг за друга, были сами по себе. Но сердце все равно билось быстро-быстро, и сосредоточиться на том, что читаю, никак не удавалось. Потом Мэттью вдруг придвинулся ближе. Не заметила, как, но неожиданно его нога прижалась к моей. Он отложил свою книгу, и теперь мы с ним читали одну и ту же. Но я ни слова не понимала. Впрочем, я и не пыталась. Единственное, о чем могла думать, – близость Мэттью. Тут он повернулся ко мне и тихо произнес:
– Клэр…
Он почти прошептал мое имя. Не столько услышала его, сколько почувствовала дыхание Мэттью. Повернулась к нему. Лицо Мэттью было почти вплотную к моему. Дыхание наше смешивалось, носы почти соприкасались. Не знала, что делать – то ли наклониться еще ближе, то ли, наоборот, отпрянуть. Решение подсказало сердце. Я подалась к нему и прижалась губами к его сухим, потрескавшимся, но таким нежным и восхитительным губам. А когда ощутила его язык, почувствовала, как вся таю. И тогда поняла, что со мной происходит, – я люблю Мэттью.
Язык исчез почти так же быстро, как и появился. Мэттью торопливо отстранился, но руку мою не выпустил. Глаза забегали по строчкам книги. Мэттью начал смущенно читать вслух первое, что попадалось на глаза. Я даже не пыталась слушать. Все думала о его губах, языке и пальцах, по-прежнему сжимавших мои. Его вкус, его запах… так близко…
С тех пор в библиотеку мы ходили не только за тем, чтобы читать. Находили укромное местечко, и, укрывшись ото всех за высокими книжными шкафами, Мэттью приникал губами к моим губам, и языки наши соприкасались. Иногда он держал меня за руку, а иногда гладил мое лицо, плечи, грудь, бедра. Случалось, даже нырял под ярко-оранжевую спортивную куртку, и его холодные, робкие пальцы ныряли под единственный лифчик, который принес Джозеф.
Крис
Перед отлетом в Денвер на встречу с потенциальным клиентом приходится ненадолго заскочить в Чикаго. В мире инвестиций встречи лицом к лицу имеют огромное значение. У нас в фирме даже есть регламент, сколько таких встреч следует назначать в месяц. Двадцать. Так считает наш исполнительный директор. Двадцать личных встреч с клиентами. И хотя я в восьмистах милях от Чикаго провожу презентации, призванные убедить потенциальных инвесторов вложиться в акции, принадлежащие другому нашему клиенту, вынужден мчаться обратно на встречу с клиентом. Оттуда в тот же день полечу в Денвер, где снова присоединюсь к Тому, Генри, Кэссиди и остальной команде.
Из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа вылетаю с утра пораньше, шестичасовым рейсом. Поэтому в Чикаго приземляюсь ровно в 7.28 по местному времени. Встреча назначена на девять. Едва успеваю получить багаж и взять такси до Лупа.
Чаще всего встреча проходит хорошо. Похоже, я обладаю какой-то особой харизмой, которую сам не замечаю. Есть в моей внешности и манере говорить что-то такое, что внушает клиентам доверие. Вот почему на встречи с потенциальными клиентами меня отправляют чаще других. Образование или опыт здесь ни при чем. Весь секрет в улыбке. И может быть, в моложавой смазливой внешности, которая, по словам мамы, когда-нибудь доведет меня до беды.
В полдень вылетаю из аэропорта О’Хара в Денвер, «город на высоте мили». Домой, к сожалению, заскочить не успеваю, поэтому принять душ, побриться и сменить пиджак, который ношу уже несколько дней, на что-нибудь посвежее, не получится. Хорошо, хоть чистые носки и белье остались и мой счастливый галстук при мне. Когда уже закончится эта утомительная командировка? Набираю номер Хайди, даже и не надеясь, что жена окажет мне такую услугу, однако она обещает собрать мне целую сумку одежды и предлагает встретиться в азиатском ресторане гриль.
Виделся с женой всего два дня назад, однако чувствую – что-то изменилось. Со мной по телефону говорила не та Хайди, которую утром перед отлетом оставил спящей в кровати. Не та сверхдобросовестная, не в меру хлопотливая Хайди, какой она стала за годы брака. Когда, стоя на крыльце ресторана, замечаю жену, быстро шагающую по Мичиган-авеню, вижу, что у нее даже походка другая. Она идет в том месте, где Магнифисент-Майл пересекает реку Чикаго, возле моста на Мичиган-авеню. Жена решительно идет вперед, не обращая внимания на толпы и сутолоку. Шаг пружинит. Одета в серо-голубое платье до колен, неожиданно облегающее и стильное. Давно не видел на жене ничего подобного. Хайди выглядит потрясающе… вернее, выглядела бы, если бы не этот вездесущий младенец, которого жена несет прямо на себе в какой-то штуке из ткани, свисающей с плеча.
– Это еще что такое? – спрашиваю я.
Хайди объясняет, что такая штука называется слинг. Можно подумать, я об этом спрашивал! Как будто расхаживать по городу, таская на себе чужого младенца, – обычное дело.
– А где мать? – спрашиваю я, оглядываясь по сторонам, но девчонки не видно. – Только не говори, что оставила ее дома, – прибавляю я. – Одну?
Уже собираюсь удариться в пространные рассуждения о том, что с этой девицы глаз спускать нельзя, а то как бы она не вынесла из дома плазменный телевизор. Но Хайди лишь добродушно улыбается и отвечает, что оставила Уиллоу в библиотеке. Девчонка хочет взять несколько книг – «Черного красавчика» и «Складку времени».
– Детская классика, – поясняет Хайди, прекрасно знающая, что я в возрасте этой девицы ничего, кроме «Уолл-стрит джорнал», не читал.
Хайди прибавила, что понимает – обедать в обществе Уиллоу мне не улыбается. Жена попала в точку. Остается только жалеть, что не догадалась оставить в библиотеке и ребенка тоже. Вдруг Хайди наклоняется вперед и целует меня прямо в губы. Причем довольно страстно. Хотя обычно на улице моя Хайди такого себе не позволяет. Сколько ее знаю, жена всегда осуждала тех, кто обжимается в общественных местах. Стоило Хайди увидеть целующуюся парочку на углу улицы или на автобусной остановке, как она сразу неодобрительно хмурилась. Даже если влюбленные лишь безобидно чмокали друг друга в щечку. Хайди прижимается ко мне так, что спящий младенец оказывается зажатым между нами, и гладит пальцами мои плечи. Руки Хайди теплые. Почему-то сегодня она кажется ранимой, уязвимой, хотя с ней такое бывает очень редко. Приникнув губами к моему уху, жена шепчет:
– Как же я соскучилась.
Теперь эти короткие, прекрасные слова, произнесенные с таким чувством и пылом, будут преследовать меня весь день.
Заходим в ресторан. Я заказываю краба рангун, Хайди – лапшу пад-тай с цыпленком. За едой рассказываю о своих делах, а жена – о своих. В сотый раз извиняюсь, что вечером не ответил на ее звонок. Полное негодования сообщение в голосовой почте заставило изрядно понервничать, но теперь жена лишь снисходительно пожимает плечами и отвечает «ничего страшного». Говорю, что устал как собака и крепко заснул. А еще выпил то ли два, то ли три стакана пива. Может, в них все дело?
Про посиделки в баре не рассказываю. И про то, как Кэссиди читала в моем номере меморандум о предложении, – тоже. Это было бы неразумно. Более того, просто глупо. И тем более не делюсь впечатлениями о прелестях стройной фигуры Кэссиди, выгодно подчеркнутых красно-коричневым платьем, хотя эта картина так и стоит перед глазами. Так ребенок-сластена мечтает о конфетах.
– И что же такое срочное ты хотела мне сказать? – интересуюсь я.
Но Хайди только смеется и отмахивается:
– Теперь уже не помню.
Подходит официант и подливает нам в стаканы воды.
Улыбка Хайди полна сочувствия. Ни дать ни взять образцовая, покорная жена. Волосы чисто вымыты и не свисают, точно спагетти. А еще от Хайди исходит мускусный аромат каких-то духов. Даже не помню, когда жена в последний раз душилась. Не знал, что в доме вообще есть парфюм. А может, это шампунь так пахнет?
– Устал, наверное? – заботливо интересуется Хайди. – Все время в разъездах.
Признаюсь, что так и есть. Потом жена принимается рассказывать про здоровье девочки. Антибиотик помог, Руби уже гораздо лучше. Теперь она чувствует себя хорошо и спит крепко, а это значит, что и Хайди наконец получила возможность выспаться. Вид у жены и впрямь отдохнувший. Не говоря уже о том, что она нашла время, чтобы вымыть голову и накраситься. Совсем чуть-чуть – два легких мазка румян, блеск для губ. Однако этого оказалось достаточно, чтобы придать лицу красок. Хайди больше не пугает своей бледностью. Вот так – стоило как следует поспать одну ночь, и все сразу встало на свои места.
– Когда приеду домой, – говорю я, – обсудим ситуацию с Уиллоу. Надо решать, что делать.
Ожидаю возмущенной вспышки. Жду, что сейчас веселая Хайди опять сменится раздражительной. Но жену мое предложение нисколько не смущает.
– Конечно, – кивает она. – Обязательно. Как только вернешься из Денвера, сразу поговорим. Но… – прибавляет Хайди, массируя пальцами мою левую руку. Правой отправляю в рот клецки с такой жадностью, будто не ел неделю. Потом Хайди сжимает мои пальцы. – Уверена, что все устроится наилучшим образом, – прибавляет Хайди. – Вот увидишь.
Жена произносит эти слова с таким пылом, что даже меня заражает своим оптимизмом. Прощаемся и обмениваемся сумками. Я беру чистые вещи, Хайди уносит грязные – совсем как прилежная домохозяйка пятидесятых годов. Смотрю Хайди вслед. Жена шагает по улице, лавируя между прохожими, однако направляется в прямо противоположную сторону от библиотеки.
Заглядываю в сумку, чтобы убедиться, что жена положила мой калькулятор для финансистов, как я просил. Сказал, что офисные работают отвратительно. Даже приготовился объяснить почему – и цифры на кнопках слишком маленькие, и сами кнопки заедают. Но Хайди такими подробностями интересоваться не стала. Однако этот калькулятор был единственной вещью, до которой точно дотрагивалась наша загадочная Уиллоу Грир и которую я мог попросить Хайди положить в сумку, не вызвав у жены подозрений. Чего не скажешь о пульте, детских бутылочках и старом чемодане.
Надеясь, что не опоздаю на рейс, спешу в офис к Мартину Миллеру.
Уиллоу
Во время одного из регулярных визитов мисс Эмбер Адлер, как обычно, передала мне письмо от Зигеров. Но это послание отличалось от других. Мисс Адлер поднялась на крыльцо, стряхивая снег с массивных флисовых сапог. Когда зашла в дом, Джозеф помог ей снять пальто и положил его на подлокотник кресла. Как всегда, прошли на кухню и сели вокруг деревянного стола. Находящаяся под воздействием лекарства Мириам подавала печенье и чай.
В новом письме не было подробных рассказов про мою Лили и ее успехи в школе. Лили-старшая не восторгалась тем, как она выросла. Стоило пробежать глазами по строчкам, как внутри все похолодело и перехватило дыхание. Сжимая письмо в дрожащих пальцах, по настоянию Джозефа принялась читать послание вслух. Оказалось, десять месяцев назад Лили-старшая неожиданно забеременела, и в декабре у Роз (Лили) появилась младшая сестренка. Письмо переполняли восторги по поводу голубых глазок и нежных волосиков девочки. Ах, малышка – настоящий ангел! А как воркует – заслушаешься! Они с Полом много лет мечтали, чтобы у них появился свой ребенок, писала Лили-старшая, и вот теперь эта мечта сбылась. Зигеры назвали дочку Калла, в честь цветка каллы, чтобы ее имя подходило к имени матери. Лили и Калла. А мою Лили – вернее, Роз – оставили в стороне. Отодвинули в тень. Еще бы, о ней-то Пол с Лили не мечтали много лет.
– Но как?.. – жалобно спрашиваю я. – Она ведь не может… Я думала…
Опускаю письмо на стол и сглатываю плотный ком в горле. Только бы не расплакаться при Джозефе. И при Айзеке, который стоял, прислонившись к стене, с ухмылкой на уродливом лице.
Зато социальная работница от радости прямо сияла.
– Замечательная новость! – восторгалась она. – Какой приятный сюрприз! Представляешь, Клэр, у Роз теперь есть сестричка!
Как будто у нее раньше сестры не было. Может быть, мисс Эмбер Адлер забыла, но я ее сестра. Я, а не какая-то Калла.
– Понимаешь, иногда такое бывает, – растолковывает социальная работница с таким снисходительным видом, будто говорит с непроходимой тупицей: – Врачи поставили неправильный диагноз. Должно быть, мистеру и миссис Зигер просто… – мисс Эмбер Адлер запинается, подыскивая нужное слово, – не везло.
Да уж, и впрямь бедолаги. Вместо ребенка, о котором давно мечтали, вынуждены были столько лет терпеть в доме маленькую Лили. И вообще, про Роз (Лили) в письме ничего нет, если не считать фразы о том, что она теперь старшая сестра. Зато подробностей про Каллу хоть отбавляй. Какая она умничка, крепко спит по ночам и почти не будит маму! Какое же счастье, когда появляется свой ребенок! Словами не передать! В конверт вложена фотография – Лили-старшая с Каллой на руках, а моя Лили маячит на заднем фоне, будто попала в кадр случайно. Волосы растрепаны и торчат в разные стороны, белая блузочка заляпана красным соусом. Зато младенец чистенький и одет с безупречной аккуратностью. Нарядный розовато-лиловый комбинезончик из какой-то пушистой ткани, на головке джинсовый ободок с бантиком. На этот раз письма от Лили не было. Ни школьных фотографий, ни бумаги с красной птичкой и деревом, ни выведенного неровным детским почерком имени «Роз Зигер». Моей сестренке нашли замену.
Потом много дней не могла успокоиться. Не спала по ночам, гадая, что теперь будет с Лили. Неужели Зигеры совсем перестанут уделять ей внимание, и бедная Роз станет заброшенным, неухоженным ребенком? Ну конечно, Зигеры обзавелись собственной дочерью, и маленькая Лили для них второй сорт. А вдруг больше не захотят держать в доме приемного ребенка и отправят Лили обратно в приют? Что с ней тогда станет? Не дай бог сестренку заберет какая-нибудь жуткая семейка вроде той, в которой жила я. А может, желающих удочерить Лили или взять ее под опеку так и не найдется, и сестренка останется в приюте, пока не стукнет восемнадцать, а потом ее выкинут на улицу и предоставят самой себе. Выплывай как хочешь. Кто знает, что взбредет в голову Зигерам? Представляю, как они теперь в ее сторону даже не смотрят, и бедная Лили так и бегает в грязной блузке целыми днями. И все из-за Каллы. Это имя меня буквально преследует. Калла, Калла, Калла. Противное имечко. Ненавижу его. И ее тоже. Калла испортила жизнь Лили.
Шли дни. Читала и перечитывала письмо от Лили-старшей, смотрю на фотографию, где малышка на руках у матери красуется на первом плане, а для моей сестренки едва хватило места. В отличие от других фотографий этот снимок Джозеф разрешил оставить. Даже приклеил скотчем на стену, на обои в цветочек, чтобы любовалась на «прелестную малютку» Каллу, которая отняла у моей Лили счастливое детство.
Но что я могла поделать?
Хайди
Ночь провожу в кресле-качалке, не в силах отвести взгляд от очаровательной малышки. Утром просыпается Зои. Дочка выходит из комнаты и, сонно щурясь, медленно бредет по коридору. Косится на закрытую дверь кабинета и спрашивает, где Уиллоу. Тихо отвечаю:
– Еще спит.
И снова вранье срывается с языка само собой. Откровенно говоря, про Уиллоу совсем не думаю. С тех пор, как ушла, ни разу о ней не вспоминала.
Зои отправляется в школу. День пролетает незаметно. Если не считать встречи в азиатском ресторане с Крисом, мы с малышкой весь день проводим дома. Сидим в том же кресле, которое стараюсь качать так, чтобы Руби лучше спалось. Малышка лежит у меня на коленях и почти не просыпается. Сон невинного младенца. Любуюсь крошечными глазками, носиком. Кажется, солнце едва успело взойти, и вот уже снова садится, скрываясь за небоскребами. Легкие облачка окрашиваются в насыщенно-розовый, темно-синий, цвет чайной розы. Улицы заполняются прохожими, спешащими домой с работы. Вскоре совсем темнеет. Проходят завтрак, обед и ужин. Начинает звонить телефон, потом домофон. Но идти отвечать не хочется, поэтому остаюсь на месте. Как зачарованная, смотрю на малышку, то спящую, то бодрствующую. Когда она хочет кушать, начинает тыкаться носиком в складки моего платья. Только тогда поднимаюсь с кресла-качалки и иду на кухню готовить молочную смесь. Сижу в сумерках и смотрю на прекрасные лучи закатного солнца, касающиеся личика Руби.
На часы не обращаю внимания. Не замечаю, как алюминиевая стрелка обходит круглый циферблат, показывая то на одну римскую цифру, то на другую. Слышу на лестничной площадке шаги возвращающихся с работы соседей. Сквозь щель под дверью проникают съедобные запахи. Кто-то ужинает энчиладас, кто-то запеченной курицей, кто-то свиными отбивными. Телефон снова начинает звонить, потом еще раз. Но подходить неохота. Убеждаю себя, что это просто реклама или сообщение из школы, которое нас не касается. Скажем, созывают собрание для родителей выпускников или учеников с ограниченными возможностями.
Вдруг дверь стремительно распахивается, да так резко, что ударяется о стену. В коридоре стоит Зои в розовой спортивной футболке и шортах. На ногах облепленные засохшей грязью бутсы, голени прикрывают щитки. Ярко-розовые носки до колена тоже все измазаны и нуждаются в стирке. Волосы заплетены в двойную французскую косу. Эту прическу делает всем девочкам из команды одна из особо активных мамаш. Она же сама сшила одинаковые розовые резинки – под цвет формы.
– Где. Ты. Была? – требовательным тоном выговаривает Зои, с громким стуком швыряя рюкзак на пол. Продолжая стоять в дверях, дочка испепеляет меня взглядом. Мимо проходит сосед с коробкой пиццы в руках и старательно отводит взгляд от разыгравшейся сцены. Голос Зои дрожит от возмущения. Только почуяв рядом запах пиццы, понимаю, что проголодалась.
– Думала, с тобой что-то случилось! Ты пропустила игру, – прибавляет Зои, не давая мне возможности ответить какой-нибудь отговоркой: «Забыла, что матч сегодня» или «С работы не отпустили».
Произношу лишь одно слово:
– Извини.
Звучит неискренне. Впрочем, так оно и есть. Ни капли не жалею, что пропустила игру команды Зои, потому что тогда не удалось бы провести целый день с Руби, сидя с малышкой в кресле-качалке у окна.
– Я тебе звонила, – прибавляет Зои, уперев руки в бока. На лице обиженная гримаса.
Дочка заглядывает на кухню и конечно же замечает, что ужин готовить я даже не начинала. Надо думать, обратила она внимание и на то, что я до сих пор не зажгла свет и сижу в темноте. Зои жмет на выключатель. Невольно зажмуриваюсь от яркого света. Руби начинает тихонько хныкать.
– Успокойся, моя маленькая, – нараспев произношу я. Интересно, что ее побеспокоило – яркий свет или возмущенные восклицания Зои?
– Куда ты пропала? Почему не подходила к телефону? – рявкает Зои. – До тебя было не дозвониться! И на матч не пришла! Всю игру пропустила!
Вспоминаю другие матчи, на которых присутствовала. Перед игрой и в перерывах Зои болтала с подружками по команде, а в мою сторону даже не смотрела. Вот оно, значит, как: матери мы стесняемся, но единственной, за кого не пришли поболеть родители, тоже быть не хотим. Но вслух эти соображения не высказываю. И вопрос, почему не подходила к телефону, игнорирую. Вместо этого интересуюсь:
– Ты как до дома добралась?
– Мама! Ты меня вообще слышишь? – восклицает Зои.
Мне совершенно не нравится ее тон. Такой резкий, укоризненный, будто она в доме главная, а я в чем-то провинилась.
– Да, Зои, я слышала, но я тоже задала тебе вопрос. Как ты добралась до дома?
Зои фыркает и, зайдя на кухню, принимается хлопать дверцами шкафов в поисках чего-нибудь съестного.
– Тренер заплатил за такси, – нехотя бросает она. – Не может же Сэм тебя опять до ночи дожидаться. У него, между прочим, свои дела есть.
Повисает пауза. Потом Зои прибавляет:
– Ты ему должна четырнадцать долларов. При встрече отдай.
Выдернув из полки на дверце холодильника бутылку воды, Зои продолжает:
– Мама Тейлор тебе набирала. На ее звонки ты тоже не отвечала. Не знали, что думать.
Прихватив коробку соленых крекеров и воду, Зои направляется к себе в комнату. Не успела пройти пять футов, как вдруг останавливается напротив закрытой двери кабинета и интересуется:
– Мама Тейлор сказала, ты давно уже не подходишь, когда она звонит. Почему?
– Зои, ты же знаешь, я занята, – отвечаю я.
Конечно, девочка-подросток даже не представляет, какой это труд – заботиться о младенце. Для Зои сидеть с ребенком означает ничего не делать. Зато, когда дочка строчит эсэмэски подружкам, она ужасно занята. И когда рисует ручкой узоры на руке. И когда по-детски строит глазки тренеру Сэму. А особенно когда делает вид, что готовит уроки. Да, наша Зои ужасно занятой человек, ни минутки свободной. Зато я, бездельница, целыми днями прохлаждаюсь дома с младенцем.
– Перезвони ей, – велит Зои.
Смотрю на сложную французскую косу, спускающуюся на шею. Сейчас кажется, будто дочка старше двенадцати. Особенно потому, что она не улыбается, и не видно брекетов, напоминающих, что Зои еще ребенок. И вдруг в первый раз замечаю, что у нее появилась грудь. Как же я раньше не видела? Или Зои превратилась из девочки в девушку за одну ночь?
– Да-да, – киваю я. – Обязательно.
– Когда? – настаивает Зои.
– Скоро.
– Между прочим, это не твой ребенок, – ни с того ни с сего выпаливает Зои. Видно, заметила, с какой нежностью баюкаю Руби, как ласково глажу по головке.
– Зачем ты так говоришь? – тихо спрашиваю я и сама слышу, какая боль и обида звучат в голосе.
– Затем, что ты, кажется, об этом забыла. Ведешь себя будто она твоя дочка. У нее вообще-то мама есть. – Затем Зои сухо интересуется: – Кстати, где Уиллоу?
И все это с самым невозмутимым видом, как ни в чем не бывало. Будто дочка не вонзила нож мне в спину, не нанесла удар ниже пояса, не применила запрещенный прием. Задетая в самое сердце злыми словами, резко отвечаю:
– У нее температура. Пошла прилечь.
Стараюсь говорить тихо, чтобы Зои поверила.
– Сейчас ведь эпидемия гриппа, – для верности прибавляю я. – Видно, заразилась.
Но Зои со скептическим выражением лица закатывает глаза. Видно, вспомнила представления, которые я устраивала по телефону для секретарши Даны.
– Ну да, конечно, – кивает дочка и, громко хлопнув дверью, уходит в спальню.
Снова опускаю взгляд на Руби и укачиваю малышку, пока не наступает ночь и не становится совсем темно. Светятся только звезды и окна соседних домов.
Уиллоу
Мы с Мэттью виделись все чаще. В библиотеку наведывались постоянно – то читали книги, то целовались. Старались выезжать пораньше, как только Джозеф и Айзек уходили. В библиотеку лучше ходить с утра, а то днем набегут нахальные, шумные школьники, станут носиться по проходам и сидеть за столиками между ними. Даже в отдел технической книги забегают, хотя туда обычно никто не ходит. Зато около полудня в библиотеке царят тишина и спокойствие. Дети в школе, взрослые на работе. Гуляем по проходам, будто вся библиотека принадлежит нам. А в отдел технической книги даже библиотекарши редко заходят. Впрочем, что им там делать, если нет читателей? Только один раз библиотекарша остановила нас и спросила:
– А что, в школе сегодня занятий нет?
Однако тон был не осуждающий, а любопытный. Просто интересовалась, безо всякой задней мысли. И все равно ноги у меня приросли к полу, а сердце замерло. Испугалась, что сейчас меня отправят обратно к Джозефу. А Мэттью ответил с таким уверенным видом, будто давно уже подготовился к такой ситуации:
– Мы учимся экстерном.
Библиотекарша только кивнула и ответила:
– Тогда понятно.
И отправилась по своим делам. Я понятия не имела, что означает «учиться экстерном». Но главное, что Мэттью это знал. Хотя он был старше меня, его все еще можно было принять за старшеклассника. Больше никто нам вопросами не досаждал. Не интересовался, что два школьника делают в библиотеке среди дня.
Прикосновения Мэттью были совсем другими, не такими, как у Джозефа. Руки Мэттью были осторожные, чуткие, а у Джозефа – жадные, грубые. У Мэттью движения были медленные, ласковые. У Джозефа – торопливые, нетерпеливые. Когда меня касались пальцы Мэттью, забывала обо всем, что делал Джозеф.
Он все чаще заговаривал о том, чтобы забрать меня, но говорил – по доброй воле Джозеф меня ни за что не отпустит. К тому же у Мэттью даже на себя нет денег, не то что на меня. Он не рассказывал, где жил, когда ушел из приюта для бездомных. Вернее, рассказывал, но все это снова было вранье, чтобы меня успокоить. Говорил, что коллега с заправки пускает ночевать на свой диван, или приятель, владеющий маленьким магазинчиком, разрешает Мэттью спать там на койке, а заодно охранять его по ночам. Но, рассказывая все это, Мэттью отводил глаза. Совсем как в те разы, когда придумывал истории про баржу на реке Миссури. Сразу поняла, что он говорит неправду. Вид у Мэттью был усталый, даже измученный, кожа на лице обветренная. Может быть, он жил на улице. Не знаю.
И все же продолжал рассуждать про то, как заберет меня. Говорил про места за пределами Омахи, где мечтает побывать. Горы, пляжи. Сказал, что будет копить деньги. Даже пугал меня, говоря, что начнет воровать сумки или ограбит банк. На самом деле не думала, что он способен пойти на преступление. Но жить с Джозефом и Мириам стало совсем невмоготу, и, если бы Мэттью и впрямь пошел на грабеж, не уверена, что сильно старалась бы его остановить. Если никто не пострадает, пусть.
Может быть, говорил Мэттью. Когда-нибудь.
Иногда мы целовались у меня в комнате. Иногда ложились в кровать. Я не знала, как называется то, что мы делаем, так же как не знала, как называется то, гораздо менее невинное и безобидное, что делал Джозеф. Мэттью про ночные визиты его отца не рассказывала. Боялась, что он обвинит меня во лжи. Твое слово против моего, говорил Джозеф. Никто тебе не поверит. И вообще, напоминал он, кому ты нужна, кроме нас?
Наши с Мэттью поездки в библиотеку продолжались. Прошла осень, наступила зима. Несколько недель Джозеф не ходил на работу, потому что начались зимние каникулы. Целыми днями торчал дома, так что с Мэттью увидеться не получалось. Но я много думала о нем. Вспоминала прикосновения его рук и то, как он произносит мое имя – Клэр. Снег валил густыми хлопьями, застилая лужайку перед домом плотным белым покрывалом. Смотрела в окно на снегопад и вспоминала, как в Огаллале мы с мамой и папой лепили снеговиков, катались на санках и играли в снежки. Но здесь, в этом доме, снежная погода означала лишь, что Джозеф носа за дверь не высунет. Ударили морозы, в доме было не намного теплее, чем на улице. Во все окна задували сквозняки, температура держалась на уровне пятнадцати градусов, не выше. Целыми днями мерзла.
Потом Джозеф наконец вернулся на работу, и снова начал приходить Мэттью. Казалось, зима никогда не закончится. По календарю уже был март, но весна еще и не думала наступать. Холодно, пасмурно, с крыш домов свисают сосульки.
Однажды, в самом начале марта, мы с Мэттью собрались в очередной раз ехать в библиотеку. Ему не терпелось показать мне какую-то новую программу на компьютере. Давно не видела его таким веселым и оживленным. Небо заволокли темно-серые тучи, изо рта при каждом слове вылетали белые облачка пара.
Но мы с Мэттью не знали, что в тот день Джозеф неважно себя почувствовал. Когда бодро запрыгнули в синий автобус и проезжали мимо Вудмен-билдинг, даже не подозревали, что у Джозефа, читавшего в колледже лекции, вдруг разболелась голова, причем так сильно, что к тому времени, когда мы выдвинули стулья и уселись за компьютер, он уже подумывал о том, чтобы отменить дневные занятия. Решил вернуться домой и прилечь. Как мы могли предвидеть, что, пока мы забрасывали в автомат монетки, чтобы купить пакетик чипсов, Джозеф уже складывал свои вещи в черный рюкзак? А к тому времени как уединились в отделе технической книги, чтобы листать страницы и целоваться, Джозеф успел сесть в машину и был на пути к дому?
Когда вернулись, в коттедже стояла тишина. Сильные порывы ветра почти втолкнули нас с Мэттью в дверь. Он как раз говорил о матери, о Мириам. Если бы он был на ее месте, рассуждал Мэттью, он бы хотел, чтобы его кто-нибудь пристрелил. Все лучше, чем такая жизнь. Меня так потрясли его слова, что смотрела на Мэттью с открытым ртом. Даже не сразу заметила Джозефа, сидящего на краешке кресла с откидной спинкой и не сводящего с нас пристального, хищного взгляда. Он не просто замер, а застыл, точно статуя. При виде его Мэттью резко остановился в дверях. У меня тоже ноги приросли к полу. Джозеф держал в руках лампу. Хлопчатобумажный абажур валялся на полу рядом с его массивными, тяжелыми ботинками.
О том, что случилось дальше, говорить тяжело. Когда Джозеф спросил, где мы были, голос его звучал так подчеркнуто спокойно, что по коже мурашки побежали.
– Выходили пройтись, – ответил Мэттью.
Некоторое время Джозеф молчал, все туже накручивая на руку шнур от лампы. Потом спросил, откуда я взяла оранжевую куртку и кеды. Когда Мэттью уходил, забирал эти вещи с собой, чтобы Джозеф не нашел.
Они с Мэттью давно не виделись. Джозеф даже не догадывался, что Мэттью частый гость в его доме.
Потом Джозеф потребовал, чтобы на его вопрос ответила я, потому что ложь – оскорбление Бога и такое же тяжкое преступление, как греховные помыслы. Это Джозеф мне твердил постоянно. Потому и захотел, чтобы ответ дала я. Слова сами собой слетели с моих губ. Не колеблясь повторила то, что сказал Мэттью: «Выходили пройтись». Тогда Джозеф повернулся к сыну и спросил:
– Чему я тебя всегда учил, Мэттью? Дурная компания до добра не доводит. Помнишь, что я говорил?
Тут все и началось. Вдруг, без предупреждения, Джозеф пересек комнату и с размаху ударил Мэттью лампой в висок, потом еще и еще. При этом Джозеф во весь голос выкрикивал ругательства, которые моя мама лишь иногда, рассердившись, бормотала себе под нос. Я пыталась остановить Джозефа. Подбежала, повисла у него на руке, умоляла не трогать Мэттью, но он лишь стряхнул меня, отбросив на холодный, жесткий пол. От падения сразу дух вышибло. В себя пришла не сразу. Но не успела кое-как подняться, как Джозеф тут же нанес мне мощный удар в лицо, и я снова очутилась на полу. Из носа хлынула темная, густая, липкая кровь. Все происходило так быстро, что не успевала опомниться. Услышала, как от удара лампой хрустнула кость. Разлетелись капли алой крови, забрызгивая бежевые обои. «Сукин сын, подонок, недоносок», – отрывисто бормотал Джозеф, тяжело дыша. И это еще самые приличные слова. В ход шли все предметы, подвернувшиеся Джозефу под руку. Телефон, ваза, пульт. Слышала, как что-то разбилось. Раздался крик. И снова над головой взлетели брызги крови.
От страха съежилась на полу, подтянув под себя колени и закрыв голову руками. Паркет подо мной дрожал, будто при землетрясении. Потом пришел Айзек – то ли из школы, то ли с работы. Они с Джозефом принялись избивать Мэттью вместе. Как он был до сих пор жив, не знаю. Я только кричала:
– Хватит! Не бейте его!
Но на меня никто не обращал внимания.
Тут Мэттью удалось нащупать подсвечник, и он ударил им Айзека по голове. На секунду тот застыл, потом покачнулся и схватился за ушибленное место. Но, когда Мэттью замахнулся еще раз, Джозеф выбил подсвечник из его руки. Понятия не имею, сколько продолжалось это беспощадное избиение. Тридцать секунд? Тридцать минут? Мне казалось, будто прошли годы, десятилетия. А хуже всего было то, что я ничего не могла поделать.
– Намекаешь, что это была самооборона? – спрашивает Луиза Флорес.
Старуха закатывает рукава колючей кофты и принимается обмахиваться стопкой чистых листов бумаги. Она вся вспотела. Похоже, на улице сегодня жарко. Должно быть, весна скоро сменится летом. И на переносице, и в складках морщин у Луизы Флорес блестят капельки пота. До чего же ее лицо похоже на изюм! Сквозь единственное окошко под потолком в унылую комнату проникают веселые солнечные лучики.
– Да, мэм, – киваю я. – Именно так все и было.
До сих пор, стоит зажмуриться, перед глазами стоит эта сцена. Темные волосы Мэттью слиплись от крови, она струйками стекает по его лицу. В этот день, когда на него накинулись и Джозеф, и Айзек, Мэттью казался не взрослым мужчиной, а маленьким ребенком, подвергшимся жестокому обращению. Ненавидела себя за то, что не могла защитить его. Еще тяжелее становилось от того, что я точно знала, каким слабым, беспомощным он себя чувствовал. Мэттью избегал встречаться со мной взглядом. Видимо, сильнее всего его мучил острый стыд из-за того, что все это произошло у меня на глазах.
– Через некоторое время, – продолжаю я, – Мэттью ушел. Он не хотел бросать меня, оставлять в одном доме с ними. Но что он мог поделать?
Рассказываю, как Мэттью из последних сил дополз до двери и потащился прочь по мартовскому морозу. Через порог перебрался едва не на четвереньках. Джозеф и Айзек разразились злорадным смехом и принялись выкрикивать ему вслед оскорбления.
– Куда он ушел? – спрашивает Луиза Флорес. – Куда Мэттью отправился из дома Джозефа?
– Не знаю, – отвечаю я. – Даже не догадываюсь.
Перед тем как выползти за дверь, Мэттью обернулся ко мне. В его взгляде читались горький стыд и раскаяние. А потом он скрылся, осыпаемый издевательскими насмешками Джозефа и Айзека.
Они думали, что одержали верх. Но я-то знала, что главный бой еще впереди.
– И что же случилось после того, как ушел Мэттью?
Раздвигаю волосы и показываю след от удара. Джозеф стукнул меня по голове лампой. Когда Мэттью пропал из виду, – Айзек, высунувшись из окна, продолжал хохотать и орать, что Мэттью баба, – Джозеф повернулся ко мне. В первый раз видела в его взгляде столько ярости, свирепости. Джозеф поднял с пола погнутую в двух местах лампу и обрушил мне на голову. Не помню, чтобы было очень больно, однако эффект сразу почувствовала. Все тело онемело, ноги подогнулись, и я мешком свалилась на пол. Айзек стоял рядом, тыча в меня пальцем и посмеиваясь. Сначала глаза заволокло черной пеленой, а потом голоса, выкрикивающие оскорбления, затихли. Я потеряла сознание.
Очнулась в своей комнате, на кровати, поверх лоскутного одеяла. Дверь была заперта снаружи.
Крис
Поднявшись в свой номер отеля в Денвере, сразу отправляюсь в душ. Буквально с ног валюсь от усталости. Собираюсь лечь спать пораньше. Комната мне досталась самая маленькая, но даже за этот шкаф придется выложить двести баксов за ночь. Вид из окна обычный, городской, ничем не примечательный. Впрочем, из-за частых командировок уже с трудом отличаю один город от другого и не всегда могу сразу сообразить, где я.
Оставшись в одной майке, надеваю синие пижамные штаны. Обращаю внимание, что они стали мне немного тесноваты. На одеяле стоит открытый ноутбук. В стороне валяется купленная в аэропорту газета «Денвер пост». Успел прочесть только прогноз погоды на первой странице – будет холодно – и номера лотереи. Я ничего не выиграл. Когда смотрел в зеркало, сразу бросилось в глаза, что вид у меня измученный, усталый. Даже, пожалуй, постаревший. Может, действительно старею? Наверное, пора сбавить темп. Чистя зубы, размышляю, чем еще могу заняться. Стать преподавателем, читать лекции? Или податься в менеджмент-консалтинг? Представляю себя за кафедрой в заполненной студентами аудитории. Рассказываю о глобальном капитализме кучке нахальных, самоуверенных ребят. Знаю, сам когда-то был таким. В те времена был одержим мечтой побольше заработать. Деньги, деньги, деньги. Конечно, преподавателям платят намного меньше, чем на моей нынешней работе. Впрочем, много ли нам с Хайди надо, думаю я, выплевывая зубную пасту в раковину.
Можно продать квартиру, некоторое время пожить на съемной. Отдать Зои в обычную государственную школу… хотя нет, этот номер не пройдет. Впрочем, почему нет? Переберемся в пригород, купим маленький домик с небольшим участком, заведем собаку. На работу, правда, придется долго добираться на поезде, ну да ничего. Вот такая идиллия. Чем не вариант?
Представляю, как изменится моя жизнь. Буду возвращаться домой к ужину. Каждый вечер засыпать рядом с женой. Вспоминаю, как сегодня в азиатском ресторане Хайди наклонилась ко мне и поцеловала. Взяла за руку, посочувствовала. В кои-то веки обратила внимание на меня, мужа, а не на каких-нибудь иностранных беженцев со всех концов света. Наконец-то сообразила, что у меня тоже есть свои потребности, и я нуждаюсь в заботе не меньше, чем уличные бродяжки и бездомные кошки. Кажется, наша семейная жизнь меняется к лучшему.
Скучаю по былым временам. Вспоминаю Хайди в винтажном красном платье на благотворительном ужине. Остальные уже разошлись, а мы все кружили по залу в танце, хотя уже зажгли верхний свет, а персонал убирал со столов. Хайди тогда была студенткой, и у нее не было ничего своего, кроме комнаты в общаге. Я только что окончил университет и выплачивал кредит за обучение, которого хватило бы, чтобы погасить внешний долг Соединенных Штатов. Жил в полной нищете, снимал крошечную квартирку, состоявшую из одной комнаты без кухни. Туда мы с Хайди и поехали – в Роско-Виллидж. Даже такси взяли ради такого случая. Стремительно взбежали вверх по ступенькам – я впереди, Хайди за мной. Надо сказать, бежала она гораздо грациознее меня. Не успев войти в дверь, сразу принялись стаскивать друг с друга одежду. До кровати так и не добрались. Все произошло прямо на полу.
Когда проснулся утром, думал, что она уже ушла. Чтобы такая красивая девушка с такими потрясающими карими глазами – и захотела со мной связаться? Должно быть, посмотрела по сторонам трезвым взглядом и ушла. Но я ошибся.
Полдня провели в кровати, глядя в окно на пешеходов, спешивших по Бельмонт-авеню. Посмотрели по телевизору программу «Угадай цену». Потом, когда наконец выбрались из-под одеяла, Хайди надела поверх красного платья мою спортивную толстовку с эмблемой «Медведей». Пошли гулять, заглянули в антикварный магазин и купили старый кран для пива, потому что это была единственная вещь, которую мы могли себе позволить. Хайди прожила у меня три дня. Ходила по квартире в моих майках и боксерах. Когда хотели поесть, заказывали что-нибудь по телефону или брали навынос в кафе. С утра уходил на работу, а когда возвращался, меня ждала она.
Хайди была веселая, легкая на подъем и не цеплялась к мелочам. Думал, она всегда будет такой. Но потом родилась Зои, Хайди снова забеременела, и у нее обнаружили рак. Болезнь обрушилась на нее тяжелым грузом. Да, жена со всех ног кидается помогать каждому, кто в этом нуждается, но при этом совершенно забывает о себе.
Стою в ванной своего номера и думаю о том, как скучаю по Хайди, когда вдруг раздается легкий, ненавязчивый стук в дверь. Еще не успел посмотреть в глазок, а уже знаю, кто стоит на пороге. Открываю дверь. Вот и она. Не Хайди, конечно. Хотя на секунду пришла в голову и такая мысль. Вот бы Хайди бросила все и прилетела ко мне в Денвер. А девчонка, проникшая в наш дом, будто захватчица, пусть сама нянчится со своим младенцем. Сумела родить – сумеет и воспитать. А что, Хайди вполне могла бы отправить Зои к Дженнифер, а сама сесть на самолет до Денвера. Устроить мужу приятный сюрприз.
Однако в номер заходит Кэссиди Надсен. На ней черные обтягивающие легинсы и широкая туника с V-образным вырезом, во всей красе демонстрирующая ложбинку между грудями. Кожа белая и мягкая. Так и тянет дотронуться. С шеи свисает кулон на длинной медной цепочке, будто призванный лишний раз притягивать взгляды к декольте. Подвеска скрывается точно между грудей. Кэссиди почти не накрашена, если не считать ярко-красной помады. Такой уж у нее стиль – минимум косметики, акцент на губы. Кэссиди обута в туфли на каблуках высотой сантиметров десять. Шпильки такие же алые, как помада. Как всегда, Кэссиди проходит в комнату, не дожидаясь приглашения. Стою в одной майке и пижамных штанах, продолжая сжимать в руке зубную щетку.
– Предупредила бы, что заглянешь, – произношу сдавленным голосом. – Я бы тогда…
Смущенно умолкаю. Не знаю, что сказать. Окидываю взглядом номер. Небрежно скинутая одежда кучей валяется на полу, а проклятые пижамные штаны облепили, точно вторая кожа, и подчеркивают как раз те места, которые предпочел бы не демонстрировать. Даже не спрашиваю у Кэссиди, зачем пришла. Ее намерения предельно ясны. И действительно, Кэссиди порывисто подлетает ко мне, берет за плечи и касается своими губами моих. Шепчет:
– Как долго я этого ждала…
– Кэссиди… – произношу я. Не уверен, чего в моем тоне больше – укоризны или вожделения. Предпринимаю слабую попытку отстраниться, из последних сил борясь с огромным соблазном поддаться, уступить. Хочется выкинуть навязчивые воспоминания о прежней Хайди из головы. Пусть Кэссиди делает свое дело. Тем более что получается у нее очень даже неплохо.
Однако через некоторое время замечаю, что в ласках Кэссиди, в прикосновениях ее рук нет того тепла, к которому привык с Хайди. Кэссиди действует самоуверенно, даже нагло. Тратить время на такие глупости, как поближе познакомиться друг с другом в интимном плане и понять, что кому нравится, не намерена. Сразу готова взять быка за рога. Ловлю себя на мысли, что Кэссиди все делает не так, неправильно. Вот Хайди переть напролом не стала бы. В ее ласках столько нежности, столько чувства. Вдруг понимаю, насколько соскучился по жене и как хочу сейчас быть рядом с ней. Вот бы меня сейчас ласкала она, а не Кэссиди.
А что бы сказала Хайди, если бы узнала, чем я сейчас занимаюсь? И самое главное – что бы она почувствовала? Хайди, порядочная до мозга костей, не способная никому причинить боль. Даже паука раздавить не может.
– Не надо, – произношу я, сначала мягко, потом тверже, решительнее: – Кэссиди, не надо. Я не могу так поступить с Хайди. Не могу, и все.
Я хочу к жене. Мне ее не хватает. Хочу быть с ней рядом.
Но в ответ Кэссиди награждает меня взглядом обиженного ребенка.
– Крис, ты издеваешься? – сердито произносит она. Причем из себя Кэссиди вышла отнюдь не из-за того, что мой отказ огорчил ее и задел ее нежные чувства. Да и никакой неловкости по поводу того, что неправильно истолковала мои намерения, Кэссиди не испытывает. – Хайди? – произносит она с глубоким презрением. Кэссиди по-прежнему смотрит на меня взглядом капризного ребенка. Губы обиженно надуты. Дело даже не в том, что Кэссиди удивляется, как ее могли отвергнуть. Нет, она искренне возмущена тем, что ей дали от ворот поворот из-за какой-то Хайди.
До чего же скучаю по моей не в меру сердобольной, не в меру добропорядочной жене, которая старается помочь всем – бездомным кошкам, необразованным людям, детям из стран, названия которых даже выговорить не могу. Азербайджан, Кыргызстан, Бахрейн.
Теперь хочется только одного – чтобы Кэссиди поскорее ушла. Пульс стучит где-то в ушах. Ладони намокли от пота, голова закружилась. Запихиваю ноги в стоящие у двери ботинки. Кэссиди, смеясь, окликает меня. Спрашивает, куда я собрался. Опираюсь о стену, а Кэссиди между тем снова зовет меня по имени, будто надеется таким образом заставить передумать.
Уиллоу
Рассказываю Луизе Флорес, что Джозеф приносил мне еду два раза в день и дважды же приходил забирать посуду. Говорю, что не выпускал даже в туалет по-маленькому. Время от времени забирал и выливал банку, которую поставил в моей комнате, но в спальне все равно стоял запах мочи. Джозеф по-прежнему регулярно наносил мне ночные визиты. Отпирал замок, заходил и приказывал раздеваться. Каждый раз, после того как Джозеф уходил и ложился спать, проверяла дверь – вдруг забыл запереть? Целыми днями сидела в комнате и молилась, чтобы однажды Джозеф не запер дверь.
Мэттью не приходил. С того дня, как он с трудом перебрался через порог, ни разу его не видела. Говорю, что Айзек ко мне не заглядывал, только время от времени слышала его голос то из одной части дома, то из другой. Мне теперь в эти комнаты доступа не было. Рассказываю, как в окно спальни видела, что растаял снег. Тротуары на улице были все в ямах и канавах, и теперь они до краев заполнились водой, превративших в глубокие лужи.
Из комнаты разрешалось выходить только раз в день, и то лишь затем, чтобы сходить в туалет по-большому. При этом Джозеф стоял в дверях и наблюдал за мной. А один раз не дотерпела. Джозеф потом несколько дней не выдавал мне нового белья, пока все ягодицы не покрылись сыпью, какая бывает только у младенцев. Слышала, как Джозеф и Айзек смеялись над тем, что я обделалась.
Но однажды ночью с Божьей помощью наконец произошло чудо, которого я так долго ждала. Удовлетворив со мной свои потребности и вернувшись к себе в спальню, Джозеф забыл-таки запереть замок. Я сидела на кровати, ожидая, что сейчас раздастся этот ужасный звук – звон металлического ключа в замке. Но услышала только, как заскрипели половицы в коридоре и как жалобно скрипнули пружины матраса, когда Джозеф обрушился на них всей массой. Для верности выждала час, потом встала и тихонько прокралась к двери. Взялась дрожащими пальцами за холодную бронзовую ручку и медленно повернула.
Рассказываю миссис Флорес, как достала нож из ящика на кухне. У нас был набор столовых приборов из двенадцати предметов, и я выбрала самый большой нож, многоцелевой, длиной дюймов десять, не меньше. Говорю, что в нерешительности застыла посреди темной кухни и смотрела в окно на бледную луну, хотя на самом деле уже все решила. В доме стояла звенящая тишина, только шипел отопительный котел и вода булькала в трубах.
Хотя откуда я знаю, тихо в ту ночь было в доме или нет? Я ведь из комнаты не выходила, пока Мэттью не отпер дверь.
Рассказываю, как на цыпочках вошла в спальню и замерла на пороге, глядя на безмятежно храпящего Джозефа. Тело моего врага, раскинувшееся на широкой кровати, внушало глубокое отвращение.
Луиза Флорес строчит с бешеной скоростью, едва отрывая ручку от бумаги. Хочет записать все до мельчайших подробностей.
Говорю, что, когда приближалась к кровати Джозефа, половицы заскрипели, и глаза его резко распахнулись. Проснувшись, он порывисто сел на кровати, но страха во взгляде не было, только удивление.
– Ты как… – только и успел выговорить Джозеф, когда я со всей силы вонзила ему в грудь нож. Видимо, хотел спросить, как я выбралась из запертой комнаты. Но я не дала ему такой возможности.
Продолжаю рассказ. Глаза у Джозефа выпучились, рот широко открылся, а руки принялись лихорадочно нащупывать рукоятку ножа. Но прежде чем Джозеф успел за нее ухватиться, я выдернула свое оружие и нанесла еще один удар. Потом еще и еще. Всего шесть раз. Когда меня арестовали, объявили, что на теле Джозефа обнаружили шесть ножевых ранений.
Хорошо, что сказали. Этого я не знала. В ту ночь в спальню Джозефа и Мириам вообще не входила. Но что я знала точно, так это то, что к полноценной уголовной ответственности за преступление можно привлечь только человека от восемнадцати и старше. С Луизой Флорес, конечно, этими соображениями не делюсь. Мне было известно, что к шестнадцатилетним проявляют гораздо больше снисходительности. Особенно к подросткам вроде меня – тем, кто до этого ни в чем замечен не был. Если узнают правду, Мэттью не поздоровится гораздо больше, чем мне. Когда еще жила с родителями, на эту тему как-то вечером рассуждал папа. В новостях показывали какую-то жуткую историю про шестнадцатилетнюю девушку, убившую собственных родителей. Папа тогда сказал, что детям иногда сходят даже такие серьезные преступления, за которые взрослого человека без разговоров отправляют в тюрьму, а то и вовсе казнят. Помню, как спросила у папы: «Что значит «казнят»?» Папа сделал вид, будто не расслышал, и ничего не ответил, но я потом сама догадалась.
– А Мириам? – отрывисто спрашивает Луиза Флорес.
– Что – Мириам?
– Расскажи про нее.
– Мириам не проснулась, – отвечаю я.
Понятия не имею, проснулась она или нет, – я ведь этого не видела. Приходится сочинять на ходу. Говорю, что Мириам лежала рядом с Джозефом и крепко спала, пока я раз за разом втыкала нож Джозефу в грудь. Но Луиза Флорес так легко не успокаивается. Положив ручку на стол, берет диктофон и на всякий случай проверяет, работает ли он. Записалось ли мое чистосердечное признание.
– Тогда зачем ты убила и ее тоже?
От неожиданности даже слюной поперхнулась. С языка едва не срывается: «Мириам убита?» Но потом вспоминаю наш с Мэттью разговор, и тут до меня с опозданием доходит. Если бы Мэттью был на ее месте, он бы хотел, чтобы его кто-нибудь пристрелил. Все лучше, чем такая жизнь.
Значит, Мэттью это сказал не сгоряча.
Хайди
Днем, пока Руби спит, хожу по квартире и собираю разбросанные вещи. Комбинезончики малышки, как попало раскиданные по подушкам дивана, гольфы Зои, брошенные у двери. Складываю все в переполненную корзину для белья. Потом направляюсь в спальню и снимаю с дверной ручки свой заношенный бюстгальтер. Беру сумку с грязными вещами, которую передал мне Крис в азиатском ресторане, и начинаю перебирать содержимое. Рубашки на пуговицах, скомканные брюки. Проверяю карманы – вдруг где-то завалялся колпачок от ручки или даже вся ручка? По опыту знаю – у Криса вечно карманы набиты всем подряд. Мелочь, пробки от бутылок, скрепки, старые салфетки… И тут рука натыкается на кое-что совсем другое. Еще не успев вытащить блестящую синюю упаковку, уже знаю, что это. Надпись «Для ее максимального удовольствия» действует точно пинок в живот. Согнувшись пополам, роняю корзину на пол. Из груди вырывается хриплый, отчаянный, утробный стон. Зажимаю рот ладонью, чтобы не закричать. Смотрю на синюю упаковку, лишний раз подтверждающую мои подозрения. Муж изменяет мне с Кэссиди Надсен.
Представляю эту парочку в дорогих отелях Сан-Франциско, Нью-Йорка, а теперь и Денвера. Воображаю, как они сливаются в экстазе на простынях из египетского хлопка. А в офисе, после того как все разойдутся, уединяются у Криса в кабинете и… Какой же я была дурой – верила во все его глупые отговорки! Крис ведь и по выходным в офис сбегал! То меморандум надо подготовить, то буклет для клиентов. Да-да, конечно. Ненормированные рабочие дни и нескончаемые командировки – очень удобное алиби. Жена даже не заметит, что муж крутит роман прямо у нее под носом.
Даже голова закружилась. Вспоминаю, как нехотя Крис признавался, что в поездке его будет сопровождать Кэссиди. Представляю, как в номере отеля любовнички весело посмеиваются над выдумками Криса и моей наивностью. Представляю, как их забавляет моя ревность.
Поездка строго деловая, клялся Крис. Командировка и ничего больше. Однако… Перебираю в уме все улики и доказательства. Телефонный звонок, на который Крис не ответил. Презерватив в кармане брюк. Теперь все ясно. Наконец-то я их прижала. Давно искала свидетельства измены и наконец-то нашла. Подхожу к комоду и вынимаю из верхнего ящика красивый комплект нижнего белья – нежно-розовый кружевной бюстгальтер и трусики. Некоторое время стою, устремив пристальный взгляд на эти вещи. Знаю, что теперь нужно делать, – сравнять счет.
Уиллоу
Конечно, все, что рассказала Луизе Флорес об убийствах, – ложь от первого до последнего слова. Старуха дала мне чистый лист бумаги и велела написать признание своими словами. Пока выполняла распоряжение, она ходила по комнате, цокая каблуками по бетонному полу. Написала все в подробностях – и про большой нож, и про выпученные глаза Джозефа. Даже про Мириам кое-что присочинила. Мол, она крепко спала, но я ее все равно прикончила – не могла остановиться, и все. Пожимаю плечами и говорю:
– В Иллинойсе смертную казнь отменили.
Луиза Флорес резко останавливается и оборачивается на меня через плечо.
– Но ты свои преступления совершила не в Иллинойсе, а в Небраске. Так-то, Клэр, – произносит она.
Прекрасно знаю, что в штате Небраска убийцу могут приговорить к смертельной инъекции. Но высшая мера угрожает только совершеннолетним гражданам, совершившим предумышленное убийство. А тут умысел налицо – дождаться, когда предполагаемая жертва заснет, и пробраться к ней в комнату с ножом. Не хотела, чтобы Мэттью попал под суд, который еще неизвестно чем закончится. Ведь я знаю, что Мэттью пошел на это ради меня. С тех пор как он ушел, ни на секунду не переставала думать о нем. И днем, и по ночам. Лежала под одеялом в кабинете у мистера Вуда и тихо плакала, стараясь, чтобы хозяева не услышали. Где Мэттью сейчас? Все ли с ним в порядке?
Получив долгожданное письмо аж в двух экземплярах, и на бумаге, и на аудиозаписи, Луиза Флорес велит дежурной отвести меня обратно в камеру. Дива сидит на полу и распевает во все горло, отстукивая ритм на решетке длинными ярко-красными ногтями. Из-за стенки раздается вопль:
– Заткнись уже!
Сокамерница принимается расспрашивать, где я проторчала весь день. Молча укладываюсь на койку и с головой накрываюсь белой простыней. Закрываю глаза и вспоминаю все то, о чем не рассказала Луизе Флорес.
Хайди
Передо мной на кровати лежит комплект белья – светло-розовый кружевной бюстгальтер и трусики. Переодеваюсь и, открыв дверцу шкафа, ныряю внутрь чуть ли не по пояс. Сзади, на вешалке из магазина, нахожу то, что искала. Платье до сих пор под пластиковым чехлом. Ни разу не надевала. Развязываю узел и аккуратно снимаю чехол. Когда ткань соскальзывает на пол, вспоминаю день, когда купила это платье. Было это месяцев семь назад. В тот день позвонила в любимый стейк-хаус Криса в старом отреставрированном особняке из бурого песчаника на Онтарио-стрит и зарезервировала столик в тихом углу подальше от бара. Тот самый, за которым Крис сделал мне предложение. Договорилась с Дженнифер, чтобы Зои переночевала у них с Тейлор, и ушла с работы пораньше, чтобы успеть в парикмахерскую. Там мне сделали стильную боковую укладку. К новому платью и черным лодочкам на невысоком тонком каблуке – то, что надо.
Снимая платье с вешалки, продолжаю вспоминать тот день. Не успела даже надеть этот великолепный наряд, как звонит Крис. Он принялся долго и нудно жаловаться на какое-то задание, которое ему дали буквально в последнюю минуту. Причем в трубке слышался ее голос. Голос Кэссиди, зовущей моего мужа. Так годовщину нашей помолвки Крис встретил с ней, а не со мной.
– Ничего, потом обязательно что-нибудь придумаем, – обещал Крис. Но разочарованный тон звучал как-то неискренне, будто на самом деле муж даже радовался, что ужин сорвался. – Скоро, только не сегодня.
Провожу пальцами по черному креповому платью-сорочке с пуговицами на спине. Потом надеваю поверх розового белья и смотрю на свое отражение в большое зеркало. Тот октябрьский вечер в день нашей помолвки провела не с Крисом, а с Грэмом. Услышав за стеной звуки телевизора, сосед решил заглянуть на огонек. Я ведь ему говорила, что дома у нас никого не будет. Грэм стоял в дверях и смотрел на меня с искренним сочувствием. Без слов понял, что произошло. Я, вместо маленького черного платья одетая в халат и тапки, с растрепавшейся праздничной прической. По телевизору шоу «Угадай цену». В микроволновке разогревается замороженный ужин.
– Эх, не заслужил он такого счастья.
Вот и все, что сказал Грэм. Потом принялись вспоминать студенческие годы и по такому поводу решили сыграть в алкогольную игру, рассчитанную на людей намного моложе нас. Благо любимого светлого эля у Грэма в квартире оказалось много. В конце концов напились до такой степени, что воспоминания про мужа-трудоголика, в день годовщины сбежавшего от меня на работу, отошли на второй план. Заснула прямо на диване, а на следующее утро проснулась в окружении пустых бутылок. Всего двенадцать штук – и на журнальном столике, и на полу, повсюду. Посередине столика стояла ваза с букетом цветов. Слабая попытка Криса загладить вину. На работу муж ушел, пока я еще спала.
Размазываю по векам дымчатые тени, подвожу глаза, крашу ресницы черной тушью, крашу губы бордовой помадой, потом тру их друг о друга, а излишек стираю салфеткой. Собираю волосы на затылке в свободный узел. Конечно, с роскошной прической за шестьдесят долларов никакого сравнения. Наклонившись, достаю из шкафа коробку с черными лодочками. Надеваю тонкие чулки и обуваюсь. Потом некоторое время стою перед зеркалом.
Прохожу мимо малышки, безмятежно спящей на полу на розовом одеяльце. Замираю, глядя на нее, но тут же одергиваю себя и продолжаю путь. Всего-то и хотела убедиться, что она спит и моей отлучки не заметит. Потом выхожу в коридор и осторожно закрываю за собой дверь. Не даю себе времени опомниться и засомневаться.
Не успеваю постучать во второй раз, а Грэм уже открывает дверь. Вот он стоит, как всегда сногсшибательно выглядящий и улыбающийся. На Грэме джинсы и майка. Окинув взглядом платье, прическу и макияж, Грэм восклицает:
– О-ля-ля!
Завожу руки за спину и принимаюсь расстегивать платье. Ноутбук Грэма стоит на мягких подушках дивана. Играет песня Нины Симон.
– Ты что… – От растерянности Грэм даже не заканчивает вопрос. Заводит меня в квартиру и закрывает дверь.
Через голову снимаю платье, выставляя напоказ розовое белье. Судя по взгляду, каким Грэм смотрит на кружево, насчет ориентации соседа Крис ошибся.
– Не надо, потом будешь жалеть, – предупреждает Грэм.
Заверяю, что не буду. Подхожу к нему, окидываю взглядом его безупречную фигуру и позволяю Грэму обнять себя за талию. Да, ничего не скажешь, друг он хороший – всегда готов прийти на помощь и оказать услугу. Чисто по-соседски, из вежливости, думаю я, когда Грэм ведет меня мимо дивана в спальню, к незастеленной кровати.
Уиллоу
Было поздно. Из-за двери не раздавалось ни звука. Джозеф уже приходил и отправился в свою спальню. И вдруг меня разбудил низкий, хриплый вопль, от которого сразу подскочила на кровати. Помню, как в окно светила луна – единственный источник света на черном небе. Вдруг крик оборвался, и опять наступила тишина. Даже засомневалась, не приснилось ли мне. Лежала под одеялом, глядя на луну и чувствуя, как постепенно замедляются дыхание и пульс. Облака медленно, лениво наползали на луну, старые деревья в темноте превратились в черные силуэты, тянущие друг к другу ветки, точно хотели взяться за руки.
И тут раздался скрежет металлического ключа в замке. Чья-то рука торопливо нажала на ручку. Ожидала увидеть в слабом свете из окна в коридоре фигуру Джозефа. Но в спальню с безумным видом ворвался не кто иной, как Мэттью. В дрожащей руке был зажат острый нож, кровь с которого капала прямо на мое одеяло.
– Вставай, Клэр, – отрывисто бросил он. – Пошли.
Долго себя упрашивать не заставила – сразу протянула Мэттью руку, и он помог мне встать.
– Тебе надо уходить, Клэр, – велел он, порывисто сжав меня в крепких объятиях. – Беги отсюда.
Мэттью сунул мне в руки одежду – спортивную куртку, кеды, какие-то огромные штаны – и велел одеваться.
– Быстрее, – торопил Мэттью. Голос у него дрожал.
– Что случилось? – спросила я. – И куда я побегу?
– Возле двери стоит сумка, – будто не услышав вопроса, продолжил Мэттью. – Вернее, чемодан. Там все, что тебе понадобится.
Он схватил меня за руку и потянул за собой по коридору. Было тихо. Дверь в спальню Джозефа и Мириам была закрыта. Проходя мимо нее, невольно вздрогнула. Уже догадывалась, что за ней скрывалось. Или я ошиблась? Даже не знала, что хуже. Был только один способ узнать наверняка – спросить напрямую.
– А как же Джозеф? – произнесла я, хотя уже все понимала. Кровь, эта закрытая дверь, то, что мы с Мэттью, сбегая по скрипучей лестнице, топаем вовсю… Джозеф убит. Это он кричал. И кровь на ноже его.
На нижней ступеньке Мэттью сжал мою руку и притянул меня к себе. Шепнул на ухо:
– Знаю, что он с тобой делал.
Когда услышала, что Мэттью известен мой позорный секрет, даже ноги подкосились. Но не от страха, а от облегчения. Сразу камень с души свалился. Больше не придется тащить этот груз одной. Представила, как Джозеф все эти годы заходил ко мне в спальню, когда пожелает, а Мэттью лежал за стеной и слушал. Обнимаю его и никак не хочу отпускать, но Мэттью повторяет:
– Надо уходить, Клэр. И поскорее.
Ему едва удалось высвободиться из моих объятий.
– Куда? – испуганно, встревоженно спрашиваю я. За всю жизнь ни разу никуда не ходила одна.
– На улице ждет такси, – ответил Мэттью. – Тебя отвезут на автовокзал, я договорился.
Только тогда обратила внимание на свет фар припаркованной у обочины машины.
– Не хочу уезжать, – расплакалась я, глядя в черные глаза Мэттью. Он застыл, глядя на меня с непонятным выражением на лице. – Давай я лучше останусь с тобой.
Вцепилась в него, точно репей. Крепко обняла, и некоторое время мы стояли вот так. Всего какую-то секунду. Потом Мэттью разжал мои пальцы и отстранил меня. Теперь я уже не просто плакала, а буквально захлебывалась от рыданий.
– Поедем вместе, – с трудом выговорила я. Поедем. Вместе. Кроме Мэттью, у меня на всем белом свете никого не было. Мама погибла. Лили забрали. А теперь и с ним приходится расставаться.
– Клэр…
– Поедем вместе, – совсем по-детски взмолилась я. Впрочем, какая из меня взрослая? Топнула ногой, скрестила руки на груди, обиженно надула губы. – Поедем вместе, поедем вместе.
Схватила Мэттью за руку и со всей силы потянула к открытой входной двери. Стеклянное окошко на ней было разбито. На полу валялись острые осколки стекла. На секунду застыла и уставилась на них. Значит, вот как Мэттью попал в дом.
– Нет, Клэр, ты должна уехать одна. – Мэттью вложил мне в руку деньги, целую пачку купюр, торопливо подхватил чемодан и потянул меня к выходу. – Уходи, пока не… – Тут Мэттью запнулся. – В общем, поторопись.
И снова обнял меня. Мэттью был весь в холодном поту и сильно дрожал. Ему и самому не хотелось, чтобы я уезжала. Сразу было понятно. И все же Мэттью вложил ручку чемодана в мою вялую пятерню и вытолкал – да, именно вытолкал! – за дверь. Стараясь не наступить на стекло, обернулась. Всего один раз. Мэттью стоял в дверях, спрятав за спиной нож. Лицо у него было грустное. Он тоже не хотел со мной расставаться.
Помню, что ночь была холодная. Впрочем, на температуру тогда обращала внимание меньше всего. На самом деле прохлады почти не чувствовала. Брела, будто лунатик, хотя никогда во сне не ходила. Свои рыдания слышала словно со стороны. Как будто я зрительница, а не участница. Не помню, сказала ли таксисту – мужчине маленького роста, лица которого было не видно в тени, – куда меня отвезти. Впрочем, Мэттью его предупредил. Почти не запомнила этого мужчину – только голос и глаза в зеркале заднего вида. Казалось, он знал, что сейчас произошло в доме. Не успела сесть в машину, и таксист сразу рванул с места, хотя дорога была неровная. Так и подпрыгивали на каждом ухабе. Должно быть, таксист слышал, как Мэттью велел мне поторапливаться. Потому и сам заспешил. Вцепилась в дверную ручку, чтобы не швыряло по всему сиденью на поворотах. Наверное, мама так же держалась, когда занесло «датсун-блуберд».
Здание, рядом с которым остановился таксист, было серое и низкое. На кирпичной стене большими синими буквами было написано «Грейхаунд». Мы припарковались на углу какой-то улицы, где в этот поздний час почти никого не было. Только какая-то старуха с редкими седыми волосами стояла и дымила сигаретой, сунув свободную руку в карман не по погоде тонкого плаща.
– Семнадцать долларов, – хрипло произнес таксист.
Словно полная идиотка, переспросила с заднего сиденья:
– Что, простите?
Таксист кивнул на деньги, зажатые в моей дрожащей руке, и повторил:
– Семнадцать долларов.
Отсчитала нужную сумму и вместе с кожаным чемоданом направилась внутрь здания. Когда проходила мимо старухи, та спросила:
– Сдачей не поделишься?
Но я крепко зажала деньги в руке, чтобы она их не увидела. Внутри нашла автомат, где продавали газировку. Сразу сунула в щель доллар и нажала на красную кнопку. Получив свою кока-колу быстрее, чем ожидала, взяла банку и бочком подобралась к пустым рядам сидений. За окном все еще было темно. Едва начало рассветать. В будке, где продавали билеты, сидел ворчливый старик и, непрерывно что-то бубня себе под нос, считал доллары в кассе. Откуда-то доносились звуки телевизора. Передавали утренние новости, рассказывали про пробки и про погоду.
Что делать дальше, понятия не имела. Куда ехать? Даже еще окончательно не осознала, что Джозеф убит. Щеки были мокрыми от слез, глаза распухли. Сердце билось так быстро, что даже голова закружилась. На белой майке под спортивной курткой скрывались брызги крови, отлетевшие с ножа Мэттью. Кровь Джозефа. Да, все сходилось – разбитое стекло, нож, этот жуткий утробный вопль, который так резко меня разбудил. А потом в дверях появился Мэттью и велел уходить как можно скорее, пока не… «Что – пока не?..» – подумала я, устраиваясь на сиденье. Пока не приехала полиция, вот что. Или пока Айзек не пришел. До сих пор поверить не могла, что я тут совсем одна, сама по себе. Больше Джозеф надо мной не властен. Больше он не придет ко мне в спальню.
Не знаю, сколько я так просидела. Потягивала колу, слушала телевизор. В зале ожидания было тепло и светло. Некоторое время смотрела на мигающую флуоресцентную лампу на потолке, потом на мужчину в джинсах и потрепанной футболке с надписью «Хаскерс» и с кепкой на голове. Подумала, что ему, должно быть, холодно в одной футболке, но он, кажется, совсем не мерз. Искоса посмотрел на меня, причем явно постарался сделать это незаметно. Не получилось. В руке он держал доверху набитую сумку, которую наверняка с трудом закрыл. Потом мужчина чуть заметно кивнул, будто здороваясь, и пошел дальше. Остановился напротив таблицы на стене и так и застыл. Это было расписание автобусов – отъезжающих и приезжающих. Дождалась, пока мужчина купит билет до Чикаго у ворчливого старика в будке. Потом встала, вытерла рукавом глаза и тоже подошла к расписанию, сплошь пестрящему названиями и цифрами. Даже голова закружилась. Кирни. Коламбус. Чикаго. Цинциннати. А потом увидела как раз те два слова, какие нужно. Форт-Коллинз. Сразу поняла, что это судьба.
Форт-Коллинз. Сколько раз видела эти слова в строке обратного адреса на конвертах, которые привозила мисс Эмбер Адлер. Да, вот где Пол и Лили-старшая жили в Колорадо. И моя Лили там жила. Форт-Коллинз, штат Колорадо.
Наконец-то навещу сестру. Вот и повидаемся.
Хайди
Грэм стоит в трех футах от меня в темной комнате и жадными глазами наблюдает, как я сбрасываю на пол белье. Розовый бюстгальтер приземляется на туфли, трусики – рядом с прозрачными нейлоновыми чулками, теперь небрежно свернутыми в комок.
Грэм внимательно, не спеша осматривает меня с ног до головы. Взгляд останавливается на красном незаживающем шраме, спускающемся по диагонали от пупка и скрывающемся в волосах на лобке. Постоянное напоминание. Велю себе не обращать на этот след внимания. Не было никакой операции. Мой ребенок дома, спит себе на одеяльце в соседней квартире.
Грэм ничего не говорит. Его теплые руки берут меня за талию. Он ведет меня к кровати и усаживает на серое одеяло, спадающее почти до пола. Подушки все еще смяты. Смотрю мимо Грэма на вентилятор на потолке – из полированного никеля с темно-вишневыми лопастями. Бумаги с комода так и сдувает на пол. Однако Грэм даже не замечает, что все его труды разлетелись. Не обращает он внимания и на то, что мои голые руки, ноги и грудь покрылись гусиной кожей.
Грэм стоит в изножье кровати и через голову снимает майку. Подаюсь вперед и глажу рельефные мышцы живота. На груди у Грэма светлые, почти незаметные волосы. Потом рука спускается к впадинке пупка, затем в медной пуговице на джинсах. И тут слышу, как заплакал ребенок.
Кажется, что звук громче сирены, раската грома, подъезжающего поезда. Торопливо вскакиваю и принимаюсь собирать с пола раскиданную одежду. Грэм, даже не услышавший младенческого плача, уговаривает меня остаться.
– Хайди, – произносит он почти умоляюще. Должно быть, от этого тона женщины просто тают. – Что случилось?
Грэм наблюдает, как я натягиваю платье, сжимая в руке чулки и трусики. Кое-как, через одну, застегиваю пуговицы на спине.
– Ничего, просто… – смущенно начинаю я. До сих пор чувствую кожей приятное покалывание от прикосновений Грэма. Ах, этот взгляд… эта фигура… Да, Крис на меня так давно уже не смотрит. – Просто забыла кое-что сделать. Надо срочно возвращаться.
В гостиной Грэма снова слышу громкий, горький плач. Перехожу на бег. Каблуки стучат по паркету. Грэм окликает:
– Хайди!
Но следом не идет.
Когда возвращаюсь домой, моя девочка по-прежнему лежит на одеяльце и крепко спит. А мне показалось… Я думала, она сейчас сердито сжимает в кулачке розовое одеяльце и, вся красная, кричит во весь голос, будто собирается проплакать несколько недель подряд.
Но моя малышка лежит тихонько. Слышу только ее сонное дыхание. Раскинулась на розовом одеяльце и спит, как ангелочек. Стоя на пороге, перевожу дух.
Удивительно. А я была совершенно уверена, что слышала плач. Подбегаю к малютке и подхватываю на руки. Девочка просыпается.
– Не волнуйся, – шепчу ей на ушко. – Мама здесь. Больше она тебя никогда не бросит.
Уиллоу
В чемодане, который принес Мэттью, и впрямь оказалось почти все, что мне нужно. Деньги – и много! Еда – шоколадные батончики, мюсли, печенье. Не знаю, как он раздобыл все это богатство. Села в автобус, прижимая чемодан к себе. Моя единственная вещь. Пока ехали по сельской Небраске, постепенно вставало солнце, все еще казавшееся зимним. Поставила чемодан на дрожащие коленки и открыла защелку. Внутри лежала книга – конечно, что же еще? Это ведь наша традиция. «Пятьдесят штатов». Бегло пролистала, проверяя, не написал ли Мэттью чего-нибудь мне на память. Оказалось, написал – текущей черной ручкой, чернила которой размазались по глянцевым страницам толстой книги. Рядом с заголовком «Аляска» – «слишком холодно». «Небраска» – «только не здесь». «Иллинойс» – «может быть». Этот путеводитель должен был помочь мне наладить новую жизнь. Мэттью обо мне позаботился. «Монтана» – «отличное место, чтобы спрятаться».
Да, пожалуй, мне действительно нужно спрятаться. Лечь на дно. Меня, наверное, будут искать. Или нет? Джозеф точно будет, да и полиция тоже. Но тут напоминаю себе, что Джозеф мертв и больше до меня не доберется.
Закрыла глаза и попыталась задремать, но сон не шел. Перед глазами так и стоял безумный взгляд Мэттью, когда он ворвался в мою темную комнату. С ножа капает кровь. В ушах так и звучал предсмертный вопль Джозефа. Постаралась не думать о том, как там Мэттью и все ли с ним в порядке.
Казалось, на меня уставился весь автобус, будто все до единого пассажиры знают, что случилось. Съехала вниз по спинке сиденья и попыталась спрятаться от чужих глаз. Ни на кого не смотрела, даже не ответила на приветствие мужчины, сидевшего напротив на зеленовато-голубом сиденье. Черный костюм, белый воротник, в руках потрепанная Библия. Должно быть, священник. Нет, уж с кем, с кем, а с ним я точно разговаривать не собиралась.
Закрыла глаза и попыталась не обращать внимания, хотя казалось, что он меня видит насквозь и знает про все мои грехи. Сразу учуял, как охотничья собака, идущая по следу.
Около полудня начала узнавать пейзаж за затемненным окном. Читала огромные зеленые щиты со знакомыми названиями городов, написанными белыми буквами. Норт-Платт, Сазерленд, Роско. И табличка у дороги «Добро пожаловать в округ Кит». Увидела знакомые белые амбары и загоны для скота. Неподалеку стоял заброшенный фермерский дом из дерева, так сильно накренившийся на один бок, что узнала его даже восемь лет спустя. А ведь именно столько не бывала в этих краях. Казалось, дом вот-вот обвалится прямо на желтую траву. Сажусь прямее и прижимаюсь носом к холодному стеклу. Сквозь шум двигателя автобуса до меня будто доносится голос мамы. «Люблю тебя, как хрюшки помои».
А потом автобус свернул на шоссе 61. Указатели показывали дорогу до озера Макконахи. Сколько песочных замков в свое время построила на берегу. Мама, бывало, просыпалась, видела, что денек будет погожий, сажала нас с Лили в машину, и мы ехали на озеро. Мама всегда забывала взять крем от солнца, и все мы сильно обгорали. Потом вечером считали друг у друга веснушки и сравнивали, у кого нос сильнее порозовел. Глядела в окно, а между тем автобус остановился на парковке Коноко, рядом с «Супер 8» и гостиницей «Комфорт» напротив кафе «У Вэнди». Мы с мамой туда ходили. Как же давно это было, будто в другой жизни! Вот аптека «Памида», а вот парковка для грузовиков. Оказалось, я все помню. Ничего не забыла. На пути в Форт-Коллинз автобус проезжал через Огаллалу. Да, это был мой родной городок. Я очутилась дома.
Когда автобус остановился, пассажиры высадились. Кто-то отправился в туалет, кто-то – перекусить. А мне отчаянно захотелось схватить чемодан и сбежать. Сердце забилось сильно-сильно, руки и ноги дрожали. Даже протолкалась мимо новых пассажиров, садившихся в автобус. Неловко держа чемодан перед собой и протискиваясь вперед по узкому проходу, только бормотала «извините» и «простите». Люди поглядывали на меня косо. А девушка с длинными темными волосами, которой я наступила на ногу в красивой туфле, язвительно пробормотала:
– Ну что вы, всегда пожалуйста.
Но я ни на кого не обращала внимания. Думала, что без проблем найду дорогу до нашего сборного домика. Хотя не уверена, что, когда мне было восемь, могла справиться с этой задачей. Впрочем, какая разница? Даже если бы в придорожную канаву легла, все равно почувствовала бы себя дома. Кожей ощущала – вот она, Огаллала, моя родина. Конечно, сразу же подумала про папу с мамой. В голове завертелась глупая мысль: вдруг мама сейчас здесь? На самом деле родители не погибли, просто вышло недоразумение. Дойду до нашего домика, а там все как раньше – и мама, и папа, и маленькая Лили. Никакая не Роз – Лили! И я ее единственная сестричка, а не какая-то там Калла. Стоит открыть нашу дверь с сеткой от насекомых и ступить на порог, как случится чудо. Мне снова будет восемь лет, и все станет как раньше. Мама, живая и здоровая, будет порхать по комнатам крошечного домика, снова заражая нас всех энергией и энтузиазмом. В доме все останется по-прежнему. Никакая новая семья, как я воображала, там не живет, и их маленькая дочка не спит в моей кровати. А про Джозефа я даже не слышала. Да-да, просто недоразумение вышло, повторяла я себе, спускаясь по высоким ступенькам автобуса. Не успела шагнуть на асфальт, как сразу обдало холодным ветром. В голове пронеслась мысль, что это плохой знак, но я только отмахнулась. С решительным видом рванула вперед, продолжая твердить себе то, что, как прекрасно понимала, было всего лишь фантазиями. Вышло недоразумение, и все. Мама с папой живы. Летела по улицам, точно на крыльях, и не оглядывалась. Вот только чемодан сильно мешал – при каждом шаге бил по ноге.
Дорогу все-таки нашла – ноги сами принесли куда надо. Не обращая внимания ни на чемодан, ни на холодный ветер, стрелой неслась по Проспектор-Драйв. Папа бы сказал – на автопилоте. Однажды спросила: наверное, трудно сидеть за рулем много часов подряд? Неужели папа совсем не устает? И папа ответил, что, когда устанет, ведет машину на автопилоте. Проходя мимо старых кирпичных зданий, которые помнила с детства, думала про маму. А вот и знакомые улицы, у которых нет названий, только номера – Первая, Вторая, Третья, Четвертая. Перед построенными по одному образцу и похожими, как близнецы, белыми домиками высажены деревья, листьев на которых в марте, конечно, не было. Над головой висели телефонные провода. Между тем деревьев и жилых домов становилось все больше. Маленький городок, прохожих на улицах которого почти не было, остался позади, я добралась до окраины. Вышла на Спрус-стрит и увидела знакомые сборные домики, широкие поля и рекламные щиты. Мимо по трассе на бешеной скорости проносились машины. Помнила – если стоять рядом с дорогой, даже волосы над головой взлетают.
К тому времени как добежала до Кэньон-Драйв, ноги горели от напряжения. Пальцы онемели, из носа текло. Чемодан всю дорогу так терся о ногу, что, наверное, остались ссадины.
Домик оказался гораздо меньше, чем я помнила. И обшивка была вовсе не белоснежной, а скорее грязно-желтоватой. Крыльцо, в детстве казавшееся огромным, состояло всего из четырех низеньких, покосившихся ступенек. Бежевые алюминиевые перила стояли сломанные, не хватало почти половины перекладин. Перед домом заметила баскетбольное кольцо, которого у нас не было. Во дворе был припаркован красный хетчбэк «хонда». Раньше на этом месте стоял наш «блуберд».
Застыв на противоположной стороне Кэньон-Драйв, стояла и смотрела на дом, который раньше был моим. Набиралась храбрости, чтобы подняться на крыльцо и повернуть дверную ручку. С одной стороны, понимала, что мама меня там не ждет, а с другой – от всей души надеялась ее там встретить. Что, если?.. Вдруг в голове пронеслась мысль: не осмелюсь постучаться в дверь – не узнаю, живы родители или нет. Хотя, может, это и к лучшему. Если откроют чужие люди, папа с мамой для меня будто бы погибнут еще раз.
А может быть, нам с Лили нарочно сказали, что родители разбились на машине, чтобы нас похитить? Я тогда была маленькая и глупая, всего восемь лет – вешай на уши любую лапшу. Джозеф ведь мне постоянно врал. А бедная мама искала меня все эти годы. Представила объявление о своей пропаже, с черно-белым фотороботом. Художник нарисовал, как, по его мнению, я должна выглядеть в шестнадцать лет. «Если вы что-то знаете о Клэр, пожалуйста, позвоните по телефону 1-800. В последний раз девочку видели дома, на Кэньон-Драйв, в городе Огаллала, штат Небраска. Волосы светлые, глаза голубые. Под подбородком маленький шрам, между двумя передними зубами щель. Была одета…»
Во что же я была одета, когда приехала мисс Эмбер Адлер и сказала, что родители погибли? Кажется, в голубую футболку, на которой был нарисован тюбик с ярко-красной помадой и следы от поцелуев, между которыми было написано «Чмок-чмок». А может, на мне было платьице, или топик в горошек, или…
Вдруг дверь домика резко распахивается, и тишину нарушают сердитые детские голоса. А потом раздается голос матери – не моей, конечно. Их матери. Звучит он раздраженно и устало. Женщина велит детям заткнуть наконец рты.
Вот они выходят на крыльцо, все трое. Хотя нет, четверо. На руках у женщины еще младенец. Ребята вприпрыжку сбежали вниз по ступенькам, точно разыгравшиеся котята. Двое толкались локтями и обзывали друг друга то дураками, то какашками. Оба мальчика одеты в джинсы, кеды, куртки и меховые шапки-ушанки. Ребенок на руках у матери завернут в розовое одеяльце. Значит, девочка. Должно быть, давно мечтала о дочке, подумала я. Между тем женщина свободной рукой подталкивала сыновей в спины. Сказала, чтобы поторапливались и скорее садились в машину, а то они куда-то не успеют. Тут один из мальчишек развернулся и заревел на всю улицу.
– Ты меня ударила! – возмущенно крикнул он матери.
– Дэниел, – ровным, ничего не выражающим тоном произнесла она, – садись в машину.
Но мальчишка истерику прекращать не собирался. Так и стоял возле крыльца и выл, хотя старшие мальчики уже залезли в автомобиль, как им велели, а девочку мать усадила в детское креслице. Дэниел – на вид ему было лет пять-шесть – скрестил руки на груди и обиженно надул губы, причем выпятил нижнюю так, что верхней стало почти не видно. Я наблюдала за всем этим, открыв рот. Мне бы и в голову не пришло разговаривать с мамой таким тоном. Не говоря уже о том, чтобы обзывать Лили дурой или какашкой. Сразу подумала, что мне не нравится этот мальчик, совсем не нравится. Раздражало все: темные волосы, выбивавшиеся из-под шапки, застегнутая не на те пуговицы куртка, явно купленная на вырост, пальцы в перчатках, едва видневшиеся из-под слишком длинных рукавов, синие сапоги и некрасивая гримаса на вытянутом лице.
А больше всего выводило из себя то, что он, похоже, искренне считал, что с ним поступают ужасно несправедливо: подумать только, заставляют ехать туда, куда он не хочет! Попробовал бы пожить с Джозефом, тогда узнал бы.
Я бы сейчас что угодно отдала за простую поездку в супермаркет. Помогала бы маме везти тележку и щекотала бы Лили пятки, когда сестренка начнет хныкать. Помню приятный запах свежеиспеченных пончиков в кондитерском отделе. Мама всегда разрешала мне выбрать четыре штуки – для всей семьи. Мы их ели на завтрак.
Я стояла на тротуаре, вспоминая усыпанные разноцветным драже пончики и пирожные с шоколадной глазурью, как вдруг женщина шагнула в мою сторону. Я инстинктивно попятилась.
– Может, тебе что-нибудь подсказать? – спросила она, переходя дорогу и направляясь ко мне. Еще бы ей меня не заметить – стою, как столб, и пялюсь на ее семью. Карие влажные глаза были усталыми, под ними набухли мешки. Сальные волосы уныло свисали – должно быть, совсем замоталась и не успевала помыть голову. – Ты, наверное, заблудилась?
И тут вдруг начала замечать вещи, на которые до этого не обратила внимания. Наклейки с зелеными клеверами на оконных стеклах. У нас таких не было. Фамилия, написанная черными буквами на почтовом ящике – «Бригмен». Овчарка, просунувшая голову между занавесками на окне и громко лаявшая. И занавески тоже незнакомые, кружевные. Деревянное кресло-качалка на узкой террасе. Садовый гном с табличкой «Добро пожаловать» в руках. Мальчик с некрасиво перекошенным лицом и его старший брат вылезли из машины, чтобы посмотреть, с кем там разговаривает мама. А та снова спросила:
– Точно помощь не нужна?
Тут я развернулась и кинулась прочь. Это не мой дом. При этой мысли даже дыхание перехватило. Стремглав пронеслась по Кэньон-Драйв, мимо припаркованных машин и заборов, почтовых ящиков и лужаек с жухлой травой. Только гравий под ногами разлетался в разные стороны. Голова кружилась. Боялась, что эта женщина, миссис Бригмен, кинется в погоню, поэтому решила срезать путь и побежала прямо через чей-то двор. Споткнулась о камень, упала. Брюки сразу промокли насквозь от грязного таявшего снега. Чемодан открылся, и все вещи вывалились наружу – и книги, и деньги разлетелись по снегу. Принялась торопливо подбирать их и запихивать обратно. Потом поспешно захлопнула крышку.
Фотографию увидела не сразу. Едва не оставила лежать в том дворе. Уже встала с колен, надеясь и молясь, что хозяева дома не наблюдают за мной из окна. Как вдруг заметила на снегу что-то яркое. Наклонилась, подняла. Это была мамина фотография – та самая, которую Джозеф много лет назад заставил меня порвать, а потом выбросить в мусорное ведро. Помню, как Мэттью с Айзеком сидели за столом и смотрели, как я их выкидываю, а потом поднимаюсь обратно наверх, чтобы молиться у себя в комнате, как приказал Джозеф. Молиться, чтобы Бог меня простил.
Значит, Мэттью тогда достал обрывки из ведра, сложил, точно головоломку, и склеил сзади скотчем. Аккуратно, кусочек к кусочку. Красивое лицо мамы, ее длинные черные волосы и сапфирово-синие глаза пересекали толстые белые линии, и все равно – вот она, безошибочно узнаваемая. Мама была одета в изумрудно-зеленое платье с глубоким круглым вырезом и рукавами-фонариками. Джозеф, конечно, нанес фотографии большой урон, и все-таки она уцелела и теперь лежит у меня на ладони.
Где Мэттью прятал ее все эти годы, тайком вытащив обрывки из мусора? Почему сразу не вернул? Впрочем, и так понятно, почему. Боялся, что Джозеф увидит фотографию и снова порвет. Но теперь на этот счет можно не беспокоиться.
Много лет не видела маму. За это время ее образ будто бы расплылся, потерял былые краски. Забыла и широкую улыбку, и ярко-красную помаду, которой мама красила губы в те дни, когда папа возвращался из рейса. А теперь я снова все это увидела – черные, как вороново крыло, волосы, синие глаза, ягодная помада на губах. На фотографии мама смеялась. Глядя на снимок, сразу вспомнила ее смех.
Фотографировала я. А потом мама взяла у меня фотоаппарат и тоже меня щелкнула. Мы сдали пленку в проявку, а когда получили снимки, мама взяла себе мой, а я – ее. Мама сказала, что так мы всегда будем вместе, даже когда будем далеко друг от друга. «Люблю тебя, как икс любит игрек», – сказала мама и чмокнула меня ярко-красными губами в щеку. Потом, когда ехали на машине домой, я смотрела на след от помады в зеркале заднего вида и никак не хотела стирать.
Прижала фотографию мамы к сердцу и разрыдалась, стоя на коленях в тающем мартовском снегу прямо посреди чужого двора. Теперь мама была со мной. Она бы никогда, ни за что меня не бросила.
Хайди
Прижимая к груди мою малышку, опускаюсь в кресло-качалку и клянусь себе больше никогда не оставлять ее одну. Ни на секунду. Между тем девочка разразилась возмущенным, сердитым плачем. Зажала пряди моих волос в крошечный кулачок и больно дернула. Малышка плачет так, что захлебывается. Встаю с кресла и начинаю ходить по комнате. Из-за стены доносится песня Нины Симон «Я тебя околдовала». Такое чувство, будто музыка зазвучала громче. Интересно, мне показалось, или Грэм действительно прибавил звук? Может, старается заглушить детский плач? Или это какой-то намек? Должно быть, сидит у себя в квартире, все еще голый по пояс и в расстегнутых джинсах, и гадает, почему я так внезапно унеслась. Интересно, что он будет делать? Позвонит какой-нибудь из многочисленных знакомых, чтобы скрасить вечер и закончить то, что начал со мной? Стараюсь не думать о красавице-блондинке, которая наверняка займет мое место на незастеленной кровати Грэма. Сосед, должно быть, даже не заметит разницы. Для него что я, что другая – все равно. Отгоняю непрошеную картину – вот я лежу на кровати, а надо мной склонился Грэм. Любопытно, как далеко я бы зашла, не расплачься вдруг ребенок?
Но ребенок не плакал, напоминаю себе. Девочка спала. Или нет? Что-то я запуталась. Ведь это был такой отчаянный, беспомощный, горестный плач. Даже в квартире Грэма услышала. Да-да, точно: вот Грэм стягивает через голову майку, оголяя покрытый рельефными мышцами живот и светлые, едва заметные волосы на груди, вот я тянусь к медной пуговице у него на джинсах… А потом этот плач. Да, девочка не спала, она плакала, говорю себе. Принимаюсь нежно ее укачивать. Моя малышка сердится, что я бросила ее. Снова и снова повторяю:
– Прости, больше мама тебя не оставит.
Осыпаю ее щечки поцелуями, но сама понимаю, что это лишь слабая попытка загладить вину. До чего же я плохая мать. Хорошая мама ни за что бы не оставила младенца в квартире одного. Поддалась минутной слабости, думаю я, с содроганием вспоминая презерватив, обнаруженный в кармане брюк Криса. Стоило снова представить эту блестящую синюю упаковку, как сердце забилось быстро-быстро, а руки стали как ватные.
Малышка утыкается носиком в черную креповую ткань платья. Она у меня всегда так делает, когда голодна. Отправляюсь на кухню, чтобы приготовить молочную смесь. Насыпаю порошок в бутылочку, добавляю воды и встряхиваю. Жалкая замена материнскому молоку. Пытаюсь сообразить, с чего вдруг решила кормить дочку из бутылочки, а не грудью. Или я кормила ее грудью, а теперь понемножку приучаю к смесям? Стою посреди кухни и не могу вспомнить. Ах да, у меня же был рак. Но потом думаю: какой еще рак? Нет, раком я никогда не болела. Тогда откуда у меня шрам в нижней части живота? Тот самый, по которому Грэм провел кончиком пальца. Сосед явно хотел спросить, что это за след, но я прижала палец к его губам и прошептала «тсс». И все-таки, откуда этот шрам? А может, это вообще не шрам? Тут в голове проносится отвратительное, мерзкое, уродливое слово. Торопливо принимаюсь трясти головой, пытаясь от него отделаться. И слово это «аборт». Но нет. Вот же мой ребенок. Прижимаю девочку к груди. О каком аборте может быть речь?
Тот лысеющий врач сказал, что Джулиэт выбросили как послеоперационные отходы, которые положено сжигать. Потом годами снились ночные кошмары: маленькая Джулиэт поджаривается в раскаленной печи.
Энергично качаю головой и вслух восклицаю:
– Нет!
Гляжу на девочку у меня на руках и думаю – вот же она, Джулиэт. Здесь, со мной. В полной безопасности. Наверное, на животе у меня все-таки не шрам, а родимое пятно, решаю я. Как на ножке у моей дочки. Интересно, могут ли такие вещи передаваться из поколения в поколение? Вспоминаю, как пассажиры поезда линии «Л» нахваливали мою хорошенькую малышку, когда ехала обедать с Крисом. Говорили, что мы с ребенком удивительно похожи. Слова, которые мечтает услышать любая мать. «У девочки ваши глаза», – сказала одна женщина. «И улыбка совсем как у вас», – прибавила другая. Провожу пальцем по верхней губке дочки. Такую форму почему-то называют «лук Купидона». У Зои тоже такие губы. И у меня. «Это семейная черта», – сказала я. Тут моя малышка, будто по команде, наградила всех присутствующих очаровательной сияющей улыбкой. Как будто поняла, что речь идет о ней и это на нее все смотрят с таким восхищением.
Впрочем, что им остается? Только смотреть. Никому ее не отдам, она моя. Крепко прижимаю малышку к груди. Отмахиваюсь и от мыслей об Уиллоу, и от крутящегося в голове имени Руби. Мою дочку зовут не Руби.
От размышлений отвлекает звонок домофона – громкий, нахальный, настойчивый. Разве можно так трезвонить, я же ребенка кормлю! Пусть не материнским молоком, а убогой смесью, и все же… Не знаю, в смеси причина или в домофоне, но тут малышка выталкивает соску язычком и снова принимается кричать.
Подхожу к окну и выглядываю на улицу. Возле двери нашего подъезда, украшенной стеклянными панелями, стоит моя подруга. Моя лучшая подруга Дженнифер. В обеих руках держит стаканчики кофе из «Старбакс». Одета, как всегда, в больничную форму и джинсовую куртку. Волосы треплет порывистый чикагский ветер. Торопливо пригибаюсь, пока Дженнифер не заметила меня в окне. Остается надеяться, что она скоро сдастся и уйдет. Не могу сейчас с ней встретиться. Дженнифер примется разглядывать мое неровно застегнутое роскошное платье, слишком яркий для меня макияж – отчаянную попытку завлечь, соблазнить… Теперь вся косметика размазалась по щекам. Розовые трусики и нейлоновые чулки свернуты в комок, черные туфли на каблуках в очередной раз не пригодились.
Дженнифер, конечно, сразу примется спрашивать, что происходит. Начнет выведывать и про Грэма, и про ребенка. Ну, и что я ей скажу? Как объясню все это? Домофон продолжает звонить. Стою на коленях, прижимая к себе плачущего ребенка. Осторожно выглядываю поверх подоконника. Выставив ладонь козырьком, чтобы солнце не светило в глаза. Дженнифер смотрит наверх, на наше окно. Почти падаю обратно на пол, не уверенная, заметила она меня или нет. Едва не роняю ребенка. Сидим, скрючившись под низким подоконником.
– Тише, тише, – с отчаянием в голосе уговариваю рыдающую малышку. – Пожалуйста, не надо плакать.
От стояния на твердом полу начинают болеть колени.
Тут домофон замолкает, и начинает звонить мой мобильник. На дисплей можно даже не смотреть. И так знаю, что это Дженнифер. Хочет узнать, куда я подевалась. Если подруга звонила ко мне в офис, там ей, конечно, сказали, что у меня грипп. Секретарша Дана в красках описала, как я страдаю, и лучшая подруга решила навестить больную со стаканом горячего напитка – кофе или чая. Дженнифер желает мне добра, а я от нее прячусь. Стою на коленях на паркете и умоляю малышку не плакать, замолчать.
Наконец и домофон, и телефон затихают. Теперь слышен только плач девочки. Осторожно поднимаюсь с колен и вижу, что Дженнифер ушла. Подруги нигде не видно. Как сквозь землю провалилась. Окидываю взглядом улицу, высматривая потертую джинсовую ткань, но замечаю только соседку, старушку с нашего этажа. Судя по сумке на колесиках, направляется за продуктами в магазин.
Облегченно выдыхаю. Уф, пронесло. Уговариваю малышку взять бутылочку.
– Пожалуйста, милая, – умоляю я.
Но тут раздается стук в дверь, от которого едва не подпрыгиваю. Вроде стучат ненавязчиво, но твердо, уверенно. Значит, Дженнифер вовсе не ушла, а проскользнула в подъезд, когда оттуда выходила миссис Грин. Ничего не скажешь, хитра. Тут Дженнифер начинает звать меня из-за двери.
– Хайди! – кричит она.
И снова этот проклятый стук – красноречивее, чем любые слова. «Я знаю, что ты дома».
– Хайди! – снова зовет Дженнифер.
Пускаюсь бегом с ребенком на руках, подальше от двери, как будто спасаюсь от пожара. Наконец забиваюсь в угол нашей с Крисом спальни. Теперь голос Дженнифер доносится издалека. На всякий случай закрываю жалюзи, чтобы нас с малышкой не было видно с улицы. Кажется, что слышу слова «я тебя видела» и «я знаю, что ты здесь». Дженнифер по-прежнему стоит на площадке и стучит по деревянной двери, пытаясь заставить меня открыть.
У меня же отберут ребенка. Отнимут мою девочку!
– Джулиэт, очень тебя прошу, помолчи, – испуганно взмолилась я.
Бутылочку она так и не берет и по-прежнему продолжает плакать. Имя Джулиэт срывается с языка само собой. Как ни странно, оно одновременно звучит и неуместно, и совершенно правильно. Но этот плач… Когда же она наконец успокоится? Рыдает, прямо как маленькая Зои, когда у нее были колики. Кричала, корчилась от боли. Но с Зои не приходилось прятаться, съежившись на полу спальни.
Как долго мы так просидели, сказать не могу. Минуту? Час? Не знаю. Тихонько укачиваю ребенка, стараясь хоть немножко успокоить. Стук Дженнифер становится все слабее и слабее, пока не затихает вовсе. Снова начинает звонить мой телефон, но и он умолкает. Потом принимается трезвонить домашний, затем опять мобильный.
Сквозь щели в жалюзи выглядываю в окно спальни. Дженнифер ходит по улице туда-сюда, будто не знает, что предпринять. Поднимает глаза и смотрит в окно гостиной. Только когда подруга наконец уходит прочь, бросив один из стаканчиков в ближайшее мусорное ведро, решаюсь выйти из спальни и поглядеть на мобильный телефон. Наверняка Дженнифер слышала из подъезда, как он звонил. Всего было три пропущенных звонка. Еще обнаруживаю одно голосовое сообщение и эсэмэску.
«Ты где?»
Уиллоу
И снова меня вызывает Луиза Флорес. К решетке нашей с Дивой камеры подходит надзирательница и велит мне просунуть руки в специальное отверстие, чтобы можно было надеть на меня наручники, перед тем как отпереть замок. Слезаю с верхней койки и послушно завожу руки за спину. Шагаем по тюремному коридору.
Сегодня Луизу Флорес интересует девочка, Калла. Сажусь на успевший стать привычным потертый стул с жесткой спиной.
– Зачем ты украла ребенка? – спрашивает она.
Вспоминаю, как той ночью стояла в темном лесу, глядя на ярко сияющие окна дома под треугольной крышей.
Посмотрев на наш старый домик в Огаллале, вернулась на остановку, где еле-еле разжалобила билетершу и уговорила обменять мой больше не действительный билет на новый. Автобус до Форт-Коллинз, конечно, давным-давно уехал. Наконец билетерша нехотя согласилась пойти мне навстречу и продать новый билет всего за двадцать баксов. К тому времени уже стемнело. Следующий автобус должен был прийти не скоро – посреди ночи, в три ноль пять.
Впрочем, на остановку я вернулась не сразу. Нарыдавшись в чужом дворе, отправилась на кладбище возле Пятой улицы и опустилась прямо на землю возле могилы мамы и папы.
А потом взяла себя в руки и сделала то, что должна была.
В доме Пола и Лили Зигер светились все окна, поэтому из леса мне все было видно. Вот Пол Зигер в спальне наверху снимает галстук. А вот Лили-старшая укачивает своего мерзкого ребенка с таким видом, будто это даже не просто удовольствие, а настоящая привилегия. Гладит ее по лысой башке, хотя что тут приятного, не представляю. Тут у ног Лили-старшей начинает прыгать собака. Хозяйка открывает дверь черного хода и выпускает ее на улицу. Прячусь за высоким деревом.
– Иди погуляй, Тайсон, – говорит Лили-старшая, чуть подталкивая собаку сзади. – Беги, мальчик.
И закрывает дверь. Нюх у собаки острый – сразу находит меня в моем укрытии и принимается облизывать. Отстраняю пса и стараюсь как можно более строго и твердо произнести:
– Уходи!
Снова смотрю на дом. В гостиной топится камин, в спальне Зигеров работает телевизор. Пол улегся на кровать и смотрит новости, раскинувшись на покрывале.
И тут замечаю Лили. Маленькую Лили. Мою Лили. Сидит в комнате совсем одна и заплетает кукле косички. Устроилась на краю кровати с фиолетовым покрывалом, зажала игрушку между ног и деловито перебирает пряди. Теперь Лили уже не та малышка, какой ее помню. Вообще-то она сейчас старше, чем была я, когда родители погибли.
Какая же она хорошенькая! Просто красавица. Вся в маму.
– Почему ты не увела Роз? – спрашивает Луиза Флорес, отламывая и отправляя в рот кусочек кекса. – Она ведь твоя сестра.
– Лили, – резко поправляю я. – Ее Лили зовут.
Не знаю, может быть, сестренке просто надоело заплетать косички, а может, Лили разозлилась, потому что у нее не получалось. Но она развернула куклу к себе, посмотрела в ее акриловые глаза и швырнула через всю комнату. Кукла врезалась в фиолетовую стену и упала. Лили расплакалась. Пол с Лили-старшей одновременно вздрогнули. Однако он и с места не сдвинулся, а она положила младенца в колыбельку и стала подниматься по лестнице в комнату моей Лили.
Все понятно – Лили ненавидит маленькую Каллу, сказала я себе. Потому и вымещает зло на игрушке. Не зря же она не поленилась встать с кровати и, в ночной рубашке с лошадками и клетчатых тапочках подошла к упавшей кукле и сердито пнула ее.
Луиза Флорес внимательно смотрит на меня, потом нехотя кивает.
– Ладно, – говорит она. – Лили, Роз… Какая разница? Ты не ответила на вопрос, Клэр. Почему ты забрала младенца, а не свою сестру?
Я понимала – у Зигеров Лили живется прекрасно. Вернее, жилось, пока Пол и Лили-старшая не заменили ее на ребенка, о котором «всегда мечтали». А я ничего не могла дать Лили. Все мое скудное имущество лежало в чемодане, который принес Мэттью. Быстро заканчивающиеся деньги, пара книг, мамина фотография.
– О Лили я позаботиться не могла, – отвечаю я.
– Интересно. А о ребенке, о маленькой Калле, ты, значит, могла позаботиться?
Пожимаю плечами и вяло отвечаю:
– Я не это хотела сказать.
– Тогда что же ты хотела сказать, Клэр? – укоризненным, осуждающим тоном спрашивает старуха. Губы сжаты в тонкую нитку, брови нахмурены. Луиза Флорес снимает очки и кладет на стол.
У моей Лили снова могла начаться прежняя, счастливая жизнь. С каникулами на пляже, розово-зелеными велосипедами и школой Монтессори. И для этого я должна ей помочь. Вот почему, когда Лили-старшая поднялась наверх, а Пол перевернулся на бок и притворился, будто не слышит истерики моей сестренки, я проскользнула в дом через черный ход. Лили-старшая, выпустив собаку погулять, дверь запирать не стала. Я подошла к колыбельке и взяла ребенка, завернутого в розовое одеяльце. Аккуратно, стараясь поддерживать головку, как меня учила мама, когда Лили была совсем маленькая. Вот так, с ребенком на руках, я выскочила за дверь и скрылась в темной мартовской ночи.
Крис
Угораздило же проспать! Просыпаюсь с ужасным похмельем: голова раскалывается, солнечный свет нестерпимо бьет по глазам. Настойчиво трезвонит мобильный телефон. Звонок меня и разбудил. В моем состоянии он звучит невыносимо и вдобавок оглушительно громко. Звонит Генри. Когда беру трубку, слышу его резкий, командный голос. Ни дать ни взять сержант на плацу.
– Куда ты, черт возьми, пропал? – возмущенно интересуется Генри.
Уже начало десятого. Душ принимать некогда. Сразу несусь в конец коридора, к лифту. Изо рта воняет текилой, волосы до корней пропитались едким табачным дымом. Вчера ночью отправился бродить по улице, зашел в первое подвернувшееся питейное заведение и несколько часов просидел в прокуренном баре. Теперь глаза красные, как у кролика, а руки мокрые от пота. Вдобавок забыл все свои записи – те самые, по которым должен произносить речь перед потенциальными инвесторами в конференц-зале на восьмом этаже. А ведь мы должны произвести на этих людей хорошее впечатление… Бочком пробираюсь в зал, однако незаметно проскользнуть не получается – все сразу поворачиваются ко мне. От меня несет перегаром, в животе неприятно бурчит. Во рту стоит желчный привкус. Едва сдерживаю тошноту.
– Лучше поздно, чем никогда, – бормочет Генри.
Вытираю рот рукавом. Нахожу взглядом Кэссиди. Вот она сидит, наклонившись к венчурному инвестору по имени Тед, и что-то шепчет ему на ухо. При этом губы Кэссиди так близко, что ее теплое дыхание, должно быть, щекочет ему ухо. Потом Тед поворачивается к ней, и оба весело смеются. Должно быть, Кэссиди упражняется в остроумии за мой счет.
Приглаживаю встрепанные волосы. Через некоторое время Том отводит меня в сторону и велит собраться. Протягивает чашку кофе, будто кофеин может помочь. Однако сам слышу, как невнятно звучит моя речь, да и мысли в голове путаются. Принимаюсь рыться в портфеле в поисках финансовых документов, которых там нет. Обнаруживаю только скомканные листы с заметками и фиолетовый стикер со словом «да».
И все же от кофе становится немного лучше. Во время перерыва успеваю сбегать в номер, чтобы переодеться и причесаться. Нужные документы валяются на столе. Поспешно собираю листы в стопку и складываю в портфель. Потом чищу зубы. Сочетание кофеина и зубной пасты хоть как-то перебивает алкогольный привкус. Голова буквально раскалывается, поэтому принимаю даже больше таблеток, чем полагается по инструкции.
Когда возвращаюсь в зал, Кэссиди с Тедом едят багели с плавленым сыром с одной тарелки. Сидят бок о бок, как два голубка. Кэссиди демонстративно облизывает пальцы, потом снова наклоняется к уху Теда и что-то ему шепчет. И снова они смеются, глядя на меня. Опять вспоминаю, как Кэссиди расстегивала пуговицы белоснежной туники у меня в номере, надеясь убедить меня остаться. А я с перепугу натянул ботинки и выскочил за дверь. Должно быть, Кэссиди ушла из моего номера, и тут ей подвернулся венчурный инвестор Тед. Сорок с лишним лет, на пальце левой руки вольфрамовое обручальное кольцо. Похоже, Тед, в отличие от меня, оказался не прочь поразвлечься. И когда Кэссиди стала расстегивать перед ним тунику, не кинулся бежать, а с удовольствием оценил прелести, которые под ней скрывались.
Вспоминаю, как Хайди назвала Кэссиди «роковой женщиной». Да, замужние женщины к подобным особам ни малейшей симпатии не испытывают. Интересно, красивая ли у Теда жена? Есть ли у них дети?
Ни малейшей досады или ревности не ощущаю. Наоборот, испытываю огромное облегчение, убедившись, что Кэссиди все равно, с кем из собравшихся представителей мужского пола провести ночь. Хорошо, жертвой ее чар оказался не я. А то сейчас сидел бы, как идиот, и смотрел, пуская слюни, как Кэссиди картинно облизывает длинные тонкие пальчики.
Тут у меня звонит телефон. Мартин Миллер, тот самый частный детектив, которого я нанял, чтобы собрать сведения об Уиллоу. Поспешно выбегаю в коридор. Останавливаюсь около перил. Отсюда, с высоты восьмого этажа, открывается вид на атриум отеля, уставленный банкетными столами и мягкими диванами. Всюду тропические растения, в прудах плавают карпы.
В голосе Мартина звучит нерешительность, будто он что-то узнал про нашу Уиллоу, но не хочет говорить, что именно. Опираюсь о заграждение, но оттого, что гляжу вниз, мучающее с утра головокружение только усиливается.
– Что там у тебя? – с тревогой спрашиваю я. С высоты восьми этажей карпов толком не разглядишь – лишь тут и там мелькает то белое, то оранжевое.
Мартин говорит, что пришлет по электронной почте статью, датированную серединой марта. Предупреждает, что никто по имени Уиллоу или Руби там не упоминается, но у приятеля есть подозрение, что речь идет именно о нашей девице. Дожидаясь письма, так сильно сжимаю телефон, что немеют пальцы. Наконец оно приходит. Открываю статью и сразу устремляю взгляд на фотографию, с которой на меня смотрит наша Уиллоу Грир. Вернее, Клэр Дэллоуэй, шестнадцати лет. И разыскивается эта самая Клэр Дэллоуэй по подозрению в убийстве супружеской пары из Омахи. Мало того – есть основания предполагать, что она же 16 марта украла у другой супружеской пары младенца, и произошло это в Форт-Коллинз, штат Колорадо.
Проглядываю статью, ища слова «вооружена и опасна» и заодно читая подробности. Муж и жена, Джозеф и Мириам Абрахамсон, были зарезаны в своем доме в Омахе, в собственных постелях. А похищенный младенец, о котором идет речь, – Калла Зигер, дочь Пола и Лили Зигер. В статье были описаны приметы ребенка, цвет глаз и пока что редких волос… Прилагалась также фотография очень приметного родимого пятна сзади на ножке – темно-красного, по форме похожего на штат Аляска. Тому, кто найдет ребенка, обещалось вознаграждение.
Читаю дальше про Джозефа и Мириам Абрахамсон. Когда Клэр Дэллоуэй было восемь лет, ее родители погибли, и супруги Абрахамсон вызвались взять ее под опеку и дали девочке приют под своей крышей. А закончилось дело тем, что оба были зарезаны, когда спали.
– У Абрахамсонов есть родные дети, два сына, – объясняет Мартин по телефону. – Зовут Мэттью и Айзек, оба уже взрослые. У Айзека есть алиби. В тот день он работал в ночную смену на складе круглосуточного магазина «Уолмарт». Вернулся домой рано утром 19 марта и обнаружил родителей в кровати, с ножевыми ранениями. Второй сын, Мэттью Абрахамсон, похоже, подался в бега. Как и Клэр Дэллоуэй, является подозреваемым в убийстве Джозефа и Мириам Абрахамсон.
– Надеюсь, в полицию ты не звонил? – в отчаянии спрашиваю я.
– Нет, конечно. Я бы тебя предупредил. Но, боюсь, придется, – прибавляет Мартин. – Если не сдадим эту девицу, дело попахивает укрывательством, а мне такие проблемы не нужны. Тебе, думаю, тоже. Это ведь точно та самая?
Точно, думаю я. Точнее не бывает.
– Дай один день, – взмолился я. – Всего сутки.
Мартин не спорит и сразу соглашается. Нужно предупредить Хайди. Жена должна все узнать от меня. Интересно, Мартин исполнит обещание? Вдруг не станет ждать двадцать четыре часа? В конце концов, сообщившему, где скрывается Клэр Дэллоуэй, полагается вознаграждение.
Угораздило же так вляпаться, думаю я, прощаясь с Мартином. Надо немедленно позвонить Хайди и все ей рассказать. Набираю номер снова и снова, но к телефону никто не подходит. В голове так и вертятся слова из статьи – «нож», «может быть опасна», «зарезаны», «убиты»…
Уиллоу
До Чикаго добираться пришлось долго. Ехали ровно двадцать три часа с шестнадцатью остановками. Два раза пришлось доставать вещи и пересаживаться из одного автобуса в другой. Никогда столько не путешествовала. Увидела много разных чудес. И высокие горы Колорадо, и сменившие их равнины, усеянные фермами. В слишком тесных загонах толпился скот. Животные пытались хоть как-то протиснуться к кормушке. Смотреть на них было жалко. Потом поехали в обратную сторону, в Небраску, а когда пересекли мост через реку Миссури, нас поприветствовали жители штата Айова. По крайней мере, так было написано на придорожном щите: «Жители штата Айова приветствуют вас».
В Чикаго решила отправиться из-за мамы. Стояла, смотрела на расписание на автовокзале и тут наткнулась взглядом на слово «Чикаго». Сразу вспомнила мамины разговоры про «когда-нибудь» и списки мест, где она мечтала побывать, но так и не смогла – и все из-за «блуберда». Ни до Парижа, ни до Швейцарии автобусы не ходили, зато до Чикаго можно было добраться безо всяких проблем. Сразу подумала про Магнифисент-Майл и роскошные магазины «Гуччи» и «Прада», по которым мама «когда-нибудь» хотела пройтись. Вот и решила – раз у мамы не получилось, я должна сделать это за нее.
Калла спокойно спала, лежа у меня на коленях в мягком розовом одеяльце. Не решалась выпускать из рук ни ее, ни чемодан, поэтому приходилось балансировать на краешке сиденья, чтобы сбоку уместился мой багаж. Когда Калла просыпалась, показывала ей в окошко закаты то над одним городом, то над другим. На заправке в городке под названием Браш вышла из автобуса. Вспомнила, как мама кормила маленькую Лили, купила бутылочку и молочную смесь. Ночью Калла принялась хныкать, но, поев, быстро уснула снова.
Не обращала внимания, хорошенькая она или нет, не замечала, как ее кулачок сжимает мой палец. Меня не трогали ни ее внимательный взгляд, ни слово «сестренка», вышитое на комбинезончике. Глядя на Каллу, вспоминала про морские анемоны, книгу о которых когда-то приносил Мэттью. На вид красивые и изящные, но сколько от них может быть вреда! Когда Калла хватала меня за палец, представляла их тонкие щупальца, когда улыбалась во весь рот – их яркие, сверкающие краски. Морские анемоны похожи на цветы, оттого их так и назвали. Но на самом деле они – беспощадные хищники, отравляющие жертв парализующим ядом и съедающие живьем. Вот и этот ребенок – то же самое, что морской анемон.
Думала, что ненавижу Каллу. Терпеть ее не могу. Но, чем дальше уезжал автобус и чем крепче она держалась за мой мизинец, тем чаще приходилось напоминать себе, что это не какая-нибудь безобидная малютка, а хищник. Почему-то все время об этом забывала. Повторяла, что Калла мне совершенно не нравится. Ничуточки.
Но в конце концов устоять не смогла.
В Денвере во время очередной пересадки рядом со мной на сиденье плюхнулась девица и спросила:
– Твоя? Как зовут?
Открыла рот, но не смогла произнести ни звука.
– Ты чего, язык проглотила? – спросила девица.
Была она удивительно тощая – кожа да кости, щеки впалые. Одежда болталась мешком, особенно пальто. Волосы темные, глаза тоже. На шее что-то вроде ошейника с шипами, как у собаки.
– Н-нет… – прозаикалась я. Будто на грех, из головы все имена повылетали.
– Чего, до сих пор имя не дала? Так не годится, надо что-нибудь придумать, – сказала девушка, ничуть не смущенная тем, что я не смогла назвать имя собственного ребенка. Ясно одно: правду говорить нельзя ни в коем случае. Калла – имя редкое.
– Может, Руби? – предложила девица, глядя в окно.
Мы как раз стояли неподалеку от ресторана с вывеской «Руби Тьюздей», находившегося совсем рядом с автовокзалом. Это судьба, решила я. Уставилась на огромные алые буквы. «Руби». Не встречала никого с таким именем. Представила сверкающий, кроваво-красный рубин.
– Руби, – повторила я, будто пробуя имя на вкус. Потом распробовала и сказала: – Мне нравится. Ладно, пускай будет Руби.
А девушка еще раз повторила:
– Руби.
На голове у нее был здоровенный синяк, на запястьях – порезы, которые она пыталась прикрыть, то и дело одергивая рукав зеленого пальто. На автобус девушка села в Денвере, а сошла в пригороде Омахи. Пыталась не смотреть на огромную фиолетовую шишку, но глаза притягивались к ней сами собой.
– Чего смотришь? – спросила ничуть не сконфузившаяся девица. – Интересно, откуда у меня эта штука? Скажем так: мой парень козел. – А потом девица прибавила: – Из-за чего еще девчонка вроде нас с тобой попрется неведомо куда одна посреди ночи? Или не одна, – прибавила она, ущипнув Руби за маленький носик, – а с малышом.
Мы с девушкой разговорились. С ней было легко, и мне это нравилось. И ее открытый взгляд тоже нравился. Спрашивать друг у друга, куда и зачем мы едем, не стали.
– Скажем так: просто решили сменить обстановку, – предложила я.
Тем и ограничились. Обе чувствовали, что заводить разговор на эту тему ни к чему. Ведь бежали мы от прошлой жизни, в которой приятного было мало и у меня, и у нее. Так зачем вспоминать про плохое? Сейчас нам, наоборот, нужно было от него спрятаться, чтобы никто не смог нас найти.
Поэтому, когда мы остановились в Кирни, штат Небраска, пошли в туалет. Девушка вылила мне на волосы рыжую краску для волос из бутылочки, а я потом сделала ей точно так же. Но в туалете красить волосы было неудобно, поэтому совсем в рыжеволосую красавицу с фотографии на коробочке не превратилась. Осталась блондинкой с несколькими яркими прядями.
В кабинке девушка сняла рваные джинсы и свитер.
– Вот, – говорит она, пихая одежду в мои и без того переполненные руки. – Давай поменяемся.
Передала Каллу – вернее, Руби – в ее татуированные руки. На ладонях у девушки были нарисованы крылья бабочки, на одной левое, на другой правое. Если сложить руки вместе, выходила целая бабочка. Когда спросила, как она называется, девушка ответила:
– Светлый парусник.
В кабинке вокзального туалета, все стены которой были исписаны фразами вроде «Бенни любит Джейн» или «Рита лесбиянка», сняла штаны и спортивную куртку, которые принес Мэттью. Белую майку, обрызганную кровью Джозефа, оставила. Нельзя допустить, чтобы девушка это увидела. Потом переоделась в ее вещи – джинсы, свитер, пальто с капюшоном цвета зеленых оливок и кожаные ботинки с потертыми коричневыми шнурками. Когда вышла из кабинки, одной рукой она прижимала к груди ребенка, а в другой держала булавку.
– Это зачем? – спросила я.
Между тем девушка принялась вынимать из ушей многочисленные сережки – крылья ангела, кресты, алые губы.
– Больно будет совсем чуть-чуть, – вместо ответа проговорила она и передала мне Каллу. А потом проткнула мне ухо булавкой и вставила сережку в распухшую мочку. Потом еще одну, и еще. Я вскрикивала, непроизвольно сжимая Руби слишком крепко. Из-за этого та тоже раскричалась.
Пустые тюбики из-под краски для волос мы выбросили в мусорное ведро. Потом девушка подвела мне глаза тушью. Раньше ни разу не красилась – если не считать тех случаев, когда мама шутки ради размазывала мне по щекам розовые румяна. Посмотрела на себя в мутное зеркало – волосы с рыжими прядями, серьги, сильно подведенные глаза.
Это была не я, а какая-то совсем другая девушка.
– Как тебя зовут? – спросила моя новая знакомая, сунув тушь в карман зеленого пальто, которое раньше принадлежало ей, а теперь – мне. Вдруг девушка достала ножницы и принялась меня стричь. Я не возражала. Стояла неподвижно, наблюдая в зеркале, как она работает. Откровенно говоря, получалось криво.
– Знаешь, я ведь мечтала стать парикмахером, – ни с того ни с сего призналась девушка, стряхивая отстриженные волосы на пол туалета.
Смотрела на свое отражение, и в голову приходила одна мысль – хорошо, что не стала. Стрижка получилась на редкость неровная: с одной стороны волосы были заметно длиннее, обвислая челка закрывала глаза.
– Моя мама была парикмахером, – сказала я.
Интересно, что бы про всю эту историю сказала мама? Ей стало бы за меня стыдно? Или мама поняла бы, что я просто сделала то, что должна была? В конце концов, я всего лишь исполняла данное ей обещание – заботилась о Лили.
– Меня зовут Клэр, – запоздало ответила я.
– Клэр? – переспросила девушка. Я кивнула. – А фамилия как?
Свои рыжие волосы она перекрасила в светло-русые, а потом тоже принялась стричься, энергично щелкая ножницами. Пряди так и летели на грязный пол.
– Клэр Дэллоуэй.
Девушка все выкинула в мусор – ножницы, булавку, подобранные с пола волосы. Потом открыла свою сумку, и ее содержимое тоже вытряхнула в ведро: порванный журнал, удостоверение личности, полупустой пакетик «Скиттлс», мобильник. Но потом передумала и, сунув руку в черный пакет, которым было выстелено ведро, достала конфеты. Остальное осталось лежать в мусоре.
Подойдя к двери туалета, девушка замерла, взявшись за дверную ручку. С другой стороны кто-то принялся стучать – с силой, громко, нетерпеливо.
– Секунду подождите! – рявкнула она, а потом, обращаясь ко мне, произнесла: – А я Уиллоу, – потом прибавила: – Уиллоу Грир.
Сразу стало понятно: как только она отопрет дверь и выйдет из туалета, больше я ее не увижу.
– Ну ладно, встретимся в автобусе, – соврала она.
Держа Руби на бедре, я стояла и наблюдала, как Уиллоу Грир, превратившаяся в меня, скрывается за щитовой дверью с офанеренной обшивкой и невозмутимо шагает мимо очереди потерявших терпение женщин.
Когда вышла из туалета на заправке и заняла свое место, Уиллоу Грир в автобусе не оказалось.
Хайди
Малышка ни в какую не хочет брать бутылочку. Снова и снова пробую накормить Джулиэт, но ничего не получается. Дотрагиваюсь губами до ее лобика, но он прохладный. Температуры нет. Меняю подгузник, приношу соску, мажу кремом от опрелостей уже зажившую сыпь, но ничего не помогает. Дочка не успокаивается и все продолжает зарываться носиком в мое платье. И тут понимаю, что еще можно попробовать. Ответ до смешного прост. Малышке нужно то, что может дать только мать.
Сажусь в кресло-качалку и, заведя руку за спину, принимаюсь неловко расстегивать пуговицы, потом спускаю верх платья до пояса. Почему-то смутилась, хотя с чего вдруг? В конце концов, Джулиэт уже много раз видела маму голой. Вспоминаю те долгие ночи, когда укачивала ее в детской с нежно-розовыми стенами и постельным бельем из дамасского хлопка. Прикладывала мою Джулиэт к груди и кормила, пока не наестся. А потом веки у малышки постепенно тяжелели, опускались, и она засыпала. Так и сидели с дочкой одни, озаренные серебристым светом луны. Помню, иногда моя девочка сосала мамино молоко с такой жадностью, что даже начинала похрюкивать. А карие глазки, большие, как блюдца, смотрели на меня так, будто я – самый лучший, прекрасный и замечательный человек во всем мире. Во взгляде малышки читались любовь и обожание. Я была нужна и дорога ей.
Но, всматриваясь в личико малышки на моих руках, вижу, что у Джулиэт глаза не карие, а голубые. Ну и что? – говорю себе. Цвет глаз у маленьких детей меняется быстро, и ничего особенного в этом нет. Были карие – стали голубые. Однако что-то во взгляде малышки определенно изменилось. Должно быть, выражение.
Подношу Джулиэт к груди и с восхищением наблюдаю, как быстро она находит сосок и с какой готовностью берет в ротик. Ощущаю до боли знакомое покалывание. Прямо чувствую, как начинает вырабатываться успокаивающий, умиротворяющий гормон окситоцин, как и положено у кормящих матерей. Глажу Джулиэт по головке и шепчу:
– Ах ты моя хорошая.
Вспоминаю, как она кушает и как круглые карие глазки смотрели на меня с непередаваемым умилением и любовью. Дочке нужна я, и только я.
Но вместо нежности вижу только досаду, раздражение. Голубые глазки глядят недоверчиво, даже обиженно, будто я ее обманула и разыграла. Джулиэт разражается сердитым плачем. Пытаюсь взять дочку удобнее. Должно быть, она просто не сумела как следует ухватить сосок. Перекладываю Джулиэт из руки в руку, предлагаю обе груди по очереди, а когда и это не помогает, перехожу на диван. Ложусь на спину и кладу Джулиэт себе на грудь. Это называется биологическое кормление, самый естественный, природный метод. Способ подсказала консультант по грудному вскармливанию Энджела, к которой пришлось обратиться, когда Зои отказывалась брать грудь.
Решаю – если и этот метод не сработает, надо будет позвонить Энджеле и спросить совета. Она выезжает к пациентам на дом, не откажется и сейчас. Научит, как нужно держать Джулиэт, чтобы она кушала, и еще раз покажет, как делать специальный массаж груди, от которого увеличивается приток молока. Тогда все будет в порядке, и Джулиэт станет кушать хорошо, как раньше.
Вдруг из коридора доносятся громкие, торопливые шаги. Мысленно ругаю последними словами Дженнифер. Опять проскользнула вместе с кем-нибудь в здание, но на этот раз даже позвонить не соизволила. А это уже называется незаконным проникновением и смахивает на нападение, думаю я, пытаясь вспомнить, куда положила швейцарский армейский нож.
Лежу, раскинувшись на спине в спущенном до пояса черном креповом платье, а Джулиэт трепыхается у меня на груди, как рыбка, выброшенная на берег. Судя по выражению крошечного личика, вот-вот снова раскричится.
Добежать до спальни и спрятаться не успеваю. Через секунду после того, как Джулиэт издает душераздирающий вопль, деревянная дверь распахивается. На пороге стоит он и окидывает растерянным взглядом мой наряд и засохшие струйки макияжа на лице. Рот округляется, брови взлетают на лоб. Волосы растрепаны и торчат в разные стороны.
Сердце забилось быстро-быстро, голова закружилась. Джулиэт кричит мне в самое ухо и дергается так, что становится трудно ее удержать.
Нет, пришла не Дженнифер. Из командировки вернулся Крис.
Уиллоу
Мы с малышкой доезжаем на автобусе до Чикаго. Руби, ее зовут Руби, напоминаю себе, высаживаясь на вокзале и выходя на шумную городскую улице. Погода в тот день была холодная и ветреная. Ах да, Чикаго ведь называют «городом ветров», думаю я, вспоминая дни, проведенные с Мэттью в библиотеке Омахи. Я ведь тогда нарочно выискивала всякие факты про Чикаго.
В жизни не приходилось бывать в таком городе. Повсюду так и кишат толпы народу, на дорогах видимо-невидимо машин и автобусов, а многоэтажные здания взмывают вверх. Кажется, вот-вот дотянутся до облаков. Припоминаю, что такие дома называются небоскребами. Теперь понятно почему. Оборачиваюсь и вижу монументальное сооружение высотой в сотню этажей, утыканное антеннами. Должно быть, раза в два-три больше, чем самое крупное строение в Омахе.
Очень быстро соображаю, что идти мне некуда. Прохожие время от времени поглядывают на меня, но не с сочувствием, а скорее с раздражением или осуждением. А то и вовсе скользят равнодушными взглядами и сразу отворачиваются.
В первое время пряталась вместе с малышкой в темных переулках и сидела на мокром от дождя тротуаре, прислонившись спиной к покрытым плесенью кирпичным стенам или запертым, а то и заколоченным дверям. Рядом стояли вонючие мусорные баки, а случалось, совсем близко к нам пробегали крысы. Смотрела на металлические ступеньки пожарных лестниц и пыталась сообразить, что делать. Укрытие покинуть не решалась. Была уверена, что Пол и Лили Зигер идут по нашему следу. Иногда даже казалось, будто нас вот-вот настигнет Джозеф. Но потом, через день-два, сказала себе, что в Чикаго миллионы людей. Здесь мы с Руби легко затеряемся и никто нас не найдет. А что касается Джозефа, то он и вовсе убит, а значит, его можно больше не бояться.
Когда перестала беспокоиться из-за Зигеров и Джозефа, на смену пришли другие тревоги. Как раздобыть пропитание, где ночевать? Деньги, которые дал Мэттью, уже почти закончились. Днем на улице было промозгло, а ночью – еще холоднее. Да и ветры здесь дули такие, что едва с пути не сносили. Через день-два поняла, что придется искать еду в мусоре. Когда закрываются рестораны, объедки выбрасывают в ведро. Затаившись в переулке, чтобы никто не заметил, стояла и ждала. Молилась, чтобы малышка не заплакала. А потом ныряла в бак и искала, чем поживиться. Оставшиеся деньги на себя не тратила – приберегала для Руби, чтобы хватило на молочную смесь.
На улице жить было страшно. Боялась очень и очень многого, но сильнее всего опасалась, что с Руби может случиться что-то плохое. Не хотела причинить малышке вред. Я просто делала то, что должна была. Исполняла обещание, данное маме. Приходилось повторять себе эти слова много раз, когда малышка всю ночь вертелась, кряхтела и плакала, пока наконец не забывалась сном.
В Чикаго мне все нравилось – и огромные здания, и то, что меня там никто не знает, а значит, и не найдет. Но в самый большой восторг меня в «городе ветров» приводила железная дорога. Рельсы тянулись прямо над городскими улицами, а потом вдруг ныряли под землю. Даже решилась истратить кучу денег на проездной билет, чтобы мы с Руби могли кататься, сколько пожелаем. Садились всегда на станции линии «Л», на нее же и возвращались, чтобы не потеряться. Много раз повторила в уме: «Л», «Л», «Л», чтобы не перепутать с какой-нибудь другой буквой. Когда день был холодный или дождливый или нам с малышкой было нечем заняться, садились в поезд и ездили туда-сюда.
Скоро обнаружила, что на одной из станций коричневой линии есть библиотека. На карте было так и написано: «Библиотека». Сразу решила, что это знак.
Однажды прохладным, промозглым апрельским днем поднялась по ступенькам на платформу станции. Мы с малышкой уже провели в Чикаго неделю – может быть, две. Чтобы девочка не замерзла и не промокла, прикрыла ее пальто. Пока ждали поезда в окружении мужчин и женщин с огромными зонтиками, портфелями и сумками, другие пассажиры смотрели на нас, показывали пальцами, шептались. Говорили и про ребенка, и про меня. Отводила взгляд, делала вид, будто не замечаю, прикрывала лицо волосами, чтобы не видеть, как все они разглядывают меня, тычут пальцами.
Первый поезд оказался слишком сильно набитым. Толпы мне не нравились. Неприятно, когда тебя вплотную прижимают к незнакомым людям так, что чувствуешь аромат их духов или шампуня. А самое худшее, что они, в свою очередь, ощущали вонь моего давно не мытого тела и помоев из мусорных баков, возле которых мы с Руби спали.
Поэтому я сказала малышке, что мы будем ждать другой поезд. Стояла и наблюдала, как садятся остальные. Никто из них не обращал на нас ни малейшего внимания. Кроме… Тут я заметила ее – женщину, на секунду замершую возле входа в вагон. Единственную во всем Чикаго, кто надолго остановил на мне взгляд. Потом она села в поезд, но продолжала смотреть на нас в окно. Я, конечно, отвернулась и попыталась сделать равнодушное лицо, будто не заметила, как меня разглядывают.
В библиотеку поехали на следующем поезде коричневой линии. Это оказалось большое здание из красного кирпича в самом центре города. На зеленой крыше сидели статуи каких-то крылатых существ, казалось наблюдавших за мной. Но я их не испугалась.
Думала, никогда больше не увижу эту женщину. Но потом мы встретились снова.
Крис
Потеряв дар речи, застываю с открытым ртом. Ни слова не могу выговорить. Хайди лежит на диване. Раскинулась на спине с голой грудью. Черное платье, которого раньше не видел, болтается у пояса. Волосы были собраны в прическу, но теперь растрепались. Все лицо покрыто разводами от косметики. Жена никогда так ярко не красилась – темная тушь, темная помада. Ребенок визжит, заходясь в истерике. Напоминаю себе, что Хайди никогда не причинит вреда младенцу, жена ведь любит детей. Хотя сейчас я в этом не уверен.
Окидываю взглядом квартиру. Уиллоу нигде не видно. Дверь в мой кабинет – то есть в спальню Уиллоу… то есть в спальню Клэр – закрыта.
– Хайди, – осторожно интересуюсь я, – где Уиллоу?
На всякий случай говорю шепотом: вдруг Клэр Дэллоуэй прячется где-нибудь в углу с ножом? Да, наверняка все, что тут сейчас происходит, – дело рук этой девчонки. Однако не похоже, чтобы Хайди была привязана к дивану – не видно ни веревок, ни ремней, ни наручников. В горле пересохло, говорить могу с трудом. Кажется, язык распух в два раза. А в голове крутятся две картины – то полуобнаженная Кэссиди Надсен, то незнакомые зарезанные супруги на кровати.
– Хайди, – повторяю я.
И тут понимаю, в чем дело. Замечаю, как она прикладывает ребенка к груди. Моя жена никогда не причинит младенцу вреда, снова напоминаю я. Стою, будто прирос к месту, и пытаюсь разобраться, что здесь творилось, когда меня не было. И тут соображаю, в чем причина странного поведения Хайди. Как же раньше не догадался? Сердце замирает, дыхание перехватывает. Кидаюсь к жене, готовый выхватить малышку у нее из рук.
Но Хайди резко встает и крепко обхватывает девочку руками прежде, чем успеваю ее забрать. Вспоминаю родимое пятно на ноге у малышки. Хайди еще сказала, что «мы» должны серьезно подумать о том, чтобы удалить эту штуку. «Мы» – значит, она и я. Как будто речь идет о нашем ребенке. О нашей дочери.
Запоздало соображаю, что Хайди проявила к Уиллоу такой повышенный интерес и притащила их с младенцем в наш дом вовсе не потому, что была обеспокоена судьбой случайно встреченной на станции уличной девицы. Нет, Хайди интересовал именно ребенок. Перестаю беспокоиться из-за того, что Уиллоу – Клэр – вот-вот кинется на Хайди или на меня. Теперь опасаюсь, как бы жена не навредила девочке.
– Где Уиллоу? – повторяю я, замерев в футе-двух от нее и младенца. Хайди не отвечает. Снова спрашиваю: – Хайди, где Уиллоу?
Жена отвечает так тихо, что из-за детского плача почти невозможно разобрать слова. Приходится угадывать сказанное по губам.
– Ушла.
«Очнись, очнись, очнись», – мысленно умоляю жену. Может, она вчера выпила, и это лишь последствия похмелья? Не может же она всерьез…
– Ушла? – повторяю я, не столько для себя, сколько для Хайди, чтобы не утратила нить рассуждений. – Куда?
В голове проносятся десятки вариантов, один другого хуже.
Но Хайди молчит. Младенец вертится у нее на руках. Беру с подлокотника кресла одеяльце и протягиваю жене.
– Дай мне девочку, – прошу я.
Хайди мотает головой и испуганно пятится к окну, не заметив, что наступила на хвост одной из кошек.
Решаю предложить компромисс:
– Подержу Руби, а ты пока поправишь платье.
Неожиданно эти простые слова приводят Хайди в настоящую ярость. Добрые карие глаза неожиданно становятся свирепыми. Взгляд как у одержимой, лицо красное. И тут Хайди начинает, как безумная, выкрикивать какие-то бессвязные слова. Но стоит услышать «ребенок» и «Джулиэт», и все сразу становится на свои места. Хайди несколько раз повторила это имя – Джулиэт, Джулиэт, Джулиэт.
Жена обозлилась оттого, что я назвал девочку Руби. Хайди напоминает, что нашу дочь зовут Джулиэт. Вспоминаю присланную Мартином Миллером статью, думаю – нет, имя малышки не Джулиэт и не Руби… По-настоящему ее зовут Калла.
– Хайди, – начинаю я, – эта девочка…
– Джулиэт, – резко рявкает она, потом повышает голос: – Джулиэт!
Крики жены еще больше напугали ребенка, и девочка расплакалась сильнее. Почему-то имя Джулиэт кажется смутно знакомым, но не могу припомнить почему. С ним связано что-то давнее, полузабытое… Ах да. Хайди тогда лежала на больничной койке и горько рыдала. А потом, уже дома, изо всех сил сдерживая слезы, смывала контрацептивы в унитаз.
Теперь Хайди принялась обзывать меня. Говорит, что я лжец, убийца, вор. Знаю, что она вовсе так не думает и выкрикивает все это сгоряча. Но от злости Хайди слишком сильно сдавливает младенца, и Калла принимается выть, будто волк на луну. Хайди тоже плачет – слезы льются по щекам целыми потоками.
– Ты ошибаешься, – как можно мягче произношу я. Выходит, моя жена вообразила, будто эта девочка – тот самый ребенок, которого мы потеряли одиннадцать лет назад из-за ее болезни. Конечно, можно начать объяснять, почему этого никак не может быть, – Хайди сделали аборт, и даже если девочка была бы до сих пор жива, ей уже исполнилось бы одиннадцать лет, – но понимаю, что с этой женщиной разговаривать бесполезно. Не знаю, кто она такая, но не моя жена точно.
Делаю шаг вперед и протягиваю руки к ребенку. Хайди отпрянула. Мог бы просто отнять у нее младенца, но не решаюсь. Пугает ее безумный взгляд. Кто знает, на что она сейчас способна? Вдруг сделает ребенку что-то плохое? Она ведь сама не отдает себе отчета, что творит.
– Давай подержу дочку, – предлагаю я, чтобы задобрить и успокоить Хайди. – Хочу взять нашу Джулиэт на руки.
Теперь отчаянно жалею, что, когда жена потеряла ребенка, не утешал ее больше. Надо было послушаться врача и обратиться к психологу. И не только. Но Хайди не захотела. Сказала, все с ней в порядке. Заявила, что все понимает – это медицинское решение, и из-за опухоли беременность придется прервать. Однако на что не обратил внимание, так это на грусть и тоску в глазах жены, на отчаянное желание оставить ребенка. Тогда казалось, что со временем Хайди успокоится и думать забудет о пополнении в семействе.
Некоторое время жена молча смотрит на меня. Почти уверен, что сумею уговорить Хайди отдать девочку мне, если смогу убедить жену, что это необходимо сделать ради блага ребенка.
– Джулиэт пора кормить, – нежным, ласковым голосом произношу я. – Хайди, наша дочка проголодалась. Надо дать ей бутылочку.
Сам слышу, как умоляюще и отчаянно звучит мой голос. Но Хайди не поддается. Жена видит меня насквозь. Еще бы, кто знает меня лучше Хайди? Она проходит на кухню и принимается рыться в ящиках. Подхожу и беру Хайди за локоть, но она лишь с неожиданной силой отталкивает меня в сторону. Теряю равновесие и едва не падаю. А когда выпрямляюсь, вижу, что Хайди стоит посреди кухни со швейцарским армейским ножом в руке. Лезвие угрожающе направлено на меня.
Я должен был это предвидеть. Нельзя было допускать, чтобы дело зашло настолько далеко. Прокручиваю в уме последние несколько дней, пытаясь вспомнить, что упустил. Хайди явно требовалась помощь. Она буквально звала, кричала, а я не услышал. У нее какой-то срыв. Почему я не распознал сигналы раньше?
– Лучше отойди, Крис, – приказывает она.
Говорю себе, что у Хайди духу не хватит пырнуть меня ножом. Или хватит?.. Не знаю, а рисковать не хочу.
– Хайди, – шепотом произношу я.
Но жена снова выставляет вперед нож. Бросаю взгляд на часы. Скоро из школы вернется Зои. Нельзя, чтобы дочка это увидела. В кои-то веки прежде всего беспокоюсь не о себе, а о них – о Хайди, Зои, Калле.
Резко бросаюсь вперед и выбиваю из руки жены нож. Оружие падает на паркетный пол, прочертив по дубовой доске некрасивую царапину. Теперь она всегда будет напоминанием об этом дне. Оба кидаемся к ножу. Ребенок бьется на руках у Хайди, будто стараясь вырваться. Приступ ярости у жены проходит – теперь она разражается испуганным, усталым плачем. Бросаюсь на пол и на животе скольжу к ножу, вытянув вперед руки. Будто спортсмен, пытающийся взять сложный мяч.
Прежде чем вскочить на ноги, сжимая оружие в кулаке, Хайди несется по узкому коридору и вместе с младенцем запирается в спальне. Из-за двери слышно, как Хайди плачет. Бормочет что-то неразборчивое про младенцев, Джулиэт, Кэссиди и нашего соседа по этажу Грэма. Да, точно – можно позвать на помощь Грэма. Но бежать в соседнюю квартиру нет времени. Пытаюсь уговорить Хайди выйти.
– Пожалуйста, открой дверь. Давай поговорим. Просто поговорим, и все.
Но Хайди и слушать ничего не желает. А ведь мы живем на пятом этаже. Что, если жена откроет окно?.. Не медля ни секунды, достаю телефон и звоню в службу 911. Когда диспетчер спрашивает, что случилось, торопливо выпаливаю что-то бессвязное:
– Моя жена… боюсь, что она… нужна помощь.
Не могу объяснить женщине, подошедшей к телефону, чего именно опасаюсь. Откровенно говоря, и сам не знаю, на что может быть способна Хайди. Попытается покончить с собой? Убить ребенка? Полчаса назад уверенно заявил бы, что этого никак не может быть. А сейчас… не знаю.
– Просто приезжайте, и как можно скорее, – велю я, диктуя адрес.
А потом несусь к двери спальни. Если понадобится, просто вышибу и ворвусь внутрь.
Хайди
Не понимаю, что происходит. У меня берут анализ крови. Двое мужчин в масках и шапочках с трудом укладывают меня на белую каталку. На руках у них резиновые перчатки. Эти двое меня удерживают, а третий втыкает в руку иглу и берет кровь. Крадет ее. Вырываюсь и кричу, а Крис как ни в чем не бывало стоит рядом. Пытаюсь сбежать, но мужчины придавливают к каталке так, что не могу пошевельнуться. Это же какие-то страшные пришельцы, как в фильмах – лысые головы, круглые матовые глаза, ни носов, ни ртов. Ко мне подходят с какими-то страшными инструментами. Зову на помощь, но муж не собирается меня спасать. Крис просто стоит и молча наблюдает со стороны.
Потом меня сажают за раскладной стол, вокруг которого стоят три мягких черных кресла. На одной стене висят часы, в другой проделано окно. Через такие за пациентами в больницах можно наблюдать из коридора, но самим больным ничего не видно. Значит, я в какой-то клинике, и эти люди – не пришельцы. Случилось что-то другое.
– Моя дочь, – вспоминаю я. – Принесите мою дочь, – повторяю я.
Но мне отвечают только одно – если буду умницей, скоро увижусь с дочерью. Если буду умницей… Когда это было, до анализа крови или после? Не помню. Приходит пожилая женщина с длинными седыми волосами. Мою Джулиэт кому-то передают и уносят.
– Сделай же что-нибудь! – умоляю Криса.
Но муж не слушает. Даже в глаза мне смотреть избегает. Лишь наблюдает, как меня уводят от него прочь и закрывают дверь. Начинаю чувствовать себя будто невидимка. А что, если я уже умерла и превратилась в призрак? Врачи только притворялись, что берут кровь на анализ, а на самом деле впрыснули яд, отраву. Например, хлорид калия. Но нет, не может быть – я по-прежнему сижу в кресле, и женщина с серебристыми волосами разговаривает со мной как ни в чем не бывало. Задает вопросы про какую-то Клэр Дэллоуэй, показывает фотографии двух окровавленных трупов, лежащих на кровати, – мужчины и женщины. Вспоминаю брызги крови на майке Уиллоу и начинаю кричать.
– Где ребенок? – ору я, тщетно пытаясь высвободиться.
Путы впиваются в руки. Едва могу пошевельнуться. Когда меня усаживали в кресло, сковали руки наручниками. Каждый раз, когда порываюсь встать, охранник хватает меня за плечо и толкает обратно в кресло.
– Куда забрали Джулиэт? – умоляющим тоном спрашиваю я.
Но отвечать никто не собирается. И вдруг слышу, как плачет моя малышка. Окидываю взглядом комнату со звуконепроницаемыми стенами. Где же моя Джулиэт? Дочка где-то здесь.
– Не волнуйтесь, она в надежных руках, – отвечает женщина. Но где именно, не говорит. Заглядываю под стол – вдруг Джулиэт прячут там?
– Миссис Вуд. – Женщина нетерпеливо постукивает по столу, привлекая мое внимание. Голос звучит раздраженно. Рядом с ней лежат фломастеры и диктофон. – Миссис Вуд, что вы делаете?
Но под столом Джулиэт нет. Вижу только плитку, заляпанную грязью и кофейными пятнами.
Смотрю женщине в глаза.
– Мне нужно к моей малышке, – произношу я.
Повисает пауза. Потом женщина представляется. Говорит, что ее зовут Луиза Флорес, и она помощник главного прокурора. Взгляд серых глаз этой женщины суров и мрачен.
– Вы, должно быть, ошиблись, миссис Вуд. Ребенок, с которым вас привезли, не ваша дочь, – отвечает она. – Эту девочку зовут Калла Зигер.
Впадаю в дикую ярость. С трудом вскакиваю со стула и принимаюсь кричать, что это она ошиблась, и Джулиэт – мой ребенок. Мой! Охранник торопливо усаживает меня обратно.
– Сядьте! – рявкает он.
Этот человек напоминает мне свирепого Канарского дога – короткая щетина, злобный оскал, утробный рык. С таким лучше не связываться. Кажется, что с клыков его капает слюна, а глаза высматривают новую жертву. Охранник так вцепился мне в плечи, что почти вдавливает в стул. А потом вцепляется клыками, и по руке течет кровь, но, кроме меня, никто ее не видит.
Когда он меня отпускает, снова вскакиваю, но, стоит кинуться бежать, как сразу врезаюсь в стену.
– Принесите мою дочь! – выкрикиваю сотню, тысячу раз.
А потом бессильно сползаю на пол и разражаюсь рыданиями.
Тогда женщина встает, собираясь уходить. Да, хорошо ей, а меня вот не отпускают.
– Ну, тут все понятно, – произносит она, не глядя мне в глаза. Женщина говорит что-то про психиатра, консультацию, бред и болезнь, потом покидает комнату.
А потом было все это – кровь, каталка, люди в масках и перчатках. Пришельцы. В ушах звенит. В меня тычут какими-то иголками. Или это случилось до, а не после прихода седоволосой женщины? Понятия не имею. Почему Крис меня не защитил, когда у меня брали кровь? Или на самом деле меня отравили, и я теперь призрак?
Лицо мужа мокро от слез, а ведь Крис никогда не плачет. Стоит, застыв, точно статуя, и не двигается с места. Никогда ему этого не прощу. Вдруг ощущаю огромную усталость. Веки наливаются тяжестью. Прежде чем погрузиться в сон, гадаю, что эти люди еще у меня заберут. Хочу позвать Криса на помощь, но не в силах выговорить ни слова.
Просыпаюсь на кровати в комнате, окно которой выходит на зеленый парк. У окна, повернувшись ко мне спиной, стоит женщина в широких штанах и рубашке с пуговицами и разглядывает пейзаж. Стены оклеены обоями с узором-елочкой, зеленым с бежевым. Полы здесь паркетные.
Пытаюсь пошевельнуться и обнаруживаю, что привязана к кровати. Услышав позвякивание металла, женщина поворачивается ко мне. Зеленые глаза смотрят по-доброму, губы улыбаются.
– Хайди, – произносит она так нежно и ласково, будто мы подруги. Но я не знакома с этой женщиной. В первый раз вижу. Однако улыбка ее сразу располагает к себе. Глядя на эту женщину, хочется поверить, что инопланетяне, седовласая особа, задававшая вопросы, яд и Канарский дог были просто сном. Смотрю на свои руки и не вижу ни глубоких следов от укуса, ни крови, ни бинтов. Обвожу взглядом палату, осматриваю все уголки, но Джулиэт нигде не видно.
– Куда забрали мою дочь? – спрашиваю слабым, прерывающимся голосом. Рот будто набит ватой. Кричать нет сил. Тщетно пытаюсь высвободиться, но ничего не выходит.
– Это для вашей же безопасности, – говорит женщина и, подойдя поближе, садится на стул рядом со мной. Потом пододвигает его к кровати. – Вы в хороших руках, Хайди. Ничего не бойтесь. С ребенком все в порядке.
Вдруг начинаю плакать – то ли от тревоги и усталости, то ли от звучащего в ее голосе сострадания. Женщина достает из коробки несколько бумажных салфеток и вытирает мне лицо – сама я этого сделать не могу. Сначала отпрянула от этих чужих прикосновений, но потом расслабилась. Приятно ощущать у себя на лице ее теплые руки.
Женщина называет свою фамилию, которую сразу же забываю. Отмечаю только, что перед ней она сказала слово «доктор». Однако на врача она совсем не похожа – ни халата, ни стетоскопа. Да и голова не лысая, как у тех мужчин, которые вчера брали у меня кровь.
– Мы просто хотим вам помочь, вот и все, – говорит женщина все таким же мягким, доброжелательным голосом, вытирая с моих щек слезы. От ее рук пахнет медом и кориандром. Эти запахи сразу навевают воспоминания, как мама готовила для нас с братом и папы. Вспоминаю, как мы вчетвером, всей семьей, сидели за столом. Думаю об умершем папе. Вот гроб опускают в землю, вот я стою с лавандовыми розами в руках. Мама, как всегда стойкая и сильная, застыла возле меня, готовая подбодрить, утешить. Или все было наоборот, и это я изо всех сил сохраняла самообладание, готовясь подбодрить еле-еле державшую себя в руках маму? По привычке тянусь за папиным обручальным кольцом, хочу обхватить знакомую золотую цепочку, но рука привязана.
– Где мой ребенок? – снова спрашиваю я, но доктор лишь отвечает, что с девочкой все хорошо. Потом ни с того ни с сего принимается рассказывать про своих детей. У нее два сына и дочка по имени Мэгги. Малышке всего три месяца. Только тут замечаю, что, хотя фигура у женщина стройная, легкая полнота все еще дает о себе знать. Стоило ей упомянуть, что она тоже мать, и сразу захотелось поделиться своими мыслями и секретами.
Руби-Джулиэт, Руби-Джулиэт… Ваза-профили, ваза-профили.
Разговариваем про то, что знакомо любой молодой маме – бессонные ночи и усталость. Рассказываю, что Джулиэт ни разу не спала всю ночь напролет. Хотя мысли в голове какие-то мутные, запутанные. Слова срываются с языка с трудом. Говорю, что девочка болела, у нее была инфекция мочевыводящих путей, и из-за этого успокоить малышку было еще труднее. Добрая женщина кивает и соглашается. Говорит, что ее дочка Мэгги появилась на свет с врожденным пороком сердца. Всего через несколько дней после родов пришлось делать малютке операцию. Сразу видно, что эта врач меня понимает. Во всем.
Потом она вдруг спрашивает про Уиллоу, но не так, как та, другая женщина, а деликатнее, мягче. Интересуется, когда девочка ушла и почему. Рассказываю всю историю. Объясняю про папино обручальное кольцо на золотой цепочке, которого не оказалось на крючке в виде птички, хотя точно помнила, что повесила его именно туда.
Пытаюсь вывернуться и поглядеть на собственную грудь, чтобы убедиться, что кольца нет. Женщина заглядывает в ворот моей больничной рубашки и говорит, что его действительно нет. И вдруг в голове проносится смутное воспоминание, будто сцена из давно виденного фильма. Я стою возле кровати Зои и протягиваю на ладони две овальные белые таблетки. Потом сажусь и смотрю, как она делает большой глоток воды и проглатывает их. Потом возвращаюсь в ванную, чтобы поставить пузырек обратно в шкафчик, где держим лекарства. Смотрю на упаковку и читаю название – «Амбиэн». Вот оно, рядом с обезболивающими и антигистаминными. Потом быстро закрываю дверцу.
– Почему вы не заявили в полицию? – спрашивает женщина, дослушав мой рассказ.
Готовая расплакаться, пожимаю плечами и говорю, что не знаю. Понятия не имею. Хотя на самом деле прекрасно понимаю, почему не стала обращаться в полицию. Вот я стою в спальне, наблюдая за крепко уснувшей после принятия снотворного дочерью. Теперь она точно крепко проспит всю ночь, и ничто ее не разбудит. Потом возвращаюсь в ванную, собираюсь повесить цепочку на крючок, но замираю и вместо этого сжимаю украшение в кулаке. Снова выхожу в спальню, целую Зои в лоб и отправляюсь в гостиную. Уиллоу сидит на стуле, моя Джулиэт крепко спит на полу. Смутно припоминаю, как убирала тарелки со стола и выбрасывала остывшие спагетти в пластиковый пакет для мусора. Будто со стороны наблюдаю, как золотая цепочка с кольцом словно сама собой выскальзывает из пальцев и падает прямо в спагетти и соус. Потом выношу пакет на лестничную площадку и выбрасываю в мусоропровод.
Качаю головой. Нет, я просто не могла так поступить. Папино кольцо украла Уиллоу. Эта девушка убийца, воровка.
– Уиллоу не сказала, куда пойдет? – спрашивает женщина, наблюдая, как я качаю головой. – Не догадываетесь, где она может быть?
Еще раз повторяю себе – кольцо стащила Уиллоу. Вспоминаю, как сидела на краю ванны, включив воду, чтобы Зои не услышала, как я плачу. Дочке ведь надо было выспаться – у нее была не то простуда, не то аллергия. Потом я подняла голову и увидела пустой крючок. Пыталась дозвониться до Криса и спросить совета, но он не брал трубку. Еще бы, они с Кэссиди Надсен были слишком заняты, чтобы отвлекаться на пустяки вроде пропавших колец.
Я совсем запуталась. Мои собственные выдумки и фантазии перепутались с тем, что происходило на самом деле. Отвечаю врачу, что представления не имею, где Уиллоу. Слова вырываются резко, раздраженно. До чего же хочется, чтобы пришел папа, погладил меня по головке и сказал, что все будет хорошо!
Воспоминания нахлынули стремительным потоком, будто в голове прорвало дамбу – Уиллоу, Руби, Зои, Джулиэт. Кровь, тела, младенцы, нерожденные зародыши…
Эта добрая женщина, имени которой не знаю, а фамилии не помню, гладит меня по волосам, совсем как папа. И даже сказала, что все будет в порядке! Едва удерживаюсь, чтобы не назвать ее папой, но вовремя прикусываю язык. Представляю, как она на меня посмотрит.
– Не волнуйтесь, мы с вами во всем разберемся, и дела пойдут на лад, – обещает женщина.
Слова звучат так приятно и успокаивающе, что глаза закрываются сами собой, и я погружаюсь в сон.
Когда приходит Крис, на улице уже темно. Небо за окном темное.
– Это ты их вызвал, – произношу дрожащим голосом, обвиняя во всем случившемся мужа. Это он виноват, что у меня забрали Джулиэт. – Ты позвонил в полицию! – вскрикиваю я и начинаю ругаться на чем свет стоит, пытаясь встать с кровати и броситься на него. Но, увы, путы держат крепко.
– Обязательно держать ее вот так, связанной? – спрашивает Крис у только что вошедшей медсестры. Та принимается возиться с пристегнутыми ко мне трубочками и иголочками. Теми самыми, которые воткнули пришельцы. – Может, освободите?
Но медсестра лишь сухо отвечает:
– Это для ее же безопасности.
Подходит к Крису и что-то шепчет ему на ухо. Про какую-то кирпичную стену, в которую я врезалась с разбегу. Отсюда и фиолетовый синяк на лбу.
– Она сейчас беспокойная, – в полный голос говорит медсестра так, будто меня в палате нет. – Скоро будем давать лекарство.
Интересно, какое? Может, опять сделают укол? Или принесут овальные таблетки вроде тех, что я дала Зои? Нет, говорю себе, дочка приняла только антигистаминное и обезболивающее. Никакого амбиэна. Разве я похожа на мать, которая подсунет собственному ребенку снотворное?
Хотя кто знает?..
– Все из-за тебя, – тихо плачу я, обращаясь к Крису.
Тот лишь вскидывает руки, будто сдаваясь. На усталом лице недоумение. Обычно аккуратно причесанные темные волосы растрепаны, глаза затуманены от изнеможения, обаятельной улыбки нет и следа. Сразу видно, что муж встревожен. Замечаю в его взгляде еще какое-то чувство, настроение, но не могу понять какое.
Крис обожает спихивать свою вину на кого-то другого. Сейчас начнет оправдываться. Скажет, что это я заперлась с ребенком в спальне, а он тут вообще ни при чем. Будет говорить, что боялся, как бы я не навредила младенцу. А я в ответ рассмеюсь. Цинично, язвительно. Хотя оба мы прекрасно знаем, что, когда Крис выломал дверь, я уже стояла на пожарной лестнице. Но, когда приехала полиция, об этом им Крис рассказывать не стал.
Муж садится на край кровати и берет меня за руку. Чувствую себя так, будто тону в глубоком океане, подхваченная бурным течением. Волны нахлестывают на лицо, а я пытаюсь сделать вдох, позвать на помощь, сделать хоть что-нибудь. Но горло сдавило. Чувствую, будто легкие до краев наполнились соленой водой.
– Ничего, Хайди, мы справимся. Вместе мы все преодолеем, – говорит Крис, гладя меня по руке и не замечая, как я задыхаюсь. Тону в океане, а Крис и Зои стоят на берегу и смотрят.
Перед тем как выйти из палаты, медсестра говорит Крису:
– Всего пять минут, а потом ей пора отдыхать.
Дверь закрывается, и мы с мужем остаемся наедине. Из коридора доносится приглушенный голос медсестры. Снова начинаю тонуть в бурных волнах. И тут Крис ныряет за мной под воду, подплывает все ближе и ближе…
– Ты нужна Зои, – произносит он, а потом, после небольшой паузы, прибавляет: – Ты нужна мне.
Крис протягивает желанную руку помощи. Вот он, тот плот, за край которого я ухватилась в отчаянном стремлении выплыть.
Уиллоу
Полиция задержала меня быстро. Да и немудрено – я стояла на Мичиган-авеню, во все глаза пялясь на витрину магазина «Прада». Застыла, будто завороженная, не в силах сойти с места. Глядя в старинную сверкающую витрину, представляла маму в роскошных платьях, выставленных за стеклом. На манекенах они выглядели очень красиво. Мама пришла бы в восторг!
Некоторое время меня подержали в центре для несовершеннолетних, но скоро отпустили. И снова я оказалась девочкой, которая никому не нужна. Семнадцатый день рождения отметила в семейном детском доме, находящемся между Омахой и Линкольном. Иногда мы ездили на реку Платт, вода в которой почти всегда была коричневой от грязи, или ходили в лесные походы. Всего в доме жили двенадцать девочек, а присматривала за нами семейная пара. Обращались мы к ним просто – Нэн и Джо. У всех нас были хозяйственные обязанности, которые исполняли по очереди, согласно графику дежурств. То делали уборку, то стирали. Каждый вечер Нэн готовила для нас ужин, и мы все вместе садились за большой стол, будто одна разношерстная семья. Этот семейный дом, в общем-то, не так уж сильно отличался от приюта, куда нас с Лили отправили после гибели родителей, но на этот раз отличие все же было, и очень большое – я радовалась, что туда попала.
Время от времени ко мне приезжали разные люди – например, мисс Эмбер Адлер или приятная женщина по имени Кэти, которая все спрашивала про то, что Джозеф со мной делал, а потом велела повторять «я ни в чем не виновата». Кэти говорила, что со временем я в это поверю и пойму, что Джозеф обращался со мной совершенно неприемлемым образом. И в том, что Лили забрали Зигеры, я тоже не виновата. Мама на меня не сердится. Наоборот, однажды, пристально глядя на меня изумрудно-зелеными глазами, Кэти сказала:
– Мама бы тобой гордилась.
И все же иногда снилось, что ко мне в спальню вот-вот зайдет Джозеф. Слышала скрип половиц под его тяжелыми шагами, звук открывающейся двери, раздающееся над самым ухом пыхтение и сопение. Потные мозолистые руки задирали на мне одежду, а губы шептали пугающие слова, от которых сразу замирала: «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». Просыпалась посреди ночи вся в поту и обводила лихорадочным взглядом комнату, высматривая Джозефа. Не ленилась даже заглядывать в шкаф и под кровать. Но его нигде не было.
Стоило кому-то встать в туалет, сразу в голове проносилась мысль: сейчас на меня взгромоздится всей тушей Джозеф. Далеко не сразу вспоминала, что он убит. Эти слова тоже повторяю по сто раз на дню: «Джозеф убит», «Джозеф убит». Надеюсь, совет Кэти сработает, и я наконец-то смогу в них поверить.
На мой день рождения Нэн испекла шоколадные капкейки с глазурью, совсем как мама. За несколько дней до праздника из Форт-Коллинз приехали Пол и Лили Зигер, да еще привезли с собой Каллу и Роз. Теперь мне было запрещено приближаться к Калле, а тем более притрагиваться к ней, поэтому Пол с малышкой остались ждать Лили-старшую и Лили-младшую – Роз – на лужайке перед домом. Но в окно их было видно. Сразу обратила внимание, как выросла Калла. Девочка уже начала ходить. Время от времени Пол пытался подхватить ее на руки, но Калла уворачивалась. Ей ведь уже было больше года, а в этом возрасте дети на руках сидеть не хотят. Некоторое время наблюдала, как она, покачиваясь, гуляет по лужайке. Несколько раз плюхнулась на четвереньки, но Пол сразу ее подхватывал, стирал грязь с коленок, проверял, не ушиблась ли. И тут я заметила то, чего не понимала раньше: Пол хороший отец.
Лили-старшая сидела напротив меня в гостиной и все повторяла:
– Если б я только знала…
Голос у нее дрожал, а на красивые глаза навернулись слезы.
– Мы ведь читали твои письма, – прибавила она. – Думали, с Абрахамсонами ты счастлива.
Миссис Вуд отчаянно мечтала о детях. Калле – Руби – с ней было гораздо лучше. В отличие от меня она заботилась о девочке как следует. В этом я была уверена на все сто процентов. А еще понимала, что мое присутствие в доме сильно осложняет жизнь мистеру и миссис Вуд. Все время слышала, как мистер Вуд пугал миссис Вуд арестом, полицией и тюрьмой. Я, конечно, не хотела, чтобы у них из-за меня были проблемы, ведь миссис Вуд была очень добра ко мне.
И кольцо ее отца я не брала.
В Омахе полицейские обнаружили отпечатки пальцев на ноже и на дверной ручке. Конечно же оказалось, что они не мои. Поэтому все мое вранье не имело значения – они и так разобрались, что произошло.
Интересно, сообразил ли Мэттью, что оставил следы? А может, он сделал это специально, чтобы я не могла взять на себя его вину?
Что касается Зигеров, обвинение в похищении ребенка они против меня выдвигать не стали, хоть я и считала, что они просто обязаны это сделать. Хотела ответить за свой поступок и понести заслуженное наказание. Но Зигеры рассудили, что мне и без того изрядно досталось: сначала погибли родители, а потом столько лет промучилась в одном доме с Джозефом. Но Зигеры сказали, что теперь я не имею права видеться с Каллой, а смотреть на нее могу только издалека – вот как сейчас, из окна гостиной. С Лили позволили встречаться два раза в год. Всего два дня из трехсот шестидесяти пяти! Да и то общаться нам разрешалось только в присутствии взрослых. Вот почему во время нашей встречи Лили-старшая из комнаты не выходила. Иногда в гостиную заглядывали мисс Эмбер Адлер, Нэн или Джо. Думали – вдруг схвачу сестренку за руку и кинусь наутек? Это было что-то вроде наказания.
Регулярные встречи с Кэти тоже считались чем-то наподобие наказания, но, если честно, мне нравилось с ней общаться. Так что наказание получилось довольно приятным.
В один прекрасный день Луиза Флорес вдруг приехала в центр содержания несовершеннолетних и объявила, что я могу быть свободна. Не в буквальном смысле, конечно, идти куда захочу все же не могла. Я ведь несовершеннолетняя, пояснила Луиза Флорес. А значит, меня обязано опекать государство. Тут она с самодовольным видом улыбнулась, обнажая лошадиные зубы. Сразу было видно – ее моя несвобода только радует.
Тогда-то мисс Эмбер Адлер усадила меня в свою раздолбанную машину рядом с огромной сумкой «Найк», отвезла в семейный детский дом и помогла устроиться в большой синей спальне, где, кроме меня, жили еще три девочки.
– Почему ты мне ничего не сказала, Клэр? – сокрушалась социальная работница. Как и у Лили-старшей, голос у нее дрогнул, а глаза стали грустными. Мисс Эмбер Адлер попросила у меня прощения, будто и впрямь была в чем-то виновата. Сказала, что нужно было пару раз нагрянуть без предупреждения или лично сходить в школу, в которой я якобы учусь. Тогда мисс Эмбер Адлер узнала бы, что на самом деле ни в какую школу я не хожу. – Но Джозеф… – вздохнула она и выдержала долгую паузу. – Я думала…
Эту фразу социальная работница тоже не закончила, но я и так знала, что она хочет сказать. Мисс Эмбер Адлер думала, что Джозеф хороший человек. Когда они с Мириам приехали меня забирать, она сказала, что это огромная удача и счастье. Скорее, неудача и несчастье.
Мэттью так и не нашли. Конечно, полицейские установили, что отпечатки пальцев на ноже и дверной ручке не мои, но сравнить их было не с чем – ведь до этого у Мэттью не было проблем с законом. Мне задавали вопросы о нем, много вопросов. Но я понятия не имела, где он может быть. И даже если бы знала, не сказала бы.
Достаточно было посмотреть на Пола и Лили с моей сестренкой, и сразу становилось понятно, что они настоящая семья и очень любят друг друга. И Каллу моя Лили тоже любила. А меня теперь едва узнавала. Сестренка обнимала меня только потому, что велела миссис Зигер, а в остальное время держалась в стороне, глядя точно на чужую. Впрочем, для нее я и была чужой. По глазам было видно – Лили меня припоминает, но очень смутно. Когда нас разлучили, мне было восемь. Тогда я была счастливой, беззаботной, улыбчивой.
О том, что случилось у Вудов, мне рассказала Луиза Флорес. Оказалось, у миссис Вуд было какое-то психическое расстройство.
– Удивительная вещь – бред, – говорила она скорее себе, чем мне. Старуха сидела за столом, складывая бумаги и папки и наверняка радуясь, что ее работа закончена. Наверняка у нее тоже были списки дел, как и у мисс Эмбер Адлер. – Человек ведет себя совершенно естественно. Если не знаешь, в чем дело, и не подумаешь.
Луиза Флорес попыталась объяснить, что конкретно произошло с миссис Вуд. Оказалось, у нее было посттравматическое что-то там. Проблемы у миссис Вуд начались давно, с тех пор как умер ее отец. Это для нее было большое потрясение, а потом она вдобавок заболела раком, когда была беременна, и от ребенка пришлось избавиться.
Больше у миссис Вуд не могло быть детей, а она всегда мечтала о большой семье. Когда Луиза Флорес все это рассказала, мне сразу стало очень грустно, потому что миссис Вуд была очень добра ко мне. Из-за кольца я на нее зла не держу. Миссис Вуд хорошая женщина, просто немножко запуталась, вот и все.
Время от времени сюда, в семейный детский дом, приходят записки без подписи и обратного адреса. Просто любопытные факты, записанные на обрывках бумаги:
Ты знала, что нельзя чихнуть с открытыми глазами?
Ты знала, что у верблюдов три века?
Ты знала, что у улитки двадцать пять тысяч зубов?
Ты знала, что, когда морские выдры спят, они держатся за лапки, чтобы не расплыться в разные стороны и никогда не потерять друг друга?
Примечания
1
Приведенная цитата не из книги Люси Мод Монтгомери «Аня из Зеленых мезонинов» (1908), а из одноименного сериала 1985 года. (Здесь и далее примеч. пер.)
(обратно)2
Холли Голайтли – главная героиня фильма «Завтрак у Тиффани» (1961), роль которой исполнила Одри Хепбёрн.
(обратно)3
Синдром тряски младенца – комплекс симптомов, наблюдающийся из-за того, что родители слишком сильно укачивают ребенка, встряхивая его, что может привести к разрыву мелких кровеносных сосудов, проходящих через оболочки мозга.
(обратно)4
В переводе с английского имя Уиллоу (Willow) значит «ива».
(обратно)5
Цитата из книги «Аня из Зеленых мезонинов» (перевод М. Батищевой).
(обратно)6
Псалтирь, псалом 56, стих 4.
(обратно)7
J2LYK – «Just То Let You Know» – чтобы вы (ты) знал(и).
(обратно)8
Лиззи Борден (1860–1927) – жительница штата Массачусетс, США, в 1892 году обвиненная в убийстве отца и мачехи. Была оправдана, однако убийство осталось нераскрытым, и до сих пор существуют подозрения, что преступница именно она, поскольку существует много доказательств, указывающих на ее виновность. Имя Лиззи Борден стало в США нарицательным.
(обратно)9
Школа Монтессори – школа, преподавание в которой ведется по системе Монтессори, разработанной в первой половине XX века итальянским педагогом Марией Монтессори. Основными принципами являются самостоятельность ребенка, свобода в установленных границах, естественное развитие.
(обратно)10
Сирс-Тауэр – башня-небоскреб, второе по высоте здание в Соединенных Штатах (443 метра, 110 этажей). В 2009 году была переименована в Уиллис-Тауэр.
(обратно)


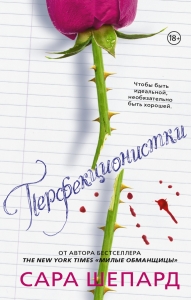

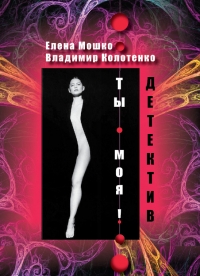







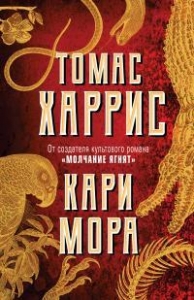
Комментарии к книге «Моя малышка», Мэри Кубика
Всего 0 комментариев