Ной Хоули Перед падением
На взлетно-посадочной полосе небольшого аэродрома на Мартас-Вайнъярд стоит частный самолет с выпущенным трапом. Это девятиместный «Лир-45-Экс-Эр», изготовленный в 2001 году в городе Уичито, штат Канзас. Кому принадлежит самолет, трудно сказать определенно. Зарегистрирован он на голландскую холдинговую компанию с почтовым адресом на Каймановых островах, однако логотип на фюзеляже свидетельствует о том, что машина летает под флагом американской авиакомпании «Галл-Уинг эйр». Пилот, Джеймс Мелоди, британец. Второй пилот, Чарли Буш, родом из Одессы, штат Техас. Стюардесса, Эмма Лайтнер, родилась в Мангейме, Германия. Ее отец — тогда лейтенант американских военно-воздушных сил — женился на некой юной особе, когда той не было еще и двадцати. Родители Эммы переехали в Сан-Диего, когда девочке исполнилось девять лет.
Каждый из этих людей шел по жизни своим путем, следуя за собственным выбором или капризами судьбы. Всегда есть какая-то мистика в том, что два разных человека в определенный момент оказываются в одном месте. Вы входите в лифт вместе с дюжиной других людей, которых до этого никогда не видели. Едете в окружении незнакомцев в автобусе. Подобное происходит каждый день. Невозможно заранее предсказать, где мы окажемся и кого встретим.
Салон «Лира» залит мягким, не раздражающим глаза светом. Он совсем не похож на сияние ламп самолетов, летающих коммерческими рейсами. Через две недели в интервью «Нью-Йорк мэгэзин» Скотт Бэрроуз скажет: во время первого полета на бизнес-джете его больше всего удивило не то, что, усевшись в кресло, он мог свободно вытянуть ноги, и не разнообразие напитков в баре, а продуманность и нешаблонность интерьера салона. По его словам, получалось, определенный уровень доходов давал человеку возможность чувствовать себя в путешествии почти так же комфортно, как дома.
Теплый воздух был наполнен вечерними ароматами. Дул легкий юго-западный ветерок. Время вылета самолета — десять вечера. За последние три часа на побережье стал сгущаться туман. Его пелена над залитой светом взлетно-посадочной полосой, словно ватное одеяло, приглушает все звуки.
Первым на аэродром на своем «лэндровере» прибывают Уайтхеды: отец семейства Дэвид Уайтхед, его жена Мэгги и двое детей — Рэйчел и Джей-Джей. Сейчас конец августа. Мэгги и дети провели на острове месяц. Дэвид регулярно прилетал к ним из Нью-Йорка на выходные. Выбираться к семье на более долгий срок ему трудно, хотя он бы очень этого хотел. Дэвид работает в индустрии развлечений, точнее, в том ее сегменте, который обычно называют теленовостями. Это что-то вроде древнеримского цирка, в котором вместо зверей и гладиаторов — события и мнения.
Дэвид — высокий мужчина пятидесяти шести лет, обладающий звучным голосом, который, по словам многих его знакомых, по телефону звучит устрашающе. Людей, которые встречаются с ним впервые, часто поражает непомерно большие кисти его рук. Его сын Джей-Джей во время поездки в машине уснул. Поэтому, когда жена и дочь, выбравшись из «лэндровера», направляются к самолету, Дэвид подсовывает руку под мальчика и осторожно приподнимает его. Еще не проснувшийся Джей-Джей обнимает отца за шею и прижимается к нему чуть припухшим лицом. От его теплого дыхания у Дэвида по спине бегут мурашки. В свои четыре года Джей-Джей знает: люди умирают, но понять, что когда-нибудь это случится и с ним, еще не может, поскольку слишком мал. Дэвид и Мэгги называют его вечным двигателем из-за способности бегать и прыгать целый день почти без передышки. В три года Джей-Джей предпочитал общаться с окружающими, издавая рев динозавра. Теперь же он без устали и по любому поводу задает вопросы и делает это с таким упорством, что подчас доводит остальных членов семейства до белого каления.
Дэвид, продолжая держать сына на весу, захлопывает дверь машины ногой, не без труда удержав при этом равновесие. Затем, высвободив одну руку, подносит к уху мобильный телефон и негромко, чтобы не разбудить ребенка, произносит в трубку:
— Скажите ему, что, если он хоть раз где-нибудь об этом проболтается, мы подадим в суд и наши адвокаты сделают так, что ему весь белый свет станет не мил.
К пятидесяти шести годам Дэвид Уайтхед накопил подкожный жирок, который ровным слоем покрывает его мощное тело, словно бронежилет. У него массивный, выдающийся вперед подбородок и густые волосы на голове. В девяностые годы он занимался организацией предвыборных кампаний политиков — губернаторов, сенаторов и даже одного президента, выдвинувшего свою кандидатуру на второй срок. Однако в двухтысячном году Дэвид ушел в отставку со своей хлопотной должности и стал руководить лоббистской фирмой с офисом на Кей-стрит. Еще два года спустя один стареющий миллиардер предложил ему заняться созданием круглосуточного новостного телеканала. За минувшие с тех пор пятнадцать лет канал под руководством Дэвида заработал доход в тринадцать миллиардов долларов. Так что теперь в распоряжении Уайтхеда кабинет с окнами из пуленепробиваемого стекла на последнем этаже великолепного офисного здания и корпоративный самолет.
Его жена считает, что он слишком мало общается с детьми, и Дэвид с ней согласен. Время от времени супруги из-за этого ссорятся. Обычно Мэгги начинает разговор на данную тему, а Дэвид, хотя в глубине души и осознает ее правоту, начинает оправдываться. Но разве брак не представляет собой союз людей, находящихся в постоянной борьбе друг с другом по тому или иному поводу?
Над взлетно-посадочной полосой проносится порыв ветра. Дэвид, все еще продолжая говорить по телефону, встречается взглядом с Мэгги, и на его губах появляется улыбка. «Я рад, что я здесь, с тобой», — мысленно сообщает он. И еще: «Я люблю тебя». Но в улыбке Дэвида можно прочесть и другое: «Знаю, ты недовольна тем, что я и сейчас не забываю о работе и вынужден говорить по телефону о делах, но ты должна мне это простить. Ведь главное, что я здесь и мы все — ты, я и дети — находимся вместе».
Эта улыбка — своего рода извинение, но где-то в глубине ее кроется и стальная жесткость.
Мэгги в ответ тоже улыбается, но несколько механически, а выражение ее лица остается немного грустным. Правда состоит в том, что от нее больше не зависит, сможет она в очередной раз простить мужа или нет.
С тех пор как они поженились, еще не прошло десяти лет. Мэгги тридцать шесть, и в прошлом она воспитатель детского сада. Подопечные называли ее мисс Мэгги. Они любили свою наставницу, потому что она была веселой, энергичной и доброй. Приходила на работу к шести тридцати, чтобы успеть как следует подготовиться к занятиям, и оставалась в детском саду допоздна, заполняя журнал наблюдений и готовя планы уроков на следующий день. Тогда Мэгги была двадцатишестилетней девушкой из Пьедмонта, Калифорния, которая обожала возиться с детьми. Для трехлетних воспитанников она стала первым взрослым человеком, который воспринимал их всерьез и внимательно выслушивал все, что они говорили. Благодаря этому они чувствовали себя почти большими.
Судьба свела Мэгги и Дэвида в танцевальном зале отеля «Уолдорф-Астория». Это произошло вечером, в один из четвергов ранней весны 2005 года. Оба они пришли на благотворительный прием, организованный с целью сбора средств для какого-то образовательного фонда. Дэвид входил в состав его правления. Мэгги выглядела очаровательно — скромная красавица в платье в цветочек, с пятнышком синей краски для рисования под правой коленкой. Дэвид в своем двубортном костюме смотрелся как огромный, неотразимый хищник. Она не была ни самой молодой, ни самой красивой женщиной в зале. Но только ее сумочка оказалась испачкана мелом, она одна умела делать вулкан из папье-маше и лишь у нее имелся полосатый цилиндр, точно такой же, как в фильме «Кот в шляпе». Выяснилось, что раз в год, в день рождения доктора Сьюза, она приходила в нем на работу. Другими словами, Мэгги обладала всеми теми качествами, которыми, по мнению Дэвида, должна была обладать жена. Извинившись, он покинул свое место в президиуме и с улыбкой обрушил на нее все свое мужское обаяние.
Теперь, годы спустя, можно смело сказать, что у Мэгги не было ни единого шанса устоять.
Живут супруги Уайтхед в таунхаусе в Нью-Йорке, на Йорк-авеню. Их дочь Рэйчел учится в школе Брирли вместе с еще сотней девочек из таких же богатых семей. Мэгги больше не работает, а сидит дома с Джей-Джеем, что довольно необычно для дамы ее положения — беззаботной жены миллионера-трудоголика. Когда утром Мэгги ведет сына на прогулку в парк, создается впечатление, что она — единственная в их районе мать, проводящая весь день с детьми. Остальных малышей привозят в сделанных по европейским лекалам колясках наемные няни с мобильными телефонами.
От проносящихся время от времени над взлетно-посадочной полосой порывов ветра Мэгги становится прохладно. Она плотнее запахивает летний кардиган. Клубы тумана сгущаются и плывут над аэродромом, словно плотная кисея.
— Ты уверен, что в такой туман можно лететь? — спрашивает Мэгги, глядя в спину мужу, который уже подошел к подножию трапа. Стоящая у ступенек Эмма Лайтнер, стюардесса, одетая в аккуратный костюм — пиджак и юбка синего цвета, — приветствует его улыбкой.
— Все будет хорошо, мам, — говорит идущая следом за матерью Рэйчел. В предвкушении полета она находится на седьмом небе от счастья. — Летчики могут вести самолет вслепую.
— Да, я знаю.
— У них есть всякие приборы.
Мэгги ласково улыбается, глядя на дочь. Рэйчел несет свой зеленый рюкзак, в котором лежат «Голодные игры», несколько кукол Барби и айпад. При каждом шаге рюкзак слегка ударяет ее по спине. Мэгги невольно удивляется тому, как дочка выросла. Уже сейчас можно сказать, какой она будет, когда повзрослеет. Если выберет работу преподавателя, Рэйчел станет проявлять поразительное терпение. Она будет доброй и веселой женщиной с удивительно приятным смехом, при этом скромной, не старающейся привлекать к себе внимание. Это ясно. Другой вопрос — родилась ли Рэйчел с этими качествами или они формируются под влиянием событий, происходящих в ее жизни? Скажется ли на ней то страшное преступление, жертвой которого она стала в детстве? Вся эта история была погребена где-то в глубинах Интернета — в видеороликах на ю-тубе, в репортажах, ставших в свое время достоянием множества людей и теперь хранившихся в их коллективной памяти. В прошлом году какой-то журналист из «Нью-Йоркера» выразил желание написать об этой истории книгу, но Дэвид спокойно, но твердо поставил на его планах крест. В конце концов, Рэйчел была всего-навсего ребенком. Всякий раз, когда Мэгги думает о возможном исходе, ее сердце разрывается от ужаса.
Мэгги бросает взгляд в сторону «лэндровера», из которого Джил вытаскивает чемоданы. Джил — тень Уайтхедов. Это израильтянин, крупный мужчина, никогда не снимающий пиджак. Он из той категории людей, которых Уайтхеды и другие представители богатого сословия американцев называют семейными охранниками. Рост Джила около ста девяноста сантиметров, вес — восемьдесят пять килограммов. Есть весьма веская причина, по которой он всегда и везде остается в пиджаке, и среди воспитанных людей ее не принято обсуждать. Джил охраняет семью Уайтхед третий год. До него эту функцию выполнял Миша, а до Миши — целая череда других молчаливых, неулыбчивых мужчин с пистолетами под мышкой и автоматическим оружием в багажнике. В те годы, когда Мэгги работала воспитательницей в детском саду, постоянное присутствие в доме или где-то поблизости вооруженных телохранителей вызвало бы у нее недоуменную улыбку. Возможно, тогда она сказала бы, что люди, прибегающие к услугам секьюрити и считающие, что из-за богатства они непременно становятся мишенью для насилия, страдают разновидностью нарциссизма. Но только не после событий июля 2008 года, когда ее дочь похитили и Мэгги провела в ожидании три страшных дня, по прошествии которых девочку, к счастью, удалось вернуть.
Уже на ступеньках трапа Рэйчел оборачивается и, бросив взгляд на взлетно-посадочную полосу, где нет ни души, шутливо машет рукой. Поверх платья она надела голубую флисовую курточку. Признаки того, что похищение не прошло для девочки даром, не бросаются в глаза — лишь изредка можно заметить, что она боится небольших замкнутых пространств и испытывает беспокойство при виде незнакомых людей. Однако в целом Рэйчел остается веселым и общительным ребенком, мастерицей на всякие выдумки и розыгрыши, на ее губах почти всегда играет чуть смущенная улыбка, и Мэгги благодарит Бога за то, что дочь не утратила способность радоваться жизни.
— Добрый вечер, миссис Уайтхед, — говорит Эмма, когда Мэгги поднимается на верхнюю площадку трапа.
— Здравствуйте, — чуть задумчиво отзывается Мэгги. Ей, как обычно в подобных случаях, хочется извиниться за свое материальное благополучие — пожалуй, не мужа, а именно свое. И за то, что оно настолько очевидно. Ведь не так уж давно она жила на шестом этаже многоквартирного дома без лифта в обществе двух злобных девиц, как настоящая Золушка.
— А Скотта еще нет? — интересуется она.
— Нет, мэм. Вы приехали первыми. Я только что откупорила бутылку пино-гри. Может, выпьете бокал?
— Спасибо, не сейчас.
Салон самолета оформлен с большим вкусом. Кресла обтянуты серой кожей великолепной выделки и установлены попарно — их расположение словно намекает, что полет в обществе приятного попутчика доставит пассажиру еще больше удовольствия. Кабина пилотов внутри выглядит как президентская библиотека. Хотя Мэгги приходилось летать на лайнере компании уже не раз, она до сих пор смущается из-за того, что для нее и ее семьи выделен целый самолет.
Дэвид усаживает сына в одно из кресел и укрывает его пледом. Он продолжает прижимать к уху телефон — ему снова позвонили. Теперь повод для звонка, судя по всему, был серьезный. Мэгги ясно видит это по выражению лица супруга, мрачно выпятившего нижнюю челюсть. Джей-Джей слегка ворочается в кресле, но не просыпается.
Рэйчел останавливается у кабины, чтобы поговорить с пилотами. Здесь уже стоит Джил. Кроме пистолета, у него с собой электрошокер и пластиковые наручники. Это самый спокойный мужчина из всех, с кем Мэгги когда-либо была знакома.
Дэвид, продолжающий говорить по телефону, кладет руку на плечо жены.
— Ты рада, что мы едем домой? — спрашивает он, на секунду опустив аппарат.
— Трудно сказать, — отвечает Мэгги. — Здесь так хорошо.
— Ты могла бы остаться. Правда, у нас планы на следующие выходные. Но их можно и отменить.
— Нет, не надо, — с улыбкой возражает Мэгги. — Детям скоро в школу, а у меня в четверг важное мероприятие в музее. Просто я сегодня не очень хорошо спала и чувствую себя немного усталой.
Посмотрев вперед за спину жены, Дэвид хмурится.
Обернувшись, Мэгги видит на верхней площадке трапа Бена и Сару Киплинг. Им обоим около пятидесяти, и по возрасту они скорее годятся в друзья Дэвиду, чем ей. Тем не менее при виде Мэгги Сара издает пронзительный возглас:
— Моя дорогая! — Она, широко раскинув руки, обнимает Мэгги. Позади них неловко топчется стюардесса с подносом, на котором стоят бокалы с напитками.
— Какое у вас чудесное платье, — говорит Сара.
Бен, обойдя жену, начинает изо всех сил трясти руку Дэвида. Голубоглазый Бен Киплинг одет в приталенную синюю рубашку и белые шорты с ремнем. Он — партнер в одной из фирм, входящих в первую четверку на Уолл-стрит, — настоящая акула бизнеса.
— Вы видели эту чертову игру? — спрашивает он. — Как он мог не поймать тот мяч?
— Лучше на начинай, а то заведусь, — отвечает Дэвид.
— Да такой мяч даже я поймал бы, хотя у меня руки мягче французского батона, — продолжает негодовать Бен.
Стоя лицом к лицу, мужчины еще какое-то время перебрасываются шутливыми репликами — два быка, склонившие головы и примеряющиеся к атаке просто из любви к схваткам.
— Должно быть, игрока ослепили прожекторы, — предполагает Дэвид. Его телефон пищит, сообщая о получении эсэмэски. Взглянув на экран, Дэвид хмурит брови и начинает набирать ответ. Бен бросает взгляд через плечо и, убедившись, что женщины беззаботно болтают, наклоняется к Дэвиду.
— Нам надо поговорить, приятель.
Дэвид нетерпеливо пожимает плечами, продолжая писать эсэмэску:
— Не сейчас.
— Я вам звонил, — сообщает Киплинг и хочет добавить что-то, но умолкает при виде Эммы, которая наконец протиснулась в салон с подносом в руках.
— «Гленливет» со льдом, если не ошибаюсь, — говорит она, вручая Бену стакан.
— Вот умница, — хвалит стюардессу Бен и залпом выпивает полпорции шотландского виски.
— Мне просто воду, — просит Дэвид, видя, как Эмма берет с подноса стакан с водкой.
— Да, конечно, — улыбается стюардесса. — Я сейчас вернусь.
Сара Киплинг наконец исчерпала темы для светской болтовни.
— Надеюсь, у вас все в порядке, дорогая, — участливо произносит она, касаясь руки Мэгги. Похоже, Сара успела забыть, что в начале разговора уже интересовалась этим вопросом.
— Да, у меня все хорошо, — снова повторяет Мэгги. — Просто перед отъездом было много суеты. Хочется поскорее оказаться дома.
— Понимаю. Нет, я очень люблю отдыхать на пляже. Но здесь так скучно. Конечно, закат — это прекрасно, но сколько дней подряд можно любоваться этим зрелищем? Рано или поздно неизбежно возникает желание заглянуть в «Барниз».
Мэгги бросает озабоченный взгляд в сторону открытой двери салона самолета. Заметив это, Сара интересуется:
— Вы кого-то ждете, дорогая?
— Нет. То есть я хочу сказать, что будет еще один пассажир, но…
Ее выручает дочь. Перебив Мэгги, она тем самым избавляет ее от необходимости закончить фразу:
— Мам! Не забудь, завтра Тамара отмечает день рождения. Нам еще нужно купить ей подарок.
— Хорошо, — рассеянно отзывается Мэгги. — Давай утром сходим в «Стрекозу».
Мэгги видит, что ее муж и Бен о чем-то разговаривают, причем вид у Дэвида довольно мрачный. Она решает, что позже попытается выяснить, о чем шла речь, но понимает: скорее всего, ей это не удастся. В последнее время Дэвид был очень погружен в себя, и ей не хотелось бы вызвать у него вспышку раздражения и тем самым спровоцировать ссору.
Мимо Мэгги проходит стюардесса и вручает Дэвиду стакан с водой.
— Может, добавить ломтик лайма? — спрашивает она.
Дэвид отрицательно качает головой. Бен озабоченно потирает ладонью небольшую плешь на макушке и бросает взгляд в сторону кабины пилотов.
— Мы ждем кого-то еще? — интересуется он. — По-моему, нам пора трогаться.
— Будет еще один пассажир, — говорит Эмма и заглядывает в список. — Скотт Бэрроуз.
— Кто это? — осведомляется Бен, вопросительно глядя на Дэвида.
Тот пожимает плечами:
— Какой-то приятель Мэгги.
— Он не приятель, — возражает жена. — То есть я хочу сказать, дети его знают. Мы случайно встретились с ним вчера на рынке. Он сказал, что ему нужно в Нью-Йорк, и я пригласила его присоединиться к нам. Кажется, он художник. — Мэгги смотрит на мужа. — Помнишь, я показывала тебе несколько его картин?
Дэвид бросает взгляд на часы.
— Ты сообщила ему, что вылет назначен на десять вечера?
Мэгги кивает.
— Что ж, — говорит ее муж, опускаясь в кресло. — Еще пять минут, и ему придется ехать на пароме.
Через круглый иллюминатор Мэгги видит командира экипажа: стоя на взлетно-посадочной полосе, он разглядывает крыло. Внимательно осмотрев гладкую алюминиевую обшивку, пилот медленно отходит в сторону и направляется к трапу.
Позади Мэгги Джей-Джей, поворочавшись немного, меняет позу. Он продолжает спать. Рот мальчика слегка приоткрыт. Мэгги поправляет сползший плед и целует сына в лоб.
Она видит, как командир экипажа входит в салон самолета и здоровается с пассажирами. Это высокий мужчина крепкого сложения, с военной выправкой.
— Леди и джентльмены, добро пожаловать на борт, — приветствует он. — Надеюсь, полет покажется вам коротким. По пути нас ждет небольшой ветер, но в целом погода хорошая.
— Я видела, как вы осматривали крыло, — говорит Мэгги.
— Обычная визуальная инспекция. Я провожу ее перед каждым полетом. Самолет выглядит прекрасно.
— А как насчет тумана? — интересуется Мэгги.
Рэйчел, услышав вопрос матери, закатывает глаза.
— Туман для такой современной машины, как эта, не является проблемой, — поясняет пилот. — Поднявшись на высоту в несколько сотен футов, мы окажемся над ним.
— Я хочу немного вон того сыра, — вмешивается Бен. — Может, включим музыку? Или телевизор? По-моему, сейчас Бостон как раз должен играть с кем-то.
Эмма начинает листать каналы, а остальные пассажиры устраиваются в креслах и убирают под сиденья ручную кладь. В кабине пилоты приступают к выполнению предполетного регламента.
Телефон Дэвида снова издает писк. Он смотрит на экран и опять хмурится.
— Ну, ладно. Мы ждали этого художника сколько могли, но всему есть предел! — раздраженно бросает он и кивает Эмме.
Та пересекает салон и, подойдя к двери, тянет ее на себя. В ту же секунду пилот запускает двигатели. Дверь уже почти закрылась, как вдруг сквозь оставшуюся щель в салон доносится крик:
— Подождите!
Корпус самолета слегка покачивается от шагов запоздавшего пассажира, поднимающегося по трапу. Мэгги чувствует, как, несмотря на все усилия сохранить безразличный вид, кровь бросилась ей в лицо. Скотт Бэрроуз протискивается в салон. На вид ему лет сорок пять. Он покраснел и запыхался. Его длинные седеющие волосы растрепались. Обут он в поношенные бело-голубые кроссовки. На одном плече у него висит зеленая дорожная сумка. Во всем его облике есть что-то мальчишеское, но в уголках глаз уже прорезались глубокие морщинки.
— Извините, — оправдывается он. — Я вызвал такси, но так его и не дождался. Пришлось добираться на автобусе.
— Ну что ж, теперь вы на борту, и это главное, — говорит Дэвид и кивком дает знак второму пилоту. Тот плотно задраивает дверь.
— Могу я забрать вашу сумку, сэр? — интересуется Эмма.
— Что? — переспрашивает несколько испуганно Скотт, не заметивший ее приближения. — Нет, спасибо.
Стюардесса указывает ему на свободное кресло. Направляясь туда, чтобы сесть, Скотт Бэрроуз обращает внимание на интерьер салона.
— Ничего себе, — ошеломленно произносит он.
— Бен Киплинг, — представляется Бен, вставая с кресла, чтобы пожать Скотту руку.
— Ясно. А я Скотт Бэрроуз, — в свою очередь говорит художник и в этот момент видит Мэгги. — А, это вы? Спасибо вам еще раз.
На его лице появляется широкая, теплая улыбка. Мэгги улыбается в ответ и краснеет:
— Не за что.
Скотт опускается в кресло рядом с Сарой. Прежде чем он успевает пристегнуть ремень, Эмма предлагает ему бокал вина.
— Надо же, — удивляется Бэрроуз. — Нет, спасибо. Лучше, если можно, стаканчик воды.
Эмма понимающе улыбается и отходит. Скотт бросает взгляд на Сару.
— К такому, наверное, быстро привыкаешь, а? — интересуется он.
— Что правда, то правда, — вставляет Бен Киплинг.
Шум двигателей усиливается. Мэгги чувствует, как самолет трогается с места. Из колонок акустической системы раздается голос командира экипажа Джеймса Мелоди:
— Леди и джентльмены, пожалуйста, приготовьтесь ко взлету.
Мэгги смотрит на детей. Рэйчел сидит, подогнув под себя одну ногу, и листает плей-лист на своем телефоне. Малыш Джей-Джей с безмятежным выражением лица продолжает спать.
Мэгги чувствует прилив материнской любви, от которого ей на мгновение становится трудно дышать. Эти дети — ее жизнь, неотъемлемая часть ее самой. Она еще раз поправляет плед, которым укрыт сын, и в этот самый момент чувствует слабость в ногах — самолет отрывается от земли. Начинается набор высоты. Пассажиры смеются и болтают, одни слушают хиты пятидесятых годов, другие смотрят репортаж с бейсбольного матча. Никому и в голову не приходит, что через шестнадцать минут самолет рухнет в море.
Часть 1
Когда ему было шесть лет, Скотт Бэрроуз вместе с семьей побывал в Сан-Франциско. Он, его родители и сестра Джун, которая позже утонула в озере Мичиган, провели в мотеле неподалеку от пляжа три дня. Было холодно, город был окутан туманом. Широкие улицы сползали вниз, к берегу, словно огромные змеи. Скотту почему-то запомнилось, как отец заказал в ресторане клешни краба. Когда блюдо принесли, они оказались таких чудовищных размеров, что мальчик испугался — ему на секунду показалось, что не он и его родные будут есть краба, а наоборот.
В последний день путешествия отец отвез всех на автобусе на набережную, где собирались рыбаки. Скотт, одетый в вылинявшие вельветовые брюки и полосатую футболку, взобравшись на расшатанный пластиковый стул, с интересом разглядывал теснящиеся на берегу дома района Сансет — роскошные строения с лепниной на стенах, простые бетонные коробки, здания в викторианском стиле, обшитые широкими, гладко оструганными досками. Еще Скотт с родителями и сестрой побывал в музее Рипли «Хотите верьте, хотите нет». Промышлявший рядом с музеем уличный художник нарисовал шарж на семью Бэрроуз, изобразив всех четверых в виде человечков с непропорционально большими головами, балансирующих на одноколесных велосипедах. Затем Скотт вместе с остальными наблюдал за тем, как морские львы нежатся на пропитанных солью досках пирса. Мать Скотта с изумлением и восторгом смотрела на тучи белых чаек. Члены семьи Бэрроуз до этого никогда не видели моря, и шестилетнему Скотту поездка в Сан-Франциско показалась чем-то вроде путешествия на другую планету.
На обед они ели корн-доги и запивали их кока-колой из огромных пластиковых стаканов. Когда они пришли в местный аквапарк, оказалось, что там собралась целая толпа народу. Многие посматривали на север, в сторону залива, и указывали пальцами на остров Алькатрас, где находилась знаменитая тюрьма.
Вода залива в тот день была свинцово-серого цвета. Крутые берега острова чем-то отдаленно напоминали плечи охранника. Слева в густой дымке виднелась оранжевая громада подвесного моста через пролив Золотые Ворота. Верхняя часть мостовых опор тонула в тумане.
В заливе покачивалось на небольших волнах множество небольших лодок.
— Интересно, были ли случаи побега из этой тюрьмы? — спросил отец Скотта, ни к кому не обращаясь.
Мать Скотта слегка нахмурилась и достала из сумки брошюру путеводителя, тихонько бормоча под нос, что, насколько ей известно, тюрьма давно закрыта и остров Алькатрас теперь всего лишь достопримечательность, привлекающая туристов.
Отец дотронулся до плеча стоявшего рядом с ним мужчины, который напряженно вглядывался в воды залива.
— Скажите, на что вы смотрите?
— Он плывет с Алькатраса, — ответил мужчина.
— Кто?
— Да экстремал этот. Как бишь его зовут? Джек Лаланн. По-моему, это какое-то надувательство. У него связаны руки, а он плывет, да еще и лодку за собой тащит.
— Тащит лодку? Как это?
— На веревке. Видите вон ту посудину? Большую, вон там? Ну так вот, он собирается доплыть до берега, буксируя ее за собой.
Мужчина покачал головой с видом человека, окончательно уверившегося в том, что мир сошел с ума.
Скотт забрался по ступенькам на какую-то небольшую бетонную конструкцию, чтобы лучше видеть происходящее. Он в самом деле разглядел в заливе большую лодку, повернутую носом в сторону берега. Она была окружена более мелкими суденышками. Какая-то женщина похлопала Скотта по руке.
— Вот, держи, — сказала она с улыбкой и протянула ему бинокль. Благодаря сильным линзам Скотт разглядел в воде человека в бежевой резиновой шапочке. В волнах хорошо были видны его голые плечи. Он плыл, продвигаясь вперед резкими толчками ног.
— Там течение просто сумасшедшее, — сказал мужчина, обращаясь к отцу Скотта. — Да и температура воды, между прочим, градусов пятнадцать, не больше. Недаром никому никогда не удавалось совершить побег из островной тюрьмы. И об акулах тоже не забывайте. Так что я даю этому парню один шанс из пяти.
В бинокль Скотт увидел, что в моторных лодках, окружающих пловца, сидят люди в униформе и с винтовками в руках.
Вот человек в воде поднял руки и, сделав мощное движение ногами, еще немного продвинулся в сторону берега. Было видно, что веревка охватывает его запястья. Дышал он ровно. Если и знал об угрозе нападения акул, то внешне это никак не проявлялось. Это был Джек Лаланн, называвший себя самым выносливым человеком на земле. Через пять дней ему исполнится шестьдесят лет. В этом возрасте разумные люди не совершают сумасбродных поступков. Но, как узнал позже Скотт, чувство внутренней дисциплины, свойственное Джеку Лаланну, не зависело от его возраста. Это был не человек, а машина, запрограммированная на достижение поставленных целей. Вокруг пояса он был обвязан еще одной веревкой, которая, словно щупальце чудовища, тянула его вниз, в пучину. Однако пловец не обращал на это внимания, как и на тяжелый корпус лодки, который он, напрягая все силы, тащил за собой. Джек, приучившийся постоянно преодолевать трудности, даже привык к веревке, сковывающей его движения. Дома он ежедневно тренировался в бассейне, привязывая себя за талию к крюку, вбитому в бортик, и плавал в таком положении не менее получаса. Помимо этого, посвящал полтора часа в день занятиям с отягощениями и еще тридцать минут бегу. Когда, проделав всю эту чудовищную работу, Джек смотрел на себя в зеркало, ему казалось, что перед ним бессмертное существо, сгусток неисчерпаемой энергии.
Однажды он уже совершил заплыв от острова до Сан-Франциско — в 1955 году. Алькатрас в то время еще был тюрьмой. Джеку тогда исполнился сорок один год. Он был могучим мужчиной и уже приобрел известность как человек, обладающий невероятной выносливостью. Джек вел свое шоу на телевидении и владел несколькими фитнес-залами. Раз в неделю он появлялся на телеэкранах в черно-белом тренировочном трико, обтягивавшем его безупречное тело, и демонстрировал свои мощные бицепсы. Во время шоу, объясняя секреты того или иного упражнения, он время от времени ложился на пол и делал сотню отжиманий, опираясь на одни лишь кончики пальцев.
«Фрукты и овощи, — говорил он. — Побольше белка и как можно больше тренировок».
По понедельникам в еще одной специальной передаче на канале Эн-би-си Джек раскрывал телезрителям секреты вечной жизни. Нужно было только слушать повнимательнее.
Теперь, борясь с волнами, он вспоминал тот первый заплыв. Тогда, в 1955 году, когда он поведал о своем плане, ему сказали, что проплыть две мили в холодной воде, преодолевая сильное океанское течение, просто невозможно. Джек, однако, сделал это менее чем за час. Теперь, девятнадцать лет спустя, он исполнял то же самое, только со связанными руками и буксируя за собой лодку весом в тысячу фунтов.
Он не думал о лодке, течении и акулах. У него была только одна мысль — любой ценой добиться поставленной цели.
«Спросите у тех, кто всерьез занимается триатлоном, — скажет Джек позже, — есть ли предел человеческих возможностей. Он — здесь, в голове. Все то, что находится у вас между ушами, должно быть хорошо тренированным. А мышцы здесь ни при чем. Их можно заставить сделать все, что угодно».
В юности Джек был худосочным прыщавым подростком, обожавшим сладкое. Однажды в припадке гнева, вызванного избытком сахара в организме, он едва не убил топором собственного брата. После этого Джек словно разом прозрел и решил, что полностью переделает свое тело и раскроет все его скрытые возможности.
Он принялся тренироваться. Через некоторое время Джек уже мог выполнить тысячу прыжков вразножку и тысячу подтягиваний в течение девяноста минут. Затем сумел отжаться от пола 1033 раза всего за двадцать минут, после чего тут же, не отдыхая, забраться по канату на восьмиметровую высоту с привязанным к поясу грузом весом почти в 70 килограммов.
Джека стали приглашать на телевидение. Люди начали узнавать его на улице. Для публики он был одновременно ученым, магом и немного богом.
— Я не могу умереть, — говорил Джек своим поклонникам. — Это нанесет ущерб моему имиджу.
Теперь, находясь в холодной воде залива Сан-Франциско, он метр за метром продвигался в сторону берега. Джек плыл за счет мощных движений ног и рывков связанными руками — эту необычную технику он изобрел сам.
Берег уже был хорошо виден. Толпа зевак на нем заметно увеличилась. Где-то среди них находилась жена Джека — Элизабет. До встречи с ним она курила как паровоз и питалась исключительно пончиками. Однако, выйдя замуж за Джека, Элизабет всерьез занялась синхронным плаванием и добилась внушительных спортивных успехов.
— Вон он, — сказал кто-то, указывая вдаль — туда, где, напрягая все силы, плыл со связанными руками шестидесятилетний мужчина, таща за собой лодку. Джек Лаланн, пожалуй, ни в чем не уступал Гудини — разница состояла лишь в том, что он не пытался освободиться от своих пут.
Джек говорил людям, что возраст — это не что иное, как внутренний настрой. Именно в этом состоит секрет. Сейчас, в холодных водах залива Сан-Франциско, он чувствовал себя настолько хорошо, что, выбравшись на берег, пожалуй, вполне мог бы выполнить тысячу отжиманий. Между тем большинство мужчин, достигших возраста Джека, выглядели сутулыми, обрюзгшими, жаловались на боли в спине и боялись смерти. Но не он. Джек верил в то, что неизменно будет просыпаться, чувствуя внутри себя крепчайший металлический стержень, — и так до конца времен.
Стоя на берегу, Скотт приподнялся на цыпочки, чтобы лучше видеть. В эту минуту он забыл обо всем, даже о родителях. Для него разом перестало существовать все — кроме боровшегося с волнами пловца в резиновой шапочке. Гребок за гребком, дюйм за дюймом, преодолевая усталость, он продвигался вперед, и толпа зрителей подбадривала его криками. И вот наконец Джек Лаланн вышел на берег. Он тяжело дышал, губы посинели от холода, но пловец улыбался окружившим его репортерам. Его освободили от веревки, стягивавшей запястья, отвязали от пояса лодку. Вокруг Джека бесновалась восторженная толпа. Элизабет вошла в воду, и Джек подхватил ее на руки, словно пушинку.
Людям казалось, что они стали свидетелями чуда. Джек знал: какое-то время они будут пребывать в приподнятом настроении, веря, что на свете нет ничего невозможного.
Шестилетнего Скотта Бэрроуза захлестнуло чувство ликования, и ему в какой-то момент даже стало трудно дышать. Несмотря на возраст, он понял, что стал свидетелем чего-то необъяснимого. Он ощутил сильнейшее желание повторить чудо, сотворенное человеком в резиновой шапочке, хотя понимал, что проплыть две мили со связанными руками, буксируя за собой тяжелую лодку, было по силам разве что Супермену. Но все же человек, которого он видел перед собой, сделал это. Значило ли это, что он Супермен?
— Вот черт, — сказал отец Скотта, потрепав сына по голове. — Это в самом деле впечатляет. Просто невероятно, правда?
Скотт, однако, так и не нашел подходящих слов, чтобы выразить свои чувства. Он просто кивнул, продолжая пожирать глазами человека на берегу, который, подняв на руки одного из репортеров, сделал вид, будто собирается бросить его в воду.
— Мне много раз доводилось видеть этого типа по телевизору, — снова заговорил отец Скотта, — но я всегда думал, что это какой-то трюк. Раздутые мышцы и все такое. Ну надо же!
— Пап, а он Супермен? — спросил Скотт.
— Что? Да нет. Он обыкновенный человек.
«Обыкновенный человек», — мысленно повторил Скотт. Вроде отца, дяди Джейка с усами и огромным животом или преподавателя гимнастики мистера Бранча с прической, как у африканца. Скотту все же трудно было в это поверить. Возможно ли такое? Неужели каждый человек — любой — может стать Суперменом, если сильно захочет этого и будет готов сделать все от него зависящее?
Два дня спустя, вернувшись вместе с семьей в Индианаполис, Скотт Бэрроуз записался в секцию плавания.
В волнах
Он выплыл на поверхность и издал отчаянный вопль. Глаза горели огнем от соленой воды, а легкие — от недостатка воздуха. Вокруг было темно — луну скрывала плотная пелена тумана. Поначалу он разглядел лишь верхушки волн. Но затем его глаз внезапно различил на гребнях какие-то оранжевые отблески.
«Вода горит», — подумал он и забарахтался, чтобы удержаться на поверхности.
Еще через несколько секунд пришло понимание того, что случилось.
Самолет разбился.
Скотт не произносил мысленно эти слова — они просто возникли у него в голове в виде страшных образов. Он снова ощутил запах горящего металла. Услышал крики. Увидел женщину с окровавленной головой, в волосах которой блестели осколки стекла. Незакрепленные предметы, на невероятно долгое мгновение взлетевшие в воздух, когда время словно остановило свой бег, — бутылку вина, женский кошелек, айпад девочки, сидевшей неподалеку, тарелки с едой. И затем — страшный лязг и скрежет металла, после которого весь мир вокруг Скотта разлетелся вдребезги.
Волна бьет его в лицо, и Скотт начинает активнее работать ногами, чтобы приподняться повыше в воде. Ботинки, намокнув и отяжелев, тянут его вниз, словно гири. Он умудряется снять их, после чего не без труда освобождается от одежды. Воды Атлантики холодны. Скотт начинает сильно грести руками. Волны с пенными гребнями выглядят совсем не так, как безобидная рябь на детских рисунках. Это длинные, могучие валы, между которыми катятся волны поменьше. Они атакуют Скотта, словно стая волков, проверяя его на прочность. Он делает круг вокруг места катастрофы. На волнах покачиваются догорающие обломки фюзеляжа и кусок крыла. Разлившееся по поверхности воды топливо либо уже выгорело, либо смыто волнами. Все говорит о том, что вскоре наступит полная темнота.
Борясь с приступами паники, Скотт пытается оценить ситуацию. Сейчас август, и этот факт в его пользу. Температура воды в Атлантике около 18 градусов. Это значит, что вполне можно погибнуть от переохлаждения, но все же есть шанс добраться до берега — при условии, что он находится недалеко.
— Эй! — кричит Скотт, чтобы подбодрить себя. — Я здесь! Я жив!
Ему вдруг приходит в голову мысль, что, кроме него, мог остаться в живых кто-то еще. Не может же быть, чтобы в авиакатастрофе уцелел всего один человек? Скотт вспоминает мужчину, сидевшего неподалеку от него, и разговорчивую жену банкира. Потом думает о Мэгги с ее солнечной улыбкой.
Потом он вспоминает о детях. Черт! На борту ведь находились дети. Кажется, двое. Ну да, мальчик и девочка. Сколько им было? Девочка была постарше. Ей, пожалуй, на вид можно было дать лет десять. А мальчику? Трудно сказать, но он был совсем маленький.
— Э-эй! — снова кричит Скотт и плывет к самому большому из обломков. Похоже, это остаток крыла. Почти добравшись до него, Скотт по температуре воды понимает, что металл горячий, и гребет в обратном направлении — ему вовсе не хочется, чтобы волны прижали его к обломку и он получил ожоги.
Скотт размышляет о случившемся и задается вопросом, как произошла катастрофа. Разбился ли самолет от удара о воду? Или он стал разваливаться на части в воздухе?
Странно, но его память этого не зафиксировала.
Прищурившись в темноте, Скотт вдруг чувствует, как его подхватывает огромная волна, и инстинктивно старается удержаться на гребне.
Внезапно что-то щелкает у него в левом плече, словно там лопается струна. В ту же секунду его пронизывает боль. Всякий раз, когда он пытается поднять руку, ему в плечо словно вонзают нож. Отчаянно работая ногами, Скотт пытается расслабить мышцы рук, надеясь, что это всего лишь судорога, но скоро становится ясно — плечевой сустав серьезно травмирован. Он старается как можно меньше двигать левой рукой, но все же понемногу загребает ею воду. Скотт ясно понимает: если боль усилится, он сможет действовать только одной рукой — и это при том, что он всего лишь крохотная песчинка в безбрежном океане.
Внезапно Скотт осознает, что у него, вполне возможно, кровотечение.
И тогда в его сознании возникает слово «акулы».
На несколько секунд его охватывает животный страх. Пульс мгновенно учащается. Скотт начинает резко толкать ногами и, глотнув соленой воды, кашляет.
«Стоп, — приказывает он себе. — Постарайся расслабиться. Если ты сейчас поддашься панике, то погибнешь».
Скотт замедляет движения и пытается осмотреться. Если бы ему удалось увидеть звезды, он смог бы сориентироваться. Но пелена тумана не позволяет ему это сделать. Куда плыть — на запад или на восток? Обратно в сторону Мартас-Вайнъярд или в сторону материка? Да и как узнать, где восток, а где запад? И потом, даже если бы он это знал, в темноте вполне мог проплыть мимо острова, с которого стартовал самолет.
Лучше плыть в сторону материка, решает Скотт. Если экономить силы и грести равномерно, время от времени отдыхать, не поддаваться панике, то рано или поздно он доберется до берега. В конце концов, Скотт Бэрроуз неплохой пловец и море видит не впервые.
«Ты можешь это сделать», — убеждает он себя. Проговорив мысленно эту фразу несколько раз, Скотт чувствует прилив уверенности в себе. Он знает, что длина паромной переправы между Мартас-Вайнъярд и Кейп-Код составляет семь миль. Но самолет, в котором он летел, направлялся в аэропорт Джона Кеннеди, а значит, держал курс на Лонг-Айленд, то есть на юг. Какое расстояние они успели преодолеть? Как далеко от берега самолет потерпел катастрофу? Сможет ли он, Скотт Бэрроуз, проплыть десять миль, гребя практически одной рукой? А двадцать? В конце концов, он всего лишь теплокровное живое существо, приспособленное для жизни на земле, а теперь оказавшееся в открытом море.
Самолет наверняка должен был подавать сигнал бедствия, убеждает он себя. А значит, береговая охрана уже в пути и ищет место катастрофы и выживших. Но вскоре Скотт осознает, что догоравшие обломки самолета полностью погасли, и даже если они не затонут, течение в любом случае быстро рассеет их по поверхности океана.
Чтобы справиться с новым приступом паники, Скотт думает о Джеке, красивом, словно древнегреческий бог. Его фото висело на стене в комнате Скотта все его детство. На нем Джек стоял спиной к объективу, чуть наклонив плечи вперед и упираясь руками в талию, с напряженными мышцами спины, похожей на латинскую букву V. Этот снимок напоминал Скотту, что на свете нет ничего невозможного. Что человек может стать астронавтом, одолеть моря и океаны, взобраться на высочайшие на планете горные пики. Нужно было только верить в себя.
Нырнув, Скотт стаскивает с себя носки. Он чувствует, что боль в левом плече усиливается, и старается напрягать его как можно меньше, перекладывая основную нагрузку на правую руку. Он решает, что будет плыть по-собачьи по пятнадцать минут, а затем отдыхать. Скотта снова ужасает мысль о том, что ему предстоит наугад выбрать направление движения, а затем плыть бог знает сколько миль, борясь с волнами и течением, гребя одной рукой и не зная, суждено ли добраться до берега. Отчаяние — ближайший родственник паники, начинает ледяными тисками сжимать его сердце, но Скотт, сделав усилие, берет себя в руки.
Скотт чувствует, как сухой язык царапает небо, и вспоминает, что следует опасаться обезвоживания, если он хочет продержаться как можно дольше. Ветер усиливается, волны становятся выше. «Если я планирую выбраться отсюда, пора плыть», — мысленно говорит себе Скотт. Он смотрит вверх в надежде, что ему удастся увидеть звезды, но туман остается по-прежнему плотным. Скотт, закрыв глаза, пытается интуитивно определить, где находится запад, и решает, что он у него за спиной.
Открыв глаза, он глубоко вдыхает. В тот самый момент, когда Скотт уже собирается сделать первый гребок, до него доносится странный звук. Сначала он принимает его за крик чайки. Но затем волна поднимает его на несколько футов вверх, и Скотт понимает, что ошибся.
Это не крик птицы, а детский плач.
Скотт крутится в воде, пытаясь понять, где находится источник звука, но волны мешают ему не только видеть, но и слышать.
— Эй! — кричит он. — Эй, я здесь!
Плач затихает.
— Эй! — снова зовет Скотт и изо всех сил работает ногами, стараясь удержаться на одном месте. — Ты где?
Он оглядывается, надеясь увидеть обломки самолета, но они либо затонули, либо их утащило течение. Скотт изо всех сил напрягает слух.
— Э-эй! — еще раз выкрикивает он. — Я здесь! А ты где?
Несколько секунд он не слышит ничего, кроме плеска волн, и уже начинает думать, что принял за плач гомон чаек где-то вдалеке. Но затем порыв ветра приносит откуда-то детский голос:
— Помогите!
Судя по звуку, ребенок находится совсем рядом. Скотт принимается изо всех сил грести в ту сторону, откуда послышался крик. Он больше не один и должен думать не только о собственном выживании. Теперь на нем лежит ответственность за чужую жизнь. Он вспоминает о своей сестре, которая в шестнадцать лет утонула в озере Мичиган, и плывет на голос.
Ребенка Скотт обнаруживает всего метрах в десяти от себя. Это мальчик. Он сидит на плавающей подушке от самолетного кресла. На вид ему не больше четырех лет.
— Эй, — кричит Скотт и, подплыв к ребенку, трогает его за плечо. — Привет, дорогой. Я здесь. Я тебя нашел.
Голос его дрожит, и он с удивлением понимает, что плачет.
Подушка вполне может служить плавсредством, но она рассчитана на взрослого человека. Поэтому Скотт тратит немало усилий, пытаясь при помощи привязного ремня пристегнуть мальчика к подушке таким образом, чтобы он с нее не соскользнул. Возясь с ремнем, Скотт чувствует, как ребенок дрожит от холода.
— Меня стошнило, — жалуется мальчик.
Скотт осторожно вытирает ему рот рукой.
— Это ничего. С тобой все в порядке. Тебя просто немного укачало. Морская болезнь.
— Где мы? — спрашивает ребенок.
— В океане. Произошла авиакатастрофа, и мы попали в океан. Но я доплыву до берега.
— Не бросайте меня, — просит мальчик, и в его голосе слышится страх.
— Нет-нет, конечно, нет. Я тебя не брошу, мы поплывем вместе. Нам надо только постараться, чтобы не упустить подушку. Ты будешь сидеть верхом на ней, а я стану тебя буксировать. Как тебе такой план?
Мальчик кивает, и Скотт принимается за дело. Ему приходится нелегко — действовать можно только одной рукой. Все же через некоторое время ему удается соорудить из привязного ремня нечто вроде упряжи и надеть ее на ребенка. Затем он осматривает результаты своей работы. Подушка от кресла прикреплена к мальчику довольно надежно, но Скотт не вполне удовлетворен. Тем не менее импровизированное плавсредство все же способно держать ребенка на поверхности воды, а малыш в состоянии удерживаться на нем.
— Ладно, — говорит Скотт. — Теперь держись покрепче, а я потащу тебя к берегу. Кстати, ты умеешь плавать?
Мальчик кивает.
— Это хорошо. Если ты соскользнешь с подушки, то должен молотить ногами по воде и грести руками изо всех сил, ладно?
— Как ветряная мельница?
— Верно. Греби изо всех сил руками и дрыгай ногами, как тебя учила мама.
— Меня учил папа.
— Ну конечно. Греби, как учил папа.
Мальчик снова кивает, но в его глазах заметен страх.
— Ты знаешь, что такое герой? — спрашивает Скотт.
— Это тот, кто сражается с плохими парнями, — отвечает ребенок.
— Правильно. Герой сражается с плохими парнями. И он никогда не сдается, верно?
— Да.
— Ну так вот, мне нужно, чтобы бы ты вел себя как герой, ясно? Представь, что волны — это плохие парни и мы должны сквозь них проплыть. И ни в коем случае не должны сдаваться. Я буду плыть до тех пор, пока мы не доберемся до берега, понятно?
Ребенок опять кивает. Поморщившись, Скотт просовывает левую руку в постромки. Плечо теперь отчаянно болит. Каждый раз, когда их с мальчиком приподнимает волна, Скотт все сильнее ощущает, что полностью дезориентирован и не знает, в какую сторону плыть.
— Ну ладно, — говорит он. — Пора браться за дело.
Закрыв глаза, он снова пытается определить направление движения.
«Позади, — думает он. — Берег позади тебя».
Развернувшись, Скотт начинает грести. В этот момент сквозь туман проглядывает луна. Над головой Скотта на какое-то время появляется участок чистого неба. Он лихорадочно пытается отыскать взглядом знакомые созвездия. Брешь в пелене тумана быстро затягивается, но Скотт все же успевает заметить Андромеду, а затем разглядеть ковш Большой Медведицы и Полярную звезду.
«Все наоборот», — понимает он и ощущает приступ головокружения.
Затем на него наваливается тошнота. Если бы из-за тумана не выглянула луна, они с мальчиком поплыли бы прямо в открытый океан, с каждым гребком отдаляясь от Восточного побережья США, и через некоторое время, выбившись из сил, бесследно пропали в волнах.
— План меняется, — произносит Скотт, обращаясь к мальчику и изо всех сил стараясь, чтобы его голос звучал твердо и уверенно. — Мы поплывем в другую сторону.
— Ладно.
Скотт, гребя ногами, располагается в правильном направлении, так, чтобы плыть на запад. Самая большая дистанция, которую он когда-либо преодолевал вплавь, составляла пятнадцать миль. Но тогда ему было девятнадцать лет, он много тренировался, да и плыть пришлось в озере, не имевшем никаких течений. К тому же обе его руки действовали нормально. Теперь же стояла ночь, вода становилась все холоднее, и было ясно, что ему так или иначе придется бороться с океанским течением, неумолимо сносящим их в сторону.
«Если я выживу, — думает Скотт, — обязательно пошлю вдове Джека Лаланна корзину фруктов».
Эта мысль кажется ему настолько смешной, что он, барахтаясь в воде, начинает хохотать и какое-то время не может остановиться. Скотт представляет, как стоит у прилавка на почте и, заполняя сопроводительную открытку, пишет: «С глубоким уважением, Скотт».
— Перестаньте, — просит мальчик, видимо, испугавшись, что взрослый человек, от которого зависит его жизнь, сошел с ума.
— Ладно, все в порядке, — успокаивает Скотт. — Мне просто пришла на ум одна шутка. Все, поплыли.
Ему требуется несколько минут, чтобы выработать подходящий случаю стиль. Это что-то вроде брасса. Правда, гребок правой рукой получается у Скотта более сильным, чем левой. Однако ноги его работают, как положено. Его сильно беспокоит плечо, которое болит так, словно оно набито осколками стекла. В какой-то момент приходит отчаяние. Скотт начинает думать, что у них с мальчиком нет шансов на спасение и они неизбежно утонут в океанской пучине. Однако через некоторое время ему становится легче благодаря монотонности проделываемой работы. Вдох, выдох, гребок. Вдох, выдох, гребок. Эти повторяющиеся действия отвлекают его от мрачных мыслей. Скотт понимает, что потерял счет времени. Во сколько самолет вылетел? В десять вечера? Сколько времени продолжался полет? Тридцать минут? Час? Сколько осталось до восхода солнца — восемь часов, девять? Он старается не думать о бескрайних водных пространствах, о страшных океанских глубинах, о том, что в августе над Атлантикой то и дело зарождаются штормы и ураганы.
Скотт продолжает мерно грести, гоня от себя все мысли. Внезапно он чувствует, как под водой что-то касается его ноги.
Он замирает на месте, парализованный ужасом, и тут же начинает тонуть. Затем, инстинктивно сделав резкий гребок ногами, снова выныривает на поверхность.
«Акула, — думает Скотт. — Нельзя делать резких движений».
Но, перестав грести, он утонет.
Скотт переворачивается на спину, делая глубокие вдохи и выдохи. Никогда раньше он не осознавал так ясно, что человек — всего лишь одно из звеньев в пищевой цепочке. Все его инстинкты кричат о том, что нельзя поворачиваться спиной к тому, что таится в океанских глубинах, но Скотт это делает. Он неподвижно лежит на спине, стараясь напустить на себя беззаботный вид, и волны раскачивают его вверх-вниз.
— Что мы делаем? — спрашивает мальчик.
— Отдыхаем. Давай сейчас будем как можно меньше двигаться, ладно? Не шевелись. И постарайся не опускать ноги в воду.
Мальчик молча старается подобрать ноги под себя. Животный инстинкт подсказывает Скотту, что самое правильное — обратиться в бегство. Однако он пересиливает себя и не следует этому порыву. Акула способна почувствовать каплю крови в миллионе галлонов воды. Если у кого-нибудь из них — у самого Скотта или у мальчика — даже небольшое кровотечение, им конец. Если же крови нет и они будут сохранять полную неподвижность, есть шанс, что акула, если это она, их не тронет.
Скотт берет мальчика за руку.
— А где моя сестра? — спрашивает тот.
— Не знаю, — тихо отвечает Скотт. — Самолет упал в море, и нас разбросало по воде в разные стороны. Возможно, с ней все в порядке. Не исключено, что она сейчас вместе с родителями так же, как мы, плывет по волнам. А может, их уже спасли.
— Я так не думаю, — говорит мальчик после паузы.
После этого они долгое время молчат. Туман понемногу начинает рассеиваться. Сначала в нем появляются небольшие прогалины, затем через них становятся видны звезды. Еще немного — и над океаном разливается лунное сияние. Поверхность воды разом становится похожа на черно-синее одеяло, расшитое золотыми блестками. Лежа на спине, Скотт снова находит на небе Полярную звезду и убеждается, что они плывут в правильном направлении. Затем переводит взгляд на мальчика. В широко раскрытых детских глазах явственно читается ужас.
— Привет, — ободряюще произносит Скотт, чувствуя, как вода плещет ему в уши.
— Привет, — отзывается мальчик с серьезным лицом.
— Ну что, мы достаточно отдохнули? — интересуется Скотт.
Ребенок кивает.
— Ладно, — произносит Скотт и переворачивается в воде на грудь. — Тогда поплыли домой.
Он снова начинает грести, уверенный, что вот-вот почувствует удар снизу, после которого его тело со страшной, непреодолимой силой стиснут безжалостные челюсти, вооруженные острыми, как бритва, зубами. Но этого не происходит, и через некоторое время Скотт забывает об акуле. Его ноги в воде рывком расходятся в стороны и снова соединяются вместе. Правая рука раз за разом загребает, совершая движение от груди в сторону. То же самое делает и левая, но с гораздо меньшей амплитудой. Чтобы отвлечься, Скотт думает о всякой ерунде. Например, представляет, что плывет не в воде, а в какой-нибудь другой жидкости — в молоке, в супе, в кукурузном виски. В океане из бурбона.
Иногда он принимается раздумывать о своей жизни, но многие события кажутся ему теперь незначительными. Его амбиции, арендная плата, которую Скотт аккуратно вносит каждый месяц, бросившая его жена — все это для него сейчас неважно. Еще он думает о своей работе и представляет, как кистью наносит краски на холст. Что ж, теперь ему предстоит изобразить на картине океан, мазок за мазком.
Плывя в водах Атлантики, Скотт понимает, что никогда раньше не осознавал ясно своего предназначения. А сейчас оно очевидно. Он пришел на эту землю, чтобы покорить океан и спасти оказавшегося рядом мальчика. Около сорока лет назад судьба привела его на берег залива Сан-Франциско и показала бронзового бога со связанными руками, боровшегося с волнами и течением. Она заставила его научиться плавать и стать членом команды пловцов сначала школы, а затем и колледжа. Теперь понятно, зачем Скотт каждый день вставал в пять часов утра и тренировался до восхода солнца вместе с другими спортсменами. Судьбе было угодно, что он научился плавать и привык к воде, но не что-нибудь, а сила воли привела его к победе в трех чемпионатах штата среди старшеклассников в плавании вольным стилем на дистанции двести метров.
Он очень любил, прыгнув с бортика в бассейн, ощутить в ушах шум и давление воды. Иногда ему даже снилось, что он плавает. А когда в колледже Скотт впервые взялся за кисть, первый мазок, положенный им на холст, оказался голубого цвета.
Он уже начинает чувствовать жажду, когда мальчик вдруг спрашивает:
— Что это?
Подняв голову, Скотт смотрит вправо, туда, куда указывает ребенок. И видит бесшумно надвигающуюся на них огромную черную волну. Она набирает силу, становится все выше. Скотт определяет, что ее освещенный луной гребень вздымается над поверхностью воды на добрых восемь метров. Он ощущает приступ паники. Времени на раздумья слишком мало. Скотт, чуть изменив курс, забирает правее и плывет навстречу волне, которая должна накрыть их с мальчиком секунд через тридцать. Левое плечо раздирает резкая боль, но он не обращает на это внимания. Мальчик плачет, понимая, что смерть совсем близко, но у Скотта нет времени, чтобы его успокоить.
— Вдохни как можно глубже и задержи дыхание, — говорит он. — Как можно глубже, понял?
Волна слишком велика и надвигается так быстро, что оказывается совсем рядом прежде, чем Скотт успевает набрать в легкие хорошую порцию воздуха. Он стаскивает мальчика с подушки сиденья и ныряет вместе с ним.
В его левом плече что-то снова щелкает. Мальчик бьется у Скотта в руках, стараясь освободиться от сумасшедшего, который пытается его утопить. Скотт еще крепче прижимает ребенка к себе и продолжает протискиваться в глубину. Он чувствует, как давление на барабанные перепонки нарастает, легкие его горят огнем, сердце отчаянно колотится.
Когда волна нависает над ними, Скотту кажется, что ему и мальчику пришел конец. Он понимает, что сейчас гигантский водяной вал проглотит их и, оторвав друг от друга, попросту утопит. Продолжая удерживать мальчика, Скотт борется за каждый сантиметр под водой. Гребень волны закручивается вперед. Водяное чудовище обрушивается вниз, словно исполинский молот, и рассыпается, а по тому месту, где оно только что было, прокатывается, перемешивая клочья шипящей пены, еще одна волна, поменьше.
Скотта и ребенка бросает и вращает, словно щепки. Скотту чудом удается не разжать руки. Легкие его молят о пощаде, соленая вода отчаянно щиплет глаза. Мальчик уже перестал барахтаться в его объятиях. Вокруг них — непроницаемая чернота. Скотт начинает выдыхать воздух из легких и чувствует, как его пузырьки, устремляясь вверх, щекочут его щеки и подбородок. Делая резкие движения ногами, он устремляется к поверхности.
Вынырнув, он отчаянно кашляет, чувствуя, что наглотался воды. Ребенок в его руках обмяк и не двигается, голова его лежит на плече Скотта. Повернув его спиной к себе, Скотт, выбиваясь из сил, начинает ритмично сжимать и разжимать руки на детской груди. Наконец мальчик тоже начинает кашлять.
Подушка авиационного сиденья исчезла, утопленная или отнесенная далеко в сторону. Скотт обнимает ребенка здоровой правой рукой, чувствуя, что сам он замерз и выбился из сил.
— Это был очень большой плохой парень, — с трудом произносит мальчик, лязгая зубами от холода.
Смысл сказанного не сразу доходит до Скотта. Ну да, конечно, он ведь сам говорил ребенку, что волны — это плохие парни, а они с ним — герои.
«Какой храбрый парнишка», — удивляется Скотт.
— Я бы сейчас, пожалуй, не отказался от чизбургера, — произносит он. — А ты?
— Я бы съел кусок пирога, — отзывается мальчик после небольшой паузы.
— С чем?
— С чем угодно.
Скотт смеется. Ему не верится, что они еще живы. Он чувствует головокружение и сразу за этим — прилив энергии. Второй раз за ночь Скотт оказался лицом к лицу со смертью и ускользнул из ее лап. Он смотрит на небо, пытаясь снова отыскать Полярную звезду.
— Нам еще далеко плыть? — спрашивает мальчик.
— Не очень, — отвечает Бэрроуз, хотя от берега их могут отделять многие мили.
— Я замерз, — жалуется ребенок, стуча зубами.
— И я тоже. — Скотт крепче прижимает его к себе. — Держись, ладно?
Он подныривает под мальчика. Тот обнимает его сзади за шею, и Скотт слышит его сопение.
— Мы должны доплыть, — говорит Бэрроуз скорее себе, чем своему невольному спутнику.
Еще раз посмотрев на него, Скотт снова начинает грести. Теперь он продвигается вперед на боку, делая ножницеобразные движения ногами. Этот импровизированный стиль плавания весьма неудобен, Скотту никак не удается поймать ритм. И он, и мальчик дрожат от холода. Температура их тел с каждой минутой снижается. Пройдет еще какое-то время, и замедлятся дыхание и пульс. Чтобы функционировать, человеческому телу нужно тепло. Без него жизненно важные органы начинают отказывать.
«Не сдавайся.
Никогда не сдавайся».
Скотт, напрягая все силы, продолжает плыть. Ему трудно держаться на воде из-за того, что тащит на себе мальчика, но он упрямо двигает немеющими ногами. Луна освещает простирающееся вокруг бескрайнее водное пространство, покрытое белыми гребнями волн.
Скотт чувствует, что кожа на ногах в тех местах, где они во время гребков соприкасаются друг с другом, начинает саднить. Очевидно, там возникли потертости, и соленая вода безжалостно разъедает их. Губы его высохли и потрескались. В небе летают чайки, время от времени издавая пронзительные крики. Скотту кажется, что птицы насмехаются и, словно стервятники, с нетерпением ждут, когда они с мальчиком перестанут сопротивляться неизбежному. По его ощущениям, пребывание в воде длится уже много часов.
— Земля, — неожиданно произносит ребенок.
Сначала Скотту кажется, что это сон или слуховая галлюцинация. Но мальчик, подняв руку, указывает куда-то и повторяет:
— Земля.
Скотт по-прежнему не может поверить в услышанное, но все же приподнимается в воде и смотрит в ту сторону, куда показал ребенок. Позади них начинается восход, и солнце окрашивает небо первыми розовыми лучами. Сначала Скотт думает, что темная полоса, простирающаяся перед ними, — не что иное, как низко нависшие над горизонтом тучи. Но затем понимает, что это действительно земля. Целые мили земной тверди — с пляжами, городами, домами и улицами.
Значит, они с мальчиком спасены.
Скотт старается сдержать рвущееся наружу ликование. Им еще предстоит проплыть примерно милю, преодолев течение и прибой, а это нелегкая задача. Ноги его дрожат от напряжения, левая рука совсем онемела. И тем не менее все его существо наполняет бурная, пьянящая радость.
Он сделал это. Он спас их.
Это настоящее чудо.
Примерно час спустя немолодой седеющий мужчина, пошатываясь, выходит на берег, держа на руках четырехлетнего мальчика, и вместе с ним падает на песок. Солнце уже взошло. В голубом небе безмятежно плывут тонкие, словно кисея, белоснежные облака. Температура воздуха около 25 градусов. Над линией прибоя вьются чайки. Мужчина, тяжело дыша, лежит совершенно неподвижно. Теперь, доплыв до берега, он полностью выбился из сил и больше не в состоянии сдвинуться ни на сантиметр.
Прильнувший к его груди мальчик тихонько плачет.
— Все в порядке, — говорит Скотт. — Мы уже в безопасности. Теперь с нами все будет хорошо.
Неподалеку от них находится павильон местной спасательной службы. Он явно пустует. На вывеске с задней стороны строения написано: «Государственный пляж Монтока».
Штат Нью-Йорк. Он доплыл до штата Нью-Йорк.
Скотт улыбается, и эта улыбка полна мальчишеской гордости.
«Черт побери, — думает он. — День будет чудесный».
Какой-то рыбак, глаза которого косят в разные стороны, подвозит их до больницы. Все трое — водитель и оба пассажира — теснятся на потертом сиденье старенького пикапа, скрипящего изношенными амортизаторами. Скотт и мальчик по-прежнему в одном белье, без обуви. У них нет ни денег, ни документов. Оба страшно замерзли. Они почти восемь часов пробыли в воде температурой около шестнадцати градусов. Переохлаждение сделало их вялыми и молчаливыми.
Зато рыбак без умолку болтает по-испански, рассказывая пассажирам что-то об Иисусе Христе. Приемник в машине включен, но из динамика в основном доносится шум помех. Сквозь дыру в проржавевшем полу пикапа в салон со свистом врываются потоки воздуха. Скотт, пытаясь хоть немного согреть мальчика, здоровой рукой растирает ему плечи и спину. Там, на пляже, Скотт на ломаном испанском сказал рыбаку, что это его сын. Это было легче сделать, чем объяснить, как обстоит дело в действительности.
Левой рукой Скотт теперь не в состоянии даже шевельнуть. Всякий раз, когда пикап подпрыгивает на очередном ухабе или проваливается в яму, все его тело пронзает острая, как нож, боль, от которой он время от времени ощущает приступы головокружения и тошноты.
«С тобой все в порядке, — снова и снова мысленно повторяет он. — Ты сделал это». Однако в глубине души Скотт все еще не может поверить, что им с мальчиком удалось спастись.
— Спасибо, — едва слышно произносит он, когда пикап, поднявшись по пандусу, останавливается у приемного покоя Монтокской больницы. Открыв дверь здоровым плечом, он выбирается из машины, чувствуя, что настолько устал, что едва может стоять на ногах. Утренний туман уже исчез, и Скотт с наслаждением подставляет солнечным лучам спину и плечи. Он помогает мальчику спрыгнуть из кабины на асфальт. Вместе они с трудом ковыляют ко входу в больницу.
В приемном покое почти пусто. В углу сидит мужчина средних лет, прижимая к голове пакет со льдом, и с его запястья на покрытый линолеумом пол стекают струйки воды. В другом конце помещения устроилась пожилая супружеская пара. Старики держатся за руки. Женщина время от времени кашляет в скомканный бумажный платок.
В помещении регистратуры, отделенном от приемного покоя стеклом, сидит медсестра. Скотт, прихрамывая, подходит к ней. Мальчик следует за ним.
— Привет, — говорит Скотт.
Сестра окидывает его быстрым взглядом. Судя по надписи на значке, приколотом к ее халату, ее зовут Мелани. Скотт пытается представить, как выглядит со стороны, и понимает, что вид у него по меньшей мере странный.
— Мы попали в авиакатастрофу, — говорит он.
Произнесенные вслух, эти слова звучат дико и неправдоподобно. Медсестра слегка прищуривается.
— Простите, что вы сказали?
— Мы были на борту частного самолета, вылетевшего с Мартас-Вайнъярд. Самолет упал в море и разбился. Думаю, у нас переохлаждение, и еще я не могу двигать левой рукой. Возможно, у меня сломана ключица.
Медсестра все еще не в состоянии осознать смысл слов Скотта.
— Вы имеете в виду, что самолет потерпел катастрофу над морем, то есть рухнул в воду?
— Да. Потом мы долго плыли. Думаю, я проплыл миль десять или пятнадцать. Нам удалось выбраться на берег примерно час назад. Какой-то рыбак привез нас сюда.
Скотт закрывает глаза, чувствуя, что у него снова начинает кружиться голова.
— Послушайте, — говорит он после паузы, — может, нам все-таки окажут какую-нибудь помощь? По крайней мере, мальчику. Ему всего четыре года.
Медсестра переводит взгляд на мокрого, дрожащего ребенка.
— Это ваш сын?
— Если я скажу «да», вы позовете врача?
— А вот грубить совершенно ни к чему, — фыркает сестра.
Скотт стискивает зубы, и на щеках у него вспухают желваки.
— А по-моему, это как раз очень даже уместно. Повторяю, мы попали в авиакатастрофу. Может, вы все-таки позовете какого-нибудь чертова врача?
Медсестра с нерешительным видом встает со стула.
Скотт бросает взгляд на подвешенный к потолку телевизор. Звук выключен, но на экране отчетливо видны катера спасателей, прочесывающие океан квадрат за квадратом. В углу Скотт видит баннер с надписью: «Над океаном пропало частное воздушное судно».
— Поглядите вон туда, — предлагает он и указывает пальцем на телевизор. — Может, теперь вы нам поверите?
Медсестра смотрит на экран, на котором в этот момент появляются плавающие на поверхности океана обломки, и разом меняется в лице. С этого момента она начинает вести себя совсем по-другому. Все выглядит так, словно перед этим Скотт, собравшийся пересечь границу, долго и безуспешно шарил по карманам в поисках паспорта, а затем нашел документ и предъявил его сотруднику миграционной службы.
Медсестра нажимает кнопку интеркома.
— Оранжевый код, — произносит она в микрофон. — Все свободные врачи нужны мне в приемном покое. Немедленно.
Скотт чувствует нестерпимое жжение на коже в тех местах, где ее разъела морская соль. Его организм обезвожен, ему явно недостает калия. Состояние Скотта похоже на состояние марафонца после пробега.
— Пожалуй, одного доктора будет достаточно, — с трудом говорит он и мешком оседает на пол. Вытянувшись на линолеумном покрытии, он снизу смотрит на мальчика. Лицо ребенка серьезно, вид у него встревоженный. Скотт пытается выдавить из себя ободряющую улыбку, но он так устал, что не удается даже растянуть губы.
В следующее мгновение их окружает группа людей в халатах. Скотт чувствует, как его поднимают с пола и кладут на носилки. Ладонь мальчика выскальзывает из его пальцев.
— Нет! — кричит мальчик и бьется в руках одного из докторов. Врач пытается объяснить ребенку, что ничего плохого ни с ним, ни с его спутником больше не случится, но это не помогает. Скотт, напрягая все силы, принимает сидячее положение.
— Эй, приятель, — зовет он. Ему приходится произнести эти слова несколько раз, с каждым разом все громче и громче. Наконец мальчик, услышав их, смотрит в его сторону. — Не волнуйся, все в порядке. Я здесь.
Скотт сползает с носилок. Ноги у него совершенно ватные, так что стоять очень трудно.
— Сэр, — обращается к нему одна из медсестер, — вам нужно лечь.
— Я в порядке, — заверяет Скотт. — Помогите ребенку. — Затем снова обращается к мальчику: — Я здесь, я никуда не уйду.
Ребенок какое-то время смотрит на Скотта. Сейчас, при свете дня, хорошо видно, что глаза у него удивительно яркого голубого цвета. Проходит несколько секунд, и мальчик кивает в ответ. Скотт поворачивается к врачу.
— Думаю, будет лучше, если вы все сделаете побыстрее, — поторапливает он. — Надеюсь, вас это не очень затруднит.
Доктор соглашается. Он молод, и по его глазам видно, что это умный и добрый человек с неплохим чувством юмора.
— Ладно, — говорит он. — Но я собираюсь посадить вас в инвалидное кресло.
Скотт молча кивает. Одна из сиделок подкатывает кресло, и он буквально падает в него.
— Вы отец мальчика? — спрашивает сиделка, толкая кресло перед собой по коридору в сторону смотрового кабинета.
— Нет, — отвечает Скотт. — Мы познакомились совсем недавно.
В кабинете доктор быстро, но внимательно осматривает мальчика, проверяя, нет ли переломов, и светит фонариком в его глаза, прося следить за движениями своего пальца.
— Нам нужно поставить ему капельницу, — сообщает врач Скотту. — Организм ребенка сильно обезвожен.
— Эй, приятель, — обращается Скотт к мальчику. — Доктор должен воткнуть тебе в руку иголку. Надеюсь, ты не возражаешь? Нужно закачать в тебя немного жидкости и витаминов.
— Никаких иголок, — отказывается ребенок, и Скотт видит в его глазах страх.
— Иголки я и сам не люблю, — доверительно говорит Скотт. — Вот что, давай сделаем так. Пусть мне тоже поставят капельницу, как и тебе. Ну, что скажешь?
Мальчик некоторое время раздумывает и в конце концов кивает. Предложение кажется ему справедливым.
— Вот и хорошо. Я буду держать тебя за руку. А на иголку ты не смотри, ладно? — Скотт поворачивается к доктору. — Вы можете заняться нами одновременно?
Доктор соглашается и отдает необходимые распоряжения. Медсестры вешают прозрачные мешки с физраствором на металлические штативы и готовят иглы.
— А теперь смотри на меня, — велит Скотт, когда наступает самый страшный для ребенка момент.
Голубые глаза мальчика становятся огромными, словно чайные блюдца. Когда игла входит в его вену, он морщится. Губы его слегка вздрагивают, но он не плачет.
— Ты герой, — ободряюще улыбается Скотт. — Ты настоящий герой, парень.
Скотт чувствует, как с каждой каплей жидкости, поступающей в его организм из укрепленного на штативе пакета, он оживает. Ощущение, что вот-вот потеряет сознание, быстро проходит.
— Я собираюсь ввести вам обоим легкий седативный препарат, — сообщает врач. — Вы долгое время находились в стрессовой ситуации. Будет неплохо, если вы оба немного успокоитесь.
— Я в полном порядке, — заверяет доктора Скотт. — Займитесь в первую очередь ребенком.
Врач не видит смысла спорить с ним. Сестра вводит иглу в эластичную трубку капельницы мальчика.
— Тебе надо немного отдохнуть, — говорит ему Скотт. Я буду здесь, рядом. Разве что выйду куда-нибудь на минутку, но сразу же вернусь. Договорились?
Мальчик в очередной раз кивает. Скотт гладит его по голове. Он вспоминает, как в девятилетнем возрасте упал с дерева и сломал ногу. В больнице он держался молодцом, но, когда в палату вошел его отец, Скотт позорно разревелся. Что же касается спасенного им мальчика, то его родители почти наверняка погибли. Это означало, что они не придут навестить сына, а следовательно, у него не будет возможности расслабиться и дать волю слезам.
— Вот и хорошо, — пробормотал Скотт, увидев, что глаза мальчика понемногу закрываются. — Ты просто молодчина.
После того как ребенок заснул, Скотта в инвалидном кресле отвозят в другой смотровой кабинет. Там его кладут на носилки. Он совсем не может двигать левой рукой. Плечевой сустав словно заклинило.
— Как вы себя чувствуете? — спрашивает врач. На вид ему лет тридцать восемь. Кожу в уголках глаз прорезают лучики мелких морщинок — так бывает у людей, которые много улыбаются.
— Знаете, — отвечает Скотт, — мне кажется, что все вокруг начинает вращаться.
Доктор быстро проводит поверхностный осмотр, проверяя, есть ли на теле пациента раны или гематомы.
— Вы в самом деле плыли всю ночь в полной темноте?
Скотт кивает.
— Вы вообще что-нибудь помните?
— Немногое.
Доктор светит фонариком ему в глаза.
— Головой обо что-нибудь ударялись?
— Не помню. Наверное. Видите ли, самолет упал в воду…
Свет фонарика на секунду ослепляет Скотта. Доктор удовлетворенно хмыкает.
— Ну, ваши глазные рефлексы в порядке. Полагаю, сотрясения мозга у вас нет.
— Мне кажется, я не смог бы плыть всю ночь с сотрясением мозга.
— Пожалуй, вы правы, — соглашается врач, немного подумав.
Теперь, когда ему снова тепло, а в обезвоженный организм поступает жидкость, Скотт вспоминает о существовании остального мира. О том, что на свете есть разные страны и народы, миллионы людей продолжают жить своей обыденной жизнью, есть телевидение и Интернет. Он думает о том, что его трехлапый пес, оставленный на попечение соседа, мог никогда больше не увидеть своего хозяина, который часто подкармливал его под столом кусочками мяса в дополнение к обычному рациону. Почувствовав, как его глаза наполняются слезами, Скотт встряхивает головой.
— Что говорят в новостях? — интересуется он.
— Немного. Что самолет взлетел вчера примерно в десять вечера. Служба авиаконтроля видела его на экранах своих радаров около пятнадцати минут, а потом он исчез. Сигнал бедствия борт не подавал. Была надежда, что произошел отказ радиосвязи, а самолет совершил где-нибудь вынужденную посадку. Но потом с какой-то рыбацкой лодки на воде заметили обломок крыла.
На какое-то время Скотт снова мысленно оказывается в чернильной темноте океана, освещаемой оранжевыми отблесками пламени.
— А есть… другие выжившие? — спрашивает он.
Доктор отрицательно качает головой. Он полностью поглощен осмотром плеча Скотта.
— Вот так больно? — Он осторожно приподнимает руку пациента.
В тело Скотта словно вонзается раскаленный нож. Он невольно издает громкий вопль.
— Нужно сделать рентгеновский снимок и томографию, — говорит врач, обращаясь к медсестре. — Я хочу убедиться, что нет внутреннего кровотечения.
Затем он кладет руку на предплечье Скотта.
— Вы спасли мальчику жизнь, — восхищенно объявляет доктор. — Вы ведь это знаете, верно?
Скотт снова чувствует, как на глаза наворачиваются слезы. В течение нескольких долгих секунд он не в состоянии произнести ни слова.
— Я собираюсь позвонить в полицию, — говорит доктор. — Сообщу им, что вы здесь. Если вам будет что-нибудь нужно, скажите об этом сестре. Я скоро вернусь и проверю, как у вас дела.
Скотт кивает:
— Спасибо.
Доктор некоторое время молча смотрит на него, а потом потрясенно качает головой.
— Черт побери, — произносит он себе под нос и, улыбаясь, выходит из кабинета.
В течение всего следующего часа у Скотта берут всевозможные анализы. Он согревается, температура его тела возвращается к нормальной. В качестве болеутоляющего средства ему дают таблетку викодина. Приняв ее, он погружается в сладкое полузабытье. Выясняется, что плечо у него вывихнуто, но кости целы. Боль, которую ему причиняет хирург, вправляя сустав, просто чудовищна. Но сразу же после этого Скотт мгновенно ощущает такое облегчение, что некоторое время даже не может поверить в столь быстрое окончание своих мучений.
По настоянию Скотта его отвозят в палату к мальчику. Обычно детей держат в отдельном крыле больницы, но в данном случае персонал решает сделать исключение из общего правила. Когда Скотта в инвалидном кресле вкатывают в палату, ребенок не спит. Он ест желе из пластикового стаканчика.
— Как дела? — интересуется Скотт.
— Круто, — отвечает мальчик и хмурится.
Кровать Скотта стоит у окна. Он с наслаждением ложится на грубые больничные простыни. На другой стороне улицы он видит дома и деревья. По дороге едут машины, и на их ветровых стеклах сверкают солнечные блики. По велосипедной дорожке навстречу движению бежит трусцой какая-то женщина. Неподалеку в небольшом дворике мужчина в голубой бейсболке ухаживает за газоном.
Это кажется невероятным, но жизнь продолжается, словно ничего не случилось.
— Ты хоть поспал немного? — обращается Скотт к мальчику.
Тот неопределенно пожимает плечами и спрашивает:
— А мама еще не приехала?
— Нет, — отвечает Скотт, стараясь сохранить нейтральное выражение лица. — Работники больницы позвонили твоей тете — у тебя вроде бы есть дядя и тетя, которые живут в Коннектикуте. Они уже едут сюда.
— Тетя Элли, — говорит мальчик и улыбается.
— Она тебе нравится?
— Она смешная.
— Смешная — это хорошо, — задумчиво произносит Скотт и прищуривается. — Вот что, я немного посплю, если ты не против.
Впрочем, если мальчик и высказал на этот счет какие-то возражения, Скотт бы их не услышал — он засыпает прежде, чем ребенок успевает ответить.
Он спит крепко и без сновидений, а когда просыпается, мальчика в палате нет. Скотт чувствует приступ паники. Он уже спускает ноги с кровати, когда дверь ванной открывается, и оттуда выходит мальчик, катя перед собой штатив с капельницей.
— Мне надо было в туалет, — поясняет он.
В палате появляется медсестра, чтобы померить Скотту давление. Кроме того, она приносит мальчику игрушку — набитого чем-то мягким коричневого медведя, держащего в лапах красное сердце. Мальчик, издав счастливый возглас, протягивает к медведю руки и тут же принимается с ним играть.
— Ох уж эти дети, — говорит медсестра и качает головой.
Скотт понимающе кивает. Теперь, когда он немного поспал, у него возникает желание побольше узнать об авиакатастрофе. Он интересуется у медсестры, можно ли ему встать. Она отвечает утвердительно, но просит его далеко не отлучаться.
— Я сейчас вернусь, приятель, ладно? — обращается Скотт к мальчику.
Тот кивает, продолжая вертеть в руках медведя.
Скотт набрасывает поверх больничного халата еще какое-то хлопчатобумажное одеяние, напоминающее мантию, и, прихватив штатив с укрепленной на нем капельницей, выходит в коридор. Вскоре он оказывается в комнате отдыха, где нет ни души. В небольшом помещении есть телевизор, перед которым стоит диван и расставленные рядами раскладные стулья. Скотт опускается на диван и, найдя новостной канал, прибавляет звук.
— …самолет марки «Лир» был сделан в Канзасе. На борту находились Дэвид Уайтхед — президент Эй-эл-си ньюс и члены его семьи. Подтверждено также наличие в списке пассажиров Бена Киплинга и его супруги Сары. Киплинг был старшим партнером в корпорации «Уайатт Хэтоуэй», которая является одним из финансовых гигантов Уолл-стрит. Предполагается, что самолет упал в Атлантический океан неподалеку от побережья штата Нью-Йорк вскоре после десяти часов вечера.
На экране возникают кадры видеозаписи, сделанной с вертолета. Скотт видит свинцово-серую, изрытую волнами поверхность океана. На воде покачиваются катера спасателей, а также лодки любителей морских прогулок, с интересом разглядывающих участников поисковой операции. Скотт думает о том, что обломки и другие следы авиакатастрофы давно унесло течением на десятки, а может, и сотни миль от места падения самолета. И еще в его сознании невольно возникает мысль, что еще совсем недавно он сам был там, в холодной воде — крохотная песчинка в бескрайних враждебных водах.
— Согласно поступающей информации, — продолжает диктор, — Бен Киплинг мог быть фигурантом расследования, проводимого Комиссией по ценным бумагам и биржам. По некоторым данным, ему собирались предъявить обвинения. Что именно было предметом расследования, пока неясно. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.
На экране появляется фото Бена Киплинга, сделанное, судя по всему, несколько лет назад. Скотт осознает, что обо всех находившихся на борту самолета, кроме него самого и мальчика, теперь можно говорить только в прошедшем времени. От этой мысли по его спине бегут мурашки, а тонкие волоски сзади на шее встают дыбом. В это время кто-то стучит в дверь комнаты отдыха и открывает ее. Скотт видит в коридоре группу людей в костюмах.
— Мистер Бэрроуз? — спрашивает стоящий на пороге чернокожий седовласый мужчина лет шестидесяти на вид. — Я Гэс Франклин из Национального управления безопасности перевозок.
Скотт инстинктивно пытается встать, но гость жестом останавливает его:
— Нет-нет, пожалуйста, не надо. Вам столько довелось перенести.
Скотт снова опускается на диван и укрывает халатом ноги.
— Я просто… смотрел телевизор, — говорит он. — Репортаж про спасательную операцию. Или поисково-спасательную? Не знаю, как это называется. Честно говоря, я все еще в шоке.
— Разумеется, — Гэс Франклин обводит взглядом помещение. — Думаю, здесь поместятся человека четыре, не больше, — обращается он к своим спутникам, продолжающим толпиться в коридоре. — В противном случае тут станет слишком тесно.
Прибывшие проводят короткое совещание и решают, что в комнате отдыха останутся пятеро из них. Гэс присаживается на диван рядом со Скоттом. Женщина в очках, с волосами, стянутыми в конский хвост, встает слева от телевизора. Рядом с ней располагается бородатый мужчина в дешевом костюме, недавно посетивший парикмахерскую, где можно подстричься за восемь долларов. Ясно, что эти двое — мелкая сошка. Еще двое мужчин остаются в дверях — крупные, с военной стрижкой, в дорогих костюмах, они смотрятся весьма внушительно.
— Как я уже сказал, я представляю Национальное управление безопасности перевозок, — снова вступает Гэс. — Лесли из Федерального агентства гражданской авиации, Фрэнк — из компании «Лир-джет». Там, в дверях — специальный агент ФБР О’Брайен и Роджер Хекс из комиссии по ценным бумагам и биржам.
— По ценным бумагам и биржам, — повторяет Скотт. — Я только что слышал это название по телевизору.
Хекс никак не реагирует на его слова и молча жует жевательную резинку.
— Если вы не против, мистер Бэрроуз, — говорит Гэс, — мы бы хотели задать вам несколько вопросов насчет этого злополучного полета. Нам важно знать, кто находился на борту и при каких обстоятельствах произошла авиакатастрофа.
— Если только это была авиакатастрофа, — вставляет О’Брайен. — А не террористический акт.
Гэс не обращает на эту реплику никакого внимания.
— Вот что мне известно на данный момент, — говорит он. — До сих пор других выживших не обнаружено. Ни одно тело не найдено. На поверхности воды в двадцати девяти милях от побережья Лонг-Айленда удалось найти несколько обломков фюзеляжа. Сейчас их осматривают.
Гэс, положив руки на колени, наклоняется вперед.
— Вам здорово досталось. И, если вы хотите прервать нашу беседу, вам достаточно только сказать об этом.
— За мальчиком вроде бы уже выехали его дядя и тетя из Коннектикута, — замечает Скотт. — Вы не знаете, когда они прибудут сюда?
Гэс бросает взгляд на О’Брайена. Тот молча разворачивается и выходит в коридор.
— Мы сейчас это выясним. — Гэс достает из портфеля папку. — Итак, первое, что я должен сделать, — установить, сколько людей находилось на борту.
— А разве у вас нет плана полета и списка пассажиров? — удивляется Скотт.
— Планы полетов частные авиакомпании представляют, но их списки пассажиров зачастую неточны.
Гэс вынимает из папки какие-то бумаги и начинает их просматривать.
— Если не ошибаюсь, ваше имя Скотт Бэрроуз? — уточняет он.
— Да.
— Вы не могли бы сообщить мне номер вашей страховки?
Скотт на память называет комбинацию цифр. Гэс записывает ее.
— Спасибо. Это нам поможет. В трех ближайших штатах проживает шестнадцать человек по имени Скотт Бэрроуз. Теперь мы знаем, с кем из них мы имеем дело.
Гэс улыбается, стараясь разрядить атмосферу. Скотт пытается ответить тем же, но не очень успешно.
— Пока нам удалось выяснить, что экипаж самолета состоял из трех человек — командира, второго пилота и стюардессы. Если я назову их имена, вы их узнаете?
Скотт отрицательно качает головой. Гэс делает в бумагах какую-то пометку.
— Еще мы знаем, — продолжает он, — что места в самолете заказал для себя и членов своей семьи Дэвид Уайтхед. Все они — он сам, его жена Мэгги и двое его детей, Рэйчел и Джей-Джей, были на борту.
Скотт вспоминает улыбку, которая расцвела на лице Мэгги, когда он вошел в салон самолета. В ней таилось столько тепла, столько дружелюбия! А ведь они были едва знакомы и всего несколько раз разговаривали — о ее детях, о его работе. Обычные, ничего не значащие разговоры. И вот теперь ее нет в живых. Она погибла, ее тело лежит где-то на дне Атлантики. При этой мысли Скотт чувствует, как к горлу подкатывает тошнота.
— И наконец, — продолжает Гэс, — помимо вас, по нашим данным, на борту находились Бен Киплинг и его жена Сара. Вы можете это подтвердить?
— Да, — отвечает Скотт. — Я познакомился с ними, когда сел в самолет.
— Опишите мне мистера Киплинга, пожалуйста, — говорит Хекс, сотрудник комиссии по ценным бумагам и биржам.
— Рост около ста восьмидесяти. Седые волосы. И еще, знаете, у него очень выпуклые надбровные дуги. Это я помню точно. Как и то, что его жена все время болтала.
Хекс смотрит на О’Брайена и кивает.
— И еще одно — чтобы внести полную ясность, — говорит Гэс. — Каким образом на борту оказались вы?
Скотт по очереди переводит взгляд с одного собеседника на другого. Видимо, они проводят расследование и потому хотят установить все факты. В конце концов, произошла авиакатастрофа. Что стало ее причиной? Отказ техники? Ошибка пилота? Кто виноват в случившемся? На ком лежит ответственность за произошедшее?
— Видите ли, я… — начинает Скотт и на некоторое время умолкает. — Я познакомился с Мэгги, то есть миссис Уайтхед, несколько недель назад. Совершенно случайно. На фермерском рынке. Я ходил туда каждый день выпить кофе и поесть пирожков с луком. Она тоже бывала там — чаще всего с детьми, иногда одна. И как-то раз мы с ней заговорили.
— Вы с ней спали? — спрашивает О’Брайен.
После паузы Скотт отвечает:
— Нет. Но вообще-то это к делу не относится.
— Позвольте нам решать, что относится к делу, а что нет, — рычит О’Брайен.
— Пусть так, — соглашается Скотт. — Тогда, может, вы объясните мне, какое отношение имеет личная жизнь пассажира самолета, попавшего в авиакатастрофу, к вашему — не знаю, как это лучше назвать — расследованию?
Гэс качает головой, давая понять своим спутникам, что с каждой потраченной напрасно секундой они уходят в сторону от решения основной задачи. А она состоит в том, чтобы установить истинную картину происшествия.
— Давайте вернемся к делу, — предлагает он.
Скотт еще некоторое время молча сверлит взглядом О’Брайена, после чего продолжает:
— Потом как-то еще раз случайно я наткнулся на Мэгги — это было в воскресенье утром. Я сказал ей, что мне нужно на неделю съездить в Нью-Йорк. И она предложила полететь с ними.
— А зачем вам нужно было в Нью-Йорк?
— Я художник. Большую часть времени живу на Мартас-Вайнъярд. Но мне необходимо было встретиться с моим агентом и провести переговоры с несколькими галереями об организации выставки. Я планировал отправиться на материк на пароме. Но Мэгги пригласила меня полететь частным самолетом. Все это было как-то… В общем, я чуть не отказался.
— Но в конце концов все же полетели.
Скотт кивает:
— Я решился в самый последний момент. Собирался впопыхах. Когда я взбежал по трапу, они уже закрывали дверь.
— Мальчику повезло, что вы все же успели на рейс, — заметила Лесли из Федерального агентства гражданской авиации.
Скотт на некоторое время задумывается. Было ли это везением? Можно ли считать, что человеку, пережившему такую трагедию, повезло?
— Вам не показалось, что мистер Киплинг был чем-то возбужден? — вмешивается в разговор Хекс, в голосе которого явственно слышны нотки нетерпения. Он проводит собственное расследование, и сам Скотт не представляет для него никакого интереса.
Гэс раздраженно дергает головой.
— Давайте не будем нарушать установленного порядка. Главный здесь я, — говорит он и снова устремляет взгляд на Скотта. — В журнале записей аэропорта говорится, что самолет взлетел в десять часов шесть минут вечера.
— Это похоже на правду, — кивает Скотт. — Правда, на телефон я в тот момент не смотрел.
— Вы можете описать, как проходил взлет?
— Он показался мне очень… мягким. Понимаете, это был первый в моей жизни полет на частном самолете. — Скотт смотрит на Фрэнка, представителя компании «Лир-джет». — Все было очень хорошо. Если, конечно, не считать катастрофы.
Заметно, что от этих слов Фрэнк почувствовал себя не в своей тарелке.
— Вы не отметили ничего необычного? — спрашивает Гэс. — Каких-нибудь странных звуков, толчков, вибрации?
Скотт задумывается. Все произошло слишком быстро. Он еще не успел пристегнуть ремень, а самолет уже начал выруливать на взлет. Потом к нему обратилась Сара Киплинг — она расспрашивала его про работу и про то, как он познакомился с Мэгги. Сидящая неподалеку девочка возилась со своим айпэдом — то ли слушала музыку, то ли играла в какую-то игру. Мальчик спал. А Киплинг… Что делал Бен Киплинг?
— Нет, я так не думаю, — отвечает Скотт на вопрос Гэса. — Я помню, что меня поразила мощь двигателя, когда мы разгонялись. Самолет — это прежде всего мощь. Потом мы оторвались от земли и начали набирать высоту. Большинство шторок на окнах были закрыты. В салоне было светло. По телевизору показывали какой-то бейсбольный матч.
— Вчера вечером играл Бостон, — вставляет О’Брайен.
— Дворкин, — бурчит Фрэнк, и двое федералов, стоящие в дверях, улыбаются.
— Не знаю, имеет ли это какое-нибудь значение, но я также помню, что в салоне играла музыка. Кажется, это был джаз. Синатра или что-то в этом роде, — добавляет Скотт.
— И все же в какой-то момент должно было случиться что-то необычное, — заявляет Гэс.
— Верно. Мы упали в океан, — говорит Скотт.
Гэс кивает.
— Как именно это произошло? — спрашивает он.
— Видите ли, я толком ничего не помню. Мне показалось, что самолет стал менять курс, довольно резко, и я…
— Не торопитесь, вспомните все, — ободряюще произносит Гэс.
Скотт надолго задумывается. В его голове всплывают образы — зрительные и слуховые. Вот самолет отделяется от взлетно-посадочной полосы. Стюардесса предлагает ему выпивку. Потом страшные мгновения падения — вращение, ощущение тошноты, скрежет металла, полная потеря ориентации. Воспоминания Скотта похожи на киноленту, разрезанную на фрагменты, склеенную как попало и запущенную с конца. По идее, мозг человека должен быть способен разобраться в этом месиве и превратить его в более-менее связную картину. Но что делать, если это не получается? Когда трудно понять, где правда, а где плод воображения? Если случившееся просто невозможно изложить в логической последовательности?
— Мне кажется, был какой-то удар. Или удары, — говорит Скотт. — Или сильный толчок. Что-то в этом роде.
— Может быть, взрыв? — с надеждой спрашивает представитель компании «Лир-джет».
— Нет. В смысле, это, как мне кажется, было не похоже на взрыв. Больше походило на стук. И после этого самолет начал падать.
Гэс собирается задать еще какой-то вопрос, но передумывает.
В памяти Скотта возникает крик. Это не выражение осознанного ужаса, а первый ответ человека на опасность, возникшую неожиданно. Подобный внезапный крик стоит в одном ряду с такими рефлекторными реакциями, как холодный пот, мгновенно выступающий из пор, и сжатие сфинктера. Мозг, который большую часть времени пребывает в сонном, полузаторможенном состоянии, начинает работать с лихорадочной быстротой, когда речь идет о жизни и смерти. В такие моменты человеком руководят животные инстинкты.
Внезапно Скотт осознает, что крик, который восстановила его память, издал он сам. Вскоре после этого наступила темнота.
Он бледнеет. Гэс наклоняется к нему.
— Вам нужен перерыв?
Скотт шумно выдыхает.
— Нет. Все в порядке.
Гэс просит одного из помощников принести Скотту содовой из автомата и в ожидании его возвращения излагает факты, которые уже удалось установить.
— Согласно данным радаров, — говорит он, — самолет находился в воздухе пятнадцать минут и сорок одну секунду. Набирая высоту, он добрался до отметки четыре тысячи сто метров, а затем начал резко снижаться.
Скотт чувствует, как по его спине стекают капли пота.
— Я помню, что вокруг по салону летали вещи, среди них успел разглядеть мою сумку. Она плыла по воздуху, и я еще подумал, что это похоже на какой-то фокус. А потом, когда я протянул к ней руку, сумка вдруг куда-то исчезла. Нас все время вращало, и я, кажется, ударился обо что-то головой.
— Вы можете сказать, что произошло дальше? — спрашивает Лесли из Федерального агентства гражданской авиации. — Самолет развалился на части в воздухе? Или пилоту удалось совершить посадку на воду?
Скотт снова напрягает память, но затем отрицательно качает головой.
Гэс кивает:
— Ладно, давайте на этом закончим.
— Погодите, — возражает О’Брайен. — У меня еще есть вопросы.
— Зададите их позже, — говорит Гэс, вставая. — Думаю, сейчас мистеру Бэрроузу надо отдохнуть.
Скотт снова пытается встать, но ему это не удается — у него дрожат ноги.
— Поспите, — советует Гэс, протягивая ему руку. — Когда мы направлялись сюда, я видел, как у здания припарковались два фургона с телевизионщиками. Похоже, СМИ поднимут вокруг этой истории настоящее информационное торнадо и вы окажетесь в самом его центре.
— Что вы хотите этим сказать? — Скотт с недоумением смотрит на Гэса.
— Мы сделаем все, чтобы сохранить ваше имя в тайне, — поясняет Гэс. — Вас не было в списке пассажиров, и это облегчает нашу задачу. Но журналисты наверняка захотят выяснить, каким образом мальчику удалось добраться до берега. Они быстро поймут, что кто-то ему в этом помог, а точнее, спас его. Эта авиакатастрофа может стать очень горячей историей. Так что вы теперь герой, мистер Бэрроуз. Плюс к этому, отец мальчика, Дэвид Уайтхед, был большой шишкой. А тут еще и Киплинг… В общем, есть много деталей, которые в глазах газетчиков делают этот случай настоящей бомбой.
Гэс крепко пожимает Скотту руку.
— Вы чертовски хороший пловец, мистер Бэрроуз.
Скотт молчит. Гэс выпроваживает из палаты всех, кто пришел вместе с ним.
Когда визитеры уходят, Скотт все же поднимается на ноги и, пошатываясь, делает несколько шагов. Его левую руку поддерживает мягкий ортез из полиуретана. В комнате неправдоподобно тихо. Скотт делает глубокий вдох и с шумом выдыхает. Он жив, хотя мог погибнуть. Вчера в это же время он, расположившись у себя на заднем крыльце, завтракал салатом с яйцом, запивая холодным чаем. Во дворе его трехлапый пес, лежа в траве, старательно вылизывал собственное плечо. Скотту предстояло сделать несколько предотъездных звонков и собрать вещи.
И вот теперь все изменилось.
Скотт подкатывает штатив с капельницей к окну и смотрит на улицу. У входа в больницу собирается толпа. Много раз Скотту доводилось становиться свидетелем того, как в жизнь рядовых граждан с телеэкранов врываются так называемые специальные репортажи — о политических скандалах, беспорядочной стрельбе на улицах со множеством убитых, о всплывших тайных романах между сильными мира сего, подробности которых СМИ всегда смакуют с особым наслаждением. Он видел, как «говорящие головы» телеканалов, сверкая безупречными улыбками, рвут людей на куски. Что ж, теперь наступил момент, когда одной из их жертв предстояло стать ему.
Он оказался действующим лицом в истории, попавшей в поле зрения журналистов, и теперь именно ему отведена роль насекомого, распластанного на предметном стекле микроскопа. Для Скотта те, кто собрался у входа в больницу, — это вражеская армия, группирующаяся у его крепости. Стоя в одной из смотровых башен, он наблюдает, как противники подтаскивают к крепостным стенам метательные машины и точат свои клинки. Скотт думает о том, что он должен во что бы то ни стало спасти от них мальчика.
В дверь стучит медсестра. Он оборачивается.
— Пришло время отдохнуть, — говорит она.
Скотт кивает. В эту минуту он вспоминает момент, когда туман над океаном начал рассеиваться и на небе впервые стало видно Полярную звезду. Ее появление дало возможность сориентироваться и точно определить, в каком направлении им с мальчиком следует плыть.
Будет ли он еще когда-либо в жизни так же уверен в том, что все делает правильно? Скотт бросает еще один взгляд в окно и бредет обратно в палату.
СПИСОК ПОГИБШИХ
Дэвид Уайтхед, 56
Маргарет Уайтхед, 36
Рэйчел Уайтхед, 8
Джил Барух, 48
Бен Киплинг, 52
Сара Киплинг, 47
Джеймс Мелоди, 42
Эмма Лайтнер, 29
Чарли Буш, 32
Дэвид Уайтхед 2 апреля 1959—26 августа 2015
Компания Эй-эл-си ньюс, имеющая штат в пятнадцать тысяч сотрудников и ежедневную зрительскую аудиторию более двух миллионов человек, возникла в 2002 году. Один английский миллиардер вложил в создание компании сто миллионов долларов. Дэвид Уайтхед стал ее архитектором и отцом-основателем. Сотрудники за глаза уважительно называли его Председателем. Он был для компании фигурой такого же масштаба, как для американских войск генерал Джордж Паттон, бестрепетно стоявший под пулеметным огнем противника, в то время как пули вздымали фонтанчики земли у его ног.
Все руководители Эй-эл-си ньюс исходили из того непоколебимого факта, что лучше всего продаются новости, в которых присутствует элемент скандала. Для них именно его наличие или отсутствие определяло место того или иного события в новостной сетке. Этим критерием они руководствовались в оценке всего происходящего. Руководители компании были настоящими экспертами, способными предсказать продолжительность, ход развития и последствия той или иной шокирующей общественность истории. Нередко они бились об заклад между собой по поводу того, когда проштрафившийся политик принесет свои официальные извинения, каков будет их текст или к чему в итоге приведет нежданно-негаданно появившийся репортаж, рассказывающий о связи некоего губернатора с проституткой. Ставкой при этом могли быть наручные часы или ручка. Информационные хищники из Эй-эл-си ньюс пытались угадать возможность возникновения скандала в каждой новости, в каждом факте. Не случайно Дэвид Уайтхед любил напоминать, что Уотергейт вырос из расследования ерундового дела о незаконном проникновении в помещение.
В том, что касается новостей и скандалов, Дэвид был настоящим гуру. Ему довелось побывать по обе стороны баррикад. Прежде чем заняться созданием с нуля медиакомпании, он долгое время работал политическим консультантом и организатором предвыборных кампаний, занимаясь в том числе предотвращением и ликвидацией скандалов вокруг нанявших его кандидатов. С тех пор прошло тринадцать лет. За этот период было отработано 4745 суток эфира, или 113 880 часов новостей — о событиях на международной арене, политике, спорте и погоде, то есть 6 832 000 минут непрерывного вещания. Эти цифры впечатляли и могли даже напугать.
При этом руководство и сотрудники компании не были рабами новостей, о которых сообщали миру. Они не являлись заложниками чьих-то действий или, наоборот, бездействия. В этом и состояла Идея, которую Дэвид положил в основу создания Эй-эл-си ньюс, его особый подход к делу. Тринадцать лет назад, обедая в обществе того самого англичанина, который выразил желание инвестировать деньги в проект, он изложил свою позицию максимально просто и ясно.
— Все остальные реагируют на новости, — сказал он. — А мы будем новости создавать.
Суть нового подхода состояла в том, объяснил Дэвид, что, в отличие от Си-эн-эн или Эм-эс-эн-би-си, Эй-эл-си ньюс не просто транслирует новости, а излагает свою точку зрения на них, формирует новостной поток в соответствии со своими представлениями о том, что важно, а что нет. Разумеется, компания не чуралась сообщать о таких событиях, как смерть той или иной знаменитости или очередной сексуальный скандал. Но это было, так сказать, лишь подливкой. Главное же блюдо Эй-эл-си ньюс — создание определенной картины дня на основе собственной информационной политики.
Инвестору идея контроля над новостями понравилась. Дэвид знал, что так и будет. В конце концов, человек, решившийся вложить немалые деньги в создание медиакомпании, был миллиардером, а они любят все контролировать. Покончив с кофе, Дэвид и инвестор обменялись рукопожатием, подтвердив тем самым, что принципиальный вопрос решен.
— Как скоро вы сможете развернуть вещание в полном масштабе? — спросил англичанин.
— Если вы сейчас вложите в это дело семьдесят пять миллионов, мы будем в эфире через восемнадцать месяцев.
— Я дам вам сто миллионов с условием, что вы начнете вещать через полгода.
Дэвид кивнул — и выполнил взятое на себя обязательство, хотя это оказалось крайне сложно. Полгода пролетели быстро, но это было нелегкое время. Требовалось в срочном порядке подыскать подходящее помещение и оборудовать его всем необходимым, придумать логотип, подготовить оригинальную фоновую музыку. И, разумеется, создать команду. Для решения этой задачи пришлось прибегнуть к переманиванию звезд с других каналов. Внимание Дэвида привлек Билл Каннингем, ведущий второразрядного общественно-политического шоу. Это был весьма язвительный белокожий мужчина с острым как бритва умом и фактурной внешностью. Посмотрев один из его эфиров в течение всего нескольких минут, Дэвид понял, что Каннингем обладает огромным потенциалом, который удастся реализовать, если подобрать подходящий формат. Из Билла можно было сделать настоящего телепророка, лицо канала. Противники кандидатуры Каннингема даже считали, что включение его в команду чересчур персонифицировало бы бренд Эй-эл-си ньюс.
— Обучение в элитном университете — это еще не гарантия, что у человека достаточно мозгов, — заявил Каннингем Дэвиду во время их первого совместного завтрака. — В конце концов, какое-то количество серого вещества есть у каждого от рождения. А чего я терпеть не могу — так это распространенного в нашей элите убеждения, что все без исключения ее представители достаточно умны, чтобы управлять страной.
— Вы говорите так, словно выступаете на митинге. Все это лишь громкие слова, — заметил Дэвид.
— А вы, кстати, где учились? — поинтересовался Каннингем, весь подобравшись.
— В Академии ландшафтной архитектуры Святой Марии.
— Нет, серьезно. Я вот, например, в Стоунибруке. Это государственное учебное заведение. Так вот, всякие ублюдки, которые закончили Гарвард или Йель, со мной даже не здоровались. О девицах из этой категории я даже не мечтал. Мне пришлось шесть лет спать с девками из Джерси до тех пор, пока меня не пустили в прямой эфир.
Уайтхед и Каннингем сидели в небольшом кубинско-китайском ресторанчике на Пятой авеню и ели вареные яйца, запивая их крепким черным кофе. Каннингем, крупный молодой мужчина, сознательно старался выглядеть несколько простоватым, этаким рубахой-парнем, у которого что на уме, то и на языке.
— Что вы думаете о телевизионных новостях? — поинтересовался Дэвид.
— Что это дерьмо, — ответил Каннингем, жуя. — Телеканалы вечно пытаются всем втереть, будто они объективны и не становятся на чью-либо сторону. Но посмотрите, какие новости отбираются. Взгляните, кто их герои. Те, кто много и напряженно трудится? Черта с два. Какой-нибудь добропорядочный гражданин, который регулярно ходит в церковь и пашет на двух работах, чтобы его сын мог посещать колледж? Как бы не так! Вместо этого вам расскажут о том, как в Белом доме дочка простых работяг делает минет президенту. А что? Раз президент получал стипендию Родса, нормальная история. И это называют объективностью, а по-моему — самые настоящие ангажированность и предвзятость, причем в самом мерзком их виде.
Подошедший официант положил на столик счет, вырванный из специального блокнота с затертой копиркой. Этот счет с испачканным кофе уголком до сих хранится у Дэвида в рабочем кабинете. Он висит на стене, взятый в рамку. Возможно, для остального мира Билл Каннингем в то время был всего лишь второразрядным, ухудшенным и потому ни на что не годным вариантом Мори Повича, но Дэвид знал, что это не так. Уайтхед разглядел в нем звезду. Каннингем был звездой не потому, что он был лучше какого-нибудь Роберта, Патрика или другого человека из толпы. Фокус состоял в том, что он сам был этим Робертом или Патриком — нормальным человеком, живущим в ненормальном, сошедшем с ума мире. Его устами с экрана вещал здравый смысл. Как только Билла взяли в команду, все остальное встало на свои места само собой.
Дэвид понимал, что по большому счету Каннингем прав. Ведущие теленовостей изо всех сил старались показать, что они предельно объективны, но на самом деле были предвзятыми до мозга костей. Кроме того, Си-эн-эн, Эй-би-си, Си-би-эс и прочие каналы продавали новости, словно бакалейный товар в супермаркете, подбирая что-нибудь для каждой из основных категорий своих зрителей. Но людям не нужна была просто информация. Они хотели знать, что означает та или иная новость, как ее можно интерпретировать. Пытались понять, как им следует реагировать на тот или иной сообщаемый факт. Концепция Дэвида сводилась к тому, что если более чем в половине случаев зрители не получали нужных им ориентиров, они переключались на другой канал.
Суть идеи Дэвида Уайтхеда состояла в том, чтобы создать новостные СМИ, которые были бы для своих слушателей неким клубом единомышленников. Основу этой аудитории составили бы люди, которые много лет исповедовали те же взгляды, что и компания, и ее руководство. К ним должны были присоединиться те, которые не могли четко сформулировать свои убеждения. А также кто нуждался в ком-то, способном во весь голос сказать то, что накапливалось в их душах всю жизнь. За этими двумя группами могли бы последовать просто любопытные и колеблющиеся.
Эта обманчиво простая схема вызвала радикальные изменения в новостном бизнесе. Дэвиду, однако, она еще и помогла справиться со стрессом. Ибо, помимо всего прочего, работа в индустрии новостей связана с огромными психологическими нагрузками и частыми разочарованиями. Новостникам — мужчинам и женщинам — приходится реагировать на каждый чих, раздающийся в информационном поле, на каждом шагу раздувать из мухи слона в надежде, что на этот раз сенсация окажется не мнимой, а настоящей. По этой причине им часто приходится сталкиваться с такими вещами, как бесплодное ожидание, напрасное беспокойство и неоправдавшиеся надежды. Правда, у Дэвида ко всему этому был некоторый иммунитет.
Дэвид вырос в Мичигане, в семье рабочего автозавода компании «Дженерал моторс». Его отец, Дэвид Уайтхед-старший, за все время работы ни разу не болел и не пропустил ни одной смены. Как-то он решил подсчитать, к выпуску скольких машин приложил руку за свою тридцатичетырехлетнюю карьеру на участке конвейера, где собирали заднюю подвеску. Цифра, которую он получил, закончив расчеты, составила 94 610. Для него она стала подтверждением того, что жизнь прошла не напрасно. Схема, по которой отец жил, была проста — человеку платят, а он выполняет свою работу. Дэвид-старший никогда не мечтал о высшем образовании и довольствовался свидетельством об окончании средней школы. Он всегда с уважением относился ко всем, с кем его сводила жизнь, даже к закончившим Гарвард менеджерам, которые появлялись в цехах раз в несколько месяцев.
Дэвид-младший был единственным ребенком в семье и первым за всю историю Уайтхедов, который отправился учиться в колледж. При этом в знак уважения к отцу он отверг приглашение поступить в Гарвард, где ему предложили стипендию, и стал студентом Мичиганского университета. Именно тогда в нем проснулся интерес к политике. В то время пост президента страны занимал Рональд Рейган. Дэвиду понравились его простые манеры и твердый взгляд. На втором курсе он принял участие в выборах старосты и проиграл, на следующий год повторил попытку и потерпел еще более сокрушительное поражение. Видимо, для победы ему не хватало внешнего обаяния. Зато Дэвид умел строить стратегию предвыборной борьбы и имел немало идей на этот счет. Легко угадывал смысл ходов противоборствующей стороны и был способен предвосхищать их. Он знал, что нужно делать, чтобы победить, но не мог одержать победу сам. И Дэвид Уайтхед понял, что, если он захочет сделать карьеру в политике, его место не на сцене, а за кулисами.
Спустя двадцать лет, после тридцати восьми предвыборных кампаний, как на уровне отдельных штатов, так и общефедеральных, Дэвид Уайтхед вполне заслуженно пользовался репутацией человека, умеющего привести кандидата к победе. Более того, он смог превратить свою любовь к политическим играм в весьма прибыльный бизнес. Однажды среди клиентов, которых он консультировал, оказался кабельный телеканал, который решил прибегнуть к услугам Дэвида Уайтхеда, чтобы создать обновленную, более интересную схему освещения предвыборных баталий.
Именно этот эпизод, отраженный в его резюме, и положил в марте 2002 года начало всему.
Дэвид проснулся еще до рассвета. Проработав двадцать лет в качестве организатора предвыборных кампаний, он привык вставать рано. «Кто проспал, тот проиграл», — часто говорил Марти, и это была правда. Предвыборные кампании — не конкурсы красоты. Чтобы собрать максимум голосов избирателей и одержать верх, нужна выносливость. Выражаясь языком бокса, победы нокаутом в первом раунде в политике случались крайне редко. Обычно приз доставался тому, кто мог выдержать все пятнадцать раундов. Поэтому Дэвид довольно быстро научился обходиться почти без сна, и теперь ему вполне хватало четырех часов в сутки. В случае необходимости он мог обходиться двадцатью минутами дремоты каждые восемь часов.
Сквозь огромное, во всю стену окно его спальни в комнату проникли первые солнечные лучи. Лежа на спине, он смотрел на город, прислушиваясь к работе кофейной машины на нижнем этаже. Ему были хорошо видны опоры канатной дороги, соединяющей остров Рузвельта с Манхэттеном.
Окна их общей с Мэгги спальни выходили на Ист-Ривер. Стекло толщиной с книжный том полной версии романа Льва Толстого «Война и мир» полностью поглощало шум машин на автомагистрали имени Франклина Рузвельта. Оно было пуленепробиваемым, как и остальные оконные стекла таунхауса. Их установили по требованию миллиардера-англичанина вскоре после трагедии 11 сентября 2001 года. Он оплатил и стекла, и работу.
— Что, если в ваш дом попытается въехать на такси какой-нибудь джихадист с гранатометом? Мне бы не хотелось вас потерять. Я просто не могу себе этого позволить, — заявил он Дэвиду.
Была пятница, 24 августа. Мэгги и дети уже целый месяц находились на Мартас-Вайнъярд. Судя по звукам, доносившимся снизу, домработница готовила завтрак. Приняв душ, Дэвид, как обычно по утрам, поочередно останавливался у дверей детских комнат, разглядывая тщательно прибранные кровати. Интерьер в спальне Рэйчел говорил о том, что обитательница комнаты обожает всевозможные технические устройства и лошадей. В комнате Джей-Джея все буквально дышало страстью мальчика к машинам. Как и большинство детей, дочь и сын Дэвида частенько устраивали в своих обиталищах беспорядок, с которым прислуга боролась упорно и систематически, хотя и не всегда успешно. Сейчас, когда в детских комнатах царила неестественная, почти стерильная чистота и все было расставлено по своим местам, Дэвид вдруг испытал странное желание разбросать вещи. Подойдя к сетчатой корзине с игрушками, стоявшей в спальне Джей-Джея, он легким пинком опрокинул ее.
«Ну вот, так лучше», — подумал он.
Дэвид решил написать записку уборщице и попросить ее впредь во время отъезда детей не наводить порядок в их комнатах. Ему показалось, что так дом будет выглядеть более живым.
Выйдя на кухню, он позвонил Мэгги. Электронные часы на плите показывали 6:14 утра.
— Мы встали еще час назад, — сказала Мэгги, сняв трубку. — Рэйчел читает. Джей-Джей выясняет, что получится, если вылить жидкость для мытья посуды в унитаз. — Прикрыв микрофон трубки рукой, она крикнула сыну: — Дорогой, не стоит этого делать!
Дэвид жестом показал домработнице, что хочет еще кофе, и она налила ему новую чашку. Мэгги убрала ладонь с трубки и снова заговорила с мужем. В ее голосе Дэвид услышал нотки усталости, которые всегда появлялись в случаях, когда ей долгое время приходилось управляться с детьми в одиночку. Каждый год Дэвид пытался уговорить ее взять на остров Марию, няню, но Мэгги всякий раз отказывалась это сделать. Лето Рэйчел и Джей-Джей должны проводить со своими родителями, говорила она — в противном случае они будут называть мамой няньку, как многие дети, живущие в их районе.
— У нас здесь сильный туман, — сообщила Мэгги.
— Вы получили то, что я вам послал?
— Да. — Дэвид услышал в голосе жены искреннюю радость. — Где ты все это нашел?
— Это Киплинги. Они знают одного парня, который путешествует по всему миру и собирает всякие такие штуки. Яблоки сорта, который вывели бог знает в каком веке. Груши, каких никто не видел с тех пор, как президентом был Мак-Кинли. Прошлым летом мы ели фруктовый салат из подобных редкостей.
— Верно, — вспомнила Мэгги. — Это была вкуснятина. Послушай, а все это стоило очень дорого? Наверное, это глупый вопрос, но я как-то слышала по телевизору, что такие фрукты иногда стоят как новая машина.
— Примерно как итальянский мотороллер, — ответил Дэвид.
В вопросе о цене была вся Мэгги — казалось, она все еще не привыкла к тому, что размер их семейного дохода позволял не задумываться о подобных вещах.
— Я понятия не имела, что на свете, оказывается, есть такая вещь, как датская слива.
— Я тоже. Кто бы мог подумать, что в мире фруктов столько неизведанного?
Мэгги рассмеялась. Когда между ними все было хорошо, супругам было легко общаться. Иногда, звоня жене утром, Дэвид мог по ее тону угадать, что накануне ночью она видела его во сне. Такое с ней время от времени случалось. Когда Мэгги потом с трудом рассказывала об этом, она старалась не встречаться с мужем глазами. В снах он обычно бывал настоящим чудовищем — относился к ней презрительно, насмехался и в конце концов бросал. Разговоры, которые происходили между ними после этого, обычно были короткими, а тон Мэгги весьма прохладным.
— Сегодня утром мы собираемся сажать деревья, — сказала она. — Благодаря этому дел у нас хватит до самого вечера.
Супруги поговорили еще минут десять о том, чем Дэвид собирается заниматься в течение дня, во сколько освободится и о прочих подобных делах. Все это время его телефон то и дело позванивал, давая знать о появлении экстренных новостей, изменениях в графике, о возникновении кризисных ситуаций, которые требовалось немедленно урегулировать. Одновременно Дэвид слышал голоса детей, которые беспрерывно жужжали где-то неподалеку от жены, словно рой ос, собравшихся вокруг лакомства. От этого ему было хорошо и тепло на душе. Главным отличием Дэвида от отца являлось то, что Уайтхед-младший очень хотел, чтобы его дочь и сын имели настоящее детство, радостное и беззаботное. Дети Уайтхеда-старшего были этого лишены. Склонность к играм во времена его молодости расценивалась как склонность к лени и безделью, а следовательно, прямой путь к бедности. В жизни, любил говорит отец Дэвида, преуспеть может только тот, кто не жалеет себя и потому всегда готов в нужный момент воспользоваться представившимся ему шансом.
В результате Дэвид-младший уже в раннем возрасте выполнял работу по дому. В пять лет он очищал мусорные баки. В семь — обстирывал семью из шести человек. Правила, установленные в семье Уайтхед, гласили, что прежде чем Дэвид нанесет первый удар по мячу, оседлает велосипед или достанет из коробки фигурки солдатиков, он должен полностью выполнить все свои обязанности по дому.
Мужчиной нельзя стать просто так — для этого нужно приложить усилия, говорил отец. И Дэвид соглашался с ним, хотя его представления о жизни были все же не столь суровыми. Он, например, считал, что к взрослой жизни человек должен начинать готовиться лет с десяти. А до этого момента можно оставаться ребенком и вести себя соответственно.
— Пап, — раздался в трубке голос Рэйчел, — ты не привезешь мои красные кроссовки? Они в моем шкафу.
Дэвид отправился в комнату дочери.
— Я кладу их в свой чемодан, — сообщил он, найдя кроссовки.
— Это опять я, — сказала Мэгги. — Думаю, на будущий год тебе следует приехать сюда вместе с нами на целый месяц.
— Я тоже так считаю, — подхватил Дэвид. Этот разговор возникал каждый год, и он всегда соглашался с женой, но потом всякий раз оставался в Нью-Йорке.
— Во всем виноваты эти чертовы новости, — заявила Мэгги. — Они приходят каждый день. И завтра последует очередная порция. Ты что, никак не можешь научить своих сотрудников хоть какое-то время обходиться без тебя?
— Обещаю, в следующем году я проведу с вами больше времени, — отозвался Дэвид просто потому, что это было куда легче, чем излагать все обстоятельства, которые могли помешать ему осуществить свои намерения.
Одним из его девизов было: никогда не устраивай бой сегодня, если его можно отложить до завтра.
— Обманщик, — сказала Мэгги, но по ее голосу Дэвид понял, что жена улыбается.
— Я люблю тебя, — произнес он. — Увидимся уже сегодня вечером.
Машина, которой он пользовался в городе, ждала его внизу. Двое охранников поднялись за ним на лифте. Спали они по очереди в одной из гостевых комнат на первом этаже.
— Доброе утро, парни, — сказал Дэвид, надевая пиджак.
Идя по обе стороны от него, секьюрити сопроводили его на улицу и усадили в машину. Крупные парни с пистолетами «ЗИГ-зауэр» в подмышечных кобурах внимательно оглядели пространство вокруг, готовые отразить возможное нападение. Дэвид ежедневно получал письма с угрозами, а иногда даже посылки, в которых могло оказаться все, что угодно, вплоть до человеческих экскрементов. Такова была плата за то, что он принял чью-то сторону и занял определенную позицию в том, что касалось политики и войны.
Враги угрожали ему и его семье, и Дэвид относился к этим угрозам серьезно.
Сев в машину, он подумал о Рэйчел, ее похищении и о тех трех днях, в течение которых дочь разыскивали. Звонки похитителей, требующих выкуп, полная гостиная агентов ФБР и частных охранников, Мэгги, плачущая в спальне, — все это казалось ему кошмаром. То, что дочь удалось спасти, было настоящим чудом. Дэвид Уайтхед знал, что подобные чудеса не повторяются. Поэтому его и его близких охраняли двадцать четыре часа в сутки. Безопасность — прежде всего. Он всячески внушал это своим детям: сначала безопасность, затем игры. И только потом учеба. Такова была их любимая семейная шутка.
Во время поездки телефон Дэвида звонил каждые несколько секунд. Северная Корея снова провела испытания своих ракет. Полицейский из Талахасси остановил машину для проверки и был расстрелян, теперь он находится в коме. Кто-то прислал на почту полузащитнику Национальной футбольной лиги снимки голой голливудской старлетки, сделанные с помощью сотового телефона. Вал новостей напоминал приливную волну или даже цунами, но Дэвид знал, что это только кажется. Он без труда сортировал происходящие события по степени их реальной значимости и перспективности с точки зрения СМИ. Делая это, Дэвид отправлял сообщения в разные отделы, набирая на клавиатуре телефона то или иное ключевое слово. Их было немного: «дерьмо», «слабо», «подождем» и еще два-три. К тому моменту, когда машина затормозила у здания Эй-эл-си ньюс на Шестой авеню, Дэвид успел ответить на тридцать три электронных письма и шестнадцать телефонных звонков — для пятницы не слишком много.
Один из охранников открыл дверь автомобиля, и Дэвид, выйдя из машины, оказался на улице. Воздух был густой и теплый, словно разогретый плавленый сыр. На Дэвиде легкий, стального цвета костюм, белая рубашка и красный галстук. Иногда по утрам он любил, оказавшись у входа в здание, внезапно изменить маршрут и побродить по окрестностям в поисках места для второго завтрака. Это помогало держать охранников в тонусе. Но на этот раз у него накопилось много дел, и ему надо было спешить, чтобы успеть в аэропорт к трем часам.
Офис Дэвида находился на пятьдесят восьмом этаже. Выйдя из лифта, он, глядя прямо перед собой, быстро зашагал к своему кабинету. Люди, встречавшиеся на пути, расступались, чтобы дать ему дорогу. Они ныряли в ближайшие двери, резко меняли направление своего движения, чтобы по возможности не встречаться с ним. Дэвиду казалось, что сотрудники компании, сновавшие по зданию, — все эти бесчисленные продюсеры, администраторы, тупоголовые операторы и прочая мелюзга — с каждым днем становятся все моложе. Его раздражала написанная на их лицах непоколебимая уверенность, что именно они — будущее. Между тем каждый сотрудник, хотел он этого или нет, был просто маленьким винтиком, работающим на завтрашний эфир Эй-эл-си ньюс. Некоторые из них пришли в компанию по каким-то идейным соображениям. Другие — таких было больше — ради теплого местечка и возможности сделать карьеру. Однако все они собрались под крышей здания Эй-эл-си ньюс по той причине, что это был лучший в стране новостной кабельный телеканал. А сделал его таким Дэвид Уайтхед.
Лидия Кокс, его секретарь, уже была на месте. Она работала у Дэвида с 1995 года. Худенькая, стройная женщина с короткой стрижкой, она за свои пятьдесят девять лет никогда не была замужем и так и не решилась завести кота, хотя всегда этого хотела. Во всем ее облике чувствовался непокорный бруклинский характер. В этом смысле она чем-то напоминала некогда воинственных индейцев, вынужденных покориться воле завоевателей с востока и принять законы их цивилизации, но до самой смерти сохранявших гордую осанку и независимый вид.
— Через десять минут вам будет звонить Селлерс, — первым делом напомнила Лидия боссу.
Дэвид, не замедляя шага, ограничился кивком. Войдя в кабинет, он снял пиджак и повесил его на спинку кресла, на сиденье которого Лидия предусмотрительно положила расписание на день. Заглянув в него, Дэвид нахмурился. Начинать работу с разговора с Селлерсом, руководителем лос-анджелесского бюро телеканала, к которому большинство сотрудников компании испытывали неприязнь, было все равно что с утра пораньше подвергнуться колоноскопии.
— Что, его до сих пор никто не прирезал? — угрюмо пробормотал Дэвид.
— Пока нет, — ответила Лидия. — Но в прошлом году вы купили на его имя участок на кладбище и на Рождество послали ему фото.
Дэвид невольно улыбнулся, вспомнив, какое удовольствие получил в свое время от грубоватого розыгрыша.
— Перенесите разговор на понедельник, — распорядился он.
— Но он звонил уже два раза. И прямо сказал, чтобы я даже не пыталась помочь вам избежать беседы.
— С ней он уже опоздал.
На столе Дэвида стояла чашка с кофе.
— Это для меня? — спросил он, указав на нее.
— Нет, для папы римского.
В дверях позади Линды появился Билл Каннингем — в джинсах, футболке с короткими рукавами и в красных подтяжках, ставших чем-то вроде его фирменного знака.
— Эй, — сказал он, делая вид, что видит Лидию впервые. — Какой ты стал важный, Дэвид. Даже секретарем обзавелся.
Лидия повернулась и направилась к двери. Когда Билл посторонился, чтобы дать ей пройти, за его спиной Дэвид заметил явно чем-то взволнованную Кристу Блум.
— Входите, — пригласил обоих Дэвид. — Что у вас?
После того как оба шагнули через порог, Билл закрыл дверь, что было для него весьма необычно. Он любил работать на публику. Более того, его манера держаться, вся идеология его работы в эфире подразумевали, что Каннингем противник какой-либо келейности. Дважды в неделю он являлся в кабинет Дэвида и устраивал шумные перепалки, используя для этого любые, даже самые мелкие поводы. Это было нечто вроде гимнастики, своеобразного ритуала. И то, что он закрыл дверь, заставило Дэвида насторожиться.
— Билл, мне это не почудилось? Ты прикрыл за собой дверь? — удивленно спросил Уайтхед и перевел взгляд на Кристу, выпускающего продюсера Каннингема, лицо которой было бледнее обычного. Билл плюхнулся на диван, широко раскинул длинные костистые руки, напоминавшие крылья птеродактиля, и бесцеремонно развел колени, уверенный в своей неотразимости.
— Первое, что я хочу сказать, — начал он, — все не так плохо, как ты думаешь.
— Верно, — добавила Криста. — Все еще хуже.
— Потребуется два дня возни, — продолжал Билл. — Возможно, придется подключить юристов.
Дэвид встал и посмотрел в окно.
— Каких юристов? — уточнил он. — Твоих или моих?
— Черт возьми, Билл, — с упреком сказала Криста. — Ты ведь нарушил не какое-то дурацкое правило. Ты нарушил закон. Возможно, несколько законов.
Дэвид продолжал молча смотреть на поток ползущих далеко внизу машин.
— В три часа я отправляюсь в аэропорт, — произнес он наконец. — Как вы думаете, мы успеем решить вопрос до того, как я уеду, или нам придется заканчивать с этим по телефону?
Обернувшись, он поочередно посмотрел на обоих. Криста стояла, скрестив руки на груди. В переводе с языка тела ее поза означала: «Это должен сказать Билл». Гонцов, принесших плохие вести, в древние времена убивали. Криста не хотела терять работу из-за очередной глупой ошибки, совершенной Каннингемом. На лице Билла играла сердитая улыбка — он напоминал полицейского, пытающегося доказать, что применение оружия было оправданным.
— Говори, Криста, — сказал Дэвид.
— Он поставил людям подслушивающие устройства в телефоны, — выпалила она.
В кабинете наступила мертвая тишина.
— Людям, — задумчиво повторил Дэвид, выдержав долгую паузу. — Каким именно?
Криста бросила взгляд на Билла.
— Это все тот тип, с которым он носился как с писаной торбой, — не выдержала она.
— Его фамилия Нэймор, — сообщил Билл. — Ты ведь его помнишь, Дэвид, верно? Бывший спецназовец, «морской котик», работал на военную разведку.
Дэвид отрицательно покачал головой. За последние несколько лет Билл окружил себя таким количеством странных личностей, напоминавших персонажей из фильмов с участием Гордона Лидди, что запомнить всех было просто невозможно.
— Ты должен его помнить, — настаивал Билл. — В общем, как-то раз мы с ним выпивали. И заговорили про Москевица — ну, того конгрессмена, который любил обнюхивать ноги чернокожих девиц. И Нэймор в шутку говорит — дескать, было бы неплохо всадить такому типу прослушку в телефон, а потом пустить запись какого-нибудь разговора в эфир. Представляешь ситуацию — конгрессмен-еврей по телефону рассказывает негритянской девке, как ему хочется понюхать ее ступни. Я тогда сказал — ну да, было бы неплохо. Потом мы заказали еще по порции виски, и Нэймор говорит — мол…
Билл, не удержавшись, делает театральную паузу — без нее он просто не был бы Каннингемом.
— …Да, так вот, он говорит — мол, это совсем нетрудно. Для Нэймора поставить человека на прослушку и влезть в его компьютер, чтобы читать почту, — это вообще плевое дело. Ведь вся информация стекается на сервер. Сегодня у любого есть компьютер, электронная почта, профиль в социальных сетях, сотовый телефон. Через все эти штуки легко установить контроль над кем угодно. Черт возьми, если знать чей-то номер мобильного, можно сделать так, что каждый входящий и исходящий звонок…
— Довольно, — прервал Каннингема Дэвид, чувствуя, как вдоль позвоночника у него бегут мурашки.
— Вообще-то мы вроде бы просто дурачились, — продолжает Билл. — Представь — час ночи, мужики сидят в баре, пьют и выпендриваются друг перед другом. И тут Нэймор вдруг говорит — выбери кого-нибудь. Назови конкретное имя человека, чьи телефонные разговоры ты хочешь прослушивать. Я и говорю — «Обама». Нэймор отвечает: «Белый дом — это штука особая. Тут я пас. Выбери кого-нибудь другого — рангом пониже». Тогда я говорю — Келлерман. Ты этого говнюка знаешь — он работает на Си-эн-эн. А Нэймор мне: «Договорились. Считай, что дело сделано».
Дэвид обнаружил, что сидит в кресле, хотя не помнил момент, когда отошел от окна. По взгляду Кристы стало понятно — продолжение будет еще хуже.
— Билл, — сказал Дэвид, покачав головой и подняв руки так, словно пытался защититься от удара, — остановись. Я не хочу это слушать. Тебе нужно поговорить с юристом.
— Вот и я о том же, — вставила Криста.
Каннингем взмахом руки дал понять, что намерен продолжить свой рассказ.
— Но я же ничего такого не сделал, — заявил он. — Я только назвал имя. Ну и что из того? Два мужика напились в баре — мало ли кто что сказал? В общем, я отправился домой и про все это забыл. А через неделю Нэймор заявился ко мне на работу и сказал, что хочет мне кое-что показать. Мы зашли в мой кабинет. Он достал какой-то диск и сунул его в мой компьютер. А на нем, представьте, звуковые файлы. Голос этого самого Келлермана, ясно? Слышно, как он разговаривает по телефону со своей мамашей, звонит в прачечную. И еще отдает указания своему продюсеру насчет того, какие куски надо вырезать из какого-то репортажа, чтобы он прозвучал совершенно иначе.
Дэвид почувствовал, что у него начинает кружиться голова.
— Так вот, значит, каким образом ты…
— Ну да, черт возьми, — кивнул Билл. — Мы нашли оригинальную запись и сравнили с той, что пошла в эфир. Тебе, помнится, все это понравилось.
Дэвид снова встал. Руки его сжались в кулаки.
— Я думал, это было журналистское расследование, — глухо пробормотал он. — А не…
Каннингем расхохотался, откинув назад голову, — он явно в восторге от собственной изобретательности.
— Заткнись, — сказал Дэвид и, обойдя стол, направился к двери.
— Эй, ты куда? — удивился Билл.
— Не хочу больше слышать от тебя ни одного слова! — прорычал Дэвид на ходу. — И от тебя тоже, — бросил он Кристе, выходя из кабинета в приемную.
Лидия, сидевшая за столом, подняла на него глаза и сообщила:
— У меня Селлерс на второй линии.
Уайтхед не стал останавливаться и замедлять шаг и не оглянулся. Он двинулся вперед по коридору мимо бесчисленных дверей, чувствуя, как по бокам струится пот. Хотя он и не дослушал рассказ Канненгема, но понимал, чувствовал всем существом: то, что случилось, вполне могло означать конец Эй-эл-си ньюс.
— Валите отсюда! — рявкнул он группе сотрудников в рубашках с короткими рукавами, преградившим ему путь. Те отскочили в стороны, словно испуганные кролики.
Мозг Дэвида лихорадочно работал. Дойдя до лифта, Уайтхед нажал на кнопку вызова. Затем, не дожидаясь прибытия кабины, пинком распахнул дверь на лестницу и спустился на этаж ниже. В конференц-зале он увидел Либлинга, который сидел за столом с шестнадцатью другими юристами.
— Вон, — коротко сказал Дэвид. — Все вон отсюда.
Люди, в своих одинаковых костюмах похожие друг на друга, словно близнецы, бросились к выходу и, устроив давку в дверях, покинули помещение.
За столом остался сидеть только Дон Либлинг, пятидесятипятилетний штатный юрисконсульт компании, один из столпов «Эй-эл-си ньюс».
— Господи боже, Уайтхед, — произнес он. — Что стряслось?
Дэвид прошелся взад-вперед по конференц-залу.
— Каннингем, — коротко бросил он.
— Черт, — помрачнел Либлинг. — И что этот ублюдок натворил на сей раз?
— Я выслушал только часть его признаний. И прервал его, чтобы меня потом не обвинили в соучастии.
Либлинг нахмурился еще больше:
— Успокойте меня. Скажите, что речь не идет о мертвой проститутке в номере какого-нибудь отеля.
— Это было бы еще полбеды. По сравнению с тем, что случилось, мертвая проститутка — цветочки.
Подняв голову, Дэвид увидел самолет, пролетавший высоко в небе над Эмпайр-стейт-билдинг, и ощутил сильнейшее желание оказаться на его борту и улететь куда угодно, лишь бы подальше. Проводив самолет взглядом, Уайтхед опустился в кожаное кресло и провел рукой по волосам.
— Этот кретин поставил на прослушку телефон Келлермана и какого-то конгрессмена. А может, и кого-нибудь еще. Я ушел в тот момент, когда он, как мне показалось, собрался огласить весь список.
Либлинг ослабил узел галстука.
— Когда вы говорите, что он «поставил на прослушку телефон Келлермана», то имеете в виду…
— У него есть знакомый. Этот тип, как я понял, работает консультантом в разведке. Как-то раз он сказал Каннингему, что может обеспечить ему доступ к чьим угодно телефонным разговорам и электронной почте.
— Боже!
Дэвид откинулся на спинку кресла и уставился в потолок.
— Вы должны с ним поговорить, — сказал он.
Либлинг кивнул и тихо произнес:
— Ему следует обратиться к личному юристу. Кажется, Билл пользуется услугами Франкена. Я ему позвоню.
Дэвид принялся барабанить пальцами по крышке стола. В этот момент он почувствовал себя старым и усталым.
— А если он прослушивал других конгрессменов или сенаторов? Впрочем, хватит выше крыши и того, что он шпионил за сотрудниками наших конкурентов.
Либлинг задумался над словами Дэвида. Уайтхед тем временем представил, как Рэйчел и Джей-Джей роют ямки на заднем дворе и сажают туда молодые яблоневые деревья. Ему, конечно, следовало взять месяц отпуска и отправиться отдыхать вместе с семьей. Сделав так, сейчас он сидел бы в саду в сандалиях на босу ногу, держал в руке стакан с «Кровавой Мэри» и смеялся всякий раз, когда Джей-Джей обращался бы к нему с вопросом: «Ну, в чем проблема, куриная гузка?»
— Эта история может нас потопить? — спросил он, прикрыв глаза.
Либлинг пожал плечами и сделал неопределенное движение головой.
— Его, во всяком случае, уж точно.
— Но мы, наверное, тоже понесем значительный ущерб?
— Вне всякого сомнения, — подтвердил Либлинг. — Такие вещи даром не проходят. По этому делу могут быть проведены специальные слушания в конгрессе. И уж, во всяком случае, ФБР наверняка сядет нам на хвост года на два. Возможно, они поставят вопрос об отзыве лицензии на телевещание.
Дэвид немного подумал и задал новый вопрос:
— Мне следует подавать в отставку?
— С какой стати? Вы ведь ничего не знали. Или я ошибаюсь?
— Не важно. Когда происходят такие вещи… Если я не знал об этом, то должен был знать, — Дэвид покачал головой. — Билл, Билл, черт бы его подрал.
Он, однако, понимал, что в случившемся виноват не только Каннингем. Вина лежала и на нем, Дэвиде Уайтхеде. Ведь это он открыл миру Билла, сердитого на весь мир белого парня, коренного американца, который каждый день приходил в гости ко множеству людей и с телеэкрана ругал окружающий мир на все корки, обличал систему, которая лишала его сограждан того, что они заслужили. Он метал громы и молнии в развивающиеся страны и выходцев из них, лишавших добропорядочных американцев работы. Смешивал с грязью политиков, которые повышали налоги.
Билл Каннингем был голосом Эй-эл-си ньюс, и в какой-то момент он сошел с ума. Дэвиду следовало жестче контролировать его действия, но рейтинги канала были высоки, а выпады Билла против тех, кого он обличал, попадали точно в цель. Их канал был лучшим, и это оправдывало и компенсировало все остальное. Можно ли сказать, что Билл стал звездой, своеобразной примадонной? Да, несомненно. Но звездами все же можно управлять. А вот сумасшедшими — нет.
— Мне надо позвонить Роджеру, — решил Уайтхед.
Роджер был тем самым английским миллиардером — его боссом.
— И что вы ему скажете? — поинтересовался Либлинг.
— Я расскажу ему о случившемся. И сообщу, что нужно готовиться к неприятностям. А вы, пожалуйста, найдите Билла, заприте его в какой-нибудь комнате и отдубасьте хорошенько чем-нибудь тяжелым. И вызовите Франкена. Выясните всю правду, а затем постарайтесь защитить нас от последствий.
— Он будет сегодня в эфире?
Дэвид немного подумал.
— Нет. Будем считать, что он заболел. У него грипп.
— Ему это не понравится.
— Скажите ему, что у него есть еще два варианта. Первый — он отправляется в тюрьму. Второй — мы сломаем ему обе коленные чашечки. Позвоните Хэнкоку. Сегодня мы сообщим о том, что Билл нездоров. А в понедельник пустим в эфир «Лучшее за неделю». Я не хочу, чтобы этот парень снова появлялся на экране.
— Он наверняка взбеленится.
— Это уж точно, — кивнул Дэвид. — Наверняка.
Травмы
Ночью Скотту снится голодная акула. Тело у рыбины мускулистое и гладкое, словно торпеда. Когда он просыпается, его мучает жажда. Приборы, которыми напичкана его палата, беспрерывно жужжат и попискивают. За окном из-за горизонта появляются первые лучи солнца. Скотт смотрит на мальчика, который еще спит. Телевизор в палате работает, но звук минимальный. На экране мелькают кадры, снятые в ходе спасательной операции. Похоже, в ней теперь участвуют и военно-морские силы, которые подключили к поискам своих водолазов и предоставили глубоководные аппараты, чтобы попытаться найти затонувшие обломки самолета и тела погибших. Скотт видит, как аквалангисты в черных гидрокостюмах шагают в воду с палубы катера береговой охраны и один за другим исчезают в волнах.
— Эту авиакатастрофу считают несчастным случаем, — вещает с экрана Билл Каннингем, высокий мужчина с пышной шевелюрой, сунув большие пальцы за широкие подтяжки. — Но и вы, и я — мы знаем, что несчастные случаи просто так не происходят. Самолеты ни с того ни с сего в океан не падают.
Взгляд Каннингема затуманен, галстук на груди завязан небрежно и перекошен.
— Дэвид Уайтхед, которого я знал, — мой босс, мой друг — не мог погибнуть из-за технической неисправности самолета или ошибки пилота, — продолжает ведущий. — Он был карающим ангелом. Настоящим американским героем. Я уверен, что речь идет о теракте, который совершили либо иностранные экстремисты, либо отечественные мерзавцы, представляющие интересы либеральных СМИ. Повторяю, дорогие мои, самолеты просто так с неба не падают. Здесь имела место как минимум диверсия. Возможно, самолет сбили со скоростного катера при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса с инфракрасной системой наведения. А может, один из членов экипажа был террористом и после взлета подорвал на себе пояс шахида. В любом случае речь идет об убийстве, совершенном врагами свободы. Девять погибших, включая восьмилетнюю девочку. Причем эта девочка успела пережить страшную личную трагедию. Я держал ее на руках вскоре после того, как она появилась на свет. Я менял ей подгузник. Мне кажется, пришло время заправить баки наших истребителей. Пора задействовать спецназ. Погиб великий патриот, один из столпов свободы и демократии. Мы разберемся, в чем тут дело.
Скотт совсем выключает звук. Мальчик, немного поворочавшись в кровати, снова успокаивается, так и не проснувшись. Он еще не знает, что стал сиротой. Пока Джей-Джей спит, его родители и сестра остаются живыми. Они целуют его в щеки и ласково щекочут. Ему снятся события последней недели. Во сне он бежит по песку, держа за панцирь зеленого краба, пьет через соломинку апельсиновую газировку и ест хрустящие кусочки жареной рыбы. Когда мальчик проснется, то еще какое-то время будет воспринимать все это как реальность. Но потом он увидит лицо Скотта или вошедшей в палату медсестры и снова осиротеет — на сей раз уже навсегда.
Скотт приподнимается и смотрит в окно. Их с мальчиком сегодня должны выписать. Это значит, что они покинут больничный мир, в котором их окружают работающие приборы, где им каждые полчаса измеряют кровяное давление и температуру, кормят строго по расписанию. Тетя и дядя Джей-Джея приехали накануне вечером. У них были мрачные лица и красные от недосыпа глаза. Тетю, младшую сестру Мэгги, зовут Элеонора. Она спит в раскладном кресле рядом с кроватью мальчика. Ее муж, приходящийся Джей-Джею дядей, по профессии писатель. Он старательно избегает контакта с кем бы то ни было и похож на одного из тех идиотов, которые каждое лето отращивают бороду. Скотту он не нравится.
С момента авиакатастрофы прошло тридцать два часа. Это время в зависимости от обстоятельств может показаться одной секундой или целой вечностью. Скотту нужно принять душ — его кожа до сих пор покрыта солью от долгого пребывания в морской воде. Его левая рука висит на перевязи. У него нет удостоверения личности и брюк. Но, несмотря на это, он по-прежнему планирует отправиться в город, ведь у него намечена встреча с агентом. Скотт возлагает на нее большие надежды. Он верит, что ему удастся обзавестись новыми полезными связями. Друг Скотта по имени Магнус обещал заехать в Монток и забрать его из больницы. Скотт снова ложится. Он думает, что будет приятно встретиться с Магнусом — по крайней мере, впервые за последнее время увидит знакомое лицо. Они не очень близкие друзья — просто иногда вместе выпивают. Но Магнус принадлежит к тем людям, которые никогда не теряют присутствия духа и практически всегда пребывают в хорошем настроении. По этой причине Скотт накануне вечером позвонил именно ему. Он меньше всего хотел контактировать с кем-нибудь, кто начал бы охать и ахать, да еще и пускать слезу. Скотт был уверен: о том, что с ним случилось, говорить следовало небрежно и не слишком многословно. Когда он рассказал Магнусу, у которого дома не имелось телевизора, о произошедшем, тот отреагировал на это всего одним словом: «Прикольно». А затем предложил выпить пива.
Скотт замечает, что мальчик проснулся и не мигая смотрит на него.
— Привет, дружище, — негромко говорит Скотт ребенку, стараясь не разбудить его тетю. — Ну как, выспался?
Мальчик кивает.
— Хочешь, поставлю мультики?
Еще один кивок. Скотт находит пульт от телевизора и листает каналы до тех пор, пока на экране не появляются какие-то мультперсонажи.
— Это что — «Губка Боб»? — интересуется Скотт.
Мальчик снова кивает. Со вчерашнего дня он не произнес ни слова. В первые несколько часов после того, как они со Скоттом выбрались на берег, Джей-Джей все же что-то говорил, по крайней мере, отвечал на вопросы — как он себя чувствует, не нужно ли ему что-нибудь. А потом замолчал.
Скотт, чувствуя, что ребенок смотрит на него, украдкой вынимает из стоящей на столе коробки резиновую перчатку и встряхивает ее. В воздух поднимается облачко талька.
Скотт притворяется, что ему отчаянно хочется чихнуть. Он кривит лицо, делая вид, что сопротивляется позыву, но затем все же искусственно чихает. Ребенок улыбается.
Тетя мальчика просыпается и потягивается. Это весьма миловидная женщина. Лоб ее закрывает прямая челка. Скотт видит, как Элеонора медленно приходит в себя после сна, понимает, где она и почему, и на ее лице появляется выражение ужаса перед тем грузом, который вот-вот ляжет на ее плечи. Однако при виде мальчика Элеонора выдавливает из себя улыбку.
— Эй, привет, — говорит она, обращаясь к ребенку, и пытается руками привести в порядок волосы. Потом переводит взгляд на экран телевизора, а затем на Скотта.
— Доброе утро, — приветствует он.
Элеонора осторожно оглядывает себя, чтобы понять, все ли в порядке с одеждой.
— Извините, — оправдывается она. — Кажется, я не выдержала и заснула.
Эта реплика не требует ответа, поэтому Скотт просто кивает. Элеонора обводит взглядом палату.
— Вы не видели… Дуга? Это мой муж.
— Кажется, он пошел за кофе, — сообщает Скотт.
— Хорошо, — с облегчением произносит она. — Это хорошо.
— Вы с ним давно женаты? — спрашивает Скотт.
— Нет. Всего… семьдесят один день.
— Но кто же такое считает, — пытается пошутить Скотт.
Элеонора краснеет:
— Он хороший. Просто сейчас слишком взволнован, мне кажется.
Скотт замечает, что мальчик перестал смотреть на экран телевизора и внимательно наблюдает за ним и тетей. Заявление о том, что Дуг взволнован, кажется Скотту немного смешным на фоне того, что пережили он сам и ребенок.
— А у отца мальчика есть какие-нибудь родственники? — интересуется он. — Скажем, деверь у вас имеется?
— Вы хотите знать, есть ли у Дэвида братья? Нет. Его родители умерли, а он был единственным ребенком в семье.
— А ваши родители?
— У меня есть мать. Она живет в Портленде. Кажется, прилетит сегодня.
Скотт кивает.
— Вы с мужем живете в Вудстоке?
— В Кротоне. Это в сорока минутах езды от Вудстока.
Скотт на минуту задумывается, представляя небольшой домик в лесистой долине, легкие плетеные стулья на крыльце. Что ж, скорее всего, мальчику там будет неплохо. А может, и наоборот. Что, если у него возникнет чувство изоляции? А если муж Элеоноры окажется пьяницей, писателем-неудачником вроде персонажа, сыгранного Джеком Николсоном?
— А мальчик когда-нибудь у вас бывал? — спрашивает Скотт.
Губы Элеоноры сердито сжимаются.
— Простите, я не понимаю, почему вы задаете мне все эти вопросы.
— Видите ли, возможно, это выглядит как неуместное любопытство, но мне отчего-то не все равно, что будет дальше с этим ребенком. Все так сложилось, что он мне, можно сказать, не совсем чужой.
Элеонора кивает. Она выглядит напуганной. И боится она не Скотта, а тех осложнений, которые вот-вот возникнут в ее жизни.
— Все будет хорошо, — говорит она и гладит мальчика по голове. — Правда?
Ребенок не отвечает — он неотрывно смотрит на Скотта. Они словно играют в гляделки. Первым не выдерживает и моргает Скотт. Повернувшись, он выглядывает в окно. В это время в палату входит Дуг. На нем расстегнутый кардиган, надетый поверх простой клетчатой рубашки. В руке он держит чашку с кофе. При виде мужа лицо Элеоноры проясняется.
— Это мне? — спрашивает она, указывая на чашку.
На лице Дуга на секунду появляется выражение недоумения, но затем он понимает, что именно имеет в виду жена.
— Да, конечно, — он вручает ей кофе. По тому, как Элеонора держит чашку, Скотт понимает, что она почти пустая, и замечает, как на лицо женщины ложится тень печали. Дуг обходит кровать мальчика и останавливается рядом с супругой. Скотт чувствует, что от него пахнет алкоголем.
— Как пациент? — интересуется Дуг.
— Хорошо, — отвечает Элеонора. — Он поспал.
Глядя на спину Дуга, Скотт размышляет о том, сколько денег может достаться мальчику в наследство. Пять миллионов долларов? Пятьдесят? Его отец руководил телевизионной империей и летал на частных самолетах. Родители ребенка наверняка богаты.
В это время Дуг, засопев, поддергивает штаны, затем лезет в карман и достает оттуда маленькую игрушечную машинку. На ней еще сохранилась наклейка с ценой.
— Вот, держи, боец, — говорит он. — Это тебе.
«В море полно акул», — думает Скотт, глядя, как мальчик протягивает руку и берет игрушку.
В палату входит доктор Глэбман. Его очки подняты на лоб. Из кармана халата торчит ярко-желтый банан.
— Ну что, ты готов отправиться домой? — спрашивает он ребенка.
Скотт и мальчик одеваются. Придерживая одной рукой голубые мешковатые штаны от больничной униформы, Скотт неловко просовывает в них ноги. Медсестра помогает ему продеть левую руку в рукав куртки. В этот момент лицо Скотта искажает гримаса боли. Когда он выходит из ванной, Джей-Джей уже полностью одет и ждет его, сидя в кресле-каталке.
— Я дам вам имя и телефон детского психиатра, — тихо говорит доктор, обращаясь к Элеоноре и стараясь, чтобы ребенок его не услышал. — Он специализируется на случаях, связанных с посттравматическим стрессом.
— Вообще-то мы живем не в этом городе, — уточняет Дуг.
Элеонора бросает на него неприязненный взгляд.
— Разумеется, я позвоню ему сегодня же, — обещает она и берет у врача визитку.
Скотт пересекает комнату, опускается на колени рядом с Джей-Джеем и говорит:
— Все будет хорошо.
Ребенок качает головой, в его глазах появляются слезы.
— Я буду к тебе приезжать, — успокаивает Скотт. — Я оставлю твоей тете свой телефон, так что ты сможешь мне звонить. Ладно?
Мальчик отводит взгляд.
Скотт легонько притрагивается к его крошечной руке, не зная, что делать дальше. У него никогда не было ни детей, ни племянников, ни крестников. Он даже не уверен, что дети говорят на том же языке, что и взрослые. Постояв на коленях еще несколько секунд, Скотт поднимается и вручает Элеоноре листок бумаги с номером своего телефона.
— Серьезно, звоните в любое время, — предлагает он. — Не знаю, правда, чем я могу помочь, но… Если мальчик захочет поговорить или если вы…
Дуг забирает листок у жены, складывает его и сует в задний карман.
— Звучит неплохо, мужик, — отмечает он.
Скотт еще некоторое время стоит неподвижно, переводя взгляд с Элеоноры на ребенка, затем на Дуга. Это один из тех моментов, когда человеку кажется, будто он переходит какой-то рубеж и потому должен сказать или сделать нечто особенное — но не знает, что именно. Нужные слова приходят только потом, когда уже поздно. Скотт, как всегда в таких случаях, ощущает лишь острое чувство неловкости и, чтобы преодолеть его, крепко стискивает зубы.
— Ну ладно, — произносит он наконец и направляется к двери. Он искренне полагает, что уйти, оставив мальчика с родственниками, будет с его стороны самым лучшим и правильным. Однако, когда он шагает через порог, две маленькие руки вцепляются в его ноги. Повернувшись, Скотт смотрит на мальчика, прижавшегося к нему.
В коридоре и холле полно народу — пациентов и посетителей, врачей и медсестер. Скотт сначала кладет ладонь на голову мальчика, а потом поднимает его на руки. Ребенок обвивает руками его шею. Скотт отчаянно моргает, борясь с подступающими слезами.
— Не забывай, — шепчет он мальчику на ухо. — Ты настоящий герой.
Он еще какое-то время держит ребенка на руках, затем возвращается в палату и сажает его в кресло-каталку. Скотт чувствует на себе взгляды Элеоноры и Дуга, но смотрит только на мальчика.
— Никогда не сдавайся, — говорит он.
Затем поворачивается и выходит в коридор.
В молодости его увлечение живописью было настолько сильным, что Скотт не замечал практически ничего вокруг. Часто казалось, что он живет в подводном мире. У него даже часто ломило уши — точно так же, как под водой. Цвета казались ему ярче, свет, словно преломляясь в водяной толще, рябил и рассыпался серебром, как лучи солнца в волнах. Он впервые стал участником групповой выставки, когда ему было двадцать шесть. Его первый индивидуальный показ картин состоялся, когда Скотту исполнилось тридцать. Каждый цент, который ему удавалось заработать, он тратил на холст и краски.
В какой-то момент Скотт перестал заниматься плаванием. Ему предстояло завоевывать симпатии владельцев картинных галерей, чтобы его работы выставлялись. К тому же вокруг находилось много весьма соблазнительных девушек, а Скотт был молодым, высоким, зеленоглазым мужчиной с заразительной улыбкой. Конечно, среди окружающих его особ встречались и те, кто готовы были угостить завтраком или предоставить ему крышу над головой — пусть и на несколько дней. Тогда это в значительной мере компенсировало очевидное — его картины, хотя они и были хороши, увы, нельзя было назвать выдающимися. Глядя на них, специалисты видели, что у автора есть потенциал, некая самобытность. Однако чего-то в работах Скотта все же не хватало.
Годы между тем шли. Больших, заметных индивидуальных выставок не было, как и нашумевших покупок работ Скотта музеями или частными коллекционерами. До участия в биеннале в Германии и грантов для особо одаренных художников дело тоже не доходило. Скотту исполнилось тридцать пять. Однажды на вечеринке, посвященной первой индивидуальной выставке художника, который был на пять лет моложе его, Скотт вдруг осознал, что он так и не стал заметной фигурой в живописи. И, наверное, уже не сможет. Успех обошел его стороной.
Скотт понял, что оказался посредственным, заурядным мастером и останется таким навсегда. Вечеринки были все такими же веселыми и изобильными, женщины вокруг красивыми и соблазнительными, но сам Скотт ощутил совершенно отчетливо, что уже не тот, как раньше. Его связи с женщинами стали короткими и больше не приносили радости. Чтобы хоть немного забыться, Скотт стал пить. Сидя в своей студии, он часами пристально смотрел на чистый холст, надеясь, что в его голове возникнут нужные образы, благодаря которым он сможет преодолеть застой.
Но этого не происходило.
Однажды утром он проснулся сорокалетним мужчиной с изъеденным алкоголем нутром и дряблым, опухшим лицом. К этому времени Скотт успел жениться и развестись, предпринял несколько попыток преодолеть свое пристрастие к выпивке — но всякий раз проигрывал в этой борьбе. В то утро Скотт окончательно пришел к неприятному для себя выводу. Когда-то он был молодым, сильным, подающим надежды, но затем незаметно для него самого жизнь прошла, а ему так и не удалось добиться того, к чему стремился. Не исключено, что он был обречен на подобный исход с самого начала. Скотт тогда попытался представить, что могли бы написать о нем в некрологе по случаю его смерти. «Скотт Бэрроуз, талантливый гуляка-художник, который так и не смог оправдать возлагавшихся на него ожиданий и в итоге превратился из жизнелюба в мрачного затворника». Впрочем, он тут же одернул самого себя. К чему заниматься самообманом? Ясно, что по поводу его смерти никакого некролога не будет. Его кончина ни для кого не станет событием — ее просто не заметят.
В следующий раз нечто подобное случилось с ним после затянувшейся на целую неделю вечеринки, проходившей в доме одного из более удачливых коллег. Скотт пришел в себя, лежа лицом вниз на полу в гостиной. Ему было сорок шесть лет. За окном начинался рассвет. С трудом поднявшись на ноги, Скотт, спотыкаясь, вышел во внутренний двор. Голова болезненно пульсировала, в пересохшем рту стоял отвратительный вкус. Щурясь от лучей восходящего солнца, он прикрыл глаза рукой, словно козырьком. На него снова беспощадно обрушилось ощущение полного жизненного фиаско.
Дождавшись, пока глаза привыкнут к солнцу, Скотт убрал ладонь от лица и увидел бассейн.
Когда хозяин дома через час вышел во двор в обществе своей подружки, Скотт плавал. Мускулы его болели от ставшего непривычным напряжения, легкие молили о пощаде, но он продолжал раз за разом пересекать пространство бассейна от бортика до бортика. Хозяин и его девица принялись громко звать Скотта опрокинуть с ними по стаканчику, но тот даже не отозвался. Он снова почувствовал себя живым. Нырнув в воду, Скотт испытал те же чудесные ощущения, что и в тот день, когда в восемнадцать лет выиграл национальное первенство по плаванию в своей возрастной категории. Подобные чувства возникали и в шестнадцать, когда ему впервые удался идеальный подводный разворот у бортика, а также и в двенадцать, когда, проснувшись еще до восхода солнца, начинал разрезать воду гребками.
Скотт плавал и плавал, пока не почувствовал, что в душе у него снова появилось что-то от того шестилетнего мальчика, который наблюдал, как Джек Лаланн плывет через залив Сан-Франциско, буксируя за собой лодку весом в тысячу фунтов. Скотт почувствовал: он снова уверен в том, во что так верил раньше.
«Нет ничего невозможного. Любой цели можно достичь. Нужно только по-настоящему этого захотеть».
Так, значит, он вовсе не стар. С ним еще не покончено. Скотт просто раньше времени сдался.
Еще через тридцать минут он выбрался из бассейна, надел одежду прямо на мокрое тело и отправился в город. В течение следующих шести месяцев Скотт ежедневно проплывал по три мили. Он бросил пить и полностью оказался от сигарет. Перестал есть красное мясо и сладости. Снова принялся покупать холсты и грунтовать их, готовясь к работе. Он стал похож на боксера, готовящегося к важному бою. Или на виолончелиста перед ответственным концертом. Его инструментом было его собственное тело. Пока оно напоминало потрепанную гитару Джонни Кэша, но Скотт надеялся со временем превратить его в скрипку Страдивари.
Он выжил в страшной катастрофе, которой была его жизнь. Скотт знал, что об этом и будут рассказывать созданные им новые картины. Летом он снял небольшой домик на Мартас-Вайнъярд и поселился там, словно отшельник. Снова главным и единственным для него в жизни стала работа. Но теперь в ней были смысл и цель. «Человек не должен, не может отделять себя от своего дела, — думал Скотт. — Если художник сам подобен выгребной яме, его картины могут быть только дерьмом».
Он завел увечного трехногого пса и готовил для него спагетти и фрикадельки. Дни Скотта протекали по одному и тому же распорядку — сначала заплыв в океане, затем чашка кофе на фермерском рынке, потом несколько часов упорной работы в студии. Когда Скотт закончил свою первую картину, задуманную и написанную на Мартас-Вайнъярд, он понял, что это — настоящее. Душу его наполнила такая радость, что он даже не решился высказать ее вслух. Вместо этого он высоко подпрыгнул. Картина стала его секретом, тайным сокровищем.
Лишь совсем недавно Скотт перестал жить как аскет. Сначала он побывал на нескольких званых обедах. Затем позволил одной из галерей Сохо включить его новую работу в ретроспективную выставку, посвященную художникам девяностых. Картина привлекла большое внимание. Ее приобрел известный коллекционер. Телефон Скотта ожил. Его жизненные цели снова стали ясными и достижимыми. Нужно было только не упустить шанс.
Поэтому он и сел в самолет.
Рядом с больницей теснится добрая дюжина телевизионных фургонов. Люди с камерами полностью готовы к работе и в напряжении ждут, когда все начнется. У входа выставлен кордон полиции — шестеро офицеров в форме, которые следят за соблюдением порядка. Скотт тайком наблюдает за происходящим из окна вестибюля, спрятавшись за большим фикусом в глиняном горшке. Там его и находит Магнус.
— Господи, Скотт! — восклицает он. — Я вижу, ты в своем репертуаре. Стараешься все продумать и сделать по-своему, верно?
Мужчины крепко обнимаются. Магнус — художник-любитель, уделяющий живописи лишь часть своего времени. Главная страсть его жизни — женщины. У него едва заметный ирландский акцент.
— Спасибо, что приехал, — говорит Скотт.
— Не за что, брат. — Магнус окидывает Скотта оценивающим взглядом. — Выглядишь ты дерьмово.
— Я так себя и чувствую.
Магнус показывает Скотту спортивную сумку.
— Я привез тебе несколько футболок, более-менее подходящую по цвету куртку и какие-то штаны. Хочешь переодеться?
Скотт бросает еще один взгляд в окно. Толпа журналистов у больницы растет. Все эти люди пришли и приехали для того, чтобы хоть краем глаза увидеть его, услышать хотя бы одно произнесенное им слово. Для них он был человеком, который умудрился восемь часов продержаться на воде в Атлантике, ночью, в полной темноте, да еще с четырехлетним мальчиком на спине, — и в конце концов доплыть до берега. Закрыв глаза, Скотт представляет, что произойдет, когда он, одевшись, выйдет на крыльцо больницы. Посыпятся вопросы, будут слепить вспышками фотокамер. Его лицо появится на экранах телевизоров. От этих мыслей Скотту становится нестерпимо тошно.
«Несчастных случаев не бывает», — вспоминает он слова телеведущего.
Слева находится длинный коридор. Судя по табличке, ближайшая к нему дверь ведет в раздевалку для персонала больницы.
— У меня есть идея получше, — говорит Скотт. — Но для того, чтобы ее реализовать, тебе придется нарушить закон.
— Только один? — улыбается Магнус.
Десять минут спустя они выходят на улицу через боковую дверь здания. Оба одеты в голубоватые медицинские халаты и такого же цвета просторные штаны — ни дать ни взять два врача, живущие поблизости и отправляющиеся домой после долгой и трудной смены. Скотт подносит к уху сотовый телефон Магнуса и делает вид, будто что-то говорит в трубку. Трюк срабатывает. Они беспрепятственно доходят до машины Магнуса, видавшего виды «сааба» с выцветшим от солнца брезентовым верхом. Забравшись внутрь, Скотт снова пристраивает левую руку на перевязь.
— Знаешь что, — предлагает Магнус, — давай попозже сходим в этом одеянии в бар. Женщины обожают врачей.
Проезжая мимо толкущихся у входа журналистов, Скотт втягивает голову в плечи и частично прикрывает лицо рукой с телефоном. В этот момент он думает об одиноко сидящем в кресле-каталке мальчике, который отныне и навсегда стал сиротой. Скотт не сомневается в том, что тетя — сестра Мэгги — любит ребенка, и уверен, что наследство, оставленное родителями, защитит его от нищеты. Но будет ли этого достаточно для того, чтобы мальчик смог вырасти нормальным человеком, или случившееся сломало его на всю жизнь?
«Мне надо было взять у его тети номер телефона», — думает Скотт. Но что, спрашивается, он стал бы с ним делать? Скотт не чувствует себя вправе вмешиваться в жизнь семьи Элеоноры и ее мужа. А если бы он даже решился это сделать, что может предложить со своей стороны? Мальчику всего четыре года. Скотт — одинокий немолодой мужчина. В прошлом любитель приударить за женщинами, ни разу не сумевший построить стабильные отношения. Вылечившийся алкоголик. Художник, которому до сих пор так и не удалось создать себе имя. Он классический неудачник, человек-никто. И уж точно никакой не герой.
Магнус выруливает на скоростное шоссе, ведущее на Лонг-Айленд. Скотт опускает боковое стекло и с наслаждением подставляет лицо встречному ветру. Щурясь на солнце, он почти убеждает себя, что события последних тридцати шести часов его жизни — всего лишь сон. Не было ничего — частного самолета, авиакатастрофы, его заплыва в ночном океане, томительного пребывания в больнице. Наверное, думает он, можно попробовать в течение какого-то времени полностью стереть все это из памяти при помощи правильной комбинации коктейлей и занятий живописью. Но в глубине души Скотт прекрасно понимает, что это чушь. Пережитое им теперь навсегда отмечено в его ДНК. Он солдат, побывавший в тяжелом бою, и будет помнить это даже на смертном одре.
Магнус живет на Лонг-Айленде, в здании бывшей обувной фабрики, теперь поделенной на лофты. До авиакатастрофы Скотт собирался несколько дней провести у него, наведываясь по делам в город. Однако теперь, сообщает Магнус, планы придется менять.
— У меня насчет тебя жесткие инструкции, — говорит Магнус. — Я должен отвезти тебя в западную часть города. Похоже, твой статус начинает расти.
— Какие еще инструкции? От кого? — удивляется Скотт.
— От одного нового друга, — отвечает Магнус. — Пока это все, что я могу сказать.
— Притормози, — решительно произносит Скотт.
Магнус поднимает брови и загадочно улыбается.
Скотт тянется к ручке, открывающей дверцу автомобиля изнутри.
— Остынь, парень, — говорит Магнус и чуть дергает рулем, объезжая что-то на дороге. — Я смотрю, ты не в лучшем настроении — тайны тебя только раздражают.
— Просто скажи мне, куда мы едем.
— К Лесли.
— К какой еще Лесли?
— Ты что, головой ударился? Я говорю о Лесли Мюллер. Про галерею Мюллер слыхал?
Слова Магнуса приводят Скотта в растерянность.
— А зачем мы едем в галерею Мюллер?
— Да не в галерею, дурья твоя башка. К ней домой. К Лесли Мюллер. Она ведь миллиардерша, верно? Ее папаша — чудак, который в девяностые придумал какую-то хитрую штуку и страшно разбогател. Так вот, когда ты мне позвонил, я всем, кому мог, рассказал, что еду за тобой и что мы собираемся произвести в городе фурор. Пригласим всяких цыпочек и все такое — ты ведь теперь как-никак герой. Похоже, Лесли об этом узнала, потому что сама мне позвонила. Она заявила, что видела репортаж про тебя по телевидению. И говорит — мол, моя дверь открыта. У нее на третьем этаже есть особые гостевые апартаменты, вроде номера люкс в отеле.
— Я не поеду.
— Не будь дураком, приятель. Это же Лесли Мюллер. Ты должен понимать, какой это уровень. Можно продать картину за триста долларов, а можно — за триста тысяч. Или за три миллиона.
— Нет.
— Отлично! Я тебя услышал. Но подумай хотя бы на минутку о моей карьере. Повторяю, речь, черт побери, идет о Лесли Мюллер. Моя последняя выставка проходила в Кливленде, в какой-то жалкой хибаре. Давай хотя бы заедем пообедать. Дай ей возможность обнять героя в обмен на продажу пары-тройки твоих работ. Глядишь, и за меня словечко замолвишь. А потом мы сделаем вид, что нам пора, и откланяемся.
Скотт смотрит вправо и видит, как в машине, едущей рядом с ними в соседнем ряду, ссорится молодая пара. Обоим — меньше тридцати. За рулем сидит мужчина, но на дорогу он не смотрит. Голова его повернута к подруге. Он раздраженно жестикулирует одной рукой. Женщина злобно тычет открытой губной помадой в сторону своего спутника. На ее лице гримаса злобы и отвращения. Наблюдая за неприятной сценой, Скотт вдруг вспоминает одну деталь. Сидя в салоне самолета, пристегнутый ремнем, он видел, как стюардесса — как же ее звали? — ссорится с одним из пилотов. Она стояла к Скотту спиной у открытой двери кабины, и ему было видно лицо летчика над ее плечом. Оно тоже было искажено злобой. Скотт заметил, как пилот схватил женщину за запястье, но она резким движением вырвала руку.
Скотт припоминает также, что в тот момент он сам, отстегиваясь, щелкнул пряжкой ремня. Похоже, собирался встать. Зачем? Чтобы прийти стюардессе на помощь?
Воспоминание мелькает в голове Скотта и исчезает. Вполне возможно, что это всего лишь кадр из забытого фильма, хотя ему картинка показалась вполне реальной. Было ли это на самом деле? Возможно ли, что в кабине самолета произошло нечто вроде драки?
В продолжающей ехать рядом машине водитель окончательно выходит из себя и в сердцах смачно плюет на дорогу. Но боковое стекло поднято, и слюна стекает вниз по его внутренней поверхности. В следующую секунду Магнус прибавляет газу, и автомобиль со ссорящейся парой остается позади.
— Можешь притормозить здесь? — просит Скотт. — Хочу купить жвачку.
Магнус открывает правой рукой перчаточный ящик и роется внутри.
— У меня где-то здесь есть «Джуси фрут».
— Я хочу мятную. Притормози.
Магнус, не включая указатель поворота, резко перестраивается вправо и паркуется у обочины.
— Я быстро, — говорит Скотт, выбираясь из машины.
— Прихвати мне кока-колу.
Скотт вспоминает, что на нем медицинская униформа — балахон и штаны, а на ногах больничные шлепанцы.
— Одолжи мне двадцатку, — просит он Магнуса.
Тот на секунду задумывается, после чего говорит:
— Ладно, но обещай мне, что мы все-таки заедем к Лесли Мюллер. Я готов биться об заклад, что у нее в баре есть виски, который разлили по бутылкам еще до того, как затонул чертов «Титаник».
— Обещаю, — говорит Скотт, глядя приятелю в глаза.
Магнус вынимает из кармана смятую купюру.
— И чипсов каких-нибудь купи, — говорит он.
Скотт захлопывает дверцу.
— Я сейчас, — бросает он Магнусу и направляется к магазину на автозаправке.
Войдя в павильон, он видит за прилавком грузную женщину.
— Где у вас черный ход? — спрашивает Скотт.
Женщина молча указывает пальцем направление.
Скотт пересекает помещение магазина, минует туалеты, с трудом распахивает тяжелую дверь и щурится в лучах солнца. В нескольких футах от себя он видит невысокий забор из проволочной сетки, за которым начинается территория жилого квартала. Скотт сует двадцатку в нагрудный карман и пытается перелезть через забор, действуя одной рукой. Перевязь мешает ему, и он избавляется от нее. Еще через несколько секунд оказывается по другую сторону забора. Скотт проходит через пустырь. Шлепанцы громко хлопают его по пяткам. Стоит конец августа, на улице жарко и влажно. Скотт представляет себе сидящего за рулем и дожидающегося его Магнуса — он наверняка включил какую-нибудь радиостанцию, где часто передают старую музыку. Весьма возможно, что сейчас подпевает группе «Куин».
Район, в котором оказывается Скотт, явно не из богатых. Это видно и по машинам, припаркованным у обочин, и по надувным бассейнам на задних дворах. Он идет по улице под палящими лучами полуденного солнца и тридцать минут спустя натыкается на закусочную, где продают жареных цыплят. Заведение крохотное — печь, стойка, пара стульев перед ней и больше ничего.
— У вас есть телефон? — спрашивает Скотт у паренька, по виду похожего на уроженца Доминиканы.
— Чтобы звонить, вы должны что-нибудь заказать.
Скотт просит подать ему картонное ведерко жареных ножек и стакан имбирного эля. Паренек указывает ему на телефонный аппарат на стене кухни. Скотт вынимает из кармана визитную карточку и, глядя на нее, набирает номер. Трубку снимают уже на втором звонке.
— Национальное управление безопасности перевозок, — отвечает мужской голос.
— Гэса Франклина, пожалуйста.
— Я у телефона.
— Это Скотт Бэрроуз. Мы с вами разговаривали в больнице.
— Как вы, мистер Бэрроуз?
— Послушайте, я хотел бы… участвовать в поисках. Ну, в спасательной операции. В общем, как-то помочь.
На другом конце провода наступает долгая пауза.
— Мне сказали, что из больницы вы выписались, — говорит наконец Гэс Франклин. — Причем, уходя, умудрились избежать встречи с журналистами.
Скотт некоторое время молчит, раздумывая.
— Я переоделся врачом, — произносит он. — И вышел через боковую дверь.
Гэс Франклин смеется:
— Хитро, ничего не скажешь. Послушайте, водолазы занимаются поисками обломков самолета, но работы продвигаются медленно, а дело получило широкий общественный резонанс. Надеюсь, вам еще удастся вспомнить что-нибудь по поводу катастрофы, что могло бы нам помочь?
— Кажется, мои воспоминания восстанавливаются, — говорит Скотт. — Пока, правда, только отдельные фрагменты, но… Не исключено, что, если я окажусь на месте проведения операции, это как-то стимулирует мою память.
Гэс Франклин некоторое время думает.
— Где вы находитесь? — спрашивает он.
— Скажите, — интересуется Скотт, — как вы относитесь к жареным куриным ножкам?
Картина № 1
Полотно большое — два с половиной метра в длину и полтора в ширину. Первое, что бросается в глаза, — это свет. Два луча направлены под углом таким образом, что в центре холста они образуют световое пятно в виде цифры «восемь». Затем взгляд притягивают два черных прямоугольника, расположенные относительно друг друга, как лезвие и рукоятка раскрытого наполовину перочинного ножа. В лунном мареве тускло блестят металлические каркасы. На краю полотна видны языки пламени — они словно говорят о том, что происходящее не ограничено пределами картины. Многие посетители, внимательно осмотрев произведение художника, невольно пытаются заглянуть за границу холста и даже внимательно изучают раму, словно надеются увидеть там что-то еще.
Световые пятна в центре картины — не что иное, как головные прожекторы пассажирского поезда «Амтрак». Его служебный вагон лежит почти поперек исковерканных рельсов. Первый пассажирский вагон отцепился от служебного. Вместе они образуют некое подобие гигантской буквы Т. Пассажирский вагон, прежде чем остановиться, продолжал двигаться по инерции и протаранил локомотив. Удар, по всей видимости, оказался настолько силен, что локомотив едва не переломился надвое и приобрел форму латинской буквы V.
Яркий свет головных прожекторов делает почти непроницаемой окружающую тьму. Однако, внимательно приглядевшись, можно увидеть единственного изображенного на картине пассажира. Это молодая женщина в черной юбке и разорванной белой блузке. Ее спутанные волосы перепачканы кровью. Женщина босиком бредет среди груд искореженных обломков и смотрит широко раскрытыми глазами по сторонам. Она — жертва катастрофы, случайно выжившая после страшного удара, разом покончившего с ее прежней жизнью, с прежним уютным и привычным миром, который исчез под скрежет сминаемого металла.
Что ищет эта женщина? Кого она потеряла? Сможет ли перенести внезапное превращение из жены или матери, сестры или подруги, дочери или любовницы, из счастливого «мы» в одинокое и жестоко страдающее «я»?
И хотя посетителей ждут другие полотна, каждый какое-то время невольно всматривается в темноту у насыпи на этой картине, словно стараясь помочь женщине в ее бесплодных поисках.
Штормовые облака
Спасательный жилет оказывается таким тесным, что мешает ему дышать. Тем не менее Скотт затягивает лямки еще туже. И это бессознательное, инстинктивное движение он делает каждые несколько секунд, оказавшись в вертолете. Гэс Франклин сидит напротив Скотта, внимательно вглядываясь в его лицо. Рядом с ним расположился унтер-офицер ВМС Беркман в оранжевом комбинезоне и шлеме из блестящего черного пластика. Все трое находятся в кабине вертолета береговой охраны Эм-Эйч-65-Си «Дельфин», летящего над волнами. На горизонте Скотт видит смутные очертания скалистого берега Мартас-Вайнъярд. Но вертолет держит курс не на остров, во всяком случае, пока. Трехлапому псу-инвалиду придется немного подождать своего хозяина. Вспомнив о нем, Скотт какое-то время думает о своем питомце. Сниз — некрупный пес белого цвета с черным пятном на глазу. Его любимое занятие — игра в прятки в высокой траве. Год назад из-за развившейся раковой опухоли ему пришлось ампутировать правую заднюю лапу. Уже через два дня после операции пес вовсю карабкался вверх и вниз по лестнице. После звонка Гэсу Скотт из той же закусочной связался по телефону с соседкой, которую перед отъездом попросил позаботиться о собаке. Та сообщила, что Сниз в полном порядке и большую часть времени проводит на крыльце, греясь на солнце. Поблагодарив женщину, Скотт сказал, что вернется через пару дней.
— Не торопитесь, — успокоила его соседка. — Вам так много пришлось пережить. Вы столько сделали для того мальчика. Да что там, вы его просто спасли. Вы молодчина!
Мысли Скотта снова вернулись к собаке с отрезанной лапой: «Если животное может приспособиться к своему увечью, практически забыть о нем и жить полноценной жизнью, почему мне не под силу справиться со своими проблемами?»
Вертолет тем временем продолжает рассекать винтом влажный, густой, словно кисель, воздух. Скотт держится за сиденье здоровой правой рукой, левая все еще висит на перевязи. Дорога от берега до предполагаемого места катастрофы занимает двадцать минут. Глядя на расстилающееся внизу водное пространство, Скотт не может поверить, что проплыл такое расстояние.
Гэс подъехал к закусочной примерно через час после звонка Скотта на белом седане — служебном, как сразу же пояснил он. Скотт, дожидаясь его, пил воду без газа. Подойдя, Гэс передал ему комплект одежды.
— Надеюсь, с размером я угадал, — сказал он.
— Уверен, вещи будут в самый раз. Спасибо, — поблагодарил Скотт и отправился в туалет, чтобы переодеться.
Гэс привез ему хлопчатобумажную футболку и спортивные брюки свободного покроя с большими накладными карманами. Брюки оказались немного велики в талии, футболка — слегка тесной в плечах, поэтому процесс переодевания потребовал от Скотта немалых усилий. Зато, выйдя из туалета, он снова выглядел как совершенно нормальный человек, не привлекающий чрезмерного внимания и не вызывающий подозрений. Вымыв руки, он запихнул медицинскую униформу поглубже в мусорное ведро.
Глядя в иллюминатор вертолета, Гэс указывает рукой куда-то вниз и вправо. Посмотрев в том направлении, Скотт видит белый корабль береговой охраны, стоящий на якоре.
— Вы когда-нибудь раньше летали на вертолете? — спрашивает Гэс, с трудом перекрикивая шум двигателя.
Скотт отрицательно качает головой. Он художник. Кому придет мысль в посадить на борт вертолета человека его профессии? Впрочем, то же самое он думал по поводу частных самолетов — и вот как все обернулось.
Взглянув вниз, Скотт видит еще полдюжину судов, разбросанных по поверхности океана. Спасатели считают, что самолет затонул на большой глубине. Какая-то впадина — так они называли это место. Как объяснил Скотту Гэс, это означает, что на поиски «Лира» или того, что от него осталось, может уйти несколько недель.
— Это поисково-спасательная операция, — говорит Гэс. — В ней участвуют корабли военно-морских сил, береговая охрана и НУОА.
— Как вы сказали?
— Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы, — улыбается Франклин. — У этих очкариков есть хитрые сонары. Кроме того, ВВС предоставили нам пару Эйч-Си-130. Плюс к этому в нашем распоряжении тридцать водолазов ВМС и еще двадцать из Массачусетского полицейского управления. Все они готовы приступить к работе в воде, как только мы найдем обломки.
Скотт какое-то время молчит, раздумывая, а потом спрашивает:
— Скажите, это обычное мероприятие для случаев, когда падает небольшой самолет?
— Нет. Все дело в том, что на борту были важные персоны. Такие операции проводятся по звонку самого президента.
Вертолет делает вираж вправо и облетает вокруг корабля береговой охраны. При этом корпус машины так накреняется, что если бы не дверь и не пристегнутый ремень, Скотт наверняка свалился бы в воду.
— Вы говорили, что, когда вы вынырнули, некоторые обломки плавали на поверхности, — кричит ему в ухо Гэс.
— Что?
— Вы видели обломки самолета на поверхности воды?
Скотт кивает:
— Они были охвачены пламенем.
— Это горело топливо, — поясняет Гэс. — Из чего следует, что в баках образовалась пробоина. Вам повезло, что вы остались целы.
Скотт кивает с отсутствующим лицом — он изо всех сил напрягает память.
— И еще я, кажется, видел крыло. Не могу сказать, какую именно часть. Впрочем, могло оказаться и что-то другое. Было темно.
Гэс кивает. Вертолет резко ныряет вниз. Скотту кажется, что его желудок подскакивает к горлу.
— Вчера утром рыбаки, вышедшие в море на лодке, обнаружили куски крыла неподалеку от Филбин-бич, — сообщает Гэс. — И еще поднос для раздачи питания, подголовник и сиденье от унитаза. Понятное дело, мы ищем не целехонький самолет. Похоже, он развалился на части. Не исключено, что в течение ближайших дней к берегу прибьет еще какие-нибудь предметы — все зависит от течения. Весь вопрос в том, развалился ли корпус самолета при ударе о воду или еще в воздухе.
— Простите. Мне хотелось бы сообщить вам больше. Но, как я уже говорил, похоже, в какой-то момент ударился обо что-то головой.
Скотт смотрит на океан. Бесконечное водное пространство простирается вокруг, сколько хватает глаз. Впервые ему приходит в голову мысль, что, может, это хорошо, что в момент катастрофы было темно. Если бы он увидел пустынную водную гладь вокруг себя, ему, возможно, не удалось бы доплыть до берега.
Гэс тем временем ест миндальные орешки из небольшого, герметично закрывающегося контейнера. В ситуации, когда любой другой человек наслаждался бы открывшимися ему красотами природы, он, будучи инженером, видит и оценивает лишь совместное действие природных факторов — земного притяжения, океанского течения, ветра. Таким людям, как Гэс, недоступна прелесть поэзии. Вернее, для них поэзия — в оригинальных технических решениях и целесообразности. Они ценят функцию, а не форму. Для таких, как Гэс, все в мире просто и ясно. Они редко испытывают сомнения и почти никогда не бывают ни ярыми оптимистами, ни законченными пессимистами.
Гэс Франклин родился в Стайвезант-Виллидж. Его отец был мусорщиком, мать — домохозяйкой. Гэс оказался единственным в школе чернокожим молодым человеком, с отличием окончившим Фордхемский университет. Он видел красоту не в природе, а в архитектуре римских акведуков и микрочипах. Согласно его представлениям, любую проблему можно было решить путем ремонта или замены вышедшей из строя детали. В сложных же случаях, по его мнению, следовало просто-напросто разобрать всю систему, а затем, устранив неисправность, опять собрать и запустить заново.
Именно так он относился и к своему браку. В итоге однажды дождливой ночью жена плюнула ему лицо и выбежала за дверь. «Ты бесчувственный!» — крикнула она за несколько секунд до этого. Гэс, услышав ее слова, нахмурился. Чувства у него имелись — в этом он нисколько не сомневался. Только они были другими, совсем не теми, в которых нуждалась его супруга.
Потому в ответ на слова, сказанные ею в сердцах, Гэс просто пожал плечами. А она плюнула ему в лицо и выбежала на улицу. Это случилось в 1999 году.
Утверждать, что Белинда была эмоциональной женщиной, — это все равно что не сказать ничего. И к тому же она не воспринимала никакую технику. Однажды она заявила, что латинские названия цветов уничтожают их таинственность. Стоя в коридоре и чувствуя, как плевок стекает по его подбородку, Гэс сделал вывод, что скорее всего его брак ремонту не подлежит. Они с женой были попросту несовместимы. А вот его жизнь в самом деле требовала системной перенастройки, начать которую следовало с развода.
В течение года, который они с Белиндой прожили в браке, Гэс пытался найти практические решения иррациональных проблем. Жена считала, что он слишком много работает. Однако на самом деле он работал меньше, чем большинство его коллег. Белинда хотела завести детей немедленно, а по мнению Гэса, с этим следовало повременить до того момента, когда он добьется успеха в карьере, что приведет к увеличению заработка и, следовательно, к переезду в более просторную квартиру — такую, в которой была бы детская комната.
В один прекрасный день Гэс усадил супругу за стол и устроил ей презентацию. С помощью графиков и диаграмм он продемонстрировал Белинде, что наилучшим моментом для зачатия будет сентябрь 2002 года, до которого нужно было подождать три года. Разумеется, при условии, что ему удастся достигнуть намеченных рубежей в продвижении по служебной лестнице и соответствующего уровня дохода. Белинда назвала его бесчувственным роботом. Гэс объяснил, что роботы бездушны по определению, а он вовсе не машина, потому что у него есть чувства — просто Гэс их контролирует, а она нет.
Их развод прошел довольно гладко — главным образом потому, что Белинда наняла адвоката. Он был заинтересован заработать побольше, а значит, используя категории Гэса, имел четкую и рациональную цель. И Гэс Франклин снова стал одиноким мужчиной, который в полном соответствии с материалами презентации, продемонстрированными в свое время Белинде, быстро делал карьеру в корпорации «Боинг». Через некоторое время ему предложили руководящую должность в отделе расследований Национального управления безопасности перевозок. На ней он проработал последние одиннадцать лет.
С годами его образ мыслей и восприятие мира стали меняться. Он понемногу перестал воспринимать окружающее как детали некой огромной машины. Занимаясь расследованиями крупных транспортных катастроф, он по долгу службы часто был вынужден сталкиваться со смертью и человеческим горем. При этом Гэс, как справедливо сказал в свое время Белинде, все же не был роботом. Он мог испытывать любовь, как и боль потери. Просто в молодости ему легче удавалось держать эти чувства внутри.
В 2003 году у его отца обнаружили лейкемию. Он умер в 2009-м, а еще через год скончалась от разрыва аневризмы мать Гэса. Пустоту, которая возникла после этого в его душе, невозможно было объяснить. Программа дала сбой. Гэс на себе ощутил горе — то, что видел много раз, работая в НУБП. Смерть предстала перед ним не как отвлеченное понятие, а как страшная и непреодолимая реальность.
Теперь, когда ему исполнился пятьдесят один год, Гэс Франклин чувствовал, что к нему начала приходить мудрость, в том числе способность понимать не только фактическую сторону происходящих событий, но и их воздействие на людские души. Авиакатастрофа — это трагедия, которая свидетельствует: на свете есть много того, что человек не может полностью контролировать.
Когда августовской ночью его телефон зазвонил, Гэс подумал и о жертвах катастрофы — экипаже и пассажирах. И, конечно, о двух маленьких детях, находившихся на борту.
Начал он с анализа фактов. Итак, частный самолет — модель, изготовитель, год постройки? — пропал с экранов радаров — аэропорт отправления, прибытия, последний сеанс радиосвязи, данные радиолокационных устройств, погодные условия? Опрос пилотов находившихся поблизости воздушных судов и диспетчеров других аэропортов никаких результатов не дал. После того, как было зафиксировано исчезновение самолета с экранов РЛС, больше его никто не видел.
Пока формировалась группа людей, которым предстояло заниматься поисками, были сделаны необходимые в подобных случаях телефонные звонки.
К тому моменту, когда Гэс оказался в машине, у него уже имелся список пассажиров пропавшего самолета. На основе скорости движения борта был намечен предполагаемый район поисков. О случившемся проинформировали командование ВМС и береговой охраны, которое выделило для проведения операции вертолеты и корабли. Когда Гэс добрался до аэропорта Тетерборо, осмотр поверхности океана уже начался. Хотя все еще оставалась надежда на то, что самолет совершил где-нибудь вынужденную посадку, но не смог сообщить об этом из-за отказа радиосвязи.
Первые обломки были обнаружены через двадцать два часа.
Несмотря на довольно хаотичное снижение, вертолет приземляется на удивление мягко. Унтер-офицер ВМС Беркман распахивает сдвижную дверь, и пассажиры выпрыгивают из машины на палубу. Лопасти вертолета со свистом рассекают воздух над их головами. Скотт видит вокруг десятки людей в морской форме. Каждый из них занят своим делом.
— Сколько времени мы отсутствовали на экране… — говорит Скотт, но Гэс, не дослушав его, отвечает:
— Скажу вам честно: служба контроля за воздушным движением аэропорта Тетерборо допустила промах. Ваше исчезновение с экранов радаров заметили только по прошествии шести минут. Это чертовски большой промежуток времени. Из-за такого прокола район поиска увеличен во много раз. Кто знает, что могло произойти? Упал самолет в воду сразу же или резко снизился и какое-то время летел над поверхностью океана? А что, если он еще и изменил курс? Где его прикажете искать? Когда воздушное судно пропадает с экрана РЛС, диспетчер первым делом пытается вызвать его по радио. Он делает это в течение девяноста секунд. Затем вызывает другие самолеты, находящиеся в том же районе, — возможно, они видят исчезнувший борт. Может быть, у него вышла из строя антенна и по этой причине радиообмен с ним невозможен. Если никто пропавший самолет не наблюдает, диспетчер связывается с береговой охраной и говорит: «У меня исчез с экрана самолет». Затем сообщает, когда это произошло, где самолет видели в последний раз, каким курсом и с какой скоростью он летел. Береговая охрана отправляет на поиски свой корабль и поднимает в воздух вертолет.
— А когда позвонили вам?
— Ваш самолет упал в воду в 22 часа 18 минут в воскресенье. В 23 часа 30 минут я уже следовал в Тетерборо с авральной командой.
Низко над палубой с ревом пролетает огромный Эйч-Си-130 военно-воздушных сил, вспарывая воздух четырьмя винтами. Скотт инстинктивно пригибается.
— Он пытается уловить отраженный сигнал, — говорит Гэс, кивая в сторону самолета. — Обычно все суда, самолеты и вертолеты используются для визуального поиска. Кроме этого, для обнаружения обломков применяется подводный сонар. Мы стараемся получить в свое распоряжение все, что можно. Само собой, в первую очередь стараемся найти черный ящик. Его данные вместе с записью голосовых переговоров пилотов позволяют посекундно восстановить ход событий на борту самолета.
Скотт видит, как Эйч-Си-130 закладывает вираж, разворачивается и отправляется на новый заход.
— Значит, никакого контакта по радио с самолетом не было? — уточняет он. — И сигнал о помощи экипаж не подавал?
Гэс запихивает в карман свой блокнот.
— «Спасибо, контроль» — это последнее, что сказал пилот по радиосвязи. Это было секунд за тридцать до того, как самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы.
Большая волна приподнимает и снова опускает корпус корабля. Скотт хватается за бортовое ограждение, чтобы сохранить равновесие. Вдали он видит идущее малым ходом судно НУОА.
— В общем, мы сели в Тетерборо в 23:46, — продолжает свой рассказ Гэс. — Первым делом я сразу же собрал все данные службы контроля за воздушным движением. Оказалось, что речь идет о частном самолете без полетного плана и с неизвестным количеством пассажиров, который пропал над океаном примерно час двадцать минут назад.
— У них не было полетного плана?
— На территории США для частных самолетов это не обязательно. Список пассажиров имелся. В него были внесены четыре человека. Семья — муж, жена и двое детей. Плюс экипаж — еще трое. Однако затем с Мартас-Вайнъярд поступили сведения, что пассажиров на борту было по меньшей мере семеро. Поэтому мне пришлось выяснять, кто еще мог оказаться в самолете, имеют ли они какое-то отношение к случившемуся. Кстати, мы на тот момент понятия не имели, что, собственно, произошло. Да и откуда нам было это знать? Может, вы изменили курс и полетели в сторону Ямайки? Или сели в каком-нибудь другом аэропорту — в Нью-Йорке или в Массачусетсе?
— Я в это время уже находился в воде и плыл. Точнее, мы. Я и мальчик.
— Да, верно. А теперь в воздухе висят три вертолета береговой охраны и, возможно, еще один из ВМС. Потому что через пять минут после того, как я вошел в помещение диспетчерской службы воздушного контроля, мне позвонил шеф, которому до этого звонил его босс. И я узнал, что на борту был Дэвид Уайтхед, важная персона, и поэтому сам президент взял дальнейшее развитие ситуации под свой личный контроль. Это означает, что оскандалиться нельзя ни в коем случае. И еще сообщили, что меня ждет встреча со спецгруппой из ФБР, а возможно, и с каким-нибудь высоким чином из министерства внутренней безопасности.
— А когда вы узнали, что на борту находилась супружеская чета Киплингов?
— Когда я летел из Тетерборо на Мартас-Вайнъярд, мне позвонили из комиссии по ценным бумагам и биржам и сказали: они прослушивают телефон Бена Киплинга и думают, что он находился в самолете. Это означало, что, помимо фэбээровцев и людей из министерства внутренней безопасности, на мне повиснут еще и агенты этой комиссии. Следовательно, потребуется вертолет побольше.
— Зачем вы мне это рассказываете? — спросил Скотт.
— Отвечаю на ваш вопрос.
— А сюда вы меня привезли, потому что я поинтересовался, как идет расследование?
Гэс на несколько секунд задумывается.
— Вы ведь сами сказали, что это может помочь вам что-нибудь вспомнить, — говорит он после паузы.
Скотт недоверчиво качает головой:
— Нет, неправда. Я знаю, что не должен быть здесь. Вы так не работаете.
Гэс снова что-то прикидывает про себя.
— Как вы полагаете, сколько людей выживает в большинстве авиакатастроф? — спрашивает он. — Как правило, погибают все. Может, находясь здесь, вы действительно что-то вспомните. А может, я привез вас сюда, потому что восхищаюсь тем, как вы смогли это сделать.
— Только не добавляйте «для мальчика».
— Почему бы и нет? Вы спасли ему жизнь.
— Я… я просто плыл. Он позвал на помощь. Любой другой на моем месте сделал бы то же самое.
— Во всяком случае, другие могли бы попытаться.
Скотт смотрит на воду, покусывая губу.
— Значит, я герой, потому что входил в школьную команду по плаванию?
— Нет. Потому что вы вели себя как настоящий герой. И я привез вас сюда, потому что для меня это кое-что значит. Для всех нас.
Скотт пытается вспомнить, когда он в последний раз ел.
— Послушайте, а что он имел в виду?
— Кто?
— Тот тип в больнице. Когда парень из ФБР сказал, что накануне вечером играл Бостон. И представитель компании «Лир-джет», кажется, сказал что-то про бейсбол.
— Верно. Он упомянул про Дворкина. Он играет за «Ред Сокс».
— И что?
— В воскресенье вечером он установил новый рекорд времени пребывания на ударной позиции за всю историю бейсбола.
— И?
Гэс улыбается.
— Он сделал это как раз в то время, когда вы находились в воздухе. Двадцать две подачи за восемнадцать минут. Эта серия началась в тот самый момент, когда ваш самолет оторвался от земли, и закончилась за какие-то несколько секунд до катастрофы.
— Вы шутите.
— Нет. Ваш полет продолжался ровно столько времени, сколько Дворкин пробыл на базе с битой.
Скотт смотрит на воду, потом на небо, где на горизонте собираются свинцово-серые тучи. Он вспоминает, что на стадионе, кажется, действительно происходило что-то чрезвычайное. Во всяком случае, двое других мужчин на борту следили за репортажем с явным интересом. «Ты только посмотри на это, дорогая, это же просто невероятно!». Скотт всегда был равнодушен к бейсболу. Но сейчас, слушая рассказ Гэса, он чувствует, как по спине бегут ледяные мурашки. Два события происходят одновременно, и между ними словно бы устанавливается связь. Начинает казаться, что их совпадение во времени не случайно, что в нем есть какой-то скрытый смысл. Но ведь это невозможно. Бейсболист на переполненном зрителями стадионе бьет по мячу, а в это самое время небольшой самолет, с трудом пробиваясь сквозь туман, набирает высоту. Сколько событий происходят одновременно? Миллионы. Значит ли это, что все они как-то связаны между собой?
— Первые доклады командира экипажа и второго пилота не вызывают никаких вопросов, — говорит Гэс. — Мелоди был ветераном, летал уже двадцать три года, а в «Галл-Уинг» проработал одиннадцать лет. Никаких проступков, замечаний или жалоб. Правда, у него было непростое детство. Его воспитывала одна мать, причем она входила в секту, члены которой верили в конец света.
— Вроде секты Джима Джонса? — спрашивает Скотт.
— Пока неясно. Мы наводим кое-какие справки, но, скорее всего, это не особенно важная деталь.
— А другой летчик? — интересуется Скотт. — Второй пилот?
— Тут немного сложнее. Разумеется, все это не подлежит разглашению, но полагаю, вы увидите в прессе немало спекуляций на данную тему. Чарльз Буш был племянником Логана Бэрча, сенатора. Вырос в Техасе. Прослужил какое-то время в национальной гвардии. Похоже, был большим жизнелюбом. Имел пару замечаний — в основном за неподобающий внешний вид. В частности, за появление на службе небритым. Вероятно, этому предшествовали шумные вечеринки. Но ничего серьезного. Мы плотно работаем с авиакомпанией, пытаясь получить более ясную и точную картину.
«Джеймс Мелоди и Чарльз Буш». Скотту кажется, что второго пилота он даже не видел, а о командире экипажа Джеймсе Мелоди у него сохранились лишь смутные воспоминания. И ведь у каждого из них была своя жизнь. Скотт пытается восстановить в памяти хоть какие-то детали.
Волнение на море усиливается. Стоящий на якоре корабль качается на мощных волнах, словно пробка.
— Похоже, надвигается шторм, — замечает Скотт.
Гэс, держась руками за бортовое ограждение, окидывает взглядом горизонт.
— Если это не ураган, мы не станем прерывать поиски, — говорит он.
Пока Гэс отдает распоряжения участникам операции, Скотт спускается в кают-компанию и выпивает чашку чая. На стене укреплен телевизор, и на экране мелькают кадры репортажа о ходе поисково-спасательных работ. Скотт видит корабль, на котором он находится, снятый с вертолета. Кроме него, в кают-компании сидят два моряка. Они пьют кофе и тоже смотрят на экран телевизора.
Кадры репортажа сменяет «говорящая голова» — это Билл Каннингем в красных подтяжках.
— …наблюдаем за ходом поисков. Затем в четыре часа вы увидите специальную передачу под названием «Безопасно ли наше небо?» — смотрите не пропустите. И вот еще что. Я долго держал язык за зубами, но вся эта история кажется мне очень подозрительной. Потому что, если действительно произошла авиакатастрофа, то где же жертвы? Если Дэвид Уайтхед и члены его семьи погибли, почему нам не показали их тела? Теперь начинаются какие-то мутные разговоры, и я слышу: Эй-си-эн запускает в эфир историю о том, что на борту самолета был Бен Киплинг, известный финансист, которому комиссия по ценным бумагам и биржам собиралась предъявить обвинения за проведение деловых операций с нашими врагами. Да-да, друзья, за незаконное инвестирование денег, поступивших из таких стран, как Иран и Северная Корея. А что, если эта авиакатастрофа — не что иное, как попытка вражеской страны замести следы? Заставить этого предателя Киплинга замолчать раз и навсегда? В таком случае возникает вопрос. Почему наше правительство с самого начала не квалифицировало эту авиакатастрофу как террористический акт?
Скотт отворачивается от экрана телевизора и отхлебывает чай из картонной чашки, стараясь не слушать голос комментатора.
— А вот еще один важный вопрос. Кто такой этот Скотт Бэрроуз?
«Стоп. Это еще что?» Скотт снова смотрит в телевизор. На экране он видит свою фотографию, сделанную несколько лет назад, незадолго до его выставки в Чикаго.
— Да, я знаю, что вы скажете — он ведь спас четырехлетнего мальчика. Но кто он такой и что делал на борту самолета?
На экране возникает изображение дома Скотта на Мартас-Вайнъярд. Скотт не понимает, как такое возможно. Он видит в окне свою увечную собаку, которая беззвучно лает.
— В «Википедии» он упоминается как художник, но какая-либо личная информация о нем отсутствует. Мы вошли в контакт с картинной галереей в Чикаго, где мистер Бэрроуз якобы проводил свою последнюю по времени выставку в 2010 году. Однако сотрудники галереи утверждают, что никогда его не видели. Попробуйте задаться вопросом: каким образом никому не известный художник, картины которого не выставлялись уже несколько лет, мог оказаться на борту роскошного частного самолета в обществе двух богатейших мужчин Нью-Йорка?
Скотт не может отвести взгляд от экрана, на котором по-прежнему демонстрируют его жилище — более чем скромный одноэтажный дом, снятый им у рыбака-грека за 900 долларов в месяц. Строение нуждается в покраске, и Скотт обреченно ждет неизбежной шутки Каннингема по поводу того, что дом художника заждался маляра, но до нее дело так и не доходит.
— И вот я, журналист, задаю в прямом эфире вопрос: есть ли на свете хоть кто-то, кто знаком с этим таинственным художником? Если есть, пусть позвонит на наш канал и убедит меня, что мистер Бэрроуз действительно существует и что это не законспирированный агент «Исламского государства».
Скотт, прихлебывая чай, чувствует на себе взгляды двух военных моряков. Он чувствует, что и позади него кто-то есть.
— Похоже, о том, чтобы вы отправились домой, не может быть и речи, — говорит Гэс, возникнув из-за спины Скотта.
— Очевидно, — соглашается Скотт.
Гэс еще некоторое время смотрит на экран, а затем подходит к телевизору, выключает его и спрашивает:
— У вас есть какое-нибудь место, где вы можете отсидеться несколько дней и в то же время быть в пределах досягаемости?
Скотт задумывается, но ему ничего не приходит в голову. Он уже позвонил своему единственному приятелю, а затем сбежал, бросив его у торгового павильона рядом с бензозаправкой. Теоретически у него есть где-то двоюродные сестры, бывшая жена, но Скотт понимает, что о них уже успели навести справки через «Гугл». Ему нужен человек, которого невозможно было бы вычислить логически или с помощью компьютера.
Затем его осеняет. Он вспоминает о блондинке с миллиардом долларов.
— Да, есть один человек, которому я могу попробовать позвонить, — говорит Скотт.
Сироты
Элеонора хорошо помнит время, когда они были девочками. У них с Мэгги не имелось ничего такого, что принадлежало бы только одной. Все было общим: расческа, платья, полосатое и в горошек, тряпичные куклы — Энн и Энди. Девочки часто сидели вдвоем в ванной комнате фермерского дома перед зеркалом, расчесывая друг другу волосы. Из гостиной, где был включен проигрыватель с детскими пластинками, доносилась музыка, а из кухни слышался шум, свидетельствующий, что отец готовит. Мэгги и Элеонора Гринуэй, восьми и шести лет, или двенадцати и десяти, слушали одни и те же диски и влюблялись в одних и тех же мальчиков. Младшая, Элеонора, благодаря светлым волосам походила на эльфа. Мэгги обожала кружиться с лентой в руках до тех пор, пока ее не начинало пошатывать. Элеонора, глядя, как она танцует, радостно смеялась.
Элеонора никогда не думала о себе отдельно от Мэгги. Для нее словно не существовало слово «я». Все свои фразы она начинала со слова «мы». Потом Мэгги стала посещать колледж, и Элеоноре пришлось учиться существовать в одиночку. Она на всю жизнь запомнила, как тоскливо ей было в первый трехдневный уик-энд, когда слонялась по комнате в полной тишине. Элеоноре казалось, что крохотные жучки одиночества проникают в ее кости, и от этого у нее неприятно зудели руки и ноги. А в понедельник, когда она пришла в школу, у нее впервые возникла мысль познакомитсья близко с кем-то еще, кроме сестры. К пятнице она уже дружила с Полом Эйблом. А когда через три недели они поссорились, переключилась на Дэймона Райта.
Главное для нее было — никогда больше не оставаться одной.
Когда Элеонора стала взрослой, в ее жизни стали появляться, сменяя друг друга, самые разные мужчины. С Дугом она познакомилась три года назад в Виллиамсбурге. Ей к тому моменту исполнилось двадцать семь, она имела временную работу в нижнем Манхэттене и занималась йогой по вечерам. Жила Элеонора в трехэтажном доме без лифта в Кэррол-Гарденс, в квартире с еще двумя девушками. Последняя ее любовь, молодой человек по имени Хавьер, бросил Элеонору неделю назад. Разрыв произошел после того, как она обнаружила пятна помады на его трусах. С тех пор девушка почти беспрерывно рыдала. Подружки наперебой твердили Элеоноре, что ей следует какое-то время побыть одной. То же самое говорила и Мэгги. Но Элеонора, слушая ее, снова чувствовала тот самый мерзкий зуд в костях, который запомнился ей на всю жизнь.
Она провела выходные с Мэгги и Дэвидом. Предполагалось, что Элеонора поможет им с детьми, но на деле она два дня пролежала, глядя в окно и стараясь не расплакаться. Еще через два дня Элеонора в обществе нескольких коллег по работе оказалась на вечеринке в безалкогольном хипстерском баре. Там-то она и обратила внимание на Дуга. У него была густая борода, а одет он был в комбинезон. Ей понравились лучики морщинок, которые появлялись в уголках его глаз, когда он улыбался. Дождавшись момента, когда незнакомец подошел к стойке за очередным напитком, Элеонора заговорила с ним. Дуг сообщил ей, что он писатель и избегает работы, устраивая для своих друзей-гурманов обеды у себя дома. Он также рассказал о своей квартире и множестве хитроумных кухонных устройств. Есть там даже такие экзотические вещи, как машинка для изготовления домашней лапши и трехсотфунтовая винтажная кофеварка, которую он восстановил своими руками. Выяснилось, что в прошлом году Дуг стал делать даже собственную колбасу, закупая мясо в какой-то лавке в Гованусе. При изготовлении продукта важно избегать повышенной влажности фарша и не дать завестись в нем бактериям, вызывающим ботулизм. После этого вступления Дуг пригласил Элеонору отведать финальное изделие. Она заявила: это слишком рискованно.
Потом Дуг поведал ей, что пишет большой роман об Америке, который, впрочем, может оказаться макулатурой. Они с Элеонорой пили безалкогольное пиво «Пабст», не обращая никакого внимания на других участников вечеринки. Еще через час Элеонора отправилась вместе с Дугом к нему домой, где обнаружила, что он даже летом спит под фланелевыми простынями. Интерьер его квартиры был странным — такая обстановка могла быть в доме как у лесоруба, так и у выжившего из ума ученого. В одной из комнат стояло старое зубоврачебное кресло, которое Дуг любовно восстанавливал. На одном из подлокотников кресла был укреплен небольшой телевизор. В обнаженном виде Дуг походил на медведя, от которого пахло пивом и опилками. Лежа в постели под ним, у Элеоноры было такое впечатление, что она отсутствует, а Дуг занимается любовью с ее тенью.
Он сказал, что иногда обстряпывает не вполне законные делишки и слишком много пьет. «Эй, я тоже», — ответила Элеонора, и оба рассмеялись. Правда, однако, состояла в том, что на самом деле пьяницей ее назвать было никак нельзя, а вот Дуг действительно серьезно выпивал. Про свой роман он вспоминал нечасто и почти всегда по ночам. В эти моменты он испытывал приступы ярости и жалости к себе. Проснувшись вся в поту под фланелевой простыней, Элеонора не раз наблюдала, как он в бешенстве с треском отрывает планки от своего стола. Им служила дверь, положенная плашмя на козлы для распилки бревен.
Впрочем, днем Дуг был вполне мил. Он имел множество друзей, которые заглядывали в гости в любое время, так что у Элеоноры почти не было шансов даже ненадолго остаться в одиночестве. Дуг в таких случаях бросал любое занятие — он обожал, по его выражению, немного развеяться. А уж если речь заходила о какой-то кулинарной авантюре, он был готов на все — например, немедленно отправиться на Орчард-стрит за косточковыдавливателем для вишни или ехать куда-нибудь в Куинс покупать козлятину у каких-то гаитянцев. Он был настолько деятельным и энергичным, что Элеонора не успевала соскучиться, даже когда Дуг задерживался где-нибудь допоздна. Через месяц она переехала в его квартиру. Теперь, если ей когда-нибудь становилось одиноко, она надевала одну из рубашек Дуга и, сидя на полу в кухне, ела остатки его стряпни.
Через какое-то время Элеонора получила лицензию массажистки и стала работать в элитном бутике в Трибеке. Ее клиентами были кинозвезды и банкиры, вполне дружелюбные люди, которые давали ей щедрые чаевые. Дуг тем временем пробавлялся случайными заработками. Один его приятель занимался созданием ресторанных интерьеров и платил Дугу за то, чтобы тот искал и, найдя, восстанавливал старинные кухонные печи. Элеоноре казалось, что они с Дугом счастливы и живут той жизнью, какой и должны жить современные молодые пары.
Она познакомила Дуга с Дэвидом, Мэгги и их детьми, но сразу же поняла, что ему неприятно находиться в обществе такого успешного и богатого мужчины, как муж ее сестры. Обед проходил в столовой таунхауса Уайтхедов. При наличии детей организовать подобную трапезу было куда легче, чем пикник на свежем воздухе. Стол был рассчитан на двенадцать персон. Элеонора наблюдала за тем, как Дуг, выпив бокал французского вина, внимательно разглядывает кухонную технику — плиту на восемь конфорок фирмы «Вольф», дорогую морозильную камеру. В его взгляде она прочла зависть и презрение: «Вы можете позволить себе купить все эти хитрые штуковины, но талант, который нужен, чтобы со знанием дела ими пользоваться, не купишь». В метро на обратном пути Дуг обрушился на мужа сестры Элеоноры с яростной критикой, назвав его «сладеньким республиканским папенькой», и всю дорогу вел себя так, словно Дэвид их каким-то образом унизил, показал, что они ему не ровня. Элеонора ничего не могла понять. Она полагала, что ее сестра счастлива, Дэвид очень мил, а их дети — просто ангелы. Нет, Элеонора не разделяла политические взгляды своего зятя, но вовсе не считала его плохим человеком.
Что же касается болезненной реакции Дуга на чужое благополучие, то она была типичной для бородатых мужчин без определенных занятий. Богатство они осуждали и презирали, даже если сами к нему стремились. Дуг пустился в длинный монолог, которого хватило на всю дорогу до их с Элеонорой жилища на Уайетт-авеню. Он говорил о том, каким ужасным стал мир из-за таких типов, как Дэвид Уайтхед, способствующих распространению экстремизма и ненависти.
В конце концов Элеонора заявила, что не хочет больше его слушать, и улеглась спать на диване.
Они поженились и вскоре переехали в северную часть штата. Дуг вместе с друзьями решил открыть ресторан в Кротон-он-Хадсон. Идея состояла в том, чтобы построить заведение с нуля. Однако денег для проекта было мало, и один из приятелей Дуга в последний момент дал задний ход. Другой без особого энтузиазма повозился со строительством с полгода и сбежал обратно в Нью-Йорк, после того как спутался с местной школьницей и она забеременела. Теперь недостроенный ресторан, точнее кухня и несколько облицованных плиткой прямоугольных сооружений, медленно разрушаются, находясь в озерце стоячей воды.
Дуг иногда ездит туда на своем пикапе, но лишь затем, чтобы, глядя на развалины, напиться. Иногда, впрочем, он прихватывает с собой портативный компьютер и, поймав момент, когда на него вдруг накатывает вдохновение, некоторое время работает над своим романом. Но такое случается нечасто. Договор аренды истекает в конце года, и если Дуг не сможет превратить полуразрушенные строения в действующий ресторан, что уже практически невозможно, участок будет потерян, как и вложенные в проект деньги.
В какой-то момент Элеонора предложила попросить десять тысяч долларов взаймы у Дэвида на завершение строительства. Дуг в ответ плюнул ей под ноги и разразился длинной злобной тирадой, смысл которой сводился к тому, что Элеоноре, судя по всему, тоже следовало выйти замуж за какого-нибудь богатого ублюдка, как это сделала ее чертова сестра. Ночью он не пришел домой ночевать, и Элеонора, лежа в кровати, почувствовала, как в ее костях снова зашевелились мелкие жучки одиночества, вызывая невыносимый зуд.
Долгое время казалось, что союз Элеоноры и Дуга станет таким же, как большинство подобных браков — так и не зацветшим домашним растением, засохшим и погибшим из-за нехватки денег и краха радужных иллюзий.
А затем Дэвид, Мэгги и их дочь Рэйчел погибли, и на Элеонору с Дугом обрушилось немыслимое богатство.
Через три дня после авиакатастрофы они сидят в конференц-зале на верхнем этаже здания, по адресу: Парк-авеню, 432. Дуг после долгих препирательств все же согласился надеть галстук и причесать свою шевелюру. Но борода его по-прежнему оставалась похожей на спутанный веник, и Элеоноре казалось, что Дуг уже дня два не принимал душ. На ней — черное платье и туфли на низком каблуке. В руках она сжимает маленькую сумочку. Ей не по себе от вида целой группы адвокатов, расположившихся прямо перед ней. Процедура оглашения завещания, которая проводится лишь в случае смерти завещателя, неопровержимо свидетельствует о том, что родственники Элеоноры действительно погибли.
Выжившего в катастрофе мальчика они с Дугом оставили с матерью Элеоноры. Перед их отъездом малыш выглядел таким одиноким и несчастным, что у Элеоноры защемило сердце. Прощаясь, она не удержалась и обняла его. Мать успокоила дочь, сказав, что все будет хорошо. Элеонора, садясь в машину, изо всех сил убеждала себя в том же самом — в конце концов, Джей-Джей ведь приходился ее матери внуком.
По дороге Дуг без конца спрашивал, сколько, по ее мнению, денег они получат. Элеонора же объясняла ему, что это не их деньги, а Джей-Джея. Речь идет о создании трастового фонда, и она как попечитель ребенка сможет тратить из фонда лишь ограниченные суммы — опять-таки в интересах мальчика, но не в своих и не Дуга. «Конечно, конечно», — говорил Дуг и кивал. Однако машину он вел очень нервно и за полтора часа пути успел выкурить полпачки сигарет. Похоже, Дуг был уверен, что он выиграл в лотерею и что ему вот-вот вручат чек с призовой суммой.
Глядя в окно машины, Элеонора вспоминала, как она впервые увидела Джей-Джея в больнице. Ей припомнилось, что за десять часов до этого зазвонил телефон, сообщили о пропаже самолета, в котором летела сестра. Закончив разговор, она долго сидела в кровати, держа в руке телефонный аппарат. Рядом с ней громко храпел спавший на спине Дуг. Глядя в окно, Элеонора просидела так до самого рассвета. Потом позвонили еще раз, и мужской голос сообщил, что ее племянник жив. «Только он?» — спросила она. «На данный момент о других ничего не известно. Но мы ведем поиски». Элеонора разбудила Дуга и сказала, что им надо ехать в больницу на Лонг-Айленде. Тот поинтересовался: «Прямо сейчас?»
Элеонора рывком тронула машину с места еще до того, как Дуг, не успевший толком застегнуть штаны и рубашку, захлопнул дверь со своей стороны. Она рассказала ему, что самолет упал где-то в океане, а один из пассажиров сумел проплыть несколько миль, держа на себе мальчика, и добрался до берега. Элеоноре хотелось, чтобы Дуг успокоил ее, сказал, если мальчик и еще один пассажир выжили, то и другие, скорее всего, тоже. Но он этого не сделал. Вместо этого ее муж то и дело спрашивал, не могут ли они где-нибудь остановиться, чтобы выпить кофе.
Все остальное сохранилось в памяти Элеоноры плохо, в каком-то смазанном виде. Она помнила, как затормозила машину рядом с приемным покоем больницы и выскочила из нее в панике, как искала нужную палату и как стиснула мальчика в объятиях. Спасший ребенка мужчина, лежавший в кровати рядом с Джей-Джеем, остался для Элеоноры всего лишь неясной фигурой, неким голосом, обладателя которого она толком не рассмотрела — может, из-за ярких лучей светившего в окно солнца. Адреналин в ее крови в это время просто зашкаливал. Жизнь вдруг повернулась к ней совершенно неожиданной стороной — она попала в центр внимания множества людей. Над волнами летали вертолеты, океан бороздили военные корабли — и все это имело отношение к ней, хотя и косвенное. За всем происходящим наблюдали миллионы телезрителей, и жизнь самой Элеоноры внезапно тоже стала объектом пристального интереса. Детали ее биографии обсуждались множеством совершенно незнакомых людей.
И вот теперь она сидит в конференц-зале, сжимает пальцы в кулаки, чтобы справиться с волнением, и пытается улыбаться. Сидящий напротив Элеоноры человек по имени Ларри Пэйдж отвечает ей улыбкой. Рядом с ним расположились еще четверо юристов — двое справа, двое слева. Двое из них мужчины, двое — женщины.
— Видите ли, — говорит Ларри, — у нас еще будет достаточно времени для того, чтобы обсудить все возможные детали. Эта встреча организована для того, чтобы дать вам общее представление о том, что Дэвид и Мэгги завещали своим детям.
— Разумеется, — отвечает Элеонора.
— Ну и сколько же это? — спрашивает Дуг.
Элеонора под столом пинает его по голени. Мистер Пэйдж хмурится. Он привык к тому, что, когда речь идет о серьезных деньгах, разговор развивается в соответствии с определенным ритуалом и ведется в совершенно определенном, слегка небрежном тоне, исключающем подобные прямые вопросы.
— Как я уже объяснил, — говорит он, — супруги Уайтхед создали в интересах детей трастовый фонд, разделив его пополам. Но поскольку их дочь…
— Рэйчел, — подсказывает Элеонора.
— Верно, Рэйчел. Так вот, поскольку Рэйчел среди выживших в авиакатастрофе нет, весь фонд целиком переходит к Джей-Джею. В него включено все недвижимое имущество — таунхаус в Манхэттене, дом на Мартас-Вайнъярд и особняк в Лондоне.
— Где? В Лондоне? — снова встревает Дуг.
— Кроме того, — продолжает мистер Пэйдж, не обращая внимания на его реплику, — в завещании выделены крупные суммы в наличных деньгах и активах на нужды целого ряда благотворительных организаций. Примерно тридцать процентов от общего объема портфеля. Остальное пойдет в фонд Джей-Джея. Доступ к деньгам он будет получать поэтапно на протяжении следующих сорока лет.
— Сорока лет, — повторяет Дуг и хмурится.
— Нам ничего не нужно, — говорит Элеонора. — Это его деньги.
Теперь уже Дуг пинает ее под столом.
— Вопрос не в том, что вам нужно, а что нет, — говорит юрист. — Речь идет о выполнении завещания супругов Уайтхед. Мы все еще ждем официального извещения об их смерти. Однако в сложившейся ситуации я бы хотел высвободить некоторую часть наследства уже сейчас.
Одна из женщин, та, что сидит по левую руку от Ларри Пэйджа, вручает ему хрустящий манильский конверт. Он открывает его. Внутри лежит всего лишь одинокий лист бумаги.
— Если исходить из его нынешней рыночной цены, — говорит Пэйдж, — стоимость фонда составляет сто три миллиона долларов.
Сидящий рядом с Элеонорой Дуг издает такой звук, словно кто-то сдавливает ему гортань. Лицо Элеоноры вспыхивает. Она смущена алчностью, которую так явно демонстрирует ее супруг, и знает, что если посмотрит на Дуга в эту секунду, то увидит на его лице дурацкую ухмылку.
— Большая часть наследства — шестьдесят процентов — станет доступной Джей-Джею по достижении им возраста сорока лет. Пятнадцать процентов — после того, как ему исполнится тридцать. И еще пятнадцать — в двадцать один год. Оставшиеся десять процентов предназначены для того, чтобы он получил соответствующее воспитание и образование в детские и юношеские годы.
Элеонора буквально чувствует, как сидящий рядом с ней Дуг в уме лихорадочно пытается произвести подсчеты.
— Эти десять процентов составляют десять миллионов триста тысяч долларов — если опять-таки исходить из текущей рыночной стоимости наследуемых активов, — вносит ясность в ситуацию Ларри Пэйдж.
Элеонора видит, как за окном летают птицы. Она вспоминает, как несла мальчика на руках к машине в тот день, когда они с Дугом забирали его из больницы. Он оказался тяжелым — гораздо тяжелее, чем она думала. У них не было детского сиденья-бустера, поэтому Дуг сложил стопкой на заднем сиденье несколько одеял. Потом они остановились около универмага «Таргет» и некоторое время сидели молча, слушая, как двигатель работает на холостом ходу. Затем Элеонора посмотрела на Дуга.
Сделав непроницаемое лицо, тот спросил: «Что?» — «Скажи им, что нам нужно сиденье-бустер. И объясни, что ребенку четыре года». Дуг явно хотел заспорить: «Кто, я? В «Таргете»? Да я ненавижу этот чертов «Таргет!» — но не стал этого делать, а молча толкнул плечом дверь, выбрался на улицу и отправился в магазин. Элеонора обернулась, посмотрела на сидящего на заднем сиденье Джей-Джея и спросила: «Ты в порядке?»
Мальчик кивнул, и его тут же вырвало на спинку водительского сиденья.
В разговор вступает сидящий слева от Пэйджа мужчина.
— Миссис Данливи, меня зовут Фред Каттер. Моя фирма управляет финансами вашего погибшего зятя.
Значит, он не адвокат, думает Элеонора.
— Я занимался разработкой финансовой схемы по оплате текущих ежемесячных расходов и расходов на образование детей семьи Уайтхед, — продолжает тем временем Каттер, — с которой буду рад ознакомить в любое удобное для вас время.
Элеонора, сделав над собой усилие, бросает взгляд на Дуга. Как она и предполагала, он улыбается.
— Вероятно, распорядителем фонда являюсь я, — предполагает Элеонора. — Ведь так?
— Верно, — отвечает Пэйдж, — но на случай, если вы не захотите взять на себя эти обязанности, мистер и миссис Уайтхед предусмотрели их переход к другому человеку.
Элеонора чувствует, как сидящий рядом с ней Дуг напрягается при мысли, что должность распорядителя фонда может достаться не его жене, а кому-то другому.
— Нет, — говорит она. — Речь идет о моем племяннике, и я хочу, чтобы он жил со мной. Просто мне нужна ясность. Значит, именно я назначена распорядителем фонда, а не…
Элеонора на мгновение, не меняя положения головы, переводит взгляд на мужа. Пэйдж замечает это.
— Да, — отвечает он. — Именно вы назначены опекуном мальчика и распорядителем фонда.
— Ладно, — говорит Элеонора после небольшой паузы.
— В течение нескольких следующих недель мне необходимо будет встретиться с вами для подписания ряда документов. Я имею в виду, что мы вполне можем приехать к вам, — поясняет Ларри Пэйдж. — Некоторые документы потребуют нотариального заверения. Вы хотите уже сегодня получить ключи от объектов недвижимого имущества?
Элеонора моргает, думая о жилище сестры — оно теперь превратилось в музей вещей, которые больше уже никогда не понадобятся ни Мэгги, ни ее близким. Одежда, мебель, набитый продуктами холодильник, полные книг и игрушек комнаты детей… Элеонора чувствует, как ее глаза наполняются слезами.
— Нет, не думаю, что… — Она умолкает, чтобы взять себя в руки.
— Я понимаю, — говорит Пэйдж. — И распоряжусь, чтобы ключи привезли вам домой позже.
— Может, кто-то сможет собрать вещи Джей-Джея у него в комнате? Игрушки, книжки. Одежду. Надеюсь, что это ему хоть немножко поможет.
Женщина, сидящая справа от Пэйджа, делает пометку в блокноте.
— Если вы захотите продать недвижимость, мы сможем вам оказать содействие, — сообщает Каттер. — В последний раз, когда я об этом узнавал, общая рыночная стоимость всех трех объектов составляла порядка тридцати миллионов долларов.
— А эти деньги тоже пойдут в фонд, — спрашивает Дуг, — или…
— Вырученные средства будут приплюсованы к той части наследства, которая предназначена на текущие расходы по воспитанию и образованию мальчика.
— Значит, десять миллионов превращаются в сорок миллионов.
— Дуг, — не выдерживает Элеонора. Тон ее реплики получается более резким, чем она рассчитывала.
Юристы делают вид, что ничего не слышали.
— Что? — На лице Дуга проступают недоумение и недовольство. — Я просто хотел уточнить.
Элеонора кивает и, разжав кулаки, убирает руки под стол.
— Хорошо, — говорит она. — Пожалуй, нам пора возвращаться. Я не хочу оставлять Джей-Джея слишком надолго. Правда, с ним моя мать, но… Знаете, он плохо спит.
Элеонора встает. Юристы по другую сторону стола тоже поднимаются на ноги. Сидеть остается один Дуг, погруженный в мечты.
— Дуг, — окликает его Элеонора.
— Да-да. — Ее муж встает и потягивается, словно выспавшийся на солнце кот.
— Вы поедете домой на машине? — интересуется Каттер.
Элеонора кивает.
— Я не знаю, какой у вас автомобиль, но Уайтхеды владели несколькими, в том числе семейным джипом-паркетником. Все машины находятся в вашем распоряжении. Вы можете ими пользоваться или продать их — в зависимости от вашего желания.
— Я просто… Простите, но мне трудно принимать какие-либо решения прямо сейчас. Понимаете, нужно хоть немного подумать…
— Разумеется. Я больше не буду задавать вам вопросы, — говорит Каттер, худощавый человек с добрым лицом. Он кладет руку на плечо Элеоноры. — Знайте, что Дэвид и Мэгги были больше, чем просто клиентами. У нас дочери одного возраста, и…
Каттер умолкает, в глазах его появляются слезы. Он кивает. Элеонора пожимает ему руку, благодарная за искреннее сочувствие, проявленное им в эту нелегкую минуту.
Крутящийся рядом Дуг, откашлявшись, спрашивает:
— Так какие, вы говорите, у них были машины?
Почти всю дорогу домой Элеонора молчит. Дуг, сидящий за рулем, погружен в вычисления. Незаметно для самого себя он выкуривает вторую половину пачки сигарет.
— Мне кажется, таунхаус надо оставить. Верно? — говорит он наконец. — Он ведь в хорошем месте. А вот насчет дома на острове не знаю.
Элеонора ничего не отвечает. Она откидывает голову назад и смотрит на мелькающие сбоку верхушки деревьев.
— А вот дом в Лондоне — это, должно быть, круто, — продолжает гнуть свое Дуг. — Но вряд ли мы часто будем туда ездить. Я хочу сказать, что могли бы и продать его. А если когда-нибудь захотим отправиться в Лондон, всегда можно будет остановиться в отеле.
Дуг довольно почесывает бороду, словно скопидом из детской сказки, которому внезапно удалось разбогатеть.
— Это деньги Джей-Джея, — говорит Элеонора.
— Верно, — соглашается Дуг. — Но ведь ему всего четыре года, и…
— Дело вовсе не в том, чего хотим мы.
— Я понимаю, дорогая. Но ты ведь знаешь, мальчик привык к роскоши, порядком избалован. А мы теперь его опекуны, и…
— Не мы, а я.
— Разумеется, формально так оно и есть, но ведь мы с тобой семья.
— С каких это пор?
Дуг поджимает губы, и Элеонора чувствует, что он с трудом сдерживается, чтобы не ответить резкостью.
— Ладно, ладно, возможно, я вел себя немножко не так, но я ведь тоже пережил потрясение. Все это очень тяжелая история, и для тебя, само собой, тоже. То есть для тебя в первую очередь, это понятно. Но я хочу сказать, что уже пришел в себя. — Дуг кладет ладонь на плечо Элеоноры. — Так что я в этом деле с тобой.
Элеонора чувствует его взгляд, боковым зрением видит улыбку на лице Дуга, но не смотрит на него. В этот момент ей, пожалуй, еще более одиноко, чем когда-либо раньше.
И все же она больше не одна.
Теперь она — мать.
Она больше никогда не будет одинокой.
Картина № 2
Если смотреть на центральную часть триптиха, вполне можно убедить себя в том, что все в полном порядке и в произведении нет ничего необычного. Изображенная на переднем плане девушка, видимо, решила прогуляться по кукурузному полю. На вид ей лет восемнадцать. На лицо ее упала прядь волос. Она глядит с полотна прямо на того, кто смотрит на картину. Впечатление такое, будто девушка только что вынырнула из лабиринта высоких кукурузных стеблей. Небо над полем свинцово-серое, однако стоящая на краю зеленого моря девушка освещена оранжевыми лучами закатного солнца. Из-за них кажется, будто на ее щеках играет лихорадочный румянец. Одну руку она поднесла к лицу, прикрывая глаза, словно козырьком.
Именно цвет солнечных лучей привлекает внимание, заставляя того, кто смотрит на картину, задаться вопросом: «Каким образом художнику удалось передать его, а вместе с ним предгрозовое состояние природы?»
Слева от картины, отделенное от нее всего лишь дюймом белой стены, висит еще одно полотно таких же размеров. На нем изображен фермерский дом. Он стоит в дальнем конце большой лужайки. Благодаря перспективе дом по сравнению с девушкой на соседней картине кажется совсем маленьким. Двухэтажное строение со скошенной крышей обшито гладко оструганными и выкрашенными в красный цвет досками. Ставни на окнах закрыты. Если приглядеться, можно рассмотреть люк погреба, вырытого в земле на случай сильной бури. Он откинут, под ним открывается темная четырехугольная яма. Из нее высовывается мужская рука. Хорошо виден белый рукав рубашки. Можно заметить, что пальцы руки сжаты на ручке с внутренней стороны люка, выполненной в виде веревочной петли, а сама рука явно напряжена. Непонятно лишь одно, что именно делает человек: открывает люк или закрывает его?
Девушка на центральном полотне не смотрит на дом. Хотя часть лица закрыта растрепавшимися волосами, ее глаза, на которые падает тень от ладони, хорошо видны. Взгляд их устремлен вперед чуть в сторону, туда, где висит еще одно полотно триптиха. Посмотрев туда же, посетители выставки понимают, что именно девушка только что увидела.
Это торнадо.
Огромная, черная, бешено вращающаяся воронка — библейское чудовище, Божье наказание. Торнадо ломает и вырывает из земли деревья, расшвыривает их, словно ребенок игрушки, поднимает в воздух дома. Полотна расположены таким образом, что где бы ни находился заглянувший в зал посетитель выставки, ему кажется, что черный смерч движется прямо на него. Впечатление настолько сильное, что большинство зрителей невольно делают шаг назад. Полотно с изображением торнадо висит чуть криво, в правом верхнем углу рамы видна ощетинившаяся щепками трещина, и это еще больше усиливает ощущение опасности.
В глазах девушки на соседнем полотне ясно читается страх. Теперь становится понятно: она, возможно, подняла руку не для того, чтобы защитить глаза от солнца или отбросить с лица волосы. Девушка хотела заслониться от открывшегося ее взгляду ужасного зрелища. Переведя взгляд на полотно, на котором изображен дом, посетитель снова вглядывается в руку, вцепившуюся в веревочную петлю на люке погреба. И тут в его душе возникает четкое осознание того, что ход в спасительное подземелье сейчас будет закрыт. А затем посетитель вдруг с удивительной ясностью понимает, что и он сам, и все другие люди перед лицом опасности очень часто бывают совершенно одиноки.
Лейла
Известная пословица гласит: «То, что нельзя купить за деньги, человеку все равно не нужно». И это чушь, поскольку на самом деле нет ничего такого, что нельзя было бы приобрести с помощью денег. Ровным счетом ничего. Купить можно все — любовь, счастье, мнение других людей. Нужно лишь заплатить требуемую цену. На земле вполне достаточно денег для того, чтобы сделать более или менее довольными всех, но для этого человечество должно научиться одной, казалось бы, очень простой вещи — делиться. Но, увы, деньги имеют свойство липнуть друг к другу, собираясь в крупные состояния, и в конце концов образуются огромные скопления, которые обычно называют богатством. И в этом виноваты не только люди. Спросите любую однодолларовую банкноту, и та скажет вам, что предпочитает находиться в обществе не таких же купюр, как она сама, а стодолларовых. Лучше быть десятью долларами на счете миллиардера, чем рваной и грязной бумажкой достоинством в один доллар в дырявом кармане бедняка.
В свои 29 лет Лесли Мюллер является единственной наследницей огромной империи высоких технологий. Дочь миллиардера и манекенщицы, она генетически принадлежит к расе хозяев. Таких, как она — детей, купающихся в деньгах успешных родителей, — сегодня можно встретить где угодно. Они используют часть богатства, которое перейдет к ним по наследству, чтобы создавать свои компании и способствовать развитию искусства. В 18, 19, 20 лет они покупают роскошную, невероятно дорогую недвижимость в Нью-Йорке, Голливуде и Лондоне. Эти новые меценаты курсируют между Давосом, музыкальным фестивалем в Коачелла и кинофестивалем в Сандэнс и предлагают художникам, музыкантам и кинорежиссерам весьма соблазнительные суммы и привилегию в общении с ними, которая для творческих людей зачастую не менее важна, чем деньги.
Красивые и богатые, эти люди не знают и не признают слова «нет».
Лесли — для друзей Лейла — была одной из представительниц этой новой породы людей. Ее мать, испанка из Севильи, в прошлом одна из лучших манекенщиц модельера Гальяно. Ее отец изобрел некое высокотехнологичное, революционное устройство, присутствующее во всех без исключения компьютерах и смартфонах, которые существуют на планете. По размерам своего состояния он занимает девятое место в мире, а сама Лейла Мюллер, получившая пока всего третью часть капиталов, выделенных ей отцом, находится в этом списке на 399-й позиции. Денег у нее столько, что по сравнению с ней другие богатые люди, с которыми доводилось встречаться Скотту, такие как Дэвид Уайтхед и Бен Киплинг, кажутся простыми наемными сотрудниками, работающими за гроши. Богатство, которым обладает Лейла, почти не зависит от колебаний рынка. Размер ее состояния таков, что она не разорится никогда. Ее капитал растет сам по себе, увеличиваясь на 15 процентов в год, то есть на несколько миллионов долларов в месяц.
Один только ежегодный доход с ее капитала делают Лейлу членом клуба 700 самых богатых людей планеты. Только подумайте об этом, попытайтесь представить размеры ее богатства. Скорее всего, вам это не удастся. Потому что осознать размеры состояния Лейлы может лишь тот, что так же богат, как она. Благодаря этому на ее жизненном пути не встречается никаких препятствий. Ей все дается без малейших усилий. Она в любой момент может исполнить любую свою прихоть.
— О боже! — восклицает она, входя в гостиную своего дома в Гринвич-Виллидж и видя там Скотта. — Я только о вас и думаю. Все утро смотрела телевизор и не могла отвести глаза от экрана.
Разговор происходит в роскошном четырехэтажном особняке из красно-коричневого камня. Он расположен на Бэнк-стрит, в двух кварталах от реки. Кроме Лейлы и Скотта, в гостиной находится также Магнус, которому Бэрроуз позвонил от военно-морской верфи. Набирая номер, Скотт представил, как приятель все еще сидит в машине, дожидаясь его у торгового павильончика. Оказалось, однако, что Магнус сидит в какой-то кофейне и пытается заигрывать с девушками. Когда Скотт сообщил ему о намерении поехать к Лейле, Магнус заявил, что может быть там через сорок минут или даже раньше. При этом в его голосе не слышалось ни тени обиды.
— Посмотри на меня, — говорит он после того, как служанка провожает их в гостиную и усаживает на диван. — Я весь дрожу.
Скотт видит, что его бедро в самом деле конвульсивно дергается. Оба понимают, что предстоящая встреча может навсегда изменить их творческие судьбы. В течение последних десяти лет Магнус, как и Скотт, лишь приблизился к посвящению в художники. Он пытается писать в мастерской, расположенной в помещении какого-то склада в Куинсе. У него есть шесть запачканных красками рубашек. Каждый день он прочесывает улицы Челси и Нижнего Ист-Сайда, заглядывая в окна. Каждый день звонит по множеству номеров, пытаясь добиться, чтобы его включили в список приглашенных на очередное сугубо профессиональное мероприятие — выставку или презентацию. Магнус — весьма обаятельный ирландец с очень приятной, чуть лукавой улыбкой, но в его глазах временами можно заметить отчаяние. Скотт, однако, без труда различает это, потому что еще несколько месяцев видел такое всякий раз, когда смотрел в зеркало. Отчаяние и жажду признания.
Жить подобной жизнью, как Магнус, — все равно что постоянно находиться рядом с пекарней и не иметь возможности даже попробовать хлеб.
Рынок произведений искусства работает примерно так же, как рынок акций. Цена той или иной картины составляет столько денег, сколько за нее готовы заплатить. А это, в свою очередь, зависит от того, насколько интересен художник и его работы по мнению экспертов и коллекционеров. Для того чтобы картины продавались за огромные суммы, их автор должен быть уже известным мастером либо добиться, чтобы кто-то из тех, к чьему мнения прислушиваются, признал его многообещающим живописцем. Человеком, способным это сделать, как раз и была Лейла Мюллер.
Она входит в комнату — кареглазая блондинка в черных джинсах и нарочито измятой шелковой блузке, босая, с электронной сигаретой в руке.
— Вот вы где, — говорит она и радостно улыбается.
Магнус встает с дивана и протягивает хозяйке руку.
— Я Магнус. Друг Скотта.
Лейла кивает, но не обращает на его руку никакого внимания. Помедлив немного, он ее опускает.
— Можно мне сказать вам нечто странное? — спрашивает она, усаживаясь на диван рядом со Скоттом. — В мае я летала в Канны с тем самым пилотом, который вел ваш самолет, — тот, что был постарше. Я в этом совершенно уверена.
— Джеймс Мелоди, — произносит Скотт, вспомнив одно из имен, которые он видел в списке погибших.
Лейла делает легкую гримаску — «вот ведь ужас, верно?» — после чего кивает и легонько дотрагивается до плеча Скотта.
— Вам больно?
— Что?
— Ваша рука болит?
Скотт шевелит рукой на новой перевязи.
— Не особенно, — говорит он.
— А этот маленький мальчик. Боже мой, какой же он оказался храбрый. Кстати, по телевизору только что рассказывали про похищение его сестры. Представляете?
Скотт озадаченно моргает.
— Похищение? — переспрашивает он.
— А вы не знали? — удивляется Лейла. — Ну как же, сестру мальчика похитили, когда она была еще совсем маленькой. Вроде бы кто-то проник в дом и выкрал ее. Она провела у похитителей около недели. Представьте себе — пережить такое, а потом погибнуть ужасной смертью. Это просто в голове не укладывается.
Скотт чувствует, как на него вдруг наваливается свинцовая усталость.
— Я хочу устроить вечер в вашу честь, — говорит Лейла. — В честь бесстрашного героя из мира искусства.
— Спасибо, не надо, — говорит Скотт.
— Ну же, не упрямьтесь. О вас все говорят. И не только о вашем с мальчиком чудесном спасении. Я видела слайды вашей новой серии работ, посвященной катастрофам. Мне эти картины очень понравились.
В этот момент Магнус громко хлопает в ладоши. Лейла и Скотт смотрят на него.
— Извините, — бормочет Магнус. — Скотт, я ведь говорил тебе! Говорил, верно?! Эти работы просто великолепны!
Лейла затягивается электронной сигаретой. «Вот оно, наше будущее, — думает Скотт. — Даже курение превращается в высокотехнологичный процесс».
— Не могли бы вы рассказать, что случилось? — просит Лейла. — Если, конечно, это не слишком тяжело.
— С самолетом? Он разбился.
Лейла кивает:
— Вы уже говорили об этом с кем-нибудь? С психотерапевтом или…
Скотт пытается представить себе разговор об авиакатастрофе с психотерапевтом.
— Кстати, — продолжает Лейла, — у меня есть знакомый специалист, голландец, который вам наверняка очень понравится. Он принимает в Трибеке. Его зовут доктор Вандерслис.
В воображении Скотта почему-то возникает бородатый мужчина, сидящий в кабинете за столом, который завален влажными салфетками.
— Я вызвал такси, но оно не приехало, — говорит Скотт. — Поэтому мне пришлось добираться на автобусе.
На несколько мгновений на лице Лейлы появляется озадаченное выражение. Затем она понимает, что Скотт делится с ней своими воспоминаниями, и наклоняется вперед, чтобы лучше слышать.
Скотт рассказывает ей о стоявшей на полу холщовой спортивной сумке, местами уже сильно потертой. О том, как он ходил взад-вперед по комнате и ждал, что за мутноватым окном вот-вот возникнет свет фар такси. Смотрел на часы, следя за почти незаметным, но неуклонным продвижением минутной стрелки по циферблату. В сумке лежала и одежда, но большую часть ее содержимого составляли слайды — снимки уже законченных его работ и эскизов новых, еще только задуманных. В них заключалась надежда Скотта. Его будущее, которое должно было начаться на следующий день. Он собирался встретиться с Мишель, своим агентом, в ее офисе. Скотт планировал провести в Нью-Йорке три дня. Мишель говорила, что он должен побывать на каком-то мероприятии — кажется, званом завтраке или обеде.
Но для осуществления этого плана прежде всего нужно, чтобы приехало такси. Скотту необходимо было добраться до аэродрома и сесть в частный самолет. Почему он не отказался от приглашения полететь на самолете? Ведь это означало, что ему придется путешествовать в компании совершенно незнакомых богатых людей, о чем-то говорить с ними — возможно, о своих работах. Или же, наоборот, провести весь полет в молчании, с ощущением того, что окружающие его игнорируют, ведь он для них никто и ничто.
Скотт был немолодым неудачником, жизнь которого потерпела крах. Он не сделал карьеры, не имел жены, детей, подруги и близких друзей. Даже его собака была трехлапой. Почему же он так напряженно работал в последние несколько недель? Почему фотографировал свои работы, кропотливо составляя портфолио? Чтобы избавиться от ощущения поражения?
Но такси так и не приехало, и он, схватив сумку, бегом бросился на автобусную остановку. Сердце его отчаянно колотилось, он обливался потом из-за августовской жары. Скотт добежал до остановки в тот самый момент, когда к ней подъехал автобус — огромный параллелепипед на колесах с освещенными сине-белым светом окнами. Поднявшись в салон, Скотт, задыхаясь, улыбнулся водителю. Усевшись у заднего окна, он принялся наблюдать за тем, как юноша и девушка, устроившись почти у самой кабины, самозабвенно целуются, не обращая внимания на домохозяек у себя за спиной. Пульс у Скотта наконец начал понемногу замедляться, однако в ушах продолжался шум.
Итак, у него появился второй шанс. Он знал, что его последние работы хороши. Но что, если ему все же не удастся воспользоваться представившейся возможностью начать все сначала? Можно ли в принципе вернуться в профессию художника, один раз уже загубив свои способности и утратив веру в себя? Скотт чувствовал себя, словно Наполеон на Эльбе. Хотел ли он в самом деле начать все с чистого листа? Ведь его жизнь на Мартас-Вайнъярд была спокойной, размеренной и вовсе не такой уж плохой. Ему нравилось, проснувшись утром, гулять по пляжу. Скармливать кусочки еды со стола своей увечной собаке, почесывать ее похожие на лопухи уши. И писать картины просто для собственного удовольствия, не ставя перед собой никаких целей.
Однако теперь у него появилась возможность все же чего-то добиться, оставить свой след в искусстве.
Но разве до этого момента Скотт совсем ничего не добился? Скажем, в глазах собаки он был лучшим человеком на земле. Они вместе ходили на фермерский рынок и смотрели на женщин в спортивных брюках для занятий йогой. Да, Скотту нравилась такая жизнь. В самом деле нравилась. Почему же он предпринял попытку изменить ее?
— Когда я сошел с автобуса, — говорит он, обращаясь к Лейле, — мне снова пришлось бежать. Дверь, ведущую в салон самолета, уже закрывали. И знаете, если честно, где-то в глубине души мне хотелось оказаться на аэродроме уже после того, как самолет улетел. Тогда я на следующий день встал бы пораньше и сел на паром, как все люди. Но мне все же удалось успеть на рейс.
Взгляд Скотта устремлен в пол, но он чувствует, что Лейла и Магнус смотрят на него.
Лейла, чьи глаза широко раскрыты, кивает и осторожно прикасается к его руке.
— Поразительно! — восклицает она. При этом, однако, не вполне ясно, что имеется в виду: то, что Скотт едва не опоздал на роковой рейс, или то, что он все же попал на борт самолета.
Скотт бросает взгляд на Лейлу. Она неотрывно смотрит на него. Скотту кажется, что так должна смотреть на хозяина маленькая певчая птичка, которая исполнила свою арию и теперь ждет, что в ответ ей насыплют в кормушку семечек.
— Послушайте, — с некоторой досадой говорит он, — с вашей стороны очень любезно встретиться со мной. И я очень рад, что вы хотите устроить в мою честь торжественное мероприятие. Но сейчас мне будет тяжело все это вынести. Сейчас я больше всего нуждаюсь в отдыхе для осознания произошедшего.
Лейла улыбается и кивает. Скотт дал ей то, что в данном случае не смог бы дать никто другой, — свидетельство очевидца. Благодаря этому она словно стала одной из участниц случившегося, доверенным лицом Скотта.
— Надеюсь, вы останетесь здесь, — предлагает она. — На третьем этаже есть гостевые апартаменты. У вас будет отдельный вход.
— Спасибо, — благодарит ее Скотт. — Очень любезно. Послушайте, я не хочу показаться грубым, но мне хочется спросить — зачем все это вам?
Собеседница Скотта в очередной раз затягивается электронной сигаретой и, выдохнув облачко пара, отвечает:
— Дорогой, не делайте из этого проблему. У меня здесь полно свободного пространства. Вы и ваши работы произвели на меня большое впечатление. А вам ведь нужна какая-то крыша над головой? Почему бы не сделать все максимально просто — и для вас, и для меня?
Скотт кивает. Он не чувствует ни напряжения, ни стремления к конфронтации. Он просто хочет понять, чем руководствуется Лейла в своих действиях.
— Я тоже не сторонник того, чтобы все усложнять, — произносит он. — Возможно, вы хотите, чтобы я поделился с вами некой тайной. Или просто желаете услышать историю, которую потом сможете рассказывать на вечеринках, угощая своих гостей коктейлями. Я задал свой вопрос только для того, чтобы между нами была полная ясность.
В течение нескольких секунд на лице Лейлы читается удивление. Обычно люди не разговаривают с ней таким образом. Затем она смеется.
— Видите ли, мне нравится общаться с людьми, совершившими что-то необычное, — признается она. — И еще я люблю натянуть нос телеканалам, транслирующим новости двадцать четыре часа в сутки. Это же настоящие хищники. Сейчас все СМИ на вашей стороне, но дайте срок — и они обратят всю свою мощь против вас. Моя мама прошла через это, когда отец ее бросил. Эту историю полоскали все таблоиды. То же самое произошло, когда у моей сестры возникла проблема с викоданом. А в прошлом году мне пришлось испытать нечто подобное на своей шкуре, когда Тони покончил с собой. Я хотела всего-навсего устроить выставку его работ, а они представили все так, будто это я снабжала его наркотиками.
Лейла продолжает, не отрываясь, смотреть на Скотта. Магнус, сидя на другом конце дивана, ждет, когда ему представится шанс блеснуть.
— Ладно, — говорит Скотт после нескольких секунд молчания. — Спасибо. Мне просто нужно… Понимаете, журналисты наверняка дежурят около моего дома с камерами и диктофонами. А я не знаю, что им сказать, кроме того, что «я просто плыл — и все».
Телефон Лейлы издает короткий воющий звук. Она берет его в руки и смотрит на экран. На ее лице появляется выражение, от которого у Скотта сжимается сердце.
— Что? — спрашивает он.
Она переворачивает устройство дисплеем к нему и показывает сообщение в Твиттере. Наклонившись ниже, Скотт всматривается в ряд цветных символов — прямоугольников, рожиц и прочих непонятных ему значков. Затем переводит взгляд на Лейлу:
— Я ничего не могу разобрать.
— Спасатели нашли тела, — объясняет она.
Бен Киплинг 10 февраля 1963—26 августа 2015 Сара Киплинг 1 августа 1968—26 августа 2015
— Люди используют слово «деньги», словно говорят о неком объекте. Но это чушь, которая идет от незнания.
Бен Киплинг стоял у высокого фарфорового писсуара в отделанной деревом туалетной комнате ресторана «Сопреззи». Обращался он к Грегу Гуверу. Тот находился рядом с ним, у соседнего писсуара, и мочился на его вогнутую белую поверхность. Он делал это так неаккуратно, что мелкие брызги летели вниз, попадая на его украшенные бахромой кожаные мокасины ценой в 600 долларов.
— Деньги — это путь в открытый космос, — продолжал Бен.
— Что?
— В открытый… Это я упрощаю, понял? Деньги — все равно что смазка.
— Ты несешь какую-то хрень…
— Но это не…
Киплинг, закончив, застегнул молнию на брюках. Затем подошел к раковине, подставил руку под диспенсер с моющим средством и стал ждать, когда датчик уловит его тепло и выдаст в ладонь порцию пены. Ожидание затягивалось.
— Ведь вся наша жизнь, то, что мы делаем и что происходит с нами, — это трение, верно? — произнес он. — Каждый день мы идем вперед и пробиваем себе дорогу… — Бен начал нетерпеливо, с возрастающим раздражением шевелить поднесенной к диспенсеру рукой, но пены по-прежнему не было. — …Работа, жена, уличное движение, счета, все это…
Он ощупал корпус диспенсера в надежде найти что-то вроде краника или кнопки, но и это ни к чему не привело.
— Да хватит тебе, чего ты там возишься? — с недоумением спросил Гувер.
Киплинг, сдавшись, перешел ко второй раковине. Гувер, спотыкаясь, перебрался от писсуара к третьей.
— На днях я говорил с Лэнсом, — начал Грег.
— Погоди, — перебил его Бен. — Дай мне закончить. Так вот, всякие житейские трудности — это трение. Оно нас тормозит.
На этот раз диспенсер выплюнул щедрую порцию жидкого мыла. Киплинг с явным облегчением намылил руки.
— Как только человек утром встает с кровати, на него начинают давить всевозможные проблемы, — продолжил он. — Деньги облегчают его положение. Они вроде смазки, которая ослабляет трение. — Бен подставил руки под кран в надежде, что сенсор пустит струю воды. Снова ничего.
— …Черт побери… Чем больше у тебя денег, тем легче. — Отчаявшись, он просто стряхнул остатки пены на пол и подошел к автомату с бумажными полотенцами. Увидев, что он тоже управляется сенсором, Киплинг даже не попытался проверить, работает ли аппарат, и просто вытер руки о брюки своего костюма, сшитого на заказ за 1100 долларов. — …Ты понял, что я хочу сказать? Деньги уменьшают трение. Подумай про бедолаг, которые ютятся где-нибудь в мумбайских трущобах, и сравни их существование с жизнью, ну, скажем, Билла Гейтса. Когда имеешь столько денег, сколько он, в твоей жизни вообще не требуется каких-либо усилий. Ты вроде как астронавт в открытом космосе, в условиях невесомости.
Вытерев наконец руки, Киплинг повернулся и увидел, что у Гувера не возникло никаких проблем ни с диспенсером, ни с водой, ни с бумажными полотенцами.
— Понял, — отозвался Гувер. — Наверное, ты прав. Но я хочу сказать, что на днях разговаривал с Лэнсом и услышал от него много всяких слов, которые мне очень не понравились.
— Например? «Вознаграждение»?
— Ха-ха, смешно. Нет, я имею в виду другие слова. Например, ФБР.
Киплинг почувствовал, как в животе неприятно холодеет.
— Это не просто слово, — тихо произнес он.
— Что?
— Это… Ладно, не важно. С какой стати Лэнс вдруг заговорил о ФБР?
— Он сказал, что, мол, до него доходят разные слухи. Я спросил: «Что еще за слухи?» Но он не захотел говорить об этом по телефону. Нам пришлось встретиться в парке. В два часа дня, как каким-нибудь безработным бездельникам.
Киплинг, который явно занервничал, поочередно заглянул под двери кабинок, чтобы убедиться, что там никого нет.
— Он что, сказал, что нам надо…
— Нет, но, наверное, об этом подумал. Иначе с чего ему вообще затевать этот разговор? Если представить, что будет, когда у него возникнут проблемы…
— Ладно, ладно. Погоди…
Киплингу вдруг показалось, что он не проверил последнюю кабинку. Наклонившись, он заглянул под ее дверь и, убедившись, что внутри пусто, выпрямился.
— Давай не будем сейчас об этом, — предложил он. — Конечно, все надо обсудить, но… С теми парнями нужно заканчивать. Нельзя держать их в подвешенном состоянии.
— Конечно, но что, если они…
— Если они что? — спросил Киплинг после большой паузы — из-за выпитого шотландского виски он соображал медленнее, чем обычно.
Гувер выразительно поднял брови.
— Эти парни? — изумился Киплинг. — Ты что? Они же от Джилли.
— Ну и что? Черт возьми, Бен, любого можно взять за глотку.
— «Взять за глотку?» Это же не кино, не какой-нибудь «Заговор “Параллакс”»…
Гувер смял мокрые бумажные полотенца в комок и присел, сжав его в ладонях, словно баскетболист — мяч.
— У нас серьезные проблемы, Бен. Это все, что я хочу сказать. Чертовски серьезные…
— Я знаю.
— Мы должны что-то сделать. Ты не можешь просто…
— Я и не собираюсь. Успокойся, не будь девчонкой.
Киплинг подошел к двери туалета и распахнул ее. У него за спиной Гувер бросил мокрый бумажный комок в корзину для мусора и попал в цель, не коснувшись краев урны.
— Мастерство не пропьешь, — с гордостью произнес он.
Подойдя к столу, Киплинг убедился, что Табита продолжает добросовестно выполнять свою работу — щедро наливать гостям выпивку и рассказывать выдуманные истории о том, как она занималась оральным сексом во время обучения в колледже. Гостей, двух топ-менеджеров швейцарского инвестиционного банка, рекомендовал Билл Джиллиан, старший партнер юридической фирмы, занимающейся сопровождением всех сделок Киплинга и Гувера. Среда, 14:30. Киплинг и Гувер с гостями сидели в ресторане с полудня, поглощая элитный шотландский виски и заедая его пятидесятидолларовыми стейками. «Сопреззи», где они проводили время, принадлежал к той категории заведений, куда мужчины в дорогих костюмах ходят жаловаться друг другу на жизнь. Совокупное состояние собравшейся компании из пяти человек составляло почти миллиард долларов. Киплинг «стоил» триста миллионов долларов. Большая часть этих денег вложена в ценные бумаги и недвижимость, но у Бена имелись также офшорные счета — его резерв на черный день. Эти деньги правительству США не найти.
К пятидесяти годам Бен превратился в человека, который может небрежно сказать: «Давайте в эти выходные покатаемся на яхте». Кухня в его жилище вполне могла бы заменить кухню «Ле Сирк», если бы в знаменитом ресторане внезапно отключилось электричество. В ней установлена восьмиконфорочная плита-печь «Викинг» с грилем и огромным рашпером. По утрам, когда он просыпается, на его прикроватной тумбочке уже стоит поднос с шестью небольшими бейглами с луком, стаканом апельсинового сока и свежими номерами четырех газет — «Файнэншл таймс», «Уолл-стрит джорнэл», «Пост» и «Дэйли ньюс». Открыть холодильник в доме Киплинга — все равно что остановиться у прилавка фермерского рынка. Сара настаивает, чтобы они употребляли в пищу исключительно натуральные продукты. В винном шкафу на льду всегда лежат пятнадцать бутылок шампанского на случай, если в доме неожиданно придется проводить торжества, посвященные встрече Нового года. Платяной шкаф Бена похож на шоу-рум модного дома «Прада». Гостю, переходящему из комнаты в комнату его громадного дома, может прийти в голову мысль, что хозяину посчастливилось найти волшебную лампу, в которой томился в заточении джинн. Теперь Бену достаточно потереть ее и произнести вслух какое-нибудь желание, и оно тут же исполняется. Например, стоит ему сказать: «Мне нужны новые носки» — и на следующий день где-нибудь в его доме неизвестно откуда появится дюжина новых пар носков. На самом же деле в роли домашнего джинна у Бена выступает сорокасемилетний управляющий по имени Майкл, который закончил Корнелльский университет и получил диплом специалиста в сфере гостиничного бизнеса. Он работает у Бена Киплинга уже семь лет — с тех пор, как Бен с семьей переехал в дом с десятью спальнями в Коннектикуте.
По телевизору, укрепленному над баром ресторана «Сопреззи», показывали нарезку из самых интересных моментов бейсбольного матча, который состоялся накануне вечером. Спортивные комментаторы взахлеб обсуждали детали игры Сальтамаччиа, побившего рекорд сезона. При этом они то и дело употребляли слово «неудержимый».
Бен знал, какими будут его дальнейшие действия. Сорок минут спустя он отправится в свой офис и уляжется на диван, чтобы протрезветь и избавиться от тяжести в желудке. Затем в шесть часов водитель отвезет его в Гринвич, где Сара снова его накормит — скорее всего, едой, заказанной в ресторане «Алессандрос». Хотя нет, черт побери, вспоминает Бен, ведь на сегодняшний вечер у них с Сарой запланирован обед в обществе родителей жениха их дочери, Дженни. Вот только где именно? Все должно быть записано в его календаре, причем наверняка красным цветом, как и уже дважды откладывавшийся визит в поликлинику для проведения назначенной врачом процедуры ирригоскопии.
Бен представил себе мистера и миссис Комсток. Он — весьма успешный дантист. Она — несколько вульгарного вида дама, слишком ярко красящая губы. Дженни будет сидеть рядом с Доном, возможно Роном, или как там зовут ее жениха. Держа его за руку, дочь станет рассказывать о том, что она с родителями каждое лето проводит на Мартас-Вайнъярд, не сознавая, насколько претенциозно это звучит. Затем наступит очередь Бена, и он поведает всем, как однажды, обсуждая со своим персональным тренером вопрос о подоходном налоге, сказал: «Вот что, Джерри, подожди, пока твое состояние перевалит за сто миллионов. Вот тогда и посмотрим, что ты запоешь, если правительство захочет содрать с тебя деньги в казну по двойному тарифу».
Почувствовав внезапный приступ усталости, Киплинг осел на стул и машинально взял со стола салфетку, хотя есть давно закончил. Он положил ее себе на колени и указал глазами официанту на свой стакан: «Еще одну порцию».
— Я как раз рассказывала Юргену о встрече, которая была у нас в Берлине, — сообщила Табита. — Помните того парня с усами, как у Джона Уотерса, который так разозлился, что снял с себя галстук и пытался задушить им Грега?
— За пятьдесят миллионов я, пожалуй, позволил бы ему такое сделать, — заметил Киплинг. — Однако в итоге оказалось, что этот тип банкрот.
Швейцарцы терпеливо улыбнулись. Их явно не заинтересовала подобная болтовня. Похоже, и чрезмерно откровенное декольте Табиты не произвело на них впечатления. Возможно, у этих двоих нетрадиционная сексуальная ориентация, подумал Киплинг без всякого осуждения — он всего лишь просчитывал варианты, словно компьютер.
Покусывая изнутри щеку, Бен напряженно раздумывал. В голове у него вертелось то, что сказал Гувер в туалетной комнате. В конце концов, что он, Бен Киплинг, знает об этих двух типах? Да, у них весьма солидные рекомендации, но можно ли сегодня доверять кому бы то ни было на сто процентов? Что, если его гости из ФБР или комиссии по ценным бумагам и биржам? Их швейцарский акцент неплох, но, пожалуй, все же не идеален.
Киплинг испытал вдруг желание положить на стол деньги и уйти. Однако он удержал себя, поскольку если его опасения напрасны, то нельзя упустить возможность присовокупить к своему состоянию очень большие деньги — это не в его правилах. О чем там говорили швейцарцы? Кажется, речь идет о миллиарде долларов? Черт возьми, пора что-то решать, подумал Киплинг. Если он не собирается отступать, значит, пришло время идти в наступление. Сосредоточившись, он решил сделать гостям весьма выгодное предложение, но в самых общих чертах, не вдаваясь в детали и не говоря ничего такого, что можно было бы использовать против него в суде.
— Ну ладно, хватит болтать о ерунде, — произнес Бен. — Мы все знаем, зачем мы здесь собрались. То же самое делали наши предки, пещерные люди — они оценивали друг друга, чтобы понять, могут ли доверять друг другу. В современном обществе рукопожатие — это общепринятый сигнал о том, что тот, кто протягивает руку, не прячет за спиной нож.
Глядя на гостей, Киплинг улыбнулся. Их лица совершенно серьезны. Однако видно, что его слова их заинтересовали. Это именно тот момент, которого гости ждали — если только они те, за кого себя выдают, и пришли на встречу, чтобы заключить сделку. Официант приносит Киплингу еще один скотч. Тот привычным жестом сдвигает стакан к центру стола.
— Вы столкнулись с проблемой, — продолжил он. — У вас имеются средства в иностранной валюте, которые вы хотели бы инвестировать на открытом рынке. Однако наше правительство не дает вам этого сделать. Почему? Потому, что в какой-то момент ваши деньги побывали в регионе, который одна серьезная федеральная организация внесла в особый список. Но мы-то с вами знаем, что деньги — это всего лишь деньги. Нам хорошо известно, что доллар, который сегодня чернокожий обитатель Гарлема использует для покупки себе порции крэка, точно такой же, а может, и тот же самый, на который завтра какая-нибудь домохозяйка купит себе гамбургер. И такие же доллары дядя Сэм использует для того, чтобы приобрести системы вооружений у компании «Макдоннелл-Дуглас».
На экране телевизора Бен по-прежнему видел кадры из недавних бейсбольных матчей. Бейсбол для него не просто увлечение. Бен — ходячая энциклопедия этой игры. Бейсбол — его страсть, и именно благодаря ей он научился ценить каждый доллар. В свое время десятилетний Бенни Киплинг стал единственным мальчишкой из Шипсхед-Бэй, который умудрился собрать полную коллекцию оберток жевательной резинки с карточками всех известных игроков. Он и сам мечтал в один прекрасный день занять позицию центрального принимающего в команде «Нью-Йорк Метс» и потому каждый год пытался попасть в детскую бейсбольную лигу. Но Бенни был неважно физически развит для своего возраста и слишком медленно двигался. Поэтому он так и остался коллекционером карточек. Бенни внимательно следил за их рынком. В отличие от своих приятелей, которые собирали карточки только любимых игроков, он включал в свою коллекцию все, отдавая предпочтение самым редким. Более того, умело пользовался подъемами и спадами в игре бейсболистов, чтобы пополнить свое собрание наиболее ценными экспонатами. Каждое утро Бенни внимательно читал газетные некрологи. Если становилось ясно, что покойный был любителем бейсбола, он звонил вдове и говорил, что хорошо знал ее мужа по клубу коллекционеров карточек. Затем сообщал, что покойный являлся его наставником. Бен никогда прямо не говорил о своем желании приобрести коллекцию ушедшего в мир иной, и в его мальчишеском голосе звучала искренняя печаль. Это почти всегда срабатывало, и Бенни отправлялся на метро по намеченному адресу, чтобы добавить к своей коллекции ценные карточки, вызывающие у подлинных фанатов бейсбола сладкую ностальгию.
— Мы пришли к вам, мистер Киплинг, — сказал Юрген, темноволосый молодой человек с удивительно правильными чертами лица, одетый в легкий хлопчатобумажный костюм, — потому что слышали о вас много хорошего. Наши коллеги сказали, вы умеете решать деликатные вопросы, причем так, что никаких осложнений не возникает. Разумеется, мы понимаем, это требует дополнительных расходов. Клиенты, которых мы представляем, очень ценят умение урегулировать деликатные проблемы без каких-либо осложнений и привыкли щедро за него платить.
— Повторю вопрос, который я уже задавал. Кто же эти ваши клиенты? — спросил Гувер, у которого над бровями выступили бисеринки пота. — Вы можете не говорить прямо — только намекнуть. Чтобы внести ясность.
Швейцарцы не ответили — они явно боялись ловушки.
— Если мы заключаем сделку, то соблюдаем ее условия — независимо от того, кто наш партнер, — произнес Киплинг. — Вы понимаете, я не могу рассказать, как именно мы добиваемся нужного результата. Замечу только, что есть некие счета, по которым вас невозможно отследить. И деньги, инвестируемые вами через эти счета, с помощью моей компании станут абсолютно чистыми. Да-да, они поступят на счета грязными, а уйдут с них чистыми. Все просто.
— И это в самом деле…
— Вы хотите спросить, действительно ли эта схема работает? Ну, если мы примем принципиальное решение, мои коллеги приедут в Женеву и помогут вам установить программное обеспечение дополнительно к тому, которое вы обычно используете. Мой оператор будет в онлайн-режиме отслеживать ваши инвестиции и сообщать вам о ежедневных изменениях пароля и ай-пи-адреса. Ему не нужен роскошный офис. Строго говоря, чем меньше внимания он будет привлекать, тем лучше. Например, можно разместить его в одной из кабинок мужского туалета или где-нибудь в подвале, рядом с бойлерной.
Гости задумываются. Пока они размышляют над его словами, Киплинг останавливает проходящего мимо официанта и вручает ему черную кредитную карточку «Американ экспресс».
— Послушайте, — обратился он к швейцарцам, — пираты имели обыкновение зарывать сокровища в песок и уплывать. Как только они отчаливали от берега, то по сути становились банкротами, потому что деньги, которые держат в шкатулке…
Взглянув в окно, Бен видит, как к входной двери ресторана подходит группа мужчин в темных костюмах. В ту же секунду он мгновенно представляет себе, что будет дальше: держа в руках пистолеты и значки агентов ФБР, мужчины молниеносно ворвутся в помещение, повалят его на пол лицом вниз, скуют ему руки наручниками… Однако они проходят по улице мимо. Вздохнув с облегчением, Киплинг залпом осушает стакан с виски и заканчивает фразу:
— …и не используют, обесцениваются.
Бен еще раз окинул гостей внимательным взглядом. Они ничем не отличаются от других мужчин, с которым ему приходилось заключать подобные сделки. Как и те, прежние его партнеры, швейцарцы — рыба, которую он должен поймать на крючок. Кем бы они ни были, Бен Киплинг — финансовый магнат. У него есть качество, которое невозможно объяснить или описать с помощью формальных терминов. Богатые люди смотрят на него как на некий сейф с двумя дверцами. Через одну их деньги попадают в сейф и исчезают в нем, а через другую снова появляются, но уже с существенной прибавкой.
Бен отодвинул стул от стола и застегнул пиджак.
— Вы мне нравитесь, парни, — произнес он. — Я вам доверяю. Учтите, я говорю это не всем подряд. У меня есть ощущение, что мы должны заключить сделку, но в конечном итоге решение за вами. — Он встал. — Табита и Джей помогут вам. Они посвятят вас в кое-какие детали. Было приятно с вами пообщаться.
Швейцарцы тоже встали и пожали ему руку. Бен Киплинг покинул ресторанный зал. Миновав входную дверь, которую швейцар предупредительно распахнул при его приближении, Бен вышел на улицу. Машина ждала у тротуара с открытой задней дверцей. Около нее в ожидании стоял шофер. Бен, не задерживаясь ни на секунду, ловко нырнул в салон автомобиля.
На другом конце города желтое такси остановилось около музея американского искусства Уитни. Его водитель родился в Катманду и перед тем, как перебраться в Мичиган, какое-то время прожил в канадском Саскачеване. За изготовление фальшивого удостоверения личности он заплатил шестьсот долларов. Теперь, живя в Нью-Йорке, водитель ночует в квартире с еще четырнадцатью мигрантами. Большую часть своего заработка он отсылает домой, семье, надеясь, что когда-нибудь накопит денег на авиабилеты жене и детям, и они прилетят к нему.
Сидящая в такси женщина, Сара Киплинг, позволяет водителю оставить себе сдачу с двадцатидолларовой банкноты. Она живет в Гринвиче, штат Коннектикут. В ее доме девятнадцать телевизоров, которые Сара не смотрит. Ее отцом был врач из Бруклина, штат Массачусетс. Еще в детстве она привыкла ездить верхом. В качестве подарка на шестнадцатый день рождения родители оплатили ей пластическую операцию по изменению формы носа.
Каждый человек где-нибудь родился и имеет свою историю судьбы. Линии жизни разных людей поминутно и хаотично пересекаются.
Когда Саре Киплинг исполнилось сорок, в честь юбилея было устроено торжество на Каймановых островах. Оно стало для Сары сюрпризом. Бен заехал за ней на лимузине, чтобы, как она думала, отвезти ее в ресторан «Зеленая таверна», но вместо этого они оказались в аэропорту Тетерборо, предназначенном для частных самолетов. Пять часов спустя Сара сидела в шезлонге на песке у самой кромки прибоя и потягивала из высокого стакана ромовый пунш. И вот теперь она выходит из такси рядом со зданием музея Уитни. Ей надо встретиться со своей 26-летней дочерью Дженни, чтобы вместе посетить Биеннале современной живописи, а также получить краткую информацию о родителях своего будущего зятя перед предстоящим совместным обедом. Это нужно не столько Саре, которая может беседовать с кем угодно, сколько Бену. Ему трудно разговаривать о чем бы то ни было, кроме денег. Точнее, ее мужу тяжело даются беседы с людьми, у которых нет денег. И дело здесь вовсе не в высокомерии. Проблема состоит в том, что Бен Киплинг просто забыл, что значит иметь ипотеку или выплачивать кредит за машину, ходить в магазин и смотреть на ценник прежде, чем совершить покупку. Из-за этого он нередко попадает в неловкие ситуации. Сара очень тяжело переживает подобные моменты, чувствуя сильнейшее смущение. В глазах других людей она, будучи женой Бена, должна держаться тех же позиций, что и он. Однако, хотя Сара и является супругой Бена Киплинга и сама выбрала его в мужья, к деньгам она относится совершенно иначе. Родившись в богатой семье, Сара с детства усвоила простую истину — о деньгах говорить не принято. В этом и состоит разница между теми, чье состояние создавалось многими поколениями, и теми, кто разбогател быстро. Дети из богатых семей первого типа мало чем отличаются от своих сверстников, чьи родители не располагают большими доходами. Порой создается впечатление, что главная привилегия, которую дает им богатство, — это возможность не думать о деньгах.
Вероятно, именно потому, что Бен сам заработал свое состояние, причем в весьма короткие сроки, он, говоря о деньгах, не умеет выбирать правильный тон. Поэтому Сара берет на себя труд наставлять его в этом непростом для него вопросе.
Итак, Дженни должна рассказать Саре все о родителях своего жениха, а Сара отправить составленную справку по электронной почте Бену. «С отцом жениха можно говорить о политике (он традиционно голосует за республиканцев) и о спорте (болеет за «Джетс»). Его жена в прошлом году ездила в Италию. Помимо молодого человека — жениха Дженни, у них есть еще один сын, который страдает синдромом Дауна и содержится в специальном учреждении. Так что никаких шуток об умственно отсталых!»
Сара не раз пробовала приучить Бена проявлять больше интереса к людям, быть более открытым в общении. Супруги даже некоторое время совместно посещали психоаналитика, которая пыталась заставить Бена изменить модель поведения по отношению к окружающим. Однако по прошествии двух недель Бен заявил, что скорее даст отрезать себе уши, чем будет выслушивать эти бредни. В итоге Сара сделала то, что сделали бы на ее месте подавляющее большинство жен, — сдалась. Но теперь обеспечивать успешный исход вечеринок с участием Бена стало ее обязанностью, и весьма нелегкой.
Дженни ждет мать рядом с главным входом в музей. Она одета в футболку и «кислотного» цвета брюки, а на голове у нее некое подобие берета.
— Мама, — окликнула она Сару, поняв, что та ее не видит.
— Извини, дорогая. Зрение у меня совсем испортилось. Твой отец постоянно твердит, что мне нужно сходить к врачу, но где взять на это время?
Мать и дочь на секунду заключили друг друга в объятия, после чего вошли в музей.
— Поскольку я пришла раньше, то сама купила билеты, — сказала Дженни.
Сара попыталась сунуть ей в руку стодолларовую банкноту, но Дженни воспротивилась:
— Ну что за глупости, мам. Я рада заплатить.
— В таком случае заплатишь этим за такси, — Сара сделала еще одну попытку вручить ей купюру тем же жестом, каким уличные продавцы впихивают прохожим рекламный проспект или визитку. Дженни, однако, отвернулась и протянула билеты контролеру, так что Саре пришлось убрать банкноту обратно в кошелек.
— Я слышала, что лучшие экспонаты наверху, — заметила Дженни. — Так что нам, пожалуй, следует начать осмотр оттуда.
— Как скажешь, дорогая.
Дождавшись лифта, мать и дочь поднялись на второй этаж. Вместе с ними в кабину зашла супружеская пара с детьми. Супруги весьма оживленно говорили по-испански. Женщина явно отчитывала мужчину, а тот оправдывался. В средней школе Дженни изучала испанский, хотя и не слишком усердно. Она узнает аналоги английских слов «мотоцикл» и «няня». Через несколько секунд у нее возникло впечатление, что мужчину уличили во внебрачной связи. Двое детишек, не обращая внимания на родительскую перепалку, вовсю играли в игры на смартфонах.
— Шейн очень нервничает по поводу сегодняшнего мероприятия, — сообщила Дженни после того, как они с матерью выходят из лифта. — Это так мило.
— Когда я в первый раз встречалась с родителями твоего отца, меня вырвало, — призналась Сара.
— Серьезно?
— Да. Впрочем, возможно, дело было в похлебке из морепродуктов, которую я съела незадолго до этого во время обеда.
— Ой, мама, ты такая смешная, — улыбнулась Дженни. Всем своим друзьям она говорила, что ее мать «немножко не в себе». Сара об этом знала или, по крайней мере, догадывалась. Она на самом деле слегка рассеянная — совсем чуть-чуть, самую малость. Сара любила говорить, что у Робина Уильямса тоже был такой недостаток — как и у других нестандартно мыслящих людей. «Хочешь сказать, что ты не хуже Робина Уильямса?» — спрашивает в таких случаях ее супруг.
— Ему вовсе ни к чему нервничать, — заметила Сара. — Мы с отцом не кусаемся.
— Тут все дело в принадлежности к разным социальным слоям, — пояснила Дженни. — В пропасти между богатыми и бедными. То есть родители Шейна, конечно, совсем не бедные, но…
— Речь идет всего лишь об ужине в индонезийском ресторане. И к тому же мы не настолько богаты.
— Когда ты в последний раз летала коммерческим рейсом?
— Прошлой зимой — в Аспен.
У Дженни вырывается смешок, смысл которого более чем очевиден: «Ты сама-то себя слышишь, мама?»
— Но мы все же не миллиардеры, дорогая. Здесь все-таки Манхэттен, знаешь ли. На некоторых вечеринках, которые нам приходится посещать, я сама чувствую себя как бедная родственница.
— У нас есть яхта.
— Это вовсе не яхта, а просто парусное судно. Кстати, я просила твоего отца не покупать ее. Но ты ведь его знаешь — если уж он вобьет что-нибудь себе в голову, с этим уже ничего поделаешь.
— Все равно, Шейн нервничает. Поэтому постарайся сделать так, чтобы все прошло без эксцессов.
— Ты говоришь с женщиной, которая очаровала даже шведского принца, а он был тот еще зануда.
Они оказались в помещении, на стенах которого развешаны картины. В основном это полотна большого размера. Сара попыталась сосредоточиться, выбросив из головы все сиюминутное, но сделать это нелегко. Она знала по опыту, что, когда человек пытается от чего-то отвлечься, он, как правило, только об этом и думает.
Когда Дженни родилась, семья Киплингов жила в квартире с двумя спальнями в Верхнем Уэст-Сайде. Бен был помощником биржевого брокера и зарабатывал восемьдесят тысяч в год. Но он обладал приятной внешностью, чувством юмора и умел рассмешить людей. Кроме того, у него имелась весьма важная способность не упускать предоставлявшиеся возможности. Поэтому через два года Бен получил лицензию трейдера, и его заработки увеличились вчетверо против прежнего. Вместе с семьей он переехал в кондоминиум, расположенный в районе Шестидесятых улиц, и стал покупать продукты и товары для дома в магазине «Ситералла».
До рождения Дженни Сара работала в сфере рекламы и, когда дочь определили в детский сад, стала подумывать о том, чтобы вернуться к своей прежней деятельности. Однако она так и не смогла смириться с мыслью, что, пока будет на работе, воспитанием ее ребенка будет заниматься нянька. По этой причине Сара осталась и терпеливо готовила завтраки и обеды и меняла подгузники, дожидаясь, когда муж, вернувшись с работы, возьмет на себя часть домашних хлопот.
Ее мать поощряла такую линию поведения. Однако самой Саре подобный образ жизни давался нелегко. Подчас она не знала, чем себя занять, в других же случаях попросту забывала что-то сделать. Поэтому стала пользоваться ежедневниками и самоклеящимися листками-напоминалками, которые вскоре густо усеяли внутреннюю сторону входной двери. Сара в самом деле принадлежала к тем людям, которым сложно удержать что-либо в памяти и запомнить телефонный номер. Когда трехлетняя дочь стала напоминать ей о каких-то вещах, которые вылетели у нее из головы, Сара всерьез забеспокоилась и даже посетила невролога. Тот не нашел никаких физиологических отклонений и, решив, что у пациентки синдром дефицита внимания, прописал ей риталин. Но Сара ненавидела таблетки. Поэтому, боясь, что лекарство повлияет на поведение и изменит ее как личность, она вернулась к использованию самоклеящихся листков, календарей и будильников.
Бен все чаще задерживался на работе допоздна. Сара невольно вспоминала о том, как в годы ее молодости мать крутилась по дому, мыла посуду после обеда и готовила завтраки на следующий день. Было ли все это неизбежным атрибутом материнства, обязательным для каждой женщины? Однажды кто-то сказал Саре, что матерями становятся для того, чтобы смягчить чувство одиночества, мучающее каждого человека. Если это на самом деле так, то материнство — ее самая главная миссия в жизни — было всего лишь проявлением дружеских отношений. Выходит, думала Сара, ты производишь на свет ребенка, выпускаешь его в хаотичный мир и в следующие десять лет просто идешь по жизни рядом с ним, наблюдая за тем, как он растет и взрослеет.
По этой теории задача отцов состоит в том, чтобы научить детей преодолевать трудности. Отцы должны говорить им «иди вперед», матери же оберегают от падений и ушибов. Матери — это пряник, а отцы — кнут.
И вот Сара оказалась прикованной к кухне большой квартиры на Шестьдесят третьей Восточной улице. День за днем она паковала завтраки для детского сада, купала дочь в теплой воде с мыльной пеной, читала ей вслух книжки с картинками. В те вечера, когда Сара, не дождавшись Бена, ложилась спать до его возвращения с работы, она укладывала Дженни вместе с собой. Они подолгу разговаривали, пока наконец не засыпали, обнявшись. Именно так их обычно и заставал Бен, вернувшись среди ночи со сбившимся набок галстуком, источая запах спиртного. «Ну, как тут мои девочки?» — громко спрашивал он в таких случаях, шумно сбрасывая с ног туфли. «Мои девочки». Бен говорил так, словно обе они, и Дженни, и Сара, были его дочерьми. В заботливом голосе чувствовалась любовь, и по лицу Киплинга было понятно, что вид двух родных женщин, смотрящих на него заспанными глазами, был для него наградой за долгий и тяжелый день.
— Вот эта мне нравится, — сказала Дженни, взрослая женщина, у которой через пять лет появятся собственные дети.
Мать и дочь сумели сохранить душевную близость даже в подростковые годы Дженни, когда дети обычно отдаляются от родителей. Дженни и в это трудное для нее время не давала серьезных поводов для беспокойства. Пожалуй, единственным моментом, который не позволяет назвать ее отношения с Сарой идеальными, является то, что Дженни не уважает мать так, как уважала раньше. Но эта черта свойственна всем современным молодым женщинам. Их матери бросают работу и остаются дома, чтобы воспитать своих дочерей. А те, став взрослыми, устраиваются на работу и начинают жалеть, а некоторые и слегка презирать своих матерей-домохозяек.
Дженни рассказала Саре об увлечениях родителей Шейна. Его отец реставрирует старые автомобили. Мать обожает заниматься благотворительностью, собирая деньги для церкви, в которую регулярно ходит. Бену необходимо все это знать, но Сара не может сосредоточиться на словах дочери. Ей вдруг приходит в голову, что она могла бы купить любую из выставленных в зале картин. Сколько могут стоить работы современных художников? Несколько сотен долларов? Миллион?
В Верхнем Уэст-Сайде Киплинги жили на третьем этаже. В кондоминиуме на Шестьдесят третьей Восточной улице — на девятом этаже. Теперь семья живет в Трибеке, в огромном пентхаусе-лофте на пятьдесят третьем. Что же касается дома Киплингов в штате Коннектикут, то в нем всего два этажа, однако уже по почтовому индексу понятно, что речь идет о суперэлитном жилье. Продавцы на расположенном неподалеку от него фермерском рынке — представители новой породы торговцев. Это ремесленники, воспользовавшиеся возрождением старых народных промыслов в измененном виде, а также сельхозпроизводители, процветающие благодаря страсти большинства обеспеченных людей к экологически чистым продуктам.
Даже то, что Сара теперь называет проблемами, несет на себе клеймо элитарности: «На нашем рейсе не оказалось мест в первом классе, в нашей яхте открылась течь». Реальные жизненные трудности, то есть ситуации, когда у людей отключили за неуплату газ, изъяли за невыплату взноса по кредиту машину, ребенка в школе пырнули ножом, для нее остались в прошлом.
И вот теперь, когда Дженни выросла, а их с мужем богатство в сотни, тысячи раз перекрывает их потребности, Сара пыталась понять: в чем смысл такого огромного состояния? Разумеется, у ее родителей тоже были деньги, но не такие. Они могли позволить себе стать членами модного загородного клуба, купить дом с шестью спальнями, ездить на дорогих автомобилях и уйти на пенсию, имея в банке несколько миллионов. Но сотни миллионов долларов, спрятанные на Кайманах? Это выходило за пределы так называемых старых, традиционных денег — и даже за пределы того, что считалось крупным состоянием у новых богачей.
Теперь, когда ей нечем было заняться, Сара невольно задумывалась над вопросом: неужели она живет только для того, чтобы обеспечивать движение, переток денег?
«Я покупаю и, следовательно, существую».
Когда Бен вернулся в офис, его ждали двое мужчин. Они сидели в приемной, листая журналы. Дарлин, секретарша, нервно молотила пальцами по клавиатуре компьютера. По костюмам гостей, не сшитым на заказ, а готовым, купленным в магазине, Бен безошибочно определил, что они работают на правительство. Он почувствовал сильнейшее желание развернуться и уйти, но, разумеется, не сделал этого. В хранилище у него спрятан небольшой чемодан, в котором собрано все самое необходимое, а на одном из офшорных счетов — несколько миллионов долларов, отследить которые попросту невозможно. Бен принял эти меры предосторожности по настоянию своего адвоката.
— Мистер Киплинг, — громко произнес Дарлин, встав, — эти джентльмены хотят с вами поговорить.
Мужчины отложили журналы в сторону и встали. Один из них высокий, с квадратной челюстью. У другого, который пониже ростом, под левым глазом родинка.
— Мистер Киплинг, — начал высокий, — я Гордон Бьюз из министерства финансов. А это мой коллега, агент Хекс.
— Очень приятно. Бен Киплинг.
Сделав над собой усилие, Бен обменялся с непрошеными гостями рукопожатием.
— Чем обязан? — спросил от максимально небрежным тоном.
— Это мы вам расскажем, сэр, — ответил Хекс, — но давайте лучше сделаем это в приватной обстановке.
— Конечно. С удовольствием помогу вам, чем могу. Проходите, пожалуйста, в кабинет.
Он предупредительно распахнул дверь и, встретившись глазами с Дарлин, велел:
— Пригласите сюда Барни Калпеппера.
Затем следом за гостями Бен вошел в кабинет — угловое помещение с огромными окнами из толстого закаленного стекла, находившееся на восемьдесят шестом этаже. У тех, кто оказывался в нем впервые, с непривычки создавалось впечатление, будто они находятся в дирижабле, парящем над городом.
— Что вам предложить? — поинтересовался Бен. — Может быть, минеральной воды?
— Спасибо, не нужно, — ответил Бьюз.
Киплинг подошел к дивану и уселся на его угол. Он решил, что будет вести себя как человек, которому нечего бояться. Рядом с ним на низком столике стояла ваза с фисташками. Он взял орех и, отделив скорлупу, положил ядро в рот и разжевал.
— Пожалуйста, садитесь, — пригласил он.
Чтобы сесть лицом к дивану, гостям пришлось развернуть стулья. Сделав это, они неловко опустились на них.
— Мистер Киплинг, — заговорил Бьюз, — мы из отдела контроля за валютными активами. Вам известно о его существовании?
— Я слышал о нем, но, признаться, меня держат в компании не за знание структуры контролирующих органов. Я скорее мыслитель, аналитик. Мое дело — креатив.
— Наш отдел является одним из подразделений министерства финансов.
— Это я понял.
— Его задача — следить, чтобы американские компании, в том числе финансовые, не занимались бизнесом со странами, против которых правительство ввело ограничения. Ваша фирма привлекла наше внимание.
— Под ограничениями вы имеете в виду…
— Санкции, — пояснил Хекс. — Мы имеем в виду такие страны, как Иран и Северная Корея, то есть финансирующие террористов. Деньги этих государств плохие, и мы не хотим, чтобы они попадали на наш рынок.
Бен улыбнулся, продемонстрировав гостям безупречные зубы.
— Страны, которые вы назвали, действительно плохие. В этом нет никаких сомнений. Но деньги? Это всего лишь инструмент, джентльмены. Они не могут быть плохими или хорошими.
— Хорошо, сэр. Позвольте мне объяснить более понятно. Вы ведь слышали про закон, верно?
— Какой именно закон?
— Я имею в виду, вы наверняка знаете, что в стране существуют и действуют законы.
— Вы напрасно взяли этот покровительственный тон, мистер Бьюз.
— Просто я пытаюсь найти с вами общий язык, чтобы мы лучше понимали друг друга. Дело в том, что организация, которую я представляю, подозревает вашу фирму в отмывании денег в интересах… да, собственно, в интересах кого попало. И мы пришли к вам, чтобы сказать — мы наблюдаем за вами.
В этот момент открылась дверь и в кабинет вошел Барни Калпеппер. На нем костюм в тончайшую сине-белую тонкую полоску. Внешне он типичный корпоративный адвокат, агрессивный и хладнокровный. Его отец был послом США в Китае и лично дружил с тремя президентами страны. Изо рта Барни торчит леденец на палочке. При виде Калпеппера Киплинг испытал сильнейшее облегчение — словно школьник, которого вызвал в свой кабинет директор, при появлении отца.
— Джентльмены, — произнес он, — это мистер Калпеппер, консультант фирмы по юридическим вопросам.
— Мы всего лишь беседуем, — заметил Хекс. — Юристы нам ни к чему.
Калпеппер не снизошел до рукопожатия. Он остался стоять, прислонившись спиной к шкафу.
— Спросите меня про леденец, — предложил он.
— Простите? — не понимает Хекс.
— Леденец. Спросите меня про него.
Хекс и Бьюз переглядываются с таким видом, словно хотят сказать друг другу: «Я не стану этого делать, сделай ты».
Наконец Бьюз, пожав плечами, поинтересовался:
— Ну, и что не так с вашим леденцом?
Калпеппер вынул сладость изо рта и продемонстрировал гостям.
— Ничего особенного. Вкусная штука. Я вообще люблю сладкое. Знаете, когда мой помощник сказал мне, что к нам на фирму пришли два агента из министерства финансов, я подумал, что это какая-то шутка.
— Очень смешно, мистер…
— Потому что я хорошо знаю своего старого партнера по рэкетболу Лероя Эйбла — вы ведь с ним тоже знакомы, верно?
— Он министр финансов.
— Точно. Так вот, я знаю, что Лерой не стал бы посылать сюда агентов, предварительно не позвонив мне. А раз он мне не звонил…
— Это всего лишь визит вежливости, — вставил Хекс.
— Значит, вы вроде как соседи, которые пришли познакомиться с новым жильцом и принесли ему печенье? — уточнил Калпеппер и бросил взгляд на Киплинга. — Они в самом деле пришли с печеньем? А ты не оставил мне ни крошки, чтобы я тоже мог попробовать?
— Никакого печенья не было, — отозвался Бен.
— Вы что же, хотите печенья? — улыбнулся Бьюз.
— Нет, — ответил Калпеппер. — Но ваш приятель сказал, что это визит вежливости. Вот я и подумал…
Бьюз и Хекс переглянулись и встали.
— Нарушать закон не позволено никому, — заявил Бьюз.
— С этим я не спорю, — откликнулся Калпеппер. — Но думал, что мы с вами говорим о сладостях.
Бьюз застегнул пиджак, и на его губах появилась злобная улыбка.
— Когда речь идет о нарушениях закона, мы можем копать долго. Месяцы, а то и годы. И наши действия санкционированы на самом высоком уровне. Вы хотите поговорить о доказательствах? Погодите, придет время, и потребуется пара тракторов с прицепами, чтобы отвезти их в суд.
— Возбудите дело, — отчеканил Калпеппер. — Оформите и предъявите ордер на обыск. Тогда и поговорим.
— Всему свое время, — огрызнулся Хекс.
— Если только после одного моего телефонного звонка вас не отправят парковать машины на какой-нибудь стоянке в Куинсе, — жестко произнес Калпеппер и снова сунул в рот леденец.
— Эй, приятель, хочешь помериться с кем-нибудь бамбуками — ради бога. Но только сначала узнай, с кем ты связываешься.
— Очень забавно, если вы всерьез полагаете, будто размер вашего бамбука имеет какое-то значение. Потому что когда я кого-нибудь трахаю, сынок, то делаю это рукой.
С этими словами Калпеппер показывает гостям кулак с выставленным вверх средним пальцем.
Бьюз усмехнулся:
— Знаешь, как бывает? Приходит человек в один прекрасный день на работу, а тут орудуют федералы. Хорош ты будешь, когда это случится с тобой.
— Все так говорят, — парировал Калпеппер, — пока рука не вошла по локоть.
Вечером, во время обеда, Бен был рассеян. Он снова и снова прокручивал в памяти свой разговор с Калпеппером.
— Все это ерунда, — сказал адвокат, когда гости ушли, и бросил леденец в корзину для мусора. — Это просто какие-то клоуны, которые пытаются надувать щеки.
— Они сказали, что могут копать месяцами, а то и годами, — напомнил Бен.
— Посмотри, что произошло с Эйч-эс-би-си. Их всего-навсего слегка отшлепали. Потому что, если бы им отмерили по закону, на всю катушку, у них пришлось бы отобрать лицензию. Но мы знаем, этого не случится. Банк слишком велик, чтобы его можно было закрыть, пересажав все руководство.
— Ты считаешь, что штраф в миллиард долларов — это легкий шлепок?
— Для Эйч-эс-би-си не так уж много. Прибыль банка за несколько месяцев работы. Ты знаешь это лучше, чем кто бы то ни было.
Однако Бена аргументы Калпеппера не убедили. Что-то в поведении агентов его насторожило. Они держались так, словно у них был припасен какой-то крупный козырь.
— Нам надо ужесточить режим. И предупредить всех, кто знает хоть что-нибудь, — надо держать рот на замке.
— Это уже сделано. Ты в курсе, сколько бумаг по поводу неразглашения нужно подписать, чтобы попасть на работу в эту фирму, даже если речь идет о должности секретаря в общей приемной? Это не компания, а чертов Форт-Нокс.
— Я не хочу в тюрьму.
— Господи, прекрати нести чушь. С чего ты решил, что тебе грозит тюрьма? Забудь об этом. Ты помнишь скандал вокруг манипуляций со ставкой ЛИБОР? Это был заговор стоимостью в триллионы долларов. Репортер задает помощнику генерального прокурора вопрос: «Речь идет о банке, который нарушал закон и прежде, так почему бы не принять более жесткие меры?» А помощник генпрокурора отвечает: «Я не знаю, что вы имеете в виду под еще более жесткими мерами».
— И все же эти типы пришли в мой офис, — не унимался Бен.
— Ну и что? Два агента сели в лифт и приехали на твой этаж. Да если на тебя действительно что-нибудь было, их бы ввалилась сюда целая сотня, да и держались они иначе.
Тем не менее, сидя в отдельном кабинете индонезийского ресторана в обществе Сары и Дженни, а также жениха дочери и ее родителей, Бен напряженно раздумывал: может, на самом деле агенты накопали против него что-то серьезное. Он жалел, что у него нет записи беседы с незваными гостями из министерства финансов. Если бы она имелась, Бен смог изучить ее внимательнейшим образом и определить, не проявились ли у него во время разговора внешние признаки беспокойства. Обычно ему прекрасно удавалось сохранять бесстрастный вид. Но на этот раз он опасался из-за характера беседы, что в какой-то момент мог дать слабину. Не выдали ли его морщинки вокруг глаз или складки у губ?
— Бен, — окликнула его Сара и прикоснулась к его руке. По выражению ее лица Киплинг понял, что его только что о чем-то спросили.
— Извините, я не расслышал. Здесь довольно шумно, — произнес он, хотя в помещении стоит почти полная тишина.
— Я сказал, что, по нашему мнению, инвестиции в недвижимость по-прежнему выгодное дело, — повторил Берт или Карл — в общем, отец Шейна. — И мне хотелось бы знать, что вы думаете по этому поводу.
— Это зависит от характера недвижимости, — отозвался Бен. — Но после урагана «Сэнди» я всем говорю: если вы приобретаете недвижимость на Манхэттене, покупайте ее где-нибудь на верхних этажах.
После этого Бен извинился и, избегая укоризненного взгляда Сары, вышел на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха. Он стрельнул сигарету у прохожего и закурил, стоя под ресторанным тентом. Накрапывал мелкий дождь. На мокрой мостовой отражались красные тормозные огни автомобилей.
— У вас не найдется еще одной сигареты? — спросил мужчина в водолазке, появившийся откуда-то из-за спины Бена.
Киплинг, обернувшись, окинул его взглядом. Мужчине за сорок. Он, видимо, богат, нос у него явно сломан, и, возможно, не один раз.
— Извините, нет. Я и эту-то позаимствовал.
Мужчина в водолазке пожал плечами и, выглянув из-под тента, посмотрел вверх.
— Там, в ресторане, одна молодая леди явно пытается привлечь ваше внимание, — заметил он.
Бен взглянул в окно и увидел Дженни. Она махала рукой. «Вернись к столу». Бен отвернулся.
— Это моя дочь, — пояснил он. — Сегодня вечером мы с женой знакомимся с родителями ее жениха.
— Мои поздравления, — без особого энтузиазма произнес мужчина.
Киплинг затянулся сигаретой и кивнул в знак благодарности.
— Когда речь идет о мальчиках, родители беспокоятся о том, чтобы они пораньше стали самостоятельными, — продолжил незнакомец. — Нашли свою дорогу в жизни. В годы моей молодости сыновей выпихивали из родного дома чуть ли не пинком, как только они достигали возраста, дающего им право голосовать на выборах. А иногда и раньше. Враждебное окружение — только оно может сделать из мальчика мужчину.
— Что случилось с вашим носом? — поинтересовался Киплинг.
Незнакомец улыбнулся.
— Мне дали совет: в первый же день найти в тюремной камере самого здорового бугая и врезать ему как следует. Разумеется, подобные действия не могли обойтись без последствий.
— Вы хотите сказать, что сидели в тюрьме? — спросил Киплинг, почувствовав, как у него резко участился пульс.
— Не здесь. В Киеве.
— Господи боже.
— А потом еще в Шанхае. Но по сравнению с Киевом это был курорт.
— Вам просто не повезло, или…
Губы мужчины снова растянулись в улыбке.
— Или со мной произошло что-то вроде несчастного случая? Нет, приятель. Наш мир — опасное место. Да вы ведь и сами это знаете, верно?
— Что? — переспросил Киплинг, ощутив, как вдоль позвоночника побежали мурашки.
— Я говорю, вы и сами знаете, что этот мир — опасное место. Бывает, в самое неподходящее время человек оказывается там, где ему лучше не появляться. И часто случается, что хороший человек поневоле делает плохие вещи.
— Простите, я не расслышал ваше имя.
— Может, лучше я дам вам свой аккаунт в Твиттере? Или вы предпочитаете подписаться на мою страничку в Инстаграме?
Киплинг бросил окурок на тротуар. Как только он это сделал, у тротуара прямо перед рестораном затормозил и остановился черный автомобиль, рыча мотором на холостом ходу.
— Рад был побеседовать с вами, — проговорил Бен.
— Погодите, мы еще не закончили, хотя нам осталось совсем немного.
Киплинг повернулся, чтобы прошмыгнуть в дверь, но мужчина загородил ему дорогу. Он не пытался остановить Бена — просто стоял так, что нельзя было обойти.
— Моя жена… — начал Бен.
— С ней все в порядке, — перебил неизвестный. — Скорее всего, сейчас она думает, что ей заказать на десерт. Возможно, предпочтет меренги. Так что у вас есть возможность еще немного подышать воздухом — или прокатиться на машине. Вам выбирать.
Сердце Киплинга отчаянно колотилось. Он уже успел забыть, как возникает подобный страх. Нет, это не просто страх, а отчетливое осознание того, что он подобно всем смертен.
— Послушайте, — произнес он, — я не знаю, что у вас на уме…
— Вам сегодня нанесли визит. Это было вроде предупредительного звонка. Я нарочно говорю намеками. Так вот, эти типы, возможно, вас напугали.
— На меня что, специально давят, или…
— Не надо волноваться. Пока проблем у вас нет. С ними — возможно, но не с нами. Во всяком случае, пока.
Киплинг мог только предполагать, кого мужчина имел в виду под словом «мы». Однако в целом вполне понимал ситуацию. Хотя он всегда имел дело лишь с посредниками, в крайнем случае с «белыми воротничками» преступного мира, главный рывок в своей карьере сделал в фирме, имеющей дело с очень специфическими финансовыми потоками, и хорошо понимал их характер. Недавний визит к нему представителей контролирующих органов был лишь еще одним свидетельством того, что эти финансовые потоки были незаконными и имели весьма темное происхождение. Если выражаться прямо, Бен занимался отмыванием денег для стран, спонсирующих терроризм, таких как Иран и Йемен, или убивающих собственных граждан, например, как Судан. И делал он это из своего углового кабинета небоскреба, находившегося в деловом центре Нью-Йорка. Потому что, имея дело с миллиардами долларов, можно заниматься такими операциями совершенно открыто. Создавать фирмы-однодневки, переводить деньги по много раз из компании в компанию, со счета на счет до тех пор, пока отследить их изначальное происхождение становится невозможным и грязные деньги не превращаются в совершенно чистые.
— Проблем в самом деле никаких, — сказал Бен, обращаясь к мужчине в водолазке. — Ко мне приходили двое молодых парней, изнывающих от служебного рвения. Но у нас все под контролем — не на их уровне, а выше, там, где в самом деле решаются вопросы.
— Нет, — возразил мужчина, — там у вас тоже есть кое-какие проблемы. Произошли некоторые изменения в политике контролирующих органов. Они получили новые указания. Паниковать не надо, но…
— Послушайте, — перебил собеседника Бен. — Мы в этом деле лучшие. Поэтому тем, на кого вы работаете…
Киплинг замолчал, наткнувшись на ледяной взгляд.
— О них лучше не упоминать, — жестко произнес незнакомец.
Бен почувствовал, как волна озноба пробежала по его позвоночнику.
— Я только хочу сказать, что вы можете доверять нам, — с трудом выдавил он. — То есть мне. Я гарантирую всем своим клиентам, что проблем у них не будет. Ни у кого из них не возникнет осложнений с федералами. И Барни Калпеппер всегда говорит то же самое, а уж он-то в этих делах дока.
Мужчина бросил на Бена подозрительный взгляд, который выражал примерно следующее: «Может, я тебе верю, а может, и нет». Впрочем, вполне возможно, что незнакомец хотел сказать нечто другое: «Эти вопросы не в твоей компетенции».
— Ваше дело — защищать деньги, — заявил он после несколько затянувшейся паузы. — Это главное. И не забывайте, кому они принадлежат. Возможно, вы действительно отмываете их так, что их нельзя связать с нами. Но это вовсе не означает, что эти деньги ваши.
Бен в ту же секунду понимает намек. Похоже, его считают вором.
— Разумеется. Это само собой.
— У вас обеспокоенный вид. Это не очень хорошо. Все в порядке. Может, хотите, чтобы я вас обнял или похлопал по плечу? Все, что я хочу сказать, — не забывайте о самых важных вещах. Ваша задница дело десятое. Главное — это деньги. Если вам придется сесть в тюрьму — что ж, сядете в тюрьму. Захотите повеситься — возможно, это будет не самой плохой идеей.
Мужчина вынул из кармана пачку сигарет и губами достал из нее одну.
— А пока идите и закажите себе на десерт флан, — закончил он. — Не пожалеете.
Затем человек в водолазке подошел к черному седану с открытой дверцей и сел в него. Киплинг в оцепенении смотрел, как машина отъезжала.
В пятницу они отправились на Мартас-Вайнъярд. У Сары был запланирован благотворительный аукцион. Во время поездки на пароме она пилила мужа за неудавшийся обед с родителями их возможного зятя. Киплинг извинился. «Это все из-за работы», — объяснил он. Но жена уже слишком много раз слышала подобные объяснения.
— В таком случае бросай свою работу, — предложила Сара. — Если она вызывает у тебя такой стресс, плюнь на нее. Мы имеем столько денег, что нам просто не под силу их потратить. И вообще, мне кажется, мы могли бы продать свои апартаменты или яхту. Честное слово, от них больше проблем.
Слова Сары вызвали у Бена приступ негодования — похоже, она совсем не ценит деньги, которые он заработал и продолжает зарабатывать. Она говорит так, словно все его усилия, весь накопленный им опыт, все искусство заключения сделок ничего не стоят.
— Дело не только в деньгах, — возразил он. — У меня есть обязательства.
Сара замолчала. Продолжать спор ей не хотелось. Она могла бы спросить: «А как насчет твоих обязательств передо мной? Или перед Дженни?» Но Сара этого не сделала. Она понимает, что вышла замуж за вечный двигатель, за машину, которая, перестав функционировать, больше уже не заработает никогда. Работа для Бена — это все. Чтобы смириться, Саре потребовалось пятнадцать лет и услуги трех психотерапевтов. Она уверена, другого выхода у нее не было — это что-то вроде ключа к семейному счастью. Но иногда, вспоминая об этом, Сара все еще чувствовала душевную боль.
— Я ведь немного прошу, — проговорила она. — Ужин с родителями Шейна был важен.
— Знаю, и мне очень жаль, — отозвался Бен. — Я приглашу отца парня в клуб, мы с ним сыграем в гольф. Поговорю с ним по-доброму, и он в тот же день станет председателем нашего фан-клуба, вот увидишь.
— Важнее наладить отношения с матерью Шейна. А она, насколько я могу судить, настроена вовсе не позитивно. По-моему, она считает нас людьми, которые думают, что могут купить все на свете, даже место в раю.
— Так и было сказано?
— Нет, но я чувствую, что она так думает.
— Ну и черт с ней.
Сара стиснула зубы. Это очень типично для Бена — отмахиваться от тех, кому он по каким-то причинам не нравится. Она уверена, что так действовать нельзя, поскольку это создает стену между Беном и другими людьми.
— Ты не прав, — сказала она. — Мы должны работать над собой, становиться лучше.
— Как это — лучше?
— Как люди.
У Бена едва не вырвался резкий ответ, но его остановило выражение лица жены. Оно было очень серьезным. Сара совершенно искренне считала, что они с Беном — плохие люди уже только потому, что богаты. Это противоречило всему тому, в чем твердо убежден Бен Киплинг. Взять, к примеру, Билла Гейтса, подумал он. Половину своего состояния этот человек еще при жизни потратил на благотворительность. Миллиарды долларов. Разве он не лучше, чем какой-нибудь приходской священник? Или, скажем, Ганди? И разве они, Бен и Сара Киплинг, ежегодно отдающие миллионы долларов на добрые дела, не лучше тех, кто жертвует, ну скажем, тысяч по пятьдесят?
В воскресенье утром Сара проснулась рано. Она похлопотала какое-то время на кухне, прикидывая, что нужно купить, затем надела прогулочные туфли, взяла плетеную корзину и отправилась пешком через остров на фермерский рынок. Воздух был теплым и влажным. Линия горизонта над морем уже порозовела. Сара прошла мимо покосившихся почтовых ящиков в конце улицы и свернула на другую, ведущую к главной. Ей нравился легкий хруст гравия под ногами. В Нью-Йорке всегда так шумно, что услышать звук собственных шагов невозможно — его поглощают рев автомобильного движения и гул подземки. А на Мартас-Вайнъярд Сара без труда слышала собственное дыхание и даже шорох, с которым ее волосы касаются воротника легкого жакета.
На рынке, несмотря на ранний час, было уже многолюдно. В воздухе ощущался дурманящий запах перезрелых, немного помятых фруктов, спрятанных под прилавками, подальше от людских глаз. Их торговцы предпочитали не показывать покупателям, хотя всем прекрасно известно, что чуть подпорченные, слегка надклеванные птицами фрукты и ягоды гораздо слаще. Рынок работал по выходным дням, причем продавцы всякий раз занимали за прилавками разные места. Впрочем, торговец цветами, как правило, предпочитал располагаться вместе со своим товаром в центре, а пекарь — поближе к берегу моря. Бен и Сара посещали рынок вот уже пятнадцать лет. В этот период они сначала арендовали недвижимость на острове, а затем, когда на них снизошло богатство, приобрели дом современной архитектуры с видом на океан.
Всех местных фермеров Сара знала по именам. Она видела, как росли их дети. Расхаживая между прилавками в толпе людей — одни приехали на уик-энд, а другие жили на острове постоянно, — Сара не столько делала покупки, сколько наслаждалась ощущением того, что она на Мартас-Вайнъярд — своя. Они с мужем собирались отправиться в Нью-Йорк на дневном пароме, поэтому покупать что-нибудь, кроме пары груш, не имело смысла. Но не побывать на фермерском рынке в воскресное утро Сара просто не могла. Когда в выходные дни рынок не открывали из-за дождя, она чувствовала себя какой-то неприкаянной и беспокойно слонялась по улицам города, словно искала сама не зная что.
Сара остановилась перед прилавком с кресс-салатом. После того злополучного обеда с родителями жениха их дочери они с Беном поругались. Ссора была короткой, но бурной. Сара выразила супругу все свое недовольство по поводу его рассеянности и холодности, а также неожиданного исчезновения в разгар столь важного мероприятия. Она дала Бену понять, что больше не намерена мириться с его эгоизмом. В конце концов, сказала она, мир существует не только для того, чтобы удовлетворять желания и потребности Бена Киплинга, и если он собирается общаться только с теми людьми, которые близки ему по интересам, то ему следует поискать другую жену.
Бен, что было для него совершенно не характерно, выглядел виноватым. То и дело просил у жены прощения, беря ее за руку и говоря, что она совершенно права и он сделает все возможное, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Тем самым он совершенно обезоружил Сару. Она давно уже привыкла обращаться к его затылку, но на этот раз Бен смотрел ей прямо в глаза. Он признал, что в самом деле долгое время воспринимал все, что она делала для него, да и многое другое, как само собой разумеющееся. Что часто бывал высокомерным. Описывая свое поведение, он даже употребил слово «гордыня». Но теперь, заявил Бен, все изменится. При этом у него был испуганный вид, из чего Сара сделала вывод — ее угроза возымела действие и супруг поверил, что жена может его бросить. Правда, сама она не очень ясно представляла, как стала бы жить без него. Чуть позже ей стало казаться, что страх потерять все возник в душе Бена еще до их ссоры.
Ночью же, после того как она увидела в глазах мужа искреннее раскаяние, Сара, лежа с ним в постели, подумала, что в их браке начинается новая глава. Голова Бена покоилась на ее груди, его руки гладили ее бедра, и Сара решила — это не что иное, как возрождение. Они проговорили допоздна о том, что им нужно хорошо отдохнуть — например, съездить на месяц в Европу. Супруги представляли, как они, держась за руки, словно новобрачные, будут бродить по улицам Умбрии. После полуночи Бен открыл свою шкатулку из красного дерева, выкурил небольшую дозу марихуаны. Сара последовала его примеру — впервые после рождения Дженни. После этого они долго хихикали, словно дети, сидя на кухонном полу рядом с открытым холодильником, и поедали клубнику, доставая ее руками из пластикового контейнера.
Сара миновала прилавки с огурцами и зеленым луком, затем выставленные корзиночки с черникой, ежевикой и малиной и остановилась около торговца кукурузой. Взяв в руку початок, она осторожно отогнула листья, чтобы ощутить под пальцами мягкие, шелковистые кукурузные рыльца, прикрывающие зерна. В этот момент весь окружающий мир для нее исчез, уступив место другому, где нет ни богатых, ни бедных. В сознании Сары мелькнула фраза, которая была хорошо знакома и в то же время показалась ей открытием: «Все мы равны перед лицом природы».
Оглядевшись, Сара увидела неподалеку от себя Мэгги Уайтхед. Она разговаривала с каким-то мужчиной лет сорока, приятным внешне, в джинсах и футболке, поверх которой был надет старый синий кардиган. У мужчины были довольно длинные волосы, которые он время от времени небрежно отбрасывал рукой назад.
Сознание Сары, которая в этот момент все еще пребывала в каком-то оцепенении, работало медленно. Сначала она поняла, что знает женщину, стоящую неподалеку от нее. Затем вспомнила, что это Мэгги, жена Дэвида Уайтхеда и мать двоих детей. И лишь после этого она обратила внимание на мужчину — он улыбался и, пожалуй, стоял слишком близко к Мэгги. В их общении было что-то необычное, интимное. Потом Мэгги, обернувшись, увидела Сару и подняла к глазам ладонь, словно моряк, осматривающий линию горизонта.
— Эй, привет, — сказала она, и в ее тоне прозвучали искренние радость и дружелюбие. Мэгги повела себя совсем не так, как обычно ведут себя замужние женщины, которых застали флиртующими с посторонним мужчиной. Почувствовав это, Сара решила, что ее первое впечатление было ложным.
— Я знала, что могу встретить вас здесь, — продолжала Мэгги. — Познакомьтесь, это Скотт.
Мужчина приветственным жестом поднял ладонь.
— Добрый день, — сказала Сара. — Вы меня знаете, Мэгги. Я обожаю бродить между прилавками и трогать фрукты и овощи.
— Вы едете в Нью-Йорк сегодня?
— Да, думаю, трехчасовым паромом.
— Нет-нет, пожалуйста, не надо. Мы заказали самолет. Полетели с нами!
— Вы серьезно?
— Конечно. То же самое я только что говорила Скотту. Ему тоже сегодня вечером нужно возвращаться в город.
— Я собирался идти пешком, — заметил Скотт.
— Но мы ведь на острове, — нахмурилась Сара.
— Это шутка, — улыбнулась Мэгги.
Сара почувствовала, что краснеет.
— Ну конечно, — сказала она и принужденно рассмеялась. — Иногда я туго соображаю.
— В общем, я приглашаю и вас, и Бена. Будет весело. Можно будет выпить и поболтать о чем-нибудь — например, об искусстве. Кстати, Скотт — художник.
— Неудавшийся, — вставил Скотт Бэрроуз.
— Вовсе нет. Разве вы не говорили мне, что на следующей неделе должны встретиться с несколькими владельцами галерей?
— Скорее всего, эти встречи окажутся безрезультатными.
— А что вы рисуете? — спросила Сара.
— Катастрофы, — ответил Скотт.
На лице Сары появилось озадаченное выражение, поэтому Мэгги объяснила:
— Скотт пишет картины, на которых изображены несчастные случаи, о которых сообщают в новостях, — крушения поездов, обрушения домов и другие ужасы такого рода. Его работы гениальны.
— На мой взгляд, они ужасные, — возразил Скотт.
— Я бы с удовольствием на них посмотрела, — вежливо заметила Сара, хотя слово «ужасные», по ее мнению, лучше всего подходит к описанию картин, о которых только что рассказали.
— Вот видите? — Мэгги укоризненно глянула на Скотта.
— Ваша знакомая просто проявляет вежливость. Но мне приятны ее слова.
Скотт явно собирался сказать что-то еще, но Сара сменила тему разговора.
— И когда вы собираетесь лететь? — поинтересовалась она, обращаясь к Мэгги.
— Я вам напишу, — ответила та, — но, думаю, где-нибудь около восьми вечера. Долетим до Тетерборо, а оттуда уж как-нибудь доберемся до города. Обычно к десяти тридцати мы в таких случаях уже бываем дома.
— Ой, это было бы прекрасно! — радостно воскликнула Сара. — Стоит только подумать о воскресных пробках, и мне становится плохо. Спасибо за приглашение. Бен будет просто в восторге.
— Вот и хорошо, — улыбнулась Мэгги. — Я очень рада. Для этого и существуют самолеты, верно?
— Я этого не знал, — вставил Скотт.
— Не вредничайте, — попросила Мэгги. — Вы ведь тоже летите.
Она смотрела на Скотта с лукавой, дразнящей улыбкой. Глядя на Мэгги, Сара решила, что все дело в ее приветливости и общительности. Что же касается Скотта, то он своим поведением никоим образом не давал понять, что они с Мэгги не просто знакомые.
— Я подумаю над этим, — отозвался Скотт. — Спасибо.
Он вежливо улыбнулся обеим женщинам и отошел. Сара подумала, что Мэгги тоже отправится по своим делам, но та медлила, и Сара решила из вежливости продолжить разговор:
— Где вы с ним познакомились?
— Со Скоттом? Да прямо здесь. Он всегда пьет кофе у Гейба, а я часто бываю там с детьми. Рэйчел обожает маффины, которые там подают. Как-то раз мы разговорились.
— Он женат?
— Нет. Хотя, кажется, когда-то был помолвлен. Мы с детьми однажды были у него в гостях и смотрели его картины. Они очень необычные. Я постоянно уговариваю Дэвида купить что-нибудь из работ Скотта, но он говорит, у него слишком нервная работа, поэтому ему не хочется смотреть на всякие ужасы еще и дома. Сказать по правде, они и в самом деле производят тяжелое впечатление.
— Могу себе представить.
— Да уж.
Они еще несколько секунд постояли молча среди сновавших мимо людей.
— Как у вас дела? Все хорошо? — поинтересовалась Сара.
— Да, все в порядке. А у вас?
Сара вспомнила утренний поцелуй Бена и улыбнулась.
— И у нас тоже.
— Отлично. Что ж, встретимся в самолете?
— Да. Еще раз спасибо.
— До вечера.
Мэгги послала в сторону Сары быстрый воздушный поцелуй и ушла. Сара посмотрела ей вслед, а затем отправилась искать клубнику.
В это время Бен сидел на заросшей плющом террасе, отделанной специально обработанной древесиной. Перед ним на столе добрая дюжина небольших бейглов — с копченой лососиной, грунтовыми помидорами, каперсами и мягким домашним сыром. Удобно устроившись на плетеном стуле, Бен читал «Санди таймс» и пил капучино, время от времени поглядывая на волны. В лицо ему дул легкий ветерок с океана. Все выходные он обменивался электронными письмами с Калпеппером, используя эзопов язык и эмограммы, чтобы тексты писем нельзя было использовать в качестве улик, если правоохранители взломают его почту.
В море покачиваются на волнах парусные лодки и яхты. Калпеппер также в иносказательных выражениях сообщил Бену о попытке через свои каналы выяснить, что именно в деятельности фирмы привлекло внимание правительства и федеральные агенты пытаются раскопать. «Похоже, у них есть ключ, который скармливает им всякую грязь».
Бен вытер с подбородка остатки помидора и доел свой первый бейгл. Осведомитель? Неужели Калпеппер хотел сказать именно это? Бен вспомнил мужчину в водолазке, которому когда-то сломали нос в киевской тюрьме. Неужели разговор с этим типом ему не приснился?
На террасу вышла Сара, несущая половинку грейпфрута. Бен еще только встал, а его жена уже успела пройтись по округе.
— Паром отбывает в три тридцать, — сообщил он. — Значит, мы должны быть на пристани в два сорок пять.
Сара протягивает ему салфетку и садится за стол.
— Я встретила на рынке Мэгги.
— Уайтхед?
— Да. С каким-то художником. То есть не то чтобы с ним — просто они разговаривали.
— Угу, — пробурчал Бен, уже готовый к тому, чтобы на время отключиться и не слушать болтовню жены.
— Мэгги сказала, что сегодня в их самолете есть свободные места.
Слова Сары привлекли внимание Бена.
— Она что, пригласила нас лететь с ними?
— Да. Хотя, если ты уже настроился плыть на пароме, принимать приглашение не обязательно. Но ведь знаешь, какие по воскресеньям пробки на дорогах.
— Да нет, предложение весьма соблазнительное. Ты уже дала согласие?
— Я ответила, что поговорю с тобой и, скорее всего, ты согласишься.
Бен откинулся на спинку стула. Он собрался послать сообщение своему помощнику, чтобы тот отправил машину в аэропорт Тетерборо, и уже достает телефон, чтобы сделать это. Но тут ему в голову пришла еще одна мысль.
Дэвид. Он может поговорить с ним. Разумеется, не вдаваясь в детали, но так, чтобы тот понял — у него, Бена Киплинга, серьезные проблемы. Может, Дэвид посоветует ему, что делать? Стоит ли ему нанять кризис-менеджера? Или начать искать козла отпущения? Кроме всего прочего, у Дэвида хорошие связи в исполнительных органах власти. Если министерство юстиции получило новые указания или инструкции, возможно, Дэвид сможет выяснить, какие именно.
Бен отложил недоеденный бейгл, вытер руки о штанины и встал.
— Пойду прогуляюсь до пляжа. Мне надо кое-что обдумать, — произнес он.
— Если ты подождешь минутку, я пройдусь с тобой, — предложила Сара.
Бен уже открыл рот, чтобы сказать, что ему нужно сосредоточиться, но удержался. Он все еще чувствовал вину за неудавшийся обед в обществе жениха дочери и его родителей. В конце концов он согласно кивнул и отправился в дом, чтобы обуться.
Машина приехала за ними в начале девятого вечера. Бен и Сара устроились на заднем сиденье, в зоне, охлаждаемой кондиционером. Автомобиль покатил по дороге в сгущающихся сумерках. Оранжевый желток солнца уже наполовину погрузился во взбитый белок облаков на горизонте. Бен раздумывал над тем, как он перейдет к интересующей его теме и что именно скажет Дэвиду. «О кризисе речь не идет, но, может, ты слышал о каких-то нововведениях, исходящих из Белого дома, которые могут повлиять на рынок в целом?» Нет, это слишком сложный заход. Может, просто спросить: «У нас ходят слухи о каких-то новых указаниях — ты можешь подтвердить их или опровергнуть?»
Бен вспотел, хотя температура в салоне автомобиля немногим больше двадцати градусов. Сидевшая рядом с Беном Сара восторженно любовалась закатом. Бен ласково пожал ее руку, и жена ответила ему улыбкой.
Когда позвонил Калпеппер, Бен выбрался из машины на бетон летного поля. На аэродром опустился густой туман.
— Кажется, началось, — сообщил Калпеппер в тот самый момент, когда Бен принял от водителя свой небольшой чемодан.
— Что именно?
— Подготовка к предъявлению обвинений. Мне это птичка на хвосте принесла.
— И когда все произойдет?
— Утром. Федералы будут действовать жестко, если потребуется — с применением силы, прикрываясь ордерами на обыск. Мне звонил Лерой. Ситуация дерьмовая. Ему на этот раз придется принять сторону президента. «Нам нужно послать Уолл-стрит сигнал», — так он сказал. Или что-то в этом роде. Я отправил добрую сотню человек, чтобы спрятать все концы. Сейчас они этим занимаются.
— Концы?
— Ну да. А ты как думал?
Бен ощутил озноб. Сейчас его способность к креативному мышлению оказалась полностью парализована.
— Господи, Барни, ты можешь четко сказать, что происходит?
— Не по телефону. Но по моим данным — примерно то же самое, что происходило в СССР при Сталине. Но учти, ты ничего не знаешь. Для тебя это обычный воскресный вечер.
— И что я должен…
— Ничего. Езжай домой, прими успокаивающую таблетку и ложись спать. Утром надень приличный костюм, смажь каким-нибудь кремом запястья и отправляйся в контору. Они собираются арестовать тебя в офисе. Тебя, Гувера, Табиту и далее по списку. Адвокаты попытаются добиться, чтобы тебя выпустили под залог, но федералы упрутся и постараются продержать под замком по максимуму.
— В тюрьме?
— Нет, в магазине «Бест Бай». Конечно, в тюрьме. Но не волнуйся. У меня везде есть неплохие контакты.
Калпеппер вешает трубку. Бен, стоящий на летном поле, уже не чувствовал теплого ветерка, не замечал встревоженного взгляда Сары. В одно мгновение весь окружающий мир для него изменился. Все теперь выглядело иначе — и клочья тумана, проплывавшие над головой, и тень самолета на бетоне. Бену казалось, что над аэродромом вот-вот появится вертолет, из которого высадится группа спецназа.
«Началось, — подумал он. — Самый худший сценарий стал реальностью. Меня арестуют и предъявят обвинение».
— Господи, Бен, на тебе лица нет, — проговорила Сара.
Неподалеку от них двое техников заканчивали осмотр и обслуживание самолета.
— Все в порядке, — откликнулся Бен, изо всех сил стараясь взять себя в руки. — Просто появились кое-какие плохие новости на рынке. Из Азии.
Техники отсоединили от фюзеляжа гибкий шланг. Они одеты в комбинезоны цвета хаки и такие же кепки с длинными козырьками, которые делают их лица практически неразличимыми. Один из них, отойдя на несколько шагов от топливной магистрали, достал из кармана пачку сигарет и закурил. Оранжевый огонек осветил его нос и щеки. Бен, прищурившись, вгляделся в его черты. «Неужели это…» Додумать мысль он не успел — огонек зажигалки погас, и лицо техника снова погрузилось в темноту. Нервы Бена были настолько напряжены, что опасность мерещилась ему повсюду. Пульс его все учащался, и он начал дрожать словно в лихорадке, несмотря на жару.
Внезапно он осознал, что Сара что-то ему говорит.
— Что? — переспросил Бен.
— Я говорю — мне стоит волноваться?
— Нет-нет. Просто я подумал про нашу поездку, о которой мы говорили, — в Италию, в Хорватию. Не знаю, может, нам стоит отправиться в путешествие прямо сейчас, то есть сегодня вечером?
Сара положила руку на предплечье мужа.
— Ты такой сумасброд, — ласково сказала она. Бен кивнул.
Второй техник закрепил шланг на боку цистерны бензовоза-заправщика и забрался в кабину. Его напарник бросил окурок на бетон, погасил его ногой и подошел к кабине с другой, пассажирской стороны.
— Не хотел бы я лететь на этом аппарате, — заметил он.
Эти слова привлекли внимание Бена. Ему показалось, что они были сказаны не просто так, что в них есть какой-то особый смысл. Он обернулся и спросил:
— Что вы сказали?
Мужчина, не ответив, хлопнул дверью. Заправщик тронулся с места и уехал. Бен продолжил размышлять над странной фразой. Что это было? Угроза? Предупреждение? Или у него просто начинается паранойя? Бен наблюдал, как грузовик с цистерной катит в сторону ангара, и вскоре его задние габаритные огни превратились в две крохотные красные точки, едва видные сквозь пелену тумана.
— Милый, — окликнула мужа Сара.
Бен шумно выдохнул и потряс головой, словно отгоняя наваждение.
— Да, дорогая.
«Слишком большая, чтобы посадить». Кажется, так сказал Барри об их фирме и о возможности привлечения к уголовной ответственности ее руководство. Вполне вероятно, со стороны правительства это всего лишь игра. Но не исключено, что власти и в самом деле хотят послать некий сигнал финансовым рынкам. В таком случае Барри вполне может быть прав. Ну что же, Бен готов к такому развитию событий, он предвидел их и, соответственно, заранее предпринял целый ряд мер. Если бы он этого не сделал, он был бы идиотом, а это не так. На крайний случай Бен обеспечил себе финансовую независимость, припрятав кое-какие деньги на черный день. Не все, конечно, — пару миллионов. У него есть адвокат, которому авансом уже уплачен гонорар. Да, похоже, ситуация развивается по наихудшему сценарию, но Бен подготовился и к нему.
Пусть федералы приходят, подумал он, покоряясь судьбе. Пожав руку Сары, Бен немного успокоился. Ему стало легче дышать. Вместе с женой он направился к трапу самолета.
Часть 2
Каннингем
То, что Билл Каннингем находится в постоянном конфликте с властями, никогда не было ни для кого секретом. В каком-то смысле это являлось важным элементом его имиджа — вечно недовольного, язвительного гения телеэкрана. Во многом благодаря ему Билл сумел заключить контракт с Эй-эл-си стоимостью десять миллионов долларов в год. Но точно так же, как с возрастом самыми заметными чертами лица у многих людей оказываются уши и нос, которые словно увеличиваются в размере, некоторые особенности личности становятся заметнее других. Со временем мы все становимся своеобразными карикатурами на самих себя — при условии, что нам удается прожить достаточно долго. Не избежал этого и Каннингем, за которым окончательно закрепилась репутация скандалиста и низвергателя авторитетов.
Возможно, именно поэтому ему и удалось остаться в эфире, несмотря на скандал с прослушиванием телефонов. Хотя, если бы он был честным человеком — а о Билле этого сказать нельзя, — ему следовало бы признать, что гибель Дэвида в значительной степени помогла ему удержаться на работе. Шок и вакуум власти в компании, возникшие после трагедии, позволили Биллу максимально использовать свой авторитет «неформального лидера», который, впрочем, основывался исключительно на моральном терроре по отношению к тем сотрудникам, которые не принадлежали к его поклонникам.
— Я хочу, чтобы мне сказали об этом прямо, — заявляет Каннингем. — Вы собираетесь вышибить меня отсюда именно сейчас, ни раньше, ни позже?
— Билл, прекрати, — морщится Дон Либлинг.
— Нет, я хочу, чтобы вы произнесли это под запись. Это даст мне возможность впаять вам иск на миллиард долларов и потом весь остаток жизни есть икру большой ложкой.
Дон тяжело смотрит на Каннингема.
— Господи, Дэвид мертв. Его жена мертва. Его… — Либлинг умолкает. Ему нужно сделать над собой усилие, чтобы продолжать. — Его дочь мертва, черт побери. А ты… я даже не могу произнести это вслух.
— Вот именно, — подхватывает Билл. — Ты не можешь, а я могу. И это делаю. Обо всем говорю открыто, задаю неприятные, неудобные вопросы — и именно поэтому миллионы людей смотрят этот канал. Если наши зрители включат его, чтобы послушать репортаж про гибель нашего босса, и увидят на экране припудренного и гладко причесанного ведущего, читающего текст с телесуфлера, они тут же переключатся на Си-эн-эн. Дэвид, его жена и дочь, которую я, между прочим, держал на руках во время церемонии крещения, лежат где-то на дне Атлантического океана. А вместе с ними и Бен Киплинг, которому, насколько мне известно, вот-вот должны были предъявить обвинение. И все называют это несчастным случаем, словно ни у одного человека на земле не могло быть веской причины, чтобы желать смерти этих людей. Если все так, то почему наш босс ездил в бронированном лимузине, а стекла в его доме способны выдержать выстрел из гранатомета?
Дон смотрит на Франкена, адвоката Билла, прекрасно понимая, что в борьбе между здравым смыслом и маркетингом победу в конечном счете одержит именно маркетинг. Франкен улыбается.
«Вот ты и сдулся», — говорит его лицо, обращенное к Либлингу.
Так или иначе, Билл Каннингем снова появился на телеэкране в понедельник, через три часа после того, как новость об авиакатастрофе разошлась по СМИ.
Он возник перед камерой с всклокоченными волосами, в сбившемся на бок галстуке и без пиджака. Билл имел вид человека, сломленного горем. Однако, когда он заговорил, голос его был сильным и звучным.
— Хочу сразу внести ясность, — сказал он. — Все наше общество, или, если хотите, цивилизация, потеряла великого человека. Он был моим другом и настоящим лидером. Я не сидел бы сейчас перед вами, а по-прежнему валял дурака в Оклахоме, если Дэвид Уайтхед не разглядел во мне потенциальные возможности, которые не мог увидеть никто другой. Мы вместе с ним создали этот канал. Я был его лучшим другом в то время, когда он женился на Мэгги. И являюсь, точнее был, крестным отцом его дочери, Рэйчел. Потому я считаю, что на мне лежит ответственность за то, чтобы его убийство было раскрыто, а виновные понесли заслуженное наказание.
Наклонившись вперед, Билл уставился прямо в объектив главной камеры.
— Да-да, я говорю об убийстве. А что еще это могло быть? Два самых влиятельных человека города, где живет огромное количество других важных персон, летят в самолете, и этот самолет вдруг исчезает где-то в водах Атлантики. Воздушное судно, прошедшее техническое обслуживание всего за день до катастрофы, управляемое пилотами высшей категории, которые не сообщали диспетчерам ни о каких неисправностях, вдруг пропадает с экранов радаров вскоре после взлета. Только представьте себе! Нет, никто не убедит меня, что в этом случае обошлось без грязной игры. Дело здесь нечисто.
В это утро рейтинги канала оказались на самом высоком уровне за все время его существования, да и затем продолжили движение вверх. Во вторник были обнаружены обломки самолета и первые погибшие. Местный житель, выгуливавший собаку на Фишер-Айленд, наткнулся на прибитое волнами к берегу тело Эммы Лайтнер, а ловец лобстеров извлек из воды тело Сары Киплинг. После этого Билл Каннингем, казалось, превзошел самого себя.
— Где Бен Киплинг? Где Дэвид Уайтхед? — Именно эти вопросы он задавал снова и снова с телеэкрана, обращаясь к аудитории канала. — Разве не странно, что, хотя на борту самолета находилось одиннадцать человек, семь тел так и не были обнаружены? И в том числе — двух мужчин, которые, скорее всего, и были целью неких темных сил? Если Бен Киплинг сидел рядом со своей супругой, почему ее тело найдено, а его — нет? И, наконец, где Скотт Бэрроуз? Почему он до сих пор пытается скрыться от внимания общественности? Может, потому, что каким-то образом причастен к случившемуся? Совершенно очевидно, что он знает больше, чем говорит, — заявил Билл.
С самого начала расследования кое-кто из участвовавших в нем передавал информацию в Эй-эл-си. Именно благодаря этому на канале узнали схему рассадки пассажиров в салоне самолета. И именно Эй-эл-си первым сообщил о том, что Киплингу собирались предъявить обвинение.
Не кто иной, как Билл Каннингем, рассказал всему миру, что сын Дэвида Уайтхеда, Джей-Джей, в момент прибытия на аэродром спал и что на борт самолета его внес на руках отец. Личная, персональная связь Каннингема с участниками происшедшей трагедии не давала зрителям переключиться на какой-нибудь другой канал. Их интересовало, что Билл скажет дальше. Проводя в эфире час за часом, Каннингем сам постепенно превращался в мученика, в человека, который, вопреки всему, отказывался сдаваться.
Но время шло, и становилось ясно, что все спекуляции по поводу авиакатастрофы, скорее всего, не имеют ничего общего с реальной действительностью. К тому же «Нью-Йорк таймс» в воскресном выпуске опубликовала статью объемом в шесть тысяч слов, в которой во всех деталях было рассказано, как компания Бена Киплинга отмывала миллиарды долларов, полученных из Северной Кореи, Ирана и Ливии. По этой причине Билл утратил интерес к раскапыванию этой истории. Ему оставалось только одно — указывать зрителям на нестыковки в официальной версии.
И тут ему пришла в голову идея.
Билл встречается с Нэймором в баре без вывески на Орчард-стрит. Он выбирает это место, поскольку рассчитывает, что жители, мерзкие либералы, обитающие в районе Вильямсбург Нижнего Ист-Сайда, не знают его в лицо.
Собираясь на встречу, Билл не надевает свои фирменные подтяжки, а рубашку заменяет футболкой, поверх которой натягивает короткую кожаную куртку. Выглядит он при этом как бывший президент, старающийся не выделяться из толпы — прямо-таки Билл Клинтон на концерте «Ю Ту».
Помещение бара украшено большими подсвеченными аквариумами с морской водой. Билл усаживается за столик позади одного из них, из-за которого хорошо видна входная дверь. Заказав будвайзер, он принимается ждать. Толща воды и стекло меняют очертания находящихся за аквариумом людей и предметов, словно зеркало в комнате смеха. Часы показывают начало десятого вечера, поэтому бар пока заполнен лишь наполовину. Потягивая пиво, Билл разглядывает сидящую за соседним столиком крашеную блондинку с довольно впечатляющим бюстом, но несколько толстоватую. У девушки явно азиатские черты лица, в нос продето кольцо. Филиппинка? Рядом с ней расположился какой-то мужчина, по всей видимости, ее приятель. Каннингем вспоминает девушку, с которой он в последний раз занимался сексом. Это была двадцатидвухлетняя студентка. Он наклонил ее, уложив грудью на стол, и в течение шести минут под аккомпанемент ее испуганного лепета: «Сюда же сейчас войдут!» — мощными толчками сотрясал ее тело, после чего излился на ее каштановые волосы.
Человек, которого ждет Каннингем, входит в бар в плаще, с незажженной сигаретой за ухом. Он непринужденно оглядывается, видит за аквариумом карикатурно увеличенную голову Каннингема и подходит к столику.
— Я так понимаю, ты выбрал это место, полагая, что здесь тебя никто не заметит, — говорит он, опускаясь на стул.
— Моя целевая аудитория — пятидесятипятилетние белые мужчины, которые накануне должны съесть не менее двух столовых ложек клетчатки, чтобы с утра как следует опорожниться в унитаз. Надеюсь, ты это ясно понимаешь?
— Проблема в том, что ты приехал сюда на лимузине, который припаркован у обочины и привлекает внимание всех, кому не лень.
— Черт, — бормочет Билл и, достав из кармана мобильный телефон, дает водителю указание поездить вокруг квартала.
Билл познакомился с Нэймором на приеме во время первого президентства Джорджа Буша-младшего. Их представил друг другу некий скользкий тип из какой-то неправительственной организации. Он шепнул Каннингему на ухо, что Нэймор — человек информированный. Тот почти сразу стал снабжать Билла весьма ценной информацией, а Каннингем — обхаживать его, угощая в ресторанах и покупая ему театральные билеты. Чтобы получить интересные сведения, Каннингему нужно было лишь оказаться на связи в тот момент, когда на Нэймора находила охота поговорить. Обычно это случалось в районе половины второго ночи.
— Так что тебе удалось выяснить? — спрашивает Билл, убрав телефон обратно в карман.
Прежде чем заговорить, Нэймор подозрительно оглядывается.
— С гражданскими все это нетрудно, — произносит он наконец. — Мы уже отработали отца стюардессы, мать пилота и родственников мальчишки.
— Элеонору и Дуга — так, кажется?
— Верно.
— У них, наверное, голова кружится от счастья, — ухмыляется Билл. — Это все равно что в лотерею выиграть. Парнишке, по моим подсчетам, досталось в наследство больше ста миллионов долларов.
— Но он ведь все-таки остался сиротой, — возражает Нэймор.
— Хотел бы я стать таким сиротой, — рычит Каннингем. — Моя мать растила меня в меблированных комнатах.
— В общем, жучки установлены во все телефоны. Кроме того, мы просматриваем все приходящие электронные сообщения раньше, чем сами адресаты.
— И как же ты это сделал?
— Я создал в сети ложный аккаунт. После нашего разговора ты получишь с него все данные в закодированном виде. Я также взломал голосовую почту Элеоноры, так что ты сможешь прослушать ее, когда будешь трахать кого-нибудь перед сном.
— Поверь, у меня и в течение дня бывает полно телок. Так что дома перед сном я если и сую во что-нибудь своего бойца, то только в лед, чтобы охладить его хоть немного.
— В таком случае у тебя в гостях я никогда не буду заказывать «Маргариту», — ухмыляется Нэймор.
Билл допивает свое пиво и делает знак бармену, чтобы он принес еще одну порцию.
— А что там с этим Нептуном? — спрашивает он. — С пловцом на длинные дистанции?
Нэймор отхлебывает большой глоток пива из своего стакана и, помедлив, отвечает:
— Ничего.
— То есть как ничего? На дворе 2015 год.
— Что тут сказать? Он какой-то реликт. Мобильного телефона у него нет, электронных писем никому не пишет, счета оплачивает по почте.
— Ты мне еще скажи, что он троцкист.
— Троцкистов больше не существует. Даже самого Троцкого так не назовешь.
— Наверное, потому, что он уже лет пятьдесят как на том свете.
Официантка ставит перед Биллом еще один стакан с пивом. Нэймор тоже повторяет заказ.
— По крайней мере, скажи мне, где этот чертов ублюдок находится и что он за тип, — тихо говорит Каннингем.
Нэймор какое-то время сидит молча, а затем спрашивает:
— Чем тебя так бесит этот парень?
— О чем ты?
— Я об этом пловце. Все считают его героем.
На лице Билла появляется такая гримаса, словно слова собеседника причиняют ему физическую боль.
— Это точно так же, если заявить, что все неправильное в этой стране делает ее великой.
— Не знаю, о чем ты…
— Речь идет о каком-то спившемся неудачнике, который случайно попал в компанию действительно выдающихся людей и теперь спекулирует на этом.
— Я тебя не понимаю.
— А я тебе говорю, он ноль, пустое место. Просто никто. Этот тип пытается привлечь к себе внимание, сыграв роль скромного рыцаря, в то время как настоящие герои — люди, добившиеся в жизни очень многого, — лежат на дне океана. Если в 2015 году мы называем такого типа героем, значит, сами не стоим и цента.
Нэймор задумчиво ковыряет в зубах. Резоны Каннингема его не касаются, но подоплека просьбы все же интересует — тем более что для ее выполнения, скорее всего, придется нарушить не один закон.
— Как бы то ни было, мальчика этот мужик спас, — говорит он.
— И что из этого? Есть собаки, которых специально натаскивают на поиск людей, попавших в снежную лавину. Этим псам вешают на шею бутылки с ромом. Кажется, эта порода называется сенбернар. Но это не значит, что я стану натаскивать своих детей таким же образом, чтобы они стали вроде сенбернаров.
Нэймор еще какое-то время молчит, о чем-то раздумывая, наконец говорит:
— В общем, домой он пока не вернулся.
Билл смотрел на собеседника с недоумением. Нэймор улыбается, не разжимая губ.
— Я фильтрую кое-какие разговоры. Возможно, он скоро появится.
— Но ты же не знаешь, где он, если я правильно тебя понял.
— Да. На данный момент не знаю.
Билл начинает нервно подергивать ногой, внезапно потеряв интерес ко второму стакану с пивом.
— Я хочу понять, с кем мы имеем дело. С дегенератом-алкоголиком? С секретным агентом? С помешанным?
— Возможно, он просто человек, который случайно попал на борт не того самолета и спас мальчишку.
Билл снова корчит недовольную мину.
— Ну как же, классическая героическая история. Всех уже тошнит от подобных сюжетов. Нет, все это дерьмо, я не верю. Тип заполучил место в этом самолете потому, что он весь из себя хороший и правильный? Три недели назад даже мне отказали, когда я хотел прокатиться на этой птичке, так что пришлось плыть на чертовом пароме.
— Ну ты-то определенно не из хороших парней.
— Да пошел ты. Я — американец, и не простой, а великий. Это важнее, чем быть хорошим мальчиком.
Официантка приносит Нэймору второе пиво.
— Вот что я тебе скажу, — заявляет он, отхлебнув из стакана глоток. — Если человек жив, он не исчезает навсегда. Рано или поздно этот парень пойдет в магазин или закусочную купить себе бейгл, или кто-нибудь сфотографирует его на мобильный телефон и выложит в Интернет. А может, герой просто позвонит кому-нибудь из тех, кого мы поставили на прослушку.
— Например, Франклину из Национального комитета безопасности перевозок.
— Я тебе уже говорил, с такими людьми это проблематично.
— Черт бы тебя побрал, ты говорил, что можешь поставить на прослушку кого угодно. Мол, выбери любую фамилию из справочника — это твои слова.
— Послушай, я могу влезть в его личную телефонную линию, но не в его спутниковый телефон.
— А как насчет электронной почты?
— Со временем возможно. Но мы должны соблюдать осторожность. После принятия закона о борьбе с терроризмом контроль стал очень жестким.
— Ты же сказал, что те, кто этим занимается, — жалкие любители. Вот и покажи себя.
Нэймор вздыхает и косится на крашеную блондинку. Пока ее приятель отлучился в туалет, она посылает кому-то эсэмэску. Нэймор думает о том, что, если ему удастся выяснить, как эту девушку зовут, меньше чем через пятнадцать минут он сможет любоваться ее сэлфи, сделанными голышом.
— Если память мне не изменяет, ты сказал, что нам следует вообще немного притормозить на какое-то время, — говорит он. — Я помню, как ты позвонил мне и заявил: сожги все, ляг на дно и жди моего сигнала. Разве это не твои слова?
Билл раздраженно взмахивает рукой.
— Это было до того, как типы из «Исламского государства» убили моего друга.
— Да мало ли кого они убили.
Билл встает и застегивает молнию своей кожаной куртки-пилота.
— Послушай, формула проста. При современном уровне технологий секретов больше не существует. Знаешь, что сейчас нужно? Супермозг, который имеет доступ ко всей информации — правительственной, персональной, к сводкам погоды, данным судмедэкспертов — словом, к сведениям из всех источников. И этот сверхинтеллект будет использовать такую информацию, чтобы составить картину реальности и определить, кто лжет, а кто говорит правду.
— И этот супермозг, конечно же, ты.
— Чертовски верно, — отвечает Билл и, выйдя из бара, направляется к своему лимузину.
Комната смеха
Весь вечер Скотт сидит один и смотрит по телевизору передачи о себе. Но это вовсе не проявление нарциссизма. Во время просмотра у него возникает ощущение нереальности происходящего и кружится голова. Ему странно видеть на экране собственное лицо, свои детские фотографии — интересно, где и каким образом их раздобыли, — демонстрируемые многомиллионной аудитории в промежутках между рекламой мини-вэнов и подгузников для взрослых. Все это напоминает какую-то странную игру. Скотту в последние дни и так пришлось нелегко в роли объекта досужих слухов и ни на чем не основанных предположений. Теперь эти спекуляции перешли, судя по всему, в несколько другую плоскость. «Что он делал на борту самолета?» Всего неделю назад он был обычным, неприметным, никому не известным человеком. Сегодня же Скотт один из персонажей детективной истории — «Последний, кто видел жертв авиакатастрофы живыми. Тот, кто спас ребенка». День за днем он вынужден выступать в этой роли, отвечая на вопросы сотрудников ФБР и НКБП, раз за разом рассказывая о том, что он помнит, а что нет. День за днем видит в газетах заголовки статей и слышит безликие теле- и радиоголоса, дающие информацию о нем.
Герой. Они называют его героем. Это слово плохо вяжется с тем его образом, который создали СМИ, — законченного неудачника без серьезных амбиций, в прошлом запойного пьяницы, ныне живущего одним днем и не задумывающегося о будущем. Поэтому Скотт прячет лицо и избегает объективов камер.
Иногда его узнают в метро или на улице. Для случайных прохожих он не просто известная личность, а нечто большее. «Надо же, это вы. Вы спасли того мальчика. Я слышал, тебе пришлось вступить в схватку с акулой, брат. Это правда?» На улице к нему относятся не как к особе королевской крови или кинозвезде, а скорее как к своему соседу, которому невероятно повезло. Потому что он, собственно говоря, ничего особенного не сделал — просто плыл. Скотт один из них, обыкновенный человек с улицы, который совершил доброе дело. Поэтому, узнавая его, люди подходят к нему с улыбкой. Они пожимают ему руку, фотографируются с ним на память. Он выжил в авиакатастрофе и спас ребенка. Прикоснуться к нему — это вроде доброй приметы, все равно что потрогать счастливую монетку или кроличью лапку. Совершив невозможное, он доказал, что невозможного не существует. Как же после этого не прикоснуться к нему на счастье?
Скотт улыбается этим людям и старается быть с ними дружелюбным. Разговоры с ними — совсем не то, что предполагаемые беседы с журналистами. И все же ему приходится сдерживать себя. Он боится нагрубить кому-нибудь из них, так как чувствует — даже эти люди в глубине души ждут, что он окажется каким-то особенным. Им просто необходимо, чтобы в их жизни иногда происходило необычное, из ряда вон выходящее. Скотт понимает это и потому пожимает руки незнакомым мужчинам и обнимается с незнакомыми женщинами, но при этом просит не фотографировать его. Большинство из них относится к этой его просьбе с пониманием.
— Пусть этот эпизод останется между нами, — говорит Скотт. — Тогда он лучше запомнится нам обоим.
Многим людям нравится идея, что в эпоху, когда СМИ готовы растиражировать все на свете, у них в жизни будет уникальный эпизод, который сохранится только в их памяти. Впрочем, не все ведут себя тактично. Некоторые фотографируют Скотта совершенно беспардонно, не спрашивая его согласия. Есть и такие, кто искренне расстраивается, когда он отказывается позировать вместе с ними. На Вашингтон-Сквер-Парк одна старушка в подобной ситуации называет его ублюдком. Скотт в ответ кротко кивает и говорит, что она совершенно права. И слышат в ответ: «Пошел в задницу».
Если обычные люди признали тебя героем, ты теряешь право на одиночество и частную жизнь. Перестаешь быть обыкновенным человеком, выиграв в лотерее судьбы, и превращаешься в некое полубожество, символ удачи. Поэтому твои собственные желания уже не имеют какого-либо значения. Ты просто обязан играть отведенную тебе роль.
На третий день Скотт перестает выходить на улицу. Он живет на третьем этаже дома Лейлы, в гостевых апартаментах. Их интерьер выдержан в белых тонах — пол, стены, потолок и мебель. Скотт чувствует себя очень странно, просыпаясь в чужой комнате, на незнакомой кровати. Даже кофейные зерна, которые он засыпает в кофеварку, кажутся ему не такими, что хранятся на кухне у него дома. Ему непривычно даже прикосновение к жесткой махровой поверхности банных полотенец, которые он достает из шкафчика в огромной ванной комнате. Бар в гостиной полон дорогого шотландского виски и русской водки. Он изготовлен из вишневого дерева полвека назад. В первый вечер Скотт долго разглядывал его содержимое с видом человека, который, находясь в угнетенном состоянии духа, изучает содержимое оружейного шкафа. Как много на свете способов покончить с собой! В конце концов, закрыв бар, он накинул на него одеяло, передвинул стоящий рядом стул в другое место и больше не подходил и даже не смотрел в ту сторону.
Жена Киплинга — кажется, ее звали Сара — лежит на цинковом столе где-то в морге. И красавица-стюардесса, Эмма Лайтнер, тоже. Несколько раз в день Скотт просматривает список погибших. Дэвид Уайтхед, Маргарет Уайтхед, Рэйчел Уайтхед…
Скотту казалось, что он уже мысленно свыкся с тем, что случилось. Но когда стало известно, что удалось обнаружить тела, эта новость снова выбила его из колеи. Они были мертвы — все, кто находился на борту, кроме него самого и мальчика. Скотт вроде бы и раньше понимал, что других выживших быть не могло. Но только увидев репортаж по телевизору, в котором говорилось, что первые тела погибших в авиакатастрофе найдены, он окончательно поверил: другого исхода ждать не приходится.
Где-то в океане все еще оставались: трое членов семьи Уайтхед — мать, отец и сестра маленького Джей-Джея, пилоты Чарли Буш и Джеймс Мелоди, а также Бен Киплинг и охранник Уайтхедов. Все они были под водой, в темных морских глубинах.
Скотт понимает, что следовало бы отправиться домой, на остров, но этого сделать не удастся. Он чувствует, что по непонятным ему самому причинам не сможет жить так, как жил раньше. При этом «раньше» в данном случае означает девять дней назад. Вся жизнь Скотта, похоже, разделилась на две части — до катастрофы и после нее. Ему кажется, что он просто не сможет пройти по безлюдной грунтовой дороге к небольшим белым воротцам, войти в дом, надеть оставленные у порога старые тапочки без задников, достать из холодильника прокисшее молоко, взглянуть в полные грусти глаза своего пса-калеки. Да, это был его дом — того самого человека на телеэкране, который носил рубашки Скотта и смотрел в объектив на старых фотографиях — «неужели у меня в самом деле такие кривые зубы?». Он не мог заставить себя предстать перед множеством телекамер, отвечая на сыплющиеся со всех сторон вопросы. Говорить с людьми в метро — одно дело, а обращаться к многомиллионной аудитории — совсем другое. Это было не для Скотта. И вернуться туда, где жил раньше, он почему-то не мог. Что-то мешало ему это сделать. Поэтому Скотт продолжает часами сидеть на чужом диване и смотреть на верхушки деревьев и облицованные коричневым камнем здания на Бэнк-стрит.
Где в это самое время находится мальчик? Вероятно, в загородном доме в северной части штата Нью-Йорк. Всякий раз вечером, когда Скотт ложится спать, его начинает терзать одна и та же мысль. Даже во сне он думает о маленьком мальчике, затерявшемся в безмерном черном пространстве ночного океана. С трудом держась на поверхности, Скотт пытается по голосу, зовущему на помощь, отыскать ребенка в кромешной тьме. Но видение, к счастью, мучает его недолго. Ему на смену приходит спасительное забытье. Однако воспоминание о сне возвращается утром, когда Скотт пьет холодный кофе. Иногда ему кажется, что это не его кошмар, а мысли мальчика, которые каким-то непостижимым образом передаются ему, и никто, кроме него, Скотта, воспринимать их не может.
Скотт размышляет о том, возможно ли, что между ним и мальчиком за те восемь часов, которые они провели в океане, возникла какая-то особая связь. Скотт смог спасти жизнь маленькому человеку, удержать его на поверхности. Достаточно ли этого, чтобы считать, что жизнь прожита не зря? Мир знал спасенного ребенка как Джей-Джея, но Скотту кажется, что для него он навсегда останется просто «мальчиком». Сейчас он находится в безопасности, с ним его новая семья — тетя и ее, судя по всему, не слишком порядочный и весьма корыстный муж. Мальчик в мгновение ока стал мультимиллионером, и хотя сейчас ему еще нет и пяти лет, скорее всего, он никогда в жизни ни в чем не будет нуждаться. Скотт спас ему жизнь, дал будущее, возможность быть счастливым. Разве этого недостаточно?
Скотт, просидевший взаперти уже два дня, набирает номер справочной службы и выясняет телефонный номер тети мальчика. Часы показывают девять вечера. Набрав нужную комбинацию цифр и прислушиваясь к звучащим в трубке гудкам, Скотт гадает, что ребенок делает в эту минуту.
После шестого гудка трубку снимают, и Скотт слышит голос Элеоноры. Он представляет себе ее лицо, ее печальные глаза.
— Алло?
В голосе Элеоноры слышны тревожные нотки — впечатление такое, что она не ждет от позднего звонка ничего хорошего.
— Здравствуйте, это Скотт.
Не дослушав, Элеонора говорит:
— Послушайте, мы ведь уже сделали заявление. Пожалуйста, уважайте наше право на частную жизнь.
— Нет-нет, это Скотт. Художник. Ну, из больницы.
Голос Элеоноры немного смягчается.
— Ох, извините. Просто нас никак не оставят в покое. А ведь он всего лишь ребенок, понимаете? Его мать и отец…
— Понимаю. Почему, вы думаете, я от всех прячусь?
— Мы бы тоже с удовольствием куда-нибудь спрятались. Я хочу сказать, что все это очень тяжело.
— Не сомневаюсь. А мальчик…
В трубке повисает тишина. Скотт понимает: в эту минуту Элеонора раздумывает о том, заслуживает ли он доверия и что можно ему рассказать.
— Джей-Джей? Вы знаете, он почти не говорит. Мы свозили его к психиатру, то есть я свозила. Доктор сказал, что ему нужно время. Поэтому я стараюсь на него не давить. И еще он не плачет. Ему четыре года, поэтому я не знаю, все ли он понимает. Но я все-таки думала, что Джей-Джей будет плакать.
— Думаю, он просто пытается осознать, что произошло, — говорит Скотт. — Это ведь страшная травма. Но все равно, это для него еще и урок того, что такое жизнь и окружающий мир. Дети познают его. Даже такие страшные события помогают им в этом. Они узнают, что самолеты иногда разбиваются, люди умирают.
— Я это понимаю, — соглашается Элеонора.
На какое-то время в разговоре наступает неловкая пауза. Оба — и Элеонора, и Скотт — думают, что еще сказать.
— Дуг, кстати, тоже говорит очень мало, — нарушает молчание Элеонора. — И в основном о деньгах. Мне кажется, эмоционально он все еще не может переварить все случившееся.
— До сих пор?
— Да. Знаете, он не очень-то добр к людям. Может, потому, что у него было трудное детство.
— Правда? Когда, лет двадцать пять или тридцать назад?
Скотт чувствует, что после этих его слов Элеонора улыбается.
— Перестаньте, — говорит она.
Скотту нравится ее голос. Он чувствует в нем теплые нотки, и создается впечатление, что они с Элеонорой давным-давно знакомы.
— Знаете, я не мастер строить беседы. Особенно с женщинами.
— Ну уж нет, на эту наживку я не клюну, — отрезает Элеонора.
Они еще некоторое время разговаривают о разных пустяках. Элеонора встает рано, как и мальчик, а Дуг спит допоздна — потому что поздно ложится. Джей-Джей любит поджаренные тосты на завтрак и в один присест может съесть целый контейнер клубники. Ему нравится наблюдать за насекомыми во дворе. В те дни, когда у Джей-Джея неважное настроение, они с ним сидят на крыльце и приветственно машут водителям проезжающих мимо грузовиков.
— В общем, это обыкновенный ребенок, — подытоживает Элеонора.
— Как вы думаете, он понимает, что произошло? — спрашивает Скотт.
После долгой паузы Элеонора отвечает вопросом на вопрос:
— А вы?
Первые похороны проходят в воскресенье. Предают земле останки Сары Киплинг на еврейском кладбище в Куинсе, над которым возвышаются трубы построенных еще до войны промышленных предприятий. Полиция отвела для фургонов телевидения место у южного входа. День стоит пасмурный, но воздух остается горячим и влажным, словно в тропиках. После полудня синоптики пообещали сильные грозы, и их приближение уже чувствуется в насыщенной статическим электричеством атмосфере. На подъезде к кладбищу со стороны скоростной магистрали Бруклин — Куинс выстроилась целая кавалькада черных автомобилей, в которых сидят члены семьи покойной и ее друзья. Есть среди них известные политики.
В небе кружат вертолеты. Скотт подъезжает к кладбищу на такси. Он одет в черный костюм, который удалось найти в одной из гардеробных в доме Лейлы. Костюм слегка великоват ему в плечах, рукава несколько длиннее, чем требуется. Белая рубашка, наоборот, мала, ее воротничок Скотту явно тесен. Узел его галстука сбился набок. Сам Скотт плохо выбрит, на его лице в двух местах видны порезы.
С самого утра художник безуспешно размышляет над вопросом: почему другие пассажиры самолета погибли, а он выжил?
Выйдя из машины, Скотт просит таксиста подождать. В какой-то момент он вдруг задумывается над тем, будет ли на церемонии Джей-Джей — о чем забыл спросить заранее. Но потом понимает, что вряд ли кому-то придет в голову привезти маленького ребенка на похороны взрослого человека, с которым он даже не был знаком.
Правда состоит в том, что Скотт сам не знает, почему приехал на кладбище. Ведь он не родственник и не друг Сары Киплинг.
Его замечают. Он чувствует на себе взгляды собравшихся, окруживших могилу, и кажется сам себе молнией, дважды ударившей в одно и то же место — природной аномалией. Скотт опускает глаза.
Остановившись на некотором удалении от остальных, он замечает группу мужчин, которые также расположились в сторонке. Один из них Гэс Франклин. Скотт узнает еще двоих — агента ФБР О’Брайена и сотрудника комиссии по ценным бумагам и биржам, чье имя он запамятовал. Все трое кивают ему.
Слушая надгробную речь раввина, Скотт видит, как тучи на небе сгущаются, и размышляет о том, насколько мал и ничтожен человек при земных масштабах, не говоря уже о космических. Оказавшись в одиночестве в океанских волнах, он чувствует себя песчинкой. Люди верят в то, что их интеллект и способность осознавать чудовищность размеров небесных тел и бесконечность Вселенной выделяют их среди других живых существ, населяющих планету. Им кажется, что благодаря этому они занимают особое, привилегированное место. Но на самом деле имеется лишь возможность ощутить собственную ничтожность.
Поднимается ветер. Скотт старается не думать о других жертвах катастрофы, которые вместе с самолетом все еще находятся где-то под толщей океанской воды, — командире экипажа Мелоди, Бене Киплинге, Мэгги Уайтхед и ее дочери Рэйчел. Но в его воображении против воли возникает ужасная картина — тела в темной глубине медленно покачиваются, словно под музыку, которую не в состоянии услышать человеческое ухо.
Когда похороны заканчиваются, к Скотту подходит незнакомый мужчина с военной выправкой и приятным лицом, таким загорелым, словно он всю жизнь провел под горячим аризонским солнцем.
— Скотт? Я Майкл Лайтнер. Моя дочь была…
— Я знаю, — мягко говорит Скотт. — Я ее помню.
Они стоят среди надгробных плит, окруженные белыми статуями памятников. Неподалеку от них возвышается купол мавзолея, на вершине которого хорошо видна скульптура монаха, держащего в руках крест. Он кажется совсем крохотным на фоне возвышающихся городских зданий. Скотту вдруг приходит в голову, что эти сооружения тоже похожи на огромные надгробные плиты и памятники — символы скорби.
— Я где-то прочитал, что вы художник, — Майкл, достав из нагрудного кармана рубашки пачку сигарет, закуривает.
— Верно, я пишу картины, — отвечает Скотт. — Если считаете, что это делает меня художником, то да, вы правы.
— Я пилотирую самолеты и всегда думал, что это делает меня летчиком, — Майкл глубоко затягивается. — Хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали.
— За то, что я остался в живых? — уточняет Скотт.
— Нет. За мальчика. Однажды мне довелось совершить аварийную посадку в Беринговом проливе и какое-то время провести в море — правда, у меня был спасательный плот и кое-какие припасы. Так что я представляю, каково вам пришлось.
— Вы помните Джека Лаланна? — спрашивает Скотт. — Еще мальчишкой мне довелось побывать с родителями в Сан-Франциско, и я своими глазами видел, как он плыл через залив и еще буксировал за собой лодку. Он тогда показался мне Суперменом. И я записался в секцию плавания.
Майкл некоторое время молча размышляет над его словами. Он очень приятный человек, уверенный в себе, сдержанный, но ироничный.
— А я помню, как по телевизору показывали запуски космических ракет, — говорит он. — Нил Армстронг, Джон Гленн. Я сидел на ковре в гостиной, и мне казалось, что я чувствую жар от огненной вспышки во время старта.
— Вам удалось слетать в космос?
— Нет. Довольно долго я летал на истребителях, потом обучал других пилотов. В пассажирскую авиацию перейти так и не смог.
— Они вам что-нибудь рассказали? — спрашивает Скотт. — Про самолет?
Майкл расстегивает пиджак.
— С точки зрения механики все вроде бы было нормально. Во время утреннего рейса над морем пилот не сообщал ни о каких неисправностях, а на предыдущей неделе самолет прошел полное техническое обслуживание. Я видел послужной список Мелоди — он совершенно безупречен. Хотя исключать ошибку пилота никогда нельзя. Данных черных ящиков пока нет, но мне дали возможность ознакомиться с записями диспетчерской службы. Там тоже все чисто — никаких сообщений о неисправностях или сигналов бедствия.
— Стоял густой туман, — напоминает Скотт.
Майкл хмурится:
— Это только кажущаяся проблема. Возможна небольшая турбулентность из-за разницы температур, но не более того. Что же касается полета по приборам, то для современных самолетов это нормальная практика, которая не считается фактором риска.
Скотт видит, как с северной стороны появляется вертолет и летит вдоль реки. Он находится слишком далеко, чтобы можно было расслышать шум винтов.
— Расскажите мне о ней, — просит Скотт.
— Об Эмме? Знаете, когда у вас появляются дети, вы думаете: «Раз я ваш отец, значит, вы должны быть похожими на меня». Но это не так. Вы просто проводите часть жизни рядом с ними и, возможно, учите их разбираться в каких-то вещах. Вот и все. — Майкл бросает окурок на влажную землю и наступает на него. — А вы… Вы можете рассказать мне что-нибудь — о полете, о ней?
«О последних моментах ее жизни» — вот что он имеет в виду.
Скотт раздумывает над тем, что он может сказать Майклу. Что его дочь принесла ему выпить? Что шел бейсбольный матч, двое миллионеров, сидящие рядом, о чем-то разговаривали, а жена одного из них болтала о шопинге?
— Она делала свою работу, — отвечает Скотт. — Полет продолжался восемнадцать минут, верно? А я попал на борт буквально перед тем, как убрали трап.
— Понимаю, — говорит Майкл и низко наклоняет голову, чтобы скрыть свое разочарование.
— Она была очень добрая, — добавляет Скотт.
Мужчины еще некоторое время стоят молча. Затем Майкл кивает и протягивает Скотту руку. Тот пожимает ее, думая, что еще следует сказать в этой ситуации, как выразить свое сочувствие. Но Майкл, почувствовав его нерешительность, поворачивается и уходит.
Агенты подходят к Скотту, когда он направляется к такси. Первым идет О’Брайен, за ним шагает Гэс Франклин. Его рука лежит на плече фэбээровца, словно он хочет сказать: оставь парня в покое. Следом за ними спешит сотрудник комиссии по ценным бумагам и биржам. Скотт вспоминает, как его представляли — агент Хекс.
— Мистер Бэрроуз!
Скотт останавливается, держа руку на дверце такси.
— Нам очень не хотелось беспокоить вас сегодня, — говорит Гэс.
— Речь не идет о «беспокойстве», — возражает О’Брайен. — Мы всего лишь делаем свою работу.
Скотт неопределенно пожимает плечами.
— Давайте сядем в машину, — предлагает он. — Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь заснял наш разговор на камеру.
Такси — не седан, а мини-вэн. Скотт сдвигает в сторону заднюю дверь и, нырнув в салон, устраивается на сиденье. Остальные, переглянувшись, тоже забираются внутрь.
— Спасибо, — говорит Скотт. — Меня еще не снимали при помощи спецтехники с вертолета, и я жил прекрасно.
— Да, мы заметили, что вы не очень-то любите телевидение, — хмыкает О’Брайен.
— И вообще средства массовой информации, — добавляет Хекс.
— Как идет расследование? — интересуется Скотт, обращаясь к Гэсу.
Тот смотрит на водителя-сенегальца.
— Вы не могли бы ненадолго выйти и дать нам поговорить? — спрашивает Франклин.
— Это мое такси.
Гэс достает из кармана бумажник и протягивает водителю двадцать долларов, а затем, убедившись, что трюк не сработал, — еще двадцать. Взяв деньги, сенегалец вылезает из машины и прикрывает дверь.
— Со стороны Каймановых островов идет ураган «Маргарет», — сообщает Гэс Скотту. — Нам пришлось временно прекратить поисковые работы.
Скотт закрывает глаза. Маргарет. Мэгги.
— Такие дела, — подытоживает Гэс. — Ирония судьбы. Вы ведь знаете, ураганы принято называть женскими именами.
— Я вижу, вы сильно расстроены, — замечает О’Брайен.
Скотт, прищурившись, пристально смотрит на агента.
— Женщина погибает в авиакатастрофе. А теперь на район, где произошла трагедия, надвигается ураган, который носит то же имя, что и она. Как, по-вашему, я должен реагировать?
— Какие у вас были отношения с миссис Уайтхед? — спрашивает Хекс.
— У вас, ребята, предвзятый взгляд на эту историю.
— Вы так считаете? — В голосе О’Брайена отчетливо звучат нотки сарказма. — Вероятно, причиной этого является наше глубокое убеждение в том, что все люди лгут.
— Если бы я так думал, то вообще не стал бы с вами разговаривать, — отрезает Скотт.
— Да что вы говорите? Это даже забавно, — иронизирует О’Брайен.
— Это не игра, — мрачно произносит Гэс. — Погибли люди.
— При всем уважении, — замечает О’Брайен, обращаясь к Франклину, — ваше дело — выяснять технические причины падения самолета. А все остальное, в том числе человеческий фактор, — наша забота.
— Правда, эти два аспекта могут быть тесно связаны, — добавляет Хекс.
Скотт откидывается на спинку сиденья и закрывает глаза. Травмированное плечо его уже почти не беспокоит, но в голове нарастает пульсирующая боль — вероятнее всего, это реакция на смену атмосферного давления.
— По-моему, он заснул, — говорит Хекс, внимательно разглядывая лицо Скотта.
— А ты знаешь, кто обычно засыпает в полицейском участке? — обращается к нему О’Брайен.
— Тот, кто совершил преступление.
— Вам, парни, впору выступать на радио, — сердито ворчит Гэс. — В утреннем спортивном выпуске. Там ведущие — такие же трепачи, как и вы. Или в восьмичасовой программе про погоду и пробки.
О’Брайен хлопает Скотта ладонью по груди.
— Мы подумываем о том, чтобы обзавестись ордером и взглянуть на ваши картины.
Скотт открывает глаза.
— Ордером? Чтобы посмотреть на картины?
— Ну да. Это такой листок бумаги, подписанный судьей. Он дает нам возможность ухватить всяких гнусных типов, — поясняет О’Брайен.
— Приходите в четверг вечером, — предлагает Скотт. — Я разолью по картонным стаканчикам белое вино и приготовлю тарелки с сухариками. Вам когда-нибудь приходилось бывать на открытии выставки в картинной галерее?
— Я бывал даже в чертовом Лувре! — рявкает О’Брайен.
— Расследование веду я, — жестко произносит Гэс. — Поэтому никто ничего не будет делать, не поговорив предварительно со мной.
Скотт смотрит в окно машины. Все участники погребальной церемонии уже разошлись. Могила представляет собой вырытую в земле яму, которую заливает моросящий дождь. Двое работников кладбища в плащах, укрывшись под кроной растущего неподалеку от места захоронения вяза, курят сигареты «Кэмел».
— Какое, по вашему мнению, практическое значение могут иметь мои картины? — интересуется Скотт.
Ему действительно хочется это знать. Ведь он провел (или потратил?) целых двадцать пять лет, накладывая краски на холст в тщетной надежде привлечь внимание других людей, но до сих пор так и не преуспел.
— Дело не в том, какие они, — говорит О’Брайен. — Дело в том, о чем они.
— Вы пишете картины, изображающие катастрофы, — поясняет Хекс. — Мы узнали об этом от вашего агента. Сюжеты ваших картин — автомобильные аварии, крушения поездов и тому подобное.
— А это, — подхватывает О’Брайен, — уже может представлять для нас определенный интерес. Возможно, вам надоело рисовать картины про катастрофы, и вы решили устроить что-нибудь похожее на один из ваших сюжетов в действительности?
Скотт смотрит на Хекса и О’Брайена с неподдельным интересом. Его искренне удивляет их странный образ мыслей, позволяющий видеть возможность заговора и злого умысла там, где ни о чем подобном не может быть и речи. Затем переводит взгляд на Гэса, который массирует себе переносицу, словно пытается избавиться от боли.
— И как вы это себе представляете? — снова обращается Скотт к Хексу и О’Брайену. — Я имею в виду, чисто практически. Художник, у которого за душой ни гроша, держащий дома трехногого пса. Каким образом он может устроить такое?
— Такие вещи случаются довольно часто, — заявляет О’Брайен. — В головах маленьких людей, живущих в крохотных квартирках, рождаются чудовищные замыслы. Они начинают их обдумывать, ходят по выставкам оружия, ищут в Интернете инструкции по изготовлению самодельных бомб.
— Я ничего в Интернете не ищу.
— Другие часами сидят в библиотеках. «Заметьте меня, обратите на меня внимание» — вот их мотив. И еще месть.
— Кому? За что?
— Всем. Своим матерям. Богу. Какому-нибудь типу, который когда-то поимел их в спортзале.
— Прямо в спортзале? — уточняет Скотт. — На глазах у всех?
— Вы смеетесь, а я, между прочим, говорю серьезно.
— Да нет, вовсе не смеюсь. Просто мне интересно, как работает ваш мозг. Я, например, привык думать об образах, о цвете. Поэтому ваши умственные построения мне в новинку.
— А почему вы выбираете для своих картин такие странные сюжеты? — спокойно спрашивает Гэс.
— Видите ли, я сам толком не знаю, — отвечает Скотт. — Когда-то я писал пейзажи. А потом… что-то изменилось. Мне кажется, я просто пытаюсь понять, как устроен этот мир. Когда вы молоды, то надеетесь, что ваша жизнь сложится хорошо — по крайней мере, допускаете такую вероятность. Вам кажется, что можете управлять происходящими событиями. Вы считаете, что важно найти свой путь, хотя иногда на самом верху оказываются люди, которые добились успеха благодаря счастливому стечению обстоятельств. Им просто везет. Но на моем пути встали кукурузный виски и моя неудачливость.
— Я сейчас усну, — вставляет О’Брайен.
Скотт, однако, продолжает свой рассказ, отвечая на вопрос Гэса и полагая, что тому действительно интересно:
— Люди встают по утрам и строят планы на день. Они искренне полагают, что их удастся осуществить. Но в этот самый день их поезд сходит с рельсов, на них обрушивается торнадо, или паром, на котором они находятся, тонет.
— Или их самолет падает.
— Да. В моих картинах катастрофы играют роль метафор. По крайней мере, так было еще десять дней назад. Тогда я думал, что изобразить на картине крушение самолета — это всего лишь способ скрыть от окружающих разрушение моей собственной жизни.
— Значит, авиакатастрофу вы тоже нарисовали, — говорит Хекс с обвинительными интонациями в голосе.
— Что ж, мы посмотрим на эту вашу работу, — добавляет О’Брайен.
Глядя в окно такси, Скотт видит, как кладбищенские рабочие бросают окурки на раскисшую от дождя землю и берутся за лопаты. Он вспоминает, как в жаркий августовский день познакомился с Сарой Киплинг на фермерском рынке. Он помнит ее слабое рукопожатие и принужденную улыбку. Почему в земле осталась лежать она, а не он? Потом Скотт думает о Мэгги и о ее дочери. Они обе где-то на дне океана, а он здесь, в Нью-Йорке, живой и здоровый. Дышит, двигается и даже ведет беседу — вроде бы об искусстве, а на самом деле о смерти.
— Приходите в любое время, — обращается он к О’Брайену и Хексу. — Вы знаете, где находятся мои картины. Только не забудьте зажечь свет.
Он доезжает на такси до Пенсильванского вокзала. Скотт догадывается, что, поскольку журналистам было известно о похоронах, кто-то из них вполне мог последовать за ним. Входя в помещение вокзала, он успевает заметить, как у обочины тормозит зеленый джип-паркетник, из которого на тротуар выпрыгивает мужчина в джинсовой куртке. Скотт быстро спускается в метро на платформу номер три, с которой поезд должен отправиться в центр города. Затем делает петлю и перебирается на платформу, с которой поезда идут в сторону окраины. На противоположном перроне он замечает своего преследователя. В руках тот держит фотоаппарат. Когда к платформе, на которой стоит Скотт, уже приближается поезд, мужчина успевает заметить преследуемого и поднимает камеру к лицу, чтобы сделать снимок. Скотт прикрывает лицо рукой и отворачивается. Поезд со скрежетом тормозит. Скотт входит в вагон и опускается на сиденье, по-прежнему прикрывая лицо ладонью. Сквозь растопыренные пальцы он наблюдает за происходящим на противоположной платформе. Затем чувствует толчок — поезд начинает набирать скорость. Скотт успевает заметить, что человек в джинсовой куртке продолжает держать фотоаппарат наготове.
Проехав в сторону окраины три остановки, Скотт выходит из вагона и садится в автобус, идущий в обратном направлении. Он чувствует, что оказался в совсем другом мире, полном подозрительности и недоверия. Здесь нет времени для абстрактных мыслей. Быть художником означает жить в реальности и в то же время вне ее. Там, где инженер видит форму и функцию, художник видит нечто совершенно другое. Для инженера тостер — это электромеханическое устройство, подвергающее кусочки хлеба тепловой обработке. А для художника это аппарат, создающий, по крайней мере, иллюзию домашнего уюта и комфорта. Если же попытаться представить тостер в виде живого существа, скажем, человека, то это будет пожиратель хлеба. Раз за разом он открывает рот, в который вставляются все новые и новые хлебные ломти. Бедный, бедный мистер Тостер. Его проблема в том, что он никогда не сможет насытиться.
На ланч Скотт съедает тарелку овсянки. Он все еще во взятом напрокат черном костюме, узел его галстука по-прежнему скособочен. Скотту почему-то кажется, что, переодевшись сразу же после возвращения с похорон, он проявит неуважение к погребенной. О смерти нельзя забывать так легко и быстро. Поэтому он садится за стол и поглощает кашу, одетый как владелец бюро ритуальных услуг.
Он стоит у раковины, моет тарелку и ложку, когда входная дверь в апартаменты с шумом открывается. Скотт знает, что это Лейла — о том говорит стук каблуков и запах дорогих духов.
— Вы одеты? — громко спрашивает она, подходя к двери кухни.
Скотт ставит тарелку в сушилку.
— Да, все в порядке, — отвечает он. — Знаете, я все время думаю, зачем вы держите здесь столько посуды и других вещей. Ковбои путешествовали по стране, имея при себе всего одну тарелку, ложку и вилку.
— Вы хотите сказать, что вы ковбой?
Скотт возвращается в гостиную и садится на диван. Лейла приподнимает покрывало с крышки бара и наливает себе что-то в стакан.
— Вы что, стараетесь держать спиртное в тепле, или…
— Я алкоголик, — говорит Скотт. — Во всяком случае, мне так кажется.
Лейла отхлебывает глоток напитка.
— Вот как. Вам так кажется.
— Думаю, что не ошибаюсь. Во всяком случае, если я начинаю пить, то остановиться уже не могу.
— Мой отец — самый богатый алкоголик на планете. Журнал «Форбс» как-то опубликовал статью про то, что он, должно быть, за год выпивает элитного спиртного на триста тысяч долларов.
— Это достойно того, чтобы отметить на надгробной плите.
Лейла улыбается и, сбросив туфли, садится на диван, поджав одну ногу под себя.
— Вы надели костюм Сержа, — говорит она.
— Извините.
Скотт инстинктивно хватается за галстук.
— Ничего страшного. Он сейчас, кажется, в Румынии — в поисках своего следующего эпического траха.
Скотт смотрит на ее стакан. Лейла пьет шотландский виски. По окну стекают струи дождя.
— Однажды я съел грушу в пустыне штата Аризона, — говорит он. — Это оказалось лучше, чем любой секс, который у меня когда-либо был.
— Будьте осторожны, — предупреждает Лейла. — Я могу воспринять это как вызов.
После того как она уходит, Скотт несет ее стакан в кухню и моет, пустив воду сильной струей. В стакане еще остается немного виски, и, прежде чем вылить его в раковину, Скотт вдыхает знакомый запах. «Наша жизнь полна соблазнов», — думает он и ставит вымытый стакан вверх дном в сушилку.
Затем Скотт отправляется в спальню и, не снимая костюма, ложится на кровать. Он пытается представить, что такое быть мертвым. Ему это не удается, и тогда он выключает свет. Капли дождя барабанят по оконному стеклу и подоконнику. Скотт смотрит на потолок. Белый интерьер апартаментов напоминает ему нетронутый холст. Словно тот, кто попадает сюда, должен за время своего пребывания в этой странной квартире решить, как ему жить дальше.
«Интересно, какие картины я теперь буду рисовать», — думает Скотт.
Нити и следы
Ответ существовал, просто они его еще не получили. Именно это говорил своим боссам Гэс Франклин, когда они начинали на него давить. Со времени авиакатастрофы прошло десять дней. Все обнаруженные и извлеченные из воды обломки свозились в ангар военно-морской базы на Лонг-Айленде: шестифутовый фрагмент крыла, откидной столик, часть кожаного подголовника. Сюда же должны были привезти и тела остальных погибших, если они окажутся вблизи того места, где найдены обломки воздушного судна, а не будут выброшены волнами на берег, как было с Эммой Лайтнер, или попадут в рыбацкие сети, как в случае с Сарой Киплинг. Останки двух погибших женщин были отправлены в местные морги, и забрать оттуда их удалось лишь по прошествии определенного времени и после предъявления официального предписания федеральных властей. При расследовании авиакатастроф, случающихся в прибрежных водах, вопросы юрисдикции и полномочий всегда были серьезной головной болью.
Поисковая операция продолжается день за днем. Снова и снова аквалангисты надевают гидрокостюмы, пилоты вертолетов запускают двигатели своих машин, капитаны кораблей береговой охраны изучают на карте новый квадрат. Затем все участники операции принимаются за свою монотонную, крайне утомительную и весьма небезопасную работу. В океанской пучине царит темнота. Течение то и дело меняет направление. То, что тяжелее воды, опускается на дно. Так или иначе, чем больше проходит времени, тем меньше шансов найти объекты поисков. Иногда, когда тот или иной участок кажется перспективным, Гэс садится в вертолет и отправляется на флагманское судно. Стоя на палубе, он помогает координировать действия поисковых групп, наблюдая за чайками. Но даже в этих случаях Гэс практически бездействует. Он авиационный инженер, специалист по самолетам и способен обнаружить неисправность в системе любого воздушного судна. Проблема состоит в том, что для того, чтобы применить свои знания, Гэс должен иметь возможность изучить эти системы — силовую, гидравлическую и прочие. А в его распоряжении имеется лишь небольшой кусок крыла.
Впрочем, даже в этом случае можно представить картину катастрофы. По фрагменту крыла эксперты определили, что самолет упал в воду вертикально, под прямым углом, словно морская птица, ныряющая за рыбой. Это нетипично для самолета, экипаж которого пытается планировать. Такой угол падения предполагает ошибку в пилотировании или намеренный ввод машины в штопор. Правда, Гэс напомнил всем остальным, что самолет мог снижаться под естественным острым углом к поверхности океана, но в последний момент удариться носом о большую волну и войти в воду вертикально именно по этой причине. Другими словами, ничего нельзя было сказать с полной уверенностью.
Через несколько дней после катастрофы с Блок-Айленда был замечен крупный обломок хвостовой части самолета. Это дало возможность в первом приближении оценить состояние гидравлической системы. Она, судя по всему, дефектов не имела — по крайней мере, на первый взгляд. На следующий день на пляже Монток были найдены два чемодана — один из них практически не пострадал, второй оказался открытым и, разумеется, пустым. Все это напоминало поиски иголки в стоге сена, но почти каждый день приносил какую-нибудь новую находку. Однако четыре дня назад удача отвернулась от участников операции. С тех пор не удалось обнаружить ровным счетом ничего. Теперь Гэс опасается, что фюзеляж самолета так и не удастся найти, как и тела остальных погибших.
Каждый день на него наседают вашингтонские руководители, на которых, в свою очередь, оказывают весьма жесткое давление генеральный прокурор и некий рассерженный миллиардер, требующий как можно быстрее найти ответы на все вопросы и покончить с этой историей.
Ответы есть, просто мы их еще не знаем, убеждает сам себя Гэс Франклин.
В четверг, сидя за большим столом, за которым устроились еще двадцать пять чиновников, он рассказывает о ходе поисковой операции, повторяя то, что и так всем известно. Совещание проходит в принадлежащем федеральному правительству здании на Бродвее. Агент ФБР О’Брайен и представитель комиссии по ценным бумагам и биржам Хекс чувствуют себя здесь словно рыба в воде, как и примерно полдюжины их коллег. Для О’Брайена расследуемая авиакатастрофа — лишь часть другой, более масштабной истории, свидетельствующей о террористической угрозе и попытке ущемить интересы США. Для Хекса она — один из эпизодов войны, которую ведут против американской экономики миллионеры и миллиардеры, тратящие огромные средства ради того, чтобы с выгодой для себя нарушать все законы и правила. Гэс Франклин — единственный человек в зале, который рассматривает это происшествие как нечто уникальное, непохожее на другие катастрофы самолетов.
Как на случившееся с совершенно конкретными людьми и совершенно конкретным воздушным судном.
Рядом с Гэсом сидит руководитель частной охранной фирмы, отвечавшей за безопасность семьи Уайтхед. Он описывает процедуру, используемую возглавляемой им компанией для оценки возможных рисков. С ним на совещание прибыли еще шесть человек, которые, повинуясь жестам руководителя, один за другим передают ему какие-то документы. В этот момент он говорит:
— …в постоянном контакте с сотрудниками министерства внутренней безопасности, поэтому, если бы возникла какая-либо угроза, мы смогли бы узнать об этом уже через несколько минут.
Сидя за столом, Гэс смотрит на свое отражение в оконном стекле. Мысленно он находится на палубе катера береговой охраны и продолжает вглядываться в бесконечную череду волн или стоит на капитанском мостике фрегата военно-морских сил и изучает данные, поступающие с гидролокатора.
— Я лично внимательнейшим образом изучил всю информацию, собранную нашими сотрудниками за шесть месяцев, предшествовавших катастрофе, и могу с полной уверенностью сказать: мы ничего не упустили. Если кто-то и охотился на Уайтхедов, то он никак себя не обнаружил, — заканчивает свое выступление руководитель охранного агентства.
Гэс благодарит его и дает слово агенту Хексу, который начинает с рассказа о правительственном расследовании, касающемся Бена Киплинга и его инвестиционной компании. Он сообщает, что, как и планировалось, на следующий день после авиакатастрофы, то есть в понедельник, целому ряду людей были предъявлены обвинения, но гибель Киплинга позволила его партнерам сделать из него козла отпущения. Все они заявили, что схемы отмывания денег, которые поступали из государств, входящих в санкционный список, были исключительно его детищем и по документам реализовывались Киплингом как совершенно легальные. Поэтому никто ни о чем не знал и не мог даже заподозрить что-либо подобное. В общем, им удалось вывернуться. Каждый из них заявлял: «Я в данной ситуации не преступник, а жертва».
Часть счетов фирмы, а точнее, восемнадцать из них, заморожены. Общий объем находящихся на них средств — шесть миллиардов сто миллионов долларов. По мнению следствия, эти деньги поступили из пяти государств — Ливии, Ирана, Северной Кореи, Судана и Сирии. Из распечатки телефонных переговоров Киплинга ясно, что Барни Калпеппер звонил ему за пять минут до вылета с Мартас-Вайнъярд. Содержание разговора Калпеппер сообщить отказался. Однако совершенно ясно, что цель звонка состояла в том, чтобы предупредить Киплинга, что ему собираются предъявить обвинение.
С точки зрения самого Хекса и его руководства из комиссии по ценным бумагам и биржам, авиакатастрофу организовало одно из враждебных США государств, чтобы заставить молчать Киплинга и завести в тупик расследование. Возникает вопрос: когда именно Киплинги были приглашены лететь одним рейсом с Уайтхедами? Генеральный директор охранной фирмы, справившись с имеющимися у него данными, заявляет, что в день катастрофы в 11:18 поступил доклад от телохранителя семьи Уайтхед. В нем сообщалось о беседе с главным охраняемым лицом — Дэвидом Уайтхедом, условное обозначение Кондор, в ходе которой тот сказал, что Бен и Сара Киплинг полетят обратно в Нью-Йорк вместе с ним и его семьей.
— Скотт, — негромко произносит Гэс.
— Что? — переспрашивает Хекс.
— Художник, — поясняет Гэс. — Он сказал, что Мэгги пригласила Сару и ее мужа. Она сделала это утром в воскресенье на местном фермерском рынке. Скотт к этому времени тоже получил аналогичное приглашение. Проверьте по записям, но мне кажется, это произошло в пятницу днем. Он случайно встретил Мэгги и ее детей в какой-то кофейне.
Гэс вспоминает свой последний разговор со Скоттом, который происходил в такси рядом с кладбищем. Франклин надеялся выяснить все поподробнее, попросить Скотта вспомнить по минутам: как он поднимался на борт, как проходил полет — все до мелочей. Но ему помешали О’Брайен и Хекс.
«За отсутствием фактов мы рассказываем друг другу истории», — думает Гэс.
Именно этим занимаются и СМИ — Си-эн-эн, Твиттер, «Хаффингтон пост» — круглосуточными, ни на чем не основанными спекуляциями. Издания с более приличной репутацией стараются придерживаться фактов и строить свои комментарии на их основе. Однако остальные действуют иначе — придумывают версии, зачастую совершенно неправдоподобные, превращают трагедию в некое подобие мыльной оперы, в которой в качестве главных персонажей выступают донжуан-художник и его богатые покровители.
Гэс думает о маленьком мальчике, который живет теперь со своими тетей и дядей где-то в долине реки Гудзон. Два дня назад он ездил туда, сидел у них на кухне и пил травяной чай. Для допроса малолетнего ребенка не бывает подходящих моментов. Нет для этого и специальной методики. Трудно полагаться даже на воспоминания взрослых людей, а тем более — на слова малыша, перенесшего психологическую травму.
— Он очень мало разговаривает, — сообщила Элеонора, ставя перед Гэсом чашку с чаем. — С тех самых пор, как мы привезли его сюда. Доктор считает, что это нормально. Ну, не то чтобы совсем нормально, но и ничего необычного в этом нет.
Ребенок сидел на полу и играл с пластмассовым погрузчиком. Дав ему время привыкнуть к присутствию в доме постороннего мужчины, Гэс осторожно опустился на пол рядом с ним.
— Джей-Джей, — сказал он, — меня зовут Гэс. Мы с тобой уже встречались. В больнице.
Мальчик, подняв голову, прищурился, внимательно глядя на него, а затем снова занялся своей игрушкой.
— Я хотел немного поговорить с тобой про самолет. Про то, как ты летел на самолете с мамой и папой.
— И сестрой, — поправил Гэса мальчик.
— Верно. И со своей сестренкой.
Гэс сделал небольшую паузу, надеясь, что ребенок заговорит. Но мальчик молчал.
— Скажи, ты помнишь самолет? Я знаю, что ты был в самолете. Скотт сказал мне, что ты спал, когда он взлетел.
При упоминании имени Скотта ребенок поднял голову, но ничего не произнес. Гэс ободряюще кивнул ему.
— Скажи, ты просыпался до того, как…
Ребенок посмотрел на Элеонору, которая тоже уселась на пол неподалеку.
— Ты можешь рассказать ему, милый. Расскажи ему все, что помнишь.
Мальчик на какое-то время задумался, а затем, схватив погрузчик, с силой ударил им о стул.
— Рааааар! — закричал он.
— Джей-Джей, — окликнула его Элеонора. Но мальчик не обратил на это внимания. Вскочив, он начал бегать по комнате, колотя игрушкой по стенам и шкафам.
Гэс понимающе кивнул и с трудом поднялся на ноги. При этом у него громко хрустнули колени.
— Все в порядке, — заверил он. — Если ребенок что-нибудь вспомнит, это всплывет само. Лучше на него не давить.
Тем временем в конференц-зале обсуждается вопрос о том, могла ли устроить авиакатастрофу группа боевиков, например, из Ливии или Северной Кореи. Наиболее вероятный сценарий — бомба, заложенная в Тетерборо или на аэродроме на Мартас-Вайнъярд. Участники совещания принимаются спорить о том, где можно было спрятать взрывное устройство. Внешняя поверхность самолета исключается, поскольку перед взлетом пилот проводил тщательный наружный осмотр воздушного судна.
Гэс беседовал с техниками наземной службы аэропорта, которые заправляли самолет на взлетно-посадочной полосе. Это простые рабочие с массачусетским выговором, которые пьют зеленое пиво в День святого Патрика и едят хот-доги в праздник Четвертого июля. По мнению Гэса, подозревать их в связях с террористами нет никаких оснований. После оживленной дискуссии ее участники приходят к выводу, что вряд ли кто-то мог пробраться на борт и установить бомбу в салоне.
О’Брайен уже не в первый раз высказывает идею о том, что они должны внимательно изучить личное дело Чарли Буша, который был включен в состав экипажа в последний момент. По словам фэбээровца, имеются неподтвержденные слухи, что у второго пилота могли быть близкие отношения со стюардессой Эммой Лайтнер. Гэс напоминает О’Брайену, что дело Буша уже изучалось. Если верить его содержанию, Чарли Буш был родом из Техаса, являлся племянником сенатора и дамским угодником. Однако ничто в его биографии или послужном списке не указывало на то, что он мог преднамеренно вызвать авиакатастрофу. На террориста, вне всякого сомнения, второй пилот ни в коей мере похож не был.
Накануне Гэса вызывали в Вашингтон, где он встречался с дядей Чарли Буша, сенатором Бэрчем. Тот был долгожителем верхней палаты конгресса, занимал сенаторское кресло уже четвертый срок подряд. Это крупный мужчина с седой головой и широкими плечами, напоминающими, что когда-то он играл полузащитником в студенческой футбольной команде.
Руководитель аппарата сенатора расположился неподалеку и принялся быстро скользить пальцами по клавиатуре смартфона, отправляя сообщения. Он явно был готов в любой момент вмешаться в беседу, если она примет нежелательное направление.
— Итак, каков ваш ответ? Что стало причиной катастрофы? — спросил Бэрч.
— Об этом пока рано говорить, сэр, — ответил Гэс. — Нам нужно найти самолет, изучить состояние всех его систем, поднять на поверхность тела.
— Ну и история. — Бэрч задумчиво потер ладонью лицо. — Уайтхед и Киплинг разом. И Чарли… Бедная моя сестра.
— Да, сэр.
— Что касается Чарли, то он был хорошим ребенком. В молодости, пожалуй, казался довольно беспутным малым, но потом поумнел, насколько я могу судить. Сумел кое-чего добиться в жизни. А что говорят люди Джима Купера в «Галл-Уинг»?
— Послужной список у него хороший. Не блестящий, но хороший. Нам известно, что в ночь, предшествующую катастрофе, он был в Лондоне. Мы знаем, что он общался там с большим количеством своих коллег по «Галл-Уинг», в том числе с Эммой Лайтнер. Но, насколько мы можем судить, это был обычный вечер, ничего особенного. Чарли и Эмма вместе с другими коллегами посетили бар. Эмма ушла оттуда довольно рано. В тот вечер ваш племянник в какой-то момент поменялся рейсами с Мишелем Гастоном. Чарли не должен был оказаться на рейсе 613.
— Значит, такая судьба. Ему просто не повезло, — покачал головой Бэрч.
Гэс склонил голову набок, как бы желая сказать: может, это было невезение, а может, и нет.
— На следующий день ваш племянник вылетел чартером в Нью-Йорк вместо Гастона. А почему, мы пока не знаем. Гастон показал, что поменяться ему предложил именно Чарли, которому просто захотелось в Нью-Йорк. Похоже, ваш племянник был довольно импульсивным.
— Он был молод.
— Здесь могла быть замешана какая-то женщина.
На лице Бэрча появляется недовольная гримаса.
— И что из этого? Он был симпатичным парнем, но безалаберным и часто выезжал на своей улыбке. Если бы Чарли был моим сыном, я бы его порол и, возможно, вбил ему в голову понятие дисциплины. Но мать его баловала и всегда оправдывала. Я сделал для него все, что мог, — сделал нужные звонки, устроил его в школу пилотов, помог найти свой путь в жизни.
Гэс кивнул. Его интересовало не столько то, каким человеком был второй пилот, сколько то, в каком физическом и душевном состоянии он находился непосредственно перед катастрофой. Самолет не мог упасть оттого, что второй пилот рос без отца. Биография не отвечает на главный вопрос, который волнует Гэса. Что произошло за те восемнадцать минут с момента отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы до его падения в океан? Было ли оно вызвано какими-то механическими неисправностями или чем-то другим?
Сенатор Бэрч, решив, что встречу пора заканчивать, кивнул своему помощнику, а затем встал и протянул Гэсу руку.
— Если при расследовании этого дела возникнут какие-то обстоятельства, которые могут бросить тень на Чарли, я хочу, чтобы вы мне сразу же об этом сообщили. Не прошу вас делать что-либо незаконное — просто предупредите меня. Хотелось бы по возможности оградить мать парня от лишних неприятностей.
Гэс, тоже встав, пожал сенатору руку:
— Конечно, сэр. Спасибо, что уделили мне время.
Теперь, сидя в конференц-зале, Гэс разглядывает свое отражение в окне, рассеянно слушает разговоры одетых в строгие костюмы мужчин, расположившихся вокруг стола, и думает о том, что происходящее совещание — пустая трата времени. Для того чтобы сделать какие-то выводы, нужен самолет или его остатки. До тех пор, пока он не найден, участники расследования могут лишь строить предположения — но не более.
Хекс легонько хлопает Гэса по плечу. Оказывается, к нему обращается О’Брайен.
— Что вы сказали? — спрашивает Гэс.
— Я сказал, что у меня есть ордер, — заявляет О’Брайен.
— На что?
— На осмотр картин. Мы изъяли их из студии Бэрроуза час тому назад.
Гэс устало трет пальцами глаза. Из личного дела О’Брайена он знает, что отец фэбээровца был директором школы-интерната, название которой вылетело сейчас из головы. Вероятно, старший О’Брайен воспитал сына в весьма специфической манере, с детства привив ему неудержимое желание судить и карать. Теперь агент О’Брайен, очевидно, считает это делом своей жизни.
— Между прочим, этот человек спас жизнь ребенку, — замечает Гэс.
— Он оказался в нужное время в нужном месте, и я хочу знать почему.
Гэс старается сдержать закипающий гнев.
— Я занимаюсь расследованиями уже двадцать лет, — сообщает он. — И за эти двадцать лет мне ни разу не приходилось встречать людей, которые считали бы, что оказаться на борту самолета, потерпевшего катастрофу, значит попасть «в нужное место в нужное время».
О’Брайен пожимает плечами.
— Я дал вам шанс воспользоваться ситуацией и представить дело так, будто это ваша идея. Но теперь я запишу ее на свой счет.
— Распорядитесь, чтобы картины доставили в ангар, — говорит Гэс и прежде, чем О’Брайен успевает запротестовать, добавляет: — Вы правы, на них надо взглянуть. Я предпочел бы сделать это иначе, но теперь уже поздно. Вы изъяли произведения искусства, созданные человеком, который вскоре может получить Почетный орден конгресса из рук президента. Вам кажется, он что-то скрывает. А может, вы просто не можете смириться с тем, что жизнь полна случайных совпадений? Однако в любом случае решения здесь принимаете не вы. Так что собирайте свои вещички. Я отстраняю вас от расследования и отправляю обратно в ФБР.
О’Брайен с ненавистью смотрит на Гэса, играя желваками, и медленно встает.
— Что ж, посмотрим, — говорит он и выходит из конференц-зала.
Картина № 3
Вы находитесь под водой. Внизу, под вами, черная темнота. Вверху светлеющие серые тона словно намекают на то, что могут превратиться в белые. В этой серой мгле видны какие-то черные кресты. Вы замечаете их не сразу. Но через некоторое время, когда ваши глаза привыкают к серому фону, оказывается, что крестов много и это не особенность техники художника, а некий содержательный элемент произведения.
В правом нижнем углу ваше внимание привлекает что-то блестящее, отражающее луч света, проникающий с поверхности воды. Приглядевшись, вы различаете буквы — «Ю.С.С.» Вторая буква «С» видна лишь наполовину — часть ее тонет в чернильной мгле пучины. Затем ваш взгляд притягивает какой-то предмет, расположенный совсем рядом с нижним обрезом картины. Виден только его край, имеющий треугольную форму.
Именно в этот момент вы вдруг понимаете, что кресты — это человеческие тела.
РАСШИФРОВКА
ДОКУМЕНТ, ПОЛУЧЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ УТЕЧКИ, ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО НАЛИЦО НАПРЯЖЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ РАССЛЕДОВАНИЯ. ОНА ВОЗНИКЛА ИЗ-ЗА РАЗНОГЛАСИЙ ПО ПОВОДУ РОЛИ ТАИНСТВЕННОГО ПАССАЖИРА, ЯКОБЫ СЛУЧАЙНО ОКАЗАВШЕГОСЯ НА БОРТУ САМОЛЕТА.
(10 сентября 2015 года, 20:16)
БИЛЛ КАННИНГЕМ, ВЕДУЩИЙ: Добрый вечер, Америка. Я Билл Каннингем. Мы прерываем наш плановый эфир, чтобы предложить вашему вниманию специальный репортаж. В распоряжении канала Эй-эл-си оказалась докладная записка для внутреннего пользования. Ее автор — специальный агент ФБР Уолтер О’Брайен. Написана она всего несколько часов назад и адресована представителю Национального комитета безопасности перевозок Гэсу Франклину, ведущему расследование авиакатастрофы. В записке обсуждаются существующие версии авиапроисшествия и поднимается вопрос о присутствии на борту самолета Скотта Бэрроуза, который остался в живых после трагедии и был представлен общественности как герой.
НАЧАЛО ВИДЕОЗАПИСИ
Каннингем: Как хорошо видно на экране, документ, о котором идет речь и тон которого поначалу является вполне дружелюбным, демонстрирует явные разногласия между участниками расследования по поводу того, в каком направлении оно должно вестись дальше. Как следует из этой записки, в настоящий момент разрабатываются четыре основные версии. Первая — техническая неисправность самолета. Вторая — ошибка пилота. Третья формулируется как «саботаж, целью которого могла быть приостановка правительственного расследования деятельности Бена Киплинга и его инвестиционной компании». И наконец, последняя — теракт, направленный против ДэвидаУайтхеда, главы компании Эй-эл-си ньюс.
Но есть еще пятая версия, которая впервые была выдвинута нашим каналом, и она ставит под вопрос роль, которую сыграл в случившейся трагедии Скотт Бэрроуз. Эту версию агент О’Брайен попытался развить в беседе с руководителем расследования, однако получил в ответ резкую отповедь. Вот что он пишет — я цитирую: «И хотя мне известно, что вы лично заявили о том, что не считаете эту пятую версию перспективной, я считаю необходимым изложить ее в письменном виде и подчеркнуть, что, по моему мнению, пассажир Скотт Бэрроуз или знает больше, чем говорит, или так или иначе причастен к катастрофе самолета».
А теперь, друзья, послушайте, чем мистер О’Брайен обосновывает свои подозрения. Я снова цитирую: «Результаты опроса местных жителей и рыночных торговцев дают основания предполагать, что Бэрроуз и миссис Уайтхед, жена Дэвида Уайтхеда, находились в очень близких, интимных отношениях. На это указывает тот факт, что они прилюдно обнимались на улице. Известно также, что миссис Уайтхед посещала студию мистера Бэрроуза, якобы с целью посмотреть его работы».
Дорогие телезрители, будучи личным другом семьи Уайтхед, я могу вам сказать, что не собираюсь легко брать эти слова на веру и вовсе не пытаюсь утверждать, что в данном случае имела место любовная связь. Но меня продолжает мучить вопрос о том, почему мистер Бэрроуз оказался на борту разбившегося самолета. Хорошо, допустим, он и миссис Уайтхед были друзьями, даже близкими друзьями. В этом нет ничего предосудительного. Но вот то, что пишет агент О’Брайен дальше, на мой взгляд, является настоящей бомбой.
Я продолжаю цитировать его записку: «Беседы с агентом мистера Бэрроуза в Нью-Йорке подтверждают, что у него были назначены встречи с несколькими владельцами картинных галерей. В ходе последующих расспросов выяснилась одна деталь, которая меня поразила. Я имею в виду сюжеты работ мистера Бэрроуза, написанных в последнее время. По словам миссис Криншоу, таковых имеется пятнадцать, и все они представляют собой весьма реалистичные изображения последствий катастроф, в том числе крупных аварий на транспорте. Среди них, в частности, имеются картины, на которых изображено: а) крушение поезда, б) вызванная туманом крупная автомобильная авария на скоростном шоссе, в) катастрофа большого пассажирского авиалайнера».
Далее агент О’Брайен пишет: «С учетом всего вышеизложенного я считаю необходимым продолжить допрос человека, который как минимум является единственным свидетелем событий, которые предшествовали авиакатастрофе, а также тщательно проверить правдивость его заявлений о том, что в момент аварии он потерял сознание».
Леди и джентльмены, я не могу понять, почему Гэс Франклин, возглавляющий комиссию по расследованию, не прислушался к мнению человека, который, что совершенно очевидно, является опытным агентом одной из самых уважаемых правоохранительных структур нашей страны. Возможно, у мистера Франклина есть собственный план действий? Или организация, на которую он работает, испытывает давление со стороны нынешней либеральной администрации, желающей побыстрее замять эту историю, чтобы в стране не поднялась волна общественного возмущения из-за гибели нашего лидера, руководителя компании Дэвида Уайтхеда?
С продолжением истории — репортер Эй-эл-си Моника Форт.
Союзники
Въезжая на аллею, ведущую к дому, Элеонора видит припаркованный под вязом незнакомый автомобиль. Это паркетный внедорожник «порше» с табличкой «пресса» за лобовым стеклом. При виде таблички Элеонору охватывает приступ паники. Она боится за мальчика, который находится в доме с ее матерью. Элеонора выскакивает из машины, бросив Дуга одного в салоне, и бежит к двери.
— Мама! — громко кричит она, врываясь в дом и, видя, что в гостиной никого нет, мчится по коридору, заглядывая в комнаты. — Мама!
— Я на кухне, милая.
Элеонора бросает рюкзак на стул и бежит на голос.
— Привет, дорогая, — говорит мать, когда Элеонора добирается наконец до кухни.
За столом сидит мужчина в костюме и красных подтяжках.
— Мама, — жестко произносит Элеонора.
Мужчина поворачивает голову в ее сторону:
— Здравствуйте, Элеонора.
Элеонора замирает — она узнает телеведущего Билла Каннингема. Разумеется, она встречалась с ним и раньше — на вечеринках, которые устраивали Дэвид и Мэгги. Но для нее он — не знакомый человек, а говорящая голова с телеэкрана с изборожденным морщинами лбом, рассуждающая о моральном банкротстве либерализма. Билл разводит руки в стороны, словно ждет, что Элеонора бросится к нему в объятия.
— Бывают ситуации, когда мы должны терпеть и держаться во что бы то ни стало, — говорит он. — Если бы вы знали, на скольких похоронах мне довелось побывать за последние десять лет…
— Где Джей-Джей? — спрашивает Элеонора, оглядываясь по сторонам.
— Наверху, в своей комнате, — сообщает мать, наливая ей в чашку чай.
— Один?
— Ему четыре года, — отвечает мать. — Если ему будет что-нибудь нужно, он вполне в состоянии об этом попросить.
Элеонора разворачивается и возвращается в холл.
— Кто это у нас? — спрашивает только что вошедший в дом Дуг.
Не обратив на него внимания, Элеонора поднимается по лестнице, шагая через две ступеньки. Мальчик действительно находится в своей комнате — он играет с двумя пластиковыми динозаврами. Шагнув через порог, Элеонора переводит дух и изображает на лице улыбку.
— Ну, вот мы и вернулись, — произносит она.
Ребенок смотрит на нее и улыбается. Элеонора садится на пол рядом с ним.
— Извини, что так долго, — продолжает она. — Движение было очень плотное, и к тому же Дуг проголодался.
Мальчик указывает пальцем на свой рот.
— Ты тоже хочешь есть? — уточняет Элеонора.
Джей-Джей кивает. Элеоноре не хочется вместе с ребенком спускаться на кухню, и она уже намеревается принести какую-нибудь еду в комнату. Но затем интуиция подсказывает, что с мальчиком на руках ей будет легче в обществе непрошеного гостя.
— Ладно, пойдем.
Элеонора протягивает к Джей-Джею руки. Он обнимает ее. Элеонора выпрямляется, поднимая его с пола, и несет ребенка вниз по лестнице, а он тем временем играет с ее волосами.
— Там, на кухне, чужой мужчина, — предупреждает она малыша. — Тебе не обязательно с ним разговаривать, если не хочешь.
Билл сидит там же, где и прежде. Дуг роется в холодильнике.
— У меня есть бельгийский эль, — предлагает он, — и еще пиво, которое мои друзья делают на микропивоварне в Бруклине.
— Удивите чем-нибудь необычным, — говорит Билл и в этот момент видит Элеонору и Джей-Джея.
— Вот он! — восклицает Каннингем. — Маленький принц.
Дуг, достав из холодильника две бутылки пива, изготовленного его приятелями, подходит к столу.
— Это пльзеньское, — поясняет он, — не особенно крепкое.
— Отлично. — В голосе Каннингема звучит плохо скрытое пренебрежение. Он ставит бутылку на стол, даже не взглянув на нее, и улыбается мальчику. — Надеюсь, ты помнишь своего дядю Билла.
Элеонора поворачивается к Каннингему боком, так, чтобы мальчик был подальше от него.
— Значит, это вроде визита родственника? — интересуется она.
— А что же еще? Извините, но я не мог выбраться сюда раньше. Когда новости становятся вашей жизнью, возникает множество проблем. Но ведь кто-то должен говорить людям правду.
«Так вот чем ты занимаешься? А я полагала, что ты всего лишь сообщаешь новости», — думает Элеонора.
— Ну и какие новости по поводу этого самолета? — интересуется Дуг, прихлебывая пиво. — Мы здорово заняты ребенком и потому, понимаете, не всегда успеваем посмотреть телевизор…
— Разумеется, — откликается Билл. — Обломки самолета все еще ищут.
Элеонора изумленно качает головой. «Они что, сумасшедшие?»
— Пожалуйста, не надо. Не при Джей-Джее, — говорит она.
Дуг недовольно сжимает губы. Он не любит, когда женщины делают ему замечания, особенно в присутствии других мужчин. Элеонора понимает это. Посадив ребенка на стул, она идет к холодильнику.
— Ваша жена права, — соглашается Каннингем. — Женщины разбираются в деликатных ситуациях лучше нас. Мы обычно концентрируем внимание на фактах. Пытаемся понять, чем конкретно можем помочь, и забываем о чувствах.
Элеонора пытается отвлечь племянника от этого разговора, покормив его. Он не то чтобы капризен, но довольно разборчив в еде. К примеру, с удовольствием ест прессованный творог, а не сливочный сыр, любит сосиски, но терпеть не может салями.
Каннингем тем временем решает, что должен добиться от ребенка улыбки.
— Так ты помнишь дядю Билла, верно? — повторяет он свой вопрос. — Я видел, как тебя крестили.
Элеонора протягивает мальчику чашку с водой. Он пьет.
— И на церемонии крещения твоей сестры я тоже был, — продолжает гнуть свое Каннингем. — Она была очень красивой девочкой.
Элеонора сверлит Билла возмущенным взглядом. Смысл его очевиден — «думай, что говоришь». Каннингем понимающе кивает и без колебаний меняет тему разговора, стараясь показать, что готов к сотрудничеству и они вместе делают важное дело.
— Да, я нечасто тебя навещал. Но у меня было много работы, и к тому же в последнее время мы с твоим отцом не всегда хорошо понимали друг друга — может, потому, что постоянно находились рядом. Но мы симпатизировали друг другу. Особенно я твоему отцу. Однако в какой-то момент между нами возникло отчуждение. Так бывает между взрослыми людьми. Со временем ты сам это поймешь. Конечно, было бы лучше, если этого не произошло. Но, скорее всего, и в твоей жизни настанет такой этап. Мы слишком много работаем, жертвуя при этом чем-то важным.
— Мистер Каннингем, — прерывает Билла Элеонора. — Я очень рада вашему визиту, но после еды мальчику нужно поспать.
— Нет, не нужно. Он уже поспал сегодня в первой половине дня, — внезапно заявляет мать Элеоноры, Бриджит Данкирк. Та смотрит на мать с плохо скрываемым возмущением. Бриджит всегда любила угодить малознакомым людям, особенно мужчинам. Ее муж бросил их, когда Элеонора начала посещать колледж. После развода он переехал во Флориду. Теперь отец живет в Майами и встречается с разведенными дамами с силиконовыми бюстами. Кстати, он должен приехать проведать Элеонору после отъезда Бриджит.
Билл замечает напряженность, возникшую между матерью и дочерью. Он переводит взгляд на Дуга, который приподнимает уже наполовину опустевшую бутылку с пивом, словно хочет произнести тост.
— Ну как, классное? — спрашивает он, не замечая, что Билл к напитку даже не притронулся.
— Что? — не понимает Каннингем.
— Пиво.
Не ответив, Билл протягивает руку и ерошит волосы мальчика. Четыре часа назад в офисе Дона Либлинга он выдержал жесткую стычку с Гэсом Франклином из Национального комитета безопасности перевозок и представителями министерства юстиции. Они заявили, что хотят знать, где он взял записку О’Брайена.
— Еще бы, конечно, хотите, — ответил он, засунув большие пальцы за подтяжки.
Дон Либлинг, поправив галстук, подчеркнул, что компания Эй-эл-си не раскрывает свои источники информации.
— Это не пройдет, — заявил сотрудник минюста.
У Франклина, внушительного вида чернокожего мужчины, похоже, была своя версия случившегося.
— Это сам О’Брайен передал вам записку? Из-за того, что произошло между нами?
Билл лишь пожал плечами.
— Во всяком случае, она не упала с неба, — заявил он. — Это все, что я могу сказать. Мне уже приходилось бывать в суде и отстаивать наше право не разглашать источники, из которых мы получаем те или иные сведения. Буду рад сделать это еще раз. И, кстати, если не ошибаюсь, теперь вы не можете держать свои машины на нашей парковке бесплатно.
После того как негодующие Франклин и люди из минюста ушли, Либлинг плотно закрыл дверь своего кабинета.
— А теперь расскажи мне все, как есть, — потребовал он, обращаясь к Биллу.
Каннингем уселся на диван, вытянул ноги и произнес целый монолог. Да, он воспитывался без отца, а его мать была слабой женщиной, хватавшейся за случайных мужчин, как утопающий за соломинку. Зато посмотрите на него теперь. Перед вами богатый человек, мультимиллионер, который указывает половине населения земного шара, что именно надо думать и когда. Он не позволит какому-то выскочке-юристу, пусть даже выпускнику Лиги Плюща, сбить его с толку и сдать Нэймора. Дело касается Дэвида, его друга и наставника. Да, возможно, в последнее время они с Дэвидом не слишком ладили, но Уайтхед был для Билла как брат, а значит, он должен во что бы то ни стало докопаться до правды.
— Как и сказал этот тип, — заявил Билл Дону, — записку передал мне человек из ФБР. Его вышибли из команды, и он здорово обиделся.
Либлинг внимательно посмотрел на Каннингема. Лицо его приобрело задумчивое выражение.
— Вот что. Если я узнаю, что ты опять вляпался в какое-то дерьмо, ты об этом пожалеешь.
— Не дави на меня, — сказал Билл, вставая с дивана. Он медленно подошел к стоящему у двери Либлингу и остановился прямо перед ним. Забудь о том, что мы находимся в офисе, говорил он всем своим видом, не уповай на служебную иерархию и общественные нормы поведения. Перед тобой воин, лидер, альфа-самец, готовый разбить в кровь твою физиономию, поэтому лучше опусти рога и уйди с моей дороги.
Каннингем чувствует запах салями, исходящий изо рта Либлинга. Не выдержав взгляд Билла, Дон моргает, явно не готовый к рукопашной схватке один на один. Проходит еще несколько секунд, и Либлинг отступает в сторону. Каннингем распахивает дверь и выходит в коридор.
Теперь, находясь на кухне дома, в котором живут Элеонора, Дуг и Джей-Джей, Билл решает взять инициативу в свои руки.
— Это всего лишь дружеский визит, — говорит он, вставая. — Сейчас вы переживаете трудный период. Вы для меня — все равно что родственники. И для Дэвида вы были членами его семьи. Поэтому я собираюсь приглядывать за вами. Да-да, дядя Билл будет за вами присматривать.
— Спасибо, — отвечает Элеонора. — Но я думаю, с нами все будет в порядке.
Каннингем широко улыбается:
— Я в этом просто уверен. Деньги вам помогут.
В его голосе слышится нечто, не соответствующее благодушному выражению его лица.
— Мы собираемся переехать в таунхаус в городе, — заявляет Дуг.
— Прекрати, — обрывает его Элеонора.
— А что такого? Это же правда.
— Прекрасное место, — подхватывает Билл и щелкает подтяжками. — Столько воспоминаний.
— Я не хочу быть невежливой, — холодно произносит Элеонора, — но мне надо покормить Джей-Джея.
— Да, конечно, я понимаю. Мальчику в таком возрасте необходима материнская ласка и забота, особенно после того, что… э-э… случилось… Может быть, вам следует его…
Элеонора, не дослушав, отворачивается, открывает замок на контейнере с кусочками индейки и ставит его в микроволновую печь. Она слышит, как Билл подходит и останавливается за ее спиной. Он не привык, чтобы на него не обращали внимания.
— Пожалуй, мне пора, — говорит он.
Дуг тоже поднимается из-за стола.
— Спасибо, но я в состоянии сам найти выход.
Элеонора ставит перед Джей-Джеем его тарелку:
— Вот. Если захочешь еще маринованных овощей, скажи — получишь добавки.
Позади нее Билл подходит к кухонной двери и останавливается.
— Вы разговаривали со Скоттом? — спрашивает он.
Услышав знакомое имя, мальчик поднимает голову от тарелки. Элеонора тоже устремляет взгляд на Каннингема.
— А что?
— Ничего, — отвечает Билл. — Просто, если вы не смотрите телевизор, то, наверное, не знаете, что у следствия есть к нему вопросы.
— Какие вопросы? — интересуется Дуг.
Билл вздыхает так, словно то, что он собирается сказать, вызывает у него душевную боль.
— Просто людям не все понятно, знаете ли. Он попал на борт самолета последним. И потом… у него правда была связь с вашей сестрой? А про картины вы слышали?
— Не стоит говорить об этом сейчас, — возражает Элеонора.
— Нет, почему же, — вмешивается в разговор Дуг. — Мне интересно. Понимаете, он звонит, посреди ночи. — Дуг смотрит на жену. — Ты думаешь, что я не в курсе.
— Дуг, — говорит Элеонора, — в любом случае этому типу в подтяжках вовсе не обязательно такое знать.
Каннингем закусывает нижнюю губу.
— Значит, вы с ним общаетесь. Мне кажется, это неосторожно с вашей стороны. Понимаете, просто пока к нему есть кое-какие вопросы. Мы живем в Америке, и я скорее дам себя убить, чем позволю правительству лишить нас права на справедливое судебное разбирательство. Но пока расследование еще только начинается, а вопросы к этому человеку весьма серьезные. Я очень беспокоюсь за вас. Вы уже получили душевные травмы. А ведь никто не знает, как далеко все это зайдет. Хочу задать вопрос: зачем он вам нужен в такой ситуации?
— Я ей то же самое сказал, — заявляет Дуг. — То есть мы, конечно, благодарны ему за то, что он сделал для Джей-Джея…
Лицо Билла искажает гримаса.
— Ну конечно. Плыть в никуда, ночью, в открытом океане, с поврежденной рукой, да еще и тащить на себе мальчика…
— Замолчите! — требует Элеонора.
— Вы хотите сказать… — оживляется Дуг, почувствовавший в голосе Каннингема нотки издевки. — Погодите. Вы хотите сказать, что…
Билл пожимает плечами и смотрит на Элеонору. Лицо его смягчается.
— Дуг, перестаньте, — говорит он. — Ваша жена права. Не стоит продолжать.
При этих словах Билл наклоняется вправо, чтобы получше разглядеть Джей-Джея, которого заслоняет Элеонора. Поймав взгляд малыша, он улыбается:
— Будь хорошим мальчиком. Скоро мы с тобой поболтаем. Если тебе что-нибудь понадобится, попроси твою… попроси Элеонору позвонить мне. Может, мы как-нибудь сходим на матч «Метс». Ты любишь бейсбол?
Мальчик пожимает плечами.
— Или на «Янки». У меня абонемент в ложу.
— Мы вам позвоним, — говорит Элеонора.
Билл кивает.
— В любое время, — бросает он и направляется к выходу.
После ухода Билла Дуг пытается вызвать Элеонору на разговор, но она сообщает, что собирается отвести Джей-Джея на детскую площадку. У нее такое ощущение, будто какой-то великан сдавливает ее в огромном кулаке. Дойдя до площадки, она делает вид, что ей весело, и катается с мальчиком сначала с горки, а потом на качелях. Строит башню из песка все выше и выше, пока та наконец не рушится. День довольно жаркий, поэтому Элеонора старается, чтобы они с Джей-Джеем находились в тени. Но ребенку хочется побегать, и она время от времени дает ему воды, чтобы он не перегрелся. При этом в ее голове роятся тысячи мыслей.
Элеонора пытается понять, зачем приезжал Билл, и одновременно вспоминает его слова по поводу Скотта. Неужели Каннингем надеется, что она ему поверит? Человек, который спас ее маленькому племяннику жизнь, подстроил авиакатастрофу, а затем, чтобы скрыть это, предпринял свой героический заплыв? Все это кажется ей абсурдом. Каким образом художник может устроить падение самолета? И зачем ему это? Что имел в виду Каннингем, когда говорил о каких-то отношениях между Скоттом и Мэгги? Неужели он намекал на любовную связь? Очевидно, Каннингем приехал к ней домой специально, чтобы сообщить об этом?
Мальчик, подойдя к Элеоноре, касается ее руки, а затем указывает на свои штанишки.
— Ты хочешь писать? — спрашивает она.
Ребенок кивает. Взяв Джей-Джея за руку, Элеонора ведет его в общественный туалет. Когда она помогает ему расстегнуться, ей вдруг приходит в голову, что, учитывая нынешний возраст Джей-Джея, ко времени своего взросления он, скорее всего, забудет родителей. И каждый год в День матери, во второе воскресенье мая, он будет думать о ней, а не о ее сестре. Означает ли это, что мальчик станет считать своим отцом Дуга? При этой мысли Элеоноре становится плохо. Она в который раз ругает себя за проявленную когда-то слабость, выразившуюся в боязни одиночества, в потребности постоянно ощущать чье-то присутствие рядом.
Однако Элеонора не исключает, что Дугу просто нужен шанс, воспользовавшись которым он изменится. Возможно, появление в доме четырехлетнего малыша мотивирует его, превратит в хорошего семьянина. Впрочем, на этот счет у Элеоноры почти сразу же возникают сомнения. Надежда, что появление ребенка спасет разрушающийся брак, — классическая ошибка многих людей. Джей-Джей живет у них уже две недели, и за это время Дуг не стал меньше пить, по-прежнему приходит и уходит когда ему вздумается, а его отношение к ней, Элеоноре, нисколько не улучшилось. Ее сестра мертва, мальчик стал сиротой. Но как насчет желаний и потребностей Дуга? Этот вопрос муж в последнее время задает при каждом удобном случае. Как вся эта ситуация скажется на нем?
Элеонора помогает Джей-Джею застегнуть штанишки и вымыть руки. Собственная неуверенность приводит ее в отчаяние. Возможно, она не права. Все еще не пришла в себя после разговора с адвокатами и бизнес-менеджерами, от категоричности их заявлений. Может, Дуг прав и им следует переехать в городской дом, чтобы Джей-Джей находился в привычной, как прежде, ему обстановке. Однако Элеонора инстинктивно понимает: это только еще больше запутает малыша. В его жизни все изменилось, и делать вид, что ничего не произошло, означало бы обманывать его.
— Хочешь мороженого? — спрашивает она, когда они по жаре возвращаются с детской площадки.
Малыш кивает. Улыбнувшись, Элеонора берет его за руку и подводит к машине. Она решает вечером поговорить с Дугом и рассказать о своих сомнениях и о том, что, по ее мнению, нужно ребенку. Они распродадут недвижимость и положат деньги в фонд. Назначат себе ежемесячную стипендию, достаточную для покрытия всех дополнительных расходов, связанных с появлением в их доме Джей-Джея, но не настолько большую, чтобы бросить работу и жить в роскоши. Элеонора знает, Дугу ее идея не понравится, но что он сможет сделать?
Решать ей.
Рэйчел Уайтхед 9 октября 2006—26 августа 2015
Она ничего не запомнила. Все детали случившегося девочка узнала от других людей. Единственное, что сохранилось в ее памяти, — кресло-качалка на каком-то пустынном чердаке, которое само по себе раскачивалось взад-вперед. Оно иногда всплывало из глубины ее сознания в тот момент, когда она находилась на границе между сном и бодрствованием.
Родители назвали ее Рэйчел в честь бабушки. Когда девочка была совсем маленькой, она решила, что является кошкой. Наблюдая за домашним котом Персиком, Рэйчел перенимала его повадки, старалась вести себя как он и двигаться с такой же грацией. Сидя за столом, она частенько лизала собственную ладонь, после чего вытирала ею лицо, словно умывающийся котенок. Родители мирились с этой причудой до тех пор, пока она не заявила, что собирается спать днем и бродить по дому ночью. Тогда ее мать, Мэгги, сказала: «Послушай, дорогая, у меня не хватит сил, чтобы не спать по ночам».
Именно из-за Рэйчел у Уайтхедов появились телохранители, спокойные мужчины с израильским акцентом, которые сопровождали членов семьи, куда бы они ни отправились. Обычно их было трое. Старший группы — Джил обеспечивал защиту главного охраняемого объекта. Кроме этого, существовала еще группа прикрытия, состав которой постоянно менялся. В нее входило от четырех до шести человек. Они контролировали ситуацию, находясь на некотором удалении. Рэйчел знала: все меры предосторожности приняты из-за того, что когда-то случилось с ней, хотя отец это отрицал. «Существуют разные угрозы», — туманно говорил он. Папа тем самым давал понять: присутствие телохранителей связано главным образом с его положением руководителя новостного телеканала, а не с тем, что дочь в раннем возрасте была похищена и один или несколько похитителей все еще могли находиться где-то рядом.
Во всяком случае, такая картина сложилась в сознании самой Рэйчел. Родители девочки заверили ее, что похищение было делом рук сумасшедшего одиночки. То же самое в прошлом году по личной просьбе ее отца, Дэвида Уайтхеда, Рэйчел рассказали сотрудники ФБР, а также высокооплачиваемый детский психиатр. По их словам, преступником оказался 36-летний Уолтер Р. Мэйси, который был убит в перестрелке одним из одетых в штатское полицейских. Пуля, покончившая с Мэйси, попала ему в правый глаз. Однако еще до этого Мэйси успел застрелить другого полицейского — 44-летнего Мика Дэниэлса, бывшего агента ФБР и ветерана войны в Персидском заливе.
Девочка, однако, помнила только кресло-качалку.
Рэйчел уже две недели отдыхала на Мартас-Вайнъярд с матерью и братом. Ей, девочке из богатой семьи, было доступно множество развлечений. Она могла брать уроки тенниса, учиться ходить под парусом, играть в гольф, заниматься верховой ездой. Но Рэйчел не хотелось, чтобы ее чему-то учили. В течение двух лет она обучалась игре на фортепьяно, но затем всерьез задумалась о том, зачем это делает, и бросила занятия. Ей нравилось сидеть дома с матерью и братом. Дома она чувствовала себя полезной. «За маленьким мальчиком нужен глаз да глаз» — так говорила ее мама. И Рэйчел с удовольствием играла с братишкой, кормила его завтраком и меняла штанишки, когда с ним случалась неприятность.
Мать говорила Рэйчел, что она вовсе не обязана это делать, и отправляла на улицу поиграть. Но постоянное присутствие рядом огромного телохранителя, а иногда и сразу троих, сковывало девочку. Впрочем, она никогда не подвергала сомнению необходимость охраны. Ведь произошедшее когда-то с ней доказывало, что лишние меры безопасности не помешают.
В результате Рэйчел большую часть времени проводила дома, загорала на крыльце или на лужайке, глядя на океан. Она обожала читать книжки про своенравных, непослушных девочек, которые вдруг обнаруживали у себя магические способности. Таких, как Гермиона или Китнисс Эвердин. Когда ей было семь, Рэйчел прочла «Шпионку Хэрриэт» и «Пеппи Длинный Чулок». Героини этих книг ей очень нравились, жаль только, что в конце концов они становились совершенно обыкновенными, такими же, как все. Рэйчел ждала от них большего — ей хотелось, чтобы они были еще сильнее, решительнее, непримиримее. Она с огромным удовольствием следила за их приключениями, порой весьма опасными. Но, с другой стороны, ей не хотелось очень переживать за них — от этого Рэйчел становилась слишком беспокойной.
Всякий раз, доходя до какой-нибудь страшной сцены, например, когда в книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» Гермиона столкнулась с троллем, Рэйчел захлопывала книгу и шла к матери.
— В чем дело? — спрашивала та.
— Просто скажи мне — ей удалось выпутаться?
— Кому? Из чего выпутаться?
— Гермионе. Понимаешь, на нее напал тролль, настоящий гигант, а она… в общем, прочти, пожалуйста, и расскажи мне, чем все закончилось. Очень надеюсь, что для Гермионы все обошлось хорошо.
И Мэгги, которая знала дочь достаточно хорошо и понимала, что ее просьбу нужно обязательно выполнить, бросала все дела, садилась за чтение и потом излагала прочитанное Рэйчел. Затем она возвращала книжку, заложив пальцем то место, с которого девочка могла спокойно читать дальше.
— Начинай вот отсюда, — говорила Мэгги. — Ей не пришлось с ним сражаться. Она просто закричала — это туалет для девочек, и потребовала, чтобы он убрался.
Посмеявшись рассказу матери — надо же такое придумать: кричать на тролля! — Рэйчел снова с головой погружалась в приключения Гарри и его друзей.
Все началось с появления домработницы. Ее звали Франческа Батлер, но все называли ее просто Франки. В то время Уайтхеды часто отдыхали на Лонг-Айленде, неподалеку от маяка на мысе Монток. Тогда они еще не имели возможности пользоваться частными самолетами и вертолетами, а потому в пятницу вечером садились в машину и отправлялись в путешествие, влившись в поток автомобилей, ползущий по лонг-айлендскому шоссе, словно гигантская анаконда.
Брата Рэйчел в то время не было даже в проекте. Дэвид сидел за рулем, Мэгги на пассажирском месте впереди, а крохотная Рэйчел спала на заднем сиденье в своем детском кресле, надежно зафиксированном ремнями. Новостной телеканал Эй-эл-си на тот момент существовал всего шесть лет, но уже начал приносить прибыль, а его передачи вызывали живой отклик у телезрителей. Отец Рэйчел, однако, любил говорить: «Я всего лишь номинальный руководитель. Сижу в какой-то кладовке. Обо мне никто не знает».
Похищение все изменило.
Все случилось летом 2008 года. Оно запомнилось многим, потому что 12 июля волны на берег вынесли странное существо, которое сразу же окрестили Монтокским монстром. Местная девочка по имени Дженна Хьюитт и трое ее друзей обнаружили его, гуляя по пляжу. «Мы искали место, чтобы сесть и позагорать, — рассказывала она потом, — и увидели неподалеку стоящих людей, которые чего-то разглядывают… Мы не поняли, что это было… Помню, еще шутили — такая зверюга, наверное, с Плам-Айленд».
Невиданное существо, описанное как «внешне напоминающее грызуна с удлиненным носом, похожим на рыло какого-то динозавра», было размером с небольшую собаку и почти безволосое. Оно имело довольно массивное туловище и две пары тонких конечностей, передние — с большими, светлого цвета когтями. Тонкий хвост по длине примерно равен телу. На морде существа застыло страдальческое выражение. Задняя часть черепа выглядела очень массивной. На верхней челюсти, похоже, отсутствовали зубы, однако она была снабжена чем-то вроде загнутого костяного клюва. На нижней челюсти был виден большой острый клык, а за ним — четыре резца с высокими коническими выступами.
Некоторые предположили, что существо является представителем семейства енотовых, каким-то непостижимым образом приспособившимся к жизни в океане. Другие решили, что это морская черепаха, лишившаяся панциря.
В течение нескольких недель фотографии тела странного животного не сходили с главных страниц интернет-сайтов и газетных полос. Кто-то в самом деле пустил слух, что выброшенный волнами на берег монстр — продукт экспериментов, проводившихся в ветеринарном центре на острове Плам-Айленд, который находился примерно в миле от берега. Плам-Айленд даже стали называть реальным островом доктора Моро. Но в конце концов, как это всегда бывает, отсутствие ответов на многочисленные вопросы привело к тому, что интерес к таинственному существу иссяк.
Однако в те злополучные выходные в первой половине июля, когда Дэвид, Мэгги и Рэйчел в очередной раз приехали на мыс Монток, новость по поводу чудовища была у всех на устах. На стоящие вдоль дороги киоски, которые тут же развернули торговлю футболками с изображением странного существа, пролился денежный дождь. За пять долларов местные жители с готовностью показывали любому желающему место, где обнаружили неизвестное науке животное.
Уайтхеды в то время арендовали обшитый белой вагонкой двухэтажный дом на Татхилл-роуд неподалеку от небольшой лагуны. Место выглядело довольно пустынным. Единственное здание, располагавшееся поблизости, судя по всему, начали, но так и не закончили перестраивать. Незастекленное окно его гостиной было наспех затянуто мутно-белым пластиком и напоминало наспех заделанную пробоину. До этого момента семья Уайтхед снимала дом к северу от этого места, на Пайнтри-драйв, но в январе хозяева продали его какому-то миллиардеру, владельцу хедж-фонда.
Дом, в котором они жили, был очень уютным. В нем имелась большая кухня, как в жилищах фермеров. Немного перекошенное крыльцо отчаянно скрипело. Родительские спальни располагались на втором этаже, их окна выходили на океан. Из окон комнаты Рэйчел с детской кроваткой в викторианском стиле открывался вид на лагуну. Уайтхеды взяли с собой Франки, няню, — третья пара рук никогда не помешает, любила говорить Мэгги. Во время поездки Франки сидела на заднем сиденье вместе с Рэйчел и всю дорогу занималась одним и тем же — поднимала соску-пустышку, выплюнутую девочкой, обтирала и вставляла ее обратно ребенку в рот. Франки училась в вечерней школе при Фордхемском университете и три дня в неделю подрабатывала, ухаживая за Рэйчел. Ей было двадцать два. Окончив колледж, она перебралась в Нью-Йорк откуда-то из Мичигана вместе со своим приятелем, который почти сразу бросил ее и устроился бас-гитаристом в малоизвестную панк-группу.
Мэгги она нравилась. Общение с Франки давало ей возможность почувствовать себя молодой. В мире Дэвида, населенном людьми примерно его возраста, сорока-, пятидесяти- и шестидесятилетними, у нее такой возможности не было. Самой Мэгги в то время было двадцать восемь, то есть старше Франки всего на шесть лет. По сути, разница между ними состояла только в том, что Мэгги имела мужа-миллионера.
— Вам повезло, — часто говорила ей Франки.
— Он хороший, — отвечала в таких случаях Мэгги.
— Значит, вдвойне повезло, — добавляла Франки и улыбалась. Подцепить миллионера мечтали все ее подруги. Они постоянно говорили об этом, щеголяли в мини-юбках и туфлях на высоких каблуках, ходили по клубам в надежде заарканить богача с Уолл-стрит. Но Франки была не из таких. Она воспитывалась в сельской местности и в детстве ухаживала за козами и курами. Мэгги никогда не опасалась, что Франки уведет у нее мужа. Ей казалось, что со стороны Дэвида было бы слишком глупо, будучи женатым на двадцативосьмилетней умной и обворожительной женщине, соблазниться двадцатидвухлетней малознакомой девицей. В конце концов, ее супруг не безмозглый молодой самец, чье поведение полностью диктуется тестостероном. Впрочем, она понимала, что случается всякое.
Всего несколько лет назад, когда ей самой было двадцать два, Мэгги зарабатывала на жизнь обучением чужих детей, работая преподавателем детского сада. Тогда она жила в Бруклине и каждое утро проезжала на велосипеде через Бруклинский мост. При этом, не имея подфарников, предупреждала окружающих водителей о своих маневрах движением рук. Пешеходов на мосту в это время обычно бывало немного — в основном бегущие трусцой поборники здорового образа жизни. На голове Мэгги красовался лимонно-желтый шлем, из-под него развевался шлейф длинных каштановых волос. Ни наушники, ни темные очки Мэгги не надевала. По дороге она часто останавливалась, чтобы посмотреть на белок или попить воды. Проехав по Чемберс-стрит к реке, велосипедистка направлялась на север. При этом она оглядывалась по сторонам, чтобы вовремя заметить говорящего по сотовому телефону таксиста или какого-нибудь молодого лихача на немецкой машине и уступить им дорогу во избежание неприятностей.
Каждый день Мэгги приезжала на работу к семи утра, чтобы успеть до появления детей привести себя в порядок и переложить привезенные с собой продукты в ящик стола. Помещение детского сада было крошечным — всего несколько комнат в старом кирпичном здании рядом с автомобильной стоянкой, превращенной в игровую площадку. Здание стояло на зеленой, засаженной деревьями улочке в той части Уэст-Виллидж, которая была похожа на старый Лондон. Как-то раз Мэгги разместила в Фейсбуке пост, в котором написала, что любит этот кусочек Нью-Йорка больше всего за то, что он словно существует вне времени. Как и большинство горожан, она старалась без необходимости не заходить выше Четырнадцатой улицы.
Первых малышей, часто еще толком не проснувшихся, мамы и папы приводили или привозили в футуристического вида колясках в восемь утра. Мэгги, улыбаясь, всегда встречала их у самой двери.
«Доброе утро, мисс Мэгги», — пищали они.
«Доброе утро, Дитер, доброе утро, Джастин, доброе утро, Сэди».
Мэгги обнимала детей или гладила их по головкам, здоровалась с родителями, которые в ответ зачастую что-то неразборчиво бурчали. Сдав детей воспитательнице, они тут же принимались писать эсэмэски. Они были занятыми людьми — юристами, руководителями рекламных агентств, редакторами журналов и архитекторами. Мужчины в возрасте сорока лет и более — самому пожилому папаше в группе Мэгги было шестьдесят три года. Женщины — одни до тридцати лет, с внешностью супермоделей, другие — задерганные матери-одиночки, которые, отчаявшись найти мужа, сумели уговорить приятеля-гея сделать им ребенка путем искусственного оплодотворения в обмен на шесть уик-эндов в год в летнем домике где-нибудь в горах Кэтскиллз и почетное право именоваться «дядюшкой».
Мэгги являлась очень терпеливой воспитательницей — настолько, что временами это ее качество казалось сверхъестественным. Она была невероятно добра, но в случае необходимости могла проявить и твердость. Оценивая ее работу, некоторые родители писали, что хотели бы уметь обращаться с детьми так же, как она. Их восхищала двадцатидвухлетняя девушка с неизменной улыбкой, которая могла найти доброе слово даже для раскапризничавшегося ребенка, разбудившего других детей во время тихого часа.
Обычно Мэгги уходила из детского сада около четырех часов. Какое-то время шла пешком, ведя свой велосипед цвета красного дерева рядом по тротуару. Затем, надев шлем и застегнув под подбородком ремешок, она вливалась в поток транспорта. Мэгги любила, добравшись до реки, съехать на велодорожку, ведущую к югу, и, остановившись где-нибудь, посидеть на скамейке, наблюдая за баржами и катерами, движущимися по водной глади. В дни, когда жара переваливала за тридцать градусов, она часто покупала у мексиканца, продающего с тележки мороженое, порцию ледяной стружки, обычно с вишневым вкусом. Усевшись на траву, Мэгги съедала лакомство, орудуя крохотной пластмассовой ложечкой. В таких случаях она снимала лимонно-желтый шлем и клала его на землю рядом с собой. Ложилась на траву и подолгу отдыхала, глядя на облака, а потом снова надевала шлем и, оседлав велосипед, ехала домой.
Хотя с тех пор прошло лишь несколько лет, Мэгги казалось, что все это происходило очень давно. Она больше не работала, имела маленькую дочь, так что ее теперь вполне можно было назвать изнеженной и беззаботной женой миллионера.
Добравшись до своего арендованного жилища на мысе Монток, Дэвид и Мэгги обычно первым делом отправлялись на рынок и закупали продукты. Франки оставалась в доме с Рэйчел. В то время Монток еще не был частью модного района Хэмптонс, но чувствовалось, что скоро он станет культовым местом. В универмаге уже торговали редкими сортами сливочного масла и диковинными домашними джемами, а в магазине хозтоваров на полках было разложено дорогое льняное постельное белье.
В киоске у дороги Дэвид и Мэгги покупали огромные помидоры и, вернувшись домой, резали их крупными ломтями и ели с морской солью и оливковым маслом. Все жизненные трудности для Мэгги к тому времени закончились. Размышляя по ночам, она удивлялась тому, как быстро привыкла к своему новому положению. До появления в ее жизни Дэвида казалось вполне нормальным ездить на работу по забитым машинами дорогам, зачастую под дождем, и экономить, чтобы иметь возможность сдать белье в прачечную. Впрочем, Мэгги понимала, что все это вряд ли можно было считать трудностями, когда в мире многие дети голодали. Теперь же она приходила в отчаяние, если не могла найти в сумочке ключи от своего «лексуса» или у продавца в дорогом магазине не находилось сдачи со ста долларов. В таких случаях, осознав, какой изнеженной и избалованной она стала, Мэгги испытывала отвращение к самой себе. Как-то раз, не выдержав, она позвонила Дэвиду и начала убеждать его, что им следует жить скромнее.
— Я хочу вернуться на работу, — заявила Мэгги.
— Ладно.
— Нет, это серьезно. Не могу целыми днями сидеть сложа руки. Я привыкла работать, заниматься какой-то полезной деятельностью.
Мэгги, теребя телефонный провод, старалась говорить как можно тише, чтобы не разбудить ребенка.
— Ты заботишься о Рэйчел и постоянно мне твердишь — это требует много сил.
— Да, верно. Но я не хочу, чтобы мою дочь воспитывали няньки.
— Понимаю. Мы оба этого не хотим. Именно поэтому очень хорошо, что ты можешь позволить себе…
— Я чувствую, как перестала быть самой собой.
— Это просто послеродовая…
— Не надо. Не представляй это таким образом, будто все дело в физиологии.
На другом конце провода наступило молчание. Мэгги не могла понять, вызвано ли оно тем, что муж пытается подавить раздражение, или же он просто пишет кому-нибудь электронное письмо.
— Я все-таки не понимаю, Дэвид, почему ты не можешь проводить дома больше времени.
— Мне бы очень этого хотелось. Но как раз сейчас наша корпорация расширяется, и…
— Я поняла.
Мэгги были неинтересны подробности, связанные с работой Дэвида. Впрочем, и его не слишком волновали истории из ее жизни — захватывающие рассказы о том, как ей удалось опередить нескольких человек в очереди в кассу, или подробности мыльных опер.
— Хорошо, я постараюсь возвращаться пораньше.
После этого долго молчала Мэгги. Рэйчел мирно спала в своей кроватке в комнате наверху. Судя по звукам, Франки находилась на кухне и перезагружала стиральную машину. С улицы доносился едва слышный шум океана. Благодаря ему по ночам Мэгги спала как убитая.
Через неделю после того тяжелого телефонного разговора между Мэгги и Дэвидом пропала Франки. Она отправилась в поселок, чтобы посмотреть фильм в небольшом старом кинотеатре, и должна была вернуться к одиннадцати вечера. Мэгги, не дожидаясь ее, легла спать. Предполагалось, что в этот раз именно она будет ночевать в комнате Рэйчел и вставать, если девочка проснется. В таких случаях Мэгги привыкла ложиться как можно раньше, сразу после захода солнца, а иногда и незадолго до него. Стоило ей коснуться головой подушки и прочитать несколько абзацев из специально приготовленной для таких случаев книжки, как ее обволакивал сон.
Утром, проснувшись вместе с Рэйчел и обнаружив, что Франки, похоже, еще спит, Мэгги несколько удивилась. Но потом решила, что девушка могла встретить в кинотеатре кого-нибудь из друзей или знакомых и на обратном пути зайти в местный паб. В одиннадцать часов она все же решила постучать в дверь комнаты Франки, поскольку, согласно договоренности, следующий день Мэгги могла отдохнуть, полностью посвятив его себе. Однако на стук никто не отозвался. Открыв дверь и обнаружив, что в комнате никого нет, а постель на кровати не смята, Мэгги забеспокоилась.
Первым делом она позвонила Дэвиду на работу.
— Что значит «пропала»? — не понял он.
— Я хочу сказать, что не знаю, где Франки. В доме ее нет, а на телефонные звонки она не отвечает.
— А записки никакой не оставлено?
— Где она могла быть? В ее комнате и на кухне ничего нет. Вечером Франки собиралась в кино. Я звонила ей на сотовый, но она…
— Ладно, давай так. Я сделаю пару звонков и выясню, не вернулась ли она в город. Помнишь, у нее были какие-то проблемы с ее приятелем? Кажется, его зовут Трой. Если мне не удастся ничего выяснить, а Франки к этому времени не появится, я свяжусь с местной полицией.
— Может, не стоит поднимать слишком много шума…
— Послушай, мы либо обеспокоены ее исчезновением, либо нет. Выбери что-нибудь одно.
Последовала длинная пауза, в течение которой Мэгги, раздумывая над ответом, готовила завтрак для Рэйчел. Девочка играла на полу рядом с ней и время от времени пыталась укусить мать за лодыжку.
— Детка? — не выдержал слишком долгого ожидания Дэвид.
— Все-таки мне кажется, что это странно. Думаю, тебе стоит позвонить куда следует.
Три часа спустя Мэгги, сидя за столом в гостиной, беседовала с местным шерифом, Уэйном Пибоди — человеком, если судить по его лицу, весьма недалеким.
— Возможно, я напрасно волнуюсь, — сказала она, — но Франки всегда была очень пунктуальной и ответственной.
— Не беспокойтесь, миссис Уайтхед. Мы во всем разберемся. Все будет хорошо.
— Спасибо. Большое спасибо.
Уэйн взглянул на своего заместителя — крупную, крепкую женщину лет тридцати.
— Мы побываем в кинотеатре. Поговорим с Питом — может, он ее запомнил. Грейс зайдет в паб. Не исключено, что она там побывала. Вы говорите, ваш муж звонил членам семьи мисс Батлер?
— Да. Он связывался по телефону с кем-то из ее друзей и родственников. Но никто ничего не знает.
Пока шел разговор, Рэйчел раскрашивала картинки в альбоме, сидя за маленьким круглым столиком, который Мэгги приобрела на местном блошином рынке вместе с двумя очаровательными раскладными детскими стульчиками. Мэгги невольно удивлялась тому, что за все время визита незнакомых людей девочка ни разу ее не побеспокоила, словно понимала, что случилось что-то серьезное. Впрочем, Рэйчел вообще была очень серьезным и спокойным ребенком, так что Мэгги иногда даже задумывалась, не страдает ли дочь детской депрессией. Как-то раз Мэгги прочитала статью в журнале «Тайм», где описывались симптомы этого психологического расстройства. Среди них, в частности, упоминались беспокойный сон и чрезмерная застенчивость. После этого она только и делала, что искала проявления депрессии у Рэйчел. Так было до тех пор, пока Мэгги не попалась на глаза другая статья, в которой говорилось о проявлениях у детей младшего возраста аллергии на пшеницу. Что поделаешь, быть матерью — значит испытывать множество самых разных страхов.
— Нет у нее никакой депрессии, — говорил Дэвид. — Просто она довольно сосредоточенный ребенок.
Но он был мужчиной и вдобавок республиканцем. Что Дэвид мог знать о тонкостях женской психологии?
К заходу солнца никаких новостей по поводу Франки так и не появилось. Дэвид решил отложить незаконченные дела и выехал с работы домой. К тому времени, когда он вошел, Мэгги осунулась и у нее больше не было сил сохранять невозмутимый вид, будто ничего особенного не произошло. Она налила себе и мужу неразбавленного виски.
— Рэйчел спит? — спросил Дэвид.
— Да. Я уложила ее в детской комнате. Думаешь, это неправильно? Может, надо было уложить Рэйчел в нашей спальне?
Дэвид пожал плечами. По его мнению, такие вещи не имели значения, хотя и казались важными его жене.
— По дороге домой я позвонил шерифу, — сказал он, когда они с Мэгги уселись в кресла в гостиной. Даже сквозь закрытые ставни в комнату проникал гул океана. — Он подтвердил, что Франки действительно была в кино. Люди ее запомнили — они обратили внимание на симпатичную девушку, одетую так, как обычно одеваются в городе. Но в баре она не появлялась. Так что если с ней что-то случилось, то по дороге из кинотеатра домой.
— Но что могло произойти?
Дэвид снова пожал плечами и отхлебнул из своего стакана.
— На всякий случай люди шерифа проверили местные больницы.
Мэгги, которая уже успела выпить половину своей порции виски, недовольно поморщилась.
— Вот черт. Почему я сама этого не…
— Потому что это не твоя работа, а других. Ты была занята с Рэйчел. В общем, здешние больницы проверили. Ни в одну из них никто, похожий на Франки, ночью не поступал.
— Дэвид, а вдруг она лежит где-нибудь мертвая?
— Не думаю. Чем дольше ее не будет, тем вероятнее подобный исход, но пока я склонен думать, что она просто загуляла.
Правда, оба — и Дэвид, и Мэгги — знали, что Франки не любит шумных попоек.
Ночью Мэгги плохо спала. Ей снилось, что Монтокский монстр ожил, выбрался из лагуны, пересек дорогу и ползет к их дому, оставляя за собой кровавый след. Мэгги ворочалась, просыпалась и снова погружалась в сон. В какой-то момент ей показалось, что чудовище подбирается по стене к окну второго этажа — к тому самому, за которым находилась Рэйчел. Мэгги принялась лихорадочно вспоминать, закрыла ли она окно. Ночь была жаркой и душной. Обычно Мэгги закрывала створки, но что, если на этот раз из-за рассеянности, вызванной исчезновением Франки, она забыла это сделать?
Мэгги вскочила на ноги едва ли прежде, чем успела проснуться. Паника матери, внезапно осознавшей, что ребенку угрожает опасность, заставила ее опрометью броситься в комнату дочери. Первое, что поразило Мэгги, была закрытая дверь. Она точно помнила, что оставила ее открытой. Более того, нажала на специальный стопор, чтобы дверь не захлопнулась из-за сквозняка. Подбежав, Мэгги вдруг обнаружила, что дверная ручка не поворачивается. Она с силой толкнула дверь плечом.
Мэгги услышала, что от шума проснулся Дэвид, но изнутри комнаты дочери не доносилось ни звука. Она еще раз попробовала повернуть ручку — и снова безуспешно. Дверь была заперта.
— Дэвид! — крикнула Мэгги. — Дэвид!!!
В ее голосе явственно прозвучали истеричные нотки. В коридоре возник муж. Он еще не успел проснуться окончательно, поэтому его слегка пошатывало.
— Дверь заперта, — сказала Мэгги.
— Отойди-ка, — скомандовал Дэвид.
Она шагнула в сторону и прижалась к стене. Муж попытался с силой повернуть ручку двери.
— Почему она не плачет? — услышала Мэгги собственный голос, прозвучавший словно откуда-то со стороны. — Она должна проснуться. Шум должен был ее разбудить. Я пыталась сломать дверь.
Дэвид еще раз изо всех сил навалился на ручку, затем толкнул дверь плечом — раз, другой, третий. Дверь прогибалась при каждом ударе, но не поддавалась.
— Вот черт, — пробормотал Дэвид. Теперь он проснулся окончательно, и в его глазах виднелся страх. В самом деле, почему их дочь не плачет? Из-за двери не доносилось ни единого звука, если не считать шума океанских волн.
Сделав шаг назад, Дэвид изо всех сил ударил в дверь ногой, вложив в это движение всю массу своего большого тела. Косяк треснул, дверь сорвалась с одной из петель и распахнулась, с грохотом ударившись о стену. Затем резко наклонилась и повисла на второй петле, словно боксер, пропустивший сильный удар в солнечное сплетение.
Мэгги ворвалась в комнату и закричала от ужаса.
Окно было распахнуто.
Детская кроватка пуста.
Мэгги молча смотрела на пустую кроватку, не в силах смириться с реальностью — случившееся казалось ей невозможным. Дэвид, бросившись в другую комнату, выглянул в окно. Затем, стремительно промчавшись мимо жены, выскочил в коридор и стал быстро спускаться вниз по лестнице. Мэгги услышала, как громко хлопнула входная дверь. Снова раздался топот ног — сначала по траве, потом по гравию. Затем, судя по звуку, Дэвид выскочил на дорогу.
Когда Мэгги наконец спустилась вниз, муж уже успел вернуться в холл и говорил по телефону.
— Да, — сказал он. — Это вопрос жизни и смерти. Меня не интересует, сколько это стоит.
Последовало долгое молчание — вероятно, говорил собеседник Дэвида.
— Ладно, — сказал Дэвид, дослушав. — Мы будем наверху.
Он повесил трубку. Его немигающий взгляд был устремлен куда-то вдаль.
— Дэвид, — окликнула его Мэгги.
— Они пришлют кого-нибудь.
— Кто?
— Компания.
— Что значит — кого-нибудь? Ты позвонил в полицию?
Муж покачал головой.
— Речь идет о моей дочери. Ее похитили. Поэтому в полицию мы обращаться не будем.
— О чем ты говоришь? Кто ее похитил? Она пропала. Нужно, чтобы они… Нам надо организовать поиски, и как можно скорее. Прямо сейчас. И привлечь к этому как можно больше людей.
Дэвид двинулся по коридору, заходя во все комнаты и зажигая в них свет. Мэгги шла вслед за ним.
— Дэвид.
Муж ничего не ответил — он был погружен в свои мысли. Вероятно, думал, что предпринять, проигрывал в голове сценарии дальнейшего развития событий. Мэгги прошла в холл и сняла с крючка ключи от машины.
— Ты как хочешь, а я не могу просто сидеть и ждать, — сказала она.
Муж догнал ее у двери и схватил за запястье.
— Все не так, как ты себе представляешь, — сказал он. — Наша дочь не могла уйти из дома. Ей всего два года. Кто-то забрался через окно в комнату и выкрал ее. Зачем? Ради денег.
— Нет.
— Но сначала они захватили Франки.
Мэгги, почувствовав головокружение, прислонилась к стене.
— О чем ты?
Дэвид осторожно положил на плечи жены свои руки. Он хотел убедиться, что она еще в реальном мире, рядом с ним.
— Франки хорошо известно: наш распорядок дня, финансовое положение, по крайней мере, в общих чертах. Еще она знает, в какой комнате спала Рэйчел. Словом, все. Похитители захватили Франки, чтобы она помогла им выкрасть Рэйчел.
Мэгги подошла к дивану и села, все еще продолжая держать в руке ключи.
— Если только она не заодно с ними, — добавил Дэвид.
Мэгги покачала головой, чувствуя, как от шока у нее немеют руки и ноги.
— Нет, Франки не может быть с ними заодно. Ей двадцать два года. Она ходит в вечернюю школу.
— Возможно, нуждается в средствах.
— Дэвид, — сказала Мэгги, умоляюще глядя на мужа. — Мне трудно поверить, что она им помогала. Во всяком случае, сознательно.
Супруги еще некоторое время размышляли о том, что заставило молодую женщину сдать похитителям спящего двухлетнего ребенка, вверенного ее заботам.
Сорок пять минут спустя они услышали шум подкатившего к дому автомобиля. Дэвид вышел на улицу встретить приехавших. Вернулся он в компании шестерых мужчин. Они явно были вооружены, хотя и не пытались это продемонстрировать. В их внешности было нечто неуловимое, свидетельствовавшее о том, что они бывшие военные. В костюме был только один из гостей со смуглым лицом и седыми висками.
— Миссис Уайтхед, меня зовут Мик Дэниэлс, — представился он. — Эти люди приехали, чтобы обеспечить вашу защиту и прояснить кое-какие факты.
— Мне приснился страшный сон, — начала Мэгги.
— Дорогая, не надо, — попытался прервать ее Дэвид.
— Про Монтокского монстра. Мне приснилось, что он хочет забраться к нам в дом.
Мик кивнул. Если слова Мэгги и показались ему странными, он не подал виду.
— Вероятно, вы спали, — сказал он, — но сквозь сон что-то услышали. Такая способность у нас в генах. Как-никак на протяжении нескольких сотен тысяч лет люди были добычей хищных зверей.
Мик попросил супругов показать ему их спальню и комнату Рэйчел, а также подробно рассказать обо всем, что произошло, и об их действиях. Тем временем двое из приехавших с ним мужчин осмотрели остальные помещения дома и окрестности. Еще двое соорудили в гостиной нечто вроде командного центра, разместив на столе несколько портативных компьютеров, телефонов и принтеров.
Затем прибывшие собрались вместе.
— Отпечатки ног только одного человека, — доложил чернокожий мужчина, жующий резинку. — Есть еще две глубокие свежие царапины прямо под окном. Мы полагаем, это отметины от приставной лестницы. Следы ведут к расположенному на участке подсобному сооружению, а затем исчезают. Внутри этого сооружения мы нашли лестницу. Она складная и, насколько я могу судить, достаточно длинная, чтобы можно было достать до окна второго этажа.
— Значит, похититель не принес лестницу с собой, а использовал ту, которая оказалась под рукой. Это означает, что он знал о ее наличии.
— У нас в прошлые выходные отвалился водосточный желоб, — вспомнил Дэвид. — Приехал хозяин и все починил, при этом пользовался лестницей. Не знаю, где он ее взял, но привезти с собой лестницу, скорее всего, не мог, поскольку приезжал на седане.
— Надо будет взглянуть на этого самого хозяина, — заметил Мик.
— Отпечатков шин на подъездной дороге нет, — сообщил один из подчиненных Мика, в руках у которого Дэвид с удивлением увидел винтовку. — Во всяком случае, свежих. Так что неясно, в каком направлении ушел похититель или похитители.
— Простите, — вмешалась в разговор Мэгги, — но кто вы такие? Кто-то украл нашего ребенка. Нам надо позвонить в полицию.
— Миссис Уайтхед… — начал Мик.
— Перестаньте называть меня так.
— Извините, но как мне вас называть?
— Никак. Просто… кто-нибудь может мне объяснить, что происходит?
— Мэм, — снова заговорил Мик, — я штатный консультант по вопросам безопасности крупнейшей в мире охранной фирмы. Тот, на кого работает ваш муж, нанял меня за свой счет, так что вам мои услуги не будут стоить ни цента. Я восемь лет прослужил в «морских котиках» и еще восемь в Федеральном бюро расследований. Расследовал три сотни случаев похищения людей и имел очень высокий процент успеха. В таких делах надо действовать по определенной схеме. Как только мы закончим сбор фактов, обещаю, мы позвоним в ФБР, но не как беспомощные наблюдатели. Моя работа состоит в том, чтобы контролировать ситуацию с самого начала и до того момента, когда мы вернем вашу дочь обратно.
— А вы можете это сделать? — спросила Мэгги с отсутствующим видом. — Вернуть ее обратно?
— Да, мэм, — ответил Мик. — Могу.
Бланко
Он просыпается от ощущения дискомфорта, которое вызывают у него белые стены. В белых тонах выдержан интерьер не только спальни. Во всех комнатах апартаментов, где его поселили, полы, стены и мебель имеют цвет слоновой кости. Очнувшись от сонного забытья, Скотт долго лежит в кровати неподвижно с открытыми глазами, прислушиваясь к учащенному биению сердца. Ему вдруг приходит в голову мысль — находиться в помещении с белым полом и стенами подобно пребыванию в чистилище. Еще через некоторое время Скотту начинает казаться, что отсутствие в интерьере других цветов, кроме белого, вполне способно свести его с ума. Он ворочается с боку на бок на белой кровати, застеленной белоснежными простынями, и взбивает кулаком подушку в безупречно белой наволочке. В 2:15 он отбрасывает в сторону белое одеяло и спускает ноги на белый пол. Сквозь двойные оконные рамы, выкрашенные белой краской, шум уличного движения почти не слышен. Скотт вспотел, лоб его покрылся испариной, сердце выбивает барабанную дробь.
Он идет в кухню, раздумывая, не сделать ли кофе, но потом отказывается от этого намерения, боясь сбить режим и превратиться в человека, перепутавшего день с ночью и пьющего за завтраком бурбон. Чувствуя жжение в глазах, Скотт бредет в гостиную и выдвигает по очереди все ящики комода. В ванной комнате он обнаруживает шесть футляров с губной помадой, на кухне черный фломастер и две маркера, желтый и розовый, в холодильнике — подвявшую свеклу. Вынув несколько корнеплодов из овощного ящика, он наливает воду в кастрюлю и ставит ее на плиту, чтобы вскипятить.
В это самое время о нем на все лады говорят в теленовостях. Скотту не нужно включать телевизор, чтобы убедиться в этом — он и так знает наверняка. Ничего не поделаешь, он попал в эту молотилку, и теперь ему еще долго будут перемывать косточки. Скотт снова идет в гостиную, разумеется, тоже белую, слыша, как поскрипывают у него под ногами белые, чисто вымытые половицы. Камином явно недавно пользовались, и Скотт, присев на корточки, ощупью находит в топке кусок угля. Он извлекает его с такой осторожностью, словно это алмаз, а не кусочек сгоревшей древесины. На противоположной от камина стене укреплено огромное, от пола до потолка, зеркало. Выпрямившись, Скотт видит в нем свое отражение. Разумеется, это всего лишь совпадение, но на нем белые трусы и футболка. Белый человек с бледным лицом, в белом нижнем белье, в комнате с белыми стенами и полом… Скотт вдруг кажется себе призраком. «Интересно, что более вероятно, — подумал он, — то, что я, оказавшись в океане, проплыл много миль с поврежденным плечом и ребенком на спине, или то, что я утонул в соленых волнах, как моя сестра много лет назад с полными ужаса глазами и судорожно раскрытым ртом исчезла в глубине черных вод озера Мичиган?»
Держа в руке кусок угля, Скотт обходит гостевые апартаменты, зажигая лампы и светильники во всех помещениях. С улицы доносится скрип тормозов подъехавшего к дому мусоровоза, челюсти которого, жужжа и лязгая, начинают пожирать вещи, которые больше никому не понадобятся. Через пару минут квартира залита ярким электрическим светом, и Скотт еще раз медленно обходит ее, впитывая глазами вездесущую, нестерпимую белизну. У него начинает кружиться голова от ощущения, что он попал внутрь белоснежного герметичного кокона.
Все предметы любого другого цвета, кроме белого, лежат на низком кофейном столике в гостиной, за исключением куска угля, который Скотт продолжает держать в руке. Он перекладывает его из левой руки в правую и смотрит на свою испачканную ладонь. Затем с чувством невероятного облегчения прикладывает ее к груди и проводит сверху вниз по белой ткани футболки, оставляя на ней черный след.
«Я жив», — думает Скотт.
Затем он принимается пятнать черным белые стены.
Час спустя он слышит стук в дверь апартаментов, а затем звук поворачивающегося в замочной скважине ключа. Входит Лейла, все еще одетая по-вечернему — в коротком платье и туфлях на высоком каблуке. Она находит Скотта в гостиной. Он занят тем, что раз за разом швыряет в стену свеклу, оставляющую на белой поверхности бордово-лиловые пятна. Его футболка и шорты безнадежно испорчены, но, с точки зрения Скотта-художника, стали гораздо лучше прежнего. Они все в черных и красных разводах. Словно не замечая присутствия Лейлы, Скотт медленно подходит к стене и приседает на корточки. Его ухо улавливает шорох и шаги за спиной, затем Скотт слышит, как Лейла изумленно ахает.
Он, однако, не обращает внимания на эти звуки, потому что главное для него сейчас — его мысли и чувства, воспоминания, бродящие в сознании. Желание выразить все это было настолько нестерпимым, что его, пожалуй, можно сравнить с сильнейшим позывом к мочеиспусканию, которое человек испытывает после долгого путешествия в машине по городским пробкам, торопливого преодоления последних десятков метров от стоянки до двери квартиры, возни с ключами, торопливого расстегивания молнии на брюках. Да, пожалуй, наслаждение, которое в эти моменты испытывает Скотт, можно сравнить с ощущением удовлетворения острой физиологической нужды.
Теперь пространство вокруг Скотта наполнено цветом. С каждым новым штрихом общий замысел картины проступает в его сознании все яснее.
Позади Скотта стоит Лейла, раскрыв рот от изумления. В эту минуту она не в состоянии внятно сказать, какие чувства испытывает. Ей случайно довелось стать свидетелем процесса творчества, причем совершенно неожиданно и для себя, и для художника. Апартаменты, которые являются ее собственностью и интерьер которых она оформляла в соответствии со своими вкусами, превратились в нечто совсем иное. Наклонившись, Лейла расстегивает ремешки на туфлях, снимает их и, держа в руках, подходит к белому дивану, испещренному разноцветными пятнами.
— Я возвращалась с вечеринки, ее устраивал где-то на окраине какой-то тип — из тех, которых невозможно запомнить. И увидела свет. Он горел сразу во всех окнах.
Лейла садится на диван, поджав под себя одну ногу. Скотт проводит рукой по волосам. Кожа на его голове сейчас имеет цвет вареного лобстера. Затем он подходит к кофейному столику и берет помаду.
— Представьте, пятидесятилетний мужчина заявил мне, что хочет понюхать мои трусики, — говорит Лейла. — Нет, не так, погодите. Он хотел, чтобы я сняла трусики и положила их ему в карман. Видите ли, потом, вернувшись домой, он дождется, когда его жена заснет, пойдет в ванную, станет нюхать их и мастурбировать, а потом кончит в раковину.
Встав с дивана, Лейла подходит к бару и наливает себе чего-то в стакан. Скотт, который, похоже, в эту минуту никого и ничего не замечает, открывает футляр с помадой, рисует на стене линию, затем закрывает — оттенок его не устраивает.
— Представьте, как он выпучил глаза, когда я сказала, что трусиков на мне нет, — продолжает Лейла, отхлебывая из стакана и наблюдая за тем, как Скотт пробует помаду оттенка «летний алый». — Вы когда-нибудь задумывались о том, как все было раньше?
— Когда раньше? — спрашивает Скотт, не оборачиваясь.
Лейла ложится на диван.
— Иногда меня беспокоит то, что люди разговаривают со мной, потому что я богата или потому что хотят меня трахнуть.
— Иногда, — говорит Скотт, — люди вполне могут просто пытаться угадать, что вы закажете, аперитив или коктейль.
— Я имею в виду не тех, кто разговаривает со мной по служебной необходимости, а другую ситуацию. Представьте себе вечеринку или деловую встречу. Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь думал обо мне так: «Вот человек, который может привнести кое-что полезное в общую дискуссию, высказав свое мнение».
Скотт закрывает очередной футляр с губной помадой и отступает на шаг назад, чтобы оценить свою работу.
— Как-то раз, когда мне было семь лет, я убежал из дома, — говорит он. — То есть не то чтобы совсем сбежал, а просто залез на дерево на заднем дворе и затаился. «Я им покажу, они у меня попляшут», — думал я о своих домашних. Не помню, почему это случилось — наверное, за что-то на них обиделся. Мама заметила меня из окна кухни — мальчика, сидящего на ветке с рюкзаком на плечах и с подушкой под мышкой. Я смотрел на нее очень сердито, но она, не обращая на меня внимания, продолжала готовить ужин. Потом я увидел, как все сели за стол и стали есть — мама, папа, моя сестра. «Передай мне, пожалуйста, печенье», — говорили они друг другу. Потом, помыв посуду, стали смотреть телевизор. А я, сидя на дереве, начал мерзнуть.
Скотт на некоторое время умолкает и наносит на стену несколько штрихов углем.
— Вы когда-нибудь пробовали спать на дереве? — спрашивает он немного погодя. — Это очень трудно. Чтобы заснуть на дереве, нужно быть пантерой. Свет в окнах поочередно стал гаснуть. Я забыл захватить с собой еду, и свитер тоже. В общем, еще через некоторое время слез с дерева и пошел домой. Задняя дверь была не заперта. Мама оставила на столе тарелку с едой и записку: «Мороженое в холодильнике». Я поел в темноте, а потом поднялся наверх и лег спать.
— Ну и что?
— Ничего. Просто в моей жизни был такой эпизод.
Скотт чертит углем по стене, изображая тень. Лейла, лежа на боку, поднимает вверх руку и ногу.
— В новостях сказали, что тот мальчик, которого вы спасли, перестал говорить. Вроде бы после авиакатастрофы он не произнес ни слова. Не знаю, откуда телевизионщикам это известно, но так они утверждают.
Скотт потирает лицо, оставляя угольные пятна на виске.
— Когда я пил, — сообщает он, — то болтал без умолку. Трещал без конца. Мне казалось, я говорю то, что люди хотят слышать. Или провоцировал их, дерзил им, считая необходимым высказывать правду в глаза.
— Какой напиток вы предпочитали?
— Виски.
— Это очень по-мужски.
Скотт снимает колпачок с желтого маркера и задумчиво проводит им линию на большом пальце своей левой руки.
— А когда я бросил пить, то перестал и болтать, — продолжает он. — Что, собственно, я мог сказать? Для того чтобы говорить, нужен — не знаю, как это объяснить, — оптимизм, что ли. Я перестал понимать, в чем вообще цель общения. Имеет ли хоть какое-то значение, что именно мы говорим друг другу и для чего это делаем? Вот такие мысли приходили мне в голову.
— У того, о чем вы сейчас говорите, есть название, — замечает Лейла. — Обычно такое состояние называют депрессией.
Скотт откладывает маркер и медленно поворачивается кругом, оценивая сделанное. Теперь, когда комната приобрела цвет, глубину и форму, на него вдруг наваливается страшная усталость. Он замечает, что Лейла сняла платье и лежит на диване совершенно нагая.
— Вижу, вы не шутили насчет белья, — говорит Скотт.
Лейла улыбается:
— Всю ночь я была счастлива, зная, что у меня есть секрет. Все говорили про катастрофу самолета, гадали, из-за чего это произошло. Может, теракт или некая тайная организация начала кампанию под лозунгом «Убей богатенького»? А если какие-нибудь типы из Северной Кореи, чьи деньги отмывал Киплинг, решили расправиться с ним, чтобы он их не сдал? Жаль, что вас там не было. Потом разговор принял другое направление. Все эти набитые деньгами представители элиты стали рассуждать про мальчика — про то, заговорит он когда-нибудь или нет. И про вас тоже.
Лейла пристально смотрит на Скотта. Он идет в кухню и, открыв кран, смывает над раковиной остатки угля и помады со своих рук. Когда он возвращается в гостиную, видит, что диван пуст.
— Я здесь, — доносится голос Лейлы из спальни.
Скотт на минуту задумывается о том, что должно случиться после того, как он присоединится к хозяйке апартаментов, лежащей в постели. И идет в кабинет, где стены все еще остаются белыми. Это вызывает у него неприятное ощущение назавершенности проделанной работы. Поэтому он прижимается торсом, покрытым пятнами угля, помады и свеклы, к штукатурке, оставив на ней отпечаток своего тела. Потом он подходит к столу и снимает телефонную трубку.
— Я вас разбудил? — спрашивает он, когда Элеонора отвечает на его звонок.
— Нет. Мы уже встали. Ребенку приснился кошмар.
Скотт представляет себе, как маленький мальчик беспокойно ворочается в постели.
— А что он сейчас делает?
— Ест овсянку. Я пыталась снова его уложить, но он так и не заснул.
— Я могу с ним поговорить?
Скотт слышит, как Элеонора откладывает трубку. Затем до него доносится приглушенный звук ее голоса — она окликает мальчика. Чувствуя, как на него снова наваливается страшная тяжесть, Скотт, растягивая телефонный провод, ложится на пол. Еще через несколько секунд трубка на другом конце стукается о нечто твердое, а затем Скотт слышит чье-то дыхание.
— Привет, приятель, — произносит Скотт и делает небольшую паузу. — Это Скотт. Похоже, мы с тобой оба сегодня рано проснулись. Говорят, тебе приснился плохой сон?
Скотт слышит, как Лейла в спальне включает телевизор и находит 24-часовой новостной канал. Джей-Джей продолжает молча дышать в микрофон.
— Я тут подумал, заехать ли мне проведать тебя, — предлагает Скотт. — Ты мог бы — я не знаю — показать свою комнату. В городе сейчас жарко. Твоя тетя говорит, что вы живете недалеко от реки. Я бы поучил тебя бросать камни так, чтобы они прыгали по воде, или…
Скотту вдруг приходит в голову, что он сморозил глупость: «давай-ка пойдем с тобой к другой большой воде». Возможно, мальчик всякий раз вздрагивает, нажимая на рычаг унитаза.
— Знаешь, что помогает мне преодолеть страх? — спрашивает Скотт. — Подготовка. Надо просто понять, что нужно делать, и действовать правильно. Например, если на человека нападает медведь, нужно притвориться мертвым. Ты это знал?
Скотт чувствует, как страшная тяжесть давит ему на плечи все сильнее.
— А если лев? — спрашивает мальчик.
— Насчет льва точно не знаю. Но давай сделаем так. Я все выясню и расскажу тебе, когда мы увидимся. Ладно?
Следует долгое молчание.
— Ладно, — тихо произносит ребенок.
Трубку снова берет Элеонора.
— Ничего себе, — удивленно говорит она. — Прямо не знаю, что сказать.
Наступает тишина. Скотт тоже не может подобрать подходящие слова. Тем не менее для него совершенно очевидно: что бы ни утверждали психологи, мальчик будет разговаривать только с ним, и ни с кем другим.
— Я сказал, что навещу его, — говорит наконец Скотт. — Вы не против?
— Что вы, конечно, нет. Он будет… мы будем рады.
Скотт улавливает в ее голосе нотки напряжения.
— А как насчет вашего мужа? — интересуется он.
— Он вообще мало кому радуется.
— А вам?
Снова пауза.
— Иногда.
Еще некоторое время оба, Скотт и Элеонора, молчат. Из спальни, в которой находится Лейла, доносится какой-то звук, похожий на вздох, но Скотт не может определить, издала ли его хозяйка апартаментов или это всего лишь шум телевизора.
— Ладно, — говорит он. — Скоро взойдет солнце. Постарайтесь хоть немного поспать днем.
— Спасибо за звонок, — отвечает Элеонора. — Хорошего вам дня.
Услышав эти слова, Скотт невольно улыбается.
— И вам тоже.
Повесив трубку, Скотт еще некоторое время лежит на полу, борясь со сном, затем, сделав над собой усилие, поднимается на ноги. Он идет на звук телевизора. На ходу снимает с себя футболку, трусы и бросает их на пол. Потом начинает подряд нажимать на все попадающиеся ему по дороге выключатели, гася свет в одной комнате за другой. Затем исчезает в ванной комнате. Когда он появляется оттуда и входит в спальню, Лейла лежит на кровати на боку, чуть приподняв бедро — она прекрасно знает, что в этой позе выглядит весьма соблазнительно, — и с преувеличенным вниманием смотрит на экран. Немного озябший Скотт забирается в постель. Лейла выключает телевизор. Солнце еще только начинает выглядывать из-за горизонта. Скотт ложится головой на подушку. Лейла сначала протягивает к Скотту руки, а потом вся придвигается к нему, ложится поперек его бедер и туловища. Изогнувшись, она находит губами его шею и кладет ладонь ему на грудь. Ее внушительный бюст касается плеча Скотта. Тело у Лейлы упругое и горячее.
— Тебе ведь нравится разговаривать со мной, правда? — обольстительно шепчет она, дыша Скотту в ухо.
Но Скотт не слышит ее — он уже спит.
Картина № 4
Поначалу тому, кто смотрит на нее, кажется, что это просто белый холст, покрытый грунтовкой. Однако, если подойти ближе, можно заметить, что белизна имеет рельеф. Словно грунтовка наложена неровно и на ней в некоторых местах получились возвышения — вроде крохотных горных хребтов. А кое-где — такие же крохотные долины. Потом под белой краской начинают угадываться цвета, и у смотрящего на полотно возникает ощущение, будто под слоем белизны что-то спрятано. Впрочем, рассмотреть чего-либо на картине невозможно. Зато смысл изображения можно понять, если закрыть глаза и пощупать его. Пальцы угадывают очертания полуразрушенных зданий. Воображение само дорисовывает все остальное: пламя, город, лежащий в руинах. А потом снег, засыпающий обгорелые здания и человеческие тела.
Общественное/личное
Его будит автомобильный гудок, длинный и настойчивый. Лейла ушла. Скотт встает с кровати и голый подходит к окну. Внизу он видит припаркованный у обочины телевизионный фургон со спутниковой антенной.
Итак, они его нашли.
Отойдя от окна, Скотт берет пульт и включает телевизор. На экране возникает изображение белого трехэтажного дома с голубоватыми стеклами окон. Он расположен на засаженной деревьями нью-йоркской улице. Это тот самый дом, в котором находится Скотт. Внизу экрана идет бегущая строка. Мелькают слова и цифры. NASDAQ снижается на 13 базисных пунктов, индекс Доу-Джонса растет на процент с небольшим. Всю левую сторону экрана занимает изображение сидящего в студии Билла Каннингема. Он чуть наклонился вперед, к объективу камеры.
— …Видимо, он временно проживает у известной своими радикальными взглядами будущей наследницы огромного состояния, отец которой в прошлом году пожертвовал на нужды левых организаций более четырехсот миллионов долларов. Вы понимаете, дорогие телезрители, о ком я говорю. Речь идет о человеке, который в 2012 году попытался купить себе победу на выборах. Так вот, перед вами дом его славной маленькой дочурки. Впрочем, не такой уж маленькой — взгляните на ее фото, сделанные ранее в этом году на кинофестивале во Франции.
На экране появляются снимки, на которых изображена Лейла в весьма откровенных вечерних платьях. Фотографии явно взяты из скандальных публикаций в прессе. Есть среди них и одна, на которой Лейла заснята в бикини на палубе яхты какого-то актера. Фото явно сделано с помощью специального объектива с большого расстояния.
Интересно, где сейчас Лейла, думает Скотт. Не исключено, что она сидит дома и тоже смотрит репортаж Эй-эл-си.
Внезапно входная дверь гостевых апартаментов распахивается. Появляется Лейла, которая словно услышала мысли Скотта. Она одета в строгий костюм, словно собирается на официальную встречу.
— Я никому не говорила, клянусь, — с порога заявляет она.
Скотт пожимает плечами. Он и не думал, что его сдала журналистам именно Лейла. По его мнению, они оба в данном случае могут считаться пострадавшими.
На экране тем временем снова возникает дом Лейлы. Хорошо видны выкрашенные голубой краской входная дверь и еще две, ведущие в гараж. Кроме тонких, полупрозрачных штор, окно убежища Скотта прикрывает от голодных до жареных фактов телевизионных волков только жидкая крона чахлого молодого деревца. Скотт, словно зачарованный, продолжает смотреть в телевизор. Похоже, ему все же придется стать публичной фигурой, хотя он этого совсем не хочет.
Как странно, думает Скотт.
Лейла подходит к нему. Видно, что она хочет что-то сказать, но потом решает этого не делать. Вместо этого разворачивается и уходит. Скотт слышит, как хлопает входная дверь. Затем до него доносится стук каблуков Лейлы о ступеньки лестницы. Тем временем телерепортаж продолжается.
Билл Каннингем возбужденно говорит:
— Несколько секунд назад было замечено движение в одном из окон на верхнем этаже. Источники утверждают, что мисс Мюллер живет в этом доме одна. Как вы думаете, дорогие телезрители, сколько в нем спален? Мне кажется, не менее шести. Я не могу не обратить ваше внимание на любопытный факт. Руководитель консервативного новостного канала погибает при таинственных обстоятельствах, а единственный оставшийся в живых пассажир самолета вдруг оказывается в доме дочери активного сторонника левых. Возможно, некоторые назовут это совпадением, но я так не считаю.
На экране одна из гаражных дверей начинает открываться. Скотт наклоняется вперед, чтобы лучше рассмотреть происходящее. Ему вдруг кажется, что сейчас из гаража появится машина, за рулем которой находится не кто-нибудь, а он сам. Однако чуда не происходит. Из гаража выезжает черный «мерседес». За рулем сидит Лейла в огромных солнцезащитных очках. Человек с телекамерой в руках пытается преградить дорогу автомобилю, но не успевает этого сделать. Прибавив газу, Лейла, едва не сбив оператора и еще одного телевизионщика, делает левый поворот и выезжает на Бэнк-стрит. Затем машина с еще большей скоростью уезжает в сторону Гринвич-авеню. Гаражная дверь закрывается.
— Это определенно была владелица дома, — говорит Каннингем. — Но вот вопрос: не может ли оказаться так, что этот самый Бэрроуз сидел, скрючившись, на заднем сиденье, как тот тип в фильме Пекинпа, который совершил побег из тюрьмы?
Скотт выключает телевизор. Он остался в огромном доме один. Если питаться раз в день и экономить продукты, вполне можно провести в гостевых апартаментах, никуда не выходя, шесть дней. Однако Скотт, приняв душ, одевается, собираясь отправиться на улицу. «Магнус», — думает он. Кроме него, проболтаться не мог никто. Однако, когда Скотт звонит приятелю, тот заявляет, что ни при чем.
— Я хочу, чтобы ты арендовал для меня машину, — прямо говорит Скотт после нескольких неудачных намеков объяснить Магнусу, что ему нужно. Магнус находится далеко от центра города, в районе, который раньше называли испанским Гарлемом. Он явно под хмельком, хотя часы показывают всего десять утра.
— Ты поговорил с Лейлой? Замолвил за меня словечко? — интересуется он. — Шепнул в ее очаровательное ушко, что Магнус — лучший художник на свете?
— Шепнул. Вчера я весь вечер рассказывал ей, какой ты мастер цвета и как здорово умеешь использовать свет.
— Молодчина.
— Она собиралась взглянуть на твою новую работу в конце этой недели.
— Знаешь, я надрался, — говорит Магнус. — Это случилось в течение последних нескольких секунд. Рожа красная и вся распухла, как будто от змеиного укуса.
Скотт подходит к окну. Закрывающие его шторы совсем тонкие, но рассмотреть чего-либо сквозь них невозможно. Скотт пытается выглянуть в узкую щель у края окна, хотя и понимает, что его могут заметить. Он успевает увидеть, как у обочины останавливается второй телефургон.
— Только машина должна быть маленькая и неприметная, — говорит он в трубку. — Она нужна всего на пару дней — мне надо кое-куда съездить. В северную часть штата.
— Ты хочешь, чтобы я поехал с тобой? — спрашивает Магнус.
— Нет. Ты нужен мне здесь. Кстати, Лейла любит бодрствовать всю ночь. Надеюсь, ты меня правильно понял.
— Само собой. Я тебя не подведу, дружище. Накупил столько виагры, что хватит до Хеллоуина.
Повесив трубку, Скотт берет свою куртку и идет в гостиную. На пороге комнаты вдруг резко останавливается. Он совсем забыл, что недавно потратил немало усилий, чтобы нарушить монополию белого цвета в интерьере. Теперь стены покрывают картины, выполненные углем и помадой, с добавлением бордовых пятен — подсохших следов от свеклы. Кажется, будто белая мебель стоит прямо на улице, среди прилавков фермерского рынка, заваленных овощами и фруктами. В дальнем конце гостиной на стене изображен рыбный ряд, где на длинном белом дощатом столе выставлены ящики с морскими обитателями, переложенными кусками льда. Рядом демонстрируют свой товар продавцы ягод. Скотт успел даже углем нарисовать по памяти лица некоторых продавцов.
Композиция включает и изображение Мэгги, сидящей на белом полотняном стуле. На стене нарисованы ее голова и плечи, а контуры тела — прямо на обивке стула. Глаза закрывает тень от большой летней шляпы, однако по губам видно, что Мэгги улыбается. По обеим сторонам от стула — ее дети. Девочка стоит справа от матери. Мальчика почти не видно — его скрывает приставной столик. Рассмотреть можно только часть его плеча и маленькую руку. На Джей-Джее рубашка в полоску с коротким рукавом. Полоски бордового цвета Скотт нарисовал с помощью все той же свеклы.
Некоторое время Скотт стоит, замерев, в центре комнаты, окруженный призраками. Затем спускается вниз, чтобы предстать перед толпой журналистов.
Джек
— Я никогда не любил тренироваться, — часто говорил Джек Лаланн. — Но мне нравятся результаты тренировок.
Результаты действительно впечатляли. Рельефность его трицепсов вызывала изумление даже у специалистов, его могучие бедра были словно у тяжеловоза клайдсдейлской породы. Лаланн — мужчина среднего роста, но благодаря своей мышечной массе казался огромным. У себя дома он создал нечто вроде музея бодибилдинга, в котором собраны сложные тренажеры. Большинство из них Джек сделал собственными руками. Именно он в 1936 году изобрел машину для разгибания ног, предназначенную для наращивания четырехглавых мышц бедра. Главный принцип его тренировок состоял в том, чтобы добиваться сверхпредельного утомления отдельных мышечных групп. По мнению Лаланна, увеличение силы и массы мышц достигается путем огромных, поистине нечеловеческих нагрузок. В дополнение к этому требовался правильно организованный процесс восстановления мускульных волокон, использование их способности к суперкомпенсации.
Довольно долгое время он тренировался в футболке и обычных спортивных брюках. Джеку нравилось чувствовать, как мускулы, наполняясь кровью, растягивают тонкую ткань одежды. Затем он решил, что лучше упражняться в плотно обтягивающем специальном трико — своего рода униформе самосовершенствования. Отправившись на Оклендскую фабрику, которая занималась пошивом спортивной одежды, он передал руководству предприятия эскизы и набор красителей, в основном синего и серого цвета. Чернокожая женщина обмерила Джека сантиметровой лентой, разъезжая вокруг него на скрипучем металлическом стуле с колесиками. В те времена единственной тканью, способной сильно растягиваться, была шерсть. Поэтому трико сшили именно из нее, сделав материал предельно тонким. Полученный результат привел Джека в восторг, о чем он и сообщил сотрудникам фабрики, позируя перед зеркалом. Зрелище в самом деле было внушительное: короткие рукава не скрывали перекатывавшиеся под кожей мощные бицепсы, а могучие плечи казались еще шире на фоне подчеркнутой трико тонкой талии.
Крупная аптечная сеть заключила с Джеком контракт на запуск шоу на кабельном канале Кей-джи-оу-ТВ. Лаланн стал рассказывать телезрителям о том, чего можно добиться с помощью диеты, специальных комплексов упражнений для всех групп мышц. Шесть лет спустя шоу стало общенациональным. Сидя на кухне перед телевизором и глядя на Джека, американцы ели на завтрак рекомендованные им продукты, делали наклоны и приседания. Со временем благодаря шоу Лаланна в их лексикон прочно вошли такие выражения, как приседания с выпрыгиванием, подскоки на месте с выбросом рук — их еще стали называть «прыгающий джек», подъем ног из положения лежа.
В расцвете сил Джек был великолепным атлетом, брюнетом с квадратной челюстью и фигурой, напоминающей песочные часы. Лицом похож на Фрэнки Валли, певца с итальянскими корнями. Долгое время Лаланн являлся для многих людей кумиром. Он объяснял им, какие процессы происходят внутри человеческого тела, и при помощи анатомических атласов и схем показывал, как оно работает. Он словно говорил: «Посмотрите сюда. Видите? Мы не животные, наше тело — архитектурный шедевр. Кости, сухожилия, мышцы — все это великолепный ансамбль, который может быть невероятно красивым». Джек убеждал своих зрителей, что в человеческом теле все взаимосвязано, что каждый орган, каждая мышца выполняют свою важную функцию.
Даже улыбка, говорил он, представляет собой результат работы мимических мышц, которые действуют под влиянием определенных эмоций — радости, веселья. В семидесятые годы, когда цветное телевидение окончательно пришло на смену черно-белому, Джек создал свое ток-шоу, в котором брал интервью у звезд бодибилдинга, расспрашивая об их диетах и образе жизни. К этому времени США успели потерпеть поражение во Вьетнаме, американские астронавты — побывать на Луне, а Никсону в недалеком будущем предстояло пережить позорную процедуру импичмента и уйти в отставку. Люди смотрели шоу Лаланна, потому что им нравилась его неуемная, брызжущая через край энергия. Они включали его передачу, потому что многим из них в конце концов надоедало, посмотрев вниз, видеть собственное толстое брюхо. «А теперь прямо из Голливуда — ваш персональный тренер по фитнесу и консультант по вопросам здорового образа жизни Джек Лаланн!» — объявлял ведущий. В следующие тридцать минут зрители с изумлением узнавали, какие возможности скрыты в человеческом теле и как много на свете способов стать более сильным и здоровым. Это улучшало их настроение, придавало сил.
«Разве не лучше, имея проблему, при этом чувствовать себя счастливым, чем с той же проблемой ощущать себя несчастным?» — спрашивал Джек. Ответа он не требовал — все и так было очевидно. «Держитесь, не сдавайтесь, — говорил он в тяжелые годы рецессии. — Когда жизнь обходится с вами жестко, вы должны стать еще сильнее, чтобы выдержать испытания до конца».
Как-то раз в момент вдохновения Джек понял, что люди нуждаются не столько в комплексах физических упражнений, сколько в умении позитивно смотреть на жизнь.
Телеканал уменьшил количество рекламных роликов и увеличил продолжительность шоу Лаланна. Теперь, появляясь на экране, он сидел на металлическом стуле, откинувшись на спинку.
— Знаете, что я вам скажу? — обращался он к зрителям. — В этой стране очень много рабов. Скорее всего, каждый из вас — один из них. В ответ вы, вероятно, скажете: Джек, как человек может быть рабом в такой свободной стране, как Америка? Нет, я говорю не о том, о чем вы подумали. Называя вас рабом, я хочу сказать, что есть много вещей, которых вы не делаете, хотя очень этого желаете. И именно это делает вас рабом, таким же, как те, что жили в прежние времена. Скованным цепями по рукам и ногам. Они тоже не могли пойти туда, куда им хотелось, и делать то, что им нравилось. Да-да, вы такой же раб, как и они.
Говоря это, Джек пристально смотрел прямо в объектив. Потом наклонялся и, четко артикулируя каждый слог, произносил:
— Вы раб своего собственного тела.
«Человеческое сознание, — говорил Джек, — остается активным, пока человек не умирает. Но зачастую оно полностью подчинено телу. А наши тела настолько ленивы, что единственное, чего они хотят, — это сидеть на месте и ничего не делать. И в том, что все обстоит именно так, виноваты вы. Получается, не вы управляете своим телом, а оно вами».
Заря телевизионной эры давно уже была позади. Телевидение успело приобрести гипнотическую власть над людьми. И вдруг появился Джек, призывающий людей оторваться от дивана. Всем своим видом, каждым своим движением он убеждал их, что это не так трудно — стоит только захотеть. Ни один философ, живой или умерший, не смог бы убедить Джека в том, что эта проблема имеет экзистенциальный характер. Для него она решалась благодаря силе воли.
Джек оказался на вершине славы в эпоху Базза Олдрина, Нила Армстронга и Джона Уэйна. Америка в то время была на подъеме. Казалось, что страна может противостоять любому вызову и преодолеть все препятствия.
Джек убеждал телезрителей, что США — это страна будущего, что придет время, когда американцы, как герои научно-фантастических романов, на космических кораблях отправятся завоевывать просторы Вселенной.
Правда, что касается лично Джека, он бы предпочел это делать не сидя в ракете, а бегом.
В глаза ему бьет яркий свет софитов. Телеоператоры взяли его в полукольцо. Скотт инстинктивно щурится, понимая, что на первых кадрах хроники будет выглядеть не лучшим образом. Как только он вышел из подъезда, на него набросилась целая свора — мужчины с камерами на плечах, женщины с микрофонами, волочащие за собой шнуры по тротуару, который усыпан расплющенными комочками жевательной резинки.
— Скотт! — повторяют они на все лады. — Скотт, Скотт!
Он останавливается на пороге и оставляет дверь полуоткрытой, чтобы на всякий случай иметь путь к отступлению.
— Привет, — говорит Скотт.
На него начинают со всех сторон сыпаться вопросы. Все журналисты говорят одновременно, перебивая друг друга. Скотт поднимает руку.
— Что вы от меня хотите? — интересуется он.
— У нас к вам несколько вопросов, — отвечает один из телевизионщиков.
— Я первая сюда приехала, — заявляет Ванесса Лэйн, женщина-репортер, блондинка с микрофоном, на котором отчетливо видно название телеканала — Эй-эл-си. Она тут же сообщает, что находится на прямой связи с Биллом Каннингемом, который инструктирует из студии через микрофон, прикрепленный к ее уху.
— Скотт, — говорит она, локтями проложив себе дорогу в первый ряд, — что вы здесь делаете?
— Где? Здесь, на улице? — уточняет Скотт.
— В доме мисс Мюллер. Она что, ваша хорошая знакомая? Или, может быть, даже больше, чем знакомая?
Скотт несколько секунд размышляет над заданным вопросом и понимает, что не вполне точно понимает его смысл.
— По этому поводу мне надо немного подумать, — говорит он. — Трудно сказать, можно ли нас назвать друзьями. Мы познакомились совсем недавно. И потом, нужно учитывать и ее мнение. Мне трудно предположить, что она думает на этот счет.
Ванесса хмурится.
— Расскажите нам про авиакатастрофу, — говорит она. — Как это было?
— В каком смысле?
— Расскажите, как вы оказались один в бушующем океане, как услышали крики мальчика.
Скотт снова погружается в размышления. Поскольку он молчит, вопросы продолжают сыпаться на него как из рога изобилия.
— Скотт, — кричит в микрофон какая-то брюнетка, — почему произошла катастрофа? Что случилось?
На улице появляется молодая пара. Не желая оказаться в центре всеобщего внимания, парень и девушка пересекают проезжую часть и проходят по противоположному тротуару, при этом внимательно наблюдая за толкотней у входа в трехэтажный белый особняк. Происходящее со Скоттом вполне можно назвать несчастным случаем, поэтому нет ничего удивительного в том, что на него глазеют зеваки.
— Полагаю, самым правильным с моей стороны будет сказать, что я толком не успел ничего понять, — отвечает Скотт Ванессе, проигнорировав вопрос, заданный ему темноволосой девицей. — Мне не с чем сравнить мои ощущения. Конечно, меня поразил океан — его бескрайность, его невероятная мощь. Стояла полная темнота, луны на небе не было видно. Я пытался определить, в какой стороне находится север. Знаете, когда речь идет о выживании, трудно рассказать, как все было. Хотя, возможно, только эта история и заслуживает внимания.
— Вы разговаривали с мальчиком? — выкрикивает кто-то из задних рядов. — Он был напуган?
Скотт и на этот раз отвечает с задержкой.
— Знаете, для меня это тоже вопрос, — говорит он. — Трудно сказать, как реагирует на подобные вещи мозг четырехлетнего ребенка. Я могу описать свои ощущения. Главным из них было отчетливое понимание того, что я — жалкая песчинка в ночном океане, во враждебной стихии. Но по поводу мальчика мне судить трудно. Хотя страх — древнее, животное чувство, которое присуще человеку на генетическом уровне. И все же в четырехлетнем возрасте…
Скотт умолкает, чувствуя, что журналисты ждут от него чего-то другого. Он понимает, что ему все же следует по возможности удовлетворить их любопытство, чтобы избежать неверных толкований его слов в дальнейшем. «Что вы чувствовали? Как это было? Почему произошла авиакатастрофа? Каково это — плыть в полной темноте неизвестно куда?» Отвечая на каждый из этих вопросов, можно написать целую книгу. Можно годами размышлять над ответами, стараясь найти правильные слова, и добиться максимальной объективности.
— Скажите, а у вас есть дети? — спрашивает Скотт, обращаясь к Ванессе, которой на вид лет двадцать шесть, не больше.
— Нет.
Скотт поворачивается к ее оператору, мужчине лет сорока.
— А у вас?
— Да, есть. У меня маленькая дочка.
Скотт кивает.
— Понимаете, мне кажется, здесь все имеет значение. В том числе и пол ребенка — мальчики воспринимают все иначе, чем девочки. И то, что все случилось ночью, а ребенок в момент катастрофы спал, тоже важно. Может, он решил, что случившееся ему просто снится? Кто знает. Я думаю, здесь играет роль огромное количество факторов.
— Люди считают вас героем! — выкрикивает один из репортеров.
— Это вопрос? — уточняет Скотт.
— Вы сами считаете себя героем?
— Вам придется объяснить мне, что вы понимаете под этим словом. К тому же совершенно неважно мое мнение о себе. Оно часто оказывалось ошибочным — по крайней мере, в глазах других людей. Например, в двадцатилетнем возрасте я считал себя художником, а на самом деле был просто сопляком. Вы понимаете, о чем я?
— Скотт, Скотт! — закричали сразу несколько человек.
— Извините, я чувствую, что не оправдываю ваших ожиданий.
— Скотт! — снова окликает Бэрроуза Ванесса. — У меня вопрос непосредственно от Билла Каннингема. Почему вы оказались на борту самолета?
— В каком смысле?
— Каким образом вы туда попали? — уточняет Ванесса.
— Меня пригласила Мэгги.
— Мэгги — это Маргарет Уайтхед, жена Дэвида Уайтхеда?
— Да.
— У вас был роман с миссис Уайтхед?
Скотт хмурится.
— Вы имеете в виду интимные отношения?
— Да. Такие же, в каких вы теперь состоите с мисс Мюллер, чей отец жертвует миллионы долларов на нужды организаций левацкого толка.
— Этот вопрос задан всерьез?
— Люди имеют право знать правду.
— Значит, вы утверждаете, что у нас с мисс Мюллер был секс, исходя из того, что я побывал внутри ее жилища. Таково ваше логическое заключение.
— Но разве неправда, что вы смогли пробраться на борт самолета благодаря своим любовным успехам?
— И с какой же целью я, по-вашему, туда пробрался — чтобы вместе с самолетом упасть в океан и потом плыть десять миль с травмированным плечом?
Вопросы не вызывают у Скотта гнева — только удивление.
— А разве неправда, что агенты ФБР многократно вас допрашивали?
— Можно ли считать, что дважды — это многократно?
— Почему вы в бегах?
— Вы говорите обо мне как о Джоне Диллинджере. А я всего лишь обыкновенный гражданин, имеющий, как и любой другой, право на частную жизнь.
— После катастрофы вы не поехали домой. Почему?
— Это трудно объяснить.
— Может, все дело в том, что вы что-то скрываете?
— Избегать всеобщего внимания и скрывать что-то — это не одно и то же, — говорит Скотт. — Могу сказать одно — я очень скучаю по своей собаке.
— Расскажите про ваши картины. Это правда, что ФБР их конфисковало?
— Нет. Послушайте, это всего лишь картины. Разве человек может объяснить, почему он рисует то, а не это? Представьте, что, работая над очередным полотном у себя в сарае, он чувствует, что его жизнь пошла под откос. Возможно, именно это лежит в основе всего остального. Но потом, взявшись за картину всерьез, он вдруг обнаруживает, что в ней может быть ключ к пониманию многих вещей. Ну как, я ответил на ваш вопрос?
— Это правда, что на одной из картин вы изобразили катастрофу самолета?
— Да. Этим я хотел подчеркнуть, что все мы смертны. Таков закон природы. Все живое умирает, но осознает свою смертность только человек. Мы каким-то образом умудряемся хранить это знание у себя в голове словно в сейфе, но в него стараемся не заглядывать. То есть мы понимаем, что рано или поздно умрем, в то же время не верим. Но в случаях катастроф с большим количеством жертв, когда тонут паромы или разбиваются самолеты, жизнь ставит нас лицом к лицу с этой правдой, которую нам так трудно принять. Мы осознаем, что когда-нибудь тоже умрем, а вместе с нами умрут наши надежды и мечты. И это может произойти в любой момент. По дороге на работу вы можете сесть в автобус, в котором заложена бомба. Или пойти в «Уолмарт» в черную пятницу, чтобы купить что-нибудь с большой скидкой, и погибнуть под ногами обезумевшей толпы. И все эти мысленные построения начались с того, когда я решил, что моя жизнь мчится под откос.
Ванесса трогает пальцами свой наушник, а затем говорит:
— Билл хочет пригласить вас в студию для интервью один на один.
— Наверное, это очень любезно с его стороны, — отвечает Скотт. — Вот только выражение вашего лица совсем не любезное. Оно у вас как у полицейского.
— Погибли люди, мистер Бэрроуз, — парирует Ванесса. — Думаю, вы понимаете, что сейчас не время для того, чтобы быть любезными.
— Наоборот, как раз сейчас время для этого самое подходящее, — говорит Скотт, после чего поворачивается и идет по улице прочь.
Журналисты проходят следом за ним несколько кварталов, но в конце концов отстают. Скотт старается двигаться не торопясь, понимая, что, возможно, на него смотрят тысячи, а может, и миллионы людей. Выйдя по Бликер-стрит на Седьмую авеню, он садится в такси. Скотт продолжает раздумывать над тем, каким образом телевизионщикам удалось его найти — ведь он находился в запертой квартире и не пользовался мобильным телефоном. Лейла утверждает, что она никому ничего не говорила, и у Скотта нет причин ей не верить. Женщина с состоянием в миллиард долларов не лжет, если ей это не нужно. Лейле же, судя по всему, действительно нравилось то, что у нее имелся маленький секрет от остального мира в виде Скотта, живущего в ее гостевых апартаментах. Что касается Магнуса, то он, безусловно, врет много и по разным поводам, но, похоже, не в этом случае. Правда, ему могли заплатить. И все же интуиция подсказывает Скотту, что его приятель ни при чем.
Возможно, думает он, дело в какой-нибудь новой технологии, о которой ему не известно. Очень может быть, что появился какой-нибудь особенный спутник, или новые чипы, которые можно вживить человеку в организм во время сна.
Раньше Скотт был человеком-невидимкой, но теперь все изменилось. Он не пытается скрыться от своей судьбы, а идет навстречу тому, что его ждет. Устроившись на заднем сиденье такси, Скотт представляет себе, как четырехлетний мальчик поздно вечером не может заснуть и ест овсянку перед телевизором, наблюдая за тем, как на экране мультяшная собака, составленная из букв (собака), разговаривает с такой же мультяшной кошкой (кошка). «Если бы в реальной жизни все было так просто, — думает Скотт. — И люди на самом деле были теми, за кого себя выдают! Как было бы хорошо, когда, глядя на другого мужчину, можно было бы прочесть на нем надпись «друг» и не сомневаться, что так оно и есть. Или, посмотрев на незнакомую женщину, вдруг увидеть слово «жена».
В такси тоже работает телевизор. Скотт, вытянув руку, выключает его.
Джил Барух 9 июня 1967—26 августа 2015
О нем складывали легенды и рассказывали захватывающие истории. Впрочем, пожалуй, это были гипотезы. Джил Барух, 48 лет от роду, выходец из Израиля. Согласно одной из гипотез, он имел собственный дом на западном берегу реки Иордан, причем участок для него в свое время захватил лично. Поговаривали, что Джил приехал на старом джипе в палестинское поселение, отгородил часть его территории и поставил там палатку, не обращая никакого внимания на злобные взгляды местных обитателей. Ходили слухи, что он сам заготовил и привез лес, залил фундамент. Все это Джил якобы делал, накинув ремень автоматической винтовки на шею так, что оружие постоянно находилось у него на груди, готовое к стрельбе. Рассказывали также, что первый возведенный им дом сожгла разъяренная толпа палестинцев, а Джил не только не применил своих навыков меткой стрельбы и рукопашного боя, а просто безучастно стоял в стороне и смотрел на происходящее. Когда же все закончилось, он помочился на пепелище и начал все сначала.
Еще про Джила говорили, что он сын видного и весьма авторитетного израильского деятеля Льва Баруха. Он был правой рукой Моше Даяна, признанного военного лидера, вдохновителя Шестидневной войны. Отец Джила якобы находился рядом с Моше Даяном и в тот самый момент, когда в 1941 году снайпер-вишист угодил пулей в линзу бинокля, с помощью которого будущий министр обороны Израиля осматривал местность. Согласно легенде, Лев Барух вынул из зияющей раны осколки стекла и фрагменты пули и оставался с Даяном в течение нескольких часов, пока обоих не эвакуировали в тыл.
Говорили, что Джил родился в первый день Шестидневной войны, причем его появление на свет в точности совпало с первым выстрелом, послужившим сигналом к началу боевых действий. Это было не совсем так, но подобная версия, пусть даже не вполне соответствующая действительности, давала возможность сказать про Джила, что он дитя войны, зачатый настоящим героем. Поговаривали также, что его матерью была любимая внучка Голды Меир, женщины, обладавшей поистине железной волей, благодаря которой ей удалось построить еврейское государство в самом сердце арабского мира.
Впрочем, находились и такие, кто утверждал, что мать Джила была всего лишь дочерью скромного торговца галантерейными товарами из Киева, симпатичной девушкой, никогда не выезжавшей из Иерусалима. С легендами всегда так — обязательно находятся те, кто ставит их под сомнение. Бесспорным же фактом было то, что Эли, старшего брата Джила, убили в Ливане в 1982 году, а оба его младших брата, Джей и Бен, погибли в секторе Газа во время второй интифады. Джей подорвался на мине, Бена застрелили из засады. Единственную сестру Джил потерял еще в детстве. Частью легенды было то, что Джил притягивал смерть — другими словами, все, кто близко с ним общался, рано или поздно погибали. Сам Джил, однако, счастливо избегал смерти. По слухам, еще до того, как ему исполнилось тридцать лет, он был ранен шесть раз из огнестрельного оружия, выжил после нападения в Бельгии, получив несколько ударов ножом, и уцелел при взрыве во Флоренции, успев спрятаться в чугунной ванне. Снайперы, стрелявшие в него, раз за разом промахивались. За его голову арабские террористы неоднократно назначали награду, но она неизменно оставалась невостребованной.
Джил Барух казался неуязвимым. Однако все, что ему довелось пережить, не могло пройти даром. Испытания, выпавшие на его долю, даже по еврейским меркам многим казались чрезмерными. Встретив его в баре, знакомые мужчины дружески хлопали его по плечу и угощали, но затем отходили от него подальше. Женщины были от него без ума, причем самые разные — от самоуверенных самок с бешеным темпераментом до потерявших вкус к жизни вялых дамочек, переживающих депрессию. Джил старался игнорировать всех. В глубине души он знал, что будет лучше, если в его жизни будет меньше драматических событий, а не больше.
И все же окружавшая его мрачная легенда делала свое дело. За годы своей работы в качестве телохранителя Джилу нередко доводилось спать с самыми красивыми женщинами мира — моделями, принцессами, кинозвездами. В 90-е годы был весьма популярен слух о том, что именно он лишил девственности Анджелину Джоли. Джил имел смуглую кожу, ястребиный нос и густые брови. Тело и душа были покрыты шрамами, в глубине его глаз тлел ироничный огонек, с оружием он не расставался даже во сне. В глазах представительниц противоположного пола все это делало его неотразимым.
Говорили, что не родился еще на свет тот мужчина, которого Джил Барух не мог бы превзойти, о чем бы ни шла речь. Он казался членом касты бессмертных, убить которого было под силу только Богу.
А что такое авиакатастрофа, как не божья кара, посланная тому, что слишком возгордился?
Он работал на семью Уайтхед с тех пор, как Рэйчел исполнилось пять лет. Дэвид нанял его через три года после случая с похищением дочери. Во время пребывания семьи Уайтхед в Нью-Йорке Джил спал в помещении, которое архитекторы старой школы назвали бы комнатой для прислуги — в крохотном закутке, напоминающем монашескую келью и расположенном рядом с домашней прачечной. В доме на Мартас-Вайнъярд для него была отведена комната побольше с окном, выходящим на подъездную аллею. Численность команды охранников, подчиненных Джилу, менялась в зависимости от уровня угрозы. Его определяли эксперты путем анализа электронных сообщений, информации, полученной из источников за рубежом и внутри страны, как частных, так и правительственных, а также исходя из активности террористических организаций и содержания новостных программ канала Эй-эл-си за последние два месяца. Во время событий 2006 года в Ираке подразделение под командованием Джила разрослось до двенадцати бойцов, имевших при себе автоматическое оружие и электрошокеры. Однако обычно оно состояло из троих сотрудников, которые внимательно наблюдали за домом и его окрестностями, готовые в любую секунду начать действовать.
Все передвижения семьи Уайтхед тщательно планировались в тесном контакте с Джилом и его людьми. Они рекомендовали избегать полетов коммерческими рейсами и поездок общественным транспортом. Правда, Джил иногда шел навстречу Дэвиду, позволяя ему добираться до работы на метро. Но всего лишь несколько раз в месяц и в разные, наугад выбранные дни, чтобы эти поездки ни в коем случае не превращались в привычный ритуал и их алгоритм невозможно было просчитать заранее. В такие дни прежде, чем Дэвид показывался на улице, Джил отправлял в офис на машине сотрудника в одежде Уайтхеда. Тот выходил из дома, низко опустив голову, окруженный охранниками, и быстро нырял на заднее сиденье лимузина.
В подземке Джил обычно стоял довольно далеко от Дэвида, чтобы дать ему почувствовать себя обыкновенным пассажиром, но в то же время достаточно близко, чтобы иметь возможность вмешаться в случае малейших признаков опасности. При этом он незаметно для окружающих держал в руке, лежащей на поясе, складную опасную бритву. Она была настолько острой, что при желании ею можно на лету разрезать лист бумаги, и, по слухам, смазана ядом коричневого паука-отшельника. Кроме того, Джил прятал где-то пистолет, который однажды на глазах Дэвида мгновенно выхватил непонятно откуда, не сделав, казалось бы, ни единого движения. Это произошло, когда рядом со зданием компании «Тайм Уорнер» в сторону Дэвида с криком бросился бродяга, держащий в руке что-то вроде обрезка трубы. Дэвид, взглянув на своего телохранителя, сделал шаг назад. В то же мгновение в руке Джила, которая только что была пустой, возник тупоносый «глок», словно в руке фокусника, извлекающего прямо из воздуха монету или шарик для пинг-понга.
Джил любил ездить в метро. Ему нравилось покачивание вагона, скрип и визг трущегося металла. Что-то подсказывало ему, его жизнь не закончится под землей, а он привык верить своей интуиции. Нет, дело было не в страхе смерти. Он уже пережил столько потерь, что в загробном мире его должна была ожидать целая толпа близких и хорошо знакомых ему людей — если только загробный мир действительно существовал и после смерти Джила не ждала черная пустота и тишина небытия. Впрочем, думал он, и такой исход был бы не так уж плох. По крайней мере, раз и навсегда получил бы ясный ответ на вечный вопрос о том, существует ли загробная жизнь.
Тора, надо заметить, не дает на него определенного ответа.
Как обычно, Джил проснулся еще до рассвета. Было третье воскресенье августа, последний день пребывания Уайтхедов на Мартас-Вайнъярд. На празднование Дня Труда президент пригласил их на свое ранчо в Кэмп-Дэвиде. По этой причине большую часть предыдущего дня Джил провел, согласовывая меры безопасности с секретной службой, охраняющей первое лицо государства. Он свободно говорил на четырех языках — иврите, английском, арабском и немецком — и часто шутил: еврей должен знать язык своих врагов и вовремя догадаться, что они против него что-то замышляют.
Впрочем, большинство слушателей шутке не смеялись. Им мешало похоронное выражение лица, с которым Джил ее произносил.
Проснувшись, Джил сразу же привел себя в боевое состояние и сделал это инстинктивно, как только открыл глаза. Обычно он спал не больше четырех часов в сутки: ложился через час или даже два после того, как главное охраняемое лицо и члены его семьи расходились по своим спальням, а вставал за час или два до того, как они просыпались. Джил любил это утреннее время. Сидя на кухне, он прислушивался к механическим звукам, издаваемым бытовой техникой, — жужжанию холодильника, щелчкам системы климат-контроля, охлаждавшей или, наоборот, нагревавшей воздух в доме. Джил был мастером маскировки, способным долгое время неподвижно сидеть или лежать даже в неудобной позе. Говорили, что как-то раз он, рискуя быть обнаруженным палестинцами, умудрился пролежать, не шелохнувшись, на крыше дома в секторе Газа, в глубоком тылу врага, пятеро суток подряд. Все это время он держал в перекрестии на оптическом прицеле снайперской винтовки «Баррет М-82», стоящей на металлических ножках, дверь здания, откуда мог появиться человек, которого Джил должен был ликвидировать.
По сравнению с этим сидеть на роскошной кухне дома мультимиллионера было несравненно приятнее. Поставив рядом с собой термос с зеленым чаем — никто никогда не видел, как он заваривает напиток, — Джил, закрыв глаза, прислушивался к шороху прибоя и к звукам все еще спящего дома. Он хорошо их различал, несмотря на весьма внушительные размеры жилища Уайтхедов. Разумеется, дом был оборудован сенсорными устройствами, датчиками движения, камерами и прочими техническими средствами обеспечения безопасности. Но это всего лишь техника, а ее, как хорошо знал Джил, можно отключить или вывести из строя. Джил Барух являлся специалистом старой школы и предпочитал полагаться прежде всего на свои ощущения и интуицию. Некоторые заявляли, что вместо брючного ремня он использует удавку, но никто не смог получить подтверждение этого.
Правда же состояла в том, что, будучи ребенком, Джил постоянно конфликтовал с отцом по самым разным поводам. К тому времени, когда он родился, глава семьи уже катился по наклонной, неудержимо спиваясь. Его непомерная страсть к алкоголю привела к тому, что в 1991 году он умер то ли от цирроза печени, то ли от сердечной недостаточности. Джил не слишком переживал по этому поводу.
Записи в журнале, сделанные в злополучное воскресенье, не содержат ничего необычного. Муж (Кондор) утром находился дома: читал газету с 8:10 до 9:45, дремал наверху в гостевой комнате с 12:45 до 13:45, с 14:15 по 15:45 сделал и принял несколько телефонных звонков, с 16:30 по 17:40 готовил обед. Жена (Сокол) сходила на местный рынок вместе с Рэйчел в сопровождении охранника по имени Авраам. Мальчик сначала играл в своей комнате, затем брал урок европейского футбола, а с 11:30 до 13:00 спал. Если бы кому-то пришло в голову попытаться найти в этих записях ключ к дальнейшим событиям завершившегося трагедией дня, он наверняка потерпел бы неудачу. Разгадка была в чем-то другом.
Быть идеальным телохранителем не означает находиться в постоянном напряжении. Скорее наоборот, он должен чувствовать изменения в окружающей обстановке, а это возможно только при отсутствии зажатости. Хладнокровие повышает возможности замечать любые, даже самые незначительные мелочи, точно обрабатывать информацию, поступающую от органов чувств. Суть работы личного телохранителя основывается на философии китайского боевого искусства тай чи — сливаться с окружающим, не думать ни о чем, кроме того, что находится вокруг в текущий момент. Это дает возможность предвидеть события, которые произойдут в ближайшее время. Владея этим искусством, можно заранее сказать, каким будет предстоящий дождь и как быстро после него вырастет подстриженная трава. Предугадать, когда Кондор и Сокол в очередной раз начнут ссориться, Рэйчел (Дрозду) станет скучно, а Джей-Джей (Воробей) начнет капризничать и отказываться от дневного сна. Можно заранее спрогнозировать, когда человек в толпе, привлекший ваше внимание, сделает тот самый шаг, который нарушит безопасную дистанцию. Понять, в каком случае следует притормозить на желтый сигнал светофора или, пропустив идущий вверх лифт, сесть в следующий.
Сокол встает первой. Она выходит на кухню в халате, держа на руках Воробья. Кофейная машина, запрограммированная на нужное время, уже сварила ароматный напиток. Затем вниз спускается Рэйчел. Она прямиком направляется в гостиную и включает мультики. Кондор появляется последним, примерно через час, с газетой в руках.
После завтрака к нему подходит Джил.
— Мистер Уайтхед, вы не против, если я проведу инструктаж прямо сейчас?
Кондор смотрит на него поверх специальных очков, которые он надевает, когда читает.
— Мне следует беспокоиться?
— Нет, сэр, речь идет об обычном недельном обзоре.
Кондор кивает и встает. Он знает, что Джил не любит говорить о делах в неформальной обстановке. Мужчины переходят в кабинет Уайтхеда. Полки шкафов в нем плотно заставлены книгами. На стенах развешаны старые карты и фотографии Кондора в обществе знаменитостей — Нельсона Манделы, Владимира Путина, Джона Маккейна, актера Клинта Иствуда. На столе стоит стеклянный футляр, в котором находится бейсбольный мяч с автографом Криса Чемблисса.
— Сэр, вы хотите, чтобы я включил Интерком, чтобы брифинг носил более официальный характер?
— Господи, конечно, нет. Просто расскажите мне вкратце, что и как.
Кондор уселся за стол, взял старый футбольный мяч и, рассеянно перебрасывая его из руки в руку, стал слушать Джила.
— Перехвачено шестнадцать угроз, отправленных по каналам электронной почты — в основном по общедоступным корпоративным адресам. После очередной замены ваших личных адресов в персональной почте ничего подобного не обнаружено. Однако в последнее время в целом отмечается увеличение количества угроз, направленных против американских медийных компаний. Наши люди работают в тесном контакте с организациями, занимающимися обеспечением внутренней безопасности, чтобы быть в курсе последних событий.
— Вы ведь служили в израильской армии, верно? — спросил, воспользовавшись паузой, Кондор, продолжая жонглировать мячом.
— Да, сэр.
— В пехоте или…
— Есть вещи, о которых я не имею права говорить, сэр. Могу лишь сказать, что служил в армии и выполнял свой долг, — давайте ограничимся этим.
Кондор в очередной раз перебросил мяч из руки в руку, но не удержал его. Мяч подпрыгнул, отскочив от пола, по сложной траектории прокатился по полу и исчез под портьерой.
— Есть ли какие-нибудь прямые угрозы? — поинтересовался Кондор. — Что-то вроде: «Дэвид Уайтхед, мы собираемся тебя прикончить»?
— Нет, сэр. Ничего такого.
— Ладно. А этот парень? Тот, о котором мы никогда не говорим, укравший мою дочь? Он когда-нибудь обещал пустить кровь сотрудникам медийных корпораций? Отправлял электронные письма с угрозами? Похоже, нет. Этот ублюдок просто решил, что мы достаточно богаты. Он очень хотел денег и без колебаний убил няню.
— Да, сэр.
— Что вы предпринимаете, чтобы защитить нас от подобных типов? Тех, кто не посылает угроз.
Если Джил и почувствовал недовольство Дэвида Уайтхеда, он никак этого не показал. По его мнению, клиент задал резонный вопрос.
— Оба дома вполне безопасны. Машины, которыми вы пользуетесь, имеют броневую защиту. Мероприятия по обеспечению охраны организованы таким образом, что они заметны со стороны. Если они выберут в качестве цели вас или членов вашей семьи, то первым делом увидят нас. Тем самым мы посылаем им ясный сигнал: есть более уязвимые цели.
— Но вы можете стопроцентно гарантировать нашу безопасность?
— Нет, сэр.
Кондор кивнул. Разговор закончился. Джил направился к двери.
— Вот что, чуть не забыл, — окликнул его Кондор. — Миссис Уайтхед пригласила Киплингов лететь с нами.
— Бена и Сару?
Кондор кивнул.
— Я дам знать экипажу, — сказал Джил.
Он давно пришел к выводу, что хороший телохранитель должен напоминать зеркало, способное верно отражать происходящее. Клиент хотел знать, что охрана всегда рядом.
Разумеется, Джил, будучи профессионалом, прочел досье похитителя. Более того, многие его фрагменты он и сейчас мог бы процитировать по памяти. Джил даже переговорил с агентами, которые участвовали в операции по освобождению ребенка, чтобы прояснить для себя кое-какие детали. Например, как вели себя главные охраняемые лица? Сохранял ли Кондор, находившийся в состоянии сильнейшего напряжения, внешнее хладнокровие или проявлял несдержанность? Поддалась ли Сокол панике, была ли она сломлена горем или же, наоборот, показала твердость характера? Похищение ребенка в работе Джила было, пожалуй, самым тяжелым вариантом, хуже, чем смерть. Хотя следовало признать, что, если украденных детей и удавалось найти, в девяти случаях из десяти они оказывались мертвыми. Пропажа ребенка отключала у родителей инстинкт самосохранения. Их собственная жизнь и здоровье, материальное благополучие — все отходило на второй план. Это делало людей неадекватными. Поэтому зачастую главной проблемой при похищении ребенка становились именно родители.
В случае с Дроздом факты были таковы. За 24 часа до похищения няня ребенка, Франческа Батлер, все называли ее Франки, была захвачена, вероятно, когда возвращалась из кинотеатра. Преступник путем угроз или применения силы выведал у нее информацию о плане дома, который арендовали Уайтхеды, а также об их распорядке дня. Особенно важными для него были сведения о том, в какой комнате обычно находилась девочка. В ночь похищения между 00:30 и 1:15 преступник установил взятую из сарая приставную лестницу у окна гостевой комнаты. Судя по следам на раме, запертое окно он вскрыл с наружной стороны с помощью ломика — дом был старый, окна в нем не меняли много лет, а потому рамы деформировались, и между ними имелся зазор.
В дальнейшем следствие пришло к выводу, что преступник, похитивший ребенка, действовал в одиночку, впрочем, по этому поводу было немало споров. Согласно официальной версии, похититель приставил лестницу к стене, взобрался по ней на второй этаж, вскрыл окно, проник в комнату, взял ребенка и, держа его в руках, спустился вниз. Лестницу он убрал обратно в сарай, а девочку увез или унес в неизвестном направлении. Правда, возникал вопрос: куда преступник, возясь с лестницей, дел ребенка — посадил в машину? По словам родителей, Рэйчел исчезла. Однако Джил прекрасно знал, что никто не пропадает бесследно.
В данном случае похититель-одиночка попросту перенес Рэйчел Уайтхед (Дрозда) через улицу и спрятал ее в доме, где шли ремонтные работы, — на чердаке, где в дневное время стояла страшная жара. Еду для девочки он держал в переносном холодильнике из красного пластика. Вода поступала на чердак по шлангу, присоединенному к крану в ванной комнате на втором этаже. Тело няни, Франчески Батлер, лежало на первом этаже, накрытое листами картона.
Именно из этого ремонтируемого дома похититель, 36-летний бывший заключенный Уэйн Р. Мэйси, наблюдал за тем, что происходило в жилище Уайтхедов, расположенном на другой стороне улицы. Теперь, когда с момента похищения прошло несколько лет, Джил знает, что, вопреки мнению следствия, действия Мэйси не были частью тщательно спланированного заговора. Когда речь идет о таком человеке, как Дэвид Уайтхед, обладателе многомиллионного состояния и видном общественном деятеле, логично было предположить, что похититель руководствовался особыми, нестандартными мотивами. Кроме того, Мэйси должен был ясно представлять, кто тот человек, против которого направлено совершаемое им преступление, и насколько обширными возможностями он обладает. Однако факт оставался фактом: Мэйси, похоже, знал лишь о том, что Дэвид Уайтхед богат и его никто не охраняет. Он отсидел срок в Фолсомской тюрьме за вооруженное ограбление и вернулся на Лонг-Айленд в надежде начать новую жизнь. Но, как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Уэйн любил выпить, а потому часто менял место работы, будучи не в состоянии удержаться где-либо на протяжении продолжительного времени. А потом, в один прекрасный день, таская мешки с мусором на заднем дворе магазина «Дэйри Куин», он подумал: «Кого я пытаюсь обмануть — самого себя? Пришло время самому решать свою судьбу».
Мэйси решил сорвать большой куш, похитив ребенка богатых родителей. Поначалу он присматривался к двум другим семьям, но затем решил выбрать иную цель. Причины были просты: в обоих случаях мужчины почти все время находились дома, к тому же жилые помещения оборудованы охранными системами. Потом его внимание привлекли Уайтхеды. Их дом стоял на тихой, малолюдной улочке, он не охранялся людьми и не имел защитных устройств. Внутри его почти все время находились две женщины и ребенок.
Члены следственной группы пришли к выводу, что Франки была убита в тот же вечер, когда ее похитили, после того как преступник получил от нее все необходимые сведения. На теле жертвы обнаружили следы жестоких истязаний, а также сексуального контакта, возможно, происшедшего уже после ее смерти.
Ребенок был похищен восьмого июля после полуночи, точнее — в 0:45. Девочка находилась в руках преступника в течение трех дней.
Ответ пришел, когда Уайтхеды уже ехали на аэродром. Его передали охранникам, ехавшим в головной машине, а те, в свою очередь, — Джилу. Тот через наушник выслушал короткий доклад с непроницаемым лицом.
— Сэр, — произнес он наконец. В его голосе было нечто такое, что заставило Дэвида Уайтхеда насторожиться. Взглянув на телохранителя, он молча кивнул.
Дети на заднем сиденье казались очень возбужденными — они всегда нервничали перед полетом на самолете.
— Рэйчел, Джей-Джей, потише, — сказал Дэвид, придав лицу строгое выражение. Мэгги это заметила.
— Рэйчел, хватит, — одернула она дочь.
Девочка обиженно надулась, но перестала щекотать Джей-Джея, чем до этого занималась на протяжении добрых пяти минут. Ее брат, не остававшийся в долгу, был значительно младше и потому не понял, что игра закончена. Он снова ткнул сестру пальцем и радостно засмеялся.
— Перестань, — плаксивым голосом запротестовала Рэйчел.
Кондор наклонился к Джилу так, чтобы тот мог говорить ему в ухо.
— Возникла проблема с вашим гостем, — сказал телохранитель.
— С кем, с Киплингом? — уточнил Кондор.
— Да, сэр. Наши люди провели обычную проверку и кое-что выяснили.
Кондор промолчал, однако нетрудно было догадаться, какой вопрос он хотел задать. Что именно?
— Наши друзья в государственных органах сообщили, что завтра мистеру Киплингу может быть предъявлено обвинение.
Лицо Кондора резко побледнело.
— Господи, — тихо пробормотал он.
— Информация о том, что именно ему собираются инкриминировать, является закрытой. Однако наши аналитики полагают, что мистер Киплинг, возможно, занимался отмыванием денег в интересах государств, враждебных США.
Кондор задумался. «Государств, враждебных США». Через несколько секунд до него дошло: он вот-вот предоставит место в своем самолете врагу Америки, предателю. Как это будет выглядеть, если об этом пронюхает пресса?
— И что же делать? — спросил он Джила.
— Это решать вам.
Сокол посмотрела на телохранителя. По ее глазам было видно, что она очень обеспокоена.
— Что-то случилось? — поинтересовалась она.
— Нет, — быстро ответил Кондор. — Просто у Бена, похоже, неприятности с законом.
— О нет.
— К сожалению, это так. Речь, судя по всему, идет о неудачных инвестициях. Вот я и думаю… Если нас увидят вместе после того, как все станет известно… В общем, я хочу сказать, что это может стать для меня серьезной головной болью.
— Что папа сказал? — переспросила Рэйчел.
— Ничего, — отозвалась Мэгги, нахмурив брови. — Просто у одного нашего друга неприятности. — Затем она перевела взгляд на Кондора. — Мы не должны шарахаться от него, как от чумного. Наоборот, нам следует его морально поддержать. Для этого на свете и существуют друзья. Сара такая чудесная женщина.
Дэвид кивнул, жалея, что ответил на вопрос жены, а не уладил вопрос без ее участия.
— Конечно, — произнес он. — Ты права.
В этот момент он встретился глазами с Джилом. По лицу телохранителя было видно, что ему требуется прямое подтверждение — оставлять ли все по-прежнему. Дэвид кивнул, хотя здравый смысл и подсказывал, что он совершает ошибку.
Джил посмотрел в окно машины и увидел, что над дорогой вдоль берега океана сгущается туман. Верхние части фонарей тонули в нем, и светящиеся лампы выглядели как круглые желтые пятна с размытыми краями.
Двадцать минут спустя кортеж автомобилей прибыл на аэродром и остановился. Джил подождал, пока двое охранников выберутся из головной машины и займутся осмотром взлетно-посадочной полосы, после чего дал знак Уайтхедам, что им тоже можно выходить. Затем он присоединился к своим подчиненным, желая лично убедиться, что все в порядке. Пока Джил обходил аэродромные сооружения, особенно тщательно проверяя плохо просматриваемые зоны, семья Уайтхедов, хлопая дверцами, покинула автомобиль. Воробей к этому времени успел заснуть, уютно устроившись на плече Кондора. Джил не предложил свою помощь в перетаскивании багажа — его работа состояла в том, чтобы охранять Уайтхедов, а не прислуживать им.
Боковым зрением Джил увидел, как Авраам, поднявшись по ступенькам складного трапа, нырнул в самолет для осмотра его изнутри. На то, чтобы обследовать лайнер от носовой части до хвоста, включая кабину пилотов и санузел, ушло шесть минут. Закончив, Авраам встал в проеме двери и жестом показал Джилу, что все в порядке, после чего спустился по трапу на землю.
— Пойдемте, — сказал Джил, обращаясь к семье Уайтхед.
Они поднялись на борт. Зная, что салон тщательно осмотрен, Джил вошел в самолет последним, прикрывая остальных от возможного нападения сзади. В тот момент, когда он преодолел половину ступенек трапа, Джил вдруг почувствовал едва заметный прохладный сквознячок. Может, это было предчувствие, знак судьбы?
Войдя в салон, Джил остался стоять у открытой двери. Он был высоким мужчиной — шесть футов два дюйма, но худощавым и жилистым. Благодаря этому, поднимаясь на борт, его вполне можно было обойти.
— Прибыла вторая группа пассажиров, — послышался в наушнике Джила голос одного из сотрудников.
Джил увидел Бена и Сару Киплинг, которые в этот момент предъявляли документы другому охраннику, контролировавшему выход на взлетно-посадочную полосу. Внезапно он почувствовал, что рядом с ним кто-то стоит. Обернувшись, Джил увидел стюардессу, державшую в руках поднос.
— Не желаете ли немного шампанского перед взлетом? — спросила она. — Или, может быть, еще чего-нибудь? Вы только скажите.
— Нет, — отказался Джил. — Как вас зовут?
— Эмма Лайтнер.
— Спасибо, Эмма. Я обеспечиваю безопасность мистера Уайтхеда и членов его семьи. Можно мне побеседовать с командиром экипажа?
— Конечно. По-моему, он сейчас осматривает самолет снаружи. Я могу передать, когда он вернется, что вы хотите с ним поговорить.
— Да, пожалуйста.
— Хорошо, — кивнула стюардесса. Джил почувствовал, что она по какой-то причине очень нервничает. Впрочем, он знал: многим становится не по себе, когда они видят на борту самолета вооруженного человека. — Может, я все-таки принесу вам что-нибудь?
Джил отрицательно покачал головой и отвернулся. Киплинги уже поднимались по трапу. Все последние годы они часто общались с Уайтхедами, поэтому Джил знал их в лицо. Когда они вошли в салон, он приветственно кивнул, но сразу же отвел взгляд, чтобы избежать разговора. Он слышал, как Киплинги стали здороваться с теми, кто уже находился на борту.
— Дорогая, — обратилась к Мэгги Сара, — я в восторге от твоего платья!
В этот момент у трапа появился командир экипажа Джеймс Мелоди.
— Вы видели эту чертову игру? — преувеличенно громким голосом осведомился Киплинг. — Как этот идиот умудрился не поймать мяч?
— Не заводи меня, — отозвался Кондор.
— Я хочу сказать, что даже мне удалось бы его поймать, хотя мои руки словно из хлебного мякиша.
Джил выглянул в дверной проем. Туман совсем сгустился. Подгоняемые ветром молочно-белые клочья теперь стелились уже у самой земли.
— Командир, меня зовут Джил Барух. Я из компании «Энслор Секьюрити», — представился Джил, обращаясь к Мелоди.
— Мне сообщили, что вы хотите со мной поговорить, — ответил тот.
Джил уловил в его речи едва заметный акцент — возможно, британский или южноафриканский, но сглаженный долгой жизнью в Америке.
— Вы с нами раньше не работали, — сказал Джил.
— Верно. Но у меня бывали охраняемые пассажиры, поэтому порядок я знаю.
— Это хорошо. Значит, вы в курсе, что, если возникнет какая-то проблема с самолетом или произойдет любое, даже самое незначительное изменение полетного плана, второй пилот должен немедленно сообщить мне об этом.
— Безусловно, — подтвердил Мелодии. — А вы знаете, что у нас произошла замена второго пилота?
— С нами полетит Чарльз Буш, так?
— Точно.
— Вам приходилось летать с ним раньше?
— Один раз. Он, конечно, звезд с неба не хватает, но знает свое дело, — ответил Джеймс Мелоди и слегка замялся.
— В моем деле мелочей нет, — поощрил его Джил. — Ну, в чем дело?
— Да нет, ничего такого… Просто мне кажется, что у Буша с нашей стюардессой, похоже, роман.
— Роман?
— Я в этом не уверен. Но у меня сложилось такое впечатление, глядя на то, как она ведет себя с ним.
Джил немного подумал и кивнул:
— Ладно, спасибо.
Развернувшись, он вошел в салон и посмотрел в сторону кабины пилотов. Там сидел второй пилот Чарльз Буш и с аппетитом уплетал наполовину обернутый в целлофан бутерброд. Обернувшись, он встретился глазами с Джилом. На губах летчика появилась улыбка. Волосы его были коротко острижены, но причесаться он явно забыл, как, впрочем, и побриться. Тем не менее Чарльз Буш казался весьма приятным молодым мужчиной. Джилу достаточно было взглянуть на него, чтобы понять: в прошлом он занимался спортом, с юных лет пользуется успехом у девушек и гордится этим. Джил снова окинул взглядом салон. В его сторону по проходу шла Эмма, стюардесса.
Он молча поманил ее пальцем.
— Как ваши дела? — улыбнулась она, подходя.
— Скажите, есть что-то такое, о чем я должен знать?
Стюардесса нахмурилась:
— Я не понимаю, что вы имеете…
— Я имею в виду, между вами и Бушем, вторым пилотом.
Эмма Лайтнер покраснела.
— Нет, — сказала она и еще раз улыбнулась. — Понимаете… Бывает так, что девушка нравится парню, но она говорит «нет». — Стюардесса поправила волосы. — Нам доводилось летать вместе раньше. Чарльз Буш любит флиртовать со всеми девушками, не только со мной. Но он хороший. Поэтому не беспокойтесь. И потом, вы здесь, так что…
Эмма не закончила фразу, считая, что сказала более чем достаточно. Джил задумался. Работа телохранителя подразумевала умение оценивать людей, и Джил этой способностью обладал. Он разработал для себя свою систему типов личности. Первый тип — «задумчивые» люди, второй — «нервные», третьи — «вспыльчивые», четвертые — «задиры». Каждый тип Джил разделил на разновидности в зависимости от особенностей поведения, которые могли свидетельствовать о возможности неожиданных действий и поступков. Например, когда человек «нервного» типа мог вдруг проявить себя как «вспыльчивый» или «задира».
Эмма снова улыбнулась ему и отошла. Джил включил рацию и сообщил диспетчерской службе аэродрома, что воздушное судно готово к полету.
За городом
Скотт гонит машину на север параллельно реке Гудзон мимо Вашингтон-Хайтс и Ривердэйла. Урбанистический пейзаж за окном автомобиля сменяется растущими вдоль дороги деревьями и небольшими городками, застроенными двух-трехэтажными домами. Приемник в салоне автомобиля выключен, и Скотт прислушивается к шуршанию шин по мокрой и скользкой от дождя дороге. Летняя гроза ушла вперед, и Скотт едет вслед за ней, переключив дворники на режим прерывистой работы.
Он думает о волне, которая едва не погубила его и мальчика. Вспоминает гул, нарастающий по мере ее приближения. Отблеск луны на глянцевой стене воды. Нависший над ним и мальчиком чудовищный вал, незаметно подкравшийся сзади, словно чудовище из страшной сказки. Этот бездушный убийца был создан самой природой, которая подчас бывает совершенно безжалостной. Скотт вспоминает о том, как он нырнул, крепко обхватив мальчика, и как они оба едва не захлебнулись.
Потом мысли его переключаются, и он начинает думать о камерах на плечах телерепортеров, слепящем свете софитов и шквале вопросов, который обрушили на него журналисты. Скотт невольно задается вопросом, что правильнее: считать камеру вспомогательным инструментом в руках человека или человека придатком камеры? Он затрудняется с ответом. Большинство людей уверено, что всевозможные технические устройства изобретены для обеспечения комфорта и удовлетворения их потребностей. Но что, если все наоборот? Правильно ли будет сказать, что телевидение существует для того, чтобы люди его смотрели? Или на самом деле человечество существует для того, чтобы сидеть перед телевизором?
Скотт вздрагивает — в его памяти снова возникает водяная гора высотой с пятиэтажный дом. Он заново переживает страшные ощущения: перед ним разверзается черная бездонная пучина, в которую его с чудовищной силой заталкивает лапа водяного монстра, а Скотт, будучи не в состоянии сопротивляться ее давлению, лишь крепко прижимает к себе ребенка.
Этих типов интересовало, случился ли у него роман с Мэгги. Они постоянно об этом спрашивали. Мэгги была матерью двоих детей и когда-то работала воспитателем в детском саду. Может, они считали ее участницей очередного реалити-шоу — печальной и в то же время чрезмерно чувственной домохозяйкой из какого-нибудь дешевого романа?
Скотт вспоминает, как бессонной ночью разрисовал стены гостиной в доме Лейлы углем, помадой и свеклой. Затем ему приходит в голову мысль о том, что его угольный набросок, скорее всего, будет последним изображением Мэгги.
Стал бы он спать с ней, если бы она это предложила? Можно ли сказать, что его влекло к ней, а ее к нему? Где он стоял, когда Мэгги пришла посмотреть его работы? Может быть, слишком близко от нее? Или нервно переминался с ноги на ногу где-нибудь поодаль? Она была первым человеком, которому Скотт решился показать свои картины, и потому во время ее визита очень нервничал. Когда Мэгги вошла в сарай, где висели полотна, Скотту очень сильно захотелось выпить, но он сумел не поддаться искушению.
Такова правда, но телезрителям она не нужна. Для них Скотт — персонаж пьесы, которую написал не он, а кто-то другой. Он, Скотт Бэрроуз — не то герой, не то негодяй. И похоже, дело идет ко второму варианту. Скотт прекрасно понимает, как СМИ способны развернуть всю историю. Они могут написать свою картину происшедшего, заменив факты на домыслы.
Потом Скотт думает об Энди Уорхоле, который рассказывал журналистам совершенно разные варианты своей биографии: «Я родился в Акроне. Я родился в Питтсбурге». Позже, говоря с людьми, он мог без труда определить, какие именно его интервью они читали. Уорхол хорошо понимал, что человек — это то, что он о себе рассказывает. Выдумки для него были одним из средств самовыражения как художника.
Но журналистика — вещь особая. Она призвана объективно излагать факты, даже если они противоречат друг другу. Факты не должны подгоняться под сюжет истории. Раньше журналисты сообщали о новостях и излагали ход событий. Но в какой-то момент все изменилось. Скотт вспоминает звезд журналистики времен своей молодости — Кронкайта, Майка Уоллеса, Вудворда, Бернштейна. Все это были люди, которые строго придерживались определенных правил. Интересно, как бы они осветили историю с авиакатастрофой?
Частный самолет падает в море. Мужчине и мальчику чудом удается спастись.
Все это можно подавать в информационном ключе или в развлекательном.
Нельзя сказать, что Скотт не понимает важности фактора читательского или зрительского интереса. Чем привлекал свою аудиторию Джек Лаланн — король тренировок? Он пробуждал у людей интерес к несгибаемой силе человеческого духа. При этом Скотт очень мало знает о личной жизни кумира своей юности. Ему известно лишь то, что у Джека была жена, в браке с которой он прожил не один десяток лет. Но Скотт и не стремился узнать об этом больше, да и другие поклонники Лаланна тоже. Их в первую очередь интересовало, как Джек шаг за шагом формировал свою личность, совершенствовал себя.
«История Скотта. История одной авиакатастрофы».
Нет, он, Скотт Бэрроуз, хочет только одного — чтобы его оставили в покое. Почему он должен оправдываться, опровергать ложь, придуманную другими? Похоже, именно этого от него и ждут — чтобы он ввязался в перепалку и история получила продолжение. Когда Билл Каннингем приглашает его в прямой эфир, он делает это вовсе не для того, чтобы выяснить правду — ведь тогда в истории будет поставлена точка. У Каннингема совсем другая цель — добавить к ней еще одну главу, нащупать новый поворот, который позволит в течение еще недели наращивать рейтинги телеканала.
Другими словами, его, Скотта Бэрроуза заманивают в ловушку. А значит, он не должен идти на поводу у тех, кто его провоцирует, а жить своей жизнью.
Дом небольшой, и за деревьями его почти не видно. Он слегка накренился на левую сторону. Подъезжая, Скотт думает о том, что это скромное голубое строение с плотно закрытыми белыми ставнями на окнах не лишено своеобразного очарования. Когда он паркуется на вымощенной булыжником площадке под раскидистым дубом, из дома выходит Дуг, держащий в руках полотняную сумку с инструментами. Он с раздражением швыряет сумку в багажник своего старого джипа и, не глядя по сторонам, обходит машину, чтобы сесть за руль.
Скотт, выбравшись из арендованного автомобиля, на котором он приехал, машет Дугу рукой, но тот, не глядя на него, садится в джип и со скрежетом включает передачу. Джип срывается с места, подняв в воздух тучу пыли. Затем в дверях дома появляется Элеонора с ребенком на руках. При виде их Скотт чувствует, как в его груди теплеет. Глаза Элеоноры устремлены на Скотта, но Джей-Джей продолжает безучастно смотреть внутрь дома. Тогда Элеонора что-то говорит ему, и мальчик тут же оборачивается. При виде Скотта на его лице появляется улыбка. Тот машет рукой в знак приветствия. Джей-Джей смущенно отвечает тем же. Элеонора опускает его на землю, и он устремляется к гостю. Опустившись на одно колено, Скотт сначала хочет заключить ребенка в объятия, но потом, передумав, кладет руки ему на плечи и заглядывает в глаза, словно тренер футболисту.
— Привет, дружок, — говорит Скотт.
Мальчик улыбается.
— Я тебе кое-что привез, — сообщает Скотт. Встав, он подходит к прокатному автомобилю и открывает багажник. Внутри лежит пластмассовый игрушечный самосвал, купленный на бензозаправке. Он туго привязан к куску картона прочной нейлоновой бечевкой. Скотт с Элеонорой в течение нескольких минут безуспешно пытаются избавиться от упаковки, и тогда молодая женщина возвращается в дом и приносит оттуда ножницы.
— Что надо сказать? — обращается она к мальчику, когда самосвал наконец отвязан.
Джей-Джей не отвечает — все его внимание поглощено игрушкой.
— Ты должен сказать «спасибо», — добавляет Элеонора через несколько секунд, поняв, что ребенок ничего говорить не собирается.
— Не хотелось приезжать с пустыми руками, — поясняет Скотт.
Элеонора кивает.
— Извините меня за Дуга. У нас с ним тут… в общем, мы поссорились.
Скотт гладит ребенка по голове.
— Давайте лучше пройдем в дом и поговорим там, — предлагает он. — По пути сюда я обогнал телефургон. Мне кажется, на этой неделе меня уже достаточно показывали по телевизору.
Элеонора снова кивает — ей тоже не хочется оказаться под прицелом объективов камер. Они со Скоттом усаживаются за стол на кухне. Пока они говорят, Джей-Джей, устроившись на диване в соседней комнате, смотрит мультсериал «Томас и друзья» и играет с самосвалом. Скотт наблюдает за ним сквозь дверной проем. Видно, что мальчика недавно подстригли, но не совсем удачно — волосы на затылке остались слишком длинными, и это напоминает прическу Элеоноры, словно так сделали специально, чтобы ребенку было легче адаптироваться в новой семье.
— Я решила, что смогу подстричь его сама, — поясняет Элеонора, ставя чайник на плиту. — Но он был очень возбужден и не мог сидеть спокойно, поэтому через несколько минут мне пришлось отказаться от своего намерения. Теперь я каждый день отстригаю понемногу. Приходится подкрадываться к нему, когда он занят своими машинками…
С этими словами Элеонора снова достает ножницы из выдвижного ящика тумбы рядом с плитой и начинает, неслышно ступая, потихоньку приближаться к Джей-Джею, стараясь оставаться вне поля его зрения. Но он замечает ее, машет на нее рукой и имитирует рычание какого-то страшного зверя.
— Ну, пожалуйста, — пытается урезонить его Элеонора. — Надо укоротить волосы сзади, они слишком длинные.
Джей-Джей снова издает грозный рык, не отрывая глаз от экрана телевизора. Его тетя сдается и возвращается на кухню.
— Не знаю, мне кажется, что умный, развитый ребенок с неудачной стрижкой — это прекрасно, — заявляет Скотт.
— Вы так говорите только для того, чтобы меня успокоить, — говорит Элеонора, убирая ножницы обратно в ящик.
Она разливает в чашки чай. Скотт украдкой смотрит на нее.
— Вы хорошо выглядите, — замечает он.
— Правда?
— Да. Вы стоите на ногах. И способны заварить чай.
Элеонора надолго задумывается.
— Он нуждается во мне, — произносит она наконец.
Скотт переводит взгляд на мальчика, который бессознательно жует пальцы своей левой руки. Элеонора, помешивая свой чай, задумчиво смотрит в окно.
— Знаете, мой дед, когда родился, весил всего три фунта, — сообщает Скотт. — Это было в Техасе в двадцатые годы прошлого века. Тогда еще не было специальных инкубаторов для выхаживания недоношенных младенцев. Так что мой дед в течение трех месяцев спал в выдвижном ящике комода, предназначенном для носков.
— Этого не может быть.
— Насколько мне известно, так оно и было. Люди способны вынести гораздо больше, чем принято думать. Даже дети.
— Возможно, нам стоит поговорить с Джей-Джеем о… его родителях, — нерешительно произносит Элеонора. — Он понимает, что они умерли, насколько это может осознать ребенок в его возрасте. Но по тому, как он смотрит на дверь всякий раз, когда слышит, как возвращается домой Дуг, я могу сказать — он все еще ждет.
Теперь надолго задумывается Скотт. Он знает — бывает так, когда человек знает что-то, но отказывается это принять. В каком-то смысле Джей-Джею повезло. К тому времени, когда он подрастет настолько, что сможет окончательно и бесповоротно понять произошедшее, рана успеет зарубцеваться.
— Значит, вы говорите, что у вас проблемы с Дугом? — говорит Скотт, меняя тему.
Элеонора вздыхает и несколько раз рассеянно окунает в чашку чайный пакетик.
— Знаете, Дуг — слабый человек. Раньше я думала, что дело в чем-то другом. Но теперь понимаю, он так категоричен потому, что не уверен в собственных убеждениях. Я сказала глупость, да?
Скотт отрицательно качает головой.
— Все дело в том, что он еще молод. Такое часто бывает. Я сам в свое время испытал нечто подобное.
Элеонора кивает, и в ее глазах появляется лучик надежды.
— Но вы это переросли, не правда ли?
— Перерос? Нет. Просто все перегорело. Я так пил, что у меня все в душе перегорело.
На некоторое время в кухне воцаряется молчание. Скотт и Элеонора думают примерно об одном: иногда лучший способ научиться не играть с огнем — шагнуть прямо в пламя и обжечься.
— Я вовсе не хочу сказать, что с Дугом будет то же самое, — поясняет Скотт. — Но не следует обольщаться, думая, что однажды утром он проснется и скажет: «Знаешь, я был кретином».
Элеонора кивает.
— А тут еще эти деньги, — тихо говорит она. — Стоит мне об этом подумать — и сразу тошнота подкатывает.
— Вы говорите о завещании?
Элеонора снова кивает:
— Это очень большие деньги.
— Сколько они оставили вам?
— Ему. Это… это его деньги. Они не…
— Ему всего четыре года.
— Я знаю. Мне хотелось бы… Я желаю, чтобы все эти деньги просто оставались на счете до тех пор, пока… он не станет достаточно взрослым, чтобы…
— Я вас понимаю, — говорит Скотт. — Но ведь для мальчика нужно покупать еду. Содержание ребенка требует средств. Кто будет оплачивать его обучение в школе?
Элеонора не знает, что ответить.
— Может, я справлюсь? — тихо произносит она, немного подумав. — Я понимаю, мальчику нужна красивая одежда…
— А сами вы собираетесь ходить в тряпье?
Элеонора еще раз кивает. Скотт собирается растолковать ей бессмысленность подобной идеи, обреченной на провал, но тут же понимает, что она и сама это знает.
— Я полагаю, Дуг смотрит на все иначе, — говорит он.
— Он хочет… Нет, вы только представьте! Он говорит: «Таунхаус в городе мы определенно оставим, а вот особняк в Лондоне мы, пожалуй, можем продать. А когда будем туда ездить, станем останавливаться в отеле». Когда мы успели превратиться в людей, которые ездят в Лондон? И об этом говорит человек, владеющий половиной захудалого ресторана, который никогда не будет открыт, потому что недостроен!
— Теперь он мог бы закончить строительство.
Элеонора стискивает зубы.
— Нет. Только не на деньги, завещанные ребенку. Мы их не заработали. Это деньги Джей-Джея.
Скотт видит, как мальчик зевает и трет ладошкой глаза.
— Уверен, Дуг с вами не согласен.
Элеонора сцепляет кисти рук так крепко, что у нее белеют костяшки пальцев.
— Он говорит — мы оба хотим одного и того же. А я ему: если мы оба хотим одного и того же, то почему ты кричишь?
— Он вас напугал?
Элеонора долго задумчиво смотрит на Скотта.
— А вы знаете, что про вас говорят, будто у вас был роман с моей сестрой?
— Да, — отвечает Скотт. — Я об этом знаю. Но это неправда.
В глазах Элеоноры читается сомнение — она явно не знает, можно ли ему верить.
— Когда-нибудь я расскажу вам, что значит быть вылечившимся алкоголиком. Или, по крайней мере, человеком, находящимся в процессе лечения. Главное, что помогает держаться, — это умение сосредоточиться на работе.
— А что у вас с этой богатой наследницей?
Скотт отрицательно качает головой.
— Она просто приютила меня на время. Ей нравилось, что у нее есть тайна, нечто такое, о чем не знает никто. Я был для Лейлы вещью, которую нельзя купить за деньги. Впрочем, я полагаю, это не вся правда.
Скотт хочет продолжить, но тут вдруг на кухню входит Джей-Джей. Элеонора, выпрямившись, быстро проводит ладонью по глазам.
— Ну что, дорогой, мультики закончились?
Мальчик кивает.
— Тогда пойдем почитаем книжку, а потом будем готовиться ко сну.
Джей-Джей снова кивает, а потом указывает на Скотта.
— Ты хочешь, чтобы он тебе почитал? — уточняет Элеонора.
Следует еще один кивок.
— С удовольствием, — говорит Скотт.
Элеонора уводит мальчика наверх, чтобы уложить в кровать. Скотт тем временем звонит Эли, старому рыбаку, у которого он арендует дом на Мартас-Вайнъярд. Он хочет узнать о делах на острове, в частности, как поживает без него трехногий пес.
— Надеюсь, журналисты вам не очень досаждают? — интересуется он.
— Нет, сэр, — отвечает Эли. — Они меня не беспокоят. Но вот что я вам скажу, мистер Бэрроуз. Сегодня приходили люди с ордером.
— Какие люди?
— Из полиции. Они взломали замок на сарае и все оттуда забрали.
Скотт чувствует, как вдоль позвоночника у него бегут мурашки.
— Картины?
— Да, сэр. Все до единой.
Скотт надолго умолкает. Он пытается понять, что это может означать. Его работы, дело всей жизни, попали в чужие руки. Что с ними будет? Не нанесут ли картинам ущерба? Чего от него потребуют за их возврат? Потом ему приходит в голову еще одна мысль. Может, их забрали, чтобы делать то, что и положено делать с картинами, — смотреть на них.
— Ладно, — говорит он в трубку. — Не беспокойтесь, Эли. Мы их вернем.
После того как мальчик почистил зубы, надел пижаму и улегся в постель, укрывшись одеялом, Скотт садится в кресло-качалку и читает ему на ночь, выбирая книжку одну за другой из внушительной стопки. Элеонора стоит в дверях, не зная, что лучше — уйти или остаться.
После третьей книжки глаза мальчика начинают слипаться, но он не хочет, чтобы Скотт уходил. Элеонора, подойдя, осторожно ложится на кровать рядом с ребенком. Скотт продолжает читать даже тогда, когда засыпает не только Джей-Джей, но и его тетя, а солнце окончательно уходит за горизонт. В доме наступает полная тишина. Скотт, испытывающий непривычные ощущения, откладывает очередную книжку и ложится на пол.
Внизу звонит телефон. Элеонора просыпается и осторожно, стараясь не разбудить ребенка, выбирается из кровати. Скотт слышит, как она, ступая как можно тише, спускается по лестнице. Затем до него доносятся приглушенные звуки ее голоса. Положив трубку, она снова поднимается наверх и останавливается в дверях. На ее лице Скотт видит странное выражение.
— Что? — спрашивает он.
Элеонора с усилием сглатывает и, резко вдохнув, медленно выдыхает. Если бы не дверной косяк, за который женщина цепляется изо всех сил, она бы, наверное, упала.
— Нашли остальные тела.
Часть 3
Экранное время
Где жизнь пересекается с искусством? Гэс Франклин может установить это с точностью системы навигатора. Искусство и жизнь вступают в прямое соприкосновение в авиационном ангаре на Лонг-Айленде. Именно там сейчас висят огромные картины. На них падает скудный свет, с трудом просачивающийся через мутноватые окошки. Гигантские двери ангара закрыты, чтобы внутрь не проникли журналисты со своими камерами. На проволочных петлях висят двенадцать поражающих своей реалистичностью полотен, на которых изображены последствия страшных аварий и катастроф, а также природных стихийных бедствий. По настоянию Гэса все сделано максимально аккуратно, чтобы не нанести картинам ущерба. Несмотря на охотничий пыл О’Брайена, Франклин по-прежнему уверен, что, конфисковывать картины не было никакой необходимости. По его мнению, вывезя их в ангар, следствие лишь причинило ненужное беспокойство автору полотен, который волею судьбы оказался в упавшем самолете и чудом остался жив.
И вот теперь Гэс Франклин стоит, окруженный группой людей — агентов ФБР, а также представителей компании-авиаперевозчика и фирмы, которая построила потерпевший аварию самолет. Все они разглядывают картины не как произведения искусства, а воспринимают их в качестве возможных улик. Собравшиеся задаются вопросом: может быть, на полотнах есть ключ к гибели девяти человек и авиалайнера стоимостью в несколько миллионов долларов? Посреди ангара на специальном помосте разложили обломки самолета, которые удалось обнаружить и извлечь из воды.
Гэс остановился перед самой большой картиной, точнее триптихом: слева изображен сельский дом, справа — приближающийся торнадо, в центре — молодая женщина, стоящая на краю кукурузного поля. Франклин вглядывается в высоченные кукурузные стебли, прищурившись, внимательно изучает лицо женщины. Будучи до мозга костей инженером, он не в состоянии оценить ни мастерство художника, ни вложенный в картины эмоциональный заряд. И все же Гэс не может не признать, что картины привнесли в ангар некое дополнительное напряжение.
В тот самый момент, когда Гэс со всей отчетливостью осознает это, в голову ему приходит еще одна мысль.
На всех картинах изображена одна и та же женщина.
— Ну, что скажете? — спрашивает Франклина агент комиссии по ценным бумагам и биржам Хекс.
Гэс неопределенно качает головой. «Человек устроен таким образом, что всегда ищет связь между событиями», — думает он. К нему подходит его помощница Марси и сообщает, что водолазы, похоже, нашли недостающие обломки самолета.
Помещение, в котором до этого царило молчание, наполняется гулом возбужденных голосов. Однако Гэс, стоя посреди ангара, полного искореженного металла, не сводит глаз с изображенного на одной из картин тонущего мужчины. Обломки реальны, картина — всего лишь плод воображения художника. Постояв еще какое-то время неподвижно, Гэс кивает и пересекает ангар, чтобы сделать звонок с аппарата спецсвязи. В любом расследовании наступает момент, когда кажется, что поиски истины не закончатся никогда. А затем она вдруг всплывает на поверхность.
Мэйберри, правая рука Гэса, успел связаться с кораблем береговой охраны, с которого были обнаружены остатки самолета. Он докладывает Франклину, что водолазы с укрепленными на шлемах специальными камерами уже готовятся к погружению. Изображение с камер будет транслироваться по специальному каналу связи, который уже установлен.
Час спустя Гэс сидит в ангаре за пластиковым столом — в течение двух последних недель он ел в основном здесь. Остальные члены его команды стоят у него за спиной и, держа в руках пластиковые стаканчики, пьют кофе из «Данкин Донатс». Мэйберри говорит по спутниковому телефону с капитаном корабля береговой охраны.
— Материалы съемки сейчас будут показаны, — сообщает он.
Гэс двигает монитор, стараясь установить его под наилучшим углом, хотя понимает, что это нисколько не ускорит дело. Все нервничают. На какое-то время на экране возникает окно с надписью «материал не передан». Затем внезапно в окне появляется синий фон, свидетельствующий о том, что сигнал принят. Еще через несколько секунд он на дисплее сменяется зеленоватой колышущейся мглой — это картинка, транслируемая с подводных трех камер. Все они укреплены на шлемах водолазов и из-за этого то и дело покачиваются и накреняются в разные стороны. Гэсу требуется несколько секунд, чтобы сориентироваться. Водолазы находятся совсем рядом с очень крупным белым предметом, который весьма похож на фюзеляж самолета, разломившийся пополам. В месте разлома можно различить какие-то толстые красные линии.
— Кажется, это логотип, — говорит эксперт Ройс и показывает остальным фото самолета с выписанными на борту наклонными красными буквами «Галл-Уинг».
— У нас есть возможность передать водолазам мое пожелание? — спрашивает Гэс, обращаясь к остальным. — Было бы здорово, если они найдут идентификационный номер воздушного судна.
Далее следуют попытки снова связаться по спутниковому телефону с капитаном или с кем-нибудь из членов экипажа корабля береговой охраны. К тому времени, когда просьбу Гэса передают водолазам, они уже успевают приступить к осмотру обломков самолета. На мониторе компьютера видно их продвижение от носа к хвосту. Когда водолазы минуют левое крыло, Гэс успевает рассмотреть, что оно обломано, для чего наверняка требовалось очень большое усилие. Металл в месте разрыва сильно искорежен. Гэс смотрит на фрагмент крыла, лежащий на помосте.
— Хвоста нет, — сообщает Ройс.
Гэс снова переводит взгляд на монитор. По боку фюзеляжа скользят лучи фонарей. Хвостовой части действительно не видно. Самолет наполовину зарылся в донный ил.
— Да нет, кажется, хвост вон там, — говорит женщина из авиакомпании. — Видите, он лежит подальше?
Гэс напряженно прищуривается, и ему начинает казаться, что в самом деле с трудом различает в мутной зелени какой-то предмет, по форме напоминающий хвост самолета. Он чуть наклонен и слегка покачивается под напором подводного течения. Затем объектив камеры, укрепленной на шлеме водолаза, поворачивается в другую сторону, и все, кто смотрит на дисплей, видят страшную дыру в корпусе воздушного судна, там, где когда-то был хвост. Через нее можно разглядеть весь салон до самой кабины пилотов.
— Корпус деформирован, — говорит один из инженеров.
— Вижу, — угрюмо обрывает Гэс. Ему не нужны рассуждения, не подтвержденные фактами. Обнаруженные фрагменты самолета должны быть подняты на поверхность и доставлены в ангар для тщательного изучения. Хорошо, что они находятся на сравнительно небольшой глубине. Однако на следующей неделе ожидается еще один ураган, поэтому действовать нужно быстро.
В кадре появляется один из аквалангистов. Размеренно работая ластами, он показывает рукой сначала на дыру в фюзеляже, которая образовалась на месте хвоста, потом на собственную грудь. Камера, с которой идет изображение, делает короткое движение сначала вниз, потом вверх — тот, кто носит ее на себе, кивает. Водолаз разворачивается.
Гэс наклоняется вперед, к монитору, понимая всю напряженность момента. Водолазы проникают на территорию кладбища.
Выполнять работу или наблюдать за тем, как это делает кто-то другой, — две разные вещи. Особый случай — работать на глубине, в пятидесяти метрах от поверхности океана, в коконе гидрокостюма, с баллонами со сжатым воздухом за спиной, с маской на лице, позволяющей видеть только то, что освещает укрепленная на голове лампа. Вы чувствуете давление толщи воды и сконцентрированы на том, чтобы, преодолевая его, дышать ровно и размеренно, хотя в любой другой ситуации делаете это рефлекторно, автоматически и без всяких усилий. Воздух ощутимо распирает вашу грудь. Специальные грузы не дают вам всплыть на поверхность, но они же затрудняют ваши действия, заставляя мышцы работать с напряжением. В такие моменты для человека не существует ничего постороннего — только то, что он видит перед собой, и то, чем он занят.
Гэс, как и остальные участники комиссии по расследованию, всего лишь смотрит на монитор. И все же, когда водолазы осторожно проникают внутрь корпуса самолета, где находятся тела погибших, он ощущает приступ первобытного ужаса, от которого холодеет в животе.
Внутри фюзеляжа царит мрак. Вместе с хвостовой частью от воздушного судна отделились кормовой туалет и бортовая кухня. Место разрыва корпуса щетинится острыми металлическими зазубринами. Прямо перед объективом камеры, с которой идет трансляция, размеренно движутся освещенные фонарем ласты водолаза, первым продвигающегося вперед. Свет его фонаря кажется приглушенным. Именно он выхватывает из темноты подголовник кресла и плавающее вокруг него облако волос, похожее на заросли водорослей. Они мелькают на экране лишь на секунду, потому что их сразу же загораживает человек с аквалангами на спине. Все, кто смотрит на монитор, инстинктивно наклоняются вправо, хотя совершенно очевидно, что это ничего не даст.
— Ну, давай же, двигайся, — бормочет сквозь стиснутые зубы Мэйберри.
— Спокойно, — тут же реагирует Гэс.
Камера — вместе с головой оператора — поворачивается, и Гэс видит, что панели внутренней отделки салона сильно покоробились, а местами потрескались. Мимо объектива что-то медленно проплывает — это одна детская кроссовка. У Гэса за спиной кто-то из женщин сдавленно ахает. Затем в свете фонаря возникают тела четырех пассажиров — Дэвида и Мэгги Уайтхед, их дочери Рэйчел и Бена Киплинга. Раздувшиеся трупы колышутся в воде, пристегнутые ремнями к сиденьям.
Тела Джила Баруха, телохранителя семьи Уайтхед, нигде не видно.
Гэс на несколько секунд закрывает глаза. Когда он открывает их, камера уже миновала пассажирские кресла. Идущий первым водолаз оборачивается назад и на что-то указывает. Оператор камеры подплывает к нему.
— Что это за дырки? — спрашивает Мэйберри.
Гэс наклоняется к компьютеру так, что его лицо почти касается монитора. Объектив камеры увеличивает изображение, и становятся отчетливо видны небольшие отверстия вокруг замка кабины пилотов.
— Это похоже на… — начинает было один из инженеров и умолкает.
Пулевые пробоины.
Камера придвигается еще ближе. Гэс видит шесть отверстий, одно из них — на том месте, где с внутренней стороны двери находится замок.
Выходит, думает Гэс, кто-то стрелял в дверь, стараясь проникнуть в кабину. Может, выстрелами пилоты были убиты, и именно это стало причиной катастрофы?
Объектив камеры начинает двигаться вправо и вверх. Гэс тем временем продолжает размышлять. Итак, кто-то действительно стрелял в дверь кабины пилотов. Кто? Удалось ли ему — или им — проникнуть внутрь?
Затем на мониторе возникает картина, от которой все, кто присутствует в ангаре, изумленно вскрикивают. Гэс видит труп командира экипажа Джеймса Мелоди в воздушном пузыре, образовавшемся под закругленным потолком носовой кухни, с внешней стороны кабины.
Джеймс Мелоди 6 марта 1973—26 августа 2015
Однажды он встречался с Чарльзом Мэнсоном. По крайней мере, так утверждала Дарла, мать Джеймса Мелоди. «Это было так мило. Чарли держал тебя на коленях». Дарла прибыла в США из английского Корнуолла по туристической визе в 1964 году и осталась в Америке навсегда. «Я приехала вместе с “Битлз”», — говорила она, хотя музыканты прославленной рок-группы прилетели в Америку из Ливерпуля другим рейсом. До 1967 года Дарла жила в Венеции, штат Калифорния, а затем поселилась в Вествуде. Джеймс всегда старался навестить мать, когда оказывался в одном из крупных аэропортов Лос-Анджелеса — Бэрбанке, Онтарио, Лонг-бич или, скажем, Санта-Монике, — а его рейс надолго задерживали.
Когда он оставался ночевать, мать, выпив несколько порций шерри, иногда по секрету сообщала Джеймсу, что его настоящим отцом был Чарли Мэнсон. Впрочем, она рассказывала много историй, достоверность которых вызывала серьезные сомнения. «Роберт Кеннеди приезжал в Лос-Анджелес в октябре 1964 года. Мы встречались с ним в вестибюле отеля “Амбассадор”». Джеймс привык не обращать на них внимания. К сорока годам он смирился с тем, что никогда не узнает, кто являлся его биологическим отцом. Это была одна из тайн, на которые так щедра жизнь. А Джеймс любил тайны, но не так, как его мать. Любую, даже самую фантасмагорическую и абсурдную теорию Дарла принимала на веру сразу же и бесповоротно. Что же касается Джеймса, он в своем отношении к жизни руководствовался изречением Альберта Эйнштейна, сказавшего: «Наука без религии ущербна. Религия без науки слепа».
Будучи пилотом, Джеймс повидал многое. Ему не раз приходилось управлять самолетом в сложных условиях, когда судьбу пассажиров и его самого решали только он и Господь Бог.
Он любил еще одно изречение Эйнштейна: «Чем дальше уходит человечество по пути духовного и интеллектуального развития, тем очевиднее для меня то, что подлинная религиозность достигается не из-за страха перед жизнью и смертью, не благодаря слепой вере, а через стремление к знанию».
Джеймс был большим поклонником автора теории относительности. Дарла же искала ответы на вопросы, которые ставила перед ней жизнь, в мутной воде псевдорелигиозных, высосанных кем-то из пальца умственных построений. Джеймс предпочитал исходить из того, что любая проблема может иметь научное решение. Взять, к примеру, классический вопрос: чем объяснить наличие всего сущего? Для тех, кто опирается в своих убеждениях на религию, ответ, разумеется, один — существованием Бога. Но Джеймса больше привлекал иной, научный подход к объяснению существования Вселенной. Удивляться этому не следовало — профессия пилота предполагала изучение основ математики и физики. Профессия астронавта — а Джеймс одно время всерьез подумывал о том, чтобы вступить в ряды исследователей космического пространства, — требовала по-настоящему глубокого знания этих предметов.
Когда его рейс задерживали, Джеймс Мелоди погружался в чтение. Расположившись у бассейна в каком-нибудь аризонском отеле, он штудировал Спинозу, в баре ночного клуба в Берлине коротал время, глотая статьи, посвященные общественным наукам, в том числе экономике. Терпеливо собирал факты. Этим он был занят и сейчас, в жаркий августовский день, сидя в одном из ресторанчиков в Вествуде и ожидая мать. Термометр показывал около 30 градусов, скорость юго-западного ветра составляла 10 миль в час. Потягивая из бокала коктейль «Мимоза» — смесь шампанского и апельсинового сока со льдом, Джеймс читал статью, посвященную появлению на свет рыжей телицы на израильской ферме на западном берегу реки Иордан. Это событие вызвало волнения как среди иудеев, так и среди христиан-фундаменталистов, поскольку и в Ветхом, и в Новом Завете говорится, что приход нового Мессии не может состояться до тех пор, пока на Храмовой горе в Иерусалиме не будет возведен Третий храм. А Третий храм, как известно, не может быть построен до тех пор, пока земля не будет очищена пеплом рыжей телицы.
Как объяснялось в статье — Мелоди, впрочем, об этом уже было известно, — в 19-й главе Книги Чисел написано: «Вот устав закона, который заповедал Господь, говоря: скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма». При этом жертвенное животное не должно было использоваться для каких-либо домашних работ. История с рыжей телицей была примером того, что у иудеев называется хок — библейский закон, не поддающийся пониманию, но соблюдаемый просто ради служения Творцу.
Журнал «Экономист» опубликовал этот материал не по причине его большого религиозного значения, а потому, что он в очередной раз привлек внимание к вопросу о территориальной принадлежности Храмовой горы.
Прочитав статью, Джеймс вырвал ее из журнала, аккуратно сложил страницы и попросил проходящего мимо официанта выбросить их в мусорную корзину. Он не хотел, чтобы мать, прихватив журнал с собой, обнаружила в нем статью и использовала ее для создания еще одного «пунктика». В последний раз она примерно при таких же обстоятельствах на девять лет погрузилась в пучину сайентологии. В течение всего этого времени Дарла без конца упрекала Джеймса в том, что он психологически подавляет ее, и в конце концов прервала с ним всякое общение. Джеймса это не слишком опечалило, хотя, конечно, он переживал за мать. Когда Дарла спустя годы вынырнула на поверхность, она повела себя так, словно ничего не случилось. Когда Джеймс пытался выяснить, что произошло и продолжает ли она контактировать с сайентологами, она всякий раз отвечала: «Эти глупцы думают, что они знают все на свете. Но, как говорит нам Тао Те Чинг, «“познание других — путь к мудрости, а познание себя — путь к просветлению”».
Джеймс посмотрел вслед официанту, удаляющемуся в сторону кухни, и испытал желание пойти за ним и удостовериться, что он действительно выбросил журнальные страницы в урну. Он пожалел, что не попросил молодого человека спрятать их понадежнее. Затем стал ругать себя за то, что не разорвал их на мелкие кусочки, но в итоге подавил внезапно возникший порыв. Джеймс знал, что подобным эмоциям лучше не поддаваться. Этот опыт достался ему дорогой ценой. Он успокоил себя тем, что достиг главной цели — статья была удалена из журнала и оказалась в месте, недосягаемом для его матери.
Это было сделано очень вовремя, потому что как раз в этот момент его мать подкатила к ресторану на скутере «вентура-4 мобилити», разумеется, ярко-красного цвета, с Т-образным рулем. Поставив машину на слегка перекошенную подножку, Дарла приветственно помахала сыну рукой. Когда она приблизилась к его столику, Джеймс встал. Остальные посетители ресторана зашевелились, раздвигая в стороны стулья, чтобы дать ей пройти. Дарлу никак нельзя назвать толстой — она весила всего 90 фунтов. Инвалидом она тоже не была, двигалась легко и свободно. Однако всем своим видом она сразу же недвусмысленно дала понять окружающим, что ресторан почтила своим присутствием королева.
— Привет, дорогой, — сказала она, опускаясь на стул, предупредительно пододвинутый ей Джеймсом. — Что будем пить?
— Я пью «Мимозу». Заказать тебе?
— Да, пожалуйста.
Джеймс махнул рукой, подзывая официанта. Дарла развернула салфетку и положила ее себе на колени.
— Ну а теперь скажи мне, что я прекрасно выгляжу.
— Это в самом деле так, — улыбнулся Мелоди. — Ты выглядишь просто великолепно.
Он говорил с матерью особым, не свойственным ему обычно покровительственным тоном — так взрослые люди разговаривают с детьми, имеющими задержку в развитии. Матери это нравилось — при условии, что Джеймс не перегибал палку.
— Ты тоже неплохо смотришься, — заметила Дарла. — Мне нравятся твои усы.
Джеймс потрогал верхнюю губу — он только сейчас понял, что мать впервые видит его с тех пор, как он решил поэкспериментировать со своим лицом.
— Немного напоминаю Эррола Флинна, верно?
— Жаль только, что они у тебя такие седые. Может, их слегка подкрасить в черный цвет?
— А мне кажется, седые усы придают моей внешности солидность и утонченность, — возразил Джеймс.
Официант поставил перед его матерью бокал с коктейлем.
— Спасибо, — поблагодарила его Дарла. — Пожалуйста, держите наготове еще один — я ужасно хочу пить.
— Да, мэм, — ответил официант и удалился.
С годами британский акцент Дарлы трансформировался в нечто искусственное, наигранное. Джеймс не раз это отмечал. Однако во внешности и манерах его матери было нечто такое, благодаря чему ее речь звучала вполне аристократически. «Да, мы говорим именно так, дорогой».
— Я изучил меню, в том числе фирменные блюда, — сказал Джеймс. — Говорят, здесь божественно готовят телятину.
— Очень хорошо, — улыбнулась Дарла.
Она всегда любила поесть. «Я сенсуалистка», — часто говорила Дарла. Когда ей было двадцать пять, это звучало интригующе, но в семьдесят такая фраза казалась по меньшей мере неуместной.
— Ты слышал про рыжую телицу? — спросила Дарла, когда заказ был сделан.
Джеймс испытал короткий приступ паники. Он сначала решил, что мать каким-то образом все же прочитала статью, но тут же вспомнил: она ведь практически круглосуточно смотрит канал Си-эн-эн. Должно быть, рыжая телица упоминалась в одной из передач.
— Да, — ответил Джеймс, — и мне бы очень хотелось узнать твое мнение по этому поводу. Но сначала давай поговорим кое о чем другом.
По реакции матери Джеймс понял, что зациклиться на рыжей телице она еще не успела.
— Я начал играть на губной гармошке, — сообщил он. — Пытаюсь пробудить в себе музыкальные способности. Правда, не уверен, что они у меня есть…
Дарла вручила свой опустевший бокал официанту, который, подойдя как раз вовремя, поставил перед ней новую порцию напитка.
— На губной гармошке играл твой отчим.
— Который?
Дарла либо не расслышала вопрос Джеймса, либо решила его проигнорировать.
— Он был очень музыкальным. Возможно, его способности каким-то образом передались тебе.
— Мне кажется, так не бывает.
— Честно говоря, это всегда казалось немного глупым, — сказала Дарла, прихлебывая коктейль.
— Что, игра на губной гармошке?
— Нет. Вообще музыка. Бог знает, сколько у меня было музыкантов. То, что я вытворяла с Миком Джаггером, заставило бы покраснеть даже шлюху.
— Мама, — укоризненно бросил Джеймс и посмотрел по сторонам. К счастью, они сидели достаточно далеко от других посетителей ресторана, так что ни одна голова не повернулась в их сторону.
— Перестань, Джеймс. Не будь ханжой.
— В общем, мне это нравится. Я имею в виду игру на губной гармошке. — Джек сунул руку во внутренний карман пиджака. — Вот она, смотри. Совсем небольшая, так что я могу носить ее с собой. Иногда я играю на ней во время полета, когда включен автопилот.
— А это не опасно?
— Конечно, нет. Почему ты так считаешь?
— Все, что я знаю про безопасность полетов, — это то, что нельзя держать мобильный телефон включенным во время взлета и посадки.
— Это правило уже отменили. И потом, неужели ты думаешь, что звуковые волны от губной гармошки могут повлиять на работу навигационной системы…
— Хорошо-хорошо, тебе виднее — ты ведь летчик.
Джек кивнул. Через три часа он должен был совершить рейс на «Лире» до аэропорта Тетерборо и там взять на борт новый экипаж. Затем — короткий перелет до Мартас-Вайнъярд и обратно. Переночевать Джеймс должен был в арендованной квартире в Сохо, а на следующий день вылететь на Тайвань.
Допив второй бокал, Дарла заказала третий. «У них такие маленькие порции, дорогой».
Джеймс заметил, что запястье правой руки матери обвязано красной ниткой, и понял: она снова увлеклась кабалистикой.
Когда Джеймс рассказывал, что одно время входил в секту, участники которой верили в конец света, это отчасти было правдой. В конце 70-х годов они с матерью в течение пяти лет жили в северной части штата Калифорния, в поселении, занимавшем шесть акров земли. Члены общины называли себя борцами за возрождение божьих заповедей, а саму секту — для краткости — Борцы за возрождение. Руководил ею священник по имени Джей Эл Бейкер. Он был убежден, что конец света наступит 9 августа 1978 года. Как-то раз во время путешествия на плоту по горной реке у Джея случилось видение. Вернувшись домой, он проштудировал источники — Ветхий и Новый Завет — и пришел к выводу, что Библия содержит в себе некое скрытое послание. Чем старательнее он его искал, делая пометки на полях религиозных текстов, тем больше укреплялся в убеждении, что речь идет о дате Судного дня.
Дарла встретила Джея на Хайт-стрит. Из собственности у него были только старая гитара и списанный школьный автобус. Последователей набралось одиннадцать человек, преимущественно женщин. В скором времени их число разрослось и приблизилось к сотне. Джей Эл был вполне симпатичным мужчиной, хотя разглядеть его лицо мешала грива длинных спутанных волос и густая борода. Еще он обладал ораторским даром, глубоким, сильным и мелодичным голосом. Он любил, когда последователи, слушая его, рассаживались пересекающимися кругами, похожими на олимпийские кольца. Расхаживая между ними, Джей вдохновенно излагал свою теорию, согласно которой на небо должны были вознестись лишь самые чистые души. Чистота, с его точки зрения, означала очень многое. Для того чтобы ее достичь, нужно было молиться по восемь часов в день, много и тяжело трудиться и заботиться о других членах общины. Люди, стремящиеся к чистоте души, должны были полностью отказаться от употребления в пищу кур, цыплят и яиц, мыться, используя вместо мыла природные вещества, например пепел от березовых дров. На территории общины запрещалось смотреть телевизор, слушать радио или магнитофонные записи.
Какое-то время Дарле нравились эти правила. Видимо, хотя она и утверждала, что ищет божественного озарения, в глубине души ей просто хотелось упорядоченной жизни. Она родилась в семье рабочего, где отец то и дело напивался. Поэтому она мечтала о наставнике, который подсказывал бы ей, что и когда нужно делать. Ей хотелось, ложась спать вечером, ощущать смысл в своем существовании, понимать, что мир не зря таков, каков есть. Хотя в то время Джеймс был ребенком, он хорошо запомнил, с каким энтузиазмом мать окунулась в новую для нее жизнь общины. Когда Джей Эл Бейкер решил, что детей нужно воспитывать коллективно, и велел построить для них отдельное жилище, Дарла без колебаний поддержала эту идею и отдала сына в общую группу.
— Так ты теперь живешь здесь или как? — спросила мать.
— В каком смысле? — не понял Джеймс.
— Я не могу уследить за твоими передвижениями. Ты то приезжаешь, то уезжаешь. У тебя есть хоть какой-нибудь адрес?
— Конечно. В штате Делавэр. И ты об этом знаешь.
— В Делавэре?
— Ну да. Для налогового управления.
Мать состроила недовольную гримасу, давая понять, что ей это кажется ненормальным.
— На что похож Шанхай? — поинтересовалась она. — Мне всегда хотелось там побывать.
— Там очень многолюдно. И еще там все курят.
Дарла посмотрела на сына с беспокойством и некоторой жалостью.
— Ты никогда не умел радоваться чудесам.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Ничего. Просто мы пришли в этот мир, чтобы радоваться и восхищаться могуществом Творца. А ты живешь в Делавэре потому, что тебе удобно платить там налоги.
— Это только на бумаге. На самом деле я живу в небе.
Джеймс сказал это, чтобы потрафить матери, но это была правда. Большая часть его лучших воспоминаний была связана с полетами. Он любил смотреть с огромной высоты на землю, видеть перед собой бескрайнюю линию горизонта. Ощущать мощный прилив адреналина, когда его самолет мчался навстречу грозовому фронту. Он никогда не задавался вопросом, который всегда занимал его мать, — зачем, ради чего существует все то, что он видит вокруг себя? Что это означает? В глубине души Джеймс знал ответ — ничего. Во всяком случае, человеческий разум не в силах это постичь.
Восход солнца, зимняя метель, птицы, выстроившиеся в небе идеальным клином… Это было — и все. Для Джеймса Мелоди правда состояла в том, что Вселенная существовала независимо от человека. Красота и величие природы были качествами, которыми наделяло ее человеческое сознание. Но на самом деле ураган был всего лишь особенностью погодных условий, а восход — следствием движения планет Солнечной системы. Мир просто существовал и подчинялся определенным законам, таким, например, как гравитация. Она была константой и действовала на все и всех без исключения.
Однажды Альберт Эйнштейн сказал: «Природа — настоящее чудо, которое мы можем понять лишь частично и очень приблизительно, оно должно вызывать у мыслящего человека чувство смирения. Это подлинно религиозное чувство, которое не имеет ничего общего с мистицизмом».
После обеда Джеймс проводил мать домой. Он шел по тротуару, а она медленно ехала рядом на скутере, время от времени приветствуя знакомых. У дверей дома поинтересовалась, когда Джеймс навестит ее в следующий раз, и он ответил, что, скорее всего, будет в Лос-Анджелесе в сентябре. Дарла посоветовала ему следить за знаками. Она снова упомянула о рыжей телице, появившейся на свет на Святой земле. «Само по себе данное событие еще ничего не доказывало, — заметила мать, — но если знаков станет больше, это нельзя оставлять без внимания».
Джеймс расстался с матерью в вестибюле на первом этаже дома. Обычно она въезжала прямо на скутере в лифт, а затем, поднявшись на свой этаж, — в квартиру. На прощанье Дарла поцеловала сына в щеку и сказала, что будет молиться за него. Еще добавила — Джеймс хороший сын, поблагодарила за обед и похвалила за то, что он не забывает иногда ей звонить. И сообщила, что недавно вспоминала о времени, проведенном в общине. Помнит ли Джеймс те времена и святого отца Джея Эл Бейкера? Как он говорил? «Я ваш пекарь, а вы мой хлеб». «Так вот, не забывай, сынок, — сказала Дарла, — что твоим пекарем была я и именно я испекла тебя в своей печи».
Джеймс также поцеловал мать в щеку, ощутив губами дряблую старческую кожу. Проходя через вращающуюся дверь, он обернулся и в последний раз помахал Дарле рукой, но она уже исчезла в лифте. Надев темные очки, Джеймс зашагал по залитой солнцем улице.
От смерти его отделяли десять часов.
На подлете к аэропорту Тетерборо поднялся довольно сильный ветер. Небо было плотно затянуто тучами. Джеймс пилотировал «Сессну-282», в салоне которой расположились четверо топ-менеджеров корпорации «Сони». Посадка прошла без осложнений. После приземления самолет подрулил к дожидавшемуся прибытия рейса лимузину. Как обычно, Джеймс, стоя в дверях кабины, пожелал выходившим из салона пассажирам всего хорошего. Раньше, по привычке, выработавшейся в детстве, он иногда произносил фразу: «Да благослови вас Господь». Однако стал замечать, что при этих словах люди в строгих костюмах и галстуках чувствовали себя неловко, и в конце концов перестал это делать. Джеймс всегда относился к своим обязанностям командира экипажа очень серьезно.
Было три часа дня. До следующего рейса у Джеймса оставалась пара часов свободного времени. Его ждал короткий перелет до Мартас-Вайнъярд. Там он должен был взять на борт семерых пассажиров и вернуться назад. На этот раз лететь предстояло на «Лире 45 Экс-Эр». Прежде ему не приходилось пилотировать самолеты такой модели, но Джеймса это нисколько не беспокоило. Компания «Лир» выпускала очень надежные машины. Все же, сидя в комнате отдыха экипажей, он внимательно прочел спецификацию. Длина самолета составляла около 25 метров, размах крыльев — 20 метров. «Лир 45 Экс-Эр» был способен без дозаправки совершить трансатлантический перелет с крейсерской скоростью почти 900 километров в час. Практический потолок, согласно спецификации, составлял 15 тысяч метров, но Джеймс по опыту знал, что подобные характеристики указываются с солидным запасом. Он вполне мог бы поднять «Лир» и выше, но при перелете до Мартас-Вайнъярд и обратно в этом не было никакой необходимости.
Члены религиозной общины, в которой Джеймс жил в детстве, свято верили в то, что конец света наступит 9 августа 1978 года. Бог предупредил их гуру, что на этот раз на землю обрушится не вода, а огонь, и именно к этому участники секты старались подготовиться. Джей Эл Бейкер все больше времени проводил в сарае, вознося молитвы архангелу Гавриилу. По молчаливому согласию все обитатели лагеря устроили себе десятидневный праздник желудка, во время которого ели без всякой меры, а затем стали питаться одной мацой. Температура воздуха сильно колебалась — днем стояла жара, ночью сильно холодало.
Джеймс выяснил прогноз погоды на ближайшие несколько часов. Синоптики сообщали, что в районе Мартас-Вайнъярд ожидалась низкая облачность — от 60 до 120 метров, густой туман и, как следствие, плохая видимость при северо-западном ветре, дующем со скоростью 25–30 километров в час.
Джеймс знал: туман, формирующийся над морем или морским побережьем, часто бывает очень плотным и подолгу не рассеивается. Впрочем, ему было прекрасно известно и то, что плохая видимость — не самая большая неприятность из тех, с которыми может столкнуться пилот авиалайнера. Современная курсоглиссадная система позволяет посадить самолет даже вслепую. Но если в момент посадки ветер резко поменяет направление, это может застать пилота врасплох.
«Так выйдите же из среды их и отделитесь от них» — так говорилось в Библии. В какой-то момент Джей Эл Бейкер вместе со своей паствой перебрался в леса, окружающие город Эурека, штат Калифорния. Община поселилась в заброшенном летнем лагере, где не было ни водопровода, ни электричества. Участники секты купались в озере и ели растущие в зарослях дикие ягоды. Их гуру все больше времени проводил в молитвах, которые порой продолжались часами, а иногда и чуть ли не круглые сутки. Знаки видны повсюду, говорил он, — откровения, свидетельства приближения Судного дня. Чтобы спастись, необходимо было очиститься от греха, от всех нечестивых помыслов. Процедура очищения включала в себя, помимо прочей схимы, причинение боли гениталиям — как собственным, так и чужим. Иногда она требовала посещения исповедальни — стоящего на самом солнцепеке старого деревянного дома, внутри которого температура воздуха в жару переваливала за 40 градусов. Однажды мать Джеймса пробыла в нем три дня, чтобы отогнать дьявола, якобы явившегося за ее душой. По ночам Джеймс пытался, пробравшись сквозь кусты, принести ей немного воды. Но всякий раз, когда он просовывал сквозь дыру в крыше флягу, мать отказывалась ее принять.
Мелоди решил про себя, что перед взлетом следует проверить систему, позволяющую пилотировать в условиях нулевой видимости. Будь у него возможность, он с радостью поговорил бы с членами экипажа, совершившего на «Лире» предыдущий перелет, чтобы выяснить их личные впечатления о метеоусловиях. Впрочем, погодная обстановка, особенно на небольшой высоте, менялась очень часто.
Изучая спецификацию, Джеймс пил чай, пакетики с которым всегда держал в своей дорожной сумке. Когда он в очередной раз поднес чашку ко рту, в нее упала капелька крови, затем еще одна. Мелоди почувствовал на верхней губе соленую влагу.
— Черт, — пробормотал он и, приложив к лицу салфетку и запрокинув голову, торопливо направился в туалет. В последнее время у него пару раз в неделю случались носовые кровотечения. Врач сказал, что это результат перепадов атмосферного давления, связанных с пребыванием на большой высоте. За несколько месяцев Джеймс перепачкал кровью несколько комплектов униформы. Сначала его очень пугали эти приступы, но со временем, когда стало ясно, что никакими другими неприятными симптомами они не сопровождаются, Джеймс решил, все дело в возрасте, и не стал больше волноваться по этому поводу.
В туалете он, зажимая салфеткой нос, дождался, когда кровотечение прекратится, а затем умылся. На этот раз ему повезло — он не закапал кровью ни пиджак, ни рубашку. Через пару минут он снова сидел в комнате отдыха в том же кресле, которое даже не успело остыть.
В пять тридцать он собрал вещи и вышел на летное поле, чтобы принять самолет.
В конечном итоге конец света 9 августа 1978 года так и не наступил.
Первым делом Джеймс принялся за проверку всех систем в кабине пилотов, предварительно прочитав бортовой журнал — он всегда очень серьезно относился к изучению документов. Затем Мелоди проинспектировал работу подвижных частей крыльев и хвоста. Закрыв глаза, он сосредоточенно прислушался, стараясь уловить рывки и скрипы, и в итоге решил, что рули высоты и элероны с правой стороны действуют недостаточно плавно. Об этом Джеймс немедленно сообщил в отдел технического обслуживания. Затем он осмотрел главную консоль управления и проверил уровень топлива в баках.
Вторым пилотом с Мелоди должен был лететь Мишель Гастон, француз, человек весьма своеобразный. Во время длинных перелетов он любил поговорить на философские темы. Джеймсу эти беседы всегда доставляли удовольствие, особенно когда они касались тем между философией и идеологией. Однако, когда второй пилот поднялся на борт, им оказался не Гастон. Перед Мелоди предстал молодой мужчина лет тридцати в сбившемся набок галстуке и, как показалось, слегка под хмельком.
— Привет, командир, — поздоровался он.
Джеймс узнал молодого человека и вспомнил, что его зовут Чарли, однако фамилию припомнить не смог. Как-то раз ему уже доводилось летать с ним. Тем не менее Мелоди недовольно нахмурился.
— А что случилось с Гастоном? — поинтересовался он.
— Я за него. Кажется, у Гастона проблемы с животом. Мне позвонили — и вот я здесь. А больше ничего не знаю.
Джеймс испытал приступ раздражения, но не показал этого и, выслушав молодого человека, лишь неопределенно пожал плечами. В конце концов, это была проблема администрации.
— Вы опоздали, — сказал Мелоди. — Я уже позвонил техникам — мне показалось, что управление рулями высоты, элеронами и закрылками с правой стороны немного затруднено. А сейчас собираюсь обойти машину, чтобы провести внешний осмотр. Так что кладите свою сумку и пойдемте со мной.
Второй пилот бросил взгляд на ангар.
— Ладно, дайте мне минутку, — сказал он и спустился на летное поле.
После его ухода Джеймс также выбрался наружу и обошел самолет кругом, внимательно его разглядывая. Хотя стоял теплый летний вечер, он проверил, не образовался ли где-нибудь на внешней обшивке лед. Еще Джеймс искал ослабевшие болты, недостающие заклепки, трещины на внешних осветительных приборах. На крыле он заметил остатки птичьего помета и стер их. Затем оценил, нет ли у самолета, стоящего на взлетно-посадочной полосе, крена на одну сторону — это свидетельствовало бы о том, что давление в шинах колес шасси различается. Потом Мелоди осмотрел двигатели и заднюю кромку крыльев. При этом Джеймс полагался не только на глаза, но и на свою интуицию — если что-то и будет не в порядке, он это почувствует. Однако ни глаза, ни шестое чувство ничего необычного не обнаружили.
Вернувшись в кабину, он спустя некоторое время поговорил с техником, и тот сообщил, что рули высоты, элероны и закрылки проверены и работают штатно. После этого Джеймс немного поболтал со стюардессой, Эммой Лайтнер, с которой раньше ему работать не приходилось. Она была куда привлекательнее, чем большинство стюардесс, занятых на коммерческих рейсах, — такую закономерность Мелоди и раньше отмечал неоднократно. Он помог ей погрузить на борт несколько тяжелых сумок и чемоданов. Молодая женщина улыбнулась Джеймсу дружески, но без признаков кокетства. И все же было ясно, что ее красота в любом случае притягивала мужчин, хотела она этого или нет.
— Сегодня нам работать недолго, — сказал Мелоди. — Пожалуй, часам к одиннадцати вернемся обратно. Где вы базируетесь?
— В Нью-Йорке. Я снимаю жилье вместе с еще двумя девушками. Правда, я думаю, их сейчас нет, возможно, они в Южной Африке.
— Что до меня, то я сегодня прямиком отправлюсь в кровать — отсыпаться, — сказал Джеймс. — Утром я был в Лос-Анджелесе. А вчера — в Азии.
— Нас здорово мотает по свету, верно?
Джеймс улыбнулся в ответ. На вид Эмме было не больше двадцати пяти. На минуту Мелоди почему-то задумался о том, с какими мужчинами она предпочитает встречаться. Может, с футболистами и рок-музыкантами? Скорее все же с рок-музыкантами. Что касается самого Джеймса, то он вел почти монашеский образ жизни. Дело было вовсе не в том, что ему не нравились женщины. Просто он плохо переносил осложнения, которые их появление неизбежно привносило в его жизнь. Он тяготился чувством ответственности, ощущением того, что словно растворяется в другом человеке. У Джеймса уже сложились определенные привычки и пристрастия, которые он не готов был менять. Он предпочитал пить чай в одиночестве, любил свои книги. Ему нравилось, находясь за границей, ходить в старые кинотеатры и смотреть американские фильмы с субтитрами. Он получал удовольствие, чувствуя на лице жаркий ветер пустыни, когда спускался по трапу в аэропорту какой-нибудь арабской страны. Ему неоднократно доводилось видеть Альпы в лучах восходящего солнца и попадать в жестокую грозу над Балканами. В глубине души Джеймс считал себя совершенно самодостаточным спутником, двигающимся по своей орбите вокруг Земли и добросовестно выполняющим возложенные на него кем-то функции.
— Вторым пилотом с нами должен был лететь Гастон, — сказал Джеймс. — Вы знаете Мишеля?
— Нет. Но я слышала о нем.
— Он бы вам понравился. Представляете — француз, который цитирует Пруста. Разве такой человек может оставить кого-нибудь равнодушным?
Эмма широко улыбнулась. Этого Джеймсу было вполне достаточно, чтобы почувствовать обаяние и теплоту красивой женщины. Мелоди вернулся в кабину и еще раз проверил приборную панель и работу основных систем.
— Готовность десять минут! — крикнул он.
Корпус самолета чуть качнулся. «Юное дарование вернулось», — подумал Джеймс, дожидаясь, когда второй пилот снова появится в кабине. Он решил, что не будет слишком строгим и даст молодому человеку еще один шанс. В конце концов, в тот раз, когда они летали вместе, парень отработал хорошо. Возможно, накануне он просто поздно лег после холостяцкой вечеринки. Однако второй пилот вошел в кабину далеко не сразу. Ухо Джеймса уловило какой-то шепот в салоне, а затем и звук, похожий на пощечину. Нахмурившись, он встал и уже готов был направиться в пассажирский салон, но второй пилот его опередил. Он вошел в кабину, держась рукой за левую щеку.
— Извините, — сказал он. — Меня задержали в офисе.
Позади, за спиной Чарли, Джеймс увидел стюардессу. Она разглаживала руками ткань на подголовниках пассажирских кресел.
— У вас все нормально? — поинтересовался Джеймс, обращаясь в большей степени к Эмме, чем к молодому человеку.
Стюардесса снова улыбнулась, но глаз на Джеймса не подняла. Мелоди перевел взгляд на второго пилота.
— Все хорошо, командир, — заверил тот. — Просто мне хотелось попеть, но я, похоже, выбрал не ту песню.
— Не знаю, что это значит, но как командир экипажа я не потерплю на борту самолета никаких недостойных выходок. Или, может, мне прямо сейчас позвонить в офис компании и попросить, чтобы прислали другого напарника?
— Нет, сэр. Никаких выходок не будет. Я здесь для того, чтобы делать свою работу — и только.
Джеймс долго молча смотрел на него изучающим взглядом. Молодой человек при этом не поднимал глаз. Неприятный тип, решил Мелоди. Не опасный, но привыкший делать все по-своему. Симпатичный, пожалуй, даже красивый, с техасским гнусавым говорком. Разгильдяй — так в итоге определил его для себя командир. Не из тех, кто планирует свою жизнь, скорее из тех, кто плывет по течению. В принципе, Джеймс ничего против такого подхода не имел. Когда речь шла о членах экипажа, он умел проявлять гибкость и относиться с пониманием ко многим вещам — при условии, что подчиненные хорошо выполняли свои обязанности и соблюдали субординацию. Парню просто нужно подтянуть дисциплину. Джеймс решил, что поможет ему в этом.
— Садитесь на место и займитесь проверкой работы систем управления. Я хочу, чтобы мы взлетели вовремя. Нам надо выдерживать график.
— Есть, сэр, — отозвался Чарли с кривоватой улыбочкой и принялся за дело.
В это время на борт поднялись первые пассажиры — клиент и члены его семьи. Когда они шагали по ступенькам трапа, корпус самолета снова едва заметно накренился. Джеймс решил немного побеседовать с ними. Ему нравилось разговаривать с теми, кого он перевозил. Рукопожатие, ни к чему не обязывающее знакомство, всего несколько фраз. Это придавало работе Мелоди дополнительный смысл, особенно когда среди пассажиров оказывались дети. Как-никак он был командиром воздушного судна, а значит, на нем лежала ответственность за жизнь людей. Джеймс вовсе не чувствовал себя сотрудником обслуживающего персонала. Наоборот, он гордился своей работой. По характеру Мелоди был из тех, кто предпочитает не столько брать, сколько отдавать. Он чувствовал себя некомфортно, когда другие люди, пусть даже по долгу службы, пытались проявить о нем заботу. По этой причине, летая коммерческими рейсами в качестве пассажира, Джеймс то и дело порывался помочь стюардессам запихнуть ручную кладь на багажные полки или снабдить беременных женщин пледами. Однажды кто-то сказал ему: «Невозможно грустить, когда ты полезен другим». Мысль о том, что помощь другим делает человека счастливым, понравилась Джеймсу. Чрезмерная же погруженность в собственные проблемы часто приводила людей к депрессии и ненужной озабоченности по поводу смысла всего, что происходило в их жизни. Именно в этом и состояла главная проблема Дарлы. Она слишком много думала о себе и явно недостаточно — о других.
Джеймс приучил себя придерживаться противоположной позиции. Он часто прикидывал, как поступила бы мать в той или иной ситуации, — то есть пытался понять, какое решение было бы неправильным. И делал наоборот. Она являлась для него чем-то вроде ориентира — Полярной звездой для человека, который всегда стремится на юг. Это ему серьезно помогало, как камертон помогает при настройке музыкального инструмента.
Через пять минут самолет был уже в воздухе и взял курс на запад. Лонжероны и рули высоты, как показалось Джеймсу, все еще двигались туговато, но он отнес это к индивидуальным особенностям самолета.
Вопросы и воспоминания
Первую ночь Скотт проспал на раскладном диване в комнате, где хозяйка, видимо, обычно занималась шитьем. Он не собирался оставаться ночевать у Элеоноры, но решил, что ей понадобится моральная поддержка после всего произошедшего, — особенно с учетом того, что муж куда-то уехал.
«Он выключает телефон, когда работает», — сообщила Элеонора. Однако прозвучало это так, словно она хотела сказать — не работает, а пьет.
Уже засыпая, Скотт слышит, как около часа ночи Дуг возвращается. От шороха шин по подъездной аллее у Скотта резко поднимается адреналин. Так отреагировали бы многие люди, очнувшись от забытья в незнакомой комнате и пытаясь понять, где они находятся. Стол для шитья стоит у окна. В тени смутно угадываются очертания швейной машины, похожей на притаившегося хищника. Открывается, а затем закрывается входная дверь. На лестнице слышатся тяжелые шаги. Дуг останавливается рядом с дверью, за которой находится Скотт, и, похоже, прислушивается, стараясь не дышать, наступает мертвая тишина. Скотт, тоже затаив дыхание, продолжает лежать — незваный гость в чужом доме. Наконец Дуг начинает сопеть. Крупный бородатый мужчина в комбинезоне, явно перебравший самодельного виски и пива. Снаружи доносится громкий стрекот цикад. Скотт думает об океане и населяющих его кровожадных существах, невидимых человеческому глазу.
За дверью громко скрипит доска — видимо, Дуг перенес свой более чем солидный вес с одной ноги на другую. Скотт приподнимается, садится на диван и неотрывно смотрит на дверную ручку в виде медного шара. Что он будет делать, если она начнет поворачиваться? Если Дуг ввалится в комнату, пьяный и готовый к драке?
Где-то в доме включается кондиционер, и его ровный нарастающий шум гасит звук сопения, доносящегося из-за двери. Слышно, как Дуг разворачивается и топает по коридору в спальню. Скотт делает медленный и бесшумный выдох, только сейчас осознав, что до этого задерживал дыхание.
Утром Скотт ведет мальчика на улицу искать камни, которые можно бросать в воду так, чтобы они несколько раз подпрыгнули, прежде чем утонуть. Вдвоем они прочесывают берег реки в надежде найти подходящие для этой цели плоские голыши. Скотт обут в неудобные для загородной прогулки городские туфли. На мальчике крохотные рубашка и шорты, кроссовки размером с ладонь взрослого мужчины. Скотт объясняет Джей-Джею, что стоять нужно немного боком к воде, а бросать камни рукой, сгибая и разгибая локоть. При этом стараться, чтобы они летели параллельно поверхности реки. У мальчика долго ничего не получается. Сдвинув брови, Джей-Джей продолжает попытки. Видно, что он расстроен, но сдаваться не хочет. Плотно сжав губы и издавая странные звуки, похожие не то на песню без слов, не то на жужжание пчелы, он поднимает все новые и новые камешки. Когда наконец брошенный им голыш, прежде чем скрыться под водой, дважды подскакивает рикошетом от речной поверхности, мальчик подпрыгивает и хлопает в ладоши.
— Это было здорово, приятель, — одобрительно говорит Скотт.
Джей-Джей, воодушевленный успехом, снова принимается собирать камни. Они со Скоттом находятся на идущей вдоль берега узкой песчаной полосе, на которой растет колючий кустарник. Дальше начинается лес. Как раз в этом месте русло Гудзона делает плавный поворот. Утреннее солнце, поднимающееся из-за горизонта где-то за спиной у Скотта и Джей-Джея, еще скрыто за деревьями. Его первые лучи ложатся на противоположный берег. Скотт, присев на корточки, опускает руку в холодную и чистую воду. В этот момент он вдруг задумывается о том, будет ли когда-нибудь еще плавать или летать самолетом. Его ноздри улавливают запах ила и доносящийся откуда-то аромат скошенной травы. Воздух полон щебета птиц.
Мальчик бросает в воду еще один камень и смеется.
Может быть, это первый признак того, что рана в его душе начинает понемногу затягиваться?
Накануне вечером Элеонора, войдя в гостиную, сказала, что Скотту кто-то звонит. Он в это время ползал по полу, играя с мальчиком в машинки, и удивился ее словам. Кто мог звонить ему сюда?
— Она сказала, что ее зовут Лейла, — уточнила Элеонора.
Встав с пола, Скотт направился на кухню.
— Как вы раздобыли этот номер? — спрашивает он.
— Для таких вещей и существуют деньги, дорогуша, — отвечает Лейла, после чего, резко понизив голос, продолжает с воркующими интонациями: — Ну а теперь скажи мне, что ты скоро вернешься. Я безвылазно сижу на третьем этаже и смотрю на твою картину. Она такая замечательная. Я не говорила, что в детстве бывала на этом фермерском рынке? У отца был дом на Мартас-Вайнъярд. Я ходила на рынок есть мороженое. Когда думаешь об этом, просто жутко становится. Когда мне в первый раз в жизни дали наличные деньги, я пошла на рынок и купила на них персиков у мистера Козелли. Мне тогда было шесть.
— Со мной сейчас мальчик, — объясняет Скотт. — Я нужен ему — по крайней мере, мне так кажется. Хотя не знаю, я не силен в детской психологии.
Скотт слышит, как Лейла отхлебывает глоток какого-то напитка.
— Желающие купить твои работы уже выстроились в очередь, — говорит она. — Люди готовы приобрести все, что ты напишешь в ближайшие десять лет. Чуть позже я переговорю с Тэйтом об организации твоей индивидуальной выставки этой зимой. Работающий на тебя агент прислал мне слайды картин. От них просто дух захватывает.
Эти слова, когда-то такие желанные для Скотта, теперь не производят на него ни малейшего впечатления.
— Мне пора идти, — говорит он в трубку.
— Погоди, не убегай, — мурлычет Лейла. — Я по тебе скучаю.
— Что, по-вашему, между нами происходит? — напрямик спрашивает Скотт.
— Давай съездим в Грецию, — неожиданно предлагает его собеседница. — У меня там есть дом на скалах у самого моря, но никто не знает, что он принадлежит мне. Его оформили на шесть, если не ошибаюсь, подставных компаний — в общем, полная конфиденциальность. Мы могли бы нежиться на солнце, есть устриц и танцевать после наступления сумерек. А там будет видно. Я знаю, что не должна на тебя давить. Но мне никогда раньше не приходилось встречать человека, чьим вниманием было бы так трудно завладеть. Даже когда я с тобой рядом, мне кажется, что ты находишься где-то очень далеко.
Когда, повесив трубку, Скотт вернулся в гостиную, Джей-Джей переместился за стол. Включив компьютер Элеоноры, он играл в обучающую игру, складывая слова из отдельных букв.
— Эй, приятель! — окликнул его Скотт.
Ребенок даже не взглянул на него. Взяв стул, Скотт поставил его рядом с Джей-Джеем и осторожно устроился на нем. На дисплее он увидел изображение жука, сидящего на листе. Мальчик захватил мышью букву Ж и перенес ее в специально оставленное для этого окошко. Затем Джей-Джей проделал то же самое с буквами У и К.
— Ты позволишь? — спросил Скотт и, потянувшись к мыши, осторожно подвигал курсором. У него никогда не было своего компьютера, но он провел довольно много времени, сидя в кафе и наблюдая за людьми, барабанившими по клавишам лэптопов. По крайней мере, ему казалось, что он справится. Однако почти сразу же Скотт столкнулся с проблемой.
— Интересно, как работает поиск, — сказал он без вопросительной интонации, словно разговаривая сам с собой.
Джей-Джей снова завладел мышью и открыл окно браузера. Затем вошел в Гугл и вернул мышь Скотту.
— Отлично. Спасибо, — поблагодарил его Скотт.
Он набрал в поисковой строке «Дво» и задумался, не зная точно, как пишется интересующая его фамилия. Затем стер буквы и написал: «“Ред Сокс”», видео, рекорд пребывания на позиции бьющего». И нажал на Enter. Когда ролик загрузился, мальчик показал ему, как растянуть изображение на весь экран. Скотт внезапно почувствовал себя неандертальцем.
— Думаю, ты тоже можешь это посмотреть, — сказал он Джей-Джею и кликнул мышью на кнопке запуска. Качество ролика оказалось низким — цвета были насыщенными, но изображение походило на мозаику. Создавалось впечатление, что автор записал его с телевизора на ручную видеокамеру. Скотт представил, как неизвестный ему человек сидит в своей гостиной и делает запись.
— Дворкин выходит на позицию бьющего, — раздается голос комментатора, который тонет в реве зрителей. Игрок с битой — высокий, могучего сложения мужчина с густой менонитской бородой, но без усов. Он делает несколько пробных взмахов. Напротив него разминается и припудривает ладони канифолью питчер команды соперников. За спиной у него видны ярко горящие прожекторы на вышке у ограды стадиона. Игра проводится жарким летним вечером, температура воздуха тридцать градусов, дует юго-западный ветер.
Со слов Гэса Скотт знал, что Дворкин начал свою серию ударов в тот самый момент, когда самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы. На мониторе компьютера Дворкин, развернув корпус, отвел биту назад, за правое плечо. Первый мяч.
Телекамера проехалась по толпе зрителей. На несколько секунд на экране возникли сидящие на трибунах мужчины в хлопчатобумажных спортивных свитерах, дети в бейсболках и перчатках, машущие и улыбающиеся в объектив. Наконец питчер изготовился к броску. Дворкин отвел биту за правое плечо. Скотт кликнул мышью, остановив ролик. Питчер замер на месте, занеся правую руку с мячом назад, а левую для равновесия вытянув вперед, приподняв одну ногу, чтобы вложить в бросок как можно больше мощи. Дворкин, в полной готовности к удару, застыл в шестидесяти футах от него. Скотту было точно известно, что в течение следующих восемнадцати минут питчер сделает двадцать два броска.
Но сейчас в матче благодаря Скотту наступила неожиданная, незапланированная пауза. Двадцать два броска в игре, которая состоялась три недели назад. Однако для человека, наблюдающего за ней впервые, события на экране словно происходили в первый раз. Время как будто обратилось вспять. Тот, кто не видел матча, не смог бы заранее сказать, что случится дальше. Дворкин мог отразить подачу удачно или неудачно, или вообще промахнуться. Сидя за компьютером рядом с Джей-Джеем, Скотт невольно подумал: «А что, если бы все события можно было отмотать назад на три недели, как и запись матча, вернуться в 26 августа 2015 года и остановить время ровно в 22 часа?» Он представил, как, словно на остановленной видеозаписи, в городах замерли на месте сверкающие светом фар и красными тормозными огнями скопления автомобилей, люди на улицах и в домах, клубы дыма над заводскими трубами, гепарды где-то на просторах Африки, преследующие добычу.
Если бы это было возможно, Скотт в этот момент снова оказался бы на борту самолета. И все остальные тоже — руководитель медиакорпорации с женой и двумя детьми, банкир с супругой, красавица-стюардесса. Девочка, дочь Мэгги, надев наушники, слушала бы музыку, мужчины смотрели бейсбольный матч, о чем-то негромко переговариваясь, а Мэгги с улыбкой глядела бы на спящего сына.
Получалось, что, пока он снова не запустит снятый кустарным способом ролик, они оставались живыми. Самолет, зависший в воздухе, еще не встретился с неотвратимой судьбой. Скотт почувствовал, как его глаза наполняются слезами. И без того далеко не идеальное изображение на мониторе компьютера стало совсем размытым…
Сидя на корточках на берегу реки, Скотт, опустив в воду ладонь, наблюдает за тем, как вокруг его запястья образуется крохотный водоворот. Рано утром он видел в окно, как Дуг швыряет сумки в джип и раздраженно выкрикивает какие-то слова, которые Скотт так и не смог расслышать. Погрузив в машину вещи, Дуг втиснулся в кабину, с силой захлопнул дверцу и уехал куда-то, расшвыривая колесами гравий.
«Что произошло? Может, то, что Дуг уехал, к лучшему?»
Где-то возникает звук, похожий на пение бензопилы или шум грузовиков, мчащихся по федеральному шоссе. Однако Скотт знает, что федеральных шоссе поблизости нет. Не обращая внимания на звук, он наблюдает за тем, как мальчик выковыривает из прибрежного ила кусочки кварца.
Непонятный звук усиливается, тембр его становится басовым. Скотт, сидящий у кромки воды, встает. Он замечает, что ветви деревьев начинают заметно раскачиваться. Шелест листьев, задевающих друг друга, отдаленно напоминает шум аплодисментов. Мальчик отрывается от своего занятия и, задрав голову, смотрит вверх. В следующее мгновение на Скотта и ребенка обрушивается ужасающий рев. Из-за верхушек деревьев, едва не задев их брюхом, появляется вертолет. Скотт инстинктивно втягивает голову в плечи. Джей-Джей бросается к нему. Похожая на огромную хищную птицу, черная, блестящая в лучах солнца машина пролетает над ними и, достигнув противоположного берега, делает разворот. Бегущий мальчик с испуганным лицом приближается к Скотту. Тот, не раздумывая, подхватывает Джей-Джея на руки и, прижимая к себе, бежит к деревьям, лавируя в низком кустарнике. Его городские туфли вязнут в песке. Достигнув опушки, Скотт, не останавливаясь, углубляется в лесополосу, состоящую из тополей и ив. Низко свисающие ивовые ветви хлещут его по рукам. Он снова борется за жизнь — свою и ребенка, который обвил руками шею Скотта и цепко обхватил ногами его талию. Выглядывая из-за его плеча, мальчик со страхом смотрит назад.
Когда они возвращаются домой, Скотт видит, как вертолет садится прямо на заднем дворе дома. Элеонора, выйдя на крыльцо, прижимает ладонью волосы, раздуваемые ветром от вращающегося винта.
Наконец вертолет приземляется, и пилот выключает двигатель. Подойдя, Скотт передает мальчика Элеоноре.
— Что происходит? — спрашивает она.
— Отнесите его в дом, — отвечает Скотт. Он видит, как из вертолета выбираются Гэс Франклин и агент О’Брайен. Фэбээровец передвигается на полусогнутых ногах, отчего кажется ниже ростом, и прикрывает ладонью голову. Гэс идет ровно — он уверен, что при его росте еще вращающиеся лопасти винта его не заденут.
Наконец двигатель окончательно затихает. Гэс протягивает Скотту руку.
— Извините за театральные эффекты, — говорит он. — Но я подумал, будет лучше, если мы поговорим с вами до того, как новость распространится по всему свету.
Скотт пожимает Гэсу руку.
— Вы помните агента О’Брайена, — добавляет Франклин.
— Еще бы, конечно, помнит, — произносит фэбээровец и сплевывает на траву.
— Разве его не отстранили? — интересуется Скотт.
Гэс смотрит вверх и щурится от солнца.
— Скажем так — открылись кое-какие новые факты, из-за которых главная роль в расследовании перешла к ФБР, — поясняет Франклин.
Скотт смотрит на него с недоумением. О’Брайен покровительственно хлопает его по плечу.
— Давайте пройдем в дом, — предлагает он.
Мужчины рассаживаются на кухне. Чтобы отвлечь ребенка, Элеонора включает телевизор, где показывают очередную серию «Кота в шляпе». Сама она усаживается неподалеку от Джей-Джея на краешек дивана и наблюдает за ним, обеспокоенно вскакивая при каждом его движении. «Я позволяю ему проводить слишком много времени перед телевизором», — думает она.
— Ладно, приступим к делу, — говорит О’Брайен.
Скотт в недоумении смотрит на Гэса. Тот пожимает плечами, давая понять, что ничего не может сделать. Выясняется, что утром водолазы, срезав петли, подняли на поверхность дверь кабины пилотов. Экспертиза подтвердила, что обнаруженные в ней дырки представляют собой не что иное, как пулевые отверстия. Это привело к перераспределению полномочий в следственной группе. Гэсу поступило несколько телефонных звонков из правительственных учреждений. Представители высокого начальства совершенно недвусмысленно дали ему понять, что он должен предоставить ФБР полную свободу действий и оказывать ведомству возможное содействие. А еще Франклину сообщили, что О’Брайен возвращается в состав группы. Руководство явно не считало его источником утечки информации в прессу. Более того, как оказалось, его ждало большое будущее. Об этом сказал Гэсу межведомственный координатор.
Через десять минут после того, как Гэс, закончив разговор с начальством, положил трубку, О’Брайен явился в ангар в сопровождении двенадцати человек и потребовал ввести его в курс последних событий. Гэс, будучи прагматиком, прекрасно понимал, что спорить бесполезно, хотя и испытывал к О’Брайену личную неприязнь. Он сообщил фэбээровцу, что водолазам удалось обнаружить и поднять на поверхность тела всех остальных погибших, за исключением тела Джила Баруха, личного охранника Дэвида Уайтхеда. Оно могло всплыть где-нибудь или же оказаться выброшенным волнами на берег. В этом случае шансы найти его еще оставались. Однако нельзя было исключать и того, что найти труп Баруха уже не удастся.
С точки зрения Гэса, следствию предстояло ответить на ряд вопросов.
Кто стрелял на борту самолета? В первую очередь подозрение падало на телохранителя, Джила Баруха, так как только о нем точно известно, что он был вооружен. Однако, поскольку никто из пассажиров и членов экипажа не проходил через рамку металлоискателя, стрелком мог оказаться и любой из них.
По какой причине был открыт огонь? Пытался ли стрелок попасть в кабину пилотов, чтобы угнать самолет, или его целью было устроить авиакатастрофу? Может быть, он пытался проникнуть в кабину пилотов, чтобы предотвратить падение воздушного судна? Кто он — злодей или герой?
Почему командир экипажа оказался в салоне, а не в кабине? Если речь шла о попытке угона самолета, мог ли он оказаться одним из заложников? Не случилось ли, что он вышел из кабины в пассажирский салон разрядить возникшую на борту опасную ситуацию? И, наконец, если так, то…
Почему второй пилот не подал сигнал бедствия?
Кстати, Чарли Буша водолазы обнаружили в кабине пилотов. Он был пристегнут ремнями к своему креслу и все еще сжимал в пальцах ручку управления. Одна из пуль врезалась в пол позади него. Однако не было никаких свидетельств того, что кому-то постороннему удалось проникнуть в кабину до того момента, как самолет рухнул в воду. Гэс сообщил фэбээровцу, что результаты вскрытия тела Буша будут получены днем. Никто не знал, внесут ли они какую-то ясность в картину авиапроисшествия. Тем не менее лучшая версия, по мнению Гэса, состояла в том, что у молодого пилота случился инсульт или инфаркт. В худшем же случае речь могла идти о преднамеренном групповом убийстве.
Все обломки самолета, которые удалось обнаружить и поднять на поверхность, вплоть до самых мелких фрагментов, были тщательно осмотрены, пронумерованы и выложены в ангаре. Хорошая новость состояла в том, что удалось найти черные ящики. Плохая — в том, что один из них или даже оба оказались сильно повреждены. Техники работали круглосуточно, чтобы получить записанные данные о полете. К концу дня, сообщил Гэс О’Брайену, из воды поднимут и доставят в ангар фюзеляж самолета — при условии, что не будет резких изменений погоды в худшую сторону.
Выслушав все, что сказал Франклин, О’Брайен вызвал вертолет.
Теперь, сидя на кухне в доме Элеоноры, агент О’Брайен устраивает что-то вроде шоу. Он медленно извлекает из кармана небольшой блокнот и кладет его на стол. Затем достает ручку и нарочито медленно отвинчивает колпачок, после чего пристраивает ее рядом с блокнотом. Гэс чувствует на себе недоумевающий взгляд Скотта, но его глаза устремлены на фэбээровца. Тем самым он словно дает Скотту понять — «вот куда тебе сейчас надо смотреть».
Участники следственной группы договорились, что не будут обсуждать результаты расследования по телефону или по электронной почте до тех пор, пока не станет ясно, каким образом доклад О’Брайена просочился в прессу. Поэтому теперь оставался лишь один способ общения — личная беседа. Таков был парадокс современных технологий — делая жизнь людей намного удобнее, они в то же время легко могли обернуться против тех, кто ими пользовался.
— Как вы знаете, мы нашли самолет, — начал О’Брайен. — Миссис Кросби, я вынужден официально сообщить вам, что обнаружены тела вашей сестры, ее мужа и вашей племянницы.
Элеонора кивает. В этот момент она думает о мальчике, который сидит в гостиной и смотрит мультики. О ее мальчике. О том, что скажет ему. И еще думает о Дуге и его последних словах, которые он произнес перед тем, как уехать: «Это еще не конец».
— Мистер Бэрроуз, — обращается О’Брайен к Скотту, — вы должны рассказать мне все, что помните.
— Зачем?
— Затем, что я этого требую.
— Скотт… — пытается вмешаться Гэс.
— Не надо, — прерывает его О’Брайен. — Мы уже достаточно с ним деликатничали. — Он снова устремляет взгляд на Скотта. — Почему пилот во время полета оказался за пределами кабины?
Скотт качает головой:
— Этого я не помню.
— Вы сказали, что перед катастрофой слышали какой-то стук. Мы спросили у вас, имел ли этот звук механический характер. По вашему мнению, скорее всего, нет. Что же это было, как вы полагаете?
Скотт на какое-то время задумывается.
— Не знаю. Мне показалось, будто самолет дернулся, словно наткнулся на что-то. Я ударился головой. Так что мои воспоминания вряд ли вам пригодятся.
О’Брайен изучающе смотрит на него.
— В двери кабины пилотов обнаружено шесть пулевых отверстий.
— Что? — переспрашивает Элеонора и мгновенно бледнеет.
Слова фэбээровца поражают Скотта. Пулевые отверстия? Что он говорит, этот О’Брайен?
— Вы видели у кого-нибудь оружие?
— Нет.
— Вы помните телохранителя Уайтхеда, Джила Баруха?
— Кажется, это такой крупный мужчина у двери. Он не… я не… — У Скотта путаются мысли.
— Вы не видели, он не доставал оружие? — спрашивает О’Брайен.
Мозг Скотта лихорадочно работает. «Кто-то стрелял в дверь кабины пилотов». Что это может означать? Самолет резко дернулся. Люди закричали, и кто-то выстрелил в дверь кабины. Самолет начал падать. Командир экипажа находился в салоне. Возможно, стрелявший хотел попасть внутрь кабины.
Или, может, кто-то выхватил оружие, и пилот — точнее, второй пилот — бросил самолет в пике? Зачем? Вероятно, чтобы заставить вооруженного человека потерять равновесие. Говорят, что причиной катастрофы не была ни техническая неисправность, ни ошибка пилота. Значит, произошло что-то другое.
Скотт чувствует приступ тошноты — кажется, он только сейчас понимает, что только чудом остался в живых. В голову ему внезапно приходит странная мысль. Если авиакатастрофа не была нечастным случаем, значит, кто-то хотел его убить. Тогда дело не в руке судьбы, а в том, что он и мальчик стали жертвами нападения.
— Я поднялся на борт самолета и сел в кресло, — заговорил Скотт. — Она принесла мне бокал вина — Эмма, стюардесса. Я сказал — спасибо, не нужно, и попросил воды. Сара, жена банкира, все время болтала мне в ухо о том, как они с дочерью ходили на Биеннале Уитни. По телевизору показывали бейсбол. Мужчины — Дэвид и банкир — смотрели матч. Я держал на коленях свою сумку. Стюардесса хотела забрать ее, но я почему-то не отдал. А когда нас начали буксировать, стал в ней рыться. Не знаю, почему. Наверное, чтобы чем-то себя занять. Нервы.
— И почему же вы нервничали? — спрашивает О’Брайен.
Скотт задумывается.
— Это была очень важная для меня поездка. Из-за того, что чуть не опоздал на самолет — часть пути пришлось бежать — я был немного не в своей тарелке. Сейчас все, что волновало меня тогда, кажется просто смешным. Встречи с агентами, визиты в галереи. В сумке были слайды всех моих работ, и я после вынужденной пробежки хотел убедиться, что все они на месте. Не знаю, почему у меня возникло такое желание.
Опустив глаза, Скотт какое-то время молча смотрит на свои руки, а затем продолжает:
— Я сидел в кресле у окна и смотрел на крыло. Сначала мы летели в тумане, но потом туман рассеялся. А может, мы просто поднялись над ним. Было уже совсем темно, наступила ночь. Я посмотрел на Мэгги, и она улыбнулась мне. Рэйчел сидела рядом с ней в наушниках и слушала музыку, а мальчик спал, укрытый одеялом. Опять-таки не знаю, почему, но я решил, что Мэгги будет приятно, если я сделаю набросок портрета ее дочери. Поэтому я вынул блокнот и стал рисовать.
Скотт вспоминает задумчивое выражение лица Рэйчел и странную, недетскую печаль в ее взгляде. Потом на память приходит момент, когда она с матерью приходила к нему домой, чтобы посмотреть картины, висящие в сарае, — угловатая девочка с великолепными волосами.
— Когда мы набирали высоту, — продолжает Скотт, — самолет пару раз тряхнуло, но не слишком сильно, так что никто не обратил на это особого внимания. Охранник сидел впереди рядом со стюардессой на откидном кресле. Но как только погасло табло, он встал.
— И что же было дальше?
— Ничего. Он просто стоял — и все.
— Просто стоял? И ничего больше?
— Ну да.
— А вы рисовали?
— Да.
— А потом?
Скотт качает головой. Он помнит, как внезапно выронил карандаш и нагнулся, чтобы его поднять, но тот покатился по полу. Однако то, что произошло перед этим, не сохранилось в его памяти. В самолете человеку кажется, что он сидит перпендикулярно поверхности земли или почти так, даже когда воздушное судно дает крен. И только выглянув в окно, он понимает, что пилот заложил вираж.
Самолет резко накренился. Карандаш упал на пол. Скотт расстегнул ремень безопасности и потянулся за ним, но карандаш покатился по полу, словно мяч с крутого склона. Затем Скотт выпал из кресла и ударился обо что-то головой.
— Я не знаю.
Скотт смотрит на Франклина, а тот, в свою очередь, на О’Брайена.
— У меня вопрос, — говорит Гэс. — Не про катастрофу. Про ваши картины.
— Ладно.
— Кто та женщина?
— Какая женщина? — недоумевает Скотт.
— Я заметил, что на всех картинах присутствует женщина, причем, кажется, одна и та же. Кто она?
Скотт медленно выдыхает и смотрит на Элеонору. Ее взгляд устремлен на него.
— У меня была сестра, — отвечает он. — Она утонула. Когда мне было… когда ей было шестнадцать лет. Решила ночью искупаться с другими подростками в озере Мичиган — обычная детская глупость.
— Извините.
— Ничего.
Скотту жаль, что он не в состоянии сказать о гибели сестры нечто более значительное, однако нужные слова не приходят.
Позже, когда Джей-Джей уже спит, Скотт, отозвав Гэса в сторону, интересуется:
— Как по-вашему, все прошло нормально?
— Это была полезная беседа, благодарю вас.
— Насколько полезная? — уточняет Скотт.
— Нам удалось выяснить важные детали. Кто где сидел. Что люди делали, как себя вели.
После того как вертолет улетел и Скотт и Элеонора остались одни, что-то произошло. Оба словно вдруг вспомнили — они ведь совершенно чужие друг другу люди. Иллюзия последних суток, в течение которых им казалось, что дом Элеоноры — маленькая крепость, где они могут спрятаться от окружающего мира, рассеялась как дым. В конце концов, Элеонора — замужняя женщина, Скотт — человек, который спас ее племянника. Что они знают друг о друге? Как долго он собирается оставаться у нее в гостях? Хочет ли она, чтобы он был здесь еще какое-то время? Желает ли, наконец, этого сам Скотт?
Между ними возникла какая-то неловкость, натянутость. Поэтому, когда Элеонора занялась готовкой, Скотт сказал, что не голоден и хочет пойти прогуляться, чтобы немного развеяться.
Он бродил по окрестностям, пока не стемнело. Уже под вечер Скотт вышел на берег реки и долго стоял там, наблюдая, как голубая вода постепенно становится черной, а солнце, уходящее за горизонт, сменяет луна. Ему в очередной раз показалось, что за последние несколько недель он стал другим человеком.
Когда Скотт вернулся, позвонил Гэс.
— Хочу вам кое-что сказать, — звучит в трубке его голос. — Об этом еще никто не знает, но самописец поврежден. Не совсем уничтожен, но повреждения серьезные, так что извлечь данные будет непросто. У меня над этим сейчас работают шестеро парней, а губернаторы двух штатов звонят мне каждые пять минут, желая знать, как продвигается дело.
— Боюсь, что здесь я вам ничем не могу помочь.
— Понятно. Я сообщаю о данном факте просто потому, что вы имеете право это знать. Все остальные пусть катятся к черту.
— Я расскажу Элеоноре.
— Как там ребенок? Извините, что не поинтересовался раньше.
— Ну, он практически не говорит. Но, похоже, рад тому, что я здесь. Возможно, мое присутствие окажет какой-то терапевтический эффект. Что касается Элеоноры, то она сильная женщина.
— А как ее муж? Что-то я его не видел.
— Сегодня утром он собрал вещи и уехал.
В трубке надолго повисает тишина.
— Надеюсь, мне не надо объяснять вам, как это будет выглядеть, — говорит наконец Гэс.
Скотт кивает, но его собеседник этого, разумеется, не видит.
— С каких пор «как это будет выглядеть» стало важнее того, чем «это» является на самом деле? — интересуется Скотт.
— Я полагаю, с две тысячи пятнадцатого года, — отвечает Гэс. — Особенно после того, как вы выбрали не самое лучшее место для укрытия, и это стало предметом обсуждения в СМИ. Богатая наследница и все такое — телевидение и газеты не могли не раздуть эту историю до небес. Я посоветовал вам найти место, где вы сможете пересидеть поднявшийся шум, а не стать героем репортажей желтой прессы.
Скотт устало потирает глаза.
— Ничего не было. То есть хочу сказать, что она разделась и забралась ко мне в кровать, но я не…
— Мы говорим не о том, что было и чего не было, — перебивает Скотта Гэс, — а о том, как все это выглядит со стороны.
Утром Скотт, услышав, как Элеонора возится на кухне, спускается вниз. Она стоит у плиты и готовит завтрак. Мальчик играет на полу в коридоре. Скотт молча усаживается рядом с ним и берет в руки игрушечный грузовик-цементовоз. Какое-то время они играют вместе, катая машинки по деревянным половицам. Затем Джей-Джей вытаскивает из рюкзака плюшевого мишку и протягивает его Скотту.
Мир за пределами дома живет своей обычной жизнью. Те, кто внутри, тоже выполняют обычные ежедневные ритуалы, делая вид, будто ничего особенного не произошло.
Эмма Лайтнер 11 июля 1990—26 августа 2015
Важно было установить определенную дистанцию и жестко ее придерживаться. Следовало улыбаться пассажирам и подавать им напитки. Смеяться их шуткам и говорить с ними о малозначительных вещах, иногда слегка флиртовать. Для них красивая и приветливая стюардесса была таким же атрибутом роскоши, как и частный самолет. Девушка с ослепительной улыбкой, обслуживающая людей, которые чувствовали себя королями, сидя в мягких креслах и разговаривая сразу по трем мобильникам. Ни в коем случае нельзя давать им номер своего телефона. Разумеется, речь не шла и о том, чтобы заниматься сексом на борту с интернет-магнатом или звездой баскетбола. И еще — ни в коем случае нельзя принимать приглашения встретиться в более комфортной обстановке, даже получив приглашение посетить чей-то личный замок в Монако. Стюардесса должна с самого начала вести себя так, чтобы любому сразу же становилось ясно: она — профессионал в своем деле, а не проститутка. Нужно соблюдать служебные правила и не нарушать определенные границы. В противном случае в мире богатых людей легко можно сбиться с пути.
В свои двадцать девять лет Эмма Лайтнер, работая в авиакомпании «Галл-Уинг», успела побывать на всех континентах — кроме разве что Антарктиды. Ей доводилось общаться на борту самолета с кинозвездами и арабскими шейхами. Она летала с Миком Джаггером и Коби Брайантом. Однажды после перелета из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк Канье Уэст догнал ее на летном поле и попытался вручить ей браслет с бриллиантами. Разумеется, Эмма его не взяла. Ей к тому времени давно уже перестало льстить мужское внимание. Пассажиры, по возрасту годящиеся ей в дедушки, регулярно говорили, она будет иметь все, что захочет, если поужинает с ними где-нибудь в Ницце или в Риме. Иногда Эмма объясняла это воздействием высоты, риском, с которым так или иначе связан любой авиаперелет. Однако в глубине души она понимала, что на самом деле подобные предложения — всего лишь выражение высокомерия богачей, считающих возможным купить все, что угодно. Для таких клиентов Эмма была чем-то вроде «бентли», или квартиры в дорогом кондоминиуме, или пачки жевательной резинки.
Для пассажиров-женщин Эмма была одновременно угрозой и предупреждением. Они воспринимали ее как потенциальную похитительницу мужей или, что еще хуже, некое напоминание о том, каким был их собственный путь к статусу супруги богатого мужчины. Проходя по салону, Эмма чувствовала на себе их неприязненные взгляды. Ей приходилось терпеть болезненные уколы безжалостных язычков дам в огромных противосолнечных очках, когда они возвращали поданные напитки и заявляли, что в следующий раз ей следует готовить коктейль тщательнее. Эмма обладала не только привлекательной внешностью, но и многими навыками. Она знала, какие вина лучше всего сочетаются с рагу из бычьих хвостов или с копченой олениной, умела безукоризненно складывать салфетки в виде лебедя, приготавливать превосходный гимлет, делать искусственное дыхание и даже экстренную трахеотомию. Но для жен богатых мужчин это не имело никакого значения.
На больших самолетах работали от трех до пяти стюардесс. Пассажиров сравнительно некрупных воздушных судов Эмма обслуживала в одиночку. Одетая в элегантный голубой костюм с короткой юбкой, она, сверкая улыбкой, разносила напитки и демонстрировала особенности систем безопасности на лайнерах «Сессна Ситейшн Браво» или «Хокер 900 Экс-Пи».
«Аварийные выходы находятся там-то и там-то. Ремни застегиваются и отстегиваются вот так. В случае разгерметизации салона кислородные маски выбрасываются наружу автоматически. В экстренной ситуации ваше кресло может быть использовано в качестве плавсредства».
Ее жизнь протекала по жесткому графику, который определялся расписанием полетов. В крупных городах авиакомпания арендовала квартиры, где члены летных экипажей могли отдохнуть между рейсами. Это дешевле, чем снимать для них номера в отелях. Интерьер служебных апартаментов был современным и унифицированным. Квартиры, обставленные шведской типовой мебелью, напоминали одна другую — это должно было, по замыслу руководства компании, сгладить негативный эффект разницы во времени. Однако Эмму эта похожесть, наоборот, тяготила. Просыпаясь ночью, она порой не могла вспомнить, в каком городе и в какой стране находится.
Ночевки в принадлежащих компании коттеджах были связаны и с другими проблемами. Там одновременно собиралось до десяти человек. Среди них могли оказаться немец и шесть южноафриканцев, а селиться приходилось в комнатах, рассчитанных на двух постояльцев. Иногда подобные коттеджи из-за обилия стюардесс напоминали модельное агентство. Однако в подобных случаях кому-то из девушек почти всегда поневоле приходилось делить комнату со случайно оказавшимся в сугубо женском обществе сорокашестилетним пилотом, который во сне храпел и испускал газы.
Эмма начала работать стюардессой в возрасте двадцати одного года. Она была дочерью летчика ВВС и домохозяйки. В колледже она изучала финансы, но, проработав шесть месяцев в нью-йоркском офисе крупного инвестиционного банка, решила, что ей больше по душе путешествовать. Экономика в то время была на подъеме, поэтому частные авиакомпании, судовладельцы и курорты отчаянно нуждались в обслуживающем персонале, обладающем приятной внешностью и владеющем иностранными языками.
И еще Эмма любила самолеты. Одним из ее первых и лучших детских воспоминаний был полет на «Сессне» в кабине пилотов вместе с отцом. Эмме тогда исполнилось пять или шесть лет. Она помнила, как смотрела на белоснежные кучевые облака, и в ее воображении они превращались в щенков и медведей. Картина настолько поразила девочку, что когда она с отцом вернулась домой, то сообщила матери, что папа возил ее в небесный зоопарк.
Воспоминания Эммы об отце начинаются именно с того чудесного дня. Ее отцу, пилоту истребителя, в то время было двадцать шесть лет. Аарон Лайтнер был крупным мужчиной с волевым подбородком и мощными руками с буграми мышц. Немногословный, с густыми волосами, ровными зубами и твердым взглядом, он казался Эмме бессмертным. Отец мог за какие-нибудь десять минут наколоть больше кубометра дров. Однажды Эмма видела, как он одним ударом нокаутировал другого мужчину. Удар был быстрым, как молния. Сделав выпад, отец отвернулся и зашагал прочь прежде, чем бесчувственное тело противника рухнуло на землю.
Это произошло на бензозаправке неподалеку от Сан-Диего. Потом, много позже, Эмма узнала, что тот мужчина сказал какую-то скабрезность ее матери, когда она направлялась в дамскую комнату. Отец, заливавший в бак топливо, услышал это и подошел к нему. Они обменялись какими-то репликами, которых Эмма не расслышала. Ее отец не повышал голос. Не было ни шумной ссоры и ругани, ни взаимных толчков в грудь, часто предшествующих драке. Папа что-то негромко сказал, мужчина так же негромко ему ответил. Сразу после этого последовал выпад отца, похожий на удар хлыстом. Его рука взметнулась прямо от бедра, и кулак врезался в челюсть незнакомца. В то же мгновение отец резко развернулся и зашагал к своей машине. Ноги мужчины подогнулись, и он рухнул на землю, словно срубленное дерево. Отец вынул из горловины бака заправочный пистолет и, завинтив крышку, повесил его на место.
Эмма, прижав лицо к стеклу, видела, как мама, возвращаясь из дамской комнаты, прошла, чуть замедлив шаг, мимо распростертого на земле мужчины. На ее лице отразились испуг и смущение. Отец окликнул жену и предупредительно распахнул перед ней дверь автомобиля, после чего сел за руль. Когда он включил двигатель, из приемника зазвучала чудесная, невероятно красивая песня, под звуки которой они выехали на шоссе. Много позже, когда наступила эпоха Интернета, Эмма выяснила, что это была песня Билли Торпа «Дети солнца».
Забравшись с ногами на заднее сиденье, Эмма долго смотрела назад в ожидании полицейской погони. Песня стала для нее символом всего того, что принято называть романтикой. Эмма видела, как отец сбил с ног какого-то хама, а затем заботливо придержал дверь машины, когда в нее садилась мама. Папа был ее рыцарем, защитником, а песня Билли Торпа — их песней. По крайней мере, сама Эмма тогда воспринимала ее именно так. Позже она не раз мечтала, чтобы эта песня прозвучала на ее свадьбе. Правда, для этого следовало найти человека, который хотя бы отдаленно напоминал тот идеал мужественности, каким был для Эммы отец. Она часто слушала «Детей солнца» в одиночестве, надев наушники, и напевала песню во время рейсов, готовя для пассажиров какую-нибудь замысловатую еду или почти бесшумно открывая бутылки с коллекционным шампанским.
Когда они рулили по частным аэродромам, готовясь ко взлету, Эмма закрывала глаза и представляла себе, что их самолет — космический корабль, который, оторвавшись от земли, отправится в стратосферу, а затем в межзвездное пространство.
Потом командир экипажа выключал табло с обращением к пассажирам обязательно пристегнуться ремнями к креслам. И тогда Эмма возвращалась к реальности. Она мгновенно вспоминала о своих служебных обязанностях. Встав, она разглаживала юбку и «включала» профессиональную улыбку, готовая делать все возможное для того, чтобы богатые пассажиры остались довольны. У стюардесс были особые инструкции, которые следовало неукоснительно выполнять во время подготовки ко взлету и снижения перед последней в ходе рейса посадкой. Они, в частности, предусматривали, что обслуживающий персонал обязан предложить пассажирам свежий, только что приготовленный коктейль. Иногда, когда полет бывал коротким, а обед или ужин на борту состоял из более четырех блюд, лайнер после посадки еще какое-то время оставался на взлетно-посадочной полосе — пассажирам давали возможность закончить с кофе и десертом. После того как они покидали борт, следовало помыть и убрать всю посуду. Однако по-настоящему грязная работа доставалась местным сотрудникам авиакомпании — Эмма и другие члены экипажа, спустившись по трапу, садились в поджидающий их сияющий автомобиль и уезжали.
Живя по жесткому графику, который полностью зависел от расписания рейсов, Эмма Лайтнер больше всего не любила прилетать обратно, возвращаясь в съемную квартиру. Дело было не в том, что временное пребывание в мире роскоши затрудняло ее возвращение к обычной жизни. Она вовсе не скучала по лимузинам и роскошным интерьерам салонов частных самолетов. Проблема состояла и не в том, что большую часть времени ее окружали богатые мужчины и женщины — миллионеры и миллиардеры. Хотя они нередко, вольно или невольно, напоминали ей, что она им не ровня, а всего лишь сотрудник обслуживающего персонала, Эмма с ее великолепной внешностью все равно не чувствовала себя Золушкой. Этим она была обязана уравнивающей силе женской красоты, которая в современном обществе стала своеобразным пропуском за кулисы клуба избранных.
Эмме было тяжело возвращаться в крохотную квартирку в Уэст-Виллидж, которую она снимала вместе с двумя девушками, по другой причине. В один прекрасный день она вдруг поняла, что, путешествуя по миру в течение нескольких недель подряд, она не оставляла никакого следа в жизни других людей, была всего лишь актрисой на сцене, исполняющей определенную роль. Неделями беспрерывно обслуживая богатых пассажиров в разных частях света, она постепенно привыкала к тому, что в этом и будет состоять ее жизнь на много лет вперед. Эмма стала все чаще чувствовать себя одинокой. Чем-то вроде экспоната в музее: смотреть можно, трогать руками нельзя.
В пятницу, 24 августа, она вылетела из Франкфурта в Лондон на самолете «Лир 60 Экс-Эр». Вместе с ней на борту была еще одна стюардесса — Челси Норквист, блондинка родом из Финляндии. Пассажирами оказались члены руководства немецкой нефтяной компании, одетые с иголочки и безукоризненно вежливые. Самолет приземлился в шесть часов вечера по Гринвичу в аэропорту Фарнборо, что позволило избежать бюрократической волокиты, характерной для Хитроу и Гатвика. Пассажиры, все как один державшие у уха мобильные телефоны, спустились по трапу к лимузину, который дожидался их на летном поле. Рядом с лимузином припарковался черный паркетник — на нем членов экипажа должны были отвезти в город. В Лондоне авиакомпания снимала апартаменты в Южном Кенсингтоне, от которых было рукой подать до Гайд-парка. До этого Эмма останавливалась в них добрую дюжину раз. Она знала, какую именно кровать займет и в какие из местных баров и ресторанов можно будет сходить в одиночку, чтобы, заказав бокал вина и кофе, посидеть с книжкой и немного расслабиться.
Командиру экипажа франкфуртского рейса Стэнфорду Смиту, в прошлом лейтенанту британских ВВС, было чуть за пятьдесят. Второй пилот, жизнерадостный тридцатишестилетний француз или бельгиец по имени Мишель Гастон, прикуривал одну сигарету от другой и ненавязчиво волочился за всеми девушками подряд, что в этом смысле делало его вполне безобидным. Среди персонала «Галл-Уинг» он пользовался репутацией человека, к которому следовало обратиться, если кому-то требовались таблетки экстази. К его помощи также прибегали в экстренных случаях, когда нужно было сдать в лабораторию компании анализ мочи на наркотики — Мишель мог быстро найти сотрудника без следов вредных веществ в организме, согласного наполнить специальный контейнер за другого.
Движение на магистрали было очень плотным. Двадцатисемилетняя Челси, устроившаяся рядом с Эммой в среднем ряду сидений, копалась в своем айфоне, пытаясь определиться с планами на вечер. Как было известно Эмме, Челси имела слабость к музыкантам.
— Ладно тебе, прекрати, — хихикнув, сказала она, обращаясь к Стэнфорду.
— Да нет, я точно знаю, — отозвался тот с заднего сиденья, — ты свои трусики не складываешь, а скатываешь в рулон.
— Отстой, — прокомментировал Мишель. — Чтобы нормально собрать чемодан или сумку, поверхности должны быть плоскими.
Как и все люди, чьи профессии связаны с путешествиями, Стэнфорд и Мишель считали себя экспертами в искусстве укладки багажа. Эта тема была объектом постоянных споров и пикировок. Некоторые различия носили национальный и культурный характер. Немцы, например, предпочитали запихивать туфли в рукава пиджаков и пальто, датчане складывали нижнее белье в отдельный мешочек. Порой ветераны, выпив лишнего, устраивали новичкам нечто вроде экзамена. Предположим, вы летите в Гонконг в августе. Какого размера и какой марки должен быть ваш чемодан? Сколько рубашек следует в него положить? Но главной проверкой был порядок укладки сумок и чемоданов. Эмма в подобных дискуссиях никогда не участвовала. Она всегда считала, что содержимое чемодана — ее личное дело. Желая перевести разговор на другую тему, она могла, застенчиво улыбнувшись, вдруг заявить, что всегда спит обнаженной и не носит трусиков — конечно, это было неправдой. Спала она в пижаме, которую затем упаковывала в вакуумный пластиковый пакет. Ее трюк со сменой темы разговора всегда срабатывал. Через некоторое время Эмма под каким-нибудь предлогом покидала компанию. Обычно это происходило незадолго до того, как остальные, вдоволь наговорившись о нижнем белье, переходили на обсуждение вопросов секса, что было, наверное, вполне естественно.
Однако в этот вечер Эмма чувствовала себя усталой. Позади остались два тяжелых перелета. Сначала из Лос-Анджелеса в Берлин с известными режиссером и актрисой, которые летели на премьеру какого-то фильма. Затем после дозаправки — бросок во Франкфурт, чтобы забрать топ-менеджеров нефтяной компании и доставить их в Лондон. Во время первого перелета Эмме удалось немного поспать, но все же она чувствовала себя измотанной и то и дело подавляла желание зевнуть.
— Нет, нет, — толкнула ее Челси, видя, что Эмма клюет носом. — Сегодня мы отправимся на вечеринку. У Фархада все уже готово.
Фархад был лондонским приятелем Челси, дизайнером одежды, любившим щеголять в приталенных костюмах в сочетании с расшнурованными кроссовками. Эмма в целом относилась к нему неплохо. Неприятный осадок оставила только их последняя встреча — Фархад попытался свести ее с каким-то типом, называвшим себя художником, а тот вдруг стал распускать руки.
Эмма отхлебнула воды из пластиковой бутылки. Она знала, что завтра в это же время будет лететь в Нью-Йорк. Затем ей предстоял короткий перелет до Мартас-Вайнъярд и обратно. Потом она отправится домой, в Бруклин, где ее ждал недельный отдых. В течение первых двух суток Эмма собиралась отсыпаться, а затем хотела попробовать разобраться в своей жизни. К ней должна была приехать на три дня мама, и Эмма искренне этому радовалась. Они давно не виделись, и дочь порядком соскучилась. Свой очередной день рождения она планировала провести у матери, в Сан-Диего, но в последний момент ее попросили подменить другую стюардессу. В результате Эмме пришлось лететь чартерным рейсом в Санкт-Петербург и отмечать свой персональный праздник там, дрожа от холода.
После этого Эмма решила для себя, что отныне будет ставить на первое место свои интересы, семейные отношения, любовь. Ей не хотелось превратиться в одну из тех одиноких, стареющих, злоупотребляющих косметикой женщин, которые, проработав стюардессами всю жизнь, так и не смогли устроить личную жизнь. Она и сама была уже далеко не девочка — время шло неумолимо.
Они подъехали к арендуемому авиакомпанией таунхаусу в начале восьмого, когда уже начало смеркаться. Лондонское небо окрасилось в великолепный темно-синий цвет. На завтра синоптики обещали дождь, однако пока в британской столице стояла идеальная летняя погода.
— Похоже, сегодня здесь, кроме нас, ночует только один экипаж, — сказал Стэнфорд, выбираясь из машины. — Кажется, эти ребята прилетели из Чикаго. Впрочем, может, сюда забросило и еще кого-нибудь.
Эмма внезапно почувствовала приступ беспричинного беспокойства. Однако он прошел, когда Челси ободряюще сжала ее руку.
— Быстро принимаем ванну, выпиваем по рюмке водки — и в дорогу, — сказала она.
В доме они обнаружили Карвера Эллиса, командира экипажа, прибывшего из Чикаго, и двух стюардесс. Все трое увлеченно танцевали под французские эстрадные песни шестидесятых. Мускулистому чернокожему Карверу было слегка за тридцать. Он был одет в легкие летние брюки цвета хаки и белую майку. Увидев Эмму, он улыбнулся. Пару раз они летали вместе, и Эмма относилась к Карверу с симпатией. Общаться с ним было легко, и он никогда не пытался переступить через границы профессиональных отношений. Челси же при виде Карвера едва не замурлыкала. Ей нравились чернокожие парни. Со стюардессами экипажа — светловолосой американкой и симпатичной испанкой — Эмма раньше не встречалась. На плечи испанки было накинуто полотенце.
— Вот теперь у нас будет самая настоящая вечеринка! — радостно провозгласил Карвер.
Члены экипажей обменялись дружескими объятиями и рукопожатиями. На столе в кухне стояла бутылка водки и огромный кувшин со свежевыжатым апельсиновым соком. Из окна гостиной был виден Гайд-парк. Из динамика проигрывателя лилось на редкость заразительное соло на бас-гитаре в сопровождении ударных.
Карвер протянул руку Эмме и закружил ее в танце. Челси сбросила туфли и задвигала бедрами. Некоторое время все наслаждались возможностью выплеснуть накопившийся стресс в быстрых ритмичных движениях.
Душ первой принимала Эмма. Когда она стояла, закрыв глаза, под струями льющейся воды, у нее, как всегда в такие моменты, возникло ощущение, будто она все еще несется сквозь пространство со скоростью семьсот километров в час. Она безотчетно стала напевать свою любимую песню:
Люди Земли, слышите ли вы меня? Раздался голос с неба в одну чудесную ночь.Эмма вытерлась и сняла с крючка висевший над раковиной мешочек с туалетным набором. В нем были средства для ухода за волосами, зубами, кожей, ногтями. Стоя обнаженной перед зеркалом, Эмма причесалась и воспользовалась сначала дезодорантом, а затем увлажняющим кремом. Эти нехитрые манипуляции обычно помогали ей почувствовать, что она снова находится на земле, а не в воздухе.
И в свете тысячи закатов Они спустились на землю в серебристом сиянии.В дверь постучали, и в ванную комнату проскользнула Челси с бокалом в руке.
— Надо же, — пробормотала она, окинув Эмму внимательным взглядом. — Просто ненавижу тебя за то, что ты такая худышка.
Передав бокал Эмме, она обеими руками ухватилась за воображаемые складки жира вокруг талии. В бокале была водка со льдом, в которой плавал кусочек лайма. Эмма отпила глоток, потом еще один. От водки в груди у нее сразу стало тепло.
Челси вынула из кармана юбки небольшой целлофановый пакетик и привычным движением высыпала из него на мраморную стойку раковины дорожку белого порошка.
— Ты первая, — сказала она, вручая Эмме свернутую в трубочку долларовую купюру.
Эмма не была большой любительницей кокаина — она предпочитала таблетки. Но для того, чтобы получить удовольствие от вечеринки где-то в городе, ей просто необходимо было взбодриться. Наклонившись, она вставила купюру в ноздрю.
— Только не все, жадина, — Челси шлепнула Эмму по голой ягодице.
Вдохнув, Эмма выпрямилась и вытерла рукой нос. Как всегда, наркотик вызвал у нее ощущение, будто в мозгу повернули какой-то выключатель.
Люди Земли смотрели, Как корабли садятся один за другим.Челси прикончила дорожку и пальцем втерла остатки порошка себе в десны. Затем она взяла принадлежавшую Эмме щетку и принялась расчесывать волосы.
— Сегодня вечеринка будет просто улетная, можешь мне поверить, — сообщила она.
Эмма завернулась в полотенце, чувствуя, как жесткие ворсинки покалывают кожу.
— Не могу обещать, что задержусь там надолго, — сказала она.
— Если ты отправишься домой рано, я задушу тебя во сне, — пригрозила Челси. — Или сделаю что-нибудь похуже.
Эмма затянула тесемку на горловине мешочка с туалетным набором и допила остатки водки. Она представила отца в не слишком свежей белой тенниске. Он, словно в замедленной съемке, шел к ней, а позади него падал на землю превосходивший его габаритами мужчина.
— Только попробуй, — ответила она. — Я сплю с бритвой под подушкой.
— Так-то лучше, — радостно улыбнулась Челси. — Поехали повеселимся.
Выходя из ванной комнаты, Эмма услышала мужской голос. При его звуке ее вдруг затошнило. Время словно замедлило свой бег.
— Я отобрал у него нож, — произнес мужчина. — А что мне оставалось делать? Сломал ему руку в трех местах. Чертова Ямайка.
Эмма в панике развернулась, чтобы нырнуть обратно в ванную, и наткнулась на Челси. Они стукнулись головами.
— О, черт! — громко произнесла Челси.
Все, кто находился в гостиной, обернулись и посмотрели на Эмму, обернутую в белое полотенце. Она предприняла еще одну попытку спрятаться в ванной, но было поздно — Чарли Буш уже шел к ней, широко раскинув руки.
— Привет, красотка! — воскликнул он. — Сюрприз!
Поняв, что скрыться не удастся, Эмма обернулась. От кокаина ей казалось, что все вокруг дрожит и покачивается.
— Привет, Чарли, — откликнулась она, стараясь, чтобы голос звучал как ни в чем не бывало.
Буш положил руки ей на плечи и расцеловал в обе щеки.
— Я вижу, ты немного закинулась, верно? Слишком много десертов, да?
У Эмми забурчало в животе. Буш усмехнулся:
— Шучу, ты выглядишь просто фантастически. Верно, ребята?
— На ней одно полотенце, — отозвался Карвер, почувствовав, что Эмме не по себе. — Ясное дело, она выглядит просто замечательно.
— Что скажешь, детка? — продолжал Буш. — Может, наденешь что-нибудь сексуальное? Я слышал, у всех на сегодняшний вечер очень большие планы.
Эмма с трудом выдавила из себя улыбку и, спотыкаясь, побрела в свою комнату. От водки у нее словно онемели ноги. Закрыв за собой дверь, она прислонилась к ней спиной и какое-то время стояла неподвижно, чувствуя, как сердце отчаянно колотится в груди.
«Черт, — думала она. — Черт, черт, черт».
В последний раз она видела Буша шесть месяцев назад. Все эти шесть месяцев он преследовал ее звонками и эсэмэсками. Он действовал, словно гончая, идущая по следу. Эмма поменяла номер телефона, включила электронный адрес Буша в список нежелательных контактов и убрала его имя из списка друзей на Фейсбуке. Она не отвечала на его сообщения, не обращала внимания на разговоры коллег о том, что он за глаза говорит о ней гадости и при этом называет ее именем других девушек в постели. Друзья советовали Эмме подать официальную жалобу руководству компании, но у нее не хватало духу это сделать. Она слышала, что Чарли — племянник какого-то важного человека. Кроме того, знала: бюрократический механизм компании работал слишком медленно и неэффективно.
Эмма очень старалась, чтобы все было хорошо. Выработала для себя определенные правила и строго их придерживалась. Имела голову на плечах и всегда вела себя осмотрительно. Чарли — это единственная ошибка. Впрочем, ее трудно винить в том, что случилось. Он был высоким, привлекательным мужчиной с ухоженной щетиной на лице, придававшей ему дополнительное обаяние. У Чарли были такие же зеленые глаза, как у отца Эммы. Собственно, в этом-то и состояла проблема. Он занял в ее жизни место отца. Чарли казался олицетворением того же архетипа — сильный, молчаливый, несколько замкнутый. Хороший человек, не пытающийся привлечь к себе внимание. И конечно, на самом деле все оказалось не так.
В действительности Чарли ни в малейшей степени не походил на отца Эммы. В ситуациях, где Майкл Лайтнер излучал уверенность в себе, Чарли проявлял высокомерие. Там, где отец демонстрировал рыцарские качества, Чарли Буш вел себя покровительственно и выглядел самодовольным. Он ухаживал за Эммой с нежностью и теплотой, но, добившись своего, внезапно резко изменил свое поведение и из доктора Джекила превратился в мистера Хайда. Он стал прилюдно оскорблять ее, называть шлюхой, то и дело говорить, что она глупая и толстая.
Поначалу Эмма винила в такой разительной перемене себя. Она была уверена: подобное поведение Чарли представляло собой болезненную реакцию на что-то. Возможно, Эмма в самом деле набрала несколько фунтов. Пожалуй, слишком явно флиртовала с принцем из Саудовской Аравии. Но потом, когда поведение Чарли стало совершенно невыносимым, Эмма изменила свою точку зрения, а после одной ужасной сцены в спальне, когда он чуть не задушил ее, поняла: Чарли Буш просто сумасшедший. Необузданная ревность, агрессивность, нежелание оставить другого человека в покое — все это составляло темную сторону его личности, которая явно преобладала над светлой. Чарли Буш был плохим человеком. Поэтому Эмма сделала то, что сделала бы любая нормальная женщина на ее месте, — бросилась наутек.
И вот теперь Эмма быстро одевалась, стараясь выбирать вещи, которые меньше всего ей подходили. Затем полотенцем стерла с лица косметику, вынула контактные линзы, водрузила на нос купленные в Бруклине очки, стекла которых с внешней стороны изображали кошачьи глаза. Разумеется, первым ее порывом, чисто инстинктивным, было решение никуда не ехать под предлогом плохого самочувствия. Однако, поразмыслив, Эмма поняла, что этого делать не следует. Она знала, как в такой ситуации поступит Чарли. Он заявит, что тоже останется и будет заботиться о ней. А оказаться в доме наедине с ним — наихудший вариант.
Кто-то забарабанил в дверь комнаты с такой силой, что Эмма невольно вздрогнула.
— Выходи оттуда! — крикнула Челси. — Фархад ждет.
Эмма торопливо сдернула с вешалки пальто. Она решила, что будет держаться поближе к остальным, в первую очередь к Челси и Карверу, который явно наметил для атаки миловидную испанку. Да-да, она не будет отходить от них ни на шаг, а потом, выбрав походящий момент, покинет вечеринку. Эмма вернется в свою комнату, заберет чемодан и поселится в каком-нибудь отеле под вымышленным именем. А в субботу, как и предусмотрено графиком, улетит в Нью-Йорк. Если же Чарли снова попытается ее преследовать, она немедленно позвонит в компанию и подаст в администрацию официальную жалобу.
— Иду! — отозвалась Эмма и, быстро упаковав вещи, решила оставить чемодан у двери. Тогда она сможет исчезнуть раньше, чем кто-либо успеет что-то сообразить. Войдет и выйдет — десять секунд, не больше. Это вполне в ее силах. В конце концов, она ведь собиралась изменить свою жизнь. Сейчас — самое время это сделать.
Когда Эмма распахнула дверь комнаты, ее пульс был уже почти в норме. У входа в дом она увидела Чарли. Он улыбнулся, сверля ее подозрительным взглядом.
— Я готова, — сказала Эмма.
Обида
По Шестой авеню движется поток машин и людей. Каждый автомобиль или мотоцикл, каждое человеческое тело — крохотная молекула, которая в идеале двигалась бы по прямой с максимально возможной для себя скоростью. Однако это невозможно, поскольку вокруг неисчислимое множество других таких же молекул движется по своим траекториям. Торопящиеся на работу женщины в спортивной обуви на ходу читают и пишут эсэмэски. Их мысли витают где-то в тысяче миль отсюда. Таксисты, тоже тычущие пальцами в кнопки своих смартфонов, почти не смотрят на дорогу.
Дуг стоит на тротуаре у входа в здание корпорации Эй-эл-си. За последние двое суток он спал всего три часа. Его борода пропитана запахами бурбона, чизбургеров, съеденных в придорожных кафе, и светлого бруклинского пива. Губы у него потрескались, ноздри раздуваются от гнева и обиды. Его переполняет жажда мести.
Криста Брюэр, продюсер Билла Каннингема, встречает его в вестибюле. Двигается она стремительно, почти бегом. Торопясь поприветствовать гостя, она без колебаний отталкивает в сторону чернокожего парня с курьерской сумкой.
— Привет, Дуг, — говорит она, улыбаясь. Держится она, словно посредник на переговорах об освобождении заложников, которого научили ни в коем случае не прерывать зрительный контакт с собеседником. — Я Криста Брюэр. Мы с вами говорили по телефону.
— А где Билл? — нервно интересуется Дуг. Все происходит не так, как он представлял, и ему кажется, что-то пошло не так.
— Наверху, — улыбается Криста. — Ему не терпится поскорее встретиться с вами.
Дуг хмурится, но Криста непринужденным жестом берет его под руку и ведет мимо охраны к лифту, двери которого широко открыты. Вместе с ними в кабину заходят другие люди. Все они едут на разные этажи, у каждого своя жизнь.
Десять минут спустя Дуг оказывается сидящим в кресле перед огромным трехстворчатым зеркалом, по краям которого горят яркие лампы. Женщина с множеством браслетов на руках расчесывает ему волосы и покрывает его лоб тональным кремом, а затем слегка припудривает.
— У вас есть какие-то планы на выходные? — спрашивает она.
Дуг отрицательно качает головой. Жена вышвырнула его из его же дома. Первые двенадцать часов он пил, потом поспал немного в кабине своего пикапа. Дуг чувствует себя, как Хамфри Богарт в «Сокровищах Сьерра-Мадре». Его грызет мысль о потере всего в тот момент, когда счастье было уже совсем близко. Нет-нет, убеждает он себя, дело не в деньгах, а в принципе. Элеонора — его жена. А мальчишка — теперь их ребенок. Сто три миллиона долларов плюс еще сорок от продажи недвижимости в Лондоне — это огромные деньги. Поэтому неудивительно, что Дуг, теперь человек со средствами, стал по-другому смотреть на жизнь. Конечно, он вовсе не считает, что деньги решат все проблемы, но, без сомнения, смогут сделать их быт комфортнее. Дуг закончил бы строительство ресторана, а заодно и дописал наконец свой роман. Они с Элеонорой наняли бы для ребенка няню. В Кротоне они могли бы проводить выходные, а большую часть времени — в Нью-Йорке, в таунхаусе, что в Верхнем Ист-Сайде. Туда стоило переехать ради одной только кофеварки Уайтхедов. Да, конечно, нехорошо, цинично так рассуждать. Но что поделаешь — такова жизнь. Деньги помогут им с Элеонорой воспитывать ребенка и обеспечат будущее всех троих. Ведь мальчишка еще совсем мал и не может сам о себе позаботиться.
Сидя перед зеркалом в свете ламп, Дуг начинает потеть. Гримерша ваткой промокает ему лоб.
— Пожалуй, вам лучше снять куртку, — предлагает она.
Дуг, однако, ее не слышит. Он думает о Скотте — змее, заползшей в его дом. Этот мерзавец ведет себе так, словно он не гость, а хозяин. Спрашивается, по какому праву? Только потому, видите ли, что у него наладился душевный контакт с мальчишкой? Но разве он, Дуг, заслужил, чтобы его выгнали из собственного дома? Да, это верно — пришел после полуночи пьяным, был немного расстроен и слегка пошумел. Но ведь он, в конце концов, был у себя дома, а Элеонора — его женщина. Куда катится мир, если какой-то тип, который якобы малюет картины, может прийти в чужой дом и выгнать оттуда хозяина? Он, Дуг, сказал все это своей жене. Напомнил, что любит ее и что у них все должно быть хорошо — особенно теперь, когда они стали родителями. Да-да, он, Дуг, теперь отец. И что же, спрашивается, сделала Элеонора? Она молча выслушала его, сидя на кровати с совершенно невозмутимым видом. А когда он устал говорить и метаться по комнате, заявила, что хочет развода и теперь ему, Дугу, придется спать на диване.
Возвращается улыбающаяся Криста и сообщает, что все готово и Билл его ждет. Она хвалит Дуга за то, что он не побоялся приехать. Как хорошо, что в стране есть люди, готовые сказать правду, даже если она горька. Дуг кивает. Воркование Кристы льстит его самолюбию. Да, он простой человек из тех, кто трудится в поте лица, чтобы заработать на жизнь. Такие ни на что не жалуются и ничего не просят, но рассчитывают, что жизнь будет к ним справедлива. И если волею судьбы им посчастливилось выиграть в лотерею, никто не вправе отбирать у них приз.
Сняв бумажный фартук, надетый на него гримершей, Дуг встает и идет в студию.
— Дуг, спасибо за то, что вы сегодня здесь, — говорит Билл.
Дуг кивает, стараясь не смотреть в объектив камеры. Смотрите на меня, посоветовал ему Билл. Дуг изо всех сил старается следовать этой рекомендации, упираясь взглядом то в брови, то в кончик носа собеседника. Билла Каннингема нельзя назвать симпатичным в общепринятом смысле этого слова, но он буквально излучает властность и уверенность в себе. Глядя на него, Дуг почему-то вспоминает телепередачу о животных — в ней показывали, как рифовые акулы бросаются врассыпную при появлении большой белой. Взгляд Каннингема напоминает Дугу взгляд тигра, парализующий оленя и лишающий его воли к сопротивлению. Эта мысль Дугу не нравится, поскольку из нее следует, что он — олень, то есть добыча.
— Мы живем в тяжелые времена, — начинает беседу Билл. — Вы со мной согласны?
Дуг непонимающе моргает.
— В чем? В том, что времена нынче тяжелые?
— Да. Для вас, для меня, для Америки. Я говорю о несправедливости, окружающей нас.
Дуг кивает. Именно об этом он и хочет рассказать.
— То, что произошло, — настоящая трагедия. Мы все это прекрасно понимаем. Авиакатастрофа…
Билл наклоняется вперед. Их беседа через спутник транслируется на девятьсот миллионов телевизионных приемников по всему миру.
— Расскажите вкратце, о чем идет речь, — говорит Каннингем. — Не все осведомлены о случившемся так же хорошо, как я.
Дуг нервно ерзает в кресле, а затем неловко пожимает плечами.
— Ну, как известно, произошла авиакатастрофа. Самолет упал в море. Выжили только два человека. Джей-Джей, мой племянник — точнее, племянник моей жены. И этот художник, Скотт, который якобы доплыл до берега.
— Якобы?
— Нет, на самом деле, — дает задний ход Дуг. — Конечно, был героический поступок и все такое, но это не значит…
Билл едва заметно отрицательно покачивает головой.
— Значит, вы взяли на себя заботу о своем племяннике.
— Ну да, ясное дело. То есть, я хочу сказать, ему ведь всего четыре года. Его родители погибли.
— Понимаю, — одобрительно говорит Билл. — Вы забрали мальчика к себе, потому что вы хороший человек, который поступает правильно.
Дуг согласно кивает.
— Денег у нас не так много, — продолжает он. — Я писатель, а Элеонора, моя жена, — как бы физиотерапевт.
— То есть она помогает больным.
— Ну да, вроде того. В общем, получается, что мы теперь этому мальцу семья, так? И тут вдруг… — Дуг переводит дух, собираясь с мыслями. — Понимаете, я, конечно, не идеал.
— А кто из нас безупречен? — подхватывает Билл. — Кстати, сколько вам лет?
— Двадцать семь.
— Другими словами, вы совсем молоды.
— Да нет, я не о том. Понимаете, у меня много работы. Пытаюсь открыть ресторан, реконструировать его… Ну да, иногда я могу выпить несколько кружечек пива.
— Как и многие из нас, — успевает вставить Каннингем. — В конце тяжелого рабочего дня. Если хотите знать, именно так ведут себя патриоты.
— Да, верно. Но понимаете, этот тип, Скотт, которого все считают героем… он вроде как поселился у меня…
— Скотт Бэрроуз? Вы хотите сказать, что он переехал в ваш дом?
— Ну, он… Пару дней назад заявился ко мне, вроде как повидаться с мальчишкой. Он ведь его спас, верно? Никто не говорит, что Скотт не может видеться с Джей-Джеем. Но дом-то мой, и жена тоже… У нее с парнишкой забот полон рот, она устает, конечно, и, может, немножко запуталась, но…
Билл закусывает нижнюю губу. Хотя он старается не показать этого, Дуг начинает его раздражать. Каннингем понимает: нужно срочно что-то делать, а то гость сорвет все планы, так и не рассказав историю, ради которой его позвали в прямой эфир.
— Простите, — перебивает Дуга Билл, — мне хотелось бы кое-что уточнить. Я вижу, что вы сильно расстроены.
Дуг кивает. Каннингем устремляет взгляд в объектив.
— Сестра вашей жены, ее муж и дочь погибли в катастрофе частного самолета, которая произошла при весьма подозрительных обстоятельствах. Из всех Уайтхедов в живых остался только Джей-Джей, четырехлетний мальчик. Он осиротел. Вы с женой взяли его на воспитание — просто по доброте сердечной. Вы хотели дать мальчику ощущение, что у него есть семья, близкие люди. Хотели помочь ему пережить страшную беду, которая на него обрушилась. А потом другой человек, Скотт Бэрроуз, у которого, по слухам, был роман с сестрой вашей жены и которого в последний раз видели выходящим из дома скандально известной наследницы крупного состояния, приехал и поселился в вашем доме. При этом ваша жена потребовала, чтобы вы этот дом покинули.
Прежде чем продолжить, Каннингем снова поворачивается к Дугу.
— Если называть вещи своими именами, вас попросту выкинули на улицу. Где вы сегодня ночевали?
— В моем пикапе, — бормочет Дуг.
— Что?
— В моем пикапе. Я спал в машине.
Билл сокрушенно качает головой:
— Итак, вы спали в машине, в то время как Скотт Бэрроуз спал в вашем доме. С вашей женой.
— Нет. Я точно не знаю, есть между ними что-нибудь или нет. Я не…
— Бросьте. Как еще можно объяснить произошедшее? Человек якобы спасает мальчику жизнь. Ваша жена берет ребенка на воспитание, а точнее, получается — они оба, ваша супруга и Скотт Бэрроуз. Спрашивается, что это означает? Они хотят создать новую семью? Похоже на то. И никого не волнует, что вы, муж, остались без крыши над головой, с разбитым сердцем.
Дуг кивает. Внезапно он ощущает сильнейшее желание расплакаться. Однако ему удается сдержаться.
— И не забывайте про деньги, — говорит он.
Билл едва заметно кивает. «Бинго».
— Какие деньги? — с невинным видом интересуется он.
Дуг смахивает все же предательски выступившие на глазах слезы и выпрямляется в кресле, стараясь взять себя в руки.
— Ну… Дэвид и Мэгги, родители Джей-Джея… они были… Отец ребенка руководил этим телеканалом. Я не хочу сказать ничего такого, но… в общем, они были очень богатыми людьми.
— И каков же размер их состояния — хотя бы приблизительно?
— Ну, я не думаю, что мне следует…
— Десять миллионов? Пятьдесят?
Дуг колеблется.
— Больше? — продолжает гнуть свое Билл.
— Ну да, — неохотно выдыхает Дуг. — Раза в два.
— Надо же. Ладно, пусть будет сто миллионов долларов. И эти деньги…
Дуг несколько раз проводит ладонью по бороде, стараясь успокоиться.
— Значительная часть пойдет на благотворительность, а то, что останется, само собой, принадлежит Джей-Джею. Специально для этого создан фонд. Ну, понимаете… пареньку всего четыре года, так что…
— То есть фактически деньги достанутся тому, кто станет опекуном мальчика, — медленно произносит Билл.
— Ну, вы как-то очень грубо это сказали, но…
Билл смотрит на Дуга с презрением.
— Я предпочитаю слово «прямо». Итак, на кону десятки миллионов долларов. Мне трудно сохранять беспристрастность в данном случае. После всего, через что пришлось пройти несчастному ребенку, после гибели родных он стал приманкой для алчных…
— Ну, вообще-то Элеонора неплохая женщина. Она желает мальчишке добра. Просто мне кажется, что ею манипулируют.
— И делает это некий художник по имени Скотт Бэрроуз.
— Ну да… я не знаю… может, мысль о деньгах ее тоже ослепила. В чем-то изменила жену, понимаете?
— Вы говорили, что у вас счастливый брак.
— Ну да. То есть всякое бывает, конечно. Жизнь есть жизнь, верно? Но супруги ведь должны держаться друг за друга…
Билл кивает и откидывается на спинку кресла. В правом кармане его брюк начинает вибрировать мобильник, сигнализируя об эсэмэске. Достав его, Каннингем, прищурившись, читает текст. Как только он заканчивает, приходит еще одна эсэмэска, потом еще. Нэймор установил жучок в домашний телефон жены Дуга и теперь сообщал о том, что ему удалось узнать нечто интересное.
«Так. Созвоны между пловцом и наследницей. Сексуальная тягомотина».
Затем…
«Разговор между пловцом и Национальным комитетом безопасности перевозок. Бортовой самописец поврежден».
И далее…
«Пловец признался, что уложил наследницу в постель».
Билл запихивает телефон обратно в карман и выпрямляется в кресле.
— Послушайте, Дуг, — говорит он, — мы получили подтверждение того, что Скотт Бэрроуз спал с Лейлой Мюллер, наследницей огромного состояния, всего за несколько часов до того, как отправиться к вам домой. Что вы на это скажете?
— Ну, я…
— Мало того, он продолжает общаться с ней по телефону, причем звонит из вашего дома.
Дуг чувствует, что у него пересохло в горле.
— Понятно, — с трудом произносит он. — И что это значит? Он и с моей женой тоже спит, или…
— А вы сами как думаете?
Дуг закрывает глаза. Он не готов к такой ситуации. Угнетает мысль о том, что за последние две недели ему сначала невероятно повезло, а затем он вдруг снова стал неудачником. Судьба, похоже, насмехается над ним…
Билл Каннингем, наклонившись, сочувственно похлопывает его по плечу.
— Мы вернемся через несколько минут, — объявляет он в камеру.
Пули
Много ли людей представляют себе, как работает записывающее устройство? Каким образом звук фиксируется на бороздках виниловой пластинки, а затем воспроизводится с помощью специальной иглы, движущейся вдоль этих бороздок? Как могут царапины на пластмассовом диске сохранять человеческие голоса и музыку? А цифровой формат? Кто-нибудь может понять и внятно объяснить, каким образом звук, пройдя через микрофон, кодируется в единицы и нули, а затем непостижимым образом снова преобразуется в свою изначальную форму, будь то рэгги или щебетание птиц в летний день?
На протяжении всей истории человечество совершило множество технологических прорывов, и в результате было создано огромное количество технических устройств, необходимых для изучения и завоевания окружающего мира, а также для выживания. Миллионы, миллиарды людей пользуются этими устройствами, слабо представляя, как именно они работают.
Примерно через десять тысяч лет после того, как люди научились использовать огонь для обогрева своих жилищ и приготовления пищи, мужчины в джинсах в обтяжку и солнцезащитных очках от «Оливер Пиплз», разобрав самолетный прибор-самописец на составные части, внимательно изучают их. Что удивительно, они понимают, как работает это устройство. Используя сложное диагностическое оборудование, техники проверяют исправность его деталей и заменяют поврежденные.
Гэс Франклин сидит верхом на спинке стула, поставив ноги на сиденье. Он не спал уже тридцать шесть часов. Одежда его измята, лицо небрито. Осталось совсем немного — так, во всяком случае, говорят техники. Из «черного ящика» уже удалось извлечь почти всю информацию. С минуты на минуту Гэс сможет получить распечатку данных о полете, в которой будут все сведения о маневрах самолета. Расшифровка данных голосового самописца потребует больше времени.
Баллистическая экспертиза показала, что пулевые отверстия в двери кабины пилотов соответствуют калибру оружия Джила Баруха. Агент О’Брайен, устав стоять над душой у техников, поминутно интересуясь, когда они закончат свою работу, в конце концов отправился в город в надежде собрать больше информации о телохранителе Дэвида Уайтхеда. Поскольку труп Баруха обнаружить так и не удалось, агент О’Брайен выдвинул новую версию — Джил предал своего работодателя и стал работать на другого хозяина, «Аль-Каиду» или северных корейцев. По мнению фэбээровца, в этом случае он вполне мог во время полета достать оружие и открыть огонь, вызвав таким образом катастрофу самолета, а сам каким-то непостижимым образом спастись.
«Как злодей из какого-нибудь фильма про Джеймса Бонда», — усмехнулся Гэс, когда О’Брайен поделился с ним своим предположением. По мнению Франклина, куда более вероятно, что Барух, который, как выяснилось, не пристегнулся ремнем к сиденью, погиб, а его тело было выброшено из самолета при ударе о воду, после чего либо исчезло в океанской пучине, либо съедено акулами.
Час назад следственная группа получила результаты вскрытия тела Чарли Буша. В его крови были обнаружены следы алкоголя и кокаина. Теперь сотрудники ФБР занимались углубленной проверкой, опрашивая родственников и друзей Буша, изучая его личное дело, послужной список и даже школьные характеристики. Никаких свидетельств психических отклонений в документах не имелось. Фэбээровцы пытаются выяснить, не было ли у Буша нервных срывов, как у второго пилота лайнера «Джерман Уингс», который умышленно направил самолет с пассажирами на гору? Возможно ли, что Чарли Буш являлся миной замедленного действия, но умело скрывал это от окружающих?
Гэс смотрит на картины, развешанные в дальнем конце ангара. Его взгляд задерживается на двух из них — с изображением сошедшего с рельсов поезда и приближающегося торнадо.
Когда-то Гэс был женат, и в стаканчике на подзеркальной полке в ванной стояли две зубные щетки. Теперь он живет один в практически стерильной квартире на берегу реки Гудзон. У него одна зубная щетка, а пьет он всегда из одного и того же стакана, после чего, аккуратно ополоснув, ставит его на полку сушилки.
К Гэсу подходит один из техников, держа в руках пачку листов бумаги. Это распечатка. Техник вручает ее Гэсу. Тот с напряженным вниманием изучает листы. Вокруг него собираются остальные участники следственной группы. В противоположном конце ангара информация выводится на плазменный экран, и другая группа людей толпится около него. Полученные данные — это цифры. В них отражен весь недолгий полет рейса номер 619 — набор высоты и падение в океан.
— Коди, — зовет Гэс.
— Вижу, — откликается тот.
Данные показывают, что взлет был произведен в штатном режиме. Затем самолет сделал левый вираж, выровнялся и за шесть минут и тринадцать секунд поднялся на высоту восемь с половиной тысяч метров, рекомендованную службой управления воздушным движением. На шестой минуте полета был включен автопилот. Самолет лег на курс и полетел на юго-запад. Девять минут спустя командир экипажа Мелоди по неизвестным причинам передал управление второму пилоту Бушу. Курс и высоту лайнер не менял. Затем, на шестнадцатой минуте полета, автопилот отключают. Самолет дает резкий крен и начинает падать, вращаясь вокруг своей оси — сначала медленно, потом все быстрее и быстрее.
При этом все системы лайнера функционируют нормально, технические неисправности отсутствуют. Получается, что Чарли Буш отключил автопилот и намеренно бросил самолет в штопор. В результате машина рухнула в океан. Таковы факты. Теперь следствию известно, как именно произошла катастрофа. Предстоит выяснить ее причины. Известно, что Буш находился под действием алкоголя и наркотиков. Совершил ли он грубую ошибку в пилотировании непреднамеренно или же бросил самолет в штопор сознательно?
Не исключено, что второй пилот специально дожидался момента, когда командир экипажа покинет кабину. Это позволяло ему без помех осуществить свой план, который состоял в том, чтобы вызвать авиакатастрофу. Но если так, что могло быть причиной его поступка? И имелся ли у него в самом деле такой план?
Хотя в ангаре разом началась суета, Гэс еще какое-то время сидит неподвижно. Теперь он точно знает, что катастрофа не была случайностью. Ее причиной стал не компьютерный сбой или отказ гидравлики, а надлом в человеческой душе. Что могло заставить молодого, здорового, симпатичного мужчину вопреки инстинкту самосохранения направить в океан пассажирский самолет? Какими причинами можно было объяснить тот факт, что Чарли Буш, племянник сенатора, решил убить девятерых человек, в том числе самого себя, превратив салон роскошного частного самолета в братскую могилу? Психическое заболевание, которое не сумели распознать медики? Отчаяние, вызванное царящей в мире несправедливостью?
Можно ли в таком случае сделать вывод: пулевые отверстия в двери кабины пилотов — свидетельство того, что кто-то пытался пробраться внутрь и предотвратить катастрофу?
Ответы на все эти вопросы находятся вне компетенции инженеров и техников. Пока на этот счет можно только гадать.
Гэсу остается только одно — стиснув зубы, нырнуть в этот омут.
Он тянется к телефону, но затем передумывает. Гэс решает, что после случаев с утечкой информации о новостях лучше докладывать в ходе личной встречи. Поэтому он надевает пиджак и идет к машине.
— Я на какое-то время отъеду, — говорит Гэс на ходу, обращаясь к членам своей команды. — Позвоните мне, когда техники снимут данные с голосового самописца.
Игры
В тот момент, когда звонит телефон, Скотт и Джей-Джей играют в горки-лесенки в гостиной. Дуга показывают по телевизору. Вернувшись с кухни с трубкой в руках, Элеонора дрожит. По ее взгляду Скотт понимает — им надо чем-то занять на время Джей-Джея, чтобы поговорить без помех.
— Послушай, приятель, — говорит Скотт мальчику, — принеси сверху мою сумку, ладно? У меня там для тебя подарок.
Мальчик бежит по лестнице на второй этаж, шумно топая по ступенькам. Элеонора провожает его взглядом, затем поворачивается к Скотту. Лицо у нее бледное, как мел.
— Что случилось? — спрашивает Скотт.
— Звонила моя мать, — отвечает Элеонора, пытаясь отыскать пульт от телевизора.
— И что она…
— Где пульт?
Скотт берет пульт с кофейного столика и протягивает его Элеоноре. Схватив его, та включает телевизор и начинает листать каналы.
— Я все же не понимаю, что происходит, — говорит Скотт и бросает взгляд в сторону лестницы. Слышно, как наверху Джей-Джей открывает платяной шкаф в гостевой комнате.
Элеонора негромко ахает. Скотт смотрит на нее, потом на экран и видит одетого во фланелевую куртку Дуга с тщательно расчесанной бородой. Напротив него за столом расположился Билл Каннингем в своих знаменитых красных подтяжках. Съемка происходит в студии. Картина, представшая перед глазами Скотта, кажется ему настолько невероятной, что он от изумления невольно приоткрывает рот. Комнату наполняет голос Дуга. Он говорит о Скотте и рассказывает о том, как Элеонора выгнала его, Дуга, своего мужа, из дома. Затем он заявляет, что Скотт, по всей вероятности, охотится за деньгами. Билл понимающе кивает и, перебивая Дуга, подытоживает рассказанную им историю. Общий смысл того, что он говорит, сводится к следующему: «Какой-то ни на что не годный, вышедший в тираж художник забирается в постель к замужним женщинам и в своих картинах смакует ужасы катастроф».
Скотт смотрит на Элеонору. Ее взгляд прикован к экрану. Она прижимает к груди пульт от телевизора, стиснув его с такой силой, что у нее белеют костяшки пальцев. Неизвестно почему, Скотт вдруг представляет свою шестнадцатилетнюю сестру, лежащую в гробу. В один сентябрьский день она утонула в озере Мичиган. Сестра была проглочена темной водой, оставив после себя на поверхности лишь пузырьки воздуха. Сорокашестилетний владелец похоронного бюро обмыл ее тело, надел на него лучшее платье, которое нашлось в гардеробе утопленницы, наложил на лицо румянец и тщательно расчесал волосы. Ее руки он сложил на груди, вложив в бесчувственные мертвые пальцы венок из желтых маргариток.
Скотт знал, что у его сестры аллергия на маргаритки. При виде венка он страшно расстроился и буквально места себе на находил, пока не осознал, что это больше не имеет никакого значения.
— Я не понимаю, — говорит Элеонора. И несколько раз повторяет эту фразу, словно мантру, с каждым разом все тише и тише.
Скотт слышит на лестнице детские шаги и оборачивается. На лице Джей-Джея, несущего сумку Скотта, смущенное выражение, которое в любой момент может смениться обиженным. Оно говорит яснее всяких слов, что подарка в сумке не обнаружилось. Сделав несколько шагов ему навстречу, Скотт ласково треплет мальчика по волосам и ведет его обратно в кухню.
— Что, не нашел? — спрашивает Скотт.
Ребенок молча кивает.
— Ладно, давай-ка я посмотрю.
Скотт усаживает Джей-Джея за кухонный стол. В окно он видит, как на подъездную дорогу сворачивает почтовый фургон и останавливается у дома. У вышедшего из кабины водителя на голове имитация пробкового шлема, которые когда-то носили британские колонизаторы. Он открывает крышку почтового ящика и бросает в щель каталог какого-то супермаркета и несколько счетов.
Из гостиной доносится голос Дуга, который, сидя в студии в компании Билла Каннингема, говорит: «Пока он не появился, у нас все было хорошо. Мы были счастливы».
Скотт роется в сумке, стараясь найти в ней то, что можно выдать за подарок. Ему попадается под руку старая авторучка, которую отец подарил ему по окончании школы. Это черный «Монблан». Скотт хранит его много лет.
Как-то раз, окончательно пав духом, он выбросил из окна всю мебель и всю посуду — практически все, что было в квартире. За исключением ручки. Ею он подписывает свои картины.
— Вот, держи, — говорит Скотт, вынимая ручку из сумки. Ребенок улыбается. Скотт отвинчивает колпачок и показывает Джей-Джею, как пользоваться подарком, нарисовав на бумажной салфетке собаку.
— Она досталась мне от отца, когда я был еще совсем молодым. — Лишь произнеся эту фразу, Скотт осознает ее подтекст. Передав ручку мальчику, он пусть косвенно, но все же признает, что считает Джей-Джея приемным сыном.
Подумав так, Скотт решает не зацикливаться на этой мысли. Есть вещи, о которых лучше долго не размышлять — иначе можно так никогда и не решиться на важные, нужные шаги.
Ручка — это, по сути, все, что осталось от прежнего Скотта. Когда-то и он был мальчиком, потом юношей, ставил перед собой большие цели. Теперь он другой, даже тело его изменилось. В нем нет ни одной прежней клетки — их заменили новые. Все теперь иное, вплоть до молекул и атомов.
Он стал новым человеком.
Взяв ручку, Джей-Джей пытается рисовать на салфетке, но у него не получается даже провести линию.
— Это перьевая ручка, она пишет и рисует чернилами, — объясняет Скотт. — Поэтому ее нужно держать вот так.
Он берет руку мальчика в свою и показывает, что нужно делать. С кухни до него доносятся слова Билла Каннингема: «Значит, сначала он пытался сблизиться с сестрой вашей жены, богатой женщиной. Теперь же, когда она погибла и ее деньги перешли к сыну, он оказывается в вашем доме, а вы вынуждены спать в старом автомобиле».
Мальчику наконец удается изобразить ручкой на салфетке черный штрих, потом другой. Он радостно посапывает. Скотт наблюдает за ним, и вдруг в его голове все разом становится на свои места. Он принимает решение, к которому, сам того не сознавая, последовательно шел. У него появляется цель. Скотт быстро направляется к телефону, звонит в службу информации и выясняет номер корпорации Эй-эл-си. Затем, набрав нужную комбинацию цифр, просит соединить его с Биллом Каннингемом. После нескольких неудачных попыток выполнить его просьбу оператор соединяет Скотта с Кристой Брюэр, продюсером Каннингема.
— Мистер Бэрроуз?
Криста запыхалась, словно перед тем, как взять трубку, ей пришлось бежать к телефону целую милю.
— Скажите ему, что я согласен, — говорит Скотт после секундного молчания.
— Простите?
— На интервью. Я готов его дать.
— Что ж, отлично. Если хотите, я могу отправить к вам мобильную студию — она будет у вас через час.
— Нет. Пусть ваши люди держатся подальше от дома и от мальчика. Это личное — между мной и вашим патроном. Разговор пойдет о том, что публично оскорблять и унижать людей издали, находясь в полной безопасности, — трусость и мерзость, так мужчины себя не ведут.
— Могу я процитировать вас? — интересуется Криста Брюэр с явными нотками ликования в голосе.
Скотт снова думает о своей сестре, лежащей в гробу со скрещенными руками. Вспоминает нависшую над ним гигантскую волну и то, как он с вывихнутым плечом изо всех сил боролся за свою жизнь и жизнь Джей-Джея, пытаясь вынырнуть на поверхность.
— Нет, — отвечает он. — Я к вам сегодня приеду. Скоро увидимся.
Картина № 5
Поначалу кажется, что это не картина, а просто чистый холст. Белый прямоугольник, на котором художнику еще только предстоит что-то изобразить. Однако, подойдя ближе, посетитель замечает, что белая поверхность имеет рельеф. На ней видны возвышения и углубления, в которых залегла тень. Белая краска наложена слоями, так что под ней кое-где угадываются другие цвета. Становится ясно — это все-таки законченная картина. Если просто смотреть на нее, невозможно угадать, что здесь изображено. Но если, закрыв глаза, легонько провести по ее ребристой поверхности пальцами, страшная правда начинает проступать из-под белого покрывала и проникать в сознание. Посетитель представляет себе развалины зданий, охваченные пламенем.
Воображение дорисовывает остальное.
История насилия
Гэс едет в ангар, когда у него звонит телефон.
— Ты это смотришь? — спрашивает Мэйберри.
— Что именно? — не понимает Франклин.
Непосредственно перед этим он проигрывал в памяти состоявшуюся встречу с прокурором штата, руководством ФБР и представителями комиссии по биржам и ценным бумагам. Все они говорили о том, что второй пилот, судя по всему, осознанно направил самолет в океан.
— Эта история превратилась в настоящую мыльную оперу, — поясняет Мэйберри. — Сначала Дуг, муж тетки мальчика, отправился на телевидение, чтобы рассказать, как его выгнали, а вместо него в доме поселился Бэрроуз. А теперь, говорят, в студию едет Бэрроуз, которому приспичило дать интервью.
— Господи, — потрясенно выдыхает Гэс. Он хочет позвонить Скотту и попробовать убедить его отказаться от своего намерения, но потом вспоминает, что у художника нет сотового. Франклин начинает притормаживать на красный сигнал светофора. В этот момент, не предупредив о маневре поворотником, его грубо подрезает такси, вынуждая резко затормозить.
— Что с расшифровкой второго самописца? — спрашивает Гэс.
— Ребята вот-вот закончат. Не исключено, что им потребуется еще каких-нибудь десять минут.
Гэс вливается в поток автомобилей, текущий в сторону моста, который ведет к Пятьдесят девятой улице.
— Как только будет результат, сразу позвоните мне, — говорит он. — Я скоро буду.
В шести милях севернее взятый напрокат автомобиль белого цвета, направляющийся в Нью-Йорк, проезжает через Уэстчестер. Здесь вдоль дороги высажены деревья. В отличие от маршрута, по которому едет Гэс, в Уэстчестере машин на дорогах немного, и Скотт перестраивается из ряда в ряд, не включая сигнала поворота.
Он старается жить настоящим, не задумываясь о будущем. Тридцать три дня назад он был песчинкой в бурном и беспощадном океане. Три года ранее — безнадежным пьяницей, проснувшимся на ковре в гостиной дома известного художника. Скотт помнит, как тогда, щурясь и пошатываясь, он вышел на улицу под лучи ослепительного солнца и увидел аквамаринового цвета плавательный бассейн. Из таких моментов, которые хранит наша память, и сплетается полотно человеческой жизни.
Полчаса тому назад, когда Скотт, выйдя из дома, направился к арендованной машине, Элеонора посоветовала ему никуда не ездить. Ей казалось, что он совершает ошибку.
— Если вы хотите рассказать свою историю, — сказала она, — позвоните на Си-эн-эн, в «Нью-Йорк таймс». Куда угодно — только не ему.
Только не Каннингему.
— Вы вернетесь? — спросила Элеонора, когда он сел в машину.
Скотт посмотрел на нее, на Джей-Джея, застывшего на крыльце позади Элеоноры. В глазах мальчика легко читалась тревога.
— Где-нибудь неподалеку есть бассейн? — спросил Скотт. — Мне бы хотелось научить Джей-Джея плавать.
— Да, — кивнула Элеонора и улыбнулась.
В гримерной Скотту пришлось довольно долго ждать Билла. Однако было бы ошибкой сказать, что он нервничал. Хотя, если рассуждать здраво, какую угрозу мог представлять Каннингем для человека, который побывал в открытом океане, был на волосок от смерти, но все же выжил? Прикрыв глаза, Скотт, чтобы отвлечься, погрузился в размышления.
Наконец появляется ведущий и здоровается со Скоттом. После этого Каннингем с полминуты растягивает губы и гримасничает перед зеркалом, делая комплекс упражнений для улучшения артикуляции. Наблюдая за ним, Скотт прислушивается к своим ощущениям и пытается определить, что в них преобладает — страх или радостное предматчевое возбуждение боксера, уверенного в своей победе.
— Прежде всего, — говорит Билл, когда они со Скоттом усаживаются за стол перед объективами и камеры начинают работать, — спасибо за то, что вы пришли сегодня сюда.
Вопреки смыслу фразы, взгляд Билла враждебен, поэтому Скотт ничего не отвечает.
— Последние несколько недель были долгими и очень тяжелыми, — продолжает Каннингем. — Вероятно, мы оба мало спали. Что касается меня, то я все это время пытался найти ответы на целый ряд вопросов. Я искал правду.
— Я должен смотреть на вас или в камеру? — прерывает его Скотт.
— На меня. Как обычно во время беседы.
— Что ж, у меня в жизни было много бесед, — говорит Скотт, — но ни одна из них не была похожа на сегодняшнюю.
— Беседа как беседа, такая же, как и любая другая. Мы с вами просто разговариваем — вот и все.
— Но ведь это интервью. А чертово интервью — это не просто беседа.
Билл наклоняется вперед.
— Я вижу, вы нервничаете, — замечает он.
— Вы так считаете? Ничего подобного. Я просто хочу уточнить правила игры.
— Если вы не нервничаете, то какие чувства у вас сейчас? Мне бы хотелось, чтобы наши телезрители могли понять это по вашему лицу.
Скотт ненадолго задумывается.
— Знаете, чувство, которое я испытываю, очень странное, — произносит он наконец. — Вам, вероятно, приходилось слышать слово «лунатизм». Некоторые люди бредут по жизни, словно лунатики. А потом вдруг происходит что-то, вынуждающее их проснуться. Так вот, у меня ощущения совершенно другие. Скорее противоположные.
Скотт смотрит Биллу в глаза и понимает, что Каннингем пока не понял, каким образом Бэрроуз будет загонять его в ловушку.
— Все, что происходит со мной в последнее время, кажется мне сном, — продолжает Скотт, которому тоже очень хочется выяснить правду. Точнее, из двоих мужчин, сидящих в студии, этого, скорее всего, желает только он. — Мне кажется, что я заснул в том самолете и все еще не проснулся.
— Вы хотите сказать, что все происходящее кажется вам нереальным, — уточняет Билл.
Скотт снова задумывается.
— Нет, — отвечает он, покачав головой. — Наоборот, все реально. Даже слишком. Особенно то, как люди обращаются друг с другом. Я, конечно, взрослый человек и понимаю, что мы живем не в идеальном мире, где все обожают друг друга, но…
Билл снова наклоняется вперед. Жизненные наблюдения собеседника его не интересуют.
— Я бы хотел знать, каким образом вы оказались на борту самолета.
— Меня пригласили.
— Кто?
— Мэгги.
— Вы имеете в виду миссис Уайтхед?
— Да. Она попросила называть ее Мэгги, так я и делаю. Мы познакомились летом на Мартас-Вайнъярд. Кажется, это было в июне. Часто ходили в одну и ту же кофейню, и я много раз видел ее с Джей-Джеем и дочерью на фермерском рынке.
— Она бывала у вас в студии?
— Один раз. Я работаю во дворе дома, в котором живу, в старом сарае. Рабочие делали в кухне ее дома ремонт, и Мэгги сказала, что ей надо как-то провести время. Она пришла вместе с детьми.
— Вы хотите сказать, что в тот единственный раз, когда вы встречались с ней не в кофейне и не на фермерском рынке, она была с детьми?
— Да.
Билл сооружает на лице гримасу, показывая, что, по его мнению, собеседник лжет.
— Не кажется ли вам, что некоторые из ваших работ производят угнетающее впечатление? — интересуется Каннингем.
— На детей, вы имеете в виду? Да, пожалуй. Но мальчик уснул и ничего не видел. А вот Рэйчел хотела посмотреть на картины.
— И вы их ей показали.
— Нет. Это ее мать решила, что ей стоит на них взглянуть. Понимаете… это, скорее всего, лишь наброски, идеи.
— Что вы имеете в виду?
Скотт пытается выразить свою мысль яснее:
— Я задаю себе и другим вопрос: что есть окружающий нас мир? Почему происходят те или иные события? О чем они свидетельствуют? Я пытаюсь разобраться в этом, что-то понять. Да, я показал Мэгги и Рэйчел свои картины. Мы немного о них поговорили. Вот и все.
Билл ухмыляется. Скотт понимает, что ему меньше всего хочется беседовать об искусстве.
— Однако же вы испытывали по отношению к миссис Уайтхед определенные чувства.
— Не знаю, что вы имеете в виду. Она была хорошей женщиной, любила своих детей.
— Но не своего мужа.
— Понятия не имею. Откуда мне знать? О таких вещах вообще трудно судить. Мне кажется, она была довольна жизнью. Мэгги и дети все время шутили, смеялись. Он много работал — я имею в виду Дэвида. Мэгги и дети все время говорили о нем, о том, чем займутся, когда приедет их папа. — Скотт делает небольшую паузу, после чего добавляет: — Она казалась счастливой.
Когда звонит телефон снова, Гэс едет по скоростному шоссе Лонг-Айленда. Франклин слушает короткий доклад. Данные второго, звукового самописца получены. Запись не в идеальном состоянии, звук несколько искажен, но запись полностью сохранилась. Специалисты готовы приступить к ее прослушиванию. Хочет ли Гэс, чтобы они подождали его прибытия?
— Нет, — отвечает Франклин. — Нам надо выяснить все как можно скорее. Лучше приставьте микрофон телефона вплотную к динамику.
Сидя за рулем автомобиля коричневого цвета, принадлежащего ведомству, где он работает, Гэс прислушивается к шумам, которыми сопровождаются последние приготовления к изучению данных записывающего устройства. Еще немного — и тайное станет явным.
Гэс шумно вдыхает и выдыхает пропущенный через кондиционер машины воздух. По лобовому стеклу стекают капли. Раз в несколько секунд их смахивают работающие в прерывистом режиме дворники.
Запись начинается.
Сначала слышны два голоса. Разговор явно происходит в кабине пилотов. Командир экипажа, Джеймс Мелоди, говорит с едва заметным британским акцентом. В репликах второго пилота, Чарли Буша, слышны тягучие техасские интонации.
— Тормоза, — говорит Мелоди.
— Проверены, — секунду спустя отвечает Буш.
— Закрылки.
— Десять, десять, зеленый.
— Люфты.
— В норме.
— Дует небольшой боковой ветер, — говорит Мелоди. — Необходимо это учитывать. Навигационные приборы и световые табло?
— Да-да. В порядке.
— Тогда все. Контрольная проверка закончена.
На шоссе становится немного свободнее. Гэс чуть прижимает акселератор «форда», и машина послушно убыстряет ход до ста сорока километров в час. Однако вскоре поток автомобилей, сверкая красными тормозными огнями, снова начинает снижать скорость.
Следующую реплику произносит Мелоди:
— Диспетчерская, это «Галл-Уинг» шестьсот тринадцать. К взлету готовы.
После небольшой паузы из динамика раздается искаженный помехами голос дежурного диспетчера:
— «Галл-Уинг» шестьсот тринадцать, взлет разрешаю.
— Прибавить обороты. Разбег! — командует Мелоди Бушу.
Франклин слышит какие-то механические звуки. Точно определить их природу, слушая запись через телефон с включенной громкой связью, крайне сложно. Гэс, однако, не сомневается: техники уже делают все возможное, чтобы определить, связаны ли эти звуки с увеличением тяги двигателя или вызваны чем-то еще.
— Восемьдесят узлов, — слышится голос Буша.
Еще несколько секунд молчания.
— Отрыв, — говорит Мелоди. — Убрать шасси.
— «Галл-Уинг» шестьсот тринадцать, вижу вас, — возникает в динамике голос диспетчера. — Вираж влево, затем набирайте высоту. Сообщите в Тетерборо о вылете. Удачной посадки.
— Это «Галл-Уинг» шестьсот тринадцать. Большое спасибо, — говорит Мелоди.
— Шасси убрано, — докладывает Буш.
Итак, самолет в воздухе и направляется в сторону Нью-Джерси. Обычно перелет занимает всего двадцать девять минут. Через шесть минут лайнер окажется в зоне действия радаров аэропорта Тетерборо.
Стук в дверь.
— Командир, — слышится женский голос. Это стюардесса, Эмма Лайтнер. — Принести вам чего-нибудь?
— Нет, ничего, — говорит Мелоди.
— А как насчет меня? — интересуется второй пилот.
Пауза. Что произошло за эти секунды?
— Он тоже обойдется, — говорит Мелоди. — Полет короткий, поэтому не будем расслабляться.
Билл Каннингем, сидя в кресле, снова наклоняется вперед, упираясь локтями в колени.
— Поговорим о полете, — говорит он. — Расскажите, что произошло?
Скотт кивает. Он несколько удивлен ходом интервью — пока беседа развивается так, словно Каннингема интересуют только события, непосредственно связанные с катастрофой. Ему казалось, что у них с телеведущим сразу начнется ожесточенная перепалка и обмен «любезностями».
— Понимаете, — начинает Скотт, — я опоздал. Вызванное такси не приехало, поэтому мне пришлось добираться на автобусе. Я был уверен, что к тому моменту, когда он доплетется до аэродрома, самолет уже улетит. Но я оказался не прав. Меня ждали. То есть самолет готовился к отлету — дверь уже начали закрывать. Но все же меня какое-то время дожидались. В общем, когда я поднялся на борт, часть пассажиров уже сидела в креслах — Мэгги и дети, миссис Киплинг. Дэвид и мистер Киплинг, кажется, еще стояли в проходе. Стюардесса принесла мне бокал вина. Я к таким вещам не привык. Понимаете, до этого мне никогда не приходилось летать в частных самолетах. Потом командир попросил всех занять свои места. Те, кто еще стоял, тоже сели в кресла и пристегнулись.
Скотт умолкает. Глядя на одну из ламп, он пытается вспомнить какие-то детали.
— В это время передавали бейсбольный матч. Играла бостонская команда, «Ред сокс». Комментатор все время что-то тараторил. Рядом со мной сидела миссис Киплинг. Мы с ней немного поговорили. Мальчик, Джей-Джей, спал. Рэйчел копалась в своем айфоне — наверное, выбирала музыку. Она была в наушниках. А потом мы взлетели.
Вместе с остальным потоком автомобилей Гэс проползает мимо аэропорта Ла-Гуардия. Над его головой с ревом проносятся садящиеся и взлетающие самолеты. Чтобы лучше слышать запись, Франклин поднимает боковые стекла и выключает кондиционер, хотя на улице стоит тридцатиградусная жара.
— Желтый индикатор загорелся, — раздается голос Джеймса Мелоди.
Пауза. Гэс, обливающийся потом, слышит звук, похожий на легкое постукивание. Затем снова голос Мелоди:
— Вы меня слышите? Горит желтый индикатор.
— Вижу, — отвечает Буш. — Погас. Похоже, все дело в лампочке.
— Сделайте пометку для техников, — говорит Мелоди.
Далее следуют звуки, природу которых Гэс определить не может.
— Черт! — внезапно восклицает командир экипажа. — Погодите-ка. У меня…
— В чем дело, командир?
— Возьмите управление на себя. У меня опять кровь носом пошла. Мне нужно привести себя в порядок.
Судя по звукам, Мелоди встает и идет к двери кабины.
— Говорит второй пилот. Беру управление на себя.
Слышно, как открывается и закрывается дверь. Чарли Буш остается в кабине один.
— Я смотрел в окно самолета и все время думал о том, что все происходящее как-то нереально, — говорит Скотт. — Так бывает — человек вдруг чувствует, что словно переносится в другую жизнь.
— Что, по-вашему, стало первым признаком сбоя в полете? — спрашивает Билл. — С чего все началось?
Скотт вздыхает:
— Трудно сказать. Все произошло совершенно неожиданно. В салоне было шумно. Дэвид и Киплинг орали и хлопали. И вдруг все закричали от ужаса.
— Кричали и хлопали?
— Ну да. Я же говорю, по телевизору показывали бейсбольный матч, и Дэвид с Киплингом его смотрели. Что-то такое там происходило на экране и привлекало их внимание. Кажется, это был какой-то игрок по фамилии Дворкин. Я помню, как Уайтхед и Киплинг отстегнули ремни и встали. И вдруг самолет резко нырнул вниз, так что они едва смогли снова забраться в кресла.
— Ранее вы в беседе с членами следственной группы сказали, что тоже отстегнули ремень.
— Да. Разумеется, это была глупость. Я держал в руках блокнот для набросков. Когда самолет клюнул носом и начал падать, я уронил карандаш и решил его поднять. Поэтому и отстегнулся.
— И это спасло вам жизнь.
— Да. Наверное, вы правы. В тот момент все люди в салоне кричали. И еще я слышал какой-то сильный стук. А что было потом…
Скотт пожимает плечами, давая понять — больше ничего толком не помнит.
Билл кивает:
— Значит, такова ваша история.
— Моя история?
— Ваша версия события.
— Я рассказал то, что сохранилось в моей памяти.
— Значит, вы уронили карандаш, отстегнули ремень, чтобы поднять его, и благодаря этому спаслись.
— Понятия не имею, благодаря чему я спасся. Сомневаюсь, что на то была какая-то особая причина, скорее всего, действие законов физики.
— Физики?
— Да. Сказываются законы физики. В результате я был выброшен из самолета, а из пассажиров каким-то образом выжил только мальчик.
Каннингем держит долгую паузу, словно хочет сказать: «Я мог бы продолжить беседу на эту тему, но не стану этого делать».
— Давайте поговорим о ваших картинах, — предлагает он.
В любом фильме ужасов есть момент, когда напряжение нагнетает тишина. Персонаж выходит из комнаты, но камера не следует за ним, а остается на месте. Ее объектив может быть направлен на что угодно — на дверной проем, на детскую кроватку. Какое-то время ничего не происходит, и это, как и давящая тишина, вызывает у зрителя ощущение безотчетной тревоги. Затем он начинает искать в интерьере комнаты что-то необычное, продолжая до звона в ушах прислушиваться к тишине. Из-за того, что комната совершенно обычная, тревога только усиливается и превращается в чувство, которое Зигмунд Фрейд называл страхом перед необъяснимым. Настоящий ужас возникает тогда, когда человеку начинает казаться, что даже самые обыкновенные предметы и явления могут таить в себе нечто зловещее. Наше воображение само порождает страхи, не имеющие логического объяснения.
Подобное ощущение возникает у Гэса Франклина, который медленно едет по шоссе в потоке машин. Люди, сидящие в окружающих его автомобилях, возвращаются с работы домой. Кто-то из них собирается отправиться на пляж и провести там остаток жаркого дня. Тишина на записи, которую прослушивает Гэс, кажется почти полной — если не считать едва слышного механического шипения. Гэс с помощью кнопки на корпусе телефона прибавляет звук до максимума, и шипение становится громче.
И вдруг на его фоне отчетливо звучит произнесенное шепотом слово. Затем еще раз и еще.
«Сука».
— Нет, давайте не будем говорить о моих картинах, — возражает Скотт.
— Почему? Что вы пытаетесь скрыть?
— Ничего. Это просто картины — и все.
— Однако же вы их прячете.
— То, что картины не представлены на суд широкой публики, вовсе не означает, что я их прячу. Сейчас все они находятся в распоряжении ФБР. Эти работы видели очень немногие люди — только те, кому я доверяю. Однако картины не имеют к нашему разговору никакого отношения.
— Я хочу прояснить одну вещь. Есть некий человек, который пишет картины, где изображены сцены катастроф, в том числе катастрофа самолета. И вот такой человек сам попадает в авиакатастрофу. Вы хотите сказать, что это всего лишь совпадение?
— Я не знаю. В мире полно всевозможных совпадений, порой самых невероятных. Никто из нас не застрахован от таких вещей, как авиакатастрофа или крушение поезда. Подобные трагедии происходят каждый день, и их жертвой может стать кто угодно. Вероятно, настал мой черед — вот и все.
— Я говорил с вашим агентом, — говорит Билл. — Оказывается, теперь каждая из ваших работ стоит сотни тысяч.
— Пока что ничего не продано. Все эти расчеты — чисто теоретические. В последний раз, когда я проверял баланс своего банковского счета, там было всего шестьсот долларов.
— Вы по этой причине переехали к Элеоноре и ее племяннику?
— О чем вы?
— Вы сделали это из-за денег? Ведь мальчик теперь стоит добрых сто миллионов долларов.
Скотт изумленно смотрит на ведущего.
— Вы всерьез это спрашиваете?
— Еще как.
— Ну, прежде всего, я не переехал.
— А муж Элеоноры рассказал мне, что именно это вы и сделали. Более того, из-за вас она выгнала его из дома.
— После этого — не значит вследствие этого.
— Я не обучался в элитарных университетах, поэтому вам уж придется объяснить мне, что вы имеете в виду.
— Я хочу сказать, тот факт, что Элеонора с Дугом разъехались — если это на самом деле произошло, — не имеет никакого отношения к моему визиту в их дом.
Билл выпрямляется в кресле.
— Позвольте сказать вам, кого я вижу перед собой, — говорит он. — Несостоявшегося художника, неудачника, пьяницу, который профукал лучшие годы, болтаясь, как дерьмо в проруби, и вдруг получил от жизни подарок.
— В виде авиакатастрофы и гибели людей?
— Он оказался в центре внимания. Его называют героем. Внезапно люди начинают проявлять к нему интерес. И он, воспользовавшись этим, тут же принимается трахать наследницу огромного состояния, которой двадцать с чем-то лет. Его мазня вдруг становится модной…
— Никто никого не трахает, как вы выражаетесь…
— А потом этот человек вдруг в приступе алчности думает: почему бы мне не воспользоваться тем, что мальчик, выживший в авиакатастрофе, ко мне тянется? Ведь он теперь тоже владеет целым состоянием, и к тому же у него есть весьма привлекательная тетя и дядя-неудачник. Как все прекрасно складывается!
Пораженный Скотт качает головой:
— В каком же отвратительном мире вы живете.
— Это реальный мир, только и всего.
— Пусть так. В ваших словах есть по меньшей мере дюжина неверных утверждений. Как мне лучше их опровергнуть — по очереди или…
— Значит, вы отрицаете, что спали с Лейлой Мюллер?
— Вы хотите знать, находимся ли мы с ней в интимных отношениях? Нет. Она просто позволила мне пожить какое-то время в пустующих апартаментах.
— А потом сняла с себя одежду и забралась к вам в кровать.
Скотт озадаченно смотрит на Каннингема, не понимая, откуда ему известны такие подробности. Или это всего лишь догадка?
— Я ни с кем не занимался сексом уже пять лет, — говорит он.
— Речь идет не об этом. Я спросил вас, правда ли, что Лейла Мюллер разделась и запрыгнула к вам в постель.
Скотт вздыхает. Ему некого винить в том, что он оказался в подобной ситуации, кроме самого себя.
— Я не понимаю, почему вы придаете этому такое значение.
— Ответьте на вопрос.
— Нет, лучше вы объясните мне, почему, если взрослая женщина проявляет ко мне внимание, это так важно для вас. Расскажите, зачем нужно публично обсуждать то, чем она занималась, находясь у себя дома, — при том, что сама мисс Мюллер, по всей вероятности, предпочла бы никому об этом не рассказывать.
— Значит, вы признаете?
— Нет. Я хочу понять, почему для вас так важен ответ на заданный вопрос. Какое отношение имеет то, о чем вы спрашиваете, к авиакатастрофе? Разве это поможет облегчить горе родственников тех, кто погиб? Или все дело в вашем любопытстве?
— Я просто пытаюсь выяснить, до какой степени вы лжец.
— Думаю, в этом смысле я не лучше и не хуже любого среднего гражданина. Но только когда речь не идет о важных вещах. Я дал самому себе слово не врать в серьезных делах и стараюсь его держать.
— В таком случае ответьте на мой вопрос.
— Нет, я не стану этого делать, потому что вас это не касается. Я не собираюсь идти у вас на поводу. Мне интересно знать, какое отношение данный вопрос имеет к теме, которую мы обсуждаем. Если вам удастся убедить меня, что моя личная жизнь после авиакатастрофы хоть как-то связана с причинами, вызвавшими крушение самолета, и вы расспрашиваете об этом не потому, что, будучи телестервятником, привыкли бесцеремонно лезть туда, куда не следует, — тогда я с радостью отвечу на любые ваши вопросы.
Билл с озадаченным выражением на лице долго молча смотрит на Скотта. А затем запускает магнитофонную запись.
* * *
«Сука. Проклятая тварь».
Гэс невольно задерживает дыхание. Услышанные им слова шепчет себе под нос Чарльз Буш, второй пилот, находящийся в кабине в полном одиночестве.
Затем Чарльз, уже несколько громче, говорит:
«Нет».
И отключает автопилот.
Чарльз Буш 31 декабря 1982–26 августа 2015
Он племянник какой-то важной шишки — люди всегда шептались об этом у него за спиной. По мнению многих его знакомых, если бы не данное обстоятельство, Чарли никогда не получил бы ту работу, на которую в конечном итоге устроился. Те, кто так говорил, считали его бездарем, пустым местом. У самого Чарли Буша, родившегося в канун Нового года, всегда было ощущение, что в последний момент он разминулся в жизни с чем-то очень важным и нужным. Такая дата рождения казалась Чарли признаком того, что по какой-то причине он лишен будущего — ведь его появление на свет почти для всех, кто узнал об этом событии, стало прошлогодней новостью.
В детстве он любил играть на улице, а вот учился всегда неважно. Ему нравилась математика, но процесс чтения — как учебников, так и просто книг — навевал на него тоску. Первые годы жизни Чарли прошли в Одессе, штат Техас. Как и все соседские мальчишки его возраста, он мечтал стать вторым Роджером Стобэком, хотя ему все же как пример для подражания больше нравился Нолан Райан. Спортивные соревнования в средней школе были полны чистого, бескорыстного азарта. В раздевалках стоял запах юношеского тестостерона. Мальчишеская бескомпромиссность отказывалась принять любой исход, кроме победы, и потому поражение для многих превращалось в трагедию. Тогда Чарльз, как и многие его приятели, ложась спать, запихивал свою засаленную бейсбольную рукавицу под матрас — ему казалось, что с ней сон куда крепче. В то время жизнь была проста и прекрасна. Бросай мяч точно и сильно, бей по нему битой от всей души, беги как можно быстрее, чтобы ветер свистел в ушах, — вот и весь секрет счастья. Незадолго до окончания школы все изменилось.
Люди не лгали, когда говорили, что Чарли Буш — племянник какой-то большой шишки. Дядя Логан Бэрч, брат его матери, был сенатором от штата Техас. Он занимал эту должность уже шестой срок и, будучи председателем бюджетной комиссии, водил дружбу с нефтяными компаниями и фирмами, занимавшимися торговлей скотом. Сколько Чарли его знал, дядя всегда был большим любителем бурбона, укладывал волосы у парикмахера. К приезду дяди Логана мать Чарли всякий раз доставала из буфета особые, парадные тарелки. Рождество они с матерью проводили в его огромном особняке в Далласе. Чарли хорошо помнил, как члены семьи сенатора усаживались за стол, одетые в одинаковые рождественские свитера. Дядя Логан всякий раз требовал, чтобы племянник, согнув руку в локте, напряг мышцы, а затем, тщательно ощупав их, неизменно говорил, обращаясь к сестре:
— Этого парня надо подтянуть, что-то он хлипковат.
Отец Чарли погиб, когда мальчику было шесть лет. Однажды вечером, когда он возвращался с работы, в его автомобиль врезался огромный девятиосный грузовик. Легковушка перевернулась восемь раз. Мать Чарли похоронила мужа в закрытом гробу на местном кладбище. Все расходы оплатил дядя Логан.
В средней школе наличие влиятельного дядюшки тоже нередко помогало Чарли. Его взяли в школьную сборную по бейсболу, хотя он и уступал в мастерстве многим другим мальчишкам. Покровительство сенатора, разумеется, не афишировалось, поэтому до тринадцати лет Чарли даже не догадывался, что своими спортивными успехами он обязан кому-то другому. Он думал, тренерам нравятся его энергия и напор. Однако в один прекрасный день ему дали понять, что это не так. В конце концов, спорт, и в том числе бейсбол, — среда высококонкурентная, где все решают реальные достоинства игроков, а не наличие у них высокопоставленных родственников. Футбольная и бейсбольная команды города Одесса, штат Техас, были далеко не последними в своих лигах. Их «звезд» с удовольствием принимали на учебу в лучшие университеты. Поэтому такой посредственный игрок, как Чарли Буш, не мог долго удержаться в основном составе.
Гром грянул, когда Чарли было пятнадцать лет. После того как в одной из игр он наделал много грубых ошибок, товарищи по команде, затолкав его в угол в раздевалке, избили. Затем Лемон Дэвис, капитан, наклонился над ним и злобно прошипел ему в ухо:
— Уходи из команды, урод, иначе ты покойник.
Время шло. Чарли стал взрослым, но никак не мог найти свою дорогу в жизни. В какой-то момент дядя Логан, в очередной раз подергав за нужные ниточки, устроил Чарли на курсы пилотов, организованные под эгидой Национальной гвардии. Чарли неплохо овладел новой профессией, хотя преподаватели отметили у него одно неприятное качество — растерянность в сложных ситуациях. После окончания курсов он сменил несколько мест работы, будучи не в состоянии долго удержаться ни на одном. В итоге в дело снова вмешался его дядюшка. Побеседовав с одним приятелем из авиакомпании «Галл-Уинг», он уговорил его встретиться с племянником. Следует признать, что Чарли обладал определенным обаянием и умел производить на людей, особенно на женщин, приятное впечатление. В костюме он выглядел просто прекрасно, а потому руководитель службы персонала авиакомпании пришел к выводу, что Чарльз Буш станет для быстро растущей «Галл-Уинг» отличным приобретением.
Чарли взяли на должность второго пилота. Это было в сентябре 2013 года. Ему нравились роскошные, умопомрачительно дорогие частные самолеты и клиенты компании — богатые люди, среди которых встречались и миллиардеры. Общение с ними, пусть даже в качестве сотрудника обслуживающего персонала, придавало Чарли значимости в собственных глазах. Но главной приманкой для него были стюардессы. Они выглядели не просто красивыми — они казались богинями. Когда Чарли впервые увидел стюардесс, с которыми предстояло отправиться в рейс, он невольно чертыхнулся про себя — четыре девушки модельной внешности были одна другой прекраснее.
— Добрый день, леди, — поприветствовал он их, чуть опустив темные очки и добавив к приветливой интонации свою лучшую техасскую улыбку. Девушки, однако, и глазом не моргнули. Вскоре выяснилось, что стюардессы не спят со вторыми пилотами, и дело здесь не только в правилах и инструкциях авиакомпании. Многие девушки говорили на нескольких языках. Они были настоящими ангелами, и простые смертные могли лишь смотреть на них, но не имели права к ним прикасаться…
В каждом рейсе Чарли продолжал попытки сблизиться с кем-то из этих девушек, сломать лед их равнодушия, но снова и снова терпел неудачу. Забраться в трусики к кому-нибудь из стюардесс компании «Галл-Уинг» ему не мог помочь даже высокопоставленный дядя.
Через восемь месяцев после своего прихода в компанию Чарли познакомился с Эммой. Он сразу же почувствовал, что она отличается от других стюардесс. Она казалась более земной, реальной со своей небольшой симпатичной щелочкой между передними зубами. Иногда, находясь в помещении, которое в самолете служило кухней, она что-то тихонько напевала. Обнаружив, что Чарли это слышит, она обычно слегка краснела. Эмма была самой красивой из девушек, работавших в компании, но она не казалась недостижимой. Чарли, словно лев во время охоты, терпеливо выжидая, выбирал наиболее беззащитную из антилоп, когда наконец понял, что пришло время для атаки.
Эмма рассказала ему, что ее отец в прошлом был летчиком ВВС. Поэтому Чарли сочинил для нее красивую легенду о своем пребывании в рядах Национальной гвардии и привосокупил сказку про то, что он якобы в течение года принимал участие в операции в Ираке, летая на F-16. Он без труда понял, что Эмма из тех, кого называют папиными дочками. Поскольку отец самого Чарли погиб, когда мальчику было всего шесть лет, он слабо представлял, как именно ему следует себя вести. Единственным родственником-мужчиной, который время от времени появлялся в его жизни, был дядюшка с тщательно уложенными парикмахером волосами, любитель виски, который при встрече всякий раз напоминал ему о необходимости укреплять мускулатуру. Чарли понимал, что он не так умен, как многие другие его сверстники, не умеет искрометно шутить и уступает им в жизненном опыте. Поэтому у него оставался лишь один выход. Он быстро понял: если не чувствуешь себя уверенным, вполне по силам казаться таковым. Чтобы выглядеть как игрок национальной сборной, достаточно надеть соответствующую форму, а если хочешь казаться солдатом, надо просто держать в руках оружие. Думая так, Чарли, несомненно, был отчасти прав.
Любил ли кто-нибудь Чарльза Натаниэля Буша таким, каким он являлся на самом деле? Вряд ли. Он был племянником сенатора, когда-то играл в школьной бейсбольной команде и в конечном итоге стал пилотом. Со стороны это выглядело вполне приемлемым вариантом американской истории успеха, и Чарли делал все возможное, чтобы окружающие думали именно так. Но сам он знал правду и понимал — все это фальшивка. Душа его наполнялась горечью, и Чарли все больше озлоблялся.
С чартерным рейсом «Галл-Уинг» он перелетел из лондонского Хитроу в Нью-Йорк. Самолет совершил посадку в воскресенье, 26 августа, в три часа дня. С того момента, как Эмма порвала с ним, прошло полгода. Она запретила ему звонить, караулить ее у дома и пытаться получить назначение на те же рейсы, которые выпадали ей. Чарли знал, что вечером Эмме, накануне прибывшей в Нью-Йорк, предстоит короткий перелет на Мартас-Вайнъярд и обратно. Он был уверен, что если сможет провести с ней с глазу на глаз несколько минут, то сумеет все объяснить. Эмма должна понять, как сильно Чарли ее любит и как она ему нужна. Он сожалеет по поводу случившегося — всего, что сказал и сделал. Если бы только он получил шанс объяснить Эмме все это! Она поняла бы, что в душе Чарли хороший. Просто так долго скрывал от всех, какой он на самом деле, что стал бояться разоблачения. От этого вся его заносчивость, ревность, мелочность. Если человек в течение многих лет пытается выдавать себя за кого-то другого, он изменяется, и не в лучшую сторону. Но Чарли не желал больше жить в страхе, продолжать притворяться. Во всяком случае, с Эммой. Чарли хотел, чтобы она узнала его — настоящего. Разве он не заслужил того, чтобы хоть раз в жизни к нему отнеслись по-человечески? Чтобы кто-то полюбил именно его, а не того, кем он пытался казаться?
Чарли много думал о случайной встрече с Эммой в Лондоне и ругал себя за допущенную ошибку. Однако постепенно мысль о том, что скоро он снова увидит объект своего обожания, стала вытеснять из его сознания неприятные воспоминания. Так яд после укуса змеи постепенно распространяется по кровеносным сосудам. Чарли чувствовал, что ему вот-вот представится еще один удобный случай для того, чтобы атаковать или, по крайней мере, значительно сократить дистанцию между ним и… Кем? Противником? Добычей? Ответа на этот вопрос Чарли не знал.
К сожалению, в Лондоне все сразу пошло прахом. С Чарли сыграла злую шутку его привычка к притворству. Стоило ему увидеть Эмму, как сердце его подпрыгнуло и заколотилось где-то в горле. Почувствовав свою уязвимость, он повел себя вызывающе, обидел Эмму, заявив, что она растолстела, а затем весь остаток вечера ходил за ней словно привязанный.
Мишель Гастон, который в воскресенье должен был в качестве пассажира лететь в Нью-Йорк, а потом тем же рейсом, что и Эмма, но уже вторым пилотом — на Мартас-Вайнъярд, легко согласился поменяться с Чарли. Он был только рад возможности еще пару дней провести в Лондоне. Вечер пятницы сотрудники «Галл-Уинг» кутили до утра, переходя из одного ночного клуба в другой — водка, ром, экстази, немного кокаина. Следующую плановую проверку на наркотики большинству участников вечеринки предстояло проходить через две недели, но у Мишеля был знакомый, который не употреблял запрещенные вещества и мог сдать анализ мочи вместо них. Поэтому все отбросили к черту осторожность. Чарли изо всех сил пытался собраться с духом. Всякий раз, когда он смотрел на Эмму, сердце, казалось, разрывается пополам. Она была так прекрасна, а он упустил ее. С какой стати понадобилось указывать ей на то, что она набрала несколько фунтов? Как он мог совершить такую глупость? Когда Эмма вышла из ванной, завернувшись в полотенце, ему захотелось обнять, покрыть поцелуями ее лицо. А он вместо этого бросил обидные слова.
Чарли вспомнил выражение лица Эммы, когда, незадолго до их разрыва, он в постели схватил ее за горло и принялся душить. Сексуальный эксперимент не удался — в глазах девушки он прочел сначала шок, потом ужас. Почему он решил, что ей может это понравиться? Эмма ведь не из тех, кого привлекают подобные вещи. Да, ему иногда попадались татуированные мазохисты в женском обличье, которым нравилось, когда их наказывали, оставляя на теле синяки и царапины. Но Эмма совсем другая. Это было легко понять по ее взгляду и поведению. Она не имела тяжелого груза трудного детства. И именно это делало ее просто находкой для Чарли. Она была Мадонной, а не шлюхой. Женщиной, на которой он бы женился и которая могла его спасти. Так зачем же он это сделал? Зачем принялся душить ее? Возможно, для того, чтобы таким странным образом опустить Эмму до своего уровня. Дать ей понять, что мир, в котором она живет, — это вовсе не парк развлечений. Что в нем есть множество опасностей.
После того как Эмма бросила его и перестала отвечать на его звонки, Чарли многое пережил. Иногда он целыми днями лежал в кровати с утра до вечера. С работы он не ушел и продолжал летать вторым пилотом, внешне ничем не проявляя всего того, что происходило в душе. Привычка к притворству, развившаяся со временем в умение скрывать свои слабости, помогла ему в этом. К тому же полеты стали для Чарли особенно притягательными. При мысли о том, что он при желании мог бы направить самолет носом вниз и заставить его рухнуть на землю, Чарли чувствовал странное возбуждение, от которого его сердце начинало биться быстрее. Иногда желание сделать это становилось настолько сильным, что он был вынужден уединяться в туалетной комнате, чтобы успокоиться.
Эмма — она, словно волшебный единорог, стала мистическим ключом к его счастью.
Сидя в лондонском баре, он внимательно изучал ее лицо, пытаясь заглянуть в глаза. Чарли чувствовал, что Эмма специально не смотрит на него. Всякий раз, когда он начинал говорить громко, обмениваясь шутками с Гастоном, она словно каменела. По-видимому, ненавидела его. Но разве не говорят: от ненависти до любви всего один шаг?
Чарли полагал, что для превращения одного в другое ему просто нужно было найти правильные слова. Вот сейчас, думал он, выпьет еще порцию, а потом подойдет к Эмме, возьмет ее за руку и пригласит выйти на улицу, чтобы выкурить по сигарете и поговорить. Он уже продумал каждое свое слово, каждое движение. Сначала их беседа будет всего лишь его монологом. Он поведает Эмме историю своей жизни. В первые минуты она будет слушать его молча, недоверчиво скрестив руки на груди. Но он продолжит говорить, расскажет о гибели отца, о том, что мать воспитывала его одна. Как дядюшка взял его под опеку и проложил для него дорогу в жизни, а сам он, Чарли, никогда этого не желал и к этому не стремился. Он всегда хотел, чтобы люди судили о нем, исходя из его реальных достоинств и недостатков. Но в какой-то момент ему вдруг стало страшно, что он недостаточно хорош. И потому он пошел на поводу у обстоятельств, поплыл по течению. Но все это позади. Теперь он, Чарли Буш, единственный хозяин своей жизни и хочет, чтобы Эмма Лайтнер стала его женщиной. К тому времени, когда он дойдет до этой части своего признания, Эмма опустит руки и придвинется ближе. А потом они наконец обнимутся и поцелуются.
Чарли залпом выпил еще один коктейль и следом за Мишелем отправился в туалет. Когда же он вышел оттуда, вытирая лицо ладонью, Эмма исчезла. Встревожившись, Чарли приблизился к группе девушек-стюардесс.
— Э-э… а что, Эмма ушла? — поинтересовался он.
Девушки рассмеялись. Их сияющие, прекрасные глаза выражали неприкрытое презрение.
— Послушай, дорогуша, — вкрадчиво произнесла Челси, — ты в самом деле думаешь, что вы с ней из одной лиги?
— В конце концов, черт побери, ответь — она ушла?
— Вроде того. Она сказала, что устала, и отправилась на квартиру.
Чарли положил деньги на барную стойку и выбежал на улицу. От выпитого алкоголя и наркотиков у него сильно кружилась голова. По этой причине он сначала двинулся не в ту сторону и прошел добрых десять кварталов, прежде чем осознал свою ошибку. К тому времени, когда он наконец добрался до арендуемого авиакомпанией дома, Эммы уже там не было. Она ушла, забрав свои вещи.
Эмма исчезла.
Как раз на следующий день, в субботу, стонущий от похмелья Мишель сказал, что в воскресенье должен лететь в Нью-Йорк, а затем на Мартас-Вайнъярд, а стюардессой на короткий рейс до острова и обратно назначена Эмма. Чарли тут же с готовностью предложил его подменить. Он соврал Мишелю, что согласует все с руководством авиакомпании. Однако на самом деле администрация узнала о замене только тогда, когда Чарли Буш появился в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси и сделать уже ничего было нельзя.
Устроившись на откидном сиденье в кабине «Боинга-737», пересекающего Атлантику, Чарли чашку за чашкой пил кофе, стараясь прийти в себя. В Лондоне он, судя по всему, шокировал Эмму, и ему хотелось как можно скорее привести себя в порядок. Теперь он понимал, что, находясь под действием алкоголя и наркотиков, вряд ли мог вызвать у Эммы позитивные чувства. Ему хотелось извиниться перед ней, но она сменила номер телефона, а на его электронные письма просто перестала отвечать. Что, спрашивается, ему оставалось делать? Вариант был только один: встретиться с ней и объясниться.
Тетерборо, аэропорт для частных самолетов, располагался в двенадцати милях от Манхэттена. У «Галл-Уинг» там имелся свой ангар. На нем был изображен логотип компании — две ладони со скрещенными большими пальцами. Остальные пальцы были сложены наподобие крыльев. По случаю воскресенья офис в ангаре был закрыт. Доступ туда из сотрудников компании имели только работники администрации и члены сменных экипажей. Чарли взял в аэропорту Джона Кеннеди такси и поехал на север, через мост Джорджа Вашингтона. На счетчик он старался не смотреть. У него была платиновая карточка «Американ экспресс», и он заранее убедил себя в том, что неважно, во сколько обойдется ему поездка — ведь речь шла о любви. Питер сообщил Чарли маршрут полета. Вылет из Нью-Джерси был назначен на 18:50. Лететь предстояло порожняком на «Лире 45-Экс-Эр». Приземлившись на Мартас-Вайнъярд, самолет должен принять на борт пассажиров и отправиться обратно. Полет короткий, и дозаправка не потребуется. Чарли рассчитал, что у него будет пять часов, и он сможет, выбрав удобный момент, объясниться с Эммой наедине и все ей сказать. «Я был идиотом. Пожалуйста, прости меня. Я тебя люблю».
Эмма обязательно поймет его и простит. Разве могло быть иначе? Ведь все, что происходило между ними до расставания, было чем-то необыкновенным. Когда они впервые занимались любовью, Эмма плакала от счастья. Увы, он, Чарли, все испортил… Но было еще не поздно все исправить! Чарли пересмотрел все романтические комедии, которые вызывали восторг у девушек, и знал, что упорство — ключ к успеху. Эмма просто испытывала его, вот и все. Она любит его, но он должен доказать, что достоин ее. Чарли не какой-нибудь легкомысленный юнец, пасующий перед препятствиями, а серьезный, надежный мужчина, испытывающий к Эмме настоящее чувство. Он должен убедить ее, что в жизни все может случаться так, как в романах. Эмма хотела быть принцессой, которую завоюет рыцарь на белом коне. И он, Чарли, собирался исполнить это ее желание. Она была его женщиной, он — ее мужчиной. Поэтому Чарли решил ни за что не сдаваться. Когда Эмма наконец поймет, что они созданы друг для друга, то бросится к нему в объятия и все станет как прежде.
У въезда на территорию аэропорта Тетерборо Чарли показал охраннику свою пилотскую лицензию. Тот сделал рукой приглашающий жест. Чарли почувствовал, как от нервного напряжения у него забурчало в животе. Он потер ладонью лицо и пожалел, что не успел побриться, — из-за этого окружающие могли обратить внимание на его усталый вид.
— Вон туда, к белому ангару, — сказал он таксисту.
Расплатившись картой, Чарли выбрался из машины, прихватив свою серебристого цвета сумку на колесиках. «Лир» стоял на летном поле рядом с ангаром. Его изящный корпус поблескивал в лучах прожекторов, укрепленных на крыше строения, они горели, хотя было еще светло. Вокруг самолета суетились трое техников. Неподалеку от носовой части лайнера стоял грузовик, доставивший на борт продукты.
Чарли поискал взглядом Эмму, но ее нигде не было видно. В пилотскую униформу Буш переоделся еще в аэропорту Кеннеди. Она придавала ему уверенности. Ему казалось, что в форме он выглядит ничуть не хуже, чем Ричард Гир в фильме «Офицер и джентльмен». Стуча каблуками по бетону летного поля, он, буксируя за собой сумку, вошел в ангар с невозмутимым видом. Однако нервы его были напряжены до предела. Чарли сильно вспотел, его сердце колотилось где-то в горле — на какой-то момент ему даже показалось, что он снова очутился в школе.
«Господи, что эта девушка с тобой делает, Чарли Буш, — подумал он. — Соберись, возьми себя в руки».
В ту же секунду он ощутил приступ гнева, но усилием воли сумел его подавить.
Первым ему на глаза попался Мелоди, командир экипажа. Он был значительно старше Буша. Некоторые считали его занудой, но сомневаться в его компетентности не было никаких оснований.
— Добрый день, командир, — поприветствовал его Чарли.
При виде Буша Джеймс Мелоди недовольно нахмурился:
— А где Гастон?
— Я за него, — ответил Чарли. — Кажется, у него проблемы с животом — я точно не знаю. Мне позвонили и попросили его подменить.
Мелоди пожал плечами — комплектованием экипажей занималась администрация.
— Вы опоздали, — не удержался он от замечания. — Я собирался осмотреть самолет. Поставьте куда-нибудь вашу сумку и пойдемте со мной.
В это время в одной из комнат офиса авиакомпании, располагавшегося в ангаре, Чарли заметил Эмму. Сердце его забилось еще быстрее.
— Дайте мне одну минуту, — сказал он.
Отпустив ручку сумки, он обошел Мелоди и, прежде чем командир успел возразить, бросился к лестнице.
Офис компании находился на высоком подиуме. В нем находились только сотрудники. Клиенты в ангаре не появлялись никогда — их доставляли прямо к трапу самолета на лимузине. В «Галл-Уинг» действовало правило, согласно которому пассажиры не должны были ничего знать о «внутренней кухне» авиакомпании.
Чтобы попасть в офис, следовало подняться по металлическим ступенькам с внешней стороны ангара. Ухватившись за перила, Чарли почувствовал, что во рту у него совсем пересохло. Он сдвинул фуражку чуть набок и хотел было надеть темные очки, но передумал. Очки могли помешать сразу же установить с Эммой зрительный контакт. Руки у Чарли дрожали, поэтому он сунул их в карманы. Ему пришлось внимательно смотреть себе под ноги, чтобы не оступиться. В течение последних шестнадцати часов он снова и снова прокручивал тот момент, когда увидит Эмму, тепло улыбнется ей и продемонстрирует, что может быть спокойным, добрым и нежным. Но успокоиться ему не удалось. За последние двое суток он спал не больше четырех часов, используя в качестве поддерживающих средств кокаин и водку.
Вот сейчас, поднявшись по лестнице, он откроет дверь. Эмма обернется и увидит его. Чарли остановится на пороге и покажет всем своим видом, что понял, о чем она хотела ему сказать, и пришел навсегда.
Но все пошло совсем не так, как рассчитывал Буш. Когда он распахнул дверь, Эмма уже смотрела в его сторону. При виде Чарли лицо ее побледнело. От страха глаза девушки стали огромными. Еще хуже было то, что и Чарли в этот момент словно оцепенел. Его правая нога на какой-то момент зависла в воздухе, и он даже слегка пошатнулся. По всему его телу пробежала странная дрожь. Эмма повернулась и метнулась в глубь помещения.
«Черт, — подумал Чарли. — Черт, черт, черт».
Он шагнул через порог. В офисе, кроме Эммы, находилась еще одна женщина — дежурный администратор по фамилии Стэнхоуп. Это была пожилая особа с такими тонкими губами, что ее рот напоминал слегка перекошенную щель почтового ящика.
— Я на рейс шестьсот тринадцать, — сказал Чарли. — Зарегистрируйте меня.
— Вы не Гастон, — заметила администратор, заглянув в журнал полетов.
— Чертовски меткое наблюдение, — сыронизировал Чарли, обшаривая взглядом другие помещения за стеклянной стеной в поисках Эммы.
— Простите?
— Нет-нет, ничего. Извините. Я хотел сказать, что Гастон заболел. Он мне звонил.
— Вообще-то он должен был позвонить мне. Это плохо, когда члены экипажей начинают меняться. Такая практика разрушает всю…
— Совершенно с вами согласен. Я просто хочу оказать парню небольшую… Кстати, вы не знаете, где Эмма?
«Она убежала, — подумал Чарли. — Просто смылась, и все… Похоже, все летит к чертям».
В офис вошел Джеймс Мелоди.
— Дженни, — сказал он, — извините, но нам пора взлетать. Можно решить бумажные вопросы, когда мы вернемся?
— Хорошо, — кивнула администратор. — Мы все оформим после полета. Только не забудьте зарегистрироваться у меня, молодой человек. Ведь существующая процедура была разработана не просто так.
— Да, конечно, само собой, — согласился Чарли. — Я не знаю, почему Гастон не позвонил вам.
Он вместе с Мелоди вышел из офиса и направился к самолету, продолжая озираться по сторонам в надежде увидеть Эмму. Поднявшись по трапу, он с удивлением обнаружил ее в салоне самолета — она колола лед на кухне.
— Эй, — сказал Чарли, — куда ты пропала? Я тебя искал.
Эмма отвернулась, сделав вид, что не услышала его слов.
Командир экипажа открыл дверь в кабину.
— Ладно, — проговорил Мелоди. — Давайте еще раз проверим работу основных систем.
Чарли неохотно подчинился. Во время проверки думал о том, что все получилось совсем не так, как он хотел. Эмма, судя по всему, решила поломаться, дать ему понять, что завоевать ее вторично будет непросто. Это означало — следующие шесть часов пройдут строго по инструкции. Два штатных взлета и две предусмотренные посадки. В таком случае, подумал Чарли, теперь он исчезнет из жизни Эммы. Наступила его очередь. Он сменит номер телефона, и тогда Эмма одумается и поймет, что потеряла. Она сама будет искать встречи с ним и умолять простить ее.
Когда они с Мелоди проверяли работу двигателей, Чарли услышал, как дверь кабины открылась. В кабину вошла Эмма.
— Держите его подальше от меня, — произнесла она, обращаясь к командиру экипажа и указывая пальцем на Буша.
Мелоди бросил на второго пилота неприязненный взгляд.
— Похоже, у нее критические дни, — сказал Чарли.
Покончив с предполетными процедурами, экипаж задраил дверь. В 18:59 самолет вырулил на взлетную полосу и, совершив разбег, благополучно оторвался от земли, двигаясь в противоположную от заходящего солнца сторону. Еще через несколько минут командир экипажа Джеймс Мелоди заложил правый вираж, после чего самолет лег на курс.
В течение всего полета от Тетерборо до Мартас-Вайнъярд Чарли молча сидел в своем пилотском кресле и смотрел на океан. После пережитого стресса он чувствовал страшный упадок сил и, кроме того, жестоко страдал от недосыпа. Те несколько минут, в течение которых ему удалось подремать во время перелета из Лондона в Нью-Йорк, разумеется, в счет не шли. Возможно, предшествующая бессонница представляла собой остаточный эффект от кокаина и водки в сочетании с энергетиком. Однако теперь, когда его план сорвался, Буш чувствовал себя измученным и разбитым.
За пятнадцать минут до посадки на Мартас-Вайнъярд командир встал и положил руку на плечо Чарли. Тот вздрогнул от неожиданности.
— Оставляю птичку на вас, — сказал Мелоди. — Пойду выпью кофе.
Чарли кивнул и выпрямился в кресле. Внизу по-прежнему расстилалась синяя океанская гладь. Самолет управлялся автопилотом. Выходя из кабины, Мелоди закрыл за собой дверь, которая до этого была приоткрыта. Чарли потребовалось несколько секунд, чтобы понять, зачем командир экипажа это сделал. В самом деле, почему он закрыл дверь? Ведь она была открыта даже во время взлета.
Ответ мог был только один.
Чарли почувствовал, как кровь горячей волной прилила к лицу. Ну конечно. Мелоди хотел поговорить с Эммой.
О нем. О Чарли Буше. Причем так, чтобы он, Чарли, этого не слышал.
От мощного выброса адреналина у Чарли даже зарябило в глазах. Чтобы сосредоточиться, он несколько раз ударил себя ладонью по щеке.
Что же ему делать?
В первое мгновение хотелось броситься следом за Мелоди в салон и потребовать, чтобы он не совал нос не в свое дело. Но такое поведение было бы нерациональным — скорее всего, за это Чарли могли уволить.
Нет, правильнее поступить по-другому, решил он. Он ничего не станет делать. В конце концов, он профессионал. Это Эмма смешивает работу и личную жизнь. А Чарли продолжит вести самолет — ладно, пусть не он, а автопилот — и будет действовать как взрослый, уравновешенный человек.
И все же его очень беспокоит закрытая дверь кабины. Он понятия не имеет, что за ней происходит. Что наговорит Мелоди Эмма? Плохо осознавая, что делает, Чарли встал, снова сел и опять встал. В тот самый момент, когда он протянул руку к ручке двери, она распахнулась, и на пороге возник командир экипажа с чашкой кофе в руке.
— Все в порядке? — поинтересовался он, закрывая дверь.
Чарли изобразил некое подобие наклона в сторону, делая вид, что пытается немного размяться.
— В полном, — ответил он. — Просто что-то бок у меня свело судорогой.
Когда они совершили посадку на Мартас-Вайнъярд, солнце уже клонилось к горизонту. Как только Мелоди закончил рулежку и выключил двигатели, Чарли встал.
— Куда это вы собрались? — спросил командир.
— Покурить.
— Сходите позже, — сказал Мелоди и тоже поднялся на ноги. — Я хочу, чтобы вы провели полную диагностику системы управления. Во время посадки мне показалось, что ручка туговата.
— Всего одну сигарету. Ведь до взлета еще целый час или около того.
Командир экипажа приоткрыл дверь кабины. Чарли увидел Эмму, которая что-то делала на кухне. Она обернулась и, наткнувшись на взгляд Буша, сразу же отвела глаза. Мелоди шагнул к выходу из кабины и заслонил своим телом дверной проем.
— Сначала проведите диагностику, — повторил он и, переступив порог, закрыл за собой дверь.
Выругавшись про себя, Чарли уставился на монитор компьютера. Сделал два глубоких вдоха и мощных выдоха, он встал, снова сел. Потер друг о друга ладони, затем прижал их к глазам. Перед посадкой он контролировал управление самолетом в течение пятнадцати минут и не заметил каких-либо проблем. Но, в конце концов, он, Чарли Буш — профессионал и потому решил выполнить распоряжение командира. Выглядеть соответствующим образом — всегда было его жизненной стратегией. Это лучший способ избежать разоблачения. Когда человек играет чью-то роль, он должен исполнять ее хорошо. Всегда сдавать контрольные работы вовремя. Быть первым, делая рывки, стремительно бежать по бейсбольному полю. Добиваться, чтобы летная форма всегда была чистой и отглаженной, волосы — аккуратно подстриженными, лицо — гладко выбритым. Держать спину прямой, а плечи развернутыми.
Чтобы успокоиться, Чарли надел наушники и включил запись Джека Джонсона. Мелоди хочет, чтобы он провел диагностику? Что ж, отлично. Тогда Чарли сделает не только это, а проверит все до мелочей. Он приступил к процедуре, слушая треньканье гитарных струн. Солнце окончательно скрылось за кронами деревьев, и вокруг разом сгустились сумерки.
Когда через тридцать минут командир экипажа вернулся в кабину, Чарли спал. Недовольно покачав головой, Мелоди опустился в свое кресло. Буш мгновенно проснулся с колотящимся сердцем и заозирался, словно не понимая, где он и что с ним.
— А? Что?
— Вы провели диагностику? — поинтересовался Мелоди.
— А, да-да, — ответил Чарли, суетливо щелкая тумблерами. — Вроде бы все в порядке.
Командир несколько секунд молча смотрел на него, после чего кивнул:
— Ладно. Прибыли первые клиенты. Я хочу, чтобы мы были полностью готовы к взлету.
— Конечно, — кивнул Чарли. — Простите, можно я… Мне нужно отлить.
Мелоди снова кивнул:
— Только сразу же возвращайтесь.
— Есть, сэр, — сказал Буш, умудрившись сделать это так, что в его голосе прозвучала едва заметная нотка сарказма.
Он вышел из кабины. Туалет для экипажа располагался рядом. Чарли увидел Эмму, стоящую у входа в салон, — она явно приготовилась встречать пассажиров. На летном поле в свете фар «лэндровера», припаркованного рядом с самолетом, стояла группа из пяти человек — похоже, целая семья. Буш впился взглядом в затылок Эммы. Ее волосы были собраны в пучок, лишь одна непокорная рыжая прядь у виска, выбившись из прически, свисала вниз. Чарли почувствовал сильнейшее желание встать перед Эммой на колени и, обхватив руками, прижаться лицом к ее бедрам. В эту минуту он стремился быть не любовником — ему хотелось ощутить, как руки Эммы с материнской лаской гладят его волосы. Его так давно никто не гладил по голове. И он устал. Страшно, запредельно устал.
В туалете Чарли, взглянув в зеркало, остался недоволен увиденным. Глаза его были налиты кровью, щеки и нижнюю челюсть покрывала густая темная щетина. Он выглядел как неудачник. Неужели он мог пасть так низко, позволить этой девчонке сломать его? Когда они с Эммой встречались на людях, он порой стеснялся ее. Она часто брала его за руку, клала голову ему на плечо, словно давая понять окружающим, что Чарли принадлежит ей. Это казалось ему притворством. Он сам всю жизнь играл чужую роль и потому был уверен, что ему не составит труда распознать неискренность в другом человеке. В какой-то момент Чарли стал холоден с Эммой, оттолкнул ее, чтобы проверить, вернется ли она. Эмма вернулась. Это привело его в ярость. «Я знаю, что все это фальшивка, — думал он. — Я вижу тебя насквозь, так что хватит врать». Эмме же его отношение, казалось, причиняло настоящую боль. Однажды ночью, когда они занимались любовью, она погладила Чарли по щеке и сказала, что любит его. В этот момент у Буша словно помутилось в голове. Он схватил Эмму за горло. Сначала Чарли просто хотел заставить ее замолчать. Но потом, увидев страх в глазах девушки, когда ее лицо начало наливаться кровью, стал сжимать пальцы все сильнее. Оргазм, который он тогда испытал, пронзил, словно удар молнии, все его тело.
И вот теперь, глядя на себя в зеркало, Чарли пришел к выводу, что был прав. Эмма, без всякого сомнения, притворялась. Она играла с ним, а потом, потеряв интерес, безжалостно бросила.
Буш умыл лицо и промокнул его полотенцем. Корпус самолета слегка покачивался, принимая на себя пассажиров, поднимавшихся на борт. Было слышно, как они переговариваются и смеются. Чарли пригладил ладонью волосы и поправил галстук.
«Да, я профессионал». Подумав так, он открыл дверь туалета и снова нырнул в кабину.
«Сука».
Полет
Гэс слышит, как зафиксированный самописцем механический голос произносит: «Автопилот отключен».
«Вот оно, — думает Франклин. — Это и есть начало конца».
Он слышит, как воют двигатели, прибавляя обороты. Это тот самый момент, когда второй пилот закладывает резкий вираж.
«Ну как, нравится? Ты этого хотела?»
Это бормочет сквозь зубы Чарли Буш.
Меньше чем через две минуты самолет рухнет в океан.
Слышно, как кто-то колотит в дверь кабины.
«Господи, впусти меня. Впусти! Что происходит? Впусти меня сейчас же!»
Это голос Мелоди.
Но второй пилот молчит. Какие бы мысли ни бродили в голове Чарли Буша в эти последние мгновения его жизни, он держит их при себе.
Гэс усиливает громкость полученной записи, стараясь уловить каждый звук на фоне разнообразных механических шумов и гула двигателей. Внезапно слышатся выстрелы.
Гэс нажимает на акселератор и резко перестраивается влево. Другие водители возмущенно сигналят. Выругавшись, Гэс возвращается на прежнюю полосу, не успев сосчитать количество выпущенных пуль. Выстрелов было по меньшей мере шесть. И после каждого из них раздается шепот, словно кто-то бормочет мантры себе под нос.
«Черт, черт, черт, черт».
«Бам, бам, бам, бам».
Вой двигателей становится громче. Чарли Буш, судя по всему, бросает самолет в штопор. Теперь машина падает почти вертикально, вращаясь и кувыркаясь, словно осенний лист.
Хотя Гэс знает, чем все закончится, он ловит себя на том, что мысленно молится, чтобы командир экипажа и охранник-израильтянин смогли открыть дверь в кабину и оторвать Чарли Буша от ручки управления. Чтобы произошло чудо и Джеймс Мелоди успел занять свое место и выровнять самолет. После выстрелов раздаются два мощных удара. Кто-то пытается взломать дверь. Позже техники, выяснив природу этих звуков, определят, что один удар был нанесен плечом, а другой — ногой.
«Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — думает Гэс, хотя знает, что пассажиры и экипаж самолета обречены.
За какие-то доли секунды до того, как «Лир» соприкасается с поверхностью воды, на записи слышен произнесенный кем-то, скорее всего, Чарли Бушем, короткий звук: «Ох».
Затем следует удар о воду. Он так страшен, что Гэс втягивает голову в плечи и на мгновение прикрывает глаза. Падение самолета сопровождается чудовищной какофонией звуков, среди которых преобладает визг и скрежет раздираемого металла. По всей видимости, Буш погиб мгновенно. Остальные прожили еще одну-две секунды. К счастью, как показало вскрытие, никто из находившихся на борту не пережил ужаса, который выпадает на долю тех, кто в подобных случаях захлебывается в воде, пока самолет идет ко дну.
И все же в этом кошмаре каким-то образом выжили двое — мужчина и мальчик. Сейчас, когда Гэс прослушал данные самописца, это кажется ему настоящим чудом.
— Босс? — слышится из телефонного микрофона голос Мэйберри.
— Да. Я…
— Это сделал он. Второй пилот. Из-за девушки, стюардессы.
Гэс потрясенно молчит. Ему кажется дикой мысль о том, что взрослый человек решился не только покончить с собой, но и пойти на убийство других людей, в том числе ребенка.
— Нужно, чтобы специалисты провели полный технический анализ катастрофы, — говорит Франклин. — Необходимо выяснить природу каждого записанного звука.
— Да, сэр.
— Я буду через двадцать минут.
Гэс нажимает на телефонном аппарате кнопку сброса. Он думает о том, как долго еще сможет выполнять свою работу и сколько подобных трагедий будет в состоянии расследовать, не утратив при этом веру в добро и справедливость. Инженеру Гэсу Франклину кажется — в мире что-то очень важное пошло не так.
Он приближается к нужному ему съезду с трассы и перестраивается вправо. Жизнь — это бесконечная вереница решений и ответных реакций. Непрерывная цепочка действий одного человека и окружающих его людей.
И в какой-то момент все разом заканчивается.
Один из голосов на записи, которую слушает Скотт, принадлежит ему самому. Разговор, похоже, происходит по телефону.
— Что, по-вашему, между нами происходит? — спрашивает Скотт.
— Давай съездим в Грецию, — отвечает женский голос. — У меня там есть дом на скалах у самого моря, но никто не знает, что он принадлежит мне — его оформили на шесть, если не ошибаюсь, подставных компаний. В общем, полная конфиденциальность. Мы могли бы нежиться на солнце, есть устриц и танцевать после наступления сумерек. А там будет видно. Я знаю, что не должна на тебя давить. Но мне никогда раньше не приходилось встречать человека, чьим вниманием было бы так трудно завладеть. Даже когда я с тобой рядом, мне кажется, что ты находишься где-то очень далеко.
— Где вы это… — изумленно начинает Скотт и умолкает.
Билл смотрит на него и с невинным видом поднимает брови — он явно торжествует.
— Вы по-прежнему станете утверждать, что между вами ничего не было?
— Каким образом вы… — снова оживает Скотт, но Билл предостерегающе поднимает палец, требуя молчания.
— Как там ребенок? Извините, что не поинтересовался раньше.
Это голос Гэса Франклина. Скотт догадывается, что вторым участником диалога тоже будет он сам.
— Ну, он практически не говорит. Но, похоже, рад тому, что я здесь. Так что, возможно, мое присутствие окажет какой-то терапевтический эффект. Что касается Элеоноры, то она сильная женщина.
— А что ее муж? Что-то я его не видел.
— Сегодня утром он собрал вещи и уехал.
Пауза.
— Надеюсь, мне не надо объяснять вам, как это будет выглядеть.
— С каких это пор «как это будет выглядит» важнее того, чем «это» является на самом деле?
— Думаю, с недавних. А в особенности после того, как вы выбрали не самое лучшее место для укрытия, и это стало предметом обсуждения в СМИ. Богатая наследница и все такое — телевидение и газеты не могли не раздуть эту историю до небес. Я посоветовал вам найти место, где вы сможете пересидеть поднявшийся шум. А не стать героем репортажей желтой прессы.
— Ничего не было. То есть я хочу сказать, что она разделась и забралась ко мне в кровать, но я не…
— Мы говорим не о том, что было и чего не было, а о том, как все это выглядит со стороны.
Запись заканчивается. Билл, сидя в кресле, наклоняется вперед.
— Вот видите, — говорит он. — Сплошная ложь. С самого начала вы не сказали ни слова правды.
Скотт какое-то время молча размышляет, складывая воедино фрагменты головоломки.
— Значит, вы записывали наши разговоры, — произносит он наконец. — Установили прослушивающее устройство в телефон Элеоноры. Вот откуда вы знаете, о чем мы говорили, когда я звонил ей из дома Лейлы. И где я нахожусь, вы тоже выяснили благодаря прослушке. Отследили мой звонок. А телефон Гэса вы тоже прослушивали? И фэбээровцев? Вот откуда все утечки? Про докладную записку О’Брайена вы тоже узнали таким образом?
Скотт видит, как продюсер Билла отчаянно машет руками. Вид у нее крайне испуганный. Скотт тоже наклоняется вперед, как Билл.
— Итак, вы установили прослушку на их телефоны. Произошла авиакатастрофа, погибли люди, и вы стали прослушивать телефонные разговоры родственников погибших и тех, кто непосредственно занимался расследованием.
— Люди имеют право знать правду, — заявляет Билл. — Дэвид Уайтхед был великим человеком. Одним из сильных мира сего. Настоящим гигантом. Общество должно знать истину.
— Может, и так. Но вы осознаете, что ваши действия незаконны? Хотя бы понимаете, что сделали? Не говоря уж о том, что поступили аморально. И вот теперь вы сидите здесь перед камерами и спрашиваете, была ли между мной и некой женщиной физическая близость. При этом не имеете ни малейшего представления о том, как и почему на самом деле произошла авиакатастрофа. Вы не знаете о том, что второй пилот, дождавшись, пока командир экипажа выйдет из кабины, запер ее дверь изнутри, отключил автопилот и направил самолет вниз, в океан. Кто-то, скорее всего, телохранитель Уайтхеда, произвел шесть выстрелов в дверь в надежде открыть ее и вывести самолет из смертельного пике. Но сделать это не удалось, дверь так и осталась запертой, и люди погибли.
Скотт долго молча пристально смотрит на Билла Каннингема, который, едва ли не впервые в жизни, не в состоянии произнести ни слова.
— Погибли люди. У них есть родственники. Тех, кто был на борту самолета, убили, а вы сидите и расспрашиваете меня про мою сексуальную жизнь. Позор вам. Стыд и позор.
Билл встает с кресла и нависает над ним. Скотт тоже поднимается, глядя телеведущему прямо в глаза и не сдвинувшись назад ни на дюйм.
— Позор вам, — повторяет он, на этот раз тихо, обращаясь только к Биллу.
Несколько секунд проходят в напряженном молчании. Атмосфера в студии наэлектризована до предела. Руки Каннингема сжаты в кулаки, и кажется, что он вот-вот ударит Скотта. Еще секунда — и на нем повисают двое операторов и Криста.
— Билл! — кричит она. — Билл, успокойся!
— Отпустите меня! — рычит Каннингем, изо всех сил пытаясь освободиться, но его держат крепко.
— Ладно, — говорит Скотт, обращаясь к Кристе. — Я закончил.
Он направляется к двери, выходит в коридор и шагает к лифту. Словно во сне, нажимает на кнопку вызова. Через несколько секунд двери лифта расходятся в стороны. В эту минуту Скотт вспоминает плавающее на поверхности воды крыло самолета, охваченное языками пламени, и голос мальчика, зовущий на помощь в темноте. Он думает о своей сестре и о том, как ждал ее, сидя на велосипеде в сгущающейся темноте. Вспоминает те времена, когда пил запоем, и ощущения, которые испытывал, услышав выстрел стартового пистолета и бросаясь в хлорированную воду бассейна.
Где-то его ждет мальчик, играя с пластиковыми грузовиками во дворе дома. Неподалеку от него под успокаивающий шепот колеблемых ветром листьев тихо течет река.
Скотт вернет свои картины и снова договорится о встречах с владельцами галерей. Он найдет подходящий бассейн и научит мальчика плавать. Надо продолжать жить, а что будет дальше — время покажет. Если случится какая-нибудь беда — значит, так тому и быть. С ним происходило всякое, однако он сумел выжить. Скотт из тех, с кем судьбе не так просто сладить. А значит, и действовать должен соответственно.
Двери лифта снова открываются, и Скотт выходит в вестибюль здания, а затем на улицу.


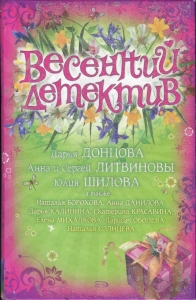






Комментарии к книге «Перед падением», Ной Хоули
Всего 0 комментариев