Гувернантка Серия «Невыдуманные истории на ночь» Алексей и Ольга Ракитины
1
Удивительно теплым апрельским вечером 1878 года к табачной лавке, что на 2-й линии Васильевского острова, зазывно манящей ярко раскрашенной витриной и начищенным колокольчиком у входа, бойко подкатила открытая пролетка. Мужчина импозантного вида с роскошной костяной наборной тростью и утомленным лицом не спеша вошел в лавку, а извозчик на козлах, ссутулив широкую спину, предался ожиданию, погрузившись в состояние дремы с открытыми глазами.
Из подворотни показалась сутулая фигура мужчины в изрядно ношенном сюртуке с поднятым воротником. Этот человек даже не шел, а словно невесомо скользил по булыжной мостовой, бесшумно переставляя свои кривоватые ноги. Приблизившись к экипажу сзади, он точно невзначай заглянул вовнутрь и легкая, почти незаметная ухмылка, отразилась на его лице. Ловким манером он выудил из ряда стоявших в ногах баулов и бюваров саквояж рыжей свиной кожи, добротный и вместительный. Среди прочей поклажи это была не единственная заманчивая находка, но мужчина, проявив разумную сдержанность, ограничился только этим. Так же бесшумно он скользнул в ближайшую подворотню, оставив кучера нежиться в сладкой дрёме.
Вот уже битых 3 часа пристав с дюжиной младших чинов и тремя агентами сыскной полиции проводил обыск на воровской малине Ваньки-Петуха в Дровяном переулке. Всех посетителей трактира на первом этаже и обитателей громадной квартиры-клоповника этажом выше — а таковых оказалось более дюжины — собрали в самой большой комнате, звучно названной хозяином квартиры «зеркальным зало». Своим названием сие грязное помещение было обязано старинным зеркалам, развешанным в простенках между окнами; сами окна были закрыты плотными занавесями, отчего в комнате царил полумрак. Приставленный к задержанным урядник важно прохаживался меж зеркал с облезлым серебром и взыскательно следил, чтобы публика не перешептывалась. Да, если честно, многие ничего такого делать и не пытались, поскольку были пьяны в стельку.
Ночью у Ваньки Петуха шла большая карточная игра и ее азартные участники ныне испытывали вполне понятные последствия перебора пунша и коньяка. Как было всем известно, коньяк, подаваемый Ванькой-Петухом, был бодяжен умельцами на Лиговке, так что на некрепкие или невоздержанные души сей напиток воздействовал в прямом смысле сногсшибательно. Тяжелый смрад висел в квартире, это была смесь самых разнородных запахов — алкогольного перегара, печки, немытых потных тел и гуталина с начищенных сапог урядника.
Обыск близился к концу, когда под ворохом ношенной по виду одежды один из полицейских наткнулся на вполне приличный кожаный саквояж. «Не иначе ворованный,» — мелькнула мысль в голове полицейского. Собственно, ворованным тут было почти все, но саквояж желтой кожи с двумя латунными застёжками выделялся среди прочего барахла своей добротностью и явно немалой ценой. Открыв находку, полицейский обнаружил внутри какой-то странный сосуд зеленого стекла, похожий на вместительную кастрюлю с плотно притертой крышкой. Сквозь крышку и ручки была пропущена суровая нить, с остатками сургуча. Очень странная находка.
Саквояж был отнесен приставу, который в свою очередь показал его агенту, допрашивавшему в тот момент Ваньку-Петуха.
— Что внутри? — спросил агент, и не дожидаясь ответа, извлек из саквояжа стеклянный сосуд. На свету сквозь зеленое стекло стало видно, что внутри находится жидкость, в которой плавает нечто бесформенное.
— Саквояж не мой, вижу в первый раз, — поспешно проговорил Ванька Петух, — всех святых призываю в свидетели и крест клятвенно целовать в том готов.
— Ну разумеется, — рассеянно пробормотал сыскарь. Он уже не слушал Ваньку. Секундой позже он поднял крышку и по комнате распространился специфический аптечный запах.
— Эко! — выдохнул потрясенный пристав, а агент развел руками:
— Печень в формалине… Как-то это нехорошо. Ладно бы что-нибудь ботаническое: ежики, там, воробушки всякие в спирте. А вот печень человеческая — это очень даже нехорошо, — задумчиво пробормотал сыщик.
Пораженный увиденным хозяин квартиры приподнялся было со стула, но пристав шагнул к нему навстречу и со всего размаху въехал ладонью в ухо. Ванька-Петух кубарем полетел на пол и завыл:
— Истинный крест, не моё, понятия не имею, знать — не знал, кто принес — не ведаю, подбросили мне.
— Кто подбросил-то? — гаркнул пристав.
— Гости-гости.
— Стервец, веры тебе нет! Счас отправишься с нами в участок, там измордую собственноручно, — пообещал пристав. Надо сказать, прозвучало сие обещание очень даже нешуточно.
— Послушай, Ванька, — невозмутимо продолжил сыскной агент, — Если бы твои гости просто играли в карты, к тебе бы вопросов не было. Конечно, подпольный игорный дом в столице — это нарушение закона, но до известных пределов с сим злом мириться можно. Но твои друзья-уркаганы не просто мошенничали по-крупному, они еще и на человеческие жизни играть стали. Тут тебе, однако, не Сахалин, не Нерчинск и не Вилюйск, так что свои каторжанские ужимки здесь показывать не след.
— Ничего не знаю, ничего! — запричитал Ванька; он сделал попытку подползти к агенту, но его движение остановил пристав, наступив сапогом на спину притоносодержателя, — сам за столом не сиживал, за ставками не следил, ну какой с меня может быть спрос?
— Ты сам подумай, какой может быть спрос с человека, на квартире которого друзья-каторжане — человекоубивцы и ироды окаянные — во время карточной игры ставят на человеческие жизни, а потом в этой же квартире находят извлеченную из тела человеческую печень?
Ванька-Петух заплакал. Он проплакал всю дорогу до околотка и друзья бывалого тюремного сидельца никак не могли понять, что же вызвало эти горючие слезы: искреннее раскаяние или банальное сожаление о собственной бездарно прожитой жизни?
Делом о найденном саквояже с печенью поручили заниматься помощнику окружного прокурора Вадиму Даниловичу Шидловскому. Это был старый опытный служака, обрюзгший и подуставший на государевой службе. Сей почтенный господин взгляд имел обыкновенно сонный и какой — то скучающий.
Оживлялся он обычно при обсуждении званых обедов многочисленных родственников и вообще — лишь при общении с ровней себе. Наделенный богатой родословной и знатной родней, человек этот не то чтобы брезговал людьми простыми — нет, просто они были ему совсем неинтересны. А посему провести первоначальное дознание о саквояже, найденном в притоне Ваньки-Петуха, он поручил своему молодому подчиненному Алексею Ивановичу Шумилову.
Саквояж с печенью в формалине под конвоем прибыл в один из околотков Адмиралтейской части, куда пригласили полицейского доктора, а все задержанные на малине Ваньки-Петуха гопники подверглись весьма пристрастному допросу. После многочисленных и энергичных шлепков, пинков и ударов по ушам выяснить удалось весьма немного: никто из задержанных так и не вспомнил, кем именно саквояж был принесен на квартиру Ваньки. То есть, эти канальи, конечно же, знали правду, но ввиду отсутствия прямых улик добиться этой правды от задержанных не представлялось возможным. Был бы среди задержанных полицейский осведомитель — и дело запросто бы сдвинулось с мертвой точки, но такового, увы, среди них не оказалось.
Доктор, несколько помятый, с серым, невыразительным лицом, нацепив на переносицу круглые стеклышки пенсне, открыл стеклянный сосуд и внимательно всмотрелся в его содержимое. Казалось, его ничуть не смущает специфический запах и сам вид плоти, в то время как у Шумилова, стоявшего рядом, этот запах вызвал горловой спазм и желание подставить лицо под струю свежего воздуха из приоткрытого окна. Тонким пинцетом доктор подцепил печень, перевернул ее, посмотрел с обратной стороны. После этого, взяв печень двумя пальцами, вытащил ее из формалина и бросил на чашку установленных подле весов. На лице полицейского врача ничего не отразилось во время этой манипуляции; Шумилов же остро ощутил, как болезненно содрогнулся его желудок. Дабы подавить рвотный позыв он с шумом втянул носом воздух, вызвав усмешку доктора:
— Носом-носом дышите, молодой человек. И сядьте-ка, право, на стульчик. В ногах-то в этаком деле правды нет, особенно с непривычки.
— Ничего-с, перестою, не впервой.
— Ну-ну, — доктор продолжал ухмыляться, — вес запишите? Четыре и четыре десятых фунта… Из чего можно заключить, что вес тела человека, потерявшего эту печень, составлял примерно 180 фунтов.
Доктор перебросил печень обратно в судок, закрыл его крышкой, и направилися к умывальнику мыть руки.
— Такой вес, скорее соответствует мужчине, нежели женщине, — предположил Шумилов.
— Ну отчегоже-с? Если женщина тучная, рожавшая, то 180 фунтов вес для нее вполне допустимый.
— Что вообще скажете об увиденном?
— Ну-с, что я могу сказать, глядя на это безобразие? Печень, конечно, человеческая. Без видимых повреждений, патологий. Её владелец был человеком непьющим — это однозначно. Отделена она профессионально, хирургически грамотно, так скажем. Работал мастер. О сроке давности судить не берусь, поскольку орган был сразу же помещен в консервант и посмортальным изменениям подвергнуться не успел. Думаю подобное изъятие вряд ли могли сделать в уголовной среде, нужны ведь специальные медицинские инструменты. И навык. Большего, конечно, не скажу, надо произвести исследование в лаборатории.
— На предмет?
— На предмет обнаружения яда, конечно же. Напишите отношение?
— Напишем, — кивнул Шумилов.
— Ну, пишите, — доктор пожал плечами, — Но, к слову сказать, в таких судках зеленого стекла — я имею ввиду эту банку — обычно хранят изъятые органы в анатомичках и лабораториях.
Алексей Иванович Шумилов задумался, остановившись у окна. На перилах чугунной решетки у тротуара ярко играло солнце, воробьи купались в луже. Неся лоток с дымящимися пирожками, прошел молодой румяный булочник. За свою еще совсем небольшую практику Шумилов впервые столкнулся с подобным откровенно дурацким происшествием. По словам доктора получалось, что эта человеческая печень пропала из морга или химической лаборатории. Но как и почему она оказалась в саквояже в воровском притоне? Вряд ли судок в саквояж поместил вор, если таковой действительно похищал судок из анатомички. Представить себе питерского воришку, разгуливающего по городу с человеческой печенью в формалине, было так же невозможно, как увидеть радугу зимой. Нет, скорее всего похищался вовсе не стеклянный судок с печенью — вора интересовал именно дорогой саквояж. Однако, никаких заявлений о краже саквояжа желтой кожи не поступало. Впрочем, ждать таких заявлений и не следовало: кому в голову придет сознаваться в том, что он носит с собой подобные столь странные вещи? Так или иначе, следовало объездить все морги при больницах, а также лаборатории, где могли исследоваться части человеческого тела. Скорее всего, таких мест не могло быть много: Медико-хирургическая академия, Университет, Высшие женские курсы, там готовили фельдшериц.
Другой вопрос состоял в том, для чего владелец саквояжа поместил в него анатомический судок? Тут предполагать можно было все что угодно; пожалуй, никто кроме самого владельца саквояжа объяснить бы этого и не смог. В подобном деянии могла быть криминальная подоплека — расчленение убитого преступником человека, например; а могла быть банальная глупость — скажем, неумная выходка студентов-медиков, решивших кражей извлеченного органа подшутить над кем-либо.
С такими мыслями Алексей Иванович распорядился отправить находку в Адмиралтейскую часть, где оставить в сохранности до особого распоряжения, а сам направился доложить Шидловскому, своему непосредственному шефу, о результатах собственных изысканий. Вадим Данилович как раз собирался уезжать, но задержался на четверть часа, дабы выслушать помощника.
— То, что на судке присутствует суровая нить и остатки сургуча, наводит на мысль о том, что сосуд с органом был опечатан, — докладывал Шумилин, — Кем и когда это было сделано ныне, к сожалению, установить не представляется возможным, ибо сургуч сломан. Однако, наличие следов опечатывания, а также сам факт консервации человеческого органа в формалине, заставляют думать, владелец саквояжа был врачом, возможно, анатомом, с непонятной целью изъявшим печень из надлежащего для неё места хранения. Человек, положивший сосуд с органом в саквояж мог руководствоваться преступным умыслом, а мог действовать и без оного.
— Я полагаю, что готовилась банальная студенческая шутка, — невпопад заметил помощник прокурора.
— Не такая уж она и банальная.
— Ну, с момента открытия первого анатомического института в 1846 г. у медиков сложился своего рода фольклор, связанный с анатомичкой. С профессором Гиртлем Вы часом знакомы не были?
— Никак нет, Вадим Данилович.
— Ну, а мне довелось накоротке встречаться с этим презанимательным человеком. Это был наш первый прозэктор, его привез в Россию еще Пирогов. В иные минуты Гиртль мог оригинально пошутить, с анатомическим, знаете ли, уклоном. Свою первую лекцию он начинал с того, что демонстрировал слушателям, как врач может согреть свои руки в кишечнике неостывшего трупа… — казалось сейчас Шидловский сядет на своего любимого конька и начнёт рассказывать любимые им житейские анекдоты, но помощник прокурора сам себя одернул, — Впрочем, я не о том. Непонятно, почему бандиты не выбросили печень.
— Возможно, их смутила находка, а возможно, они просто не успели.
— Ну-ну. Вы не подумали о том, что мы имеем дело с похитителями трупов? Так сказать, с петербургскими Бурке и Хейром?
Алексей Иванович понял, что имел в виду начальник. Английские преступники Вилльям Бурке и Вилльям Хейр по их собственному признанию в 1820-х годах убили 16 человек, тела которых были проданы профессору анатомии Роберту Ноксу. Тот из полученных тел готовил наглядные пособия для медицинских лекций, которые не без выгоды продавал в университеты.
— Не думаю. Если бы бандиты в доме Василия Петухова действительно убивали людей и извлекали из них внутренние органы, то в подтверждение тому осталось бы множество следов. А таковых нет. Можно предположить, что органы извлекает некий врач-специалист, а бандиты только поставляют тела, но тела-то без печени в нашем распоряжении нет!
— Значит, надо искать такое тело…
Помощник прокурора умел говорить общими фразами и кому как не Шумилину было это хорошо известно.
— Я полагаю объехать завтра больничные морги, навести справки, разумеется, проеду и по анатомичкам; на кафедрах попрошу проверить наглядные пособия. Думаю уложиться в один день, — бодро отчеканил Алексей Иванович, стараясь убедить самого себя в исполнимости сказанного.
Шидловский, застегивая мундир и придирчиво осматривая в зеркале свою физиономию и прыщ, который так некстати вскочил на переносице, благосклонно с огласился:
— Да, голубчик, правильно мыслишь.
Эта способность шефа переходить от официального «Вы» к фамильярному «ты» не переставала удивлять Шумилова.
— Поезжай, порасспроси людей, — продолжал между тем помощник прокурора, — глядишь, владелец саквояжа и отыщется. Возьми себе в помощь кого-либо из надёжных сыскарей, сошлись на меня. Градоначальнику еще не делали доклад о находке, поэтому определяться надо скорее: либо мы её квалифицируем как преступление и возбуждаем дело, либо — нет. Тянуть нельзя. Завтра же мне доложишь.
И когда уже Шумилин стоял в дверях кабинета, Шидловский пригвоздил своего подчиненного полуфразой, по части которых он был большим мастером и которыми умел ставить в тупик даже опытнейших канцеляристов:
— Бурке и Хейр не только людей убивали, они еще и могилы раскапывали… Между прочим, они были содомиты!
Означало ли сказанное, что Шумилову надлежало ещё проехаться и по столичным кладбищам, дабы убедиться, что никто не раскапывал свежие могилы?
Весь следующий день Алексей Иванович потратил на то, чтобы обойти все места, где у покойного могли официально изыматься внутренние органы для исследования. Вид этих мрачных помещений, сырость, промозглый холод и специфический запах, витавший там, удручающе действовали на Шумилова. Каждый раз, выйдя на свежий воздух, он вдыхал полной грудью, встряхивался внутренне, как собака после купания и шел дальше. Его гнал вперед азарт гончего пса, появление которого он с удивлением отметил у себя. И ничто не могло сбить его с этого пути, даже вид тел с окоченевшими синими ступнями, торчавшими из-под простыней и дерюг (там где таковые вообще были), даже давящая тишина (мертвая!).
Но, к досаде сыщика, продвинулся он мало. Нигде ничего не пропадало — ни тела, ни отдельные органы, даже с посудой везде был полный порядок. «Что же получается, — размышлял Алексей Иванович, устало шагая по сумеречным улицам домой, — нет пропаж из официальных, так сказать, мест. Выходит, препарирование было криминальным? Печень ведь действительно могли взять и не у тела, а у живого человека. Но с какой целью консервировать орган? Ради чего действовать так сложно? Людоедство? Можно допустить, но для этого орган следовало сохранять во льду, а не опускать в химикалии. Предъявить орган как доказательство… Чего?» Версий могло быть множество, а реальность всегда могла оказаться такой, что даже самая изощренная фантазия грозила спасовать. «Надо подождать, — устало думал Алексей Иванович, — война план покажет. А доклад господину градоначальнику пусть беспокоит господина окружного прокурора.»
Утром следующего дня Шумилов пришел на службу в подавленном и вялом настроении. Всю ночь он провёл как в чаду, мысли о стеклянной посуде с человеческой печенью не оставляли его даже во сне и трансформировались в тяжелую дурацкую фантасмагорию, в которой присутствовал Некто с зеленым лицом и руками, украшенными длинными, заворачивающимися книзу ногтями, больше похожими на когти. Этот Некто держал в руках ланцет и, плотоядно ухмыляясь алыми влажными губами, нацеливался на кусок человеческой печени, лежавший перед ним на большом серебряном блюде. «Можно и живую, а можно и у трупа взять, лишь бы свежая была», — рычал зеленокожий, — «На первой лекции по патанатомии профессор Гиртль всегда шутил, что гроб с покойником — это всего лишь консерва, ха-ха-ха.» Весь этот бред тянулся целую ночь, с перерывами, во время которых Шумилов просыпался, и продолжениями после того, как он засыпал опять.
Проснулся Алексей Иванович совершенно измученным и решил, что заболел. Заболеть в Петербурге в конце апреля было немудрено: хотя веселое весеннее солнце вовсю припекало на открытых местах, в тени и возле воды все еще тянуло промозглой сыростью. Позавтракав и выпив чашку обжигающего какао, Алексей Иванович почувствовав себя как будто лучше, но все же мрачное состояние духа его не изменилось. По пути на работу он обдумывал план своих действий на предстоящий день, но с самого начала все пошло не так, как он рассчитывал.
Не успел он раздеться, как в в дверь протиснулся дежурный секретарь и быстро, без всяких предисловий, проговорил:
— Алексей Иваныч, там к Вам посетитель. Представился доктором Николаевским. Я направлю, пусть пройдет?
Фамилия «Николаевский» ничего Шумилову не говорила.
— Ко мне или к Вадиму Даниловичу? — уточнил Шумилов. Будучи рядовым делопроизводителем он занимался чисто техническими вопросами и посетители к нему почти не являлись. Разного рода заявители, просители и свидетели посещение прокуратуры петербургского судебного округа обычно начинали с помощника прокурора.
— Именно к Вам-с.
— Что ж, проси… Кстати, Вадим Данилович, уже прибыли?
— Никак нет, сказался к десяти. Он через Сенат сегодня едет.
— Ясно, направьте, пожалуйста, сюда Николаевского.
Свой кабинет Шумилов делил с еще двумя чиновниками, такими же незначительными, как и он сам. Один из них сейчас находился в отпуске, а второй должен был отсутствовать всю первую половину дня, так что Алексей Иванович мог быть уверен, что его общению с неизвестным доктором никто не помешает. Через пару минут в кабинет не спеша вошел представительный мужчина лет 45, с подбитой сединой бородкой, осанистый и благообразный. В руках он держал дорогую наборную трость из слоновой кости и медицинский саквояж в руках. Во всем его облике угадывалась солидность и обстоятельность. Весенняя слякоть ничуть не испортила дорогих английских туфель из крокодиловой кожи, а здоровый цвет лица свидетельствовал о прекрасном пищеварении. Но, казалось, он был чем-то удручен. Последнее обстоятельство, впрочем, в помещении прокуратуры можно было считать почти естественным. Присев на предложенный дешевый венский стул, он начал, обстоятельно и вальяжно:
— Позвольте представиться. Николай Ильич Николаевский, практикующий доктор. Э-э… До меня дошли слухи, что вы нашли саквояж желтой кожи с медицинскими…, — он запнулся, как бы подбирая слова и не произнося более ни звука. Лоб его покрылся испариной, он рефлекторно облизал пересохшие губы и это движение напрочь уничтожило всю его вальяжность. Он потупился и моментально приобрел вид несчастный и потерянный. В комнате повисла тишина, слышалось только мерное движение маятника напольных часов, — …ну, в общем, с человеческим органом в судке с формалином. Я пришел заявить, что данный саквояж был украден у меня.
Произнеся эти, нелегкие для него слова, он поднял, наконец, глаза и впервые прямо посмотрел в лицо Алексея Ивановича, как бы ожидая его ответной реплики.
— Расскажите поподробней, что это был за орган и как он у вас оказался.
Доктор шумно вздохнул и, теребя ручку небольшого саквояжика, который вольготно распологался на его коленях, начал глухим голосом.
— Видите ли, почти неделю назад, а именно 18 апреля, скончался мой пациент, 18-летний молодой человек Николай Прознанский. Он был болен краснухой, болезнь дала осложнение и затянулась. Однако смертельного исхода никто не ожидал, это была полная неожиданность прежде всего для меня самого. А для родных юноши тем более. Главный казус состоял в том, что больной уже пошел было на поправку. Без установления причины смерти я как лечащий врач не мог выдать разрешение на захоронение тела. Поскольку причина смерти мне представлялясь… м-м… неочевидной, я решил организовать аутопсию, то есть вскрытие тела. Оно было проведено третьего дня в Медико-хирургической академии, в том корпусе на Греческом проспекте, который вы не далее как вчера посетили. В ходе аутопсии было проведено изъятие внутренних органов для дальнейшей химической экспертизы в лаборатории. Все было должным образом оформлено. Я присутствовал во время этой процедуры как по своему профессиональному, так и нравственному долгу ибо умерший молодой человек, как и, собственно, вся его семья, мои давние пациенты. Но, видите ли… м-м… если идти обычным путем, как то предписано правилами, экспертиза могла растянуться на месяц или около того. Чтобы ускорить процедуру я договорился со знакомыми врачами из лаборатории в Петербургском университете о проведении потребного химического исследования. Для этого я должен был доставить на Васильевский остров изъятые при вскрытии тела органы Прознанского. Когда вскрытие закончилось был уже вечер, а потому я повез свою поклажу на извозчике к себе домой… м-м… полагая с утра отправиться прямиком в университет. И вот тут-то…
Доктор опять замялся, неловко кашлянул и потупился как ребенок, очевидно, предполагая, что Шумилов продолжит рассказ вместо него и тем самым облегчит признание. Алексей Иванович уже понял каковой будет концовка этой истории, но помогать доктору не спешил и выжидательно молчал.
— М-да, так вот… я велел извозчику остановиться у лавки Попова, что на Васильевском острове, купить сигар, а саквояж желтой кожи остался в извозчике. Ну, там еще была поклажа — баулы, коробки, потому что изъятых фрагментов было много — сердце, легкое, почка, желудок, мозг. Возвратясь, я поначалу даже не заметил пропажи, понимаете? И даже когда домой приехал, тоже не сразу хватился. Не я же сам носил эти коробки, швейцар Степан занес их квартиру. Короче, пропажа обнаружилась только на другой день, это было как раз вчера. Я попытался отыскать саквояж самостоятельно, думал, может в извозчике по ошибке Степан оставил… м-м… может, со стороны извозчика какой умысел был злонамеренный.
— Извозчики так обычно не балуют. Их легко найти и разоблачить, — спокойно проговорил Шумилин, — Продолжайте, пожалуйста.
— Сами понимаете, такой казус, такое пятно на мне. И ведь хотел как лучше, как быстрее все организовать. Ну да, как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. В общем, ничего я не выяснил и ничего не нашел, — тут доктор опять примолк и посмотрел куда-то вниз, где по всем признакам должны были располагаться ножки стола… — А после обеда был в морге и там мне сказали, что человек из прокуратуры в сопровождении полиции интересовался пропавшими органами, а именно, печенью в формалине. М-да… Назвали Вашу фамилию. Вот я и решил, что пришло время каяться. Вот, собственно, и все.
Шумилов перевел дыхание. История получила самое скорейшее и самое тривиальное разрешение. И отвратительный сон про зеленого человека с ланцетом оказался сплошным вздором и глупостью. И кто только придумал дурацкое выражение «сон в руку»?
— Николай Ильич, а что стало с остальными фрагментами? — спросил Шумилин.
— Так я отвез их, все до единого, в лабораторию университета, на кафедру судебной медицины. Там обещали к сегодняшнему вечеру провести все необходимые исследования. Видите ли, семья убита горем, родители ждут от меня вестей. Вот я и приложил все силы. Как не повезло! — доктор сокрушенно замолчал.
— Скажите пожалуйста, Николай Ильич, а почему вообще возникла необходимость химического исследования? Ведь далеко не во всех случаях назначаются такие исследования. Вы как врач, должны знать об особой инструкции Медицинского комитета Министерства внутренних дел, не так ли?
— Да, конечно, я знаю-знаю… Не корите меня, я сам себя корю! Видите ли, Николай Познанский болел, лечился, принимал лекарства, — доктор вдруг заговорил голосом тихим и невнятным, — Возможны ошибки в дозировках, в работе провизора…
У Шумилова вдруг возникло странное иррациональное ощущение того, что сидящий напротив человек очень боится какого-то вопроса. Вот только Шумилов вопроса этого не знал, а потому не мог пока задать.
— А почему тело покойного Прознанского вскрывалось в Медико-хирургической академии? — наобум спросил Шумилов.
— Он из военной семьи. Отец покойного молодого человека полковник, ему было довольно просто организовать все это без задержек.
Ничего настораживающего в таком ответе не было. В конце-концов, большая часть мужской половины высшего света Российской Империи служила в армии.
— Хорошо, Николай Ильич, — заканчивая разговор с доктором проговорил Шумилов, — напишите, пожалуйста обо всем этом подробно, а потом можете быть свободны. Постарайтесь припомнить приметы извозчика, а также номер его жетона. Вы его сами поймали?
— Нет, швейцар академии по моей просьбе его ловил.
— Прекрасно, еще один свидетель. Напишите обо всем. На отдельном листе перечислите органы, переданные Вами для химического исследования в университет. Через пару дней мы Вас вызовем, если всё будет в порядке, вернем Вам пропажу.
Когда в прокуратуре появился Шидловский, Алексей Иванович перечитывал показания доктора. Все оказалось просто и понятно. Оснований не доверять Николаевскому не было. Шумилов не был идеалистом и давно уже смотрел на мир без иллюзий, но сейчас он был готов дать руку на отсечение, что доктор рассказал ему чистую правду. Хотя, возможно, и не всю. Шидловский выслушал доклад подчиненного, мельком взглянул на странички, исписанные бегущим докторским почерком и барственно прикрыв глаза, распорядился:
— Поезжай-ка ты, Алексей Иваныч, в этот самый университет, да порасспроси людей, что за птица этот доктор, а заодно, может, и результат экспертизы заберешь.
— Боюсь, мне его никто не даст. На каком основании, Вадим Данилович? Дела-то нет! — сдержанно заметил Шумилов. Он старался не пререкаться с деспотичным начальником, но не всегда мог соблюсти это правило. Иногда у помощника прокурора полет слова заметно опережал полет мысли; в такие минуты его словоблудие следовало останавливать в самом начале.
— Ты просто скажешь там… — Шидловский запнулся, задумался на время, и сообразив, что оснований для изъятия текста химического исследования действительно не существует, заговорил о другом, — Чем чёрт не шутит, может статься, парнишка помер неспроста.
Шумилову не надо было повторять дважды. Присутствие в здании прокуратуры начальника действовало на него угнетающе, поэтому Алексей Иванович очень любил разъезды по городу. Сейчас же нетерпеливое ожидание скорой развязки событий явилось для него дополнительным стимулом и он летел как на крыльях. На Дворцовом мосту его обдала фонтаном грязных брызг роскошная коляска на рессорном ходу, но это показалось мелочью и совсем не испортило настроения. Он не замечал ни низкого серого неба, ни пронзительного ветра с Невы, ни угрюмого дворника у дверей длинного университетского корпуса. Алексей не заканчивал Петербургского университета, бывал здесь всего пару раз, причем по делам службы и весьма недолго. Ему потребовалась четверть часа, чтобы отыскать профессора Оскара Штейфера, которому Николаевский передавал для исследования внутренние органы умершего юноши.
— Николаевский? Николай Ильич? Конечно, знаю. Мой коллега уже на протяжении… — седовласый профессор Штейфер задумался на секунду, — без малого 15 лет. Это мой бывший ученик, подавал надежды, доложу я вам. После окончания курса работал здесь же, в университете, на кафедре легочных болезней. Но потом занялся собственной практикой. Хороший доктор и безукоризненной честности человек. Против совести не пойдет. Знаете, у нас как говорят — хороший доктор тот, при одном появлении которого больному становится лучше. Так вот, Николай Ильич как раз таков. Конечно, останься он на кафедре, мог бы принести пользу науке, но, с другой стороны у нас ведь состояния не сделаешь.
— Третьего дня Вы получали от него внутренние органы для химического исследования? — спросил Шумилов и, увидев кивок профессора, продолжил, — Посмотрите на этот список — это действительно те человеческие органы, которые Вам передал Николаевский?
Штейфер приблизил лицо к листу бумаги, протянутому Шумиловым и, близоруко щурясь, вгляделся:
— Да, это те самые органы. Но в факте подобной передачи нет нарушений…
— Оскар Карлович, Вас никто ни в чем не обвиняет. Как и Николаевского. Окружная прокуратура просто проверяет сведения.
— Что ж, будем считать, что Вы меня успокоили.
— Где эти органы находятся сейчас? — уточнил Шумилов.
— Я их передал на кафедру судебной медицины. Там прекрасная химико-токсикологическая лаборатория. Я ведь не сам буду проводить исследования, мое дело — организовать.
— Как я могу поговорить с лицом, ответственным за лабораторный анализ?
— Очень просто. Я Вас отведу.
По гулким коридорам университетского здания профессор провел Шумилова на кафедру судебной медицины и в дверях лаборатории любезно пропустил гостя из прокуратуры вперед. Толкнув тяжелую дверь, Шумилов оказался в просторном кабинете, стены которого были увешаны таблицами и цветными плакатами, показывающими в разрезе части человеческого тела; два длинных стола были плотно заставлены разнообразным химическим оборудованием, а вдоль стен тянулись шкафы с опечатанными дверцами. На большом круглом столе у самой двери, примостился пузатый медный самовар, подле которого хлопотал молодой человек в поддевке. Краник на самоваре не хотел ему поддаваться и молодой человек, отдернув обожженные пальцы, крикнул Шумилову повелительно:
— Слышь-ка, братец, подержи самовар, да только возьми какую-нибудь тряпицу, а то руки обожжёшь!
Он, видимо, признал в вошедшем своего брата-студента.
Через секунду в лабораторию вошел профессор Штейфер и коротко сказал:
— Павла Николаевича позови! Скажи, что я к нему гостя из окружной прокуратуры привел…
Молодой человек в поддевке только теперь, видимо, заметил под распахнутым пальто Шумилова форменный мундир чиновника министерства юстиции. Он аж даже присел на месте и, пробормотав «Сей момент отыщем…", выскочил за дверь.
Меньше чем через минуту в лаборатории появился ее заведующий. Из записки Николаевского его имя и фамилия были Шумилову известны. Павел Николаевич Загоруйко оказался маленьким плешивым мужичонкой, меньше всего похожим на талантливого представителя академической науки, каковым фактически и признавался всеми. Представившись и присев к столу с самоваром, за которым расположились Штейфер и Шумилов, Загоруйко неожиданно спросил:
— А вы, что же, уже возбудили дело?
Алексей не понял вопроса, но ответил в тон Загоруйко:
— А что, уже пора?
— Полагаю, что да. Николай Прознанский скончался от передозировки морфия. Это как дважды два. Слава Богу, морфий мы умеем надёжно определять. В содержимом желудка, а также в крови обнаружено смертельное содержание морфия. Покойный должен был принять его не менее двух десятых грамма, что соответствует трём аптечным гранам. Конечно, морфий входит в состав некоторых лекарств, но такое количество невозможно получить ни с одним лечебным препаратом. Ну, разве что одномоментно выпить ведро сонных капель, — Загоруйко усмехнулся, — Что невозможно по определению… Так что смерть молодого человека наступила от отравления.
Шумилов был поражен услышанным, а профессор Штейфер залепетал растерянно: «Ай-яй-яй, Боже ж мой, какая некрасивая история и мы здесь…». Он запнулся на полуслове, но мысль его была очевидна — из-за Николаевского он мог быть втянут в уголовное расследование.
— Мне понадобится Ваше заключение, — сказал Шумилов заведующему лабораторией.
— Разумеется, я его Вам предоставлю.
— Я бы хотел кое-что уточнить, — Шумилов задумался на секунду, формулируя мысль, — Вы уверены в прижизненном попадании морфия в организм? Другими словами, Вы не допускаете, что раствор морфия был влит в емкости с органами после аутопсии?
— С какой целью? — в свою очередь спросил Загоруйко.
— Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос.
— Понимаю, куда вы клоните, — Загоруйко на минуту задумался, — Вы что же, сомневаетесь, в честности Николаевского?
— Павел Николаевич, Вы же сами судебный медик и знаете порядок назначения и проведения патологоанатомического и судебно-химического исследований. То, что сделал Николаевский…
— Да-да, понимаю. Он нарушил предписанные инструкцией Медицинского комитета правила и сам привез органы на экспертизу. Но для чего ему вливать морфий? Из-за каких-то корыстных соображений? Чушь, не может быть! Это честнейший человек! — Загоруйко энергично встряхнул плешивой головой, и это движение придало ему упрямый вид. — Никогда в это не поверю! Есть такое понятие — врачебная этика. И для Николаевского это не пустой звук. Поверьте мне, я знаю Николая Ильича, и отдаю себе отчет в том, что говорю.
Профессор Штейфер молчал. Он, похоже, уже ни в ком и ни в чем не был уверен.
— Хорошо, не стану настаивать на своих словах, — согласился Шумилов, — в конце-концов, это всего лишь допущение, которое следует иметь в виду. Ответьте, пожалуйста, на другой вопрос: химический анализ вещества печени позволит выявить отравление морфием?
— Позволит. Печень — это фильтр крови. Если морфий поступил в кровь, он обязательно оставит след в печени.
— Завтра Вы получите для исследования человеческую печень. Я бы попросил Вас проверить её на содержание морфия.
На том они и разошлись. Шумилов забрал заключение химической экспертизы и отправился обратно в прокуратуру. Там он успел обо всем доложить Шидловскому, который в свою очередь успел до конца дня выписать постановление о возбуждении уголовного дела (канцелярия Санкт-Петербургской окружной прокуратуры тут же зарегистрировала его). С копией постановления Шумилов отправился в Адмиралтейскую полицейскую часть, где забрал саквояж с судком, украденный у Николаевского, и отвёз его обратно в прокуратуру.
Уже наступил вечер, но в преддверие белых ночей было еще очень светло, только вот стало уже по-ночному холодно и неуютно. Прохожих почти не было, по небу неслись рваные облака, ветер заставлял поднять воротник и спрятать руки поглубже в рукава пальто. Путь на извозчике не был слишком длинным и его как раз хватило на то, чтобы обдумать ситуацию. Получалось, что подозрения доктора относительно неестественной причины смерти Николая Прознанского оправдались. Интересно было, чем питались таковые, ведь недаром же Николаевский не дал разрешение на погребение без вскрытия и всемерно, даже нарушая правила, способствовал скорейшей экспертизе. Скорее всего, доктор во время своего посещения прокуратуры рассказал далеко не все, что знал, сомнений в этом Шумилов теперь почти не испытывал. С другой стороны, подозрений в адрес Николаевского тоже особых не было; настоящие злоумышленники никогда бы не стали вести себя так, как доктор. Шумилов почти не сомневался, что доктор Николаевский честный человек лишь волею случая ставший жертвой воровства и не очень ловко вышедший из этой ситуации. «Надо составить план действий и завтра с утра согласовать его с Шидловским», — решил Алексей Иванович, подводя итог своим размышлениям.
В своем кабинете он, не раздеваясь, присел к столу и набросал на листе писчей бумаги: «План розыскных мероприятий, отработка версий. 1. Отравление по неосторожности. Возможно, яд принял (или ему дали) по ошибке. Узнать, как и чем лечили, где готовились лекарства. Кем готовились. NB: Есть ли в доме морфий? 2. Самоубийство. Что был за человек? Характер, круг общения. Любовные драмы. Вредные привычки. Хронические заболевания. Долги. Шантаж (доведение до самоубийства). 3. Убийство. Узнать всё об окружении. Кому и чем мог мешать? Кому была выгодна его смерть?» Шумилов застыл над листком со своими записями и уставился невидящими глазами в неподвижную точку прямо перед собой. Дальнейшая детализация плана, очевидно, была сейчас просто не нужна: надо было сначала познакомиться с семьей покойного, окунуться в ее атмосферу и лишь потом задумываться над тем, как развить тот или иной его аспект.
За стенкой дежурный погромыхивал связкой ключей, лязгала печная заслонка, с улицы доносился стук лошадиных копыт проезжающего мимо экипажа.
— Алексей Иванович, пора уже, вы одни остались, — негромко проговорил заглянувший в дверь дежурный, совершавший свой обычный вечерний обход. Шумилов, словно очнувшись, быстро убрал саквояж желтой кожи под стол, свернул листок с планом действий и спрятал его в карман мундира. Сейчас он не сомневался, что впереди его ждало преинтересное, полное загадок расследование, хотя причину своей уверенности Шумилов не смог бы объяснить рационально.
2
На следующее утро Алексей Иванович по дороге на службу заглянул в аптеку на Гороховой. Это было солидное заведение с зеркальными шкафами вдоль стен, шикарным мраморным полом, пальмами в углах торгового зала и внимательными продавцами за прилавками. Старший провизор этой аптеки был хорошо знаком Шумилову, который не так давно своим добрым участием помог ему в одном пренеприятнейшем деле. Сейчас Алексей Иванович имел намерение проконсультироваться у своего знакомца.
— Чем могу служить? — с учтивой готовностью сорваться с места поинтересовался продавец за мореным дубовым прилавком.
— Цизека Ивана Францевича пригласите пожалуйста, — попросил Шумилов.
Интерес в глазах продавца моментально угас; поскольку клиент не собирался совершать покупку, на чаевые ему рассчитывать не приходилось.
— Сей момент… Как прикажете доложить? — поскольку Шумилов был не в форменной шинели, а в обычном коротком пальто, продавец не мог видеть его мундира.
— Шумилов. Просто Шумилов.
— Он Вас действительно знает? — вальяжно поинтересовался продавец, вовсе не спешивший покинуть свое место за прилавком.
— Разумеется, я недавно актировал труп из сундука в его доме. Вам следует поспешить, если Вы не хотите остаться без работы.
Продавца как ветром сдуло. Буквально через минуту в торговый зал выскочил провизор с резиновом фартуке и старом застиранном халате с разноцветными потеками. Его простоватый вид не мог обмануть Шумилова: Цизек, номинально числившийся старшим провизором, был весьма богатым человеком и фактически владел этой аптекой. Кроме того, он владел большим доходным домом на Тележной улице. Немецкая рачительность и педантичность не позволяла этому трудяге довольствоваться сытой жизнью рантье, поэтому он не переставал собственноручно готовить рвотные порошки и капли для глаз.
— Ал-лексей Ивановитч, так приятно Вас видэть, — с присущим остзейским немцам акцентом заговорил он, — фот Вы и вспомнили про Ивана Францевитча! Прошу Вас в мой апартамэнт на чашэтчку кофэю.
— Простите, Иван Францевичя не сейчас. В следующий раз всенепременнейше. А сейчас у меня вопрос.
— Всё чем могу… В любое время, Ал-лексей Ивановитч, для Вас…
— Хотелось бы узнать, Иван Францевич, в состав каких лекарств входит морфий и какие болезни ими лечат?
— Разрешит-те поинтересоват-ться — а для какой надобности Вам это знат? На больного вы не похожи… — Цизек улыбнулся, давая понять, что шутит, — Уж извинит-те меня за любопытство…
— Больной краснухой умер от отравления морфием, — улыбнулся Шумилов. — Обычное дело, знаете ли.
— Да-да, шутка, понимаю, — провизор, видимо, не воспринял слова Шумилова всерьез, — Краснуха не лечится морфин-содержащими препаратами. Я считаю — поверьте, настоясчий провизор всегда хороший доктор! — морфий — это лекарство будущего века. Это прекрасное обезболивающее средство, причем он снимает боль любого характера — от ранений, ожогов, опухолей. Пушкин с т-тяжелейшей раной потчки получал морфий и оставался в сознании, мог разговаривать. В небольших концентрациях морфий действует как прекрасное успокаиваюсчее средство. Им лечится бессоница, головные болии, истерия. Он имеет оч-чень много специфичэских областей прим-менения: глазные капли, напримэр, специфичэские женские боли… Ну, и еще это сильный яд, если доза превышена. Впротчем, последнее относится к любому лекарству.
— Как, все-таки, насчет краснухи. Её лечат препаратами, содержащими морфий?
— Нет-нет. Ни в коем случае. Анамнез краснухи не требует назначения никаких морфин-содержащих лекарств.
— С этим понятно. Скажите, Иван Францевич, а три аптечных грана чистого морфия — это много? Можно ли умереть от такой дозы? Можно ли принять такую дозу морфия в составе обычного лекарства?
— От трех гранов чистого морфия умрет человек любой комплекции, возраста и здорофья. Безусловно смертельная доза составляэт две сотых грам-м-ма при единовременном приеме и пять сотых грамма при приеме на протяжэнии суток. Врачэбные назначения делаются таким образом, чтобы суточная норма, полутчаэмая пациэнтом, ни в коем слутчае не была смертельной. Даже если пациэнт ошибётся с дозировкой и примет лекарства больше, чем следует — он не умрет. Имеет значение то, как морфий попадет в организм: самый эффективный способ введения — путем инъекции внутривенно. Собственно, шприц был придуман двадцать лет назад именно для инъекций морфия.
— Не знал этого, — признался Шумилов.
— Это было модное увлетчение того времени. Тогда есче не знали, что морфин угнетает дыхание; человек уснет и во сне перестает дышать. Можно сказать — это легкая смерть, насколько вообсче можно говорить о лёгкости в этом вопросе.
— Спасибо, Иван Францевич, вы мне очень помогли.
Шумилов раскланялся с любезным провизором и отправился на службу. У самого подъезда здания окружной прокуратуры он столкнулся с Шидловским, что уже само по себе было плохо — шеф не любил, когда подчиненные приходили одновременно с ним. Но еще хуже было то, что Вадим Николаевич не ответил на приветствие, а лишь кратко буркнул: «Зайди ко мне в кабинет». Шумилов достаточно изучил повадки начальника, чтобы понять, что тот пребывает в самом мрачном расположении духа.
— Ты мне не сказал, кем является отец того молодого человека, по факту отравления которого я вчера возбудил дело, — зашипел негодующе Шидловский, едва затворив дверь кабинета, — Ты не потрудился даже узнать это у доктора…, — он запнулся.
— … Николаевского, — подсказал Шумилов, — Но я это узнал. Отец покойного полковник.
— Да, полковник, — воскликнул помощник прокурора, — корпуса жандармов! И я узнаю об этом совершенно случайно! И совсем не от тебя! Хотя, именно тебе надлежало узнать об этом первым.
Шумилов промолчал. Отчасти начальник был прав, он не уточнил у доктора Николаевского детали семейного быта покойного. Но в тот момент еще никто не знал, что придется возбуждать уголовное дело. Шумилов рассчитывал через день-два вернуть Николаевскому саквояж с судком и забыть всю эту историю.
Шидловский еще какое-то время пенял бессловесному Шумилову, потом, выпустив пар, подитожил сказанное:
— Тут надлежит быть очень осторожными. Дело может приобрести совершенно ненужный нам политический уклон. Ты готов к докладу по существу?
Шумилов понял, что Шидловский находится в растерянности и не знает, что ему надлежит предпринять. Последний вопрос можно было расценить как закамуфлированную просьбу о помощи. Алексей Иванович живо оттарабнил сочиненный накануне план из трех пунктов, сопроводив их необходимыми пояснениями. Ответ Шумилова понравился Шидловскому и тот заметно приободрился:
— Ну, что ж, будем искать морфий. Думаю, найдём его — все решится само собой. Нужен осмотр квартиры. Да и семьей покойного надлежит познакомиться.
Квартира Прознанских располагалась в бельэтаже большого серого здания на Мойке неподалеку от Невского. По пути к этому дому Шидловский раскрыл подчиненному источник своей неожиданной осведомленности: оказалось, что накануне вечером его партнером по бриджу был барон Тизенгаузен, один из обер-прокуроров Сената. На протяжении ряда лет почтенный юрист занимался организацией политических судебных процессов, в силу чего прекрасно знал руководящий состав корпуса жандармов. Дмитрий Павлович Прознанский был хорошо ему знаком, о чём Тизенгаузен и уведомил Шидловского. «Об этом человеке мало кто знает,» — многозначительно подытожил свой рассказ Шидловский, — «Полковник Прознанский занят агентурным обеспечением…» Воздетый в небо указательный палец помощника прокурора призван был подтвердить серьёзность этого утверждения. О каком агентурном обеспечении говорил он в эту минуту оставалось только догадываться.
Квартира Прознанских была просторна и удобна, в самую пору для большого семейства с несовершеннолетними чадами и прислугой. Кроме главы семейства, Дмитрия Павловича, в квартире проживали его жена, Софья Платоновна и дети: Алексей, 16 лет и Надежда, 12-летняя тихая девочка, а так же прислуга — кухарка, прачка, горничная. Совсем недавно здесь жил здесь ещё один человек — Николай, Николенька, Николя, о недавней смерти которого напоминал черный флёр на зеркалах. Своим человеком в доме была и гувернантка, француженка Мариэтта Жюжеван, уже 5 лет воспитывавшая молодое поколение Прознанских.
Ох, и грустный же это был день! Скорбь царила в квартире, где только накануне похоронили любимого сына и брата. Горе витало в воздухе, оно было в заплаканных глазах, приглушенных голосах и в бесшумном скольжении прислуги по унылым комнатам. Тихо, мрачно. Полковник, встретивший прокурорских работников на пороге дома, был чернее тучи, но по его поведению Шумилов моментально понял, что тот уже был оповещен о заключении химической экспертизы. В доме Прознанских уже находился знакомый Шумилову доктор Николаевский, не было никаких сомнений в том, что следователя здесь ждали.
Перво-наперво Шидловский представился полковнику, выразил ему свои соболезнования, после чего попросил собрать всех домашних и прислугу, дабы сделать объявление. Уже через минуту помощник прокурора стоял в обеденной зале перед шеренгой домочадцев и своим зычным, хорошо поставленным голосом чеканил:
— Примите наши соболезнования. С прискорбием должен сообщить, что как достоверно ныне установлено Николай Дмитриевич Прознанский умер от отравления. По факту его смерти прокуратурой Санкт-Петербургского судебного округа возбуждено расследование, которое веду я — помощник прокурора Шидловский Вадим Данилович. Сообразно правилам ведения следствия все вы будете официально допрошены когда это будет сочтено необходимым. Сейчас мы должны осмотреть квартиру. Согласно правилам это будет сделано в присутствии чинов полицейского ведомства, а также специально приглашенных понятых, поэтому прошу не удивляться появлению в доме посторонних лиц.
Пока Шидловский произносил в абсолютной тишине произносил свой монолог, Алексей Иванович вглядывался в лица присутствующих. От него не укрылась, что реакция их была различной. Мать погибшего Николая, несколько располневшая, но все еще красивая женщина с выражением безысходной скорби на лице, опустила глаза и как-то отрешенно рассматривала узоры добротного паркетного пола. Шумилову показалось, что она словно бы и не удивилась появлению прокурорских чинов в ее доме; скорее всего, она имела какой-то разговор с мужем о предстоящих испытаниях и ждала чего-то в этом роде. Полковник Прознанский был бледен и скорее всего чувствовал себя глубоко униженным. В самом деле, это он являлся прежде черным ангелом возмездия в дома террористов, осуществлял обыски, выемки и аресты, а теперь в его собственном доме будет проводиться то же самое! Такое еще надо стерпеть! Но полковник полностью владел собой и ничем не выразил своих переживаний. Алексей и Наденька, брат и сестра покойного, были изумлены, в их лицах читалась оторопь. Гувернантка, м-ль Жюжеван, стояла с глазами, полными слёз; не успел Шидловский закончить свою речь, как она поднесла платок к губам и Шумилов увидел, что подбородок ее мелко-мелко задрожал. Француженка, видимо, ничего об отравлении не знала и в эти минуты пережила шок. Слуги — три молодых простолюдинки, ширококостные и русоволосые — стояли точно соляные столбы, опустив глаза. Они, видимо, тоже были поражены услышанным, хотя казались безучастными. Просто, как и многие зависимые от работодателя люди, они боялись своей реакцией вызвать раздражение хозяев; Шумилову подобная непроницаемость слуг была хорошо знакома. Доктор Николаевский выглядел отстранённым и спокойным. Пока Шидловский говорил, он дважды переглянулся с Шумиловым.
Наступила пауза. Не давая ей затянуться, полковник произнес:
— Господа, квартира в вашем полном распоряжении. Все мы окажем Вам всемерное содействие. Я сам провожу вас в комнату Николая, ведь вы захотите начинать обыск оттуда?
Прознанский не задумываясь употребил слово «обыск», которого сам Шидловский, щадя чувства родных покойного, всячески избегал. Но полковник, видимо, не обратил ни малейшего внимания на эту деликатность.
Слуги отправились на кухню, дети с гувернанткой — в музыкальную гостиную, а Шумилов пошел на лестницу звать полицейских, до той поры не входивших в квартиру. Вместе с полицейскими за дверью стояли и понятые — старший домовой дворник и два его помощника — все трое здоровые мужики, кровь с молоком. Шумилов, краем глаза посмотревший на них, отметил их молодость: в дворники согласно полицейской инструкции набирали отслуживших солдат, поэтому как правило это были мужчины лет пятидесяти и даже старше. Дворники же в доме Прознанского были явно моложе. В ту минуту Шумилов не придал особого значения своему наблюдению, хотя впоследствии вспомнил о нем.
Полковник с женой под руку, доктор с Вадимом Даниловичем во главе тем временем прошли в дальнюю комнату, ту самую, где провел свои последние дни Николай Прознанский. Это была уютная, обставленная добротной мебелью и, в общем-то, обыкновенная комната студента. Два книжных шкафа, письменный стол, этажерка с экзотическими безделицами — камнями, раковинами, курительными трубками, портрет некоего импозантного мужчины с каким-то словно онемевшим лицом, множество дагеротипов рамках по стенам. У стены, противоположной окну, рядом с печным углом стояла заправленная металлическая односпальная кровать.
— Это комната Николая, здесь он находился во время болезни, здесь же мы его нашли в то утро… — голос Софьи Платоновны задрожал, она сделала судорожное движение и, поддержанная мужем, опустилась на стул.
На пороге комнаты появились понятые и околоточный, они заглядывали через дверной проем, но внутрь не заходили, дабы не создавать лишней толчеи. Последовали привычные для этой процедуры вопросы: куда выходит окно? передвигалась ли кровать? курил ли покойный? какой табак? принимал ли гостей в своей комнате? Шумилов, обойдя комнату по периметру, осмотрел окно, всё ещё закрытое на зиму и присел к столу, собираясь приступить к составлению протокола осмотра и акта об изъятии личных бумаг покойного.
Его внимание привлек довольно большой, грамм на сто, конический пузырек темного стекла, аккуратно задвинутый за чернильный прибор на тумбочке у изголовья кровати и потому почти незаметный со стороны.
— Скажите, доктор, а что это такое? — Шумилов подал Николаевскому свою находку. Врач аккуратно отвернул плотно притертую пробку и принюхался. Он не успел ответить, Софья Платоновна опередила доктора:
— Этот пузырек с микстурой для Николаши, он ведь болел краснухой. Эту микстуру прописал Николай Ильич и мы тщательно следили, чтобы она принималась вовремя. Молодежь, сами знаете, не очень-то аккуратна в этом смысле.
— И когда он принял её в последний раз?
— Накануне с…, — Софья Платоновна запнулась, — случившегося, то есть вечером 17-го. Мадмуазель Мари, гувернантка, подала их Николаше. Она на другой день сама об этом рассказала, да вы у неё спросите.
— Видите ли, господа, — вклинился в разговор доктор, — должен заметить, что эта микстура совсем не похожа на ту, что я прописывал Николаю. У неё должен быть ярко выраженный травяной запах и вкус, а эта ничем таким не пахнет, убедитесь сами.
Шумилов взял у доктора склянку и осторожно понюхал содержимое.
— Да, действительно, никакого травяного запаха.
— Забери это для анализа, — распорядился Шидловский, внимательно следивший за разговором.
— Я сразу обратил внимание, что микстура страно пахнет, вернее на то, что у неё нет присущего ей запаха. Да, сразу же, когда приехал утром 18-го, — продолжал доктор.
— И тогда я забрала этот пузырек в свою комнату, — Софья Платоновна говорила словно через силу, было видно, что каждое слово ей дается с трудом.
«Это довольно-таки жестоко — заставлять мать переживать все заново, и это сейчас, когда сына едва успели похоронить,» — подумал Алексей Иванович, но это были те сантименты, которые он никогда бы не осмелился повторить вслух. Вместо этого Шумилов спросил:
— А почему Вы, Софья Платоновна, забрали пузырек в свою комнату, почему просто не выкинули?
Женщина мелко затрясла головой, кудри, небрежно уложенные в прическу, казалось, были готовы сейчас рассыпаться:
— Я не знаю, не знаю!.. возможно, я предчувствовала что-то нехорошее… Мне казалось, будет лучше, если микстура постоит у меня, в целости и сохранности. Правда, потом, когда через 2 дня доктор заехал опять и увидел, что пузырька нет на месте, я вернула его на николашину тумбочку. Так она с тех пор и стоит тут.
— Да, — подтвердил доктор, — в тот день должно было состояться анатомирование тела Николая, и я решил по пути проведать Софью Платоновну, у нее в силу очевидных причин было плохое самочувствие, — с этими словами доктор посмотрел на хозяйку дома, — Правда, было еще одно обстоятельство… Знаете, в моей практике подобных инцидентов — когда больной внезапно умирает без видимых на то причин — я даже не припомню, это нонсенс. Конечно, я задавал себе вопрос — правильны ли были мои назначения, нет ли тут моей вины. Понимаете? Меня это очень беспокоило. И поэтому я хотел еще раз проверить все препараты, которые принимал Николай. Не обнаружив микстуры, я спросил у Софьи Платоновны и, узнав, что она хранилась эти дни в ее комнате, попросил вернуть флакон на место… Как чувствовал, что это может оказаться важным.
— Скажите, Софья Платоновна, — тут включился в разговор Шидловский, — а эта комната стояла закрытой после смерти Николая? Мы можем быть в этом уверены?
— Нет, что Вы, — как-то смешалась Софья Платоновна. Она, казалось, совсем не ожидала такого вопроса, — Нет, мы не стали её закрывать, в этом совершенно не было нужды. В ней ночевала мадемуазель Мари.
В воздухе повис невысказанный вопрос, и тогда Софья Платоновна, будто спохватившись, пояснила:
— Наша гувернантка, мадемуазель Мари, вообще-то живет на своей квартире и каждый день приходит заниматься с детьми. В то утро, — она запнулась, — узнав страшную новость, она сразу же приехала и оставалась у нас вплоть до похорон. И ночевала в николашиной комнате.
— Мадемуазель Жюжеван уже пять лет воспитывает наших детей, — вмешался молчавший до того полковник и его слова зазвучали очень весомо, — она — близкий и ценимый всеми человек, как член семьи. Раньше она постоянно жила в нашем доме, но когда Николай поступил в университет, нагрузка мадемуазель стала существенно меньше, у неё образовалось свободное время и, с нашего согласия, она стала давать уроки в других семействах и съехала на отдельную квартиру. Но у нас она, конечно, проводила большую часть дня.
Между тем обыск продолжался. Найденные в письменном столе записки, письма, разрозненные бумаги покойного собрали в картонную коробку, их оказалось не так уж и много. В углу комнаты стоял запертый на замок шкаф. Небольшой латунный ключик нашелся в выдвижном ящике письменного стола в лаковой палехской шкатулке.
— Это химический шкафчик Николая, — пояснил полковник, — Он последние год-полтора очень увлекался химией, всё экспериментровал.
Открыв шкаф, Алексей Иванович увидел ряды баночек, скляночек, пузырьков, пробирок, колб и реторт. Здесь же были спиртовка, большой ком ваты в картонной коробке, кусок черного дегтярного мыла. В коробке из-под монпансье лежало множество бумажек, свёрнутых в виде медицинских конвертиков, в которых больным дают порошки в больницах. Почти все склянки были с этикетками, на которых от руки были выведениы латинские названия. В шкафу Николая Прознанского хранилась настоящая химическая лаборатория, причем очень дорогая, если судить по немецким клеймам на стекле.
— М-да, — Шидловский только головой покачал, рассматривая содержимое шкафа, — Забирай-ка всё это на экспертизу, Алексей Иванович.
Шумилов сел писать перечень изымаемого имущества.
— А Вы, Дмитрий Павлович, — обратился между тем помощник прокурора к полковнику, — не могли бы мне сказать, есть ли в Вашем доме морфий?
Полковник быстро и прямо взглянул в лицо Шидловскому:
— Да, есть. Но он в недоступном месте, заперт в моем кабинете. Знаете ли, когда в доме дети… Это в целях безопасности.
— Могли бы Вы мне его показать?
— Разумеется, прошу за мной.
Они вышли, но дверь не прикрыли и Шумилов, продолжавший писать, мог слышать продолжение разговора.
— Скажите пожалуйста, Дмитрий Павлович, — продолжал допытываться Шидловский, — а его не могли взять 17-го числа без вашего ведома?
— Нет, однозначно нет. По целому ряду причин. Достаточно сказать, что 17-е апреля было воскресенье, я был весь день дома, практически все время провёл в кабинете. Да и гость у меня был, Леонард Францевич Польшаун, мы весь вечер провели с ним. В восемь часов подали ужин, к нам присоединилась мадемуазель Мари. Потом мы опять разошлись — она пошла в комнату к Николаю — потому как она весь день за ним ухаживала, а мы вернулись в кабинет. Польшаун уехал около 23-х часов, а Жюжеван — примерно в четверть двенадцатого.
— Есть ещё какая-то причина Вашей уверенности? — спросил Шидловский.
— Скажем так, Вадим Данилович, по роду своей службы я охраняю самые важные секреты, как других людей, доверившихся мне, так и государственные. От того, сколь хорошо я буду хранить эти секреты, зависят жизни множества людей. В буквальном смысле, это не метафора. Если Вы думаете, что в моём собственном доме может быть какой-то непорядок, что из моего собственного кабинета можно что-то незаметно украсть, то… Вы глубоко ошибаетесь.
В интонациях полковника проскальзывали недовольные и даже сердитые нотки. Шидловский, видимо, вызвал его раздражение. Да это и понятно — кому покажется приятной мысль о том, что ребёнок погиб от яда, хранящегося в отцовском шкафу? Шумилов же, слышавший этот ответ от первого слова до последнего, почему-то подумал, что жандармский полковник был, конечно, человек неглупый, но весьма самонадеянный.
Пока становой аккуратно упаковывал в коробки содержимое химического шкафчика (Шумилов вкладывал внутрь опись и опечатывал каждую коробку), доктор Николаевский обратился к Шидловскому:
— Господин помощник прокурора, должен заявить, что в доме должен быть еще морфий. Правда, в составе капель от бессонницы, которые я прописывал Софье Платоновне еще в начале апреля. Но там морфия совсем незначительное количество, его невозможно было использовать как яд.
— Да, это так, сейчас я их принесу, — с этими словами Софья Платоновна поднялась с стула и вышла из комнаты. Через минуту она вернулась, держа в руках аптечный пузырек с оттопыренной бумажкой, приделанной к горлышку флакона.
Шидловский внимательно рассмотрел принесенные капли. Флакон был почти не тронут. Было очевидно, что если их и употребляли, то не больше одного-двух раз.
— Капли заказали в аптеке по рецепту Николая Ильича, а забрала их мадемуазель Мари, это было еще числа 11–12 апреля.
— Скажите, а она вообще часто выполняет подобные поручения? — спросил Алексей Иванович. Возможно, ему не следовало вмешиваться в этот разговор, но как показалось Шумилову, подобные услуги не входят в число обязанностей гувернантки.
Софья Платоновна, угадав ход его мысли, поспешила дать подробное разъяснение:
— Мадемуазель Жюжеван не просто гувернантка в нашем доме. — она замолчала, видимо, тщательно подбирая слова, — Мы относимся к ней, как к члену семьи, мы ей всегда доверяли, в конце-концов, на её глазах росли наши дети. Всё-таки 5 лет, согласитесь, срок немалый. Она ведь и жила в нашем доме, причем довольно долго жила. И, заметьте, на полном пансионе, как говорится. Благодаря нам она заработала неплохие деньги, уверяю вас, стала, наконец, самостоятельной женщиной. И что же тут удивительного, если ей хочется быть полезной людям, которые всегда были к ней столь расположены?
Вопрос был риторический, он и прозвучал не как вопрос, а скорее как оправдание.
«Да, видимо, и в самом деле положение этой француженки в доме было не совсем обычно, — подумал Шумилов, — Выполняет почти интимные поручения хозяйки, долгое время живет в семье… именно она, а не мать, сидит целыми днями у постели больного Николая. А потом ее оставляют ночевать в спальне умершего. Надо будет повнимательнее присмотреться к этой даме.»
А вслух он сказал совсем другое:
— Вы упомянули, что в день смерти она приехала к вам с утра. Это был её запланированный визит? И о смерти Николая она узнала уже здесь?
— Нет, совсем не так, — Софья Платоновна подняла на Шидловского красные глаза и, обращаясь более к нему, а не к Шумилову, продолжала, — в тот день она должна была приехать только к обеду, потому что у нее с утра уроки в других домах. Но ее привёз ротмистр Бергер, он в то утро уже побывал у нас и знал о случившемся. Он и рассказал ей. Так что, когда она приехала, то уже все знала.
— А в котором часу это было?
— Она приехала что-то около полудня. Ее привез Бергер и сразу же уехал.
— Софья Платоновна, а как вообще прошло то утро? Хозяйка дома, вертя в руках носовой платок, прерывисто дыша, начала:
— Часов около 9-ти я зашла в николашину комнату. Там было очень тихо, я ещё удивилась, он просыпался обычно сам не позже 8-и утра. Раздвинула гардины и увидела, что он… неестественно так лежит…, рот приоткрыт, шея выгнута. Я тронула, а он уже почти остыл. Дальше я слабо помню…
— Я услышал крики, — продолжил полковник, — сбежались все, кроме Надежды, она уже в гимназию отправилась. Ну, послал за доктором, конечно. Вскоре за мной заехал ротмистр Бергер, он каждое утро сопровождает меня на службу. Но я на службу в тот день не поехал, отправил ротмистра с поручениями. А он по пути в штаб встретил на улице мадемуазель Мари и доставил её к нам. Вот, собственно, всё.
Осмотрев остальные комнаты этой большой квартиры, упаковав найденный подозрительный флакон и сонные капли г-жи Прознанской, а также содержимое химического шкафчика и бумаги покойного, составив подробный протокол осмотра и акт изъятия, Шумилов в сопровождении полицейского отправился в прокуратуру. Шидловский задержался еще на некоторое время, уединившись с полковником в кабинете.
Весь остаток дня ушёл у Шумилова на составление необходимых для назначния экспертизы бумаг. Химикаты и микстуры были отправлены в лабораторию Департамента полиции для исследования. Результаты можно было ждать не раннее послезавтрашнего дня.
Шидловский до конца дня на своём рабочем месте так и не появился.
Утомленный писаниной и мрачными впечатлениями долгого дня, Алексей Иванович, с удовольствием сбежал с работы чуть раньше положенного. Без четверти пять он уже шагал по многолюдным питерским улицам. Теплый ветер приятно обдувал лицо, качал пробивавшуюся на газонах робкую траву. «Ну, вот, — думал молодой сыщик, — морфий, кажется, нашли, а ответов не прибавилось. Но если окажется, что в склянке из-под микстуры действительно находится яд, то можно ли считать, что наливший его туда является убийцей? Кого юридически корректно следует считать преступником: наливающего яд в сосуд или подающего сосуд жертве? Если между ними сговор — все ясно, эти люди соучастники. Но если один использует другого втемную? Ничего-с, подождем, терпение и труд виновного до суда доведут…» — уговаривал сам себя Шумилов.
3
Апрель перевалил в свою последнюю треть и в городе чувствовалась долгожданная весна. По утрам лужи еще бывали иногда схвачены тонкими стекляшками льда, но зато днем все кричало о весне — влажный ветер с Невы нес привет из теплых краев, городская живность выбиралась погреться на солнышке, воробьи устраивали шумное неистовое вече на пока еще голых ветвях тополей в Александровском саду. Радостно и обновлённо смотрели на город уже старательно намытые окна зданий.
Хотелось за город, на природу, не было ни малейшего желания работать. Явившись утром в прокуратуру, Алексей Иванович через силу заставил себя углубиться в изучение писем и прочих бумаг, изъятых давеча во время обыска в доме Прознанских. Это были тетрадки с химическими формулами, большое количество невразумительных коротких писем и записок от приятелей, типа «Ты не забыл? Сегодня у Виневитинова, в 18» или «Николай, мы ждали тебя до последнего. Ищи нас у Маркова». Некоторые записки были на французском. Алексей Иванович обратил внимание, что содержание многих записок было совершенно вздорным и они явно были написаны под воздействием минуты. Покойный молодой человек был, видимо, большим формалистом, раз сохранял не содержащие ничего значительного записки.
Шумилов сразу отложил в сторону две тетрадки с химическими формулами, решив показать их Цизеку. Конечно, можно было назначить официальную экспертизу с привлечением специалистов-химиков (возможно, это еще придется сделать), но в начале расследования Шумилова интересовало суждение приватное, неофициальное, не поставленное в ограничительные рамки юридической нормы, возможно, даже в чем-то интуитивное. Честнейший немец был как раз тем человеком, который мог посмотреть записи Николая Прознанского глазами человека с одной стороны компетентного, а с другой — не скованного никакими официальными рамками.
Содержание архива, который попал в руки Шумилова, доказывало то, что в доказательстве особо и не нуждалось: у Николая были приятели, с которыми он встречался в неформальной, так сказать, обстановке. Молодые люди куда-то вместе ездили — обедали, посещали театр, катались в гости друг к другу, развлекались, одним словом. Обычное дело для студента из обеспеченной семьи. «Вообще-то не мешало бы поговорить со всеми этими юношами. Они наверняка смогли бы немало порассказать, что за человек был Николай Прознанский», — подумал Алексей Иванович.
Одно из писем, извлеченное из стопки бумаг, привлекло его внимание. Конверт слабо благоухал. «Не иначе от женщины», — догадался Шумилов. Это действительно было дамское письмо — но от зрелой женщины или юной девушки по почерку было и не понять. Шумилов заглянул в конверт, выудил из него сложенный втрое листок. Письмо было было совсем коротким, а принимая во внимание его содержание, даже оскорбительно-коротким:
«Уважаемый Николай!
Извините, не могу обратиться к Вам «дорогой». Для меня очевидно, что Вы не тот человек, с которым я смогу когда-либо взлететь на облака счастья и связать навеки свою жизнь. Мы слишком разные и не созданы друг для друга, но я уверена, что есть в мире сердце, способное биться в унисон с моим. Не сомневаюсь, что и вы ещё найдете свою любовь и будете счастливы.
Прощайте. Не ищите встреч со мной, это лишено смысла. В. П.»
Алексей Иванович задумался: «Как пошло пишут эти экзальтированные барышни — „взлететь на облака счастья“, „сердце, бьющееся в унисон“ — наверное, начиталась романтических бредней». Казалось очевидным, что это письмо от девушки, с которой у Николая завязывались было, но так и не сложились романтические отношения. Причем, по-видимому, это была девушка его круга, об этом свидетельствовал изящный летящий почерк, отсутствие грамматических ошибок, дорогая веленовая бумага и книжные обороты речи. Вряд ли у девушки, вынужденной зарабатывать на жизнь, было бы время увлекаться романами и столь бесцеремонно давать от ворот поворот такому ухажеру как покойный Николай Прознанский. Алексей Иванович посмотрел на дату под текстом — «март, 18-е.». Года не было, но сомнений быть не могло, что письмо написано весной 1878 г., т. е. именно этого года, поскольку аромат духов был все еще очень явственным. Что же это получалось? Нежные чувства Николая были отвергнуты ровно за месяц до смерти. Случайность?
Вадим Данилович Шидловский, помощник окружного прокурора Санкт-Петербургского судебного округа, прибыл на службу несколько позже обычного и притом в дурном расположении духа. Еще из-за двери Шумилов услышал его раздраженный басок, который ворчал: «Извозчики, шельмы, не смотрят, кого везут. Остановился, подлец, прямо посреди лужи. Ему не подъехать, видишь ли! Ну, да только со мной такой номер не проходит!» Ему что-то невнятно ответили и через секунду Шидловский уже заглядывал в кабинет, где сидели «его» четыре делопроизводителя, в их числе и Шумилов.
Довольно небрежно поздоровавшись общим кивком со всеми чиновниками, вскочившими при появлении начальника, Шидловский сразу обратился к Шумилову, что свидетельствовало о важности дела, которым занимался последний.
— Так-так, бумаги просматриваете? Помощь нужна? Успеваете? — шеф был верен себе, задавая вопросы, не подразумевавшие корректного ответа. В самом деле, как и куда можно было успеть, если никаких сроков назначено не было?
— Помощь не нужна, справляюсь, Вадим Данилович, — ответил Шумилов.
— А как с протоколом по обыску? Готов? Акты изъятия химикалий переписаны? Подшиты? (Шумилов едва успевал кивать) И когда будут результаты анализов лекарств и реактивов покойного?
— Подождём денька два-три, Вадим Данилович.
— Что так долго? Надо скорее, дело нерядовое…
Только вчера был разговор о том, сколько времени потребуется для исследования веществ из домашней лаборатории покойного, а теперь драгоценный шеф делает вид, будто всё позабыл. Может, и вправду позабыл?
— Там ведь целый шкаф этих склянок, — заметил Шумилов.
— А как насчет бумаг? — мысли шефа совершили полный круг и вернулись к той точке, с которой начинали свое движение.
— Обычные записки от приятелей, две тетрадки с химическими формулами — ничего особенного. Но… нашлось любопытное письмецо — барышня дает Николаю Прознанскому от ворот поворот. Датировано 18 марта, за месяц до смерти. Девушка была, видимо, его круга, хотя пока фамилия её нам неизвестна, — с этими словами Шумилов положил перед Шидловским надушенный листок из конверта.
Нацепив на переносицу пенсне, которое смотрелись нелепо, как нечто инородное на отёчном лице помощника окружного прокурора, Вадим Данилович сначала понюхал край листа и только затем пробежал глазами текст. Задумавшись на несколько секунд, он произнес:
— Эти «Гранжан» во французском магазине Дюрема на Литейном стоят пять рублей грамм. М-да, надо бы про девицу эту разузнать и друзей его аккуратно расспросить. Тут такое дело… — он неожиданно для Шумилова понизил голос и заговорил со столь свойственной ему серьезной почтительностью, как о чем-то чрезвычайном и значительном, — вчера Прознанский-старший такое мне порассказал!.. В начале апреля в Канцелярию градоначальника пришло анонимное послание о том, что, якобы, Николай Прознанский состоит членом радикальной молодежной группы. Сами понимаете, Алексей Иванович, дело это нешуточное, особенно в свете недавних событий.
Шидловский пронзительно глянул в глаза Шумилову, словно оценивая, понимает ли тот нешутошность дела. Видимо, увиденное не вполне устроило помощника окружного прокурора, поскольку Шидловский поспешил объяснить:
— Я имею ввиду январский выстрел Засулич, ведь и времени прошло всего ничего! Может, при других обстоятельствах никто и внимания бы не обратил на анонимку, да только не теперь. Да и папаша юнца, полковник Прознанский — не последняя фигура нашей тайной полиции, это не следует упускать из вида. Шутка ли — он обеспечивает безопасность высочайших персон! А от этих радикалов всего можно ждать, у них же ничего святого! — голос Вадима Данилыча опустился до возмущенного шёпота, — Ну, сами понимаете, поднялся переполох, занялись официальной проверкой сообщения, а заодно и неофициальной, подняли на ноги агентов, осведомителей… Прознанского вызывал правитель Канцелярии градоначальника Сергей Фёдорович Христианович на, так сказать, доверительную беседу. Правда, никаких следов этой самой молодежной группы пока не обнаружено.
Шидловский опять взял паузу, испытующе глядя в глаза своего подчиненного.
— А теперь вот странная смерть мальчишки. Сначала анонимка, а меньше чем через три недели — отравление. Кто знает, может статься, умер он неспроста. Быть может, мы ещё увидим в этом деле руку этих самых радикалов-нигилистов, будь они неладны. Помните дело нечаевцев? Те ведь тоже своего дружка убили. И ведь ни за что ровным счетом. Якобы, за то, что выйти хотел из организации, хотя на самом деле не думал Иванов порывать с Нечаевым. Ох, смутные времена!.. Короче, так, Алексей Иванович: поезжайте в Канцелярию градоначальника, испросите у них эту анонимку или копию. Хотя, пожалуй, лучше я сам поеду. Документ важный, вам могут не дать. Надо будет его к делу приобщать. Николай-то ведь не мог принять яд по неосторожности, уход за ним был аккуратный. Значит, был чей-то умысел, — Шидловский задумался, глядя в окно и произнес эти последние слова медленно, как бы рассуждая вслух, — Но, впрочем, дождемся результатов исследования содержимого его химического шкафа. И опять-таки, флакон с микстурой оказался наполнен непонятно чем…
Было видно, что Шидловский потерял нить рассуждений. Его нельзя было назвать глупым человеком, просто он был рассеян и внимание его легко переключалось на новые впечатления и мысли (если не было новых — на старые, но забытые). Шидловский прекрасно был осведомлён о собственном пороке и именно поэтому всегда свои судебные выступления читал по подробному конспекту.
— Для меня, Вадим Данилович, какие-то поручения у Вас будут? — спросил Шумилов.
— Да, ты вот чем займись, — присмотрись-ка к этой гувернантке. Похоже, она мальчишку хорошо знала. И многое может порассказать. Поговори с ней приватно, без записи.
С этими словами Шидловский поднялся, давая понять, что приступать к выполнению этого поручения Шумилову надлежит немедля. Алексея Ивановича не надо было уговаривать, его активная натура требовала действия, сидение в пыльном кабинете наводило тоску. Шидловский закончил было с ним разговор и перешел к столу другого делопроизводителя, но, вспомнив о чем-то, воздел указующий перст к потолку:
— Да, вот еще, Алексей Иваныч, любезный, чуть не забыл… Ты не распространяйся о той истории с саквояжем. Не стоит предавать её огласке — пятнать репутацию доктора… и потом, кража эта — чистая случайность. Полковник Прознанский за доктора попросил, а значит со стороны семьи покойного никаких жалоб не будет. Ну, и нам лишней крови не надо. Как думаешь, Алексей?
Это обращение на «ты» и почти родственное «Алексей» было сигналом особого доверия начальника. Такую просьбу-приказ не уважить было просто немыслимо, да, в конце-концов, и смысла перечить Шидловскому не было ни малейшего.
— Понимаю, Вадим Данилович, — кивнул Шумилов.
А Вадим Данилович, приосанившись, тщательно осмотрел себя в зеркале — не забрызганы ли, часом, грязью его штиблеты и достаточно ли выглядывают из рукавов мундира крахмальные манжеты.
4
Покинув здание прокуратуры Алексей Иванович Шумилов направился на квартиру Прознанских. Как ни тягостно было вновь окунаться в атмосферу горя, но именно там можно и нужно было узнать, с кем дружил Николай и кто скрывался за таинственной подписью «В.П.». Кроме того, обязательно следовало поговорить с этой француженкой, гувернанткой. Именно она ухаживала за больным Николаем, именно она давала ему в последний раз лекарство.
Из головы Шумилова не шел зеленый пузырек из-под микстуры, в котором почему-то оказалась совсем не микстура. Странно, что пузырек, из которого Жюжеван поила Николая, сохранился. То есть странность заключалась даже не в этом, а в том, что пузырек после смерти Николая Прознанского сначала исчез (мамаша унесла, якобы, к себе, для чего спрашивается?), потом появился (по просьбе доктора), а потом оказался наполнен чем-то, что не было микстурой. Если в этом пузырьке действительно яд (что весьма вероятно), то почему отравитель не озаботился его уничтожением? Для отравителя первая задача — это сокрытие истинного пути попадания яда в организм жертвы. Никто особо за пузырьком не присматривал. Жюжеван имела доступ к нему в течение продолжительного времени после того, как по настоянию доктора пузырек вернулся на свое законное место в спальне Николая. Впрочем, и остальные члены семьи имели точно такой же доступ. Нет ли в этом продуманной инсценировки? Другими словами, не выставлен ли злоумышленником этот пузырек напоказ в расчёте на то, что следствие вцепится в него, как дурная собака в палку?
Шумилов беспрепятственно вошёл в подъезд дома, где находилась квартира Прознанских, и начал было подниматься по лестнице, как вдруг услышал за своей спиной покашливание. Никто следом за Шумиловым в подъезд не заходил, однако, за спиной у него безо всяких сомнений находился человек. Шумилов оглянулся и не без удивления увидел одного из понятых, присутствовавших во время обыска в квартире Прознанских; теперь молодой мужчина был одет в шитую золотом ливрею и начищенные сапоги из красной кожи. Он выглядывал из небольшого закутка в углу площадки первого этажа, искусно замаскированного большим витражным стеклом и небольшой дверью. Ни сейчас, ни во время первого посещения дома, Шумилов даже не заподозрил, что там может находиться швейцар.
— Здравствуйте, Алексей Иванович, — ловко щелкнув каблуками, поприветствовал его швейцар.
— Здравствуйте, Са… Са…, — Шумилов постарался припомнить фамилию понятого, благо сам же не меньше трех раз ее записывал.
— Сабанеев, — подсказал мужчина в ливрее.
— Я к господину полковнику, — Шумилов сделал было шаг вверх по лестнице, но вдруг решил не спешить и спустился вниз, — Послушайте, Сабанеев, Вы регулярно находитесь здесь?
— По мере необходимости, — уклончиво ответил швейцар.
Что-то неуловимо подозрительное чувствовалось в поведении этого человека. Шумилов поймал себя на мысли, что и в прошлый раз, поглядев на дворников этого дома, испытал некое смутное беспокойство.
— Вы давно работаете здесь?
— Полтора года-с.
— К покойному Николаю Прознанскому часто приходили друзья?
— Бывали-с, как часто, ответить затрудняюсь, — опять уклончиво ответил швейцар.
Теперь Шумилов уверенно мог сказать, что именно настораживало его в этом человеке: тот нисколько не боялся работника окружной прокуратуры. Шумилов не то чтобы привык наводить на людей ужас, просто он хорошо знал, что от человека в мундире министерства юстиции не отмахнется даже генерал, что ж тут говорить о людях неблагородного сословия! Дворники, швейцары, разносчики, торговцы с лотков, поденные рабочие перед прокурорским мундиром трепетали, ибо обладатель его согласно законам Империи был могущественнее самого страшного околоточного и даже станового полицейского. Но в данном случае швейцар в красных сапогах был учтив, но абсолютно равнодушен.
— Девушки среди них бывали?
— Не могу ответить. Обратитесь с этим вопросом к его превосходительству полковнику Прознанскому.
Со стороны швейцара такой ответ был уже верхом нахальства, хотя и вполне корректного по форме. Шумилову стало по-настоящему интересно:
— А если я официально вызову тебя на допрос и спрошу об этом?
— Сие невозможно-с, — после секундного колебания ответил швейцар, — Я не подлежу допросу.
Несмотря на корявость формулировки, Шумилов понял, что тот хотел сказать. Сабанеев был штатным сотрудником Третьего отделения, легендированным в «швейцара», и в случае официального вызова на допрос ему бы пришлось либо сообщить о себе ложные сведения (тем самым совершив уголовно наказуемое в России деяние), либо разоблачать себя. На последнее он не мог пойти, не получив предварительно санкции руководства. Все легендированные сотрудники особо инструктировались на этот счет. Существовала особая, весьма громоздкая и сложная, процедура допроса таких лиц и привлечения их к расследованию в качестве свидетелей; в любом случае, решение этого вопроса осуществлялось на уровне обер-прокурора и занимало не одну неделю. Нетрудно догадаться, что Третье отделение Его Императорского Величества канцелярии чрезвычайно не любило расшифровывать своих агентов и секретных сотрудников и всякий раз шло на это с величайшим сопротивлением.
— Тьфу, Сабанеев, что ты меня морочишь, — воскликнул Шумилов, — Так бы сразу и сказал. Остальные двое тоже?
— Так точно-с.
Теперь все стало на свои места. Стало понятно, почему в доме полковника Прознанского были такие крепкие и моложавые дворники. Шумилов лишь укорил самого себя за то, что не понял этого сразу. Случайное открытие Шумилова имело по крайней мере один большой плюс: теперь можно было быть абсолютно уверенным в том, что квартира жандармского полковника хорошо охранялась и злоумышленник не мог проникнуть туда незаметно. Если кто-то и подсыпал Николаю яд, то делал он это лишь придя в дом под личиной друга. Или брата. Или слуги…
— Подумайте хорошенько, Сабанеев, накануне смерти Николая Прознанского, то есть вечером 17 апреля, у него собирались друзья-студенты? — спросил Шумилов.
— Тут и думать нечего. Вечером накануне гостей у молодого Прознанского не было, — уверенно ответил швейцар, — Когда стало известно о смерти Николая Дмитриевича мы все — старший дворник и помощники — собрались и обсудили случившееся, вспоминали, кто что и когда видел подозрительное. Так что про вечер семнадцатого могу заявить с уверенностью и за себя, и за других: гостей не было. Гости были днем ранее, шестнадцатого числа, но днём и недолго.
— Сабанеев, Вы сказали, что вспоминали подозрительные моменты. А что, были такие? — уточнил Шумилов.
— Никак нет-с. Всё как у всех, обычная семья.
Расставшись, наконец, с «швейцаром», Шумилов поднялся к массивной дубовой двери в квартиру Прознанских и тренькнул звонком. На звонок колокольчика дверь отворила горничная в накрахмаленном черном переднике. Сама хозяйка, Софья Платоновна, одетая в строгое черное платье, встретила Шумилова в большой комнате, в которой накануне Шидловской обращался к жителям квартиры. Платье ей не шло, лицо казалось бескровным, блёклым (хотя, кому идет траур?). Но глаза женщины утратили вчерашнюю красноту и опухлость, что свидетельствовало о нормальном сне. Она не выразила особого энтузиазма при виде Алексея Ивановича, по лицу пробежала тень, но безропотно согласилась ответить на все вопросы, ведь это все же было лучше, чем приезжать самой в прокуратуру для дачи показаний.
Шумилов был усажен в роскошное, но чрезвычайно неудобное, с высокой спинкой кресло, которое впивалось в спину.
«Что же там может так давить?» — думал про себя Шумилов. В комнату откуда-то из глубины квартиры доносились звуки рояля. Кто-то разучивал мазурку Глинки, старательно повторяя по несколько раз отдельные места.
— Софья Платоновна, возможно, мои вопросы покажутся Вам травмирующими, прошу заранее Вашего прощения.
— Для меня сейчас сама жизнь травмирующая, — спокойно отозвалась женщина. Шумилов поймал себя на мысли, что она чрезвычайно хорошо владеет собой.
— Расскажите мне, пожалуйста, о Николае. На каком факультет он учился, чем увлекался кроме химии?
— Николаша поступил на юридический — на том настоял отец. Да. Химию любил, литературу, много читал. Вы обратили внимание, сколько книг в его комнате? Это он сам их покупал, любил захаживать в книжные лавки. Он вообще был очень умным, начитанным мальчиком.
— А с кем он дружил и много ли времени проводил вне дома?
— Да нет, он вообще был… домашним мальчиком. Конечно, последние год — полтора он проводил в компании друзей больше времени. Это всё были молодые люди нашего круга — Пётр Спешнев, Владимир Соловко, Андрей Штром. У нас они частенько бывали. Конечно, они и развлекались вместе — как обычно развлекаются — театр, обеды, именины, зимой — горки…
— Они и учились вместе с Николаем?
— Спешнев и Соловко — да, тоже на юридическом. А Штром, по-моему, занимался естественными науками.
— А вы не могли бы сообщить мне их адреса? — Алексей Иванович быстро записал на отдельном листе продиктованные адреса, — Скажите, Софья Платоновна, а были ли в жизни Николая романтические увлечения? Мы нашли среди его бумаг письмо от девушки, подписанное «В.П.»
— Это, по-видимому, Вера Пожалостина. Только я вас прошу, — Софья Платоновна посмотрела на Алексея Ивановича в упор, дабы убедиться, что он понимает серьезность момента, — не упоминайте её имени, пожалуйста. Она дочь почтенных родителей, отец — действительный тайный советник, имеет право прямого доклада Государю, матушка старинного уважаемого рода. Скомпрометировать юную девушку легко, а я себе этого не прощу. Да тем более, что и не было никаких отношений у Николаши с Верой, о которых можно было бы всерьёз толковать. Я вас очень прошу, Алексей Иванович, — для пущей убедительности своей просьбы Софья Платоновна коснулась рукой рукава Шумилова.
Алексей Иванович неловко кашлянул и со всей возможной почтительностью, на которую только был способен, ответил:
— Обещаю, Софья Платоновна, что без самой крайней нужды имя этой барышни оглашено не будет. По крайней мере я приложу к этому все усилия. А как протекала болезнь Николая?
— Ну, он заболел краснухой. Знаете, это вообще-то детская болезнь, но если заболевает взрослый человек, она протекает долго и мучительно. Коленька никак не мог поправиться, у него через 2 недели после начала болезни сильно распухли лимфатические узлы под ушами, в подмышках, но Николай Ильич, наш доктор, сказал, что это просто такое осложнение, организм борется. А когда переборет, Николаша сразу пойдет на поправку. Мы доктору вполне доверяем, он знает… — она исправилась, — знал Коленьку с младенчества. И его лечение всегда помогало.
— А ничего необычного не было в последние дни перед кончиной?
— Да вы знаете, вроде бы ничего такого не происходило, но меня пугало выражение его глаз.
— Что вы имеете ввиду?
— Ну, не знаю. Что-то пугало. Он как-то так странно смотрел — загадочно, отстранённо, как из другого мира. Я иной раз даже пыталась заговорить с ним об этом, но не решалась. Знаете, когда дети маленькие, они — как открытая книга, а потом эта книга захлопывается и не пускает вас к себе. Но накануне смерти он был бодр и весел — его друзья часто навещали.
— Софья Платоновна, а м-ль Жюжеван много времени проводила с Николаем? Ведь она, кажется, ухаживала за ним во время болезни?
— Да, ухаживала… А чем ей ещё было заниматься? — в голосе хозяйки прозвучал вызов.
«Похоже, она обороняется от подозрений в том, что она — плохая мать, раз не она, а гувернантка ухаживала за её больным сыном. Сама придумала и сама же обороняется — как это по-женски!» — подумал Шумилов.
Между тем Софья Платоновна продолжала:
— Пока дети были маленькие, она действительно была необходима им практически постоянно, она и жила у нас. Но дети подрастают, Николаша уже студент… был, Алексей почти студент, Наденька в гимназии. Конечно, Мари ещё занимается с Алексеем и Надей французским, игрой на фортепиано. Да и вообще мы привыкли к ней. А с Николашей она в основном проводила время не как учитель, а скорее как компаньонка. Мне в последнее время даже стало казаться, что ей следовало бы поумерить свой интерес к его делам. Ну, сами посудите, Алексей Иванович, когда женщина её возраста, а ей уж почитай 40, проводит весь вечер в компании молодых мужчин 18–20 лет, это выглядит несколько странно. Пару раз мне Алёша, сын, рассказывал, что она даже целовала Николая в присутствии его приятелей! — Софья Платоновна замолчала. Казалось, возмущение кипело у неё внутри и не давало продолжать. Наконец она справилась с собой:
— Я собиралась поговорить с ней об этом, но из-за Коленькиной болезни всё откладывала, откладывала… Но теперь уже непременно скажу, у меня ведь другие дети подрастают! — с этими словами Софья Платоновна прямо в упор посмотрела на Шумилова словно давая понять, что именно сейчас ей самое время устроить этот разговор, а Шумилову — терпеливо со всем согласиться, но неожиданно женщина остановила саму себя и совсем иным тоном сказала, — Извините меня, Алексей Иванович, мне очень нехорошо. Давайте отложим разговор на следующий раз и обойдемся пока без протокола.
Эта странная концовка, озадачила Шумилова. Особенно то, что плохо почувствовавшая себя женщина не забыла о протоколе. Уже в передней, надевая поданное горничной пальто, Шумилов услышал звук закрываемой крышки рояля, донесшийся из-за неплотно прикрытой двери, шуршание юбок и голоса. Тот голос, что был постарше, прощался до завтрашнего дня. «Очень кстати», — подумал Алексей Иванович, выходя на парадную лестницу. Судя по всему, у него появлялась неплохая возможность пообщаться с м-ль Жюжеван без предварительной договоренности, так сказать, экспромтом.
Пройдя мимо большого витражного стекла на нижней площадке, Шумилов краем глаза увидел за ним темный силуэт швейцара, который на самом деле вовсе не был швейцаром. Алексей Иванович решил, что сотруднику Третьего отделения не следует знать лишнего, а потому, выйдя на улицу, он прошел по набережной метров 30 в сторону и, подойдя к чугунным перилам, остановился. На воде прыгали солнечные блики, такие яркие, что от их блеска было больно глазам. Алексей Иванович зажмурился на мгновение, и, облокотившись о перила, стал внимательно наблюдать за парадным подъездом, из которого только что вышел. Ждать ему долго не пришлось.
Минуты через четыре-пять тяжелая дверь подъезда отворилась и на тротуар ступил изящный остроносый сапожок. Его владелица, стройная, довольно высокая темноволосая женщина в шляпке с траурной вуалью, мелкой походкой направилась в сторону Шумилова. Это была м-ль Жюжеван. Шумилову представилась возможность рассмотреть её получше, чем накануне, в день обыска. Она была одета в серо-голубой лёгкий салоп с атласными лентами. Шляпка, перчатки, легкий кружевной шарфик — все детали тщательно продуманного туалета производили впечатление гармонии и хорошего вкуса. Владелица их была, по всей видимости, небогата, но в искусстве подбирать одежду обладала чутьём и чувством меры. Шагнув ей навстречу, Шумилов поздоровался. Напомнил ей о давешней встрече у Прознанских и спросил, можно ли с ней поговорить по дороге: «А кстати, куда вы направляетесь?»
— У меня сейчас урок в доме Прохорова, у Синего моста, — Жюжеван говорила с мягким, но хорошо различимым акцентом. Голос был выразительный, теплый.
— Позвольте, я провожу вас?
Они пошли рядом. Шумилов украдкой посматривал на её лицо. Она не была красавицей в обычном понимании, да и черты утратили девичью округлость, в уголках глаз притаились едва наметившиеся паутинки морщинок. Но взгляд женщины был живым, умным и, как вскоре понял Шумилов, очень выразительным. Ей можно было бы дать лет 25, самое большее 30.
— Давно вы живёте в России? — поинтересовался Шумилов.
— О да, давно, уже около 15 лет. А в детстве у меня была русская кормилица. О, это целая история!..
— Вы так хорошо говорите по-русски…
— Представьте себе, я иногда даже учу русскому языку. Дети в столичных семействах не знают русских сказок, я им читаю. Не смешно ли? Лишь в последние годы, из-за Балканских событий многие русские вспомнили о своем эпосе.
— О-о, французская подданная оказалась русофилом? — Шумилов ободряюще улыбнулся, — Скажите, м-ль Жюжеван, а то, что вы даете уроки в других домах, не вызывает неудовольствия Прознанских?
— Вообще-то нет, они понимают, что мне надо оплачивать квартиру, и что обо мне некому позаботиться. Предложений у меня много, потому что помимо французского я учу детей играть на фортепиано. Кроме того, я могу преподавать и историю, я знаю русскую литературу, былины и сказки. Но ведь вы хотели поговорить о смерти Николя, так?
— Да, если можно. Расскажите, что он был за человек?
— Он был хороший… — сказала она в задумчивости, — Но вот только очень одинокий.
— Одинокий? В его-то возрасте? А как же семья, родители? Да и друзья у него были.
— Родители… Они заняты собой, маман — домом и визитами, папа — ответственной и никому неведомой службой, — она произнесла маман и папа на французский манер с ударением в последнем слоге, — его по-настоящему никто не понимал. Он много думал о жизни, он искал свой путь. Ему на самом деле не хотелось быть юристом, но слово Дмитрия Павловича — закон.
— А друзья?
— Желторотые юнцы, возомнившие себя знатоками жизни! Они хотели тащить Николя в свои разгулы — ужины у Бревера, ресторации, даже на Острова его возили! Ему это не особенно нравилось, но он втянулся, чтобы не быть… как бы это мягче выразиться… белой вороной. Вообще эти мальчики уже с 15 лет курят папиросы и пьют вино. Не удивлюсь, если они и в бордель его возили! Я говорила маман, но она не взяла во внимание, говорит, все так делают в их кругу. И просила меня по возможности присматривать за ним, особенно когда эти приятели бывают в доме.
— Скажите, а он влюблялся?
М-ль Жюжеван коротко взглянула на Шумилова и, устремив затем взгляд прямо перед собой, нехотя заметила:
— Была одна пассия… Она помучила его вдоволь и дала отставку. Я мельком слышала обрывок разговора: Спешнев, приятель Николя, такой маленький и очень гадкий на язык юноша, как-то раз с насмешкой сказал, дескать, что-то не помогает тебе твоя химия заполучить Царицу Тамару — это они так называли м-ль Веру Пожалостину. Николя очень болезненно переживал то, что она предпочла ему другого. Он, конечно, старался не подавать вида, но я-то знала!..
— А откуда Вы это знали, если не секрет?
— Ну, когда при упоминании имени девушки молодой человек краснеет, а при ней не смеет глаза поднять, то догадаться несложно… Ее брат учится вместе с Николя на юридическом, и она иногда вместе с братом бывала у Прознанских.
— Скажите, а как протекала его болезнь? Ведь это вы за ним ухаживали?
— Он заболел в начале апреля. Время шло, а ему становилось все хуже. Его очень беспокоили распухшие лимфатические узлы. Я предлагала вызвать другого доктора, но от меня только отмахнулись. Накануне смерти он был в таком подавленном настроении, что я даже хотела послать за его приятелем Федором Обруцким, он всегда мог развеселить Николя.
— А когда в последний раз вы давали ему лекарство?
— Это было вечером 17-го, в 9 часов. Я дала ему 2 ложки микстуры, как предписывал доктор.
— А кто доставил лекарство из аптеки?
— Да я сама и заказывала, и доставляла. И не только лекарство для Николя, а и для других членов семьи.
— А какие отношения были у Николая с братом и сестрой?
— Он не был с ними особенно близок, относился… как это… снисходительно, как к маленьким, особенно к Наде. Говорил… такое странное слово, фонвизинское — недоросли. Точно!
— М-ль Жюжеван, скажите, а в доме был морфий?
— Да, в кабинете у полковника, под замком. Вернее, он сначала просто так стоял в шкафу, но после истории с папиросами полковник его убрал под ключ.
— А что это за история? Расскажите.
— Да в общем ничего особенного. Это произошло второго апреля. У Николя собралась обычная компания — Спешнев, Штром, Сережа Павловский, Владимир Соловко… Я разливала чай. Николя закурил папиросу и говорит: «Какой-то странный вкус». А я точно помнила, что последнюю партию папирос сама крутила на папиросной машинке, ну, и удивилась, закурила сама. И тут что-то такое случилось — мне стало дурно. Настолько, что я села на пол и чуть не потеряла сознание. Такого никогда не было ранее. Меня тут же уложили в постель и я 3 дня была настолько слаба, что не могла выйти из дома. Пригласили доктора, он осмотрел папиросы и сказал, что папиросную бумагу кто-то предварительно пропитал раствором морфия. Дмитрий Павлович страшно рассердился, устроил домашнее расследование, построил всех в шеренгу, да-да, не смейтесь, он в иные минуты превращается в сущего Торквемаду! Домашний сыск плодов не дал; это, видимо, была первоапрельская шутка кого-то из детей. Просто они не ожидали, что получится такой эффект. В общем, как раз после этого случая Дмитрий Павлович и упрятал морфий под замок.
— А куда делись остальные «первоапрельские» папиросы? — Шумилов был чрезвычайно заинтригован услышанным.
— Полковник лично их уничтожил.
— Скажите, м-ль Жюжеван, а вам не доводилось ничего слышать о некоей молодежной радикальной группе, к которой мог примыкать покойный Николай? Может, кто-то из приятелей Николая упоминал о чем-то подобном или он сам говорил?…
— Нет, никогда. А что, была такая группа?
— Как вы думаете, м-ль Жюжеван, у Николая были враги? Может, кто-то хотел его смерти?
— Вы все-таки думаете, что его убили? — она метнула испуганный взгляд на Шумилова. И замолчала. Чувствуя, что Шумилов ждет ответа, проговорила сумрачно:
— Нет, мне неизвестны его враги.
За разговором они подошли к дому Прохорова. Протянув на прощание руку в тонкой перчатке, м-ль Жюжеван пообещала заехать на следующий день в прокуратуру и подписать протокол. После чего она скользнула под козырек крыльца, оставив у Шумилова необъяснимое сожаление от того, что конечная точка маршрута оказался так близко. «Незаурядная женщина, — думал Алексей Иванович, — умна, наблюдательна. Однако не все в ее рассказе стыкуется с показаниями Софьи Платоновны. И почему это Прознанские — старшие не рассказали об истории с папиросами?» Но даже не это смутило Шумилова: самым настораживающим было то, что папиросы, пропитанные морфием, появились в доме Прознанских на следующий день после того, как канцелярия столичного градоначальника получила анонимку с рассказом о радикальной студенческой группе.
Долговязый продавец за дубовым аптечным прилавком помчался за провизором еще до того, как Шумилов успел к нему обратиться. Урок, стало быть, пошел впрок. Иван Цизек вышел к Шумилову в торговый зал в своем неизменном гуттаперчевом переднике и с полотенцем через плечо.
— Ал-лексей Ивановитч, вот сегодня Вам не удастся отказаться от моего кофею, — улыбнулся вместо приветствия немец.
До этого они не виделись почти год, но то, что Шумилов на протяжении двух дней дважды его беспокоил, казалось, нисколько Цизека не смущало.
— А я и не стану, Иван Францевич. Напротив, я попрошу кофею и не меньше получаса Вашего времени.
Провизор увел Шумилова к себе, в небольшую комнатку на втором этаже, обставленную старомодной и довольно ветхой мебелью. Пока хозяин колдовал над спиртовкой и закупоренной колбой, в которую предварительно насыпал молотого кофе, Шумилов вымыл руки под рукомойником и вытер их белоснежным накрахмаленным полотенцем, повешенным тут же. Немец был аккуратистом во всем и полотенце его разве что не хрустело. Шумилову пришло в голову, что если его уронить на пол, полотенце это останется стоять как солдатский яловый сапог.
— Я Вам предложу кофе с красным перчиком и корицей, — пообещал Цизек.
— Замечательно, главное, чтобы без морфия. Я Вам, Иван Францевич, в свою очередь предложу почитать рабочий журнал человека, увлекавшегося химией. Журнал этот является документом, приобщенным к уголовному делу, поэтому я не могу его оставить Вам на сколь-нибудь продолжительное время. Вообще-то, строго говоря, я не должен его вообще выпускать из рук. Но мне интересно Ваше суждение.
Шумилов извлек из своего портфеля две тетради Николая Прознанского с записями химических опытов молодого человека. Провизор тем временем разлил кофе, выставил на стол печенье и сахар.
— А чего Вы ждет-те от меня? — спросил он.
— Я хочу, чтобы Вы охарактеризовали уровень научной подготовки человека, писавшего журнал, и область его интересов в химии.
Цизек скурпулезно, страница за страницей, пролистал обе тетради. Он не особенно спешил, иногда останавливался и вчитывался в текст; до тех пор, пока Цизек не закончил листать, он не проронил ни слова. Изучение записей Николая Прознанского заняло у Ивана Францевича ровно 22 минуты: Шумилов засек время по часам. Наконец, аптекарь захлопнул последнюю тетрадь:
— Эт-то писал не химик, не вратч, не аптекарь и даже не студент, изучающий химию. Написавший этот журнал допускает ошибки в латинских названиях, что никуда не годится даже для студента. Вернее, не так: ему латинские названия просто неважны, поэтому он не только в них ошибается, но и допускает их сокрасчения, что совсем уж нетерпимо и против правил науки.
— Замечательно, Иван Францевич, — похвалил провизора Шумилов, — Что-нибудь еще?
— Автор занимался изутчением получения взрывчатых веществ. Его записи фактически являются конспектом, по которому можно наладить кустарное производство чёрного пороха. Вместе с тем, я не нашел указаний на то, что автор действительно его получал. Мне кажется, он сделал эти записи «на всякий слутчай», без конкретной цели.
— Ясно.
— Автор этих записей странным образом зациклен на ядах. Он изучал свойства мышьяка и сурьмы. Семечками, опрысканными раствовром мышьяка, он кормил синиц и ежей, купленных на Сенной. Он сделал весьма ценное наблюдение, впротчем, хорошо известное и без него: отравленные мышьяком испытывают сильнейшую жажду и сильно страдают. Сколько лет было автору, когда он сделал эти записи?
— Ну, полагаю, шестнадцать-семнадцать.
— Довольно странное увлетчение для вполне развитого юноши, не находите?
— Нахожу, — согласился Шумилов.
— Но если интерес к мышьяку еще как-то объясним, поскольку этим ядом можно устроить потраву мышей и крыс в доме, то кое-что другое понять совсем трудно. Дело в том, что автора чрезвытчайно занимала мысль выделения чистого морфия. Он отчэнь пытался получить морфий из однопроцентного аптечного раствора, так сказать, повысить его концентрацию. Скажу сразу, у него ничего не вышло.
— Понятно.
— Нет, Алексей Ивановитч, ничего-то Вам непонятно. Автор этих записей всё-таки полутчил чистый морфий. Да такой, что чище не бывает, в кристаллах.
5
Вернувшись в прокуратуру, Шумилов обнаружил, что из лаборатории Департамента полиции уже доставили заключение экспертизы о найденных в квартире Прознанских химических препаратах и лекарствах. Алексей Иванович приказал принести себе чаю, а сам углубился в чтение тонкой папочки. Отчет пестрел формулами и химическими выкладками, которые Шумилов не очень-то понимал и потому не хотел в них вдаваться; он пробегал текст глазами, задерживаясь только на окончательном выводе по каждому пункту. Все детали отчета, показавшиеся ему интересными, он выписал на отдельный листок, получив наглядный, но весьма озадачивающий результат:
1. Раствор, изъятый из кабинета полковника, имел большую концентрацию морфия и в случае его употребления целиком был безусловно смертелен для человека;
2. В пузырьке, из которого в последний раз Николай Прознанский получил «лекарство,» тоже был раствор морфия, однако его концентрация отличалась от того, что хранился в кабинете отца. Она была гораздо выше. Исходя из предположения, что первоначально пузырек был полон, полицейский химик определил величину растворенного в нем морфия в не менее, чем 10 грамм. Шумилов без труда сосчитал, что подобное количество вещества при единовременном приеме оказалось бы смертельным для 500 человек;
3. Капли от бессонницы, которыми пользовалась мать покойного, тоже содержали морфий, но ввиду его малой концентрации в растворе (одна десятая процента) и незначительного количества самих капель этот раствор по существу был безобиден.
4. Среди реактивов химического шкафчика находился цианистый калий. Самый сильный и быстродействующий из всех известных ядов.
5. Среди реактивов покойного было найдено значительное количество аммиака.
Перед пятым пунктом Шумилов поставил латинское «nota bene» («особое внимание»), а перед вторым — «not in esse» («несуществующий»).
«Да, странное было у жандармского полковника представление о безопасности — морфий упрятал под замок, а цианид преспокойненько оставил в распоряжении сына. А может, он просто не знал о нём? — думал Шумилов, — Выходит, именно Жюжеван дала яд вместо микстуры. Но зачем? Занятия с молодыми Прознанскими давали ей основной источник существования. Да и не похожа она на злодейку! О Николае говорила с большой теплотой и даже любовью. Вот-вот, любовью… А может всё совсем не так, как кажется на первый взгляд?»
Алексей Иванович взялся за остывающий чай и, попивая его маленькими глотками, продолжал размышлять, нанизывая мысли словно бусы на нитку: «Необходимо поговорить с приятелями Николая. И поинтересоваться именно тем, что они знали о Жюжеван со слов покойного. И хотя француженка так непохожа на злодейку, все же следует помнить, что не все злодеи похожи сами на себя. Яд — это женское оружие. Женщины не любят насилия и вида крови: они скорее придушат подушкой или отравят, нежели ударят ножом или выстрелят. Отравление — это тихое убийство; преступник все время остаётся на виду, зачастую в самом эпицентре событий, и наслаждаясь лихо закрученной интригой, предоставляет следствию тыкаться наобум, словно слепому котенку. Это, конечно, как-то по-книжному, но зато очень по-женски. Да, — вдруг осенила Шумилова мысль, от которой он чуть не подпрыгнул на стуле, — как же я позабыл про ротмистра Бергера? Ведь это именно он сообщил Жюжеван о смерти Николая и привез ее к Прознанским утром 18 апреля!».
Наспех допив остывший чай, Шумилов собрался уже было выходить, как услышал в коридоре громкий голос Вадима Даниловича. На сей раз помощник окружного прокурора никого не распекал, из чего Шумилов сделал вывод, что день у Шидловского прошёл гладко, а посему настроение шефа должно было быть благодушно-располагающим.
— Алексей Иванович? — увидев подчиненного, просиял Шидловский, — Вы уже успели съездить к Прознанским (Шумилов кивнул)? Ну-с, тогда давайте ко мне, доложите все обстоятельно, голубчик.
Они прошли в кабинет помощника окружного прокурора, где Вадим Данилович поспешил опуститься в свое удобное кожаное кресло, за многие годы принявшее форму его тела и как бы сроднившееся со своим хозяином. Он вытянул ноги в глянцевито блестевших туфлях, положил пухлые, с отполированными розовыми ногтями руки на пузатые подлокотники и в такой расслабленной позе приготовился внимательно слушать Шумилова. Последний кратко доложил о своем посещении квартиры Прознанских, но подробно остановился на пересказе истории с отравленными папиросами. Шидловский, выслушав Шумилова, переменился в лице, но ничего не сказал, кивком предложив тому продолжать. Ещё более обстоятельно Шумилов взялся пересказывать результаты исследования веществ и лекарств, изъятых в доме покойного. Содержательную часть этого документа Шидловскому непременно следовало разъяснить, поскольку из самостоятельного прочтения тот бы ровным счетом ничего не понял.
— В целом, полицейский химик подтвердил, что содержимое всех пакетов и банок с опасным содержимым соответствует надписям на этикетках. Единственное исключение — пузырёк, из которого Жюжеван поила микстурой Николая Прознанского вечером 17 апреля. В этом пузырьке найден высококонцентрированный раствор морфия — более 10 %. Такой раствор невозможно приобрести ни в одной аптеке, ни в одной больнице. Можно сказать, что таких растворов не существует в природе.
— Однако, он оказался в доме Прознанских, — заметил Шидловский.
— Тут начинается самое интересное. Изучение записей покойного, касающихся его химических опытов, с очевидностью продемонстрировало давнее желание Николая Прознанского получить в своё распоряжение высококонцентрированный морфий. Еще весной прошлого года он попытался найти способ повысить концентрацию аптечных растворов, но у него ничего не вышло. Тогда Николай пошел другим путем — он решил повторить опыты Фридриха Зертюрнера, немецкого аптекаря, выделившего в 1830 году чистый морфий из экстракта опийного мака. Для этого ему был нужен аммиак. Как видно из списка, аммиак у Николая Прознанского имелся.
— А экстракт?
— Ваша жена, Вадим Данилович, часом не высаживает мак на даче? — спросил в свою очередь Шумилов.
— Высаживает. Представьте себе, прямо перед домом. Она очень любит этот цветок.
— Считайте, что и у Вас есть экстракт опийного мака. Его очень просто получить, делая надрезы на коробочке.
— В самом деле? — искренне изумился Шидловский.
— Представьте себе. Затем из этого экстракта можно восстановить кристаллический морфий. Судя по всему, Николаю Прознанскому это удалось. Во всяком случае, в доме появилось значительное количество морфия, о котором родители покойного юноши ничего не знали. Либо делали вид, что не знали. Мы можем быть уверены в том, что Николай был отравлен не тем морфием, который от него спрятал отец.
— По крайней мере это снимает подозрения с отца, — выдохнул Шидловский.
— Боюсь, это слишком категоричное утверждение, — заметил Шумилов и замолчал, давая время своему шефу обдумать услышанное.
— Хорошо, — перескочил на другое Шидловский, видимо, недовольный последним замечанием подчиненного, — Подумаем над другим вопросом: почему Николай был отравлен мышьяком в то время, как в доме находился цианид, яд во всех смыслах более быстрый и эффективный?
— Позвольте, я закончу с химическими записями покойного, — предложил Шумилов, — А то мы потеряем тему.
— Да-да, извините, Алексей Иванович, продолжайте…
— Помимо очистки морфия покойного Николая Прознанского интересовало получение взрывчатых веществ. Об этом свидетельствуют его записи. Однако, из тех записей видно, что он не предпринимал практических шагов по их получению. Его экскурсы в данную тему носили умозрительный характер.
Шидловский даже в лице переменился:
— Что он, в самом деле, бомбы что ли собирался снаряжать?
— Помимо морфия, Николай Прознанский изучал свойства минеральных ядов — мышьяка и сурьмы. Мышьяком он даже травил мелкую живность — птичек и ежей, которых специально для этого покупал на Сенной площади. Вместе с тем, должен отметить, что ни мышьяка, ни сурьмы среди химикатов Прознанского не найдено. Можно предполагать, что их запасы либо закончились, либо были выброшены, либо… — Шумилов примолк.
— Либо не найдены нами, — мрачно закончил его мысль Шидловский, — Да-а, Алексей Иванович, эко все как поворачивается. Скверно дело оборачивается.
— Да уж, Вадим Данилович, чем дальше в лес…
— Ну, а почему убийца не воспользовался цианистым кальцием, можешь предположить?
— Могу, Вадим Данилович. Потому что в случае использования цианида следствию легко будет установить момент смерти.
— Вот именно, — Шидловский аж даже ладонью прихлопнул по столу, — Цианид себя моментально проявит, убьёт жертву меньше, чем за минуту. А морфий часом раньше, часом позже, никто и не хватится, уснул человек — и все. Убийца на другой конец города уедет и только руками разведет, дескать, не было меня тогда на месте преступления. А в нашем случае кого не было на месте преступления в момент обнаружения трупа?
Шумилов понял к чему клонил начальник и промолчал.
— Правильно, — закончил свою мысль Шидловский, — Француженки не было. Вечером она уходила и Николай был жив-здоров, с папенькой попрощался перед сном, маменьку поцеловал. А утром труп в кровати, да только француженка вроде как ни при чем получается.
— Боюсь, это преждевременное суждение, Вадим Данилович.
— Да я тоже боюсь. Я ничего не утверждаю пока, просто рассуждаю на заданную тему.
Шумилов рассказал помощнику окружного прокурора о своем разговоре с швейцаром Сабанеевым. Это событие повернуло беседу в новое русло.
— Если сотрудники Третьего отделения охраняют дом и придомовую территорию, то мы можем быть уверены, что бесконтрольное проникновение случайного человека в квартиру Прознанских маловероятно, почти невозможно, — заключил Шидловский, — Вы хорошо знаете, что целая категория преступников орудует в богатых домах под видом прислуги гостей, посещающих жильцов. Я уже не говорю о комнатных ворах, которые являются под видом посыльных. Мы опять приходим к тому, что заключили ранее: отравление Николая Прознанского — дело рук близкого к семье лица, кого-то, кто имел вполне благовидный повод для посещения больного.
Помощник окружного прокурора примолк на некоторое время, затем продолжил:
— Алексей Иванович, порасспросите-ка приятелей покойного о его жизни, особо обращайте внимание на все, что касается пресловутой радикальной организации. Кстати, я был в канцелярии градоначальника, привез анонимку. В ней речь идет о том, что неизвестная группа «нигилистически настроенных молодых людей» с непонятной пока целью экспериментирует с ядами и предпринимает попытки их производства. Теперь оказывается, что у Прознанских действительно дом полон ядами, а покойный Николай сумел получить кристаллический морфий. Кроме того, исследовал мышьяк. А на очереди был, похоже, калий циан. Чем черт не шутит…
Вадим Данилыч извлек из жилетного кармана часы на массивной цепочке. Щелкнула крышка, раздался мелодичный звон крошечного механизма.
— Ну, вот, и домой пора. Приходите, Алексей Иванович, поработать завтра, — со стороны начальника это уже была шутка.
Впрочем, по мнению Шумилова, рабочий день был ещё не окончен. Он уже знал, что Владимир Соловко, друг покойного Николая Прознанского, и ротмистр Бергер, адъютант отца, живут неподалеку от него, на Малой Морской. К ним вполне можно было заглянуть по пути домой. Задача облегчалась еще и тем, Бергер и Соловко были соседями, их дома располагались буквально в квартале друг от друга. Даже если одного из них не оказалось бы дома, велик был шанс поговорить со вторым. «Начну с Соловко», — решил Алексей Иванович. Очевидно было, что студент-первокурсник окажется более «лёгким» свидетелем, чем ротмистр жандармской службы.
Удача сопуствовала Шумилову: Владимир Соловко оказался дома. Важный камердинер проводил Алексея Ивановича в роскошный то ли кабинет то ли будуар с массивным письменным столом, книжными шкафами по стенам, бронзовыми канделябрами в 20 свечей. Толстый персидский ковёр на полу, портрет генерала в мундире николаевской эпохи над камином («Папа или дедушка?» — механически подумал Шумилов) дополняли обстановку. Но впечатление банкирской солидности несколько портили широкая оттоманка в углу комнаты и стоявшие подле неё шеренгой разномастные кальяны.
Встретивший Шумилова молодой человек вальяжно предложил ему сигары, коньяк. Несмотря на антураж изысканности и бьющей в глаза роскоши, у Шумилова возникло какое-то странное ощущение искусственности происходящего. Дело в том, что облик Владимира Соловко несколько не вязался с интерьером. Конечно, молодой человек был безукоризненно одет и смотрелся франтом, костюм от дорого портного ему весьма шёл, а белый атласный галстук был безупречно отглажен и повязан со всевозможной тщательностью, но… Владимир был слишком молод, слишком тонок в талии, слишком порывист и слишком, напоказ, богат. В этом чувствовался некий дурной тон. «Верно, недавно получил в наследство и этот кабинет, и состояние. Книжные стеллажи ему не нужны, а вот оттоманку с кальянами приказал перенести в кабинет немедля», — подумал Шумилов.
— Владимир, э…
— Павлович, — подсказал Соловко.
— Владимир Павлович, расскажите, что за человек был ваш друг Николай Прознанский?
Наступила небольшая пауза, Владимир набивал табаком трубку.
— Нормальный человек, — наконец, веско изрек он, — Мы с ним были знакомы ещё с гимназии. С ним бывало забавно. Он, знаете ли, из числа книжных людей — всё читал, изучал что-то, а как до дела коснись — ан и слабак.
— Что вы имеете в виду? До какого дела?
— Ну, в университете он молодец, экзамен сдать, стихотворение в альбом написать… О литературе, опять же, любил порассуждать. Такие мысли иной раз завернёт, думаешь: и как только такое в голове могло оформиться? А элементарные житейские проблемы ставили его в тупик.
— Например?
— Например, как-то вышло у нас пари по поводу зубровки, можно ли выпить полштофа в один присест. Ну, я велел позвать первого попавшегося мужика с улицы, говорю ему: выпьешь залпом — получишь 10 рублей. Ну, он и выпил, конечно. А Николай свои полсотни проспорил. Вот я и сказал тогда Николя — не знаешь русского народа — не держи пари!
— Скажите, Владимир Павлович, — Шумилов заметил, что слух Соловко ласкали его имя и отчество, — а как у него обстояли дела с женщинами?
— Да примерно так же, как и с тем пари. Я ж Вам сказал: коснись до дела — он слабак. У нас у всех, я имею ввиду наш кружок, было уже не по одной интрижке — актёрки, белошвейки, бонны, у кого-то даже гимназисточки, а Николя всё как-то робел. Да тут еще эта история с Царицей Тамарой, — Соловко прервал рассказ и начал старательно раскуривать трубку.
— Царицей Тамарой?
— Ну да, это мы в своем кружке так её зовем. А вообще-то она Вера Пожалостина. Первая красавица, замечу Вам! Поначалу она принимала воздыхания Николая благосклонно, а потом… уж не знаю… может, другой кто появился, может, просто Николай ей надоел, но только она его отставила.
По комнате поплыл запах дорогого табака. Барственный студент забавлялся, выпуская дым то колечками, то струей. Попробовал, было, проделать это через нос, но внезапно поперхнулся и закашлялся: «Ах, крепок!»
— А он не пытался её вернуть? — спросил Шумилов.
— Да были какие-то бредовые разговоры о химической составляющей любви. Я не особенно вникал, но помню, Иван Спешнев как-то поёрничал, мол, ты же не веришь во всякую чепуху о приворотных зельях? Мы тогда ещё посмеялись…
— Скажите, а другие женщины у него были? Ну, может не вашего круга…
— Думаю, нет. Он вообще был какой-то странный. Мы как-то раз в заведение завалились, ну, вы понимаете… к девицам, — он плотоядно хихикнул, — А он и ехать-то не хотел, а как приехали, весь вечер в общей зале просидел, шампанским наливался, свои куплеты исполнял под гитару. Девицы хохотали, им-то что — шампанским поят, услуг никаких не требуют, ещё и на гитаре поют.
— Какого рода куплеты?
— Непристойного содержания, разумеется. Какие же еще можно петь в борделе? Секундочку, — молодой человек потянулся за гитарой, лежавшей на оттоманке, и ловко перебросил ее из руки в руку, — Сейчас я Вам постараюсь напеть и Вы все поймете!
Но без вина, что жизнь улана?
Душа его на дне стакана,
И кто два раза в день не пьян,
Тот, извините! — не улан!
— Вообще-то, это Лермонтов, — остановил певца Шумилов.
— В самом деле? Забавные такие стишата. Прознанский сказал, что сам сочинил. Обманул, значит, шельмец. Н-да, а девицы там были так… ничего себе… — взгляд молодого человека мечтательно скользнул в сторону.
— Может, это он из-за Царицы Тамары? А, кстати, откуда такое прозвище?
— Да в роду у нее были грузинские князья, и сама она такая… черноокая, — он замолчал, потом, как бы спохватившись, продолжил, — Да нет, Царица Тамара тут ни причем вовсе, это было еще до неё.
— Скажите, Владимир Павлович, — Шумилов попытался придать голосу оттенок равнодушия и обыденности, будто речь идет о покупке фунта изюма, — а вам не приходилось слышать о некоей радикальной группе, которая изучает яды, создаёт их или что-то в этом роде? Знаете, сейчас ведь модно у известной части молодежи…
Шумилов не договорил и впился глазами в лицо Соловко, его интересовала первая реакция на вопрос. Однако лицо этого сибаритствующего студента ничего ему не сказало, оно оставалось по-прежнему безмятежно и невозмутимо. Соловко был поглощён своей трубкой, своими выхоленными руками и гитарой на коленях.
— Ну, знаете, это кухаркиным детям нечем себя занять, вот они и играют в группы да союзы. Карбонарии, понимаешь ли! Значительности себе добирают. А у людей НАШЕГО круга, — он сделал особое ударение на слове «нашего», — даже и разговоров на эту тему никогда не бывает, — он высокомерно посмотрел на Шумилова.
«Да ты, братец, сноб, и преглупый. Или же, напротив, отличный конспиратор», — подумал про себя Алексей Иванович.
— Ну, отчего же Вы так про кухаркиных детей. Среди радикалов немало дворян — те же Бакунин, Кропоткин.
— Это «дворянство» только по названию, Алексей Иванович. Провинциалы, лишь перед приездом в столицу снявшие треух и нацепившие котелок… вот только головы не сменившие — это, по-вашему, дворянство? Бывшие семинаристы, разночинцы, дети разночинцев… мы вынуждены их терпеть в своих аудиториях и на общих лекциях, но мы с ними не мешаемся, уверяю Вас. У них своя свадьба, у нас — своя.
— А скажите, Владимир Павлович, вы часто собирались вашим кружком в доме Прознанских?
— Не так, чтобы часто, но иногда собирались.
— А вы помните историю с папиросами, в начале апреля, первого или второго числа? Это при вас было?
— Да, помню. Это когда гувернантка вздумала в обморок падать? Ха-ха! Мы тогда позабавились. Ну, для вида все сделали озабоченные лица… Но право же, было смешно! Одно дело, когда эфирная девица чувств лишается и совсем другое — видеть, как такая матрона далает круглые глаза и мешком валится на пол.
— А Николай был тут же?
— А где же ему быть? Ему и любопытно было больше всех. Братец его, Алешка, засуетился, стал звать maman, кинулся гувернантку поддержать, даже вазу с цветами столкнул нечаянно. А Николай стоял и смотрел. Но эта м-ль Мари… та еще бабёнка, — Соловко хмыкнул в своей двусмысленной манере, — Скажу честно, при ней можно было без церемоний. И сюртук снять, и на разные темы поговорить. Она вообще частенько с нами сидела.
— А как Николай к этому относился?
— Иногда как бы тяготился её присутствием, а иногда нормально. Помню, как-то раз назвал её блядью, — Соловко произнес это с явным удовольствием, смакуя грязное словцо.
— А давно это было?
— Да, прилично. Наверное, мы еще в гимназии учились, в последнем классе.
— А в чем была причина употребления этого слова?
— Да кто же его знает. Не могу сказать.
— Скажите, а она когда-нибудь целовала Николая при вас?
— Да, было пару раз.
— А какое настроение было у Николая во время болезни?
— Да… обычное настроение. Но я и был-то у него всего три раза, и то бегом.
— А накануне смерти?
— Не знаю, у Прознанских меня тогда не было. В тот день в Мариинке давали «Сомнамбулу» — ведь это же было воскресенье, я ничего не путаю? Да, воскресенье, — сам себе ответил Соловко, — вот я к нему и не заехал.
Алексей Иванович решил, что исчерпал свои вопросы.
— Владимир Павлович, я запишу нашу беседу для отчета, а вы уж, пожалуйста, в понедельник в любое время до восемнадцати часов заезжайте в прокуратуру, подпишите протокол. Объясните, что Вам надо пройти к делопроизводителю помощника прокурора Шидловского, вот моя визитка. Я оставлю протокол и если меня не будет на месте, то кто-то из моих коллег Вам его покажет. Пожалуйста, не забудьте и не заставляйте себя искать, — строго сказал Шумилов.
— Да-да, конечно, Алексей Иванович, — суетливо закивал головой студент, — В понедельник я буду у Вас!
— Засим позвольте откланяться.
Шумилов поднялся и вышел на свежий воздух. Неприятное чувство бередило душу, было как-то беспокойно и муторно, словно застал хорошего знакомого за гнусным занятием. К Бергеру идти уже не хотелось, но Алексей Иванович внутренне встряхнулся, сказал себе магическое слово «надо» и отправился по малой Морской в сторону Сенатской площади.
Он успел как раз вовремя — ротмистр, видимо, собирался уходить. Стоя в наброшенном на плечи кашемировом пальто перед большим зеркалом в прихожей, он поправлял шелковое кашне. Штатское платье сидело на его подтянутой фигуре столь же безупречно, как, должно быть, сидел мундир. Шумилов представился. Ротмистр коротко и серьезно взглянул на его отражение в зеркале, энергично обернулся и спросил глубоким баритоном:
— Чем могу служить?
Шумилов сообразил, что пришел не совсем удачно. Но отступать было некуда. Впрочем, лучше всего предоставить свидетелю выбор — опоздание на встречу, беседу на ходу или завтрашний визит в прокуратуру.
— Не хочу вас задерживать, Михаил Христофорович, но я должен задать вам пару вопросов. Если вы куда-то торопитесь, то можно поговорить и после, в прокуратуре.
— Я действительно спешу в театр… А мы можем по дороге поговорить? — они вышли. У парадной ждала коляска.
— Я в связи со смертью сына вашего патрона, полковника Прознанского. Как случилось, что именно Вы привезли его гувернантку утром в день смерти Николая?
— Да очень просто. В то утро я как обычно в 8.45 заехал за полковником, а у них дома трагедия, стенания — сын умер. Дмитрий Павлович на службу не поехал, дал мне указания, а сам остался с семьей. А м-ль Мариэтту я встретил на Невском, у Аничкова моста, она куда-то спешила. Я остановил экипаж, окликнул ее и сообщил новость.
— И как она отреагировала?
— Ужасно, я даже не предполагал такого. У неё глаза как-то остекленели, остановились. Я испугался, взял её за руку, а она стала падать на землю. Я подхватил её, стал что-то говорить, не помню уже что, а она никак не реагировала, просто смотрела сквозь меня сухими глазами. Это потом уже её прорвало, в экипаже, она разрыдалась так, что смотреть было жалко. Ну, не мог же я её так оставить? Повернул назад, привез к Прознанским, а потом поехал на службу.
— Скажите, Михаил Христофорыч, а Вы хорошо её знали?
— Не то, чтобы хорошо, а просто давно. Познакомились тому уже года с два. Виделся регулярно в доме г-на полковника. Однажды чай пили втроем в кабинете Дмитрия Павловича. Она интересная женщина, образованная, смешливая. И речь такая занятная…
— А как по-вашему, в неё можно влюбиться? — неожиданно спросил Алексей Иванович.
— Хм, влюбиться? А Вы спросите об этом самого себя, Алексей Иванович, — нашелся ротмистр, — Странный у вас ход мыслей, однако. Меня-то Вы почему об этом спрашиваете?
— Скажите, Михаил Христофорович, вы в последнее время не чувствовали, что за вами кто-то наблюдает или следует по улицам, когда вы сопровождали полковника?
— Сопровождать г-на полковника и обеспечивать его безопасность — моя прямая и главная обязанность. Неужели вы думаете, что я допустил бы такую такую оплошность — не заметил слежку? И не предпринял бы надлежащие меры? Кроме того, замечу Вам, что охрана такого человека, как полковник Прознанский, обеспечивается усилиями отнюдь не одного человека.
— А он, вообще-то, нуждается в охране? Скажем иначе, для карбонариев он мог бы представить интерес как объект террора?
— Железные дороги Российской Империи и принадлежащая им полоса отчуждения в смысле их охраны и поддержания порядка находятся в исключительном ведении корпуса жандармов. В силу своего служебного положения полковник Прознанский отвечает в том числе и за Царскосельскую железную дорогу, связывающую столицу Империи с летними резиденциями Государя Императора и высших сановников. Без ведома полковника Прознанского ни Третье отделение, ни дворцовая полиция не могут работать на Царскосельской железной дороге. Он — высшее должностное лицо, отвечающее за личную безопасность самых значительных лиц Империи во время их проезда по этой дороге. Он как никто другой информирован о методах охраны и конкретных мероприятиях, проводимых во время таких поездок. Нетрудно догадаться, что полковник может попасть в список лиц, с точки зрения наших карбонариев, подходящих для акций устрашения, — отчеканил Бергер, точно с листа прочел.
— А в доме у Прознанских, может, как-нибудь случайно, вскользь, не касался разговор каких-либо антиправительственных настроений? Я, разумеется, говорю об окружении Николая.
— Да Бог с вами! На таких людях, как Дмитрий Павлович, держится Отечество. Он и семейство свое воспитывает в патриотическом духе. Конечно, сын студент, а в нынешнем столичном университете много всякого мусора обретается, но таким вход в дом Прознанских был заказан, это точно.
Они приехали. Театральная площадь была запружена экипажами, освещенный подъезд притягивал взгляды. Под козырьком у входа толпилась нарядная публика.
— Михаил Христофорыч, я прошу вас завтра к обеду собственноручно написать все, что вы мне сейчас рассказали, а я пришлю к вам своего курьера, чтоб Вас не гонять ради протокола в прокуратуру. Согласны?
— А вдруг Вас не устроит мой стиль и слог? — иронично ответил вопросом на вопрос Бергер.
— А Вы постарайтесь, чтобы устроил, — парировал Шумилов, — Будьте обстоятельны, точны в мелочах. Иначе мне, всё-таки, придется Вас вызывать официально и Вам придется долго ждать, пока я собственноручно не составлю протокол.
— Я Вас понял, Алексей Иванович. Завтра к полудню я жду Вашего курьера.
Они распрощались. Шумилову предстояло осмыслить всё услышанное, разложить по полочкам. За последние два дня перед ним приоткрылась внутренняя жизнь уважаемого семейства. Но вот что странно — каждый, кто входил в соприкосновение с членами этой семьи, видел её по-своему, через призму собственного жизненного опыта и своих представлений о добродетели и пороке. Сейчас Шумилов точно мозаику складывал, а она не складывалась — вылазили острые углы, цвета не совпадали. И некоторые рассказчики явно противоречили друг другу. С одной стороны — анонимка, содержание которой вроде бы подтверждается находкой ядов и записями в журнале покойного; с другой — никаких следов радикальной группы. Не найдено запрещенной литературы, никто никогда не видел Николая читающим или обсуждающим такую литературу. Никаких выявленных подозрительных контактов Николая. Странная м-ль Жюжеван: с одной стороны — почти член семьи и заботливый друг покойного — с другой — такой оскорбительный отзыв ее же воспитанника. Явная нестыковка в оценке состояния Николая накануне смерти: Жюжеван говорит, что он бы подавлен, а мать — что бодр и весел.
Шумилов не спеша шел по набережной Екатерининского канала. Спустился вечер, но было очень светло. Небо окрасилось во все оттенки серо-лилового цвета. Тянуло сыростью, прохожих стало меньше. До Алексея Ивановича донеслось церковное пение, в просвете улицы на другой стороне канала он увидел процессию с иконами. «Ах да, сегодня же страстная пятница, крестный ход», — подумал Алексей Иванович. Пасха в этом году была поздняя. «Надо будет в пасхальное воскресенье непременно навестить дядюшку и тётушку.»
6
Пасхальное воскресенье было одним из тех особенных дней в году, которые Алексей Иванович традиционно посвящал общению со своими петербургскими родственниками. Дядюшка его, Филиппа Андреевича, старший брат матери, был человек добродушный и хлебосольный, настоящий меломан, и дом его всегда был открыт для племянника. В годы ученичества Алеша проводил у Ремезовых почти каждое воскресенье, очень подружился с тремя своими кузинами, которые сочли своим долгом опекать родственника из провинции и «образовывать» его. Следовало признать, что столичная родня приняла своего деревенского родственника по-доброму и безо всякого снобизма, за что Шумилов был по-настоящему ей благодарен.
Сейчас в родительском доме оставалась только младшая, Полина. Старшие же, Елена и Нина, были благополучно выданы замуж. Елена жила с мужем в Москве, а Нина приезжала с визитами к родителям, почитай, каждый день, поскольку жила на соседней улице. Настоящей душой этого теплого дома была тетушка, Анна Тимофеевна. Было удивительно, как эта маленькая женщина с тихим голосом умудрялась руководить грозным Филиппом Андреевичем, да так, что он принимал это руководство безропотно и даже с явным удовольствием. Тетушка любила Алешу и всегда приструнивала своих барышень, если они «нападали» на ее любимца. Обычно после обильного семейного обеда, когда Филипп Андреевич удалялся в кабинет «для занятий» — а попросту, чтобы всхрапнуть часок, накрывшись развернутыми «Ведомостями» — Анна Тимофеевна усаживала Алексея подле себя у камина и, занимаясь каким-нибудь рукоделием или раскладывая пасьянс, принималась расспрашивать о занятиях, об учителях, о том, чем его кормят — в общем, обо всем том, что составляло его повседневную жизнь. Так повелось еще с ученических Алешиных времен, так продолжалось и по сю пору. Просто визиты Алексея стали реже, а темы бесед — несколько иными, «взрослыми». Она и сама с охотой рассказывала что-нибудь интересное. Так было и в этот раз.
— Ну, расскажи, Алеша, как там продвигается твоя служба? Что нового? Чей труп опять нашли в сундуке? Говорят, у Прознанских горе — сын умер, — начала Анна Тимофеевна издалека.
— Да кто говорит-то? — ответил вопросом Шумилов. Он твердо знал, что у Ремезовых не было общих знакомых с Прознанскими, а публикации в газетах о смерти Николая Прознанского были остановлены распоряжением шефа жандармов Мезенцова.
— Филипп Андреевич на работе слышал. Телеграмму там такую давали, что ли.
— О-ох, Анна Тимофеевна, на Вашем примере я неоднократно убеждался, что почтовые чиновники самые осведомленные люди в России. Можно сколь угодно долго доказывать, что нет в нашем государстве перлюстрации частной корреспонденции, нет «черных кабинетов» и нет прикомандированных к почтовому ведомству сотрудников Третьего отделения, но стоит только один раз поговорить с Вами, как моментально убеждаешься в обоснованности всех этих подозрений.
— Ой, Лешенька, право, какие «черные кабинеты», что ты говоришь, беду на нас, стариков, накличешь! — Анна Тимофеевна только руками замахала на племянника, — Наверное, Филипп Андреевич про сына Прознанского в газете прочел.
— Ну хорошо, будем считать, что прочел в газете, хотя в газетах ничего об этом не было, — с улыбкой согласился Шумилов, — Николай Прознанский, сын жандармского полковника Дмитрия Павловича Прознанского, 18-летний юноша, действительно скончался от отравления морфием.
Шумилов примолк, давая тетушке обдумать услышанное. Было очевидно, что ей хочется поговорить на эту тему, но она не знает как лучше к ней подступиться. Сам Шумилов не спешил помочь тетушке, давая время ей потомиться неизвестностью.
— Морфий — самое безобидное лекарство, какое только можно придумать, — убежденно сказала Анна Тимофеевна, — Почти как горчичник или малиновое варенье. Вот если глазные капли закапать, то в обоих глазах такая резкость сразу образуется! Морфий ото всего можно использовать: и от зубов, и от мигрени, и при воспалении уха. А юноша покойный, часом не по неосторожности отравился?
— Боюсь, что нет. У Прознанских существовали необычные отношения в семье — мне, во всяком случае так показалось. СтраннО положение француженки-гувернантки. С одной стороны она как бы член семьи — пьет с полковником и его адъютантом чай в кабинете, обедает за одним столом, ухаживает за больным старшим сыном и даже присутствует на встречах его с друзьями, сугубо мужских встречах, заметьте, тетушка. А с другой стороны — ходит по хозяйкиным поручениям в аптеку, как простая служанка. Да, она ведь и жила в их доме долгое время! Да и вообще непонятно — зачем нужна гувернантка в семье, где дети выросли? Ну, разве что младшей девочке, ей 12 лет, — с сомнением произнес Алексей.
— Ну, то, что в аптеку сходила — эка невидаль, тоже мне, нашел барыню! В конце-концов, не на конюшню же ее отослали! Может, ей как раз по пути было! — отозвалась тетушка.
— Мне трудно судить, у меня гувернантки не было, — отшутился Алексей, — Но вот вы скажите, тетушка, у кузин ведь были гувернантки?
— Да, были, конечно. Без них девочкам никак нельзя.
— А они и жили в вашем доме?
— Нет, в этом не было нужды. Они приходили на урок и уходили после. Водили девочек на прогулки. Сопровождали в поездках, когда сие требовалось.
— И все-таки, почему они у вас не жили? Ведь девочек было трое…
— Я же говорю тебе, Лёшенька, — с нажимом произнесла тётушка, — в этом НЕ БЫЛО НУЖДЫ. Ты же сам говоришь — речь идет о девочках. Должен понимать, чай, не мальчик уж… — Анна Тимофеевна внезапно замолкла и с невозмутимым видом вернулась к позабытому было пасьянсу.
Такой неожиданное пробуждение интереса к картам смутило Шумилова. Он задумался и с немалым удивлением понял, что слова тетушки на самом деле были куда многозначительнее, нежели казались на первый взгляд. Неужели особое положение Жюжеван в доме Прознанских диктовалось тем, что в семье росли два юноши? Бросив на Алексея быстрый взгляд, тетушка решила помочь недостаточно быстрому мыслительному процессу молодого родственника:
— Видишь ли, Алёша, тебе простительно не понимать этих нюансов, поскольку ты вырос несколько в другой обстановке, чем молодые люди нашего круга, но ведь это старо как мир! Посуди сам, любая мать, у которой подрастает сын, рано или поздно задается вопросом — как мальчик войдет в мир… взрослых удовольствий. Согласись, лучше, если это произойдет дома, с проверенной здоровой женщиной, разумной, образованной; пусть это случится, так сказать на глазах, метафорически, конечно, нежели неизвестно с кем, …вернее известно — в этих вертепах. Это безопаснее во всех смыслах: мать будет знать, что ее сына не отравят в борделе, не ограбят, не опоят, не заразят, наконец, гадкой болезнью. Разумеется, для этого подбираются женщины с опытом. Гувернантки в этом плане — самый подходящий… э-э… вариант. Они образованны и могут увлечь юношу, к тому же зависимы от хозяйского расположения, нуждаются в средствах, в рекомендациях для последующей работы, а значит, не станут болтать лишнего. Многие и идут на это по договоренности с мамашами.
Алексей представил, что таким «вариантом» могла быть, по замыслу Софьи Платоновны, и м-ль Жюжеван, и от этой мысли Шумилову стало неприятно и даже как-то обидно за француженку.
— А что, эта француженка, — словно прочитав его мысли, спросили тетушка, — хороша собой?
— Ну, не то, чтобы уж очень хороша… — задумался Шумилов, пытаясь подобрать правильное определение, — но… да, в общем хороша, хоть и годится сыну Прознанских в матери. Тетушка, а в газете, которую прочел Филипп Андреевич на почтамте, что-нибудь говорилось о Жюжеван и покойном Николае Прознанском?
— Ну, что ты, Алёша, кто же станет о таких вещах рассказывать? Это стараются сделать тихо.
Разговор потек в сторону — об общих знакомых, о небывало дерзком преступлении Веры Засулич и ее недавнем оправдении, о чем не переставая спорил уже четвертую неделю весь Петербург, о дачных планах и прочее и прочее. Но Шумилов то и дело мысленно возвращался к услышанному от тетушки. Житейский взгляд опытной женщины на все эти «несуразности» в семье Прознанских, которым Алексей Иванович своим рациональным умом не мог найти объяснения, поставил все на свои места. Или почти все. Но в любом случае, любопытные предположения Анны Тимофеевны нуждались либо в подтверждении, либо — опровержении. Для ясности картины.
7
Понедельник начался хмуро. От вчерашнего солнца не осталось и следа. Дул противный ветер, все небо заволокло тяжелыми, низко нависшими над крышами домов облаками. Переменчивая петербургская погода в очередной раз показала свой капризный норов. Немногочисленные прохожие прятали головы в поднятые воротники. Зато в здании прокуратуры было тепло — печки исправно выполняли свою службу.
Вадим Данилович Шидловский, против своего обыкновения приехал рано, почти одновременно с Шумиловым. Он был озабочен и сдержанно-строг, разговаривать со своими четырьмя подчиненными не стал, лишь пригласил Шумилова зайти к нему в кабинет через пять минут.
— Ну, что у нас там с делом Прознанского? — деловито начал разговор помощник окружного прокурора.
— Это протоколы допросов: Софьи Платоновны Прознанской, матери покойного, гувернантки Мариэтты Жюжеван, соученика и друга Николая Прознанского Владимира Соловко, — Шумилов выложил перед начальником исписанные листы, покуда еще не вшитые в дело, — Кроме того, сегодня к вечеру у нас появится собственноручно написанная ротмистром Бергером записка с ответом на некоторые вопросы, поставленные мною. Я не уверен, что показания жандармского офицера следует оформлять в виде допроса, может, вообще без них следует обойтись? По большому счету, ничего существенного он не сообщил.
— М-м, посмотрим. Что ж, Алексей Иванович, ты, братец, молодец. Когда ж столько успел?
— В пятницу допросил, протоколы в субботу оформил, сегодня Жюжеван и Соловко должны заехать, подписать.
— Это хорошо. Бумаги должны быть в порядке, — задумчиво пробормотал Шидловский, — вот что, скажи пожалуйста, есть какие-нибудь следы радикальной группы или противоправительственных настроений в окружении покойного?
— Нет, Вадим Данилыч, явных следов пока нет… Обычные молодые люди. Круг интересов самый заурядный: ресторации, женщины, прогулки, а также развлечения известного рода.
— С женщинами, ты хочешь сказать? — уточнил помощник прокурора.
— Именно. Но покойный ездил с друзьями в бордель всего один раз, причем с женщиной не уединялся.
— Это довольно странно, — задумчиво пробормотал Шидловский, — Молодой мужчина, горячая кровь… Ладно, к этому мы вернемся, что там дальше?
— Николай Прознанский общался только с людьми своего круга, это было довольно тесная компания. Пока ничего предосудительного. Но я ещё не со всеми поговорил, с кем желал бы.
— Ну, а неявные следы?
— Гувернантка рассказала о случае с папиросами, он изложен в протоколе, который сейчас находится у Вас. Если кратко: 2 апреля сего года в присутствии своих приятелей Николай закурил папиросу из партии, которую некоторое время назад набивала Жюжеван. Папироса показалась ему необычной на вкус. Тогда гувернантка сама закурила и ей неожиданно стало плохо. Родители всполошились, вызвали доктора, он определил, что папиросную бумагу перед набивкой пропитали раствором морфия.
— Опять морфий! — помощник окружного прокурора с несвойственной ему эмоциональностью ударил ладонью по зеленому сукну стола, — И что же было дальше?
— Полковник все папиросы уничтожил, дети были наказаны за шалость. Члены семьи сошлись на том, что случившееся явилось затянувшимся продолжением первоапрельских розыгрышей.
— Так. Вот что решаем: опросы приятелей покойного следует продолжить. Надо выявить ВСЕ контакты Николая. Этим займетесь Вы в ближайшие дни. И еще: необходимо ещё раз переговорить с полковником Прознанским. Как ни крути, а в его доме было полно яда, даже цианид был, о котором, заметьте, он сам не рассказывал. С полковником я поговорю сам. Это первое. Второе — случай с папиросами. В свете гибели сына эта история приобретает совсем иной оттенок. Возможно, это была первая и неудачная попытка отравить Николая. Почему о папиросах с морфием ничего не сказали отец и мать Николая во время нашего посещения квартиры? Почему ничего об этом не сказал нам доктор Николаевский? Как-то это… неправильно. Не забудьте, Алексей Иванович, об этом происшествии поинтересоваться у лиц, с которыми будете беседовать. Третье: в анонимке, полученной канцелярией градоначальника, прямо сказано об «экспериментах с ядами», а Николай действительно увлекался химией, экспериментировал. Теперь главный вопрос: кто мог об этом знать? Разумеется, человек неслучайный, тот, кто был вхож в дом. А это опять же приводит нас к компании его сына.
Шумилов направился к Петру Спешневу, еще одному приятелю Николая Прознанского, упомянутого Софьей Платоновной. Тот, как и Николай, был студентом юридического факультета университета. «Сейчас утро, он скорее всего на занятиях,» — решил Алексей Иванович и направился на другую сторону Невы, к нарядным университетским корпусам.
Город жил своей обычной трудовой жизнью: толпы на тротуарах пестрели озабоченными клерками, студентами, офицерами всех родов войск, возрастов и званий; по улицам и проспектам спешили извозчики, экипажи и открытые коляски разнообразных фасонов и размеров. В Александровском саду, несмотря на скверную погоду, бонна прогуливалась с двумя маленькими девочками. Их ручки были укутаны в атласные голубые муфточки, а щеки розовели на ветру. «Как разумно устроена жизнь на этих скудных на тепло землях! — отстраненно размышлял Шумилов, — Каждому есть место, каждый может найти себе занятие и пропитание. Многие поколения трудились, чтобы создать здесь жизнь и порядок, возвести на болотах один из прекраснейших городов Европы. Зачем же разрушать общество, на протяжении столетий доказавшее свою способность к самоорганизации? Все эти нынешние радикалы твердят, что власть — это зло, они призывают уничтожить власть для достижения всеобщего счастья. Что могут знать о всеобщем счастье полуграмотные молодые люди, всерьез считающие, что духовная близость к русскому народу выражается в умении пить водку, закусывая её щепотью соли. Это зараза пострашнее холеры!»
Когда Шумилов подошел к университетскому зданию, раздался выстрел крепостной пушки, хорошо слышимый в восточной части Васильевского острова. «Ровно полдень», — подумал Шумилов, — «вероятно, скоро студентов отпустят обедать.» В училище правоведения, которое заканчивал Шумилов, на обед отпускали в четверть первого.
Он не ошибся. К тому времени, когда Шумилов отыскал аудиторию, в которой первый курс должен был слушать лекцию по римскому праву, протяжный звон рынды (прямо, как на корабле!) возвестил об окончании очередного учебного часа. Из аудиторий стали шумно вываливать студенты в форменных кителях. Они были оживлены и быстры в движениях. Пустынный до сего времени коридор сразу наполнился говором, смехом, скорыми шагами молодых ног. Иногда, продолжая начатый еще в аудитории диалог, в коридор выходила целая группа студентов, в центре которой важно шествовал профессор с папкой под мышкой.
Алексей Иванович не так давно сам, подобно этим молодым людям, слушал лекции, составлял рефераты, доклады и достойное публикации в «Юридическом вестнике» кандидатское рассуждение; вот так же, продолжая полемику, провожал профессоров до их кабинетов. Золотое было время! Алексей Иванович, всегда любивший учебу и хорошую книгу, поймал себя на мысли, что с удовольствием вернулся бы к изучению римского права, праматери юридической науки. «Основа аргумента», понятие «презумпции»; «презумпция естественная», или человеческая; «презумпция юридическая», или опровержимая; присяга на решение и присяга на верность; исключение из правила есть само правило — эти категории римского права звучали как музыка и по мнению Шумилова таили в себе странную притягательность. Постулированные более двух тысяч лет назад эти достижения лучших умов человечества и поныне сохраняли свою интеллектуальную глубину и совершенство формы.
Шумилов спросил у первого попавшегося студента, где можно найти Петра Спешнева, на что получил незамедлительный ответ: «Да вот же он стоит!». В голосе говорившего было столько неподдельного удивления, что Шумилову впору было самому поразиться — как же это можно было не знать Петра Спешнева! Посмотрев туда, куда кивком указал говоривший, Шумилов понял причину столь выразительной реакции на свой вопрос. Спешнев являл собой по-настоящему колоритную персону, одну из тех, которые невозможно было забыть, увидев хоть раз. Это был статный красавец, в каждой черточке которого чувствовалась порода, как у чистокровного жеребца. Он выгодно выделялся на фоне своих товарищей и высоким ростом, и статью, и тем особенным шиком, которым может одарить своих наследников лишь потомственная аристократия.
Спешнев о чем-то разговаривал с малорослым прыщавым студентом, но почувствовав на себе взгляд Шумилова, замолк и дождался, пока Алексей Иванович приблизился. Спешнев выглядел одновременно и равнодушным, и высокомерным — это тоже, своего рода, наследственная манера держаться, присущая большим барчукам. Даже если бы он сел в лужу, в прямом значении этого выражения, его бы лицо навряд ли потеряло бы это специфическое барственное отстраненно-возвышенное выражение.
Подойдя к Спешневу вплотную, Шумилов представился и попросил его некоторое время для разговора.
— Извольте, я готов, — обернувшись к своему товарищу, Спешнев завершил прерванный разговор, — Я буду ждать, не забудь заехать за Александровыми. В половине восьмого!..Я к вашим услугам, — он внимательно посмотрел на Алексея Ивановича.
— Скажите, Пётр… — Шумилов вопросительно взглянул на Спешнева.
— Просто Пётр, можно без церемоний.
— Скажите, вы хорошо знали Николая?
— Ну, формально были знакомы давно, но тесно общаться стали только в университете. Давайте пройдемся, — предложил Спешнев.
Они медленно двинулись по просторному коридору, а затем свернули в другой, более короткий, но с такими же высокими сводчатыми белеными потолками. Здесь было почти пусто и значительно тише. Собеседники уселись на длинную скамейку перед окном.
— Как вы считаете, у Николая Прознанского был широкий круг общения?
— Пожалуй, нет. Знакомых, конечно, было много, но тесно общался он лишь с несколькими людьми. Таковых было человек 5–6. Приятели по гимназии, но в основном по университету. Он вообще был достаточно замкнут.
— Вы их знали?
— Да, практически всех.
— Можете составить список? — Алексей Иванович вынул из портфеля и протянул Спешневу лист бумаги. Тот, задумавшись на секунду, подложил под листок объемистый том какого-то учебника, извлек из своего портфеля чернильницу-непроливайку и начал быстро писать. Получился столбик из шести имён. Задумавшись на секунду, Спешнев дописал в нижней строке еще одно имя.
— Скажите, Пётр, а не ссорился ли Николай с кем-нибудь в последнее время? не обязательно из вашей компании, а вообще? Знаете, ведь как это бывает — сегодня друзья, а завтра — совсем даже наоборот…
— Я понимаю Вас, — важно кивнул Спешнев, — Как говорится, избави, Господи, нас от друзей… Нет, ничего такого. Знаете, он вообще никогда не лез на рожон и не любил скандалов.
— Скажите, а он мог вспылить, если над ним подтрунивали?
— Да над ним, в общем-то, не трунили. Было как-то раз, когда разговор зашёл о его ухаживаниях за Верой Пожалостиной, но это такая мелочь…
— А как вы обычно проводили время? Я имею в виду вашу компанию.
— Мы встречались чаще всего по вечерам у кого-нибудь. Иногда ехали обедать в ресторацию, иногда ужинали друг у друга, и эти ужины могли затянуться до поздней ночи. Например, у Володи Александрова две милые барышни-сестрицы, вот мы и устраивали танцы. Ну, театр, конечно. Прознанские и Александровы абонировали ложи в Мариинском. Днём в воскресенье ездили на острова, осенью весело катались на тройках, зимой — с гор на санях. Ну… самые обычные занятия. Как у всех.
— А политикой интересовались?
— Мы же не на Луне живем! Россия пережила такую войну на Балканах, страна смыла позор Крымской войны, как тут можно не интересоваться политикой и не говорить об этом! Конечно, мы интересовались, что происходит в мире.
— Ну, с Балканской войной все более или менее ясно. Скажите, Петр, а кто-нибудь высказывал недовольство правительством или радикальные идеи касательно преобразования существующих порядков?
— Так вы об этой политике? — удивился Спешнев, — Нет, такие вещи мы никогда не обсуждали. Это дело неудачников, которых судьба обделила — ни имени, ни состояния, ни жизненных перспектив… Среди нас таких не было.
— Скажите, а летом, на каникулах молодые люди Вашего кружка поддерживали отношения?..
— Летом все разъезжаются в свои имения или снимают дачи в окрестностях. В городе оставаться невозможно, сами понимаете.
Тонкий намек Спешнева касался неудовлетворительного состояния городского хозяйства Петербурга. Канализационные стоки, выведенные в каналы и речки превращали мелкие протоки в настоящие клоаки, отравлявшие воздух вплоть до наступления морозов. Если в районе Невы и ее крупных рукавов это зловоние было ещё не очень заметно, то Обводный канал буквально задыхался в вони нечистот. Все сколь-нибудь состоятельные люди, не обязанные ежедневно ходить на работу, с мая по сентябрь оставляли столицу и переезжали на дачи в её ближайших окрестностях. Колкость (впрочем, невольная) намека Спешнева заключалась в том, что Шумилов, скованный обязанностями службы и денежными ограничениями, не покидал Петербург даже летом.
— Значит, ваш кружок летом распадается? — уточнил Шумилов.
— Не весь. Вот Николай, я знаю, все лето провёл с Сергеем Павловским — они жили на соседних дачах в Парголове.
— Как вы думаете, — перевел разговор Шумилов, — у Николая были романтические увлечения кроме Веры Пожалостиной?
— Романы? Думаю, нет. А вот связь с женщиной, зрелой женщиной — была. Он сам об этом рассказывал. Помню, мы ужинали у Фердинанда и разговор зашёл о женщинах, о плюсах и минусах длительных отношений. Ну, он и упомянул к слову, что такая связь, как у него, хороша тем, что не приходится опасаться никаких дурных последствий — болезней, дуэлей, шантажа, ну, Вы понимаете.
Шумилов инстинктивно напрягся:
— И кто же была эта дама?
— Гувернантка в их доме. М-ль Мариэтта Жюжеван. Опекала его, даже чрезмерно. Она часто проводила с нами время, могла и вина выпить, и папироску выкурить. Она вела себя весьма свободно, на коленях у Николая сиживала…
— А как он на это реагировал? Не смущался? Все-таки, она не была женщиной вашего круга, да и разница в возрасте…
— Ну, с женщиной нашего круга подобное было бы просто невозможно, вы же знаете чопорное воспитание наших девиц, Все эти тетушки, компаньонки, бонны, которые повсюду их сопровождают… А с м-ль Мари можно было не чиниться, по-свойски. Она была всегда весела, могла рассказать что-нибудь забавное, сыграть на гитаре, спеть. Она интересный собеседник, уверяю Вас. Да и связь со зрелой женщиной — не такая уж редкая вещь. Как вы думаете? — он прямо взглянул в лицо Шумилову, как бы давая понять, что у них у каждого или почти у каждого была в жизни своя «м-ль мари».
— Спасибо, Пётр, за обстоятельный рассказ. Сейчас, я вкратце запротоколирую сказанное Вами, дабы не вызывать на официальный допрос. У Вас есть десять минут?
— Да, разумеется, — Спешнев не стал возражать.
Покончив с формальной стороной дела, Шумилов распрощался со Спешневым и вышел из здания университета. В его портфеле лежал список, в котором, возможно, был назван убийца Николая Прознанского:
1. Павловский Сергей;
2. Виневитинов Иван;
3. Владимир Соловко;
4. Штром Андрей;
5. Пожалостин Андрей;
6. Обруцкий Фёдор;
7. Спешнев Пётр.
Шумилов не мог не отметить фамилию под номером семь. То, что Спешнев вписал в этот список самого себя отнюдь не означало, что этот молодой человек на самом деле являлся добросовестным свидетелем. Оперируя понятиями древнеримского права, о котором в этот день так кстати вспомнил Шумилов, можно было предположить, что честность Спешнева — это вовсе не свидетельство его «extra culpam» (невиновности), а хорошо продуманная «sofixma» (хитрая уловка).
И Шумилов отправился в прокуратуру.
Войдя в кабинет Шидловского, Шумилов сразу понял, что помощник окружного прокурора был не в духе. В воздухе висело напряжение. Вадим Данилович держал перед собой на столе раскрытое дело Прознанского, заметно потолстевшее за последние дни, и что-то выписывал из него на небольшие листы аккуратно нарезанной бумаги. Эти листочки помощник окружного прокурора называл «поминальными записками», он их составлял исключительно для себя и никогда никому не показывал. Два небольших листочка уже были усеяны мелким почерком Шидловского и в момент появления Шумилова тот заканчивал трудиться над третьим.
Шидловский из-под нахмуренной седой брови покосился на вошедшего, поздоровался и весьма нелюбезно поинтересовался:
— Что-то нужно, Алексей Иванович?
— Позвольте доложить, Вадим Данилович. Был в университете, опрашивал приятеля Николая Прознанского, Петра Спешнева.
— Ну-ну… — Шидловский отложил ручку и выжидательно посмотрел на Шумилова.
Последний рассказал в подробностях о встрече со студентом-аристократом, показал список из семи фамилий и сделал акцент на том, что пока ничто не указывало на реальность существования молодежной радикальной группы.
— Да, желательно допросить всех этих молодых людей, — согласился Вадим Данилович, — Займитесь этим, Алексей Иванович, в ближайшие день-два. Нельзя сбрасывать со счетов версию об отравлении Николая Прознанского членами радикальной молодежной группы из-за возможных разногласий или подозрений в неблагонадежности. Время сейчас неспокойное, сколько развелось вольнодумства! Мода пошла критиканством заниматься. Сынок последнего дьячка, поступив в студенты, начинает критиковать Власть. Можно подумать, эти сосунки лучше знают, как Россией управлять! Смешно, ей Богу! Смешно и грустно. Я вот даже думаю, что надо будет потолковать с Константином Ивановичем Кесселем — это думающий работник и в свете последних событий, неплохо осведомленный о политических процессах в молодежной среде.
Шумилов понял, что шеф говорит об обвинителе на процессе по делу Веры Засулич, стрелявшей в январе в столичного градоначальника. Кессель действительно слыл за думающего и компетентного работника прокуратуры и даже вынесение Засулич менее месяца назад оправдательного приговора не повредило его репутации. Общее мнение юристов, поддержанное и прямо озвученное министром юстиции Паленом, клонилось к тому, что Кессель на суде был хорош, но его поражение явилось следствием недостойных приемов защиты. Пален даже назвал Александрова, адвоката Засулич, «негодяем». Кроме того, много нареканий раздавалось в адрес проводившего этот процесс судьи Кони, который по мнению многих, в своем напутственном слове, обращенном к присяжным заседателям, сделал слишком много реверансов защите и тем ослабил впечатление от прокурорской речи.
— Кессель, готовясь к процессу Засулич, обратился к Третьему отделению с просьбой предоставить ему информацию об активности студенческих групп в столице, — продолжал между тем Шидловский, — Насколько я знаю, такую справку он получил. Возможно, кто-нибудь из окружения Николая Прознанского и мелькнул там, пусть даже вскользь. Чем черт не шутит, все-таки ниточка. Но тут новая версия вырисовывается, — Вадим Данилович шумно вздохнул и задумался. Брови его нахмурились, лицо приняло какое-то брезгливое выражение, — гувернантка эта, Мариэтта Жюжеван, была покойнику не просто гувернантка. Я сейчас был у Прознанских на квартире, полковник рассказал то, что обычно стараются не афишировать: у сына была с нею связь, почитай, с пятнадцатилетнего возраста.
Помощник окружного прокурора внезапно умолк, переместился в своем объемистом кресле, словно ему было неудобно сидеть.
— Что же его высокоблагородие три дня тому назад об этом ничего не соизволил сказать? Или четыре? — отозвался Шумилов. Услышанное неприятно поразило его и моментально вызвало недоверие. Хотя, разумеется, это была сугубо эмоциональная реакция, а потому недостойная юриста. Шумилов тут же раскаялся в собственной несдержанности.
— Вопрос, конечно, хороший, только риторический. Вот сам станешь отцом — поймешь чувства Дмитрия Павловича, — внезапно Шидловский поднялся с кресла и взглянул на свои массивные часы на золотой цепочке, — Знаешь что, голубчик, а не пойти ли нам обедать? Мне, признаться, на голодный желудок совсем не думается. За столом и потолкуем.
Приглашение на обед означало не только то, что недавнее раздражение начальника утихло, но также и то, что помощник прокурора был явно доволен Шумиловым. Совместную трапезу стоило рассматривать как знак поощрения и высокой оценки работы. Впрочем, Алексей Иванович, хоть и оценил необычность приглашения начальника, не очень удивился: что-то подобное должно было когда-нибудь произойти, поскольку делали они важное общее дело, проводили вместе много времени, да и принадлежали, по сути, к одному кругу людей. И вся-то разница между ними заключалась только в том, что один был постарше, а другой помоложе, один был уже в чинах, а другому только предстояло их заслужить.
8
Обедать они отправились на Литейный, в уютную ресторацию с претенциозным названием «Цезарь». В этот час заведение было заполнено немногим более чем наполовину. Хрустящие крахмальные скатерти манили белизной, бесшумно сновали вышколенные официанты, раздавались звуки механического органа, исполнявшего марш из «Гугенотов», впрочем, негромкие и не мешавшие застольной беседе. Публика была приличная, в основном чиновники чином постарше, несколько офицеров. Дам было немного, все в подобающих случаю дневных туалетах. Умиротворенный гул голосов, позвякивание обеденных приборов, а, главное, манящие запахи свидетельствовали о том, что встречают здесь радушно, а кормят вкусно. Как оказалось, Вадима Даниловича в «Цезаре» хорошо знали и сразу провели в отдельный кабинет. Это была небольшая, соединенная с общим залом аркой, комнатка с двумя уютными диванчиками у стен и столом посередине. По мере надобности арку задергивали тяжелой драпировкой с кистями, и это создавало обстановку интимности и отгороженности от всего прочего мира. Не успел Шумилов оглянуться, как на столе появились приборы, закуски и небольшой, буквально грамм на двести, графинчик коньяка. Вадим Данилович заботился о своем пищеварении и как истый русский барин коньяк почитал как первейшее средство для поддержания здоровья — в разумных количествах, естественно.
К трапезе приступили под разговоры о погоде и прелестях дачной жизни в летний сезон. Алексею Ивановичу не терпелось услышать продолжение заинтриговавшей его темы о Николае Прознанском, но он боялся вызвать неудовольствие начальника и не задавал вопросов. И только когда приступили к стейку, Вадим Данилович вернулся, наконец, к недосказанной в кабинете теме:
— Так вот, Алексей Иваныч, у покойного Николая, оказывается, был роман с мадемуазель. Началось это, когда ему было что-то лет 15 — мальчишка совсем! Хотя, как сказать, — Шидловский хитро искоса взглянул на Шумилова, — у молодых людей такое иногда случается и в 15 лет — влюбятся в женщину старше себя, и ну страдать… Помню, и со мной было — семнадцатилетним приехал к батюшке в деревню на каникулы, а там — молодая жена соседа-помещика, красивее женщины не видел… кх-хм, смешно это было, что и говорить! — он смущенно крякнул и принялся сосредоточенно жевать. — Ну, так вот, одно дело — платоническое, так сказать, чувство, и совсем другое — плотская связь, как в случае с Прознанским.
— Петр Спешнев тоже говорил о связи с гувернанткой, но со слов самого Николая.
— Да, а тут не просто разговоры, тут свидетель, который сам видел!
— Свидетель? — переспросил Шумилов.
— Именно! Сам полковник! — с торжеством в голосе отчеканил помощник окружного прокурора. — Как-то раз, это было почти 2 года назад, он застал парочку за непристойным занятием — мадемуазель удовлетворяла мальчишку…рукой. Ну, вы понимаете, что должен был подумать отец… Непростительное поведение для зрелой опытной женщины, употребившей во зло доверие семьи. Развращение неопытного юного сердца, которое только входит в мир, так сказать… во взрослый мир искусительных соблазнов… нестойкий и неискушенный юноша… — Шидловский попытался выстроить зажигательную фразу, полную разоблачительного огня, но явно не смог найти нужных слов. Вместо разящей тирады он склеил несколько тягучих неуклюжих комков, которые невозможно было распутать по словечку, а следовало разрубить одним махом.
— И что же полковник? Какие меры он предпринял? — довольно бесцеремонно остановил это словоблудие Шумилов.
— Ну… мальчики очень ранимы в этом возрасте, — помощник окружного прокурора прикончил мясо в своей тарелке и удовлетворенно откинулся на спинку стула, — Поэтому отец не рискнул вести с сыном наставительные разговоры на столь щекотливую тему. Но в то же время полковник был очень озабочен тем, что у Николая разовьется склонность к онанизму. Он и так и сяк думал, что надлежит предпринять в сложившейся ситуации и нашел другой способ воздействовать на сына: положил на видное место книгу какого-то немецкого медицинского светилы, который много изучал это явление и описал все его пагубное воздействие на неокрепший юный организм.
Официант скользил вокруг незаметно и ловко. Последовала перемена блюд и вместо опустошенных тарелок, как бы сам на столе появился десерт — дыню в шоколадной глазури. Алексей Иванович был не особенно избалован изысками кулинарии, ягоды и фрукты ел по обыкновению летом, когда приезжал к отцу в деревню. И теперь, в апреле, в только отогревающемся от зимней стужи Петербурге эта дыня показалась ему далеким приветом, неожиданно напомнившим знойное летнее небо, и запах трав, и сочные ароматные дыни на отцовской бахче. От выпитого коньяка лицо Вадима Даниловича чуть порозовело, черты помягчели, глаза подернулись влажным блеском. Ничто не мешало неспешному течению беседы.
— Так вот, друг мой. Ты понимаешь, что получается? Ведь это ж в корне всё меняет! Тут же вырисовывается убийство из ревности! Представь, страсть, мучения зрелой женщины, которая была отвергнута, уязвленное самолюбие — «я отдала ему все, а он предпочел мне другую»… и как следствие — задуманная и осуществленная месть. И вот тогда она прибегает к морфию Николая, который и дает молодому человеку вместо лекарства, — Лицо помощника окружного прокурора выражало высшую степень воодушевления и азарта, — Тогда и история с папиросами получает логическое объяснение!
— Но ведь тогда пострадала сама Жюжеван! Причем, наперёд невозможно было знать, сколь быстро и сильно подействует на женский организм морфий, разогретый горячим папиросным дымом, — заметил Шумилов.
— Откуда мы это знаем? Вот именно — со слов самой Жюжеван! Ну, посуди — это же очевидно! — она готовила папиросы для Николая, крутила бумажные гильзы и набивала их табаком. Ей бы вообще не пришлось курить эти папиросы, если бы Николай не обратил внимание на их странный вкус. Момент чтобы спорить был неподходящий — у Николая в гостях были приятели, поэтому Жюжеван быстро схватила папиросу, возможно, полагаясь на то, что все окончится благополучно. Да, ей сделалось дурно, но она была уверена, что ее спасут, ведь рядом были люди. В этом деле большую роль играет то, сколь быстро будет оказана помощь. А вот если бы, скажем, Николай Прознанский выкурил парочку папирос на ночь глядя? Представляешь, утром бы нашли… никаких следов, умер во сне. Почему — не ясно… Вот потому-то она и выхватила тогда у него папиросу и изобразила, как ей дурно. Единственный её просчет в том, что полковник — человек в высшей степени внимательный. Благодаря его вмешательству было выявлено, что папиросы отравлены. А другой на его месте ничего бы не предпринял. И всё осталось бы шито-крыто.
— Но ведь она сама мне рассказала об этой истории, — в голосе Алексея Ивановича сквозило недоумение.
— Да-а, Алексей Иванович, вы ещё так молоды и зелены, уж простите за откровенность. А что же ей еще оставалось делать?! — с этими словами Шидловский наклонился над столом, его глаза цвета испитого чая смотрели жестко, он был полон непреклонной убежденности в своей правоте, — Она же поняла, что ещё день-два-три и мы всё равно узнаем об этом инциденте. Вор громче всех будет кричать «держите вора!» Наша француженка благоразумно решила, что лучше самой пораньше об этом рассказать, да в выгодном для себя свете представить.
— Вадим Данилыч, а как же тогда анонимка? Как это стыкуется с убийством из-за ревности?
— Ну, во-первых, мы пока не будем сбрасывать со счетов и версию о существовании радикальной группы. До тех пор, пока полностью не убедимся, что никаких подозрительных контактов у Николая не было. А для этого, как минимум, надо опросить всех приятелей Прознанского. Во-вторых, надо будет провести сличение почерков приятелей Николая, а также Мариэтты Жюжеван с почерком автора анонимки. Правда, тут есть одна загвоздка — он задумчиво теребил в пухлых белых пальцах салфетку, — давайте признаемся, что наука это тёмная! Однако, попробовать не мешает. Иногда опытный графолог может назвать не только гимназию, которую закончил автор, но даже и год окончания. Но я не удивлюсь, если вдруг окажется, что анонимка, попавшая в канцелярию градоначальника, вышла из-под пера Жюжеван. Чем она руководствовалась при ее написании я, конечно, пока объяснить не могу; я не Господь Бог и души человеческие как открытые книги не читаю.
Шумилов раздумывал над словами своего начальника и чем больше он думал, тем больший протест они в нем вызывали.
— Все это представляется мне очень странным, — пробормотал он в конце-конце.
— Что именно?
— Вся эта история про удовлетворение рукой, про книжку немецкого медика… Робеющий господин полковник, не находящий слов для объяснения с сыном, и подбрасывающий ему книжку. Либо это выдумка, либо в этой истории очень много недосказанного. Еще римляне сформулировали один из принципов уголовного права: testis idoneus pater filio (отец неподходящий свидетель в деле сына)…
— …aut filius patri non est (а сын — в деле отца) …, — закончил мысль Шидловский, — это все, конечно, так. Но нет никаких оснований отмахиваться от заявления полковника. Нам нужны независимые свидетельства, а для этого надо допросить прислугу в доме Прознанских, ведь если связь была, прислуга наверняка в курсе.
Вадим Данилович сидел в расслабленной позе, переваривая сытный обед. Глаза его довольно жмурились, как у кота, только что полакомившегося сметанкой. Алексей Иванович тоже ощущал приятное умиротворение в организме. Прямо из ресторана они разъехались каждый по своим делам.
Алексей Иванович Шумилов поехал на квартиру Сергея Павловского. Тот жил с отцом, генерал-лейтенантом, в небольшом особнячке на Конногвардейском бульваре. Парадная лестница, заворачиваясь винтом, вела в большую зеркальную залу с громадными, от пола до потолка, окнами; помещение это, вне сомнений, служило зимним садом. Пальмы в кадках и экзотические фикусы с громадными листьями, почему-то испещренными дырочками, круглый, голубой с белым персидский ковер на полу, изящный ломберный столик с искусно выложенной китайской мозаикой — все в этом помещении создавало настроение неги, удовольствия. Падавшие через большие окна косые солнечные лучи накалили неподвижный влажный воздух и Шумилов почувствовал, как испарина моментально выступила на его лбу. Ждать хозяина долго не пришлось: буквально через полминуты в зимний сад вошел невысокий молодой человек с полученной от лакея визиткой Шумилова в руках.
— Павловский Сергей Александрович, студент историко-филологического факультета, — представился он, — Чем могу служить?
— Мне необходимо задать Вам, Сергей Александрович, несколько вопросов относительно Ваших отношений с Николаем Прознанским. Предлагаю вначале поговорить в форме, если можно так выразиться, свободного диалога, а в дальнейшем самое существенное из сказанного я оформлю в виде Ваших официальных свидетельских показаний. В связи с чем обращаю Ваше внимание на необходимость соблюдения точности и правдивости, поскольку на основании этих показаний может быть решен вопрос о Вашем вызове в суд в качестве свидетеля и приведение там к присяге. Я Вас официально об этом предупреждаю как требует того статья 443 Устава уголовного судопроизводства.
Молодой человек, казалось, несколько секунд переваривал услышанное, затем с видом радушного хозяина улыбнулся и широким жестом пригласил следовать за ним:
— Я знаю место, где нас не потревожат!
Хозяин дома провел Шумилова в просторную библиотеку, все стены которой были заняты книжными шкафами. На изящном лавсите — коротком диванчике для двух человек — сидели две совсем молодые девушки в одинаковых голубых платьях; они сосредоточенно изучали книгу, лежавшую у них на коленях.
— Милые сударушки, — обратился Сергей к барышням, — позвольте нарушить ваше уединение. Мне надо поговорить с господином Шумиловым из окружной прокуратуры.
Девушки всё поняли без лишних слов, синхронно подскочили, сделали книксен и моментально удалились.
— Мои кузины, — пояснил Павловский, — сдается мне, читали они вовсе не историю аргонавтов.
Молодой человек закрыл книгу, забытую сестричками на лавсите, и поставил её на полку. Шумилов успел заметить, что это был том Расина на французском языке. Стало быть любовная французская лирика волновала девичье воображение много больше древнегреческих сказаний.
Заметив, с каким интересом Шумилов рассматривает толстые фолианты на застекленных полках, Павловский не без гордости пояснил:
— Ещё дед собирал, многие экземпляры привез из французского похода. Он, знаете ли, в Париже больше всего книгами интересовался. Тут и Расин, и Ларошфуко, и все энциклопедисты в прижизненных изданиях на французском.
— Неужели Вы всё это одолели?
— Конечно, нет. Но многое. Будем считать, что любовь к чтению у меня наследственная, — пошутил Павловский, — Итак, чем я могу быть полезен Вашему, Алексей Иванович, ведомству?
— Сергей Александрович, расскажите о Николае. Что он был за человек?
Они сели друг против друга в объемистые кожаные кресла. На маленьком столике на серебряном подносе лежали газеты и тут же — нож для разрезания бумаг.
— Мы с ним еще с гимназии дружили, с самого детства. Особенно в младших классах были неразлучны. Тесно общались до последнего момента… до его смерти, но в последнее время уже не так, как раньше, без прежней близости. Знаете, хоть и в одном университете учились, но я больше увлекся историей, а он — химией. Встречались в основном нашим кружком.
— А летом?
— Да, и летом. Дачи наших семейств были практически по соседству, чуть не доезжая Стрельны, так что мы все последнее лето вместе провели. На даче ведь занятия не слишком разнообразны, — ну, на лодке покатаешься, по лесу побродишь, качели, чай на веранде… И вот я, знаете ли, затеял ставить спектакль силами всех наших дачных соседей, репетировали чаще всего у нас. У Николая тоже была роль, но участвовал он словно по принуждению, словно ему самому это было не особенно интересно. Виделись, однако, чуть ли не каждый день.
— А чем же он занимался?
— Много читал, что-то там химичил… А после обеда и уж до самого вечера — к нам. Или я к ним.
— Скажите, а среди дачных знакомых Николая попадались люди не вашего круга, может, какие-нибудь, студенты-разночинцы или, может, сельские врачи?
— Нет… Впрочем, вру, были две барышни — дочери профессора Лесотехнической академии. Их матушка приходилась какой-то роднёй нашим соседям Волчаниновым. Да это, пожалуй, и все.
— А среди университетских знакомых Николая были люди левых, как теперь говорят, взглядов, из тех, что любят потолковать об «общественном благе»?
— В университете, конечно, немало всякого сброда, да только мы с ними не пересекаемся, вращаемся по разным орбитам. Ну, скажите, что может быть общего у нас с ними?! Представляете, у них верхом доблести считается умение пить водку, да не просто пить, а обязательно пить и солью закусывать! Видали вы эдакое?! Бахвалятся тем, что живут в грязи и сапоги носят нечищеные. Этакая особенная гордость у них! Они нас презирают за то, что мы правильно говорим по-французски и не сморкаемся посредством двух пальцев.
Откуда-то снизу послышались звуки рояля, и девичий смех. Сергей на минуту замолчал, как бы прислушиваясь, потом продолжил:
— Нет, вы поймите меня правильно, я не кичусь тем, что судьба ко мне благоволила и позволила родиться в семье потомственного офицера, но ведь надо же уважать человека прежде всего за то, что он сам такое! Вот, к примеру, наш семейный доктор — сын бывшего крепостного. Кончил курс, своим усердием добился положения… И почему же его не уважать? А все эти… либералы, радикалы… Никчемные людишки.
— Скажите, а на даче у Прознанских жила гувернантка, м-ль Жюжеван?
— Жила, но не постоянно, оставалась на 3–4 дня, а потом уезжала на пару дней в город.
— А какие у нее были отношения с Николаем?
— Она продолжала заниматься с ним французской грамматикой, но даже больше времени проводила просто так — то на лодке мы все вместе катались, то она нас усадит клубнику перебирать, да так, что мы все перепачкаемся. А вообще-то, было весело тем летом. Купаться ходили на озера, мы втроем, еще и Алешка, младший брат Николая, с нами.
— Вопрос интимного свойства: Николай не завел интрижки с кем-либо из крестьянок? — спросил Шумилов.
— Нет, ну что Вы?! — изумился Павловский, — Простолюдинки наших северных провинций уж больно… невзрачны. А почему Вы спросили?
Шумилов, разумеется, не стал объяснять своему собеседнику, что в пору своего возмужания именно с обычной казачкой получил первый интимный опыт. Гувернантки у Шумилова никогда не было и юношескую проблему Алексея Ивановича просто и без лишних затей решил пожилой кучер Остап, инвалид Крымской войны, за пять рублей столковавшийся с веселой черноглазой казачкой. Имени её Шумилов даже не узнал; случилось это словно бы мимоходом, во время поездки, имевшей совершенно другую цель.
— Я должен был задать этот вопрос, — уклончиво проговорил Шумилов, — А каковы были Ваши отношения с Николаем Прознанским в городе?
— Он как-то раз на вечеринке после изрядной порции коньяка рассказал, что состоит в связи с Жюжеван. Ну, так и что ж тут такого? Мы уже не дети, да и она не барышня из монастырского пансиона…
— Как долго длилась эта связь? — уточнил Шумилов.
— Он говорил, что с весны 1877 года.
— Вы ничего не путаете, Сергей Александрович? Речь шла именно о 77-м годе?
— Разумеется. Ему следовало готовиться к поступлению университет, они много времени проводили вместе, Жюжеван помогала готовиться. Вот тогда-то все это и случилось.
— Какие-то интимные подробности Николай приводил в подтверждение своих утверждений?
— Нет, от него никто этого и не требовал.
— Молодые люди склонны делиться пикантными подробностями. Для них это новый, еще очень необычный опыт. Так коллекционер спешит похвастаться своим последним приобретением, — постарался объяснить свою мысль Шумилов.
— Нет, Николай никаких особых деталей своих интимных отношений с Жюжеван не разглашал. К чему Вы, вообще, клоните? — Павловский явно недоумевал.
— Хорошо, поговорим о другом, — Шумилов демонстративно проигнорировал обращенный к нему вопрос, — Расскажите о поездке в бордель в компании с Прознанским.
Взгляд Павловского неожиданно скользнул вниз и он на секунду сделался похож на нашкодившего кота. Впрочем, в следующую секунду он ощерился:
— А это-то кто Вам напел?
— Представьте себе, об этом я прочел в свидетельских показаниях Соловко Владимира. Он что-то напутал? Прежде чем ответить, вспомните о статье 443 Устава уголовного судопроизводства.
— Нет-нет, я не говорю, что Соловко лгал. И я сам лгать не намерен. Просто деликатность темы заставляет быть осторожным в рассказах.
— Разумеется, — согласился Шумилов, — Так что там было в борделе? Как себя вёл Николай Прознанский?
— Представьте себе, напился, много играл на гитаре, бесцеремонно щипал девок, те хохотали и влюбились в него поголовно. Но он ни с кем не уединялся. Я, правда, сам отходил… аж даже дважды за вечер… но Прознанский так ни с кем… ничего… и не собрался.
— А Вам это не показалось странным? — сказав это, Шумилов сразу же пожалел о слишком очевидном подтексте вопроса. Впрочем, его собеседник не понял скрытого смысла услышанного:
— Нет. Возможно, так проявилась привязанность Прознанского к гувернантке.
Шумилов придерживался иной точки зрения, но говорить этого не стал. Он начал писать протокол допроса, а Павловский терпеливо сидел рядом, ожидая, пока Шумилов закончит. Пару раз в дверь тихонько стучали и в библиотеку заглядывала одна из кузин Павловского. На третий раз она наполовину отважно вошла и остановилась на пороге таким образом, что дверь закрывала половину ее лица и фигуры:
— Серж, может вы закончите свои скучные разговоры и присоединитесь к нам? Мы с Вандой уже придумали второй куплет. Получилось очень смешно, — в её голоске прозвучали интонации капризного ребенка, которого все любят и которому все прощается.
Павловский раздосадованно отослал её за дверь движением руки. Выглядел он очень задумчивым, видимо, концовка разговора с Шумиловым произвела на него удручающее впечатление.
— Спасибо, что уделили мне время, — поблагодарил молодого человека Шумилов, когда с формальностями было, наконец, покончено.
Провожаемый до дверей почтительным лакеем, он думал: «Здесь, в этом деле, врут все. Или, как minimum, противоречат друг другу. Полковник Прознанский утверждает, что Жюжеван была любовницей сына на протяжении по крайней мере двух лет. Сам Николай Прознанский заявил своему другу Павловскому, что интимной близости с гувернанткой добился год назад. Какой ему резон преуменьшать свой подвиг? Любой бы мальчишка гордился этакой победой и уж в кругу друзей живописал бы её во всех красках, даже несуществующих. При этом он едет в бордель, где не предпринимает никаких попыток интимной близости. Для чего же, спрашивается, он туда отправлялся? Потренькать на гитаре да спеть скабрезные стишки Лермонтова? Он не хотел близости с проституткой? Или не смог? Последнее ближе к истине. Хорош полковник Прознанский: он вроде бы негодует на служанку, соблазнившую сына, но не предпринимает ничего, чтобы избавиться от неё. Тетушка Анна Тимофеевна, судя по всему, права в главном: связь Николая Прознанского с гувернанткой санкционирована матерью молодого человека. Но при этом я не вижу ни малейшего мотива для преступных действий Жюжеван. Впрочем, и следов радикальной организации я тоже пока не вижу. Ну, не невидимки же они в самом деле? И кто-то же писал анонимку в канцелярию градоначальника. И кто-то пропитывал опием папиросы Николая Прознанского!»
Алексей Иванович размашисто шагал в сторону Медного всадника. Вечерело. От Невы тянуло холодом, прохожие ежились и ускоряли шаг. «Когда же придет настоящее тепло?» — думал Шумилов. Деревья умные, они не верили обманчивому северному солнцу и не спешили показывать нежные листочки. Только у южной стены Адмиралтейства, куда не задувал холодный ветер, на сирени готовы были лопнуть набухшие почки. Алексей Иванович вышел на Гороховую и направился в прокуратуру, чтобы оставить протокол допроса Павловского — благо, было по пути, — и только затем пошел домой.
9
На следующий день Алексей Иванович пришёл на работу с твердым намерением допросить остальных участников приятельского кружка Николая Прознанского; если и не всех, то хотя бы некоторых — Иван Виневитинова, Андрея Штрома. Но этим планам в этот день так и не суждено было сбыться. Все началось с прихода помощника окружного прокурора. Он появился в кабинете делопроизводителей озабоченный и кратко пригласил Шумилова: «Алексей Иванович, зайдите ко мне». От вчерашнего сытого довольства не осталось и следа. Вадим Данилович был в начищенном мундире, из чего можно было сделать вывод, что он намеревался предпринять официальные визиты.
— Сегодня едем разговаривать с Кесселем. Мы его перехватим в Министерстве, здесь у нас он сегодня не появится. Будешь меня сопровождать, — Вадим Данилович достал свои часы, открыл крышку, прислушался к мелодичному звону. Шумилов понял, что шеф предполагает отправиться в Министерство юстиции на Малой Садовой. Решение это было логичным, принимая во внимание, что Кессель уже пару недель находился в отпуске и на службе не показывался.
— Отправимся через четверть часа, список с фамилиями приятелей Прознанского не забудь, — распорядился Шидловский.
Пока казенный экипаж вёз их по блестевший после ночного дождя булыжной мостовой Невского проспекта, Вадим Данилович по-прежнему оставался мрачен и молчалив. Только однажды он проговорил лаконично:
— Прислушивайся к словам, Константин Ивановича. Это думающий и очень компетентный работник, человек большого ума и опыта. В столице он оказался по протекции председателя окружного суда Кони, они были большими друзьями. Не знаю, правда, как сейчас…
Недосказанная мысль Шиловского была вполне понятна Шумилову: процесс Веры Засулич вполне мог разрушить добрые отношения Кони и Кесселя. В адрес первого раздалось немало упреков, причем, как со стороны представителей прессы, так и членов юридического сообщества. Обвинитель вполне мог перенести антагонизм из сферы профессиональных отношений в область отношений личных.
Шумилов знал, что помощник окружного прокурора Кессель вполне обоснованно пользовался хорошей репутацией среди работников прокуратуры. Известность Константину Ивановичу принесло довольно необычное дело, связанное с подозрениями в адрес родственников баронессы Фитингоф, якобы, живьем похоронивших старушку. Гроб с её телом для проведения непрерывной заупокойной службы был доставлен в Сергиевский мужской монастырь под Стрельной, один из самых известных монастырей, расположенных поблизости от Санкт-Петербурга. Ночью в монастырском соборе монах, читавший Псалтырь на аналое, услышал шум, исходивший из гробов, установленных подле. Немедленно были вызваны игумен и некоторые наиболее уважаемые насельники обители: все они также услышали подозрительные шумы. Возникло подозрение, что в одном из гробов находится живой человек. Однако, после открытия гробов предположение это не подтвердилось. Однако, некоторый беспорядок внутри гроба баронессы наводил на мысль о том, что женщина, после закрытия гроба двигалась, а стало быть, оставалась живой. Баронесса была очень богатой женщиной и нельзя было исключать того, что она стала жертвой интриги неких лиц, заинтересованных в наследовании её состояния. Первоначальная версия следствия сводилась к тому, что пожилую женщину пытались отравить, возможно, используя для этого сильное снотворное. Почти полтора суток баронесса оставалась без чувств и лишь в монастыре ненадолго пришла в себя, чтобы умереть, не дождавшись помощи.
Кессель очень осторожно повёл следствие, преодолев соблазн поддаться первому впечатлению. Он никого не спешил обвинить и на корню пресек все попытки разглашения фамилии женщины, вокруг которой разыгралась вся эта история: для жителей Петербурга она так и осталась анонимной «госпожой Ф.» Помощник прокурора окружного суда убедительно доказал, что никакого отравления баронессы не было и шум в ночном соборе, хотя и имел криминальную природу, но никоим образом не был связан с нею.
Шидловский с Шумиловым прошли в здание министерства через боковой подъезд; главный открывался только для прохода министра юстиции графа Константина Палена, его товарищей (заместителей) и обер-прокуроров Сената. Помощник прокурора окружного суда быстро и уверенно прошёл к секретариату Фриша, одного из товарищей министра юстиции, и скользнул за дверь, пробормотав негромко Шумилову: «Я быстро, подожди здесь». Буквально через полминуты он вернулся в сопровождении Кесселя. Шумилов услышал обрывок фразы, начатой последним еще за дверью «У меня через четверть часа аудиенция у Эдуарда Васильевича, я нарочно приехал пораньше».
Шидловский официально представил Кесселю своего помощника, они чопорно поприветствовали друг друга.
«Константин Иванович, мне надо от Вас всего-то несколько слов, пройдемте в курительную комнату», — Шидловский был с Кесселем в одном чине, но старше по возрасту, так что особенно с коллегой не церемонился.
В большом просторном коридоре звук шагов скрадывался толстыми ковровыми дорожками, двери открывались и закрывались бесшумно, разговоры велись приглушенно, вполголоса и неспешно. И поэтому, даже несмотря на то, что сновавших туда-сюда чиновников и посетителей было в этот предобеденный час немало, здесь — возле кабинетов высших руководителей Министерства — царила тишина. Шидловский, Кессель и шедший на полшага позади них Шумилов, прошли в конец коридора и очутились в просторной, обставленной кожаной мебелью курительной. После пожара, произошедшего в Министерстве юстиции в декабре 1876 года, под курительные комнаты были выделены на каждом этаже просторные помещения, оборудованные добротной мебелью и декорированные на манер солидного английского клуба. Это было не только и не столько место для курения, но и комната для кулуарного общения посетителей министерства.
Все трое разместились на длинном диване с высокой неудобной спинкой, причем, Кессель оказался между Шумиловым и Шидловским. Последний без обиняков приступил к делу:
— Константин Иванович, сейчас я веду дело об отравлении морфием сына жандармского полковника Прознанского. Есть основания полагать, что 18-летний юноша попал в компанию нигилистического толка, интересовавшуюся возможностью кустарного получения ядов. Признаюсь, не хочу обращаться к нашей секретной полиции, поскольку ведомство сие будет тянуть жилы, напускать туману и в конечном итоге ничего по существу мне не сообщит. Я знаю, что совсем недавно Вы вплотную занимались молодежью этого сорта и хорошо представляете себе обстановку в студенческой среде столицы. Константин Аркадьевич, взгляните, пожалуйста на списочек, — Шидловский просигналил Алексею Ивановичу глазами, и тот подал Касселю список, составленный Спешневым, — Это молодые люди, свидетели по нашему делу, может, кто-то из них попадал в поле Вашего зрения?
Константин Аркадьевич Кессель, был высок, суховат, выглядел он в эту минуту очень спокойным. Видимо, у него были какие-то служебные неприятности, не зря же Шидловский пошёл на то, чтобы перехватить его в Министерстве, в секретариате товарища Министра, а не в прокуратуре. Однако ничем Кессель не выразил своего неудовольствия, а напротив, самым внимательным образом выслушал Шидловского и углубился в чтение короткого списка, полученного от Шумилова.
— С полковником Прознанским я лично никогда не общался, но имею представление, что это за человек, — задумчиво проговорил Кессель, — Да, действительно, фамилии тут у вас достаточно известные. Павловский, насколько я могу судить, это родственник генерал-лейтенанта от кавалерии.
— Сын, — кивнул Шумилов.
— Потом, Андрей Пожалостин. Уж не родственник ли это действительного тайного советника?
— Да, это его сын, — снова кивнул Шумилов.
— Насколько я слышал из внушающих доверие источников действительный тайный советник Николай Николаевич Пожалостин — это человек, отвечающий за личный шифр Его Императорского Величества. Разумеется, это сугубо кулуарно и никем никогда официально подтверждено не будет, но слова мои примите к сведению. Я не допускаю мысли, что в семье такого человека может пустить корни политическая неблагонадежность.
Шумилов с Шидловским быстро переглянулись.
— Вот еще знакомая фамилия: Спешнев…, — Кессель задумался на несколько секунд, — Спешнев, Спешнев… Мелькала эта фамилия, но только давно, в 1849 году, почти тридцать лет тому назад. Проходил тогда по делу петрашевцев некий Николай Спешнев, зажиточный помещик. Был осужден на 12 лет каторги, замененные высочайшим указом на 10 лет. Отбыл наказание, остался на поселении в Иркутске, редактировал там газету «Иркутские ведомости». Может, стоит проверить, не родственник ли он вашему Спешневу? А так больше… нет, никто никаких ассоциаций не вызывает.
Кессель вернул лист бумаги Шумилову и, обращаясь прямо к нему, проговорил:
— Имейте в виду, Алексей Иванович, что все эти радикальные социалисты — публика особенная: это преимущественно провинциалы, из мещан или обедневших дворян, отставные коллежские асессоры, учителя приходских училищ, студенты из семей разночинцев. Обиженные судьбою, выросшие с постоянным ощущением нужды и осознанием собственной человеческой неполноценности. Если и попадется среди них отпрыск богатого помещичьего рода, как упомянутый Николай Спешнев, то непременно окажется, что такой недоросль учился за границей и там понахватался всяких фурьеризмов, материализмов. Языком болтать эта публика может ловко, вот только думать своей головой так и не научилась.
Серые, без блеска глаза Кесселя не мигая буравили лицо Шумилова, а глухой, без ярко выраженного тембра вдруг сделался очень четким и внятным, словно у преподавателя актерской риторики:
— Меня по-настоящему беспокоит тот интерес, я бы даже сказал, временами СОЧУВСТВЕННЫЙ интерес, который вызывают в широкой публике возмутительные события, подобные дерзкой выходке Веры Засулич. Подумать только! Засулич, видите ли, преследовала высокую, гуманную цель! Она выражала протест против поругания человеческого достоинства политического преступника. Наши социалисты всерьез считают, что гуманизмом можно оправдать стрельбу, убийства и взрывы. Эти люди потеряли всяческие нравственные ориентиры. Террор, оправдываемый социалистической демагогией, ведёт Россию в пропасть.
Кессель поднялся, давая понять, что время разговора исчерпано. Шидловский, а следом и Шумилов, тоже встали:
— Спасибо, Константин Иванович, за помощь, спасибо, что выкроили время. Не смеем более отрывать от дел. Позвольте откланяться.
Коллеги расстались довольные друг другом. Шидловский явно испытал приток сил и сделался весьма словоохотлив, не в пример тому, каким он был буквально четверть часа тому назад.
— Кессель подает кассацию на оправдательный приговор по делу Засулич, — пояснил он Шумилову причину поездки в Министерство юстиции, — он последние дни мечется между Сенатом и Министерством, обговаривая сопутствующие нюансы. Мы правильно сделали, что приехали сюда.
Это для Шумилова было новостью, ещё никто в Петербурге не знал, что обвинение решилось добиваться кассации решения суда присяжных по этому скандальному делу.
— Ну что, Алексей Иванович, какие будут мысли? — продолжал рассуждать вслух Шидловский на обратном пути в прокуратуру, — Как-то не вырисовывается у нас подпольная молодежная группа.
— Надо будет навести справки о происхождении Петра Спешнева. Обратиться в адресный стол. Может быть, стоит даже поднять в архиве материалы по делу петрашевцев?
— Я думаю, адресного стола будет достаточно. Особенно мудрить не надо, можно прямо спросить самого Спешнева, уверен, он не станет скрывать родословную под запись в протокол. Займитесь этим, — распорядился Шидловский, — Но только завтра, а сегодня вы мне понадобитесь для допроса прислуги Прознанских. Я вызвал кухарку и горничную. Допрос проведите сами, возьмите секретаря — для быстроты работы — пусть всё запишет. Да посмелее с ними! Эти люди по роду своего положения в доме все видят, все знают, но разговорить их бывает не просто. Помните, что частенько эти люди боятся сболтнуть лишнего не от злого умысла, а из страха, что им от места откажут. Вот вам примерный список вопросов, который я хотел бы увидеть отраженным в протоколе, — с этими словами Шидловский достал из папки, которую всегда носил с собой, когда отправлялся по служебным делам, листок бумаги и подал Шумилову.
Приглашение воспользоваться «шпаргалкой» выглядело несколько необычно, но Алексей Иванович ничего не сказал, справедливо посчитав, что излишние вопросы раздражают начальство и что очень часто непонятные ситуации разъясняются сами собой, а потому надо только набраться терпения и не упускать нюансов.
Шидловский предусмотрительно вызвал женщин с интервалом в час. Первой в комнате делопроизводителей появилась горничная Матрена Яковлева, робкая женщина лет 30-ти, гладко причесанная, в аккуратном шерстяном, наглухо застёгнутом платье. Её невыразительное лицо было бледно, губы — плотно поджаты. Она вся была как натянутая струна. Села очень прямо на предложенный стул и потупилась, лишь изредка бросая на Алексея Ивановича быстрые пугливые взгляды. Шумилов пару минут потомил женщину, продолжая неспешно возиться с бумагами и словно бы не замечая её. Понаблюдав осторожно за горничной, Шумилов, наконец, счёл, что достаточно её «выдержал» и, покончив возню с бумагами, и приступил:
— Итак, по предписанию помощника прокурора Санкт-Петербургского окружного суда Шидловского Вадима Николаевича, возбудившего уголовное расследование по факту смерти Николая Дмитриевича Прознанского, я, следователь Шумилов Алексей Иванович, проведу Ваш допрос в качестве свидетеля по этому делу. Уголовное законодательство Российской Империи не требует приведения свидетеля к присяге во время досудебного следствия, однако, на основании такого допроса может быть решен вопрос о вызове свидетеля в суд, где ему придется давать показания уже под присягой. В том случае, если между показаниями на досудебном следствии и в суде будут выявлены существенные противоречия, Вы можете подвергнуться уголовному преследованию. На этом основании я призываю Вас быть сейчас как можно более точной и правдивой в своих показаниях, дабы в дальнейшем не навлечь на себя подозрений как на неблагонадежного свидетеля, — Шумилов внимательно наблюдал за женщиной, чтобы быть уверенным в том, что до нее доходит смысл сказанного, — Вы понимаете меня?
— Да, вполне, — кратко отозвалась она.
— То, что я сейчас Вам рассказал, излагает 443 статья Устава уголовного судопроизводства. На эту статью будет сделана ссылка в протоколе Вашего допроса, именно поэтому я сейчас разъяснил Вам её смысл, — продолжил Алексей Иванович; женщина кивнула, — Я буду проводить допрос, а секретарь, — Шумилов кивнул в сторону скрипевшего стальным пером в углу комнаты Никиты Ивановича Шульца, главного переписчика небольшого подразделения, подчинявшегося Шидловскому, — будет записывать мои вопросы и Ваши ответы. После окончания допроса Вам будет предложено подписать протокол. Вам всё понятно? у Вас есть вопросы по процедуре допроса?
Женщина сначала молча кивнула, потом покачала головой в знак отрицания.
— Тогда начнём. Назовите, пожалуйста, себя.
— Матрёна Яковлева, дочь Никифора. Из крестьян. Деревня Красково Псковской губернии.
— Возраст?
— Тридцать два года.
— Вероисповедание…
— Православное, конечно.
— Род занятий. Чем занимаетесь в Петербурге?
— Служу горничной в семье Прознанских.
— Как давно?
— Уже, почитай, 4 года.
— Вы живете в квартире Прознанских или отдельно?
— Да, с ними живу.
— А в летний период? Ведь семья выезжает летом на дачу?
— И летом тоже. Меня берут с собой, я делю комнату с няней. И дача, и квартира достаточно просторны, там всем места хватает.
— Что Вы можете сказать о характере отношений между старшим сыном Прознанских, Николаем, и гувернанткой, французской подданной Мариэттой Жюжеван? — собственно, с этого вопроса и начался допрос по существу.
— А что я могу сказать?… У господ своя жизнь, мы в их дела не суемся…
— Понятно. То есть Вы, Матрёна, ничего не знаете, не видите, не слышите и ничего здесь и сейчас сказать не хотите?
Женщина почувствовала в словах Шумилова угрозу, её взгляд описал круг по комнате и наконец зафиксировался на мундире допрашивавшего.
— Дак я что ж? Вы ж спрашивайте, — потерянно пролепетала она.
— Вот я и спрашиваю Матрёна, каковы были отношения между покойным Николаем Прознанским и гувернанткой Мари Жюжеван? Я предостерегаю Вас от попытки умалчивать о чем-либо или вводить следствие в заблуждение.
Последняя фраза, видимо, возымела действие. Горничная опустила глаза и, теребя складку на подоле, произнесла:
— Спала она с ним, вот что.
Шумилов ждал, что она продолжит, но она опять замолчала. Прав был Шидловский, из этой публики слова клещами надо тянуть!
— То есть вы хотите сказать, что Николай Прознанский вступил в незаконную связь с гувернанткой, м-ль Мариэттой Жюжеван?
— Да, вступил в связь…
Шумилов кивнул Шульцу, чтобы тот внес услышанное в протокол.
— А откуда вам это известно? — продолжил он.
— Она сама рассказывала.
Шумилова точно обухом по голове ударили. Он не мог поверить в то, что Жюжеван стала сплетничать о подобном с домашней прислугой. Яковлева явно лгала, но для чего она это делала сказать было невозможно.
— Когда и при каких обстоятельствах Жюжеван Вам об этом рассказала?
— Когда рассказывала? Да давно уже, я и не упомню… Как-то раз на кухне сидели, я и говорю: скоро, мол, вас, Мария, под расчет подведут — Наденька-то подрастает, а она мне, мол, не уволят, Николаша теперь без меня не сможет обходиться, ему как мужчине нужна опытная женщина. И очень так засмеялась. Да я и сама догадалась после случая с рубашкой.
— Этот разговор проходил при свидетелях?
— Сейчас не упомнить. Может, да. Вы поинтересуйтесь у Радионовой, Вы ее после меня будете допрашивать.
— То есть, твердо Вы этого не помните, — подытожил Шумилов, — А что это за «случай с рубашкой»?
— Ну, однажды, еще перед Рождеством, я меняла белье и заметила на подоле ночной рубашки Николая пятна… ну… особые пятна. Как на супружеских постелях бывают, — она произносила слова быстро, но то и дело останавливалась, словно для того, чтобы перевести дух.
— Вы говорите о пятнах спермы, мужского семени?
— Ну да, мужского семени… Он увидел, что я их увидела и испугался. Схватил рубашку и одним махом подол вжик — и оторвал. А мне говорит: «Матрена, не говори никому, что видела, скажешь, что прачка рубашку порвала». Дал денег, рубль. А что мне оставалось делать? Я никому ничего не сказала. Да только мне же это и вышло боком.
— То есть?
— Да вот так! — она обозленно посмотрела на Алексея Ивановича, — Когда принесла белье от прачки, он же сам и начал при Софье Платоновне возмущаться: «Что за безобразие! Кто это мою рубашку испортил!» Софья Платоновна давай меня ругать, как это я не досмотрела и приняла у прачки испорченную рубаху. Мне за мое же добро и досталось! Рубль, конечно, душу греет, да только за этот рубль столько наслушалась… С грязью смешали, а ведь состоятельные люди, вроде бы.
— Скажите, а у Николая и м-ль Жюжеван не было ли в последнее время ссор, выяснений отношений?
— Не знаю я ничего. Не слышала.
— Ну, хорошо. Распишитесь в протоколе и можете быть свободны.
Матрена старательно, высунув кончик языка, вывела на каждой странице протокола свои загогулины и собралась было уже выйти за дверь, как Шумилов остановил ее фразой:
— Матрена, один вопрос Вам без протокола, сугубо между нами: а сам полковник Прознанский в каких отношениях был с гувернанткой?
Он, видимо, застал горничную врасплох; строго говоря, Шумилов и сам толком не знал как лучше ему спросить, вопрос слетел с губ без всякого предварительного обдумывания. И Матрена на простой незатейливый вопрос ответила тоже просто и незатейливо:
— А его превосходительство во всём снимает первую стружку.
И бесшумно выскользнула из кабинета.
Допрос няни Алевтины Радионовой начался почти сразу же после допроса горничной. Женщины даже столкнулись в коридоре и обменялись сочувственными взглядами. Шумилов понимал, что для малограмотных и очень провинциальных по духу женщин свидетельство по уголовному делу, да тем более, связанном с убийством, крайне непростое испытание. А уж свидетельствовать об интимной стороне жизни своих хозяев означало попасть в весьма щекотливое положение и рисковать потерей места. Да что там места! Полковник жандармерии мог свести счеты куда коварнее, нежели просто выгнать из дома. Он мог обвинить в краже, отнять паспорт, и даже отправить в административную ссылку. При его возможностях он мог организовать самое изощренное внесудебное преследование, абсолютно законное по своей форме. Бороться с таким человеком люди из народа вряд ли могли.
Няня была постарше, чем Матрёна Яковлева, по лицу ее тонкой сеточкой бежали морщинки, собираясь у глаз и в уголках губ. Выражение доброты и невозмутимости так прочно приклеилось к ее физиономии, что не покинуло ее даже сейчас, когда предстояло отвечать на каверзные — она чувствовала это! — вопросы молодого следователя.
Более умудренная в житейских делах Радионова в своих выражениях была более осторожна, нежели Яковлева. Но в целом она подтвердила показания Матрены о том, что Мариэтта Жюжеван хвасталась о своей интимной связи с молодым Прознанским. Относительно оторванного подола рубашки Радионова заявила, что разговор об этом слышала слышала, да только саму рубашку не видела.
Окончив допросы и отпустив Никиту Шульца Шумилов надолго задумался. Перед ним лежал листок с вопросами, которые надлежало задать в ходе допросов Яковлевой и Радионовой. Вопросов этих было вроде бы немного, но все они выглядели очень конкретными: каковы были отношения Николая Прознанского и Жюжеван? доводилось ли прислуге находить следы интимной близости Николая с женщиной? доводилось ли прислуге слышать разговоры об интимной близости Николая с какой-либо женщиной? Почему-то Шидловский не сформулировал никаких вопросов о ядах и химических опытах покойного, о том, что Коленька Прознанский травил мышьяком синиц и ёжиков. А ведь прислуга должна была видеть следы эти странных исследований! Почему-то Шидловский не захотел поинтересоваться отношениями супругов Прознанских, а ведь эти отношения тоже весьма влияли на климат в семье.
Но самое интересное заключалось даже не в этом. Фактически Шумилову не пришлось озвучивать вопросы помощника прокурора окружного суда: явившиеся свидетели сами все рассказали, лишь для виду посокрушавшись что мало о чём знают. Обе женщины сами наводили разговор на нужную тему. Что это за поддавки?
Если связь между Николаем Прознанским и Мари Жюжеван действительно имела место, то тогда можно выстроить логичную версию об отравлении из ревности. Однако, Алексея Ивановича что-то смущало.
Можно ли поверить, чтобы француженка стала откровенничать на кухне с горничной? У первой — хорошее образование и манеры, яркая внешность, заслуженное уважение членов семьи; вторая — обычная хабалка, малограмотная, косноязычная, хитроватая. Можно ли поверить, что столь разные женщины пустятся в откровенные беседы? Разве что на необитаемом острове, да и то вряд ли. Как они вообще могли разговаривать на кухне: сели за стол и начали лузгать семечки? Шумилов пытался мысленно представить подобный разговор, его завязку и течение, но воображение пасовало.
Неужели Жюжеван настолько глупа, что станет распространять о самой себе порочащую информацию? Нет. Однако, обе свидетельницы в один голос твердили, что подобный разговор имел место. Оговаривают Жюжеван? С какой целью? Бабская месть? Оговорить ненавистную француженку и отправить ее в каторгу… за что?
Но больше всего Шумилова смутили слова Матрены Яковлевой о «его превосходительстве, снимающем первую стружку». Выражение это могло означать что угодно и понимать его можно было по-разному. Но именно это и беспокоило.
10
Как трогательна весна в Петербурге! После нескончаемо длинных холодов, до предела укороченных зимних дней, когда в 3 часа дня на северный город уже падают мрачные сумерки, после огромной череды серых уныло-бескрасочных картинок наконец проглядывает солнце, которое наполняет радостным светом город, золотыми брызгами оживляет окна зданий и оказывается в силах моментально расшевелить неслышных до тех пор воробьев. Мартовские метели остались позади, влажный ветер с залива уже который день нес будоражащие флюиды возрождающейся жизни. Природа откликалась на это первой травой на газонах, набухшими почками на ветвях деревьев и кустов и истошными воплями котов на чердаках и в подвалах двора, куда выходили окна маленькой квартирки Алексея Ивановича.
Завтракая, он вспоминал прелести прошедшей ночи — как долго не мог уснуть из-за истеричной кошачьей свадьбы, ворочался с боку на бок и зарывался в подушку то одним ухом, то другим. Он думал, что надлежит послать дворника разогнать хвостатых горлопанов, но не находил в себе сил подняться с кровати. В конце-концов, кто-то из жильцов дома преодолел притяжение перин и выгнал дворника из его дворницкой под лестницей. Афанасий, ветеран Крымской войны, утверждавший в подпитии, что «лично замыкал гальваническую цепь минной позиции к югу от батареи Литке», в третьем часу прошел по чердаку и провел весьма выразительную воспитательную беседу с котами, в ходе которой самым мягким прозвучавшим словосочетанием было «передушу, паскудников». От прошедшей ночи у Шумилова осталось легкое ощущение слабости в ногах, которое всегда возникало от недосыпа.
Потом мысли его скользнули к делам службы, к Николаю Прознанскому, который уже никогда не порадуется солнцу и весне. Что же произошло с тобой, приятель? Кто же это тебя так невзлюбил?… В который раз Шумилов принялся перебирать в памяти события последних дней и мелькавшие в мозгу лица приятелей Николая, его родителей, домашней прислуги чередой прошли перед ним… Шумилов не без удивления отметил, что поведение практически каждого действующего лица это драмы, увы, небезупречно и рождает массу вопросов у любого непредубежденного исследователя. В самом деле, мать покойного пыталась спрятать пузырек с ядом и лишь вмешательство доктора Николаевского побудило ее вернуть этот важнейший вещдок на место. Сам доктор в нарушение всех правил провел анатомирование тела покойного в одном месте, а химическое исследование внутренних органов назначил в другом, причем, умудрился потерять печень при транспортировке. Отец покойного утверждал, будто сын имел по крайней мере двухлетнюю интимную связь с гувернанткой, однако, при этом господину полковнику и в голову не приходило вмешаться в эти отношения. Сам же умерший юноша рассказывал своим друзьям, будто его связь с француженкой началась менее года назад. Но никаких деталей интимных отношений при этом никому не сообщал. Возможно ли сие? Сколько шуток существует о любовницах-француженках, о французских поцелуях и французском насморке и неужели Прознанский не каламбурил на эти темы? Неужели 17-летний мальчишка, переспавший с красивой женщиной зрелых лет, не расскажет своим друзьям, таким же мальчишкам, о ее шелковых чулках, цвете корсета, родинках на интимных местах и специфических ласках? «Врёте вы все, господа», — неожиданно пробормотал Шумилов, напугав госпожу Раухвельд, завтракавшую с ним за одним столом.
Покончив с едой, он быстро собрался и устремился на службу. Шумилов поймал себя на мысли (впрочем, уже не в первый раз), что он, видимо, здорово напоминает недисциплинированного боевого коня, бросающегося в атаку при первых звуках эскадронного горна.
В здании прокуратуры несмотря на довольно ранний час было оживленно. Алексей Иванович достал из опечатанного шкафа успевшую обрасти документами папку дела о смерти Николая Прознанского. Следовало еще раз убедиться, не забыто ли чего, все ли протоколы и подписи свидетелей на месте. Перелистывая документы, Шумилов поймал себя на мысли, что деле до сих пор нет заключения судебных медиков о посмертном вскрытии тела Николая Прознанского. Постановление о возбуждении дела было выписано на основании результата судебно-химического исследования внутренних органов; акт, подготовленный химической лабораторией университета в деле присутствовал. А вот акт о проведении аутопсии в морге Медико-хирургической академии, в ходе которого было произведено изъятие внутренних органов, отсутствовал.
Было очевидно, что Шидловский совершенно упустил из виду то обстоятельство, что анатомическое и химическое исследования проводились как в разных местах, так и разными специалистами и оформляться результаты этих исследований должны были разными протоколами. Это было, конечно, очень скверно. Сейчас протокол осмотра трупа придется восстанавливать задним числом. Конечно, в Медико-хирургической академии работают компетентные специалисты и это учебное заведение было первым в России, где стали готовиться судебные медики, поэтому не было оснований сомневаться в компетентности их заключения, но все-таки… Шумилов испытал сильную и искреннюю досаду из-за допущенной оплошности.
За изучением дела его и застал Вадим Данилович. Одобрительно оглядев согбенную фигуру Шумилова, Шидловский спросил:
— Ну-с, что показала прислуга?
Алексей Иванович, подавив раздражение — уж больно некстати явился шеф! — ответил:
— Я допросил горничную, Матрену Яковлеву и няню младшей дочери Прознанских Алевтину Радионову. Они показали, что, якобы, слышали от самой Жюжеван о ее плотской связи с Николаем. Кроме того, Яковлева рассказала о рубашке Николая Прознанского, подол которой был запачкан семенем последнего и, дабы скрыть это обстоятельство, Николай подол оторвал на ее глазах. Вот протоколы.
— Та-ак. Оч-чень хорошо, — Шидловский выглядел на редкость довольным, таким его нечасто приходилось видеть, — Все, как и говорил полковник. А по-моему, дело у нас складывается, а, Алексей Иванович?
Шумилов мог бы возразить в ответ, что дело совсем даже не складывается, а расползается, как гнилая тряпка, и каждое новое свидетельство, закрепленное протоколом, противоречит предыдущему, но Шидловский вовсе не намерен был его слушать. Он, удовлетворенно улыбаясь, продолжал мудрствовать лукаво:
— Теперь вот что, надо устроить графологическую экспертизу анонимки, узнать, не Жюжеван ли ее писала. Займитесь подбором и приглашением экспертов. Вы знаете, как это надлежит сделать (Шумилов молча кивнул). В постановлении о назначении почерковедческой экспертизы укажите следующие вопросы: первый — сличение характера написания текста с контрольными образцами и, второй — сравнение стиля и лексических особенностей анонимки с контрольными образцами. Оформите постановление о назначении экспертизы и ко мне на подпись. Потом постановление отнесете в канцелярию и зарегистрируйте там (Шумилов продолжал молча кивать). Желательно экспертизу эту провести в ближайшее время, назначьте экспертам явку, скажем, на завтра в полдень. Я полагаю, Вам лично присутствовать при этом нет необходимости, что толку тратить день, наблюдая за нашими лукавыми экспертами, как они с 10-кратными лупами будут рассматривать документ. А Вы, Алексей Иванович, обратите все свое внимание на опросы друзей Николая Прознанского. Про анархистов-социалистов забывать не будем. А я сейчас отправляюсь на доклад к окружному прокурору.
«Я просто как Золушка должен крутиться», — с неожиданным даже для самого себя раздражением подумал Шумилов. Но внешне он никак этого не показал и лишь кратко спросил:
— Вадим Данилович, а что у нас будет в качестве контрольных образцов для работы графологов?
— Конечно же, записи и письма Жюжеван. Я завтра с утра заеду к Прознанским, заберу у них письма и записки гувернантки, у них таковые точно есть.
Шумилов тут так и крякнул. Он не предполагал, что маховик уже так запущен. Он был готов предложить экпертам для сличения почерков и многие другие документы, например, письмо Веры Пожалостиной, а также тетради с записями химических опытов Николая Прознанского. Очень интересным мог оказаться результат сличения текста анонимки с почерком матери покойного, а также его отца. Причем, каковым оказалось бы конечное заключение экспертов Шумилов даже боялся гадать: до такой степени результат был непредсказуем.
— Вадим Данилович, Вы это говорите серьезно? — спросил Шумилов.
— Разумеется, что Вас смущает?
— Но что у нас есть против Жюжеван?! Даже если — хотя я в это не верю! — но даже если она имела интимные отношения с мальчиком, в два раза ее младше, то каков был мотив его убийства?
— Ну-у, Алексей Иванович, — Шидловский артистично развел руками и состроил заговорщическую мину, — ну Вы-то, работник следствия, будьте реалистом!
И после этой загадочной фразы, так и не понятой Шумиловым, помощник окружного прокурора выскочил за дверь. Шумилов остался стоять на месте, пораженный как самим этим разговором, так и его неожиданной концовкой. В этот момент Алексей Иванович впервые испытал очень странное и неприятное чувство: ему показалось, что некие (притом, очень важные) события происходят без его участия и он остается в полном неведении о скрытых пружинах, влияющих на принятие его начальником решений по этому делу.
Шумилов потратил чуть больше часа на оформление назначения почерковедческой экспертизы и отбор двенадцати графологов из списка официально допущенных к такого рода исследованиям лиц. Восемь из двенадцати человек были опытными преподавателями чистописания и русской словесности в гимназиях города и филологического факультета университета, еще четверо работали в канцелярии Правительствующего Сената. Последние традиционно считались лучшими специалистами в Империи по почеркам и установлению авторства. Об экспертизах сенатских секретарей ходили легенды: рассказывали, что посмотрев один раз на анонимку эти люди могли спустя годы узнать руку автора, они, якобы, определяли по почерку не только пол, возраст и род занятий автора текста, но и его место проживания и даже учебное заведение, в котором аноним мог учиться.
Все эксперты-почерковеды получали за свои заключения доплату к жалованию. Результат экспертизы оформлялся в виде одного документа, текст которого вырабатывался в ходе совместного обсуждения всех участников экспертизы. Если кто-то из них оставался несогласным с мнением большинства, то свое суждение он оформлял в виде особого мнения, прилагавшегося к основному заключению.
Оформив двенадцать повесток, которыми эксперты вызывались в прокуратуру окружного суда к завтрашнему полдню, Шумилов передал их в канцелярию. Далее повестки попадали в руки судебных рассыльных, которые в течение нескольких часов должны были отыскать получателей и вручить им расписки под роспись. Система эта работала четко и сбоев практически не давала.
Покончив с формальностями, Алексей Иванович покинул прокуратуру и направился к Ивану Виневитинову, еще одному другу Николая Прознанского из списка Спешнева. Иван жил в небольшой холостяцкой квартире на Лиговском. Этот петербургский район во все времена почитался не очень престижным, имел высокую уличную преступность, но жажда Ивана избавиться от опеки строго отца была столь велика, что он предпочел жить здесь в одиночку, нежели делить с отцом фамильный особняк на Фонтанке.
Впрочем, как понял Шумилов попав в квартиру Ивана Виневитинова, одиночество это было весьма условно. Комнаты и прихожая хранили выразительные следы вчерашней дружеской попойки: на большом круглом столе, на буфете и даже на подоконниках стояли пустые бутылки из-под шампанского и коньяка, грязные тарелки и стаканы, валялись апельсиновые корки и витал неистребимый запах жженки. Видимо, вчерашняя пирушка удалась на славу, потому что Иван, невзирая на послеобеденный час, был все еще в домашнем халате, с помятым, несколько отекшим после сна лицом. Разговаривать ему с Шумиловым явно не хотелось, видимо, мысли были заняты другими совсем другими проблемами — как поправить здоровье, например. Однако отмахнуться от должностного лица в прокурорском мундире он не рискнул.
По большому счету, молодой человек в халате не сообщил Шумилову ничего нового. Все, что Алексей Иванович выудил у этого отечного отпрыска аристократического рода свелось к весьма кратким и конкретным тезисам: 1. Ни о какой радикальной группе, членом которой мог бы быть Николай Прознанский, Виневитинов не знал и никогда не слышал; 2. Круг интересов Н. Прознанского, как и всех членов его приятельского кружка, ограничивался вечеринками на квартирах, флиртом «с мещаночками», развлечениями с выездами в театры и ресторации, а также учебой в университете; 3. О связи Прознанского с гувернанткой Жюжеван Виневитинов слышал от самого Николая, который рассказал об этом за ужином в ресторане, но рассказу этому Иван не поверил, поскольку «такого мифомана, как покойный Николя, надо еще поискать»; 4. Роман с Верой Пожалостиной, закончившийся для Николая отставкой, действительно, имел место, но покойный по этому поводу не очень переживал, поскольку он, Иван Виневитинов, «открыл ему глаза на порочный нрав женщин и подставил дружеское плечо».
Дожидаясь, пока Шумилов оформит протокол допроса, Иван откровенно зевал, давая понять, что его нимало не волнует происходящее. Под конец Виневитинов многозначительно сообщил, что помимо филологического факультета университета посещает отделение восточных языков при Азиатском департаменте МИДа, где изучает фарси. Он произнес несколько фраз на этом языке, которые непривычному русскому слуху могли бы показаться обычной матерщиной, и по-видимому, остался чрезвычайно доволен своим остроумием.
Визиты к Штрому, Пожалостину и Федору Обруцкому также не внесли в дело ничего нового. Их показания совпадали даже в мелочах. В какой-то момент Шумилов заподозрил, что молодые люди успели сговориться и сейчас банально водят его за нос, отделываясь малозначащими рассказами. Но подумав хорошенько, Алексей Иванович решил все же, никто его обманывать не пытается: жизнь молодых людей на самом деле была таковой, как они ему рассказывали. Молодые люди не были обременены поиском денег, их не мучили болезни и немощи, все они были молоды, здоровы и красивы и им не приходилось задумываться о бренности всего этого. Потому жили просто и беззаботно. Можно ли было их в этом винить?
Единственным по-настоящему любопытным моментом явилось то, что Шумилов в доме Пожалостиных мельком увидел ту самую Веру, которая столь категорично отвергла внимание Николая Прознанского чуть более полутора месяцев назад. Это произошло как раз, когда он собирался уходить из дома Пожалостиных и уже стоял в пальто в прихожей. Внезапно входная дверь отворилась и вошли две барышни в кокетливых плетеных шляпках из соломки, заброшенных за плечи. Девиц сопровождала пожилая женщина со строгим лицом в объёмистом салопе. Ещё до того, как их представили друг другу, Алексей Иванович догадался, кто же именно из девушек был удостоен прозвища Царица Тамара. Действительно, чернобровой и черноглазой брюнетке Вере очень подходило это прозвище, хотя ничего грузинского в ее облике не было. Она была довольно высока, с горделивой посадкой головы, в её внешности и движениях чувствовались грация и благородство. Именно царица! В такую действительно можно было влюбиться и даже потерять голову.
Выйдя на улицу, Шумилов задумался над тем, куда следовало направиться дальше. Время в визитах пробежало быстро и в прокуратуру возвращаться уже не имело смысла. Наступал вечер. Шумилов направился домой, размышляя о том, как лучше следовало выстроить свои завтрашние разъезды по городу; без сомнения, следовало посетить Медико-хирургическую академию и напомнить тамошним врачам о необходимости подготовки и представления протокола осмотра тела Николая Прознанского.
11
Первое, что предпринял Шумилов на следующее утро, был визит к Шидловскому с рассказом об отсутствующем в деле акте вскрытия тела Николая Прознанского (протоколе постмортального осмотра). Помощник прокурора схватился за голову и послал Шумилова «немедля в академию». Шидловский разволновался до такой степени, что даже забыл спросить своего подчиненного о результатах вчерашних допросов друзей покойного.
Шумилов отправился в морг академии на Греческий проспект, где рассчитывал найти медиков, проводивших вскрытие тела Николая Прознанского. Расчёт его оправдался, он без особых трудностей отыскал Владимира Владимировича Пашенко, преподававшего патологическую анатомию и как раз в это время читавшего лекцию в этом же здании, в устроенном амфитеатром морге. Впрочем, везение Шумилова на этом и закончилось.
Сначала он более получаса потерял, дожидаясь окончания лекции. Затем, заговорив с Пашенко, Шумилов услышал крайне неприятный ответ:
— Вы знаете, протокол-то у меня готов уже давно. Я его написал буквально на следующий день. Просто его заверить некому.
Шумилов чуть было не сел на пол от неожиданности:
— Вы хотите сказать, что проводили вскрытие тела Николая Прознанского без свидетелей? И даже без прозектора?
— Почти что так… Сам всё и сделал. Зачем мне прозектор? Я ведь учу этому делу будущих судебных медиков.
— Но для суда под протоколом нужны две подписи. Вы же знаете правила проведения такого рода действий.
— В том-то и дело. То, что потребуется официальное оформление стало ясно позже, когда оказалось, что Прознанский скончался от отравления. Поначалу речь вообще не шла ни о суде, ни о следствии. С моей стороны это было почти дружеское одолжение.
Пашенко выглядел по-настоящему расстроенным. Он сам прекрасно понимал серьёзность ситуации, которая грозила ему потерей места.
— Я Вам объясню всё, поймите меня правильно. — бормотал доктор, — Сначала доставили в морг тело Николая Прознанского. Он был членом семьи военнослужащего, притом жандармского полковника, то есть с формальной точки направление его к нам было сделано правильно. В сопроводительной записке было указано, что молодой человек болел; видимых повреждений тело не имело, так что его вскрытие поначалу вообще не планировалось. Потом примчался Николаевский, не стану скрывать — это мой старинный друг, учились мы вместе. Буквально упал в ноги, говорит, Володя, давай вскрывай этого Прознанского, мне с ним не всё понятно. Вы же знаете как это делается, существует определенный порядок, очередь. А тут — давай скорее, не будем же мы похороны задерживать! Дескать, сделаем всё по-тихому, просто, чтоб на душе камня не было. Вот я после окончания работы и встал к столу.
— Николаевский где был? — уточнил Шумилов.
— Он рядом был. Но он, во-первых, не патолог, он — врач общей практики. А во-вторых, он не работник академии, он в принципе не может подписываться под такого рода документами. С таким же успехом я могу пригласить извозчика с улицы и попросить его наложить свою сигнатуру.
— А прозектор где был?
— В принципе, он был здесь же, в морге. Только он не следил за моими манипуляциями и во вскрытии не участвовал. Если бы это вскрытие было обычной рутинной работой, я бы попросил его подписаться под протоколом задним числом и никто бы ничего не узнал. Но в случае с Прознанским, как я понял, речь идет об убийстве. Я допустил серьёзную ошибку, нарушив определенную законом процедуру и это моя вина. Если я сейчас предложу прозектору подписать протокол, то посторонний человек фактически разделит со мной мою личную ответственность. Это будет бесчестно по отношению к нему. Вы понимаете это?
— Я-то понимаю, — Шумилов раздосадованно замолчал, — Давайте-ка почитаем, что Вы там написали.
Уже первый взгляд на документ с очевидностью выдавал его огрехи: на первом листе отсутствовала «шапка», которая должна была содержать перечень должностных лиц-свидетелей и участников проводимой аутопсии.
— Я просто не знаю, что здесь написать, — бормотал, оправдываясь Пашенко, — Я вообще не предполагал, что этот документ придется куда-то представлять; думал, полежит у меня в столе пару месяцев и отправится в корзину.
Шумилов пролистал протокол, бегло пробежал глазами его содержание. В принципе, особых вопросов увиденное не вызывало. Надо было что-то решать, но Шумилов был не уверен, что принятое им решение окажется верным.
— Вот что, Владимир Владимирович, давайте сойдемся на следующем. Этот, с позволения выразиться, «протокол» я у Вас сейчас забираю. В дело его подшить, конечно, никак нельзя, но я покажу его помощнику прокурора, может, мы что-то и придумаем. Черновые записи вскрытия тела Прознанского Вами сохранены?
— Да-да, разумеется.
— Возможно, мы попросим Вас восстановить этот документ. В любом случае, я с Вами в ближайшее время еще увижусь. Хочу предупредить Вас на будущее, но… делать этого не стану. Полагаю, Вы сами уже все поняли.
— Да, господи, конечно, я сам все понимаю… Накуролесил! А ведь сам молодежь учу как должно документы составлять!
Шумилов убрал в свой портфель бумаги и уже собрался было уходить, но в дверях остановился и задал вопрос, без ответа на который не мог расстаться с анатомом:
— Владимир Владимирович, а в каком часу, по Вашему мнению, скончался Николай Прознанский?
Пашенко задумался, тяжело вздохнул (Шумилов понял, что услышит сейчас что-то неприятное) и начал издалека:
— Задача анатома, производящего вскрытие тела, точно описать состояние всех частей и органов покойного. Задача судебно-химического исследования — представить точные данные об обнаруженных во внутренних органах вредоносных веществах, назвать пути их проникновения в организм и зафиксированных концентрациях. Анализ всех этих данных будет осуществлять судмедэксперт. Мой протокол не претендует — и не может претендовать! — на полноту экспертного заключения, но как специалист, понимающий все тонкости этого дела, могу сказать…
Пашенко запнулся и перескочил на другое:
— Я мог бы Вам точно назвать час смерти Николая Прознанского, если бы сразу приступил к вскрытию тела. Я мог бы наблюдать развитие трупного окоченения — а это точнейших показатель. Окоченение начинается спустя примерно 2–3 часа с момента смерти и развивается на протяжении первых суток, захватывая всё новые части тела от челюстей к икрам, т. е. сверху вниз. Впоследствии, примерно на третьи сутки с момента смерти, окоченение в обратном порядке станет пропадать. Наблюдая процесс снятия окоченения также можно довольно точно определить время смерти.
Шумилов заподозрил, что Пашенко собирается прочитать ему целую лекцию.
— Владимир Владимирович, я всё это знаю, — заметил Алексей Иванович, — Что Вы можете сказать по существу?
— Когда я в шесть часов пополудни приступил к вскрытию тела Николая Прознанского оно полностью было сковано окоченением. А снятие окоченения я не смог наблюдать, поскольку на третьи сутки состоялись похороны. Так что… — Пашенко развел руками.
Шумилов чуть не сплюнул от досады.
— То есть смерть наступила никак не позже шести-семи часов утра 18 апреля, — подытожил он.
— Вот именно. А по-видимому, гораздо ранее, ближе к полуночи. Еще могу сказать, что желудок покойного был пуст, что свидетельствует о том, что с момента последнего принятия пищи прошло не менее четырех часов. Об этом есть запись в бумагах, что Вы у меня забрали.
— Что ж, спасибо.
— Вам это хоть как-то помогло? — преглупо спросил Пашенко. Он, видимо, чувствовал свою вину и не знал как ее загладить.
— Если б я знал, Владимир Владимирович, что мне теперь может помочь!
Шумилов приехал в прокуратуру после обеда и сразу направился в кабинет Шидловского. Помощник окружного прокурора если и воспринял с досадой сообщение Шумилова о разговоре с патологоанатомом, то никак это не показал, что для человека холерического темперамента (а именно таковым был Шидловский) выглядело весьма странным. Он лишь рассеянно пробормотал: «Оставьте протокол аутопсии мне, я подумаю куда его приладить» и более к этой теме не возвращался. Вадим Данилович был явно поглощён какими-то своими мыслями, что, впрочем, вскоре и объяснил:
— У Вас там сидят графологи. Но сидят они уже долго, так что скоро закончат. Сейчас они переписывают заключение набело. Шульц принес основные тезисы, которые там будут, посмотрите-ка!
Алексей Иванович взял в руки поданные Шидловским листы писчей бумаги, усеянные мелким бисером текста с многочисленными следами правки и дописок. Все почерковеды сходились во мнении, что по первой части поставленного перед экспертизой задания — сличения манеры написания анонимки с контрольными образцами — «есть несомненное сходство приемов исполнения сравниваемых объектов». В частности они подчеркнули схожесть в начертании 3-х букв. Весьма любопытной оказалась фраза, которую изумленный Шумилов перечитал несколько раз, прежде чем понял ее смысл: «в анонимном письме встречаются буквы такой формы, какую дают им только одни французы». «Что же это за форма такая особенная?» — подумал про себя Алексей Иванович. Но ответа на этот вопрос в черновике заключения не нашлось.
Довольно любопытно оказалось заключение и по второй части задания — исследованию стиля и лексических особенностей текста анонимки: «Слог анонимного письма неправилен, встречаются совершенно французские выражения, причем неправильные обороты речи и грамматические ошибки сделаны как бы умышленно. Вместе с тем, вместе с чисто французскими фразами попадаются и такие, которые никогда не употребляются французами». «Хм, — задумался на минуту Шумилов, — и что это нам даёт? Что писавший был образованным человеком, который пытался скрыть свои языковые познания? Мариэтта Жюжеван вполне соответствует этому описанию. Её образованность и ум отмечали многие.»
Выражение, привлекшее его внимание, Шумилов прочитал Шидловскому вслух и от себя добавил:
— В Петербурге на нескольких языках говорят тысяч сто, если не больше, мужчин и женщин. Каждый из них сможет написать текст, про который наши эксперты скажут то же самое.
Шидловский молчал, а Шумилов развил свою мысль:
— Ловко наши графологи выразились — «… выражения, которые никогда не употребляются французами…". Они сами-то верят, что такие выражения существуют?
— Речь об идиомах, — заметил Шидловский.
— Это понятно, они говорят о выражениях, не переводимых и не понимаемых буквально. Матерная брань из той же категории. Ну, а если, скажем, у француза была русская няня? Или этот человек, прожил в Петербурге лет, эдак 15, да не на Невском, а возле Сенной или на Лиговке? Такой француз, по их мнению, не выучит русских идиом? Да даже попугай справится в такой задачей!
Шидловский в полемику вступать не стал.
Далее эксперты, взвешивая все за и против, сделали вывод, что хотя анонимное письмо написано на 2-х языках (основная часть на французском с русскими оборотами, заключение — полностью на русском), автором его, как и предоставленных для сличения образцов, является один человек. Поскольку автором последних была Мариэтта Жюжеван, то и авторство анонимки также приписывалось ей. Разумеется, оно рассматривалось как «возможное», но эта оговорка в общем контексте просто терялась, как щепка в лесу.
Алексей Иванович сидел как громом пораженный. Получалось, что анонимное послание, разоблачавшее молодых радикалов сочинила-таки она! У Шумилова не шла из головы их беседа и то сочувствие, которое он испытал тогда к этой уже немолодой женщине, зарабатывающей свой хлеб воспитанием чужих отпрысков, зачастую не всегда умных и почти всегда неблагодарных. За последние дни Шумилов повидал несколько в высшей степени характеристических типажей такого сорта. У Жюжеван не было ни семьи, ни своих детей, она не имела достаточных средств к существованию, приличествующему ее уму и образованности. Шумилов допускал, что его можно обмануть, он не считал самого себя провидцем и собственное суждение не было для него истиной в последней инстанции. Но сознание собственной ошибки всегда тяжелым камнем ложится в душу. И вот сейчас он почувствовал внутри такой камень.
Постучавшись, вошёл Никита Шульц, принес переписанное набело заключение, протянул его Шидловскому:
— Господа эксперты-с просили Вас ознакомиться и сообщили, что готовы ответить на вопросы, если таковые возникнут.
Помощник прокурора нацепив пенсне внимательно прочитал полученный документ. Вопросов у него, видимо, не возникло, потому что закончив чтение он поднялся и пригласил Шумилова с собой:
— Пойдемте, Алексей Иванович, попрощаемся с нашими специалистами.
Через пять минут, пожав руки графологам и сказав приличествующие случаю слова, они вернулись в кабинет Шумилова. Вадим Данилович выглядел чрезвычайно удовлетворенным:
— Чудненько! так я и думал. Анонимку в канцелярию градоначальника она писала! Полковник Прознанский зря говорить не станет! Итак, что мы имеем.
Помощник прокурора задумался, потом принялся загибать свои крупные, плохо гнувшиеся пальцы:
— Первое: морфий дала Николаю именно Жюжеван. Сделано это было под видом микстуры от кашля. Второе: она состояла с ним в продолжительной аморальной любовной связи. Тому есть свидетели — отец видел интимные детали, прислуга слышала признание из ее собственных уст, потом была эта история с подолом рубашки, наконец, друзья-приятели Николая подтверждают сие. Аморальность отношений Жюжеван с покойным усиливается от того, что любовники принадлежали к разным конфессиям: он — православный, она — католичка.
— Какое это имеет значение, ведь вопрос о браке вообще не ставился, — выдавил из себя Шумилов. От разглагольствований шефа у него голова шла кругом. Он был готов возразить по каждому предложению, изреченному Шидловским, и лишь усилием воли сдерживал себя.
— Вот именно, — парировал замечание Шумилова помощник прокурора, — Они как бы консервировали свои отношения, не предполагая их дальнейшего развития, что лишь подтверждает слабость их религиозного чувства. Но не будем отвлекаться. Третье: у Николая был платонический роман с м-ль Пожалостиной, из чего можно заключить, что связь с Жюжеван он намерен был порвать. Или даже уже порвал, точнее нам расскажет сама Жюжеван. Вот Вам и мотив — потеря любовника, месть, гнев по этому поводу. Очень даже по-женски! Четвертое: анонимку написала она. Возможно для того, что подготавливая убийство, она озаботилась наведением возможного расследования на ложный след. Все! Круг замыкается, по-моему! Ее надо арестовывать. Ты, Алексей Иванович, отправь-ка ей с курьером вызов на допрос, прямо сегодня же. Пригласи ее назавтра часам, эдак, к десяти утра. Я озабочусь ордером. Когда приедет, тут мы ее и заберем.
С этими словами Шидловский закрыл папку с делом, для пущей убедительности прихлопнул её ладонью сверху и стремительно встал. Был он чрезвычайно доволен собою. Шумилов же в отличие от начальника пребывал в самом мрачном расположении духа.
На следующее утро Мариэтта Жюжеван пунктуально явилась в прокуратуру для допроса к десяти часам. Время тянулось для Шумилова медленно и томительно. Он с неодолимым внутренним трепетом ждал минуты, когда придется сказать этой даме о подозрениях в ее адрес, боясь даже предполагать какой именно окажется ответная реакция. Уже за полчаса до явки Жюжеван Вадим Данилович Шидловский показал Шумилову постановление о взятии её под стражу. Помощник прокурора тоже находился в некоем нервном состоянии, но совсем не в том, что Шумилов. Шидловский был похож на гончую на охоте, почуявшую дичь, он предвкушал конфликт как истинный гурман ожидает любимого блюда.
Наконец, м-ль Жюжеван появилась в коридоре и Шумилов пригласил ее в кабинет Шидловского. Там же в коридоре уже сидела пара конвоиров, которым предстояло доставить арестованную в женское отделение тюрьмы на Шпалерной улице, но Жюжеван никак не отреагировала на людей в синей суконной форме с зажатыми между коленями укороченными палашами в ножнах; видимо, женщина никак не связала их присутствие с собой. Пока Жюжеван усаживалась на стуле, Алексей Иванович вглядывался в её лицо, пытаясь понять эмоциональное состояние женщины. Мари казалась встревоженной и несколько напряженной, её глаза вопросительно смотрели то на Шидловского, то на Шумилова, но руки, сжимавшие маленькую бархатную сумочку, оставались спокойны. Жюжеван медленно опустилась на предложенный стул перед столом Шидловского, расправила складки велюрового платья и замерла в ожидании вопросов.
Молчание прервал Вадим Данилович:
— Мадемуазель Жюжеван, Вы приглашены для официального допроса по известному Вам делу, для чего нам необходимо выполнить все формальности, поэтому прошу назвать себя.
— Мариэтта Жюжеван, девица. Французская подданная.
— Отвечайте, пожалуйста, только на поставленный Вам вопрос, — наставительно поправил её Шидловский, — назовите свой возраст на 18 апреля 1878 г.
Если бы Жюжеван знала законы Российской Империи она бы немедленно насторожилась. Анкеты, заполняемая при допросах свидетелей и обвиняемых, сильно между собой различались; если свидетель перед допросом отвечал на пять обязательных вопросов о себе, то обвиняемый — на восемнадцать. Вторым ему всегда задавался вопрос о возрасте на момент совершения инкриминируемого преступления. Поэтому лица, хоть раз сталкивавшиеся с законом и побывавшие под следствием, по тому, с каких вопросов начинался допрос безошибочно определяли в каком качестве они предстают перед прокурором. Жюжеван нюансов таких не знала, это было заметно по ее реакции на замечание Шидловского, вернее, по отсутствию всякой реакции.
— Я родилась в августе 1835 года, значит в апреле 1878-го мне полных 42 года, — ответила женщина.
Далее вопросы посыпались в раз и навсегда установленном порядке: место рождения, место приписки, постоянное место жительства, рождение («Рождена в браке», — ответила с достоинством Жюжан), звание, народность и племя. Шидловский задавал вопросы не задумываясь, поскольку знал их очередность наизусть, Жюжеван отвечала с серьезным лицом и безо всяких затруднений. Впрочем, дважды она улыбнулась: при ответе на двенадцатый вопрос допросной анкеты («подверженность привычному пьянству») и семнадцатый («отбытие воинской повинности»).
Покончив с анкетой, Шидловский перешёл к основной части:
— Мадемуазель, дабы не тратить Ваше и свое время, я сообщаю Вам, что следствию известно о существовании интимных отношений между Вами и покойным Николаем Прознанским. Кроме того…
— Это неправда, — Жюжеван перебила Шидловского, — таковых отношений не было.
— Хорошо. Тогда начнём с самого начала. Вы отрицаете существование интимных отношений с покойным?
— Категорически.
Шидловский кивнул Никите Шульцу, согбенному над конторкой в углу и тот заскрипел пером.
— Мы располагаем официальными показаниями друзей покойного, которые из его уст слышали признание факта существования таковых отношений. Желаете ознакомиться?
— Желаю.
— Жюжеван предъявлены фрагменты допросов Петра Спешнева и Сергея Павловского, — эти слова Шидловского предназначались Шульцу; Вадим Николаевич подозвал женщину к своему столу и открыл перед нею дело в нужных местах, благо закладки были заложены загодя.
Жюжеван прочитала указанные фрагменты быстро, вернулась на свое место и сказала решительно:
— Я верю, что молодые люди не лгут. Им незачем лгать. Но я не знаю, для чего лгал Николай. Таковых отношений не было, повторяю Вам.
— Следствию известно, что полковник Дмитрий Павлович Прознанский, отец покойного, около двух лет назад застал Вас в момент интимной близости со своим сыном. Позволю себе выразиться определеннее: Вы удовлетворяли 15-летнего Николая рукой.
— Что за чушь! — закричала Жюжеван, её лицо сделалось пунцовым, а глаза налились слезами, — Что Вы несёте?! Вы хотите сказать, что такое… что такую… что этот чудовищный наговор сделан его превосходительством?!
— Да, такое заявление полковника Прознанского нам известно.
Шумилов по уклончивому ответу Шидловского догадался, что в письменном виде заявления Прознанского не существует. Помощник прокурора ссылался на информацию, полученную в устной беседе и не закрепленную официально. Впрочем, Жюжеван была неспособна в данную минуту понять этот нюанс.
— Я Вам повторяю: никаких интимных отношений с Николаем Прознанским я не имела никогда, ни единого раза, ни в какой форме! Всё! — заявила она.
Шидловский посмотрел на Шульца:
— После ознакомления с предъявленными фрагментами показаний Спешнева и Павловского, мадемуазель категорически отвергает содержащиеся в них указания на интимный характер её отношений с покойным Николаем Прознанским.
Фраза эта предназначалась для внесения в протокол допроса. Слово «мадемуазель», употребленное Шидловским, являлось эвфемизмом и до поры до времени заменяло собой слово «обвиняемая». Помощник прокурора пользовался этим приёмом для того, чтобы не настораживать раньше времени Жюжеван. Шульц же, хорошо осведомленный в юридической казуистике, прямо писал в протоколе «обвиняемая», прекрасно понимая, что допрос закончится выдвижением формального обвинения.
— Я согласен, что продемонстрированные Вам свидетельские показания грешат тем недостатком, что сделаны с чужих слов. Но помимо показаний Спешнева и Павловского следствие располагает заявлениями горничной Матрёны Яковлевой и няни Алевтины Радионовой, которые в один голос утверждают, будто Вы признавались им в существовании интимной связи с покойным Николаем Прознанским, — продолжал Шидловский, — Желаете ознакомиться?
— Желаю.
Помощник прокурора открыл дело в нужных местах и дал Жюжеван прочесть, затем продолжил:
— Что Вы можете сказать о прочитанном?
— Это просто какой-то заговор! Меня оговаривают. Не могу понять зачем, — отозвалась Жюжеван. Она вдруг сделалась очень задумчива.
— Вы отвергаете факт подобного разговора?
— Да, отвергаю. Такого разговора никогда не было. Я вообще мало общалась с этими женщинами. Не понимаю, что побудило их возвести на меня такую напраслину.
— Пишите, Никита Иванович, — Шидловский покосился на секретаря, — Можно даже дословно… Так, посмотрим, что там у нас далее. Мадемуазель Жюжеван, я предъявляю Вам анонимное, то есть без подписи, письмо, полученное канцелярией петербургского градоначальника второго апреля 1878 года, — продолжал Шидловский, — Ответьте на вопрос: знакомо ли Вам это письмо?
Жюжеван вновь приблизилась к столу помощника прокурора и впилась взглядом в показанный ей документ. Она прочла его от начала до конца, молча вернулась на своё место. Тишина в кабинете сделалась мучительной.
— Первый раз его вижу, — проговорила, наконец, она.
— Не Вы ли его писали?
— Нет, конечно. Я поражена, я шокирована. Молодежная организация, изучение ядов! Это чудовищно!
Шидловский вновь стрельнул глазами в сторону Никиты Шульца:
— По предъявлении подлинного анонимного письма мадемуазель категорически отвергла своё авторство. Что ж, идём дальше. Мадемуазель Жюжеван предъявляется для ознакомления заключение экспертной почерковедческой комиссии от 29 апреля 1878 года.
Жюжеван опять приблизилась к столу и, неловко склонившись, принялась читать давеча составленное заключение экспертов. Женщине было неудобно стоять и Шумилов поймал себя на мысли, что помощник прокурора намеренно действует таким образом, чтобы создать у женщины ощущение собственной приниженности. При желании вполне можно было предложить ей переставить стул к столу и читать предъявляемые документы сидя.
После того, как Жюжеван закончила чтение и молча вернулась на свой стул, Шидловский продолжил:
— Итак, можете ли Вы каким-то образом прокомментировать заключение графологов?
— Это все алхимия, это — лженаука, — невпопад сказала Жюжеван, — Я хочу сказать, что я не писала анонимного письма и увидела его впервые только сейчас. А то, что пишут Ваши специалисты — это не про меня.
— Что ж, так и запишем, — удовлетворенно вздохнул Шидловский и снова покосился на Шульца, — Мадемуазель Жюжеван заявила о своем несогласии с мнением экспертов-почерковедов.
Захлопнув дело и отложив его в сторону, помощник прокурора положил руки на стол и задумчиво посмотрел в лицо Жюжеван.
— Знаете, на самом деле и авторство анонимки, и рассказы молодых людей про Ваши интимные дела для меня не слишком интересны. Честно слово! Меня занимает всего один вопрос, ответьте мне на него, пожалуйста, чистосердечно… — неспешно проговорил он.
— Да, конечно, — кивнула Жюжеван.
Шумилов наперед знал каким будет вопрос Шидловского, а вот Жюжеван, видимо, совершенно не чувствовала игры помощника прокурора.
— Зачем вы убили Николая Прознанского? — прогремел на весь кабинет его рык.
При этих словах Жюжеван отшатнулась, словно от удара, подняла на Шидловского округлившиеся глаза, но встретившись с его холодно-пронзительным недобрым взглядом, обвела глазами всю комнату, словно в поисках сочувствия у Алексея Шумилова и Никиты Шульца. Повисло тяжелое молчание. Щумилов видел, как постепенно глаза Жюжеван наполнялись слезами, а пальцы судорожно перебирали синий вельвет платья. Тягостная тишина скоро сделалась невыносимой, но никто из присутствовавших не желал ее нарушать первым. Но в конце-концов не выдержала Мари.
— Значит Вы полагаете я… я убила?!.. — она задохнулась, на лице проступила гримаса недоумения и ужаса, — Что Вы говорите! Какое чудовищное и несправедливое… подозрение…
Её взгляд потерянно метнулся по кабинету, потом, словно прикованный неведомой силой, остановился на Вадиме Даниловиче и уже не отрывался от его лица. Голос Жюжеван поднялся, зазвенел, в нем послышалась дрожь и отчаяние:
— Как бы я могла?! Это же мой… мой воспитанник, мой ученик, я его… лелеяла много лет! Я с ним провела больше времени, чем родная мать! Какая же это чушь! Как только это могла прийти вам в голову?!
Слова срывались с её губ резко, быстро, она вся подалась вперед, казалось, что вот-вот вскочит со своего стула и набросится на помощника окружного прокурора с кулаками. Он смотрел на нее холодно, спокойно. Так обычно смотрит зоолог на пришпиленную булавкой бабочку — как она бьётся, сучит лапками, бессмысленно пытается избежать своей безрадостной участи. Шидловский, всем своим видом показывая, что на него не действуют дамские «выкрутасы», спокойно проговорил:
— Вы его отравили, дали под видом лекарства морфий, который как Вы знали, Николай получил летом из экстракта опийного мака. Я полагаю, что все это произошло потому, что он порвал тяготившую его связь с вами. Либо готовился это сделать. Я верю, что Вы его ценили, дорожили им и даже искренне любили. Хотя любовь это была, конечно, нездоровой. Но Вы многое связывали с Николаем. Это так по-женски.
— Но это же неправда! Этого не было!! — она почти кричала.
От её светской сдержанности не осталось и следа. Она уже не могла сдержать слёз, мокрое лицо исказила гримаса, вмиг сделавшая его некрасивым.
— Так и запишем в протокол, — спокойно продолжал Шидловский, обращаясь как бы к секретарю, но поглядывая при этом на Жюжеван, — Мадемуазель, в ответ на заданный ей прямой вопрос о виновности в смерти Николая Прознанского, заявила, что себя виновной не признаёт. Ввиду тяжести инкриминируемого Жюжеван преступного деяния, её запирательства, наличия, как иностранной подданной, возможности в любой момент покинуть пределы Российской Империи помощником прокурора Санкт-Петербургского окружного суда Шидловским Вэ Дэ принято решение об аресте Жюжеван Эм и заключении её под стражу в женское отделение Санкт-Петербургского тюремного замка. Обвиняемой вручено постановление об аресте и разъяснено…
Плавное течение речи Вадима Даниловича было остановлено падением тела Жюжеван на пол. Шумилов подскочил к упавшей, пощупал пульс сначала на запястьи, потом на шее. Не нащупав, испугался не на шутку. Шульц, привстав на цыпочки, из-за конторки с любопытством наблюдал за его манипуляциями.
— Никита Иванович, — обратился к нему Шумилов, — пригласите конвойных, они в коридоре сидят. И потрудитесь врача пригласить.
Шульц без лишних слов скользнул за дверь.
— Вадим Данилович, нашатырь у Вас где-то был, — вспомнил Шумилов.
Но Шидловский без напоминаний уже извлек из стола пузырек и смачивал его содержимым платок.
— Вот насчет врача побеспокоиться следовало загодя, — сокрушенно пробормотал он.
Дверь отворилась. Вошли ожидавшие в приемной полицейские, да так бестолково и остановились на пороге.
— Не надо стоять столбом, братцы, — сказал Шидловский, обращаясь к ним, — осмотрите покамест сумочку барышни. Вам её на Шпалерную везти, так что потрудитесь! Рекомендую обратить внимание на флаконы и баночки, в них может оказаться яд.
Шульц привёл доктора на удивление быстро. В соседнем с прокуратурой доме проживал немец-акушер, его обыкновенно звали в случае каких-то эксцессов на допросах. Иногда, хотя и не очень часто, обвиняемые при задержаниях пытались грызть стаканы, пить чернила и падать в обмороки. В дальнейшем все допросы и очные ставки проводились на территории тюремного замка, где каждый из помощников прокурора имел для этого персональную камеру. Там разного рода инциденты, связанные с членовредительством, происходили не в пример чаще, но на территории тюрьмы существовал лазарет, а в штате персонала имелись врачи, так что проблема с оказанием первой помощи пострадавшим решалась гораздо проще.
Доктор осмотрел уложенную на диван Жюжеван, определил аритмию, дал каких-то капель. Он более получаса добросовестно просидел рядом с нею, успокаивающе разговаривая и периодически проверяя пульс. После его ухода Шидловский подсунул Жюжеван на подпись протокол допроса, зачитал постановление о взятии под стражу и разъяснил некоторые казенные формулировки. Старший конвойного наряда расписался о принятии арестованной под ответственность.
А потом её увели.
12
Прошло несколько дней. Следственная машина была запущена и работа последовательно продвигалась своим чередом. Помощник прокурора решил проблему с протоколом осмотра трупа Николая Прознанского способом воистину нетривиальным: он отдал бумаги полковнику Прознанскому, а тот вернул их через два дня с необходимыми подписями. Помимо Пашенко, в действительности проводившем вскрытие, под протоколом подписался некий адъюнкт академии, не имевший к происшедшему ни малейшего отношения. Полковник, используя свои глубоко законспирированные связи, сумел каким-то образом убедить офицера поставить свою подпись под документом. Таким образом все формальности оказались соблюдены и протокол благополучно был вшит в дело.
Помимо этого Шидловский оформил в виде протокола допроса рассказ полковника об увиденном им моменте интимной близости сына с гувернанткой. Проделано это было в отсутствие Шумилова, неожиданно обнаружившего в деле документ, состряпанный явно задним числом.
Жюжеван сидела в тюрьме на Шпалерной и продолжала чувствовать себя не очень хорошо. В первые дни мая она передала просьбу о встрече с помощником прокурора и Шидловский, рассчитывавший на её сознание в убийстве, немедля отправился в тюрьму. Встреча с Жюжеван не оправдала его радужных надежд: арестованная просила предоставить ей выписки из протоколов допросов лиц, свидетельствовавших о её связи с покойным, а также интересовалась возможностью привлечения адвоката. Но главный сюрприз француженка преподнесла через два дня.
Вадим Данилович Шидловский утром 6 мая пригласил Шумилова в свой кабинет и, явно чем-то расстроенный, шлепнул на стол перед ним тонкую картонную папку.
— Полюбуйтесь, Алексей Иванович! — проворчал он, — Наша мадемуазель жалобу настрочила. Да не кому-нибудь во французском посольство, что было бы естественно, а Сабурову! Каково?!
Прокурор Санкт-Петербургского окружного суда был непосредственным начальником Шидловского. Жюжеван действовала логично; в самом деле, не жаловаться же на Шидловского самому Шидловскому!
— А копию жалобы направила мне, за что ей, конечно же, большое спасибо, — ёрнически продолжил помощник прокурора, — Прочтите и скажите, что Вы обо всем этом непотребстве думаете.
Он был явно раздосадован. Грузно опустившись в свое безразмерное кресло, он принялся барабанить костяшками пальцев по столу. Шумилову было не совсем понятно, отчего Шидловский так переживал — а тот переживал сильно! — ведь жалобы арестованных на действия следствия были явлением весьма обыденным. Алексей Иванович раскрыл папку и углубился в чтение заявления Мариэтты Жюжеван.
Это были три страницы, исписанные хотя и ровными, но испещренными помарками, строчками. Автор текста, видимо, имел уравновешенный характер и был приучен к порядку, об этом свидетельствовал как чёткий почерк, так и общее размещение текста на листах. Но писавший явно волновался, подбирая слова, и пытался придать своему тексту больший эмоциональный заряд, что вовсе не требовалось для документа такого рода. При этом, возможно, автор был ограничен в количестве бумаги.
Заявление Жюжеван оказалось весьма ярким в эмоциональном отношении, при этом по содержанию оно было логично и вполне здраво. Француженка писала, что все предъявленные ей улики и показания свидетелей есть не что иное, как намеренно устроенная западня. Она отрицала все обвинения в свой адрес и утверждала, что ее «специально опутали и оговорили». Обвиняемая утверждала, что за обрушившимися на нее несчастиями стоял давний недоброжелатель Жюжеван, а именно… мать покойного Николая Прознанского. Да, да, она прямо обвинила Софью Платоновну Прознанскую в смерти сына!
Дойдя до этого места, Шумилов оторвался от бумаг и остолбенело посмотрел на Вадима Даниловича. При всей своей симпатии к француженке Шумилов был поражён её умозаключением и почувствовал недоверие к этому утверждению. Шидловский, поймав взгляд Алексея Ивановича, истолковал его по-своему: «Ты читай, читай! Дальше будет интереснее…» Жюжеван аргументировала своё заявление следующими умозаключениями: «Почему сразу после смерти Николая пузырек с остатками лекарства, из которого больной получал микстуру, Софья Платоновна забрала в свою комнату, якобы, „для сохранности“? Ведь тогда даже мысли об отравлении ни у кого не возникало! Но если у самой Софьи Платоновны зародились какие-то подозрения, то зачем через два дня она вернула пузырёк на место? Комната покойного не только не была закрыта, но — более того! — я была поселена в ней на 3 дня, вплоть до момента похорон Николая Прознанского. Где же логика?»
Эти рассуждения Жюжеван вовсе не казались надуманными. Шумилов к немалой своей досаде понял, что следствие очень мало знает о внутрисемейных отношениях Прознанских. Что они делали, как себя вели в первые дни после смерти Николая оставалось невыясненным; следствие вообще не задавалось этими вопросами, всецело сосредоточившись на проверке версии о якобы существовавшей радикальной молодежной группе. Тот факт, что Жюжеван прожила несколько дней в комнате покойного уже после его смерти (а Шумилов ничего об этом не знал) заставлял совершенно иначе посмотреть на взаимоотношения участников этой истории.
Далее. Если, как утверждал отец покойного, у гувернантки была связь с сыном и её поведение в конце апреля показалось ему до такой степени подозрительным, что он сообщил об этом помощнику прокурора, то почему в первую неделю после смерти Николая он не только не высказывал своих подозрений, а, напротив, позволил убийце жить в собственном доме и иметь доступ к многочисленным ядам. Ведь отравитель мог совершить новые убийства! Кто возьмется наперёд просчитать ход мыслей в голове истеричной преступницы, разумеется, если считать Жюжеван «истеричной преступницей». Однако, ей все верили и никто не испытывал опасений за свою жизнь в обществе гувернантки.
Информация, сообщенная Жюжеван, была очень интересна и требовала спокойного осмысления. Но заявление отнюдь не исчерпывалось этим. Француженка писала, что домашние лгали, уверяя следствие в том, будто во время болезни Николай Прознанский был бодр и весел. Это было отнюдь не так! Его мучили распухшие лимфатические узлы под ушами и в подмышках, он очень страдал и ему становилось всё хуже. Но от всех предложений Жюжеван вызвать другого доктора Николая отмахивалась. В последний же вечер — т. е. 17 апреля — Николай Прознанский «был непохож сам на себя» и находился в небывало мрачном настроении. Настолько мрачном, что Жюжеван настаивала, чтобы позвать в дом хорошего друга Николая, остряка и балагура Федора Обруцкого. Но этого тоже никто «не услышал» и Жюжеван запретили это делать. «А теперь семья изображает, будто всё было замечательно!» — гневно упрекнула родню обвиняемая.
По поводу своей, якобы имевшей место, аморальной связи с Николаем, она писала, что это навет, она была ему просто другом. Жюжеван по ее словам была осведомлена о романе Николая с Верой Пожалостиной и о том, что отношения эти были разорваны еще месяц назад. «Откуда же взяться ревности, даже если допустить, что связь была?! Где логика обвинения?!» — вопрошала Жюжеван и Шумилов, прочтя это не сдержал улыбку. Удар был хорош, не в бровь Шидловскому, а прямо в глаз!
Но самое существенное в заявлении Жюжеван было оставлено под конец. Гувернантка обвинила родителей Николая в «умышленном сокрытии от следствия важной улики». Прочтя это Шумилов ещё раз улыбнулся, поскольку, само понятие «сокрытия» определяется как «умышленное не предоставление следствию», отчего у Жюжеван получилась тавтология, вполне, впрочем, простительная для иностранки. Эта улика по мнению обвиняемой была способна пролить свет на последние дни жизни Николая Прознанского. Речь шла о дневнике покойного. Жюжеван утверждала, что Николай вёл дневник, во всяком случае, делал записи подобные дневниковым, она знала об этом не понаслышке, неоднократно видела тетрадь в рыжей сафьяновой обложке, куда покойный имел привычку записывать свои мысли. Хранилась эта тетрадь в его письменном столе в верхнем левом ящике, запиравшемся на ключ. С содержанием записей Жюжеван была незнакома, поскольку никогда их не читала, а Николай не имел обыкновения распространяться на эту тему. М-ль Жюжеван просила разыскать эту тетрадь и приобщить ее к делу, «в надежде, что записи покойного снимут с меня подозрения». Далее обвиняемая требовала передопроса свидетелей, очных ставок с ними и опять повторила свои обвинения в адрес матери Николая Прознанского.
Алексей Иванович отложил исписанные листки. Тут было над чем подумать и разбегавшиеся мысли было не так-то просто систематизировать. «Написано сумбурно, но вполне осмысленно по сути претензий, — размышлял он, — Конечно, обвинения в адрес матери покойного звучат голословно и вообще абсурдно, но в остальном… Она верно подметила нестыковки в официальной версии, как ее задумал Шидловский. Эти нестыковки сами по себе указывают на совершенно иную внутреннюю логику событий. Странно, что Вадим Данилович не хотел этого видеть. А уж что касается дневника — тут уж, если факт подтвердится — вопиющее нарушение. Почему родители не выдали дневник нам во время проведения официального осмотра квартиры?»
Вадим Данилович не торопил своего молодого коллегу, наблюдал за Шумиловым с ленивым спокойствием.
— Дамочка, видите ли, хочет очных ставок. Будут ей очные ставки! — процедил, наконец, Шидловский, — Возни, нам конечно… Но деваться некуда — теперь это дело под контролем прокурора города, так что мы сделаем все, чтоб комар носа не подточил на суде. И передопросить всех придется, точнее, тех, кто против неё свидетельствует. Я сам этим займусь. А вам, Алексей Иванович, придется ехать опять к Прознанским, искать дневник. Это, конечно, не шутка — такая улика. А, впрочем, может его и не было, дневника-то?
Алексей Иванович подумал про себя, что дневник скорее всего существует, вряд ли обвиняемая стала бы это выдумывать, тем более, если сама признается, что его не читала, а значит и не может знать наверняка, что там. Другое дело, захотят ли родители его выдавать. Коли ранее они этого не сделали, значит, у Прознанских-старших существуют веские причины не рассказать о нём следствию. «Впрочем, — решил Шумилов, — не следует забегать вперед, сначала дневник надо найти».
— Мне кажется, в позиции Жюжеван есть своя логика. О какой ревности со стороны обвиняемой можно говорить, если Николай Прознанский получил «отставку» за месяц до смерти? Пожалостина никак не грозила отношениям Жюжеван с Николаем.
— А логику здесь искать и не надо, — возразил Шидловский, — Женщины склонны к аффектации. Гувернантка поняла, что отношения с молодым человеком себя исчерпывают. Видимо, не могла с этим смириться.
— В такого рода предположениях можно очень далеко зайти. Давайте обвиним Жюжеван в подготовке убийства, скажем, Веры Пожалостиной. Или ещё какую-нибудь несуразицу выдумаем! Но мы же все-таки должны отталкиваться от фактов.
— Прекрасно, Алексей Иванович, вот и оттолкнитесь от фактов, — язвительно предложил Шидловский.
— Мне совершенно непонятно почему Жюжеван, еще трое суток оставаясь в доме своей жертвы, не уничтожила яд. Ничто не мешало ей вылить остаток морфия из банки и залить туда микстуру. И мы бы никогда не догадались каким образом яд попал в организм Николая Прознанского.
— Я Вам прекрасно объясню почему наша преступница не вылила яд, — азартно сказал Шидловский.
— Сделайте одолжение!
— Она не предполагала, что подозрения в убийстве вообще возникнут. Потому никаких защитных мер не предприняла.
— Ваш довод ничего не объясняет. Ей бы следовало вылить яд в силу элементарной предосторожности. Вы говорите о Жюжеван как о дурочке, а между тем, она очень даже неглупый человек.
— Я это понял из её заявления Сабурову, — опять съязвил Шидловский.
— Слишком поздно, Вадим Данилович, — теперь уже съязвил Шумилов, — Давайте я Вам расскажу другую историю, гораздо более вероятную, нежели ту, что слышал от Вас.
— Я весь внимание.
— Вечером 17-го Жюжеван давала Николаю настоящую микстуру. Эта же микстура — заметьте, безвредная! — оставалась в нашем пузырьке и утром 18 апреля. Николай умирает и его мать забирает пузырек в свою комнату. А через два дня пузырек возвращается в комнату покойного и ставится на тумбочку у изголовья. В нем уже морфий. Очень много морфия, дабы сразу приковать наше внимание. Этот пузырек как заряженное ружье в театрально драме, висящее на стене. Понимаете, что я хочу сказать? Но никто, кроме убийцы, не знает, что там яд. И Жюжеван этого не знает. Поэтому она спокойно спит третью ночь в этой комнате и не подозревает, что убийца уже «подставил» ее вместо себя. Яд остался в пузырьке только потому, что его присутствие там ни в коей мере не грозило убийце разоблачением.
— Замечательно, Алексей Иванович! Осталось только сказать, как же было осуществлено умерщвление Николая Прознанского.
— Он умер от яда, полученного не под видом микстуры. Например, от отравленной морфием папиросы.
— Может быть, покажете пальцем на убийцу и объясните его мотив?
— Нет, пока не покажу. Я лишь пытаюсь убедить Вас, что с той доказательной базой, что собрана по настоящему делу, не следовало обвинять Жюжеван в убийстве. Между ревностью и убийством нельзя ставить знак равенства.
— По крайней мере, Вы согласились, что наша французская мамзель ревновала молодого Прознанского, — раздраженно проворчал Шидловский. То, что он назвал обвиняемую «мамзель» свидетельствовало о его крайнем возмущении.
Шумилов почувствовал, что Вадим Данилович, упорно стоит на своей версии и воспринимает все, противоречащее его суждению, как досадную помеху. Впрочем, Шумилова не могло не радовать то обстоятельство, что помощнику прокурора, хочет он того или нет, все же придется разбираться с жалобой Жюжеван. Шидловский был раздражен ее обращением прокурору окружного суда и не скрывал этого, но в своем дурном расположении духа Вадиму Даниловича следовало корить лишь самого себя. Он действовал, не советуясь с Шумиловым, и поставил себя в затруднительное положение самостоятельно. Пусть теперь поломает голову над тем, как из него выходить.
С такими мыслями Шумилов ехал к дому Прознанских. На душе было как-то скверно. Он представлял, с каким лицом его встретит Софья Платоновна и что ответит на просьбу предоставить в распоряжение следствия дневник покойного. Объяснение могло получиться не в меру эмоциональным и вздорным.
Швейцар Сабанеев был на своем месте. Он вышел из-за витражной загородки, щелкнув каблуками, поздоровался. Дверь в квартиру Шумилову отворила Матрена Яковлева, горничная, которую он допрашивал в прокуратуре. Женщина приняла у него пальто и проводила в небольшую гостиную, служившую, по-видимому, Софье Платоновне и кабинетом: в углу стояло небольшое, красного дерева, бюро, на нем лежали бумаги, счета и большая бухгалтерская книга. Софья Андреевна посмотрела на Шумилова поверх круглых, смешных очков, державшихся у неё на кончике носа. Шумилов едва успел поздороваться, как внезапно раскрылась дверь и из смежной комнаты вошел полковник. Он выглядел по-домашнему и был облачен в просторный атласный стеганый халат, перехваченный поясом с кистями.
— Что здесь происходит? — с весьма решительным видом спросил он. Ну, прямо-таки, коршуном слетел.
— Шумилов Алексей Иванович, — на тот случай, если полковник позабыл его имя-отчество представился Шумилов, — делопроизводство помощника прокурора окружного суда Шидловского. Если припоминаете, я в составе следственной группы производил в вашем доме обыск.
— Слушаю Вас, Алексей Иванович.
— Следствию стало известно о существовании важного документа — дневника Вашего сына Николая — который не был приобщен к делу в ряду прочих его бумаг.
Шумилов заметил, что супруги переглянулись, но лица их оставались непроницаемы, ни один мускул не дрогнул. Алексей Иванович нутром почувствовал: тетрадь точно существует, но родители сейчас начнут запираться. Шумилов поспешил продолжить, пока они не наговорили гору лжи, усложняя и запутывая ситуацию.
— Когда проводилась выемка бумаг Николая Дмитриевича вы не обратили наше внимание на отсутствие среди них столь важного для следствия документа, как дневник, — Алексей Иванович старательно избегал говорить о Николае, как о покойнике, не желая травмировать родителей, — Никто не ставит вопрос о его умышленном непредставлении, мы понимаем, сколь тяжел был для вас тот момент. Следствию доподлинно известно, что дневник существует, он не мог быть уничтожен случайно или по недомыслию. Так же нам известно, что сам Николай свой дневник не уничтожал, — тут, конечно, Шумилов блефовал, но следовало упредить возможное возражение родителей, — на этом настаивает обвиняемая Мариэтта Жюжеван. Это тетрадь в рыжей сафьяновой обложке и сейчас она находится где-то в доме. Обычно она хранилась в письменном столе в комнате Николая.
В комнате повисла тяжелая тишина, нарушаемая только звуками улицы, проникающими через приоткрытое окно. Родителя явно не хотели отдавать дневник, но при этом они были застигнуты врасплох и не знали как себя повести.
— Господин полковник, мы ОБЯЗАНЫ приобщить тетрадь к делу, — продолжал давить Шумилов, — И Вы обязаны её выдать. Напомню Вам содержание статьи 368 «Устава уголовного судопроизводства» Российской Империи: ни присутственные места, ни должностные или частные лица не могут отказываться от выдачи нужных к производству следствия письменных или вещественных доказательств. Нарушая эту статью…
— Я не отказываюсь, — негромко сказал полковник, многозначительно взглянув на жену, — Вы, разумеется, получите дневник Николая.
Софья Платоновна поджала губы, на переносице образовалась вертикальная складочка. Открыв дверцу бюро, она запустила руку куда-то вглубь и выудила рыжую сафьяновую тетрадь.
— Это не специально так получилось, просто в момент обыска у Николашеньки ее не было в столе, просто… в то ужасное утро она лежала… совсем в другом месте… — Софья Платоновна запиналась, выдавливая из себя слова, и глаза ее бегали как у нашкодившего котенка, — … среди его учебников, которые он читал в последнее время… Мы даже не можем сказать, как это получилось… и совершенно упустили из виду, когда шел осмотр вещей…
Шумилов взял тетрадь, пролистал наспех. Это был именно дневник.
— Благодарю. Я напишу Вам росписку, пригласите прислугу, дабы она засвидетельствовала, — проговрил Алексей Иванович.
Через пять минут он уже был на набережной Мойки. Ноги быстро несли его назад, в прокуратуру; не терпелось сесть за стол и внимательно изучить записи Николая Прознанского. «Ну, полковник, ну жук!» — размышлял Шумилов по дороге, — «Разоблачает гувернантку, а сам пытается утаить от следствия такую важную улику, как дневник! Да, впрочем, разве только полковник? Как там говорится? — муж и жена — одна сатана. Только пока непонятно, кто кем руководит. Жюжеван ведь именно мамашу Николая называла своим главным недругом жену. И с чего бы это? Что они не поделили?»
Алексея Ивановича разбирало любопытство, что же такое секретное таил в себе этот дневник, раз родители постарались утаить его? Шумилов подошел к чугунным перилам, остановился на узеньком тротуарчике, практически перегородив его. Раскрыл тетрадь и неспеша пролистал страницы. В дневнике не было никаких вложений, характерных для подобного эпистолярного творчества, как-то, записочек, открыток, засушенных цветочков. Просто записи чернилами. Причем не ежедневные. На последней странице несколько фраз были густо замазаны тушью, да так, что прочитать их казалось невозможным. «Уж не эти ли строки являются причиной сокрытия тетради?» — подумал Алексей Иванович. Он всё более укреплялся во мнении, что главные секреты этого расследования еще только ждут разгадки.
13
Вернувшись на свое рабочее место, Шумилов углубился в чтение дневника Николая Прознанского. Первая запись в нем датировалась сентябрём 1877 года, т. е. была сделана примерно за полгода до смерти. К дневнику Николай Прознанский возвращался нерегулярно, как правило делая записи два раза в неделю. Обычно он описывал события, иногда пересказывал беседы, показавшиеся ему в силу каких-то причин любопытными — как раз то, что обычно заносят в дневник молодые люди.
Прежде всего Шумилов обратил внимание на то, что ни в одной строчке дневника не упоминалась связь с гувернанткой. Ни в каком виде. Мог ли вчерашний гимназист обойти молчанием такой животрепещущий для него момент жизни, как «взрослая» связь с женщиной, со всеми сопутствующими новыми впечатлениями? Хотя с другой стороны, если верить полковнику, не такие они были и новые, эти впечатления, если только эта связь в самом деле началась почти 3 года назад, когда Николаю было 15 лет.
Нигде в дневнике не было рассуждений о политике, ни под каким соусом не высказывались не то что радикальные, а даже просто критические суждения. Зато в некоторых записях автор изливал свое мрачное настроение, тоску, и именно эти обратили на себя особенное внимание Шумилова. Так, в ноябре Николай писал: «Смешно разочаровываться в моим годы! Чем больше живешь, тем больше узнаешь, тем больше видишь, что многие мысли неосуществимы, что нет никогда и ни в чем порядка. Должен ли я упрекнуть себя в чем-нибудь? Много бы я ответил на этот вопрос, если бы не боялся, что тетрадь попадет в руки отца или кому-нибудь другому и он узнает преждевременно тайны моей жизни с 14 лет. Много перемен, много разочарований, многие дурные качества появились во мне. Кровь моя с этого времени приведена в движение, движение крови привело меня ко многим таким поступкам, что, при воспоминании их, холодный пот выступает на лбу».
Узнал из дневника Шумилов и точную дату поездки компании молодых людей в бордель. Произошло это 16 января. Николай довольно откровенно описал переживания своего конфуза, хотя понять что же именно там с ним случилось из этой записи было невозможно: «Наперёд знал, что ничего путного из этой затеи не выйдет, а всё равно поехал. Хорошее, богатое заведение, девочки одна к одной, полячки из Варшавы и Лодзи. Сидел, пускал слюни, презирал себя. Тянул время, оттягивая момент своего окончательного мужского фиаско. Играл на гитаре, пел куплеты на матерные стихи Лермонтова и Полежаева. Стоявшая позади моего кресла барышня дышала в затылок и ложилась на плечи грудью, в результате чего произошел тот самый конфуз, которого мне любой ценой следовало избежать. Постарался не показать вида, изобразил будто налился шампанским. Хотя я и выпил больше двух бутылок (это по червонцу-то каждая!) остался трезв, как стеклышко. Как тяжело сознавать себя ничтожеством!»
Другая примечательная запись датировалась 21 января. «Сила воли выработалась из упрямства и спасла меня, когда я стоял на краю погибели. Я стал атеистом, наполовину либерал. Дорого бы я дал за обращение меня в христианство. Но это уже поздно и невозможно. Много таких взглядов получил я, что и врагу своему не желаю додуматься до этого; таков, например, взгляд на отношения к родителям и женщинам. Понятно, что основываясь на этом и на предыдущем, я не могу быть доволен и настоящим.» «Интересно, что молодой человек имел ввиду, говоря о своём порочном взгляде на родителей и женщин? — подумал Шумилов, — Уж не поездку ли в бордель? Но только при чем тут родители? Нет, было, видимо, еще что-то, совсем другое.»
Позже, 2 марта 1878 года, Николай сделал ещё одну примечатльную запись: «Светло ли моё будущее? Недовольный существующим порядком вещей, недовольный типами человечества, я навряд ли найду человека, подходящего под мой взгляд, и мне придется проводить жизнь одному, а тяжела жизнь в одиночестве, тяжела, когда тебя не понимают, не ценят.» Эта вселенская скорбь молодого человека, едва начинавшего жить, могла бы показаться смешной, если не знать, что через полтора месяца его земной путь пресечется весьма трагическим образом. «Экой Печорин, надо же! Молчать трубе, молчать литаврам! Интересно, „не понимают, не ценят“ — это относится ко всем окружающим, включая родителей, брата, друзей, Верочку Пожалостину, Мари Жюжеван? Или на самом деле Николай имеет в виду всего одного человека?» — размышлял озадаченный Шумилов, — «Выходит, с таким ощущением собственной значимости жил Николай? Обыкновенно, в его годы каждый молодой человек ощущает свою уникальность, ждет от жизни даров в виде славы, любви прекрасных женщин, блестящей карьеры, всеобщего восхищения его необыкновенными дарованиями… А тут — такой черный пессимизм». Интересно же видел свою будущность этот представитель «золотой молодёжи»!
Последняя запись была сделана 18 марта, в день получения того самого письма на голубой бумаге от Веры Пожалостиной, которое было найдено во время обыска. В этом письме Царица Тамара просила Николая прекратить бессмысленные и навязчивые ухаживания. Николай записал в дневнике: «Сегодня такой солнечный, хороший день на дворе, а для меня это — черный день. Верочка ответила, умышленно сделав это письмом, а не при личной встрече. К чему все прелести мира, если нет больше…» Дальше эту запись прочитать не удалось — почти половина страницы оказалась вымарана тушью, да так густо, что под нею не угадывалась ни одна буква. Шумилов задумался. Интуитивно он чувствовал, что именно эти, кем-то старательно зачеркнутые строчки, очень важны для понимания последовавших в середине апреля событий. Вероятно, поэтому их и постарались скрыть. Кто бы это ни сделал, он не захотел полностью уничтожать ни страницу, ни сам дневник. Очевидно, потому, что дорожил каждым словом, попавшим в эту тетрадь.
Шумилов взял лист бумаги, ручку и выписал в столбец:
1. О себе самом;
2. Мать;
3. Отец;
4. Жюжеван;
5. Пожалостина Вера;
6. Павловский Сергей;
7. Виневитинов Иван;
8. Владимир Соловко;
9. Штром Андрей;
10. Пожалостин Андрей;
11. Обруцкий Федор;
12. Спешнев Петр.
13. Посторонние, случайные люди.
После этого он принялся читать дневник снова. При каждом упоминании автором того или иного человека из составленного списка, Шумилов ставил против этой фамилии галочку. После повторного прочтения дневника Алексей Иванович знал, что чаще всего Николай Прознанский поминал в дневнике самого себя — 52 раза. Это было логично и имело хорошее объяснение: дневники заводят эгоцентрики, люди занятые более всего самими собой. Можно сказать, что дневник — это книга о самом себе. И чем более человек эгоцентричен, тем более такая книга окажется откровеннее. Далее по частоте упоминаний шли друзья Николая Прознанского — 23, 20, 19, 17 раз. Вера Пожалостина упоминалась 15 раз, что в принципе, тоже было немало, если принять во внимание, что в жизни Николая она возникла в конце осени 1877 года, т. е. не с начала ведения дневника. Отец был упомянут молодым человеком всего трижды, причем два раза в обезличенной форме, скорее как философская категория, нежели как полковник Дмитрий Павлович. Свою мать Николай Прознанский упомянул 8 раз. А вот Жюжеван — ни разу.
Получившийся результат показался Шумилову очень интересным. Сын всячески избегал упоминания в своём дневнике как отца, так и гувернантки. Они словно не присутствовали в его жизни, хотя на протяжении всех месяцев, охваченных дневниковыми записями, оба были рядом и с ним и Николай встречался с обоими практически ежедневно. Что было тому причиной такого отношения к этим людям?
Очень заинтересовало Шумилова и то, как покойный Николай Прознанский описал своё посещение публичного дома. Молодой человек явно имел какое-то расстройство половой сферы. Этим обстоятельством следовало заинтересоваться гораздо раньше. Оно могло прояснить характер отношений Николая с гувернанткой. Очевидно, что-то мог знать доктор Николаевский. Следовало поговорить с ним на эту тему.
Помимо этого следовало попробовать прочесть замаранную тушью часть текста на последней странице дневника. Для этого надо было обратиться в химическую лабораторию Министерства внутренних дел. Кроме того, криминалистов следовало бы попросить проверить дневник на предмет выявления тайнописи; поскольку Николай Прознанский был большим любителем химии, то можно было предположить использование им симпатических чернил. А полицейские химики были большими специалистами по этой части. Даже если бы они не справились с поставленной задачей, то по крайней мере, смогли бы назвать тех специалистов в Петербурге, кто наверняка справится. Хорошие химические кабинеты имелись при Экспедиции по заготовлению ценных бумаг Министерства финансов, в Горном институте, в университете. Разумеется, подобное исследование дневника могло быть осуществлено только по оформлении специального направления. А перед тем, как отдавать дневник в руки химиков, его следовало полностью скопировать в силу возможной утраты.
Но помимо этих обстоятельств следовало не упускать из виду проверку Петра Спешнева, возможного родственника осужденного по «делу петрашевцев» Николая Спешнева. Минует день-два и Шидловский непременно поинтересуется результатом. К этому следовало быть готовым.
Шумилов засел за оформление необходимых документов, затем отнес дневник секретарю, попросил скопировать его в кратчайшие сроки. Всегда безответный Никита Иванович пролистал дневник, да сокрушенно покачал головой, ведь все-таки речь шла, почитай, о сорока листах. «Ждите, Алексей Иванович, я конечно же, буду работать», — заверил он Шумилова совершенно убитым голосом.
Шумилов составил свой запрос о родственниках Петра Спешнева в адресную экспедицию столичной полиции весьма казуистично. Он не просто попросил перечислить всех родственников Спешнева, но и упомянул о возможном родстве последнего с неким однофамильцем, проходившем по делу «петрашевцев». Сделал это Шумилов, разумеется, не случайно.
Постановка паспортного учета в Российской Империи имела давнюю историческую традицию и являлась одной из сильнейших сторон организации административного аппарата. Начиная с 1719 года при отъезде любого человека податного сословия в соседний уезд или далее, ему надлежало выправить «пропускное письмо». Оно представляло собой документ с указанием имени, отчества, фамилии, возраста, направления движения владельца, а также его детальный словесный портрет. Помимо этого «пропускное письмо» содержало запись о месте и дате его выдачи. «Пропускное письмо» времен Петра Первого явилось прообразом паспорта, а организационный механизм его учета фактически положил начало институту прописки (или приписки) в России. По прибытии в назначенное место владелец вручал паспорт дворнику (либо сам являлся с ним к местной полицейской власти), который в течение суток должен был снести документ в околоток, где данные паспорта переписывались и поступали в адресный стол полицейской части. Там на владельца паспорта заводилась карточка, сохранявшаяся в течение года. По истечении года карточка сдавалась в т. н. адресную экспедицию городской полиции, подразделение более высокого уровня, откуда по истечении пяти лет направлялась в адресный архив. Паспорта выдавались на год, два и три и начиная с 1763 года облагались денежным сбором. В девятнадцатом столетии в паспортах стали появляться записи о несовершеннолетних детях и жене обладателя, в том случае, если они путешествовали вместе с ним. Если в начале существования паспортной системы священники и дворяне были освобождены от необходимости получения паспортов для проезда по стране, то постепенно все сословия оказались в равной мере вынуждены получать и регистрировать такие документы.
Помимо данных о жителях Санкт-Петербруга, копившихся в архивах адресной экспедиции, весьма важная информация о них оседала в секретном архиве Третьего отделения Его Императорского Величества канцелярии. Формально архив этот должен был содержать материалы только о лицах, заподозренных в политической неблагонадежности, но на самом деле помимо таковых в нем оказывались справочные данные практически на всех сколь-нибудь образованных жителей столицы.
Поэтому Шумилов, составляя свой запрос в адресную экспедицию о родне Петра Спешнева, нарочно упомянул в нем о «проверке на предмет возможного родства с неким Николаем Спешневым, осужденным по делу Петрашевского». Подобная формулировка заставила бы полицейских с одной стороны тщательнее проверить данные о ныне проживающих в столице родственниках Петра, а с другой, переправить запрос в Третье отделение, для того, чтобы тамошние чиновники проверили его по собственной учётной базе. Такая двойная работа, конечно, удлинила бы время подготовки ответа, но при этом гарантировала от случайных ошибок исполнителей.
Вопреки ожиданиям Шумилова, предполагавшего, что проверка Петра Спешнева потребует три-четыре дня, ответ на запрос был получен на удивление быстро, буквально через день, после его отправки прокурорским курьером. Возможно, именно упоминание в запросе политического преступника Николая Спешнева, осужденного без малого три десятка лет тому назад, способствовало тому, что отработка запроса была проведена вне очереди. Как бы там ни было, получив ответ Шумилов узнал, что Петр Спешнев к своему однофамильцу отношения никакого не имел. У него был дядя по отцу, Николай Спешнев, но это был явно другой человек, родившийся только в 1840, в то время как петрашевец Спешнев был рожден в 1821. Других Николаев в роду Петра на протяжении трех колен не просматривалось. Помимо прочего, приятель Николая Прознанского происходил из древнего боярского рода, все представители которого находились на государевой службе и жили по преимуществу в столице, а петрашевец Спешнев приехал в Санкт-Петербург из Твери.
Обдумав сложившуюся ситуацию с разных сторон, Алексей Иванович пришел к заключению, что на версии о молодежной нигилистической группе можно уверенно ставить крест. Не был Николай Прознинский членом тайного радикального движения. Никто его никуда не вовлекал, и никаких поручений по изучению ядов Николай никогда не получал. И не было среди его окружения человека, которого можно было бы в чем-то подобном заподозрить.
В таком случае следовало признать, что анонимку в канцелярию градоначальника можно рассматривать либо как неудачную шутку, либо как попытку запутать следствие, наведя его на ложный след. В первом случае на посылку подобного письма мог решиться только незрелый и склонный к авантюрам юношеский ум. Во втором — отправивший имел четкий план, предполагавший последующее убийство Николая Прознанского. И тогда неизвестный отправитель и есть тот самый преступник, которого пыталось назвать следствие.
Алексей Иванович, доложив Шидловскому об изъятии дневника и описав реакцию на случившееся полковника и его жены, кратко изложил свою оценку наиболее примечательных записей. Вадим Данилович внимательно выслушал Шумилова, покряхтел (сие выражало скепсис) и посмотрел на него взглядом, в котором читалось: " Ох, и зелен же ты еще, брат!.. куда ты со своими суждениями!» Вслух он этого, разумеется, не сказал, а выразился иначе, в присущей ему манере разговаривать полуфразами:
— Дневник этот я сам почитаю. Из-за чего там копья ломать…
Понимать сказанное можно было как угодно.
— Пусть химики тушь сведут, — продолжил Шидловский, подписывая отношение в лабораторию министерства внутренних дел, — Может, и правда что-то стоящее окажется.
— И ещё, Вадим Данилович, думаю, версию о радикальной группе можно считать полностью отработанной и не нашедшей подтверждения. Получен ответ на запрос в адресную экспедицию о родственниках Петра Спешнева. К петрашевцу Спешневу наш персонаж отношения никакого не имеет.
— Прекрасно. Как всё замечательно сходится, — проговорил помощник окружного прокурора.
— Только я всё равно предложил бы расширить рамки графологической экспертизы и представить нашим специалистам для сличения образцы почерков друзей Николая Прознанского.
— Зачем это? Для чего это? — неожиданно нервно отозвался Шидловский.
— Ну как же, мы же собирались проводить сличения с почерками приятелей Николая. Ограничившись проверкой одной только Жюжеван мы существенно снизим достоверность заключения.
— Да, я помню, мы собирались проводить подобного сравнение. Но признаемся себе, что это имеет смысл, коли есть конкретный подозреваемый, а так… не станешь же сличать у всех знакомых подряд… Это раз. А во-вторых, раз проведена экспертиза с образцами Жюжеван и все подтверждается, то больше нет смысла искать автора.
— Разве сходится? — спросил Шумилов, — Заключение экспертов составлено во многом в предположительном тоне. И речи нет об абсолютной надежности их суждений.
— Ну, в этой науке абсолютной надежности вообще не бывает. Это не математика. Теперь вот что, — Вадим Данилович сделал паузу, показывая, что речь сейчас пойдет о совсем других вещах, — Дамочка эта, Жюжеван, в тюрьме. Вот пусть и посидит себе, подумает. Оно полезно иной раз! А мы будем спокойно заниматься своими текущими делами. Слава Богу, есть чем заняться, ее дело на нас висит не единственное. Что касается этого расследования, то считаем, что оно в общих чертах завершено. Вот так. Конечно, мы должны по жалобе прореагировать — мы и прореагируем. Передопросим, очные ставки устроим. Только торопиться не будем. Знаешь, Алексей Иванович, иногда тюрьма так благотворно на человека влияет, так хорошо ему мозги вправляет — лучше всяких проповедей и внушений. Посидит, злодей, посидит, а потом сам на допрос запросится, да всё и выложит — и как убивал, и как замышлял, и всех сподручников своих сдаст. Вот так-то…
Алексей Иванович выслушал тираду. И в который уже раз в нем шевельнулось острое чувство негодования. Конечно, Шидловский был старше и опытнее, он много преступников повидал на своем веку. Как раскаявшихся, так и нераскаявшихся. И многих из них вывел на чистую воду. Гораздо больше, чем это пока сделал Шумилов. Но если то, что сейчас Шидловский говорил Шумилову не было цинизмом, то что же тогда вообще следовало называть этим словом?
14
Прошло два дня. Как и предсказывал Вадим Данилович, скорость продвижения дела заметно поубавилась. Куда же теперь спешить, если обвиняемая уже схвачена и посажена за решетку?
Шумилов раздумывал над тем, как лучше подступиться к сокрытому тушью тексту. Хотя можно было просто перепоручить решение этого вопроса какой-либо химической лаборатории, он не спешил это сделать, опасаясь, что в случае неудачи сокрытый текст будет безвозвратно потерян. Записи в дневнике Николая Прознанского были выполнены дорогими кампешевыми чернилами «Пегас» глубоко-черного цвета. Они легко растворялись в воде. Черная тушь, которой был закрашен текст, растворялась спиртом. Попытка травления туши привела бы к повреждению бумаги и неизбежной утрате текста. Теоретически тушь можно было растворить спиртом, но как известно 100 %-го спирта в природе не существует, его максимально возможная концентрация не превысит 96 %, поскольку остальные 4 % массы он неизбежно возьмет из воздуха. Таким образом, даже самый концентрированный спирт представляет из себя водный раствор, при воздействии которым на залитый тушью текст будет растворена как тушь, так и чернильный текст под нею.
Попытка прочесть скрытый текст на просвет, как и следовало ожидать, успехом не увенчалась. Чёрная тушь поверх чёрных чернил — что там можно было увидеть? Изучение обратной стороны страницы в косых лучах света, в надежде прочесть оттиск, оказалось тоже безрезультатным. Николай Прознанский не имел привычки сильно давить пером на бумагу.
Самым разумным вариантом в сложившейся ситуации могло бы стать аккуратное снятие чернильного слоя. Шумилов знал как к этому делу следует подступить, но для подготовки к предстоящей работе ему пришлось зайти в продуктовый магазин и купить там за семь копеек баночку лучшего меда от «северокавказской пчелы». Это был единственный мёд, незасахарившийся несмотря на позднюю весну.
А придя домой, Шумилов отыскал старшего дворника Афанасия, того самого ветерана Крымской войны, что «замыкал гальваническую цепь минной позиции южнее батареи Литке», и попросил к завтрашнему утру наловить дюжину тараканов, пообещав полкопейки за каждого. Афанасий поначалу заподозрил подвох со стороны «барина прокурорской службы Алексея Иваныча» и не без ехидства уточнил, каких именно тараканов надо поймать: черных или рыжих? Убедившись, что Шумилов не шутит, старший дворник воспрял духом, поскольку задание обещало быть легким и прибыльным.
Отправляясь на службу утром 11 мая, Шумилов нёс в своем портфеле баночку меда и стакан, прикрытый бумажкой, замотанной суровой ниткой. В стакане находились полтора десятка живых тараканов. Афанасий к потребной дюжине добавил еще три штуки, так сказать, от душевной своей щедроты. Кроме того, дворник простодушно заверил Шумилова, что за «подобный дивидент готов ловить тараканов каженный день и сдавать их даже не за полкопейки штука, а пятак за дюжину.»
Способ, которым намеревался воспользоваться Шумилов, был издавна известен русским каторжанам. Еще во времена Ваньки Каина, т. е. за сто тридцать лет до «дела Жюжеван», преступники, используя тараканов, аккуратно сводили с гербовой бумаги записи, сделанные водостойкой тушью, получая в своё распоряжение чистые бланки паспортов, пригодные для последующего заполнения.
Очутившись на своём рабочем месте, Шумилов извлёк из опечатанного шкафа сафьяновую тетрадь Николая Прознанского и аккуратно намазал медом часть строки, замазанную тушью. Затем, подцепив пинцетом доброго жирного таракана, опустил его на это место и дабы шельмец не сбежал, прикрыл перевернутым вверх дном стаканом. Таракана долго уговаривать не пришлось: почуяв мед, он остервенело накинулся на него, шевеля усищами и безостановочно работая челюстями. Необычные манипуляции Шумилова не прошли незамеченными тремя делопроизводителями, его соседями по кабинету. Молодые люди оставили свои столы и расположились кругом, обсуждая небывалое зрелище: «Алексей Иванович, что это у Вас за зоосад?» — «Ваш тараканий тотализатор принимает ставки государственных служащих?» — «Если получится дыра, то Вы объясните Вадиму Даниловичу, что это просто пулевое отверстие!» Молодежь ёрничала и развлекалась, а Шумилов, убедившись, что все идет как надо, принялся намазывать медом другие участки скрытых тушью строк. После того, как усатый трудяга закончил работу и уперся своей головной частью в стакан, Алексей Иванович аккуратно передвинул его дальше, предоставив новый фронт работ.
Работа шла медленно, ее темп определялся способностью тараканьих челюстей пожирать тушь с медом. Но филигранный природный механизм, каковым оказалось гнусное усатое насекомое, всецело оправдал расчёт Шумилова; таракан уничтожал тушь и не повреждал скрытых под нею чернил. Почему так происходило догадаться было нетрудно: тушь не пропускала через себя мед и потому чернила и бумага оставались для таракана несъедобными. После того, как темп работы усатого чудовища явно замедлился (его раздутое брюшко с очевидностью свидетельствовало о причине падения работоспособности), Шумилов отправил трудягу в стакан с голодными братьями и запустил под перевернутый стакан второго молодца. Эти манипуляции вызвали вой восторга коллег Шумилова. Один из них убежал в коридор «звать всех» и через пять минут к столу Шумилова началось настоящее паломничество чиновников. Стали подтягиваться даже сотрудники других делопроизводств с нижних этажей; прокуратура была явно заинтригована происходящим.
В половине одиннадцатого в кабинет ворвался Шидловский. Видимо, шефу надоело слушать шарканье ног в коридоре и он решил проверить, что это за хождения начались к его делопроизводителям. Выражением своего лица вошедший в кабинет Вадим Данилович напомнил Шумилову рассерженного хряка Кузю, которого Алексей Иванович в своем далеком ростовском детстве имел обыкновение дразнить, засовывая в ухо спящему за изгородью животному метёлку полыни (если глупый Кузя вовремя не просыпался, веточка поджигалась и тогда животное в умоисступлении вскакивало с ревом и визгом и мчалось прочь, сокрушая всё на своем пути). Впрочем, следовало отдать должное помощнику прокурора, Шидловский, посмотрев на занятие подчинённого, быстро сообразил в чём крылся смысл происходившего. Он только развел руками, да восхитился: «Эко, Алексей Иванович, удумали! За смекалку — спасибо!» К этому времени примерно треть замазанного текста была очищена от туши и Шидловский, подойдя к столу, прочел проступившие слова. «Хвалю, Алексей Иванович, хвалю», — только и нашелся он что сказать, — «Как закончите, покажите уж!»
После четырех часов неутомимой тараканьей работы Шумилов полностью очистил последнюю страницу дневника Николая Прознанского от туши. Остались только её небольшие кусочки, ничуть не мешавшие чтению последних строк. Дословно замаранный тушью фрагмент выглядел так: «…, ни цели, ни веры в единственное, что меня поддерживало — искренняя симпатия той, коей одной я мог вверить свое сердце. Как пошло, как банально все заканчивается! Она категорично потребовала прекратить мои бессмысленные и навязчивые ухаживания. И всё из-за этого напыщенного, надутого индюка! Как мало он видел, но как много думает о себе — это видно всем, кроме неё самой. Кому-нибудь из двух — мне или „Ф. И. Ч.“ — придётся переселиться в лучший мир. Иного выхода не мыслю, не вижу и не готовлю.»
Шумилов задумался: кто это такой Ф. И. Ч.? Означает ли это, что в деле появляется новый фигурант? Впрочем, сама по себе личность этого человека, видимо, не столь уж и важна. Кто бы он ни был, важнее всего то, что Николай пишет о собственной же смерти. Конечно, как об альтернативе смерти этого «Ф. И. Ч.», но ведь и умер-то Прознанский не на дуэли и не в результате несчастного случая, а в своей постели, после болезни, в течение которой не выходил из дома долгое время. «Впрочем, надо будет еще уточнить у родителей покойного, не приходил ли к Николаю человек с инициалами Ф. И. Ч.», — решил Шумилов.
Шидловский, прочитав восстановленные строки и выслушав Шумилова, спорить с его выводами не стал. А потому Алексей Иванович, спрятав в шкаф сафьяновую тетрадь, направился прямиком на Мойку, в дом Прознанских.
В предвечерний час в воздухе было разлито умиротворение. Солнце было по-настоящему теплым, ветер, этот повседневный хозяин невских берегов, был ласков и совсем легонько обдувал лицо. По Мойке плыли украшенные лентами и гирляндами искусственных цветов прогулочные лодки, прятавшие своих пассажиров под натянутыми тентами всех цветов радуги. Из лодок доносился женский смех, звуки гитар и тальянки, звон бокалов. А на широких понтонах, установленных возле ведущих к воде гранитных ступеней, можно было видеть согбенные спины прачек, день-деньской полощущих белье, подносимое в громадных корзинах грузчиками.
На этот раз в квартире Прознанских было непривычно тихо и безлюдно. Бесшумная горничная, не взглянув на Шумилова, приняла у него фуражку и плащ и провела в кабинет хозяина. Казалось, в квартире больше никого и не было.
Полковник сидел за массивным дубовым столом, перед ним лежали рукописные листы с безразмерными таблицами, а рядом раскрыла свой зев толстая папка с подшитыми документами. Полковник работал, это было очевидно. Неожиданный визит следователя явился для него досадной помехой, это было несомненно. Дмитрий Павлович надменно и в то же время встревоженно посмотрел на Алексея Ивановича; так обычно смотрят люди, знающие за собой грешок.
— Что опять привело Вас, Алексей Иванович, в мой дом? — спросил он.
Что ж, по крайней мере Шумилов заставил его превосходительство выучить собственное имя-отчество. Значит, прошлая встреча должным образом запечатлелась в голове полковника.
— Я полагал, Дмитрий Павлович, что Вам будет удобнее, если я навещу Вас в Вашем доме, нежели повесткой приглашу Вас в прокуратуру.
Шумилов сделал паузу. Полковник жестом пригласил сесть в громоздкое глубокое кресло, стоявшее подле стола. Алексей Иванович удобно устроился и продолжил:
— Мне необходимо получить у Вас объяснение по поводу дневниковых записей вашего сына. Скажите, это Вы вымарали последние строки?
Полковник молчал. Он хотел что-то сказать, даже открыл было рот, но внезапно передумал. Пауза затягивалась.
— Скрытая от наших глаз запись не до такой степени саморазоблачительна, как некоторые другие в этом дневнике. Если бы сам Николай решал, что следует спрятать, то он, полагаю, уничтожил бы совсем другой фрагмент. Или даже весь дневник. Но для зачеркнувшего дневник был дорог как память, поэтому он не мог уничтожить его целиком. Кроме того, уничтожение улики влечёт за собой уголовную ответственность. Так что признайтесь, Дмитрий Павлович, это Ваша рука ходила?
— Да, это действительно проделали мы с женой, — полковник взыскательно смотрел на Шумилова, словно пытался сказать, где тебе, мальчишке, понять понять эти материи! — И сделали это только для того, чтобы не портить впечатления об образе сына! — Он повысил голос, — Знаете, в обществе и так уже идут пересуды, публике ведь только дай повод и она с готовностью начнет полоскать грязное белье! Порой наше societe convenable (приличное общество) уподобляется этим прачкам, целыми днями стоящими с исподним бельем на понтонах на Мойке.
— Скажите, Дмитрий Дмитриевич, а этот «Ф.И.Ч.», которого упоминает Николай, был вхож в ваш дом?
— М-м…, — словно от зубной боли замычал полковник, — Значит Вы все-таки прочли!
— А я разве не сказал? Да, разумеется, прочли. — Шумилов нарочито высказался так, словно речь шла о сущей безделице. Пусть полковник поломает голову над тем, как такого опытного офицера тайной полиции, каковым он являлся, переиграл мальчишка из прокуратуры, — Вообще, кого имеет ввиду Николай?
Полковник не выдержал:
— Ну, что вы все вынюхиваете? Вы не там ищете! Вам надо заняться этой гувернанткой, а Вы все про приличных людей выспрашиваете! Это же ясно! ясно! — ОНА, именно она, дала морфий Николаю! А «Ф.И.Ч.», как Вы изволили выразиться, в наш дом не ходил. Всех николашиных друзей мы вам уже назвали. Чего же Вам ещё? И вообще, не впутывайте сюда семейство Пожалостиных! Это очень почтенные люди. Если бы Вы только могли представить себе какими проблемами вынужден заниматься Полуект Эрастович!
— Я наслышан, Дмитрий Павлович, про его ответственную работу с личными шифрами Его Императорского Величества, — у Прознанского при эти словах округлились глаза, Шумилов, судя по всему, произнес наисекретнейшие слова, — Но сие не отменяет того весьма печального факта, что дочь уважаемого Полуекта Эрастовича своим неумением урегулировать отношения с сердечными воздыхателями, возможно, довела одного из них до самоубийства! И если это действительно так, то я не понимаю, как можно «не впутывать сюда» уважаемое семейство Пожалостиных. Уж вляпались, господа, так вляпались, извините за безыскусное слово… что есть, то есть!
Полковник Прознанский смотрел на Шумилова глазами полными ненависти, но при этом не спешил что-либо сказать. Видимо, он решил, что с Шумиловым, несмотря на его молодость, следует держать ухо востро.
— Так что, Дмитрий Павлович, позвольте мне самому определять, что важно, а что неважно для проводимого мною расследования. Так Вы ответите на мой вопрос: кто же такой этот «Ф.И.Ч.»? Или мне следует пригласить Вас на официальный допрос? — закончил свою мысль Алексей Иванович.
— Он не из числа николашиных друзей, выдавил из себя полковник, — Это человек гораздо более старший, офицер, поручик Преображенского лейб-гвардии полка Феликс Ильич Черемисов. У Пожалостиных он частый гость, и Николай — заметьте! — с ним едва был знаком. Я же Черемисова в глаза не видел. Ну, и к чему это всё ворошить? Он не имеет отношения к смерти Николая, неужели не ясно? Я знаю, что говорю!
Под конец тирады он постарался придать своему голосу максимум убедительности.
Когда Алексей Иванович простился и направился на выход, Прознанский остановил его вопросом:
— Объясните, пожалуйста, чем вы вытравили тушь?
— Профессиональное любопытство, понимаю, — улыбнулся Шумилов. — Я её вообще не травил. Я скормил её тараканам. И это не шутка!
Он вышел на набережную Мойки, с минуту постоял на месте, рассматривая проплывавшие мимо лодки, стилизованные под венецианские гондолы. Шумилов остался очень доволен тем, как сложился разговор с полковником, тем, что не позволил вертеть собою, как мальчишкой.
«Теперь надо ждать кляузы или жалобы, — думал Шумилов. — Обиделся полковника жандармской службы, не продемонстрировал я должной лояльности!»
15
Весь остаток вечера и следующий день Алексей Иванович мыслями возвращался к обстоятельствам дела. По-прежнему оставалось много вопросов, на которых у Шумилова не было ответов. Участники событий, прежде всего две противостоящие силы — м-ль Жюжеван с одной стороны и родители покойного с другой — многое не договаривали. Совершенно непонятны были истоки вражды, которая, казалось, вспыхнула между ними внезапно и неоткуда. Противоречивым казалось и поведение Николая все последние месяцы перед смертью. Так или иначе, но необходимо было поговорить с м-ль Жюжеван, услышать ее объяснения. Шумилов, на свой страх и риск, решил ехать в тюрьму и еще раз допросить гувернантку.
Исполнить это решение было не так просто, как его принять. Каждый помощник прокурора окружного суда имел в доме предварительного заключения на Шпалерной свою камеру, куда мог вызывать для допроса любого арестанта. Ни рядовые делопроизводители, ни следователи не могли проникнуть на территорию тюремного замка (тем более провести допрос) без письменного разрешения помощника прокурора, соответственным образом выписанного, заверенного и зарегистрированного. Алексей Иванович опасался, что Шидловский не позволит ему встречаться tet-a-tet с Жюжеван, подозревая, что подобная встреча лишь усилит критику со стороны Шумилова того направления следствия, которое задал ему помощник прокурора.
Отчасти его подозрения оправдались: Шидловский заерзал в кресле, едва услыхав, чего хочет от него Шумилов.
— Алексей Иванович, нам, кажется, следует уточнить диспозицию, — начал рассуждать Вадим Данилович, в присущей ему манере заводя рака за камень, — Тот этап следственной работы, который проделан — и успешно проделан! — Вами, позади. Каким образом дело будет представлено в суде — это уже прерогатива помощника прокурора. Мне решать, сколь полна доказательная база, сколь убедителен наработанный материал. Я подспудно чувствую некую оппозиционность Ваших взглядов на это дело и мне непонятно, что питает Ваши суждения.
— Я считаю, что слишком многое остаётся поныне вне изучения следствием, — ответил Шумилов, — И если в таком виде дело пойдет в суд, то там Вас, как обвинителя, будут ждать неприятные сюрпризы.
— Например, какие?
— Если б знать, Вадим Данилович. Материалы дела не объясняют причину резкой перемены Прознанских в отношении Жюжеван. Почем еще 21 апреля они до такой степени близки, что обвиняемая ночует в их доме, а менее чем через неделю родители начинают высказываются в её адрес в высшей степени неприязненно. По Вашему, они напрочь забыли и об оборванном подоле рубашки, и о том, как гувернантка удовлетворяла их сына рукой и вспомнили об этом лишь 26 числа?
Шидловский не ответил на этот в высшей степени неприятный для него вопрос и заговорил о другом:
— Оценим ситуацию с другой стороны. Что Вы, Алексей Иванович, вообще хотите услышать от Жюжеван? Я не сомневаюсь, что она начнет лить помои на своих благодетелей, рассказывать какие-то небылицы, обвинять их в чем-то. Даже если сказанное ею и окажется правдой, утверждения этой дамочки не снимут с нее обвинения: именно она подавала Николаю Прознанскому под видом микстуры яд. И я буду доказывать в суде, что действовала она умышленно. У неё был мотив, пусть иррациональный, пусть вздорный, но с точки зрения истеричной бабы — вполне весомый. У нас происходит масса умышленных убийств из побуждений куда более нелепых.
— Вадим Данилович, мы опять возвращаемся к прежней полемике. Из того, что раствор морфия находился в пузырьке 22 апреля вовсе не следует, что он там был и вечером 17. Я Вам уже указывал на то, что убийца или некое иное лицо имел достаточно времени, чтобы влить яд в этот пузырек и тем навести подозрения на Жюжеван. И в суде Вы услышите точно такое же возражение защиты. К тому же, — Шумилов останавливался только для того, чтобы перевести дыхание, — теперь у нас есть дневник. Который не только не объясняет некоторые моменты, а напротив, затемняет их. Я совершенно не могу понять из этого дневника характер отношений Жюжеван с покойным. Из него вовсе не следует, что они были любовниками, а ведь именно на этом строится вся Ваша версия событий. Последняя запись Николая Прознанского указывает на возможность суицида. Хотя, я соглашусь, что самоубийство для здорового человека это во многом эмоциональный шаг, порывистый.
— Вот именно, — буркнул Шидловский, — Он написал про Феликса Черемисова еще аж 18 марта, за месяц до смерти! Самоубийцы не склонны ждать месяц, это несерьезно.
Шидловского раздражала настойчивость Шумилова, но прямо отказывать тому в посещении Жюжеван он не хотел. Убедившись, что отговорить подчиненного не удастся, Вадим Данилович подписал пропуск в тюрьму и буркнул недовольно: «Давай, езжай, если заняться нечем. Не бережете совсем время, молодые!»
Тюрьма — мрачное место. А тюрьма на Шпалерной — в особенности. Это был комплекс зданий, настоящий городок, растянувшийся от Литейного проспекта по Шпалерной улице на целый квартал. Массивный дом предварительного заключения, с потребными такому заведению многочисленными службами, здание судебных установлений с большими залами заседаний и разнообразными пристройками соединялись внутренними переходами и имели выходы на три стороны: на Шпалерную и Захарьевскую улицы, а также на Литейный проспект.
Сами стены этих мрачных учреждений, казалось, излучали несчастье и напоминали о тяжкой доле погребенных внутри людей. Голый кирпич, скрипящие железные решетки, лязгающие тяжелые засовы, хмурые неулыбчивые лица полицейских пересыльной части, их тусклые взгляды, профессионально ощупывающие всех без исключения — все это производило тяжелое впечатление даже на эмоционально стойких людей. Что же можно было сказать о состоянии безродной француженки, проводившей в этой мрачной обстановке дни и ночи! «К ней, наверное, никто не приходит, и передачки никто не носит», — подумал Шумилов.
Арестованную привели в камеру, закрепленную за Шидловским — небольшое продолговатое помещение с тусклым, забранным решеткой грязненьким оконцем под самым потолком. Назначение окна заключалось не в том, чтобы давать свет — оно предназначалось сугубо для проветривания. Стол, стул для допрашивающего и табурет — для допрашиваемого были накрепко привинченными к каменному полу. Вот и вся обстановка. Даже не спартанская, а именно тюремная.
Жюжеван вошла все в том же платье, какое на ней было в день ареста. Волосы гувернантки были тщательно причесаны, лицо ее заметно побледнело и осунулось, глаза, однако, смотрели на Шумилова твердо, решительно. Ох, не похожа она была на злодейку, которая, сломленная застенком, кинется с покаянием в ноги помощника окружного прокурора!
— Мадемуазель Жюжеван, я пригласил Вас сюда дабы еще раз вас допросить об обстоятельствах, касающихся дела Николая Прознанского, — начал Шумилов, — Спешу Вам сообщить, что мы проводим проверку по вашему заявлению и это побуждает внимательнее рассмотреть все нюансы случившегося. Я… хочу разобраться.
— Да, да, вот именно — разобраться! — обрадованно воскликнула француженка, — Меня специально запутали… опутали… но вы же посудите сами, сколько во всем этом нестыковок!
— Давайте по порядку, — предложил Шумилов, заполняя допросную анкету, хорошо запомнившуюся ему по первому допросу, — Вы сами признали, что последний раз давали Николаю лекарство из того самого пузырька, в котором впоследствии обнаружился морфий.
— Вот именно, я повторяю, что САМА это признала. Я не подозревала, что там находится что-то другое, не лекарство. Ну как Вы считаете, если бы я на самом деле была отравительницей, неужели бы я стала действовать так… так неосмотрительно? Гораздо проще было бы дать яд при первом приеме микстуры, поскольку тогда случившееся можно было бы списать на ошибку аптекаря, — резонно заметила она.
— Но ведь вы же не могли не обратить внимание, что жидкость в пузырьке совсем другая, чем была раньше, у нее не было специфического травяного запаха, о котором говорил доктор Николаевский.
— Я тоже об этом думала… Я всё время об этом думаю. Я не знаю, что сказать. Я действительно не заметила, чтоб она как-то иначе пахла. Вечером 17 апреля всё было как обычно. Но почему Вы не подумаете о другом: ведь Николай мог получить яд позже, ночью, и в пузырек яд был налит уже потом, после моего ухода? Я ведь не ночевала тогда в доме, а в квартире оставалось много людей.
— Да, в квартире были люди, — согласился Шумилов. Он не стал говорить о том, что подъезд и двор здания охраняли агенты Третьего отделения, а окна квартиры Прознанских оставались закрытыми на зиму, а стало быть, никто из посторонних не мог проникнуть в комнату Николая ни через входную дверь, ни как-то иначе. Если кто-то и наливал ночью раствор морфия в пузырек из-под микстуры, то сделал это либо сам Николай Прознанский, либо кто-то из его ближайших родственников: родители, младший брат, сестра.
— Спросите слуг, может, они что-то видели и слышали той ночью, — Жюжеван замолчала. Потом, внезапно подавшись вперед и глядя с отчаянием в глаза Алексею Ивановичу, произнесла, — Ну помогите же мне, ради Бога! Как мне доказать свою невиновность, если все против меня?
— Скажите, м-ль Жюжеван, а почему Вы считаете, что Вас намеренно запутывают в этом деле? С чего бы родителям Николая так ополчаться против Вас, ведь Вы на протяжении стольких лет были почти членом семьи?
— О-о, Вы неправильно расставляете акценты, — Жюжеван улыбнулась, что было очень неожиданно, — ополчилась на меня одна Софья Платоновна, а Дмитрий Павлович, поверьте, просто идет у неё на поводу. И причина есть тому, поверьте. Веская причина.
— Расскажите мне, пожалуйста, об этой причине.
— О, это обычная, банальная женская ревность. Дети, и Николя в том числе, общались больше со мной, чем с ней, и Николя доверял мне больше, чем родителям. И было еще одно обстоятельство… Видите ли… — она задумалась и опустила глаза, казалось, сейчас она скажет что-то очень неприятное ей, — полковник одно время… очень… проявлял ко мне… недопустимый, по мнению Софьи Платоновны, интерес. Это было когда я еще жила в их доме постоянно. Ну, знаете, он ничего такого не демонстрировал, старался скрыть — я ведь не принадлежу к их кругу, — но… женщины ведь чувствуют подобные вещи. Она пыталась, видимо, бороться, но сделать ничего не могла. И тогда она как бы смирилась. Все делали вид, что ничего не происходит. И только прошлой весной — да, прошел уже год — она добилась, чтобы я съехала на отдельную квартиру. Да и пыл полковника уже пошел на убыль. Знаете, как это бывает… пропала новизна, — она произнесла это устало и безразлично, — И вот теперь это ужасное обвинение. Я думаю, она сводит старые счёты.
— Однако полковник рассказал, что у Вас с Николаем была связь, и это даже подтвердили друзья покойного.
— Это неправда, это клевета! Ещё раз повторяю: такой связи никогда не было. То, что говорит полковник меня даже не удивляет — он теперь вернулся под каблук своей жены и должен всеми правдами и неправдами загладить свой… петушиный кульбит. Как это по-русски?… с больной головы на здоровую! А друзья-приятели? Знаете, в последние месяцы Николай пытался вольно вести себя в компании друзей. Я понимала, отчего это происходит — он ведь был ужасно застенчив и пытался скрыть свою робость развязностью. Такое часто бывает у юношей. Я знала, что это у него пройдет, и не слишком его отталкивала. Но связи между нами не было! — воскликнула она, словно бы сообразив, как можно истолковать ее слова, — Я знала о его романе с Царицей Тамарой. Он, знаете ли очень переживал разрыв отношений. Очень. Скажите, а дневник Вы нашли?
Шумилов кивнул.
— И что там было? вы его приобщите к делу? там было про разрыв? Я видела, как он взволнованно строчил что-то как раз в день получения этого письма. И лицо у него было… такое…
— Какое?
— Отчужденное и злое. Я его раньше таким не видела.
— Он вам что-нибудь рассказал тогда?
— Нет. Он стал очень скрытным в последние недели. И вообще он был очень одинок. Вся эта его компания… они люди иного сорта. Ему не с кем было даже поговорить в последнее время.
— А вы?
— Он и от меня стал отдаляться. Но Вы не ответили: дневник приобщён к делу?
— Да, приобщен. У Вас будет возможность прочесть его во время ознакомления с материалами дела. Закон гарантирует Вам это право, — заверил арестованную Шумилов, — А скажите, м-ль Жюжеван, если у Вас с Николаем, как Вы говорите, были такие теплые, доверительные отношения, то как объяснить факт, что он назвал вас… грязным словом? Об этом есть показания свидетелей.
— Да, я читала, — голос её стал тихим и грустным, — Я понимаю, почему он так сказал. Он узнал про нас с полковником. Это произошло летом, случайно. Всё семейство было на даче, только полковник изредка ночевал в городской квартире, когда на службе задерживался. В тот раз мы были там вдвоем, и неожиданно приехал Николя, застиг, так сказать, с поличным, — она замолчала. Слышно было, как из-за тяжелых дверей доносились тюремные звуки — крики надзирателей, лязг замков, цоканье подбитых каблуков, — Знаете, молодой человек, — она посмотрела на Шумилова со спокойной печалью, — как воспитывается наше юношество и как оно потом дальше идет: адюльтер со стороны мужчины почитается за удаль и только придает ему вес в глазах окружающих. Если же женщина позволяет себе какие-нибудь отношения вне брака, даже если при она не связана супружеской клятвой, то она уже порочная женщина. И не иначе! Вот так-то… И никого не интересует, как невозможно тяжело одиночество, как трудно женщине без мужского участия, — она вздохнула.
Повисла пауза. Шумилов заполнял протокол, а Жюжеван грустно смотрела в пол, думая о чем-то нездешнем.
— Короче, Николя все понял и, я видела, он страшно это переживал и злился на меня, — наконец, продолжила обвиняемая, — Но потом его обида утихла, хотя прежней доверительности между нами уже не стало.
— А как Вы объясните показания прислуги по поводу оторванного подола ночной рубахи Николая? И о Ваших признаниях в связи с воспитанником?
— Это грубая ложь! как вы себе это представляете: я буду обсуждать свой амур с прислугой? Их, конечно, Софья Платоновна подучила. Пусть они мне это в лицо скажут! Допросите их ещё раз, подробно. Они наверняка собьются! Про рубаху я ничего не знаю, но подозреваю, что это тоже скорее всего выдумка.
Алексей Иванович вспомнил, как патрон перед допросом снабдил его «шпаргалкой» — перечнем вопросов, какие надо задавать няне и горничной. Самое примечательное, что заготовка эта вовсе не понадобилась: Матрена Яковлева и так рассказала все самое существенное без наводящих вопросов. Выходит, в словах француженки есть резон? Неужели господин Шидловский сыграл с Прознанскими в поддавки, дескать, Вы подготовьте мне как следует свидетелей, а я уж организую как надо допрос, подгоню ответ под нужный результат. И ведь допросы не проводил сам, а поручил это сделать Шумилову, дабы устранить всяческие обвинения в сговоре.
— М-ль Жюжеван, а вы видели когда-нибудь у Николая медицинскую книгу на немецком языке о половых болезнях или половых расстройствах? — спросил Шумилов.
— Вы это опять к тому, что измыслил полковник? Не было этого! Не бы-ло! — сказала она раздельно, — И книги такой я в доме вообще не видела. Дева Мария, ну, как я могу доказать свою правоту? Потребуйте у полковника, пусть он назовет автора этой книги, её название, ведь его слова можно проверить. Умоляю Вас, заклинаю, помогите мне! — горячо и быстро заговорила она, — Выведите этих обманщиков на чистую воду! Мне не к кому обратиться кроме Вас, у меня никого нет!
— Насчет названия и автора мысль бесперспективная. Полковник ответит, что брал книгу у друзей, друзьям же и вернул. Если потребуется, он её живо представит, я в этом не сомневаюсь, — заметил Шумилов, — Что же касается помощи, то Вам нужен хороший адвокат.
— Мне соседка по камере предложила поговорить с ее адвокатом. Он встретился со мной, выслушал, даже не взглянул в мою сторону, записал что-то в папочке, сказал, что его специализация — мелкие уличные преступления, и ушел. Что-то его напугало. А хороший адвокат, наверное, дорого стоит? И как его найти? К кому обратиться? Подскажите, мне кажется, Вы объективный человек. У меня есть банковский депозит, не очень много, что-то около двух с половиной тысяч рублей, но есть и кое-какие драгоценности… я смогу расплатиться.
— Спасибо за то, что посчитали меня объективным человеком. Я стараюсь быть таковым, хотя это и непросто порой. Я подумаю, м-ль Жюжеван, как Вам помочь, — ответил Шумилов, — Сейчас я закончу с протоколом и попрошу Вас подписаться.
Когда арестованную уводили, он обернулась в дверях и посмотрела на Шумилова. В этом взгляде была и мольба, и надежда, и ожидание перемен. Лучших перемен.
Алексей Иванович шёл по узким тротуарам Шпалерной и перебирал в памяти только что состоявшийся разговор. Ему пришла на ум любопытная мысль, которую он ранее совершенно упускал из виду. Помнится, полковник Прознанский рассказывал, что он, якобы, был сильно встревожен, увидев, как гувернантка ласкает юношу рукой. Дмитрий Павлович счел это даже опасной предпосылкой к развитию у юноши онанизма, и поэтому стал подсовывать сыну медицинскую книгу о вреде данного порока. Но ведь, если бы полковник на самом деле расценил действия француженки направленными во вред семье, ему бы не стоило никакого труда добиться высылки иностранки из Петербурга в 24-часовой срок. Это мера наказания называется административная высылка и применяется к лицам неблагонадежным. Полковник жандармской службы обладал большими возможностями в этом вопросе. Он бы даже не стал организовывать какую-либо провокацию, скажем, брошюры подбрасывать или еще что-то придумывать, он бы просто заявил, что Жюжеван имеет предосудительный круг общения и представляет опасность. И это заявление из уст начальника жандармского управления Царскосельской железной дороги явилось бы вполне достаточным для того, чтобы пришел к Жюжеван пристав с помощником, отдал меланхолично честь, вручил предписание о высылке, дал четверть часа на сборы и отвел бы её на Николаевский вокзал. И поехала бы Мариэтта куда-нибудь в Олонецкую губернию, в какую-нибудь Кинешму или Пустоглядово годика, эдак, на три. Безо всякого суда и следствия. И тем самым решилась бы проблема и с пресловутой любовной связью сына, и с онанизмом. И книжек медицинских давать сыну не пришлось бы…
Но такого полковник Прознанский не сделал! Какой же напрашивается вывод? Или этого факта вовсе не было, или же тогда родители (Шумилов не сомневался, что и Софья Андреевна была бы в курсе, случись подобное в действительности) отнеслись к этому факту совершенно иначе, чем рассказывают теперь. Другими словами, не усмотрели родители в случившемся никакой опасности для сына!
Еще Алексей Иванович вспомнил рассуждения своей мудрой тетушки о той роли, которую явно или завуалированно, пытаются навязать молодым гувернанткам или горничным «заботливые мамаши». Возможно, и Жюжеван держали рядом с вышедшим из детского возраста Николаем именно с подобной циничной целью. А как иначе отнестись к просьбе Софьи Платоновны «присматривать за Николашей», которую она высказывала м-ль Жюжеван? Да, и полковник хорош! понатешился вволю, порезвился, а теперь пытается воспользоваться удобным поводом для того, чтобы разом разделаться и с наскучившей любовницей и собственные грешки перед супругой замазать, и «сохранить честь благородного семейства» в глазах общества.
Шумилов едко улыбнулся. На душе было противно.
16
Текли дни. Наступивший июнь принес с собою пыль, духоту, резкую вонь каналов и рек. Появились комары и чем населённее был район, тем больше размером и злее они были. Те, кто имел хоть мало-мальские средства, и не был привязан к городу необходимостью ежедневно являться на службу, старались выехать на дачи в окрестностях Петербурга — слишком уж непривлекательной казалась перспектива провести всё лето среди кирпичных стен, булыжных мостовых, в каменных мешках дворов-колодцев.
Мариэтта Жюжеван продолжала сидеть в тюремной камере. Расследование текло своим неспешным хороводом.
На душе у Шумилова было неспокойно. Он по-прежнему занимался делом француженки-гувернантки как помощник Шидловского, и ему всё более очевидной представлялась невиновность обвиняемой. Однако у Шидловского, по-видимому, было другое мнение, которое он и не собирался менять. Между ними пробежал холодок и хотя отношения начальника и подчиненного внешне оставались сдержанно-корректными, помощник окружного прокурора больше не предлагал Шумилову вместе пообедать.
Француженка содержалась всё в том же доме предварительного заключения на Шпалерной улице. За прошедшее время её дело медленно, но верно продвигалось к суду. Проводились допросы и очные ставки, которые нисколько не поколебали уверенности Шидловского в правоте избранной линии и практически ничего не изменили в официальной версии. И Матрёна Яковлева, и Алевтина Радионова на очных ставках с Мари Жюжеван не моргнув глазом повторили свои прежние заявления. Гувернантка, видимо, надеялась, что при встрече, что называется, глаза в глаза, женщины не будут столь уверены в себе, но просчиталась: прислуга не дрогнула. Сам Шумилов, кстати, особых надежд на очные ставки не возлагал, прекрасно понимая, что люди, решившиеся на оговор, от своих лживых утверждений добровольно не откажутся и своего поступка не устыдятся. Таких людей можно сокрушить только фактами, но Шидловский в поиске таковых нисколько заинтересован не был.
Единственное, пожалуй, несовпадение с общей линией следствия продемонстрировали показания Алексея Прознанского, младшего брата покойного Николая. Он оказался единственным членом семьи, утверждавшим, что романа между гувернанткой и Николаем не было и старший брат в последнее время даже несколько тяготился обществом Жюжеван. 16-летний молодой человек, как несовершеннолетний, допрашивался в присутствии матери, хотя он сам этого не хотел и заявил в начале допроса, что «в опеке давно не нуждается». Софья Платоновна, однако, явилась на допрос вместе с ним, и несколько раз назидательно перебивала сына. Уж на что Шидловский был лояльно настроен к семье Прознанских, но даже он после допроса признал, что «мамаша порывалась говорить вперёд сына». Алексей Прознанский признал факт доверительных отношений старшего брата с француженкой, но добавил, что «подозревать между ними интимные отношения просто смешно». Также он добавил, что Жюжеван полностью была осведомлена как о романе Николая с Верой Пожалостиной, так и о бесславном его окончании. Это были очень важные для Жюжеван показания, потому что они фактически исключали ревность как определяющий мотив убийства. Утверждения Алексея Прознанского полностью согласовывались с объяснениями Жюжеван и на них во время суда мог опереться её адвокат.
В кабинете окружного прокурора было душно, жарко. Тучный Вадим Данилович Шидловский чрезвычайно страдал от жары. И без того раздражительный, в жаркую погоду он делался просто невыносим, гневаясь по поводу и без повода. Эти проявления дурного настроения кто-то из его подчиненных иронично назвал «истерическими пароксизмами»; довольно метко, хотя и обидно для самолюбия. Один из таких пароксизмов Шидловский пережил, узнав о публикациях в газетах, посвященных делу Прознанского.
В тот день он разве что не рвал на куски ненавистную ему «Северную пчелу».
— Канальи! Плуты! И как только пронюхали, мерзавцы! Ведь было решение — до суда — никаких материалов в прессу! — громогласно сокрушался он, — Представляешь, Алексей Иванович, открываю сегодня «Пчелу», а там — полюбуйтесь-ка! — материалец тиснут о нашем деле. Большая статья. Скандалезная. Ещё удивительно, как это автор умудрился обойтись одними инициалами! И про заявление Жюжеван написано, то бишь, про её жалобу, и весь тон такой поганенький!
Алексей Иванович взял со стола шефа газету, открытую как раз на этой заметке, и прочитал её.
— Обыкновенная заметка. По-моему, нейтральная. Своих суждений автор не высказывает, — осторожно заметил он.
— Да дело не в суждениях. Ещё этого не хватало! Кто вообще позволил писать этим писакам об уважаемых людях, об интимных делах почтенного семейства?! Или Вы опять, Алексей Иванович, сделаете вид, будто не понимаете меня?
— Вадим Данилович, существует 5-й секретариат Третьего отделения, который занимается цензурой периодической печати и театральных постановок, — спокойно заметил Шумилов, стараясь не поддаваться на провокацию и не переходить на личности, — Если почтенные цензоры одобрили публикацию, то чем питается Ваше возмущение?
— Николай Владимирович Мезенцов, начальник Третьего отделения, лично запрещал всяческие публикации по делу Прознанского. Я бы ещё мог понять, если бы такую публикацию осуществили «Полицейские ведомости» — это официальная газета министерства внутренних дел. Но «Пчела» — это слепок французской бульварной прессы.
— Значит, теперь генерал Мезенцов снял запрет. Не думаете же Вы всерьёз, будто официально зарегистрированная газета решится рискнуть своим существованием?
Шидловский, верный своей обычной манере не отвечать на вопросы, ставящие его в тупик, заговорил о другом:
— Возмутительно то, что все это порождает ненужные и прямо вредные толки, публика — дура начинает рядить и гадать, что же там творилось в семье жандармского полковника? Разве это может быть темой для обсуждения?!
— Хорошо, ну а если бы это была семья не полковника жандармерии, а обычной кухарки, то смерть её члена могла бы быть темой обсуждения в газете?
— Я вижу, Алексей Иванович, что Вы постоянно со мною спорите! Ваши возражения суть бездоказательны и демагогичны! Спор ради спора всегда контрпродуктивен! Да, Вы с отличием закончили училище правоведения, да, Вы хорошо справляетесь с обязанностями по следственной части, но Вы напрасно думаете, что люди, пришедшие вперёд Вас на поприще служения закону суть ретрограды и невежи. Не впадайте в прелесть тотального отрицания! — наставительно проговорил Шидловский.
— Извините, Вадим Данилович, но я не понимаю чем Вы руководствуетесь, говоря мне всё это.
Как это часто бывало в спорах с Шидловским, последнее слово осталось за Шумиловым, хотя это не особенно порадовало Алексея Ивановича. Он дёргал спящего тигра за усы и прекрасно понимал, что в один прескверный день помощнику прокурора надоест терпеть свободомыслие подчиненного. И какой окажется расплата за собственное мнение оставалось только догадываться.
Алексей Иванович предполагал, что после первой публикации в открытой прессе неизбежно последуют и другие. Дело получило огласку, о нем будут говорить, любовная интрига потрясет воображение женской части общества. Падкая до скандальных новостей часть публики неизбежно начнет смаковать подробности. В Санкт-Петербурге за последнее десятилетие сложилась целая прослойка состоятельных дам — их обычно называли «судейскими барышнями» — имевших обыкновение всеми правдами и неправдами проникать на громкие судебные процессы и потом обсуждать их ход. Попавшие им «на зубок» новости подолгу циркулировали в столице, порой невероятно трансформируясь и путая самих авторов. У «судейских барышень» были свои пристрастия, существовали любимые и нелюбимые судьи, адвокаты и обвинители. Молодые адвокаты, только начинавшие труды на своем поприще, искали симпатий этой среды, поскольку именно она весьма влияла на общественное мнение в столице. Шумилов был уверен, что «судейские барышни» не позволят замолчать дело, они будут ловить всякую новость, связанную с расследованием, они будут требовать от редакций газет все новых публикаций, наконец, они явятся в суд, где будут охать, ахать, падать в обмороки, аплодировать, выкрикивать «браво», подбрасывать в воздух шляпки и платки, выдворяться из зала заседаний за неуважение к суду, а в перерывах между заседаниями они начнут подбегать к окнам на улицу и выкрикивать свежие новости стоящей внизу толпе. Одним словом, эти не в меру активные дамочки создадут вокруг дело Прознанского такой ажиотаж, что даже самый известный и высокооплачиваемый адвокат примчится бесплатно защищать Жюжеван, лишь бы только подкрепить свое реноме и поддержать свою популярность. Это было как раз то, чего менее всего желал Вадим Данилович!
В июне же произошла весьма примечательная встреча Шумилова с доктором Николаевским. Ещё с момента прочтения дневника Николая Прознанского Алексей Иванович предполагал повидаться с доктором и обсудить некоторые медицинские аспекты этого дела, но сделать всё это никак не получалось в силу различных обстоятельств. А тут, прямо по пословице, гласящей, что на ловца и зверь бежит, Николаевский вышел из здания прокуратуры навстречу Шумилову, намеревавшемуся войти внутрь.
Они попривествовали друг друга как старые знакомые и врач объяснил цель своего посещения этого учреждения:
— Меня приглашал Вадим Данилович для повторного допроса. Меня-то и в городе не было, пришлось с дачи специально ехать.
— Он Вам показывал дневник Николая Прознанского? — спросил Шумилов.
— Да, я прочитал некоторые фрагменты.
— В частности, про посещение публичного дома, — подсказал Шумилов.
— Да, читал.
— Скажите, Николай Ильич, что это было с Николаем? Поллюция, преждевременное семяизвержение?
— Нет, ну что Вы, — Николаевский улыбнулся, — Ничего такого.
— Тогда что? — простодушно спросил Шумилов. Он никак не ожидал услышать то, что услышал:
— Извините, Алексей Иванович, господин Шидловский настоятельно предложил мне ни под каким видом никому этого не рассказывать.
— Даже мне?!
— М-м… Никому. Извините, я обещал. Вы можете расспросить его, я всё рассказал Вадиму Даниловичу.
— Благодарю покорно, я так и поступлю. Ваш ответ меня чрезвычайно интригует, — Шумилов был поражён услышанным и не сразу пришёл в себя; некоторое время он лихорадочно раздумывал о чём бы ещё следовало спросить доктора, — Николай Ильич, Вы несколько лет наблюдали семью Прознанских, как Вам кажется, Жюжеван была любовницей Николая?
— Хотите слышать горькую правду? — иронично спросил Николаевский.
— Да, разумеется, хочу.
— Нет, Николай не был любовником Мари. Я понимаю, это разрушает все Ваше обвинение. Но это правда. Это было невозможно… — он запнулся, — В силу объективной причины. Говорю Вам как врач.
Шумилов с минуту обдумывал услышанное. Он не сомневался, что доктором были сказаны очень важные для понимания сути дела слова. Другой вопрос, обдуманно ли они были произнесены и согласится ли доктор это когда-либо повторить.
— Николай Ильич, можно дать Вам один совет?
— Разумеется.
— Вы можете представить таракана под стеклом? Под перевернутым стаканом?
— Ну, — Николаевский запнулся, недоумевая, — Полагаю, что могу.
— Свидетель на судебном процессе подобен такому таракану. Он до поры думает, что окружён со всех сторон надёжными стенами, он чувствует себя защищённым от преследования и полностью свободным в своих суждениях. Ему кажется, что он может говорить или не говорить что только ему заблагорассудится. Есть, конечно, присяга, но её нравственная сила действует, увы, далеко не на всех свидетелей. Очень часто свидетеля опьяняет власть над судьбою обвиняемого. Но такой глупый свидетель до поры не понимает, что все его движения, все действия прекрасно видны со стороны и полностью понятны сведущему человеку. И стакан над ним — это не защита, не крепость, не убежище. Это — ловушка. И он в неё уже угодил. Самый счастливый исход для свидетеля — вообще не появиться в суде…
— М-м, — лицо Николаевского вытянулось и взгляд сделался напряженным, — И в чём совет?
— Николай Ильич, никогда не лгите в суде. И детям своим закажите. Даже если Вы будете уверены, что никто Вас не разоблачит, и ложь ничем Вам не грозит, всё равно не лгите. Всегда может найтись сведущий человек, умеющий превращать убежища в капканы.
Шло время. Минул июнь, за ним — июль и август. Вадим Данилович Шидловский благополучно отгулял трехнедельный отпуск, который провел вместе с семьей на даче в Парголове. Там, окруженный семейной идиллией, он обдумывал текст обвинительного заключения и исписал кучу маленьких карточек-шпаргалок, с которых после выхода из отпуска и надиктовал это заключение секретарю Никите Шульцу. Документ отправился наверх, на утверждение прокурором окружного суда Андреем Александровичем Сабуровым. Там, в канцелярии прокурора обвинительное заключение, повинное бюрократическим законам бумагодвижения, пропало на несколько недель. Дело таком образом застопорилось на неопределённый срок.
Разговор с Николаевским навёл Шумилова на мысль давно мелькавшую прежде — но так и не оформившуюся — согласно которой Шидловский ведет дело, сообразуясь не со здравым смыслом или истиной, а некоей схемой, согласованной с полковником Прознанским и ставшей догмой. То, что в схему укладывалось, живо приветствовалось помощником прокурора; то, что противоречило — игнорировалось. В какой-то момент сам Шумилов, видимо, стал восприниматься помехой, мешавшей исполнению схемы, потому-то Шидловский и предупредил доктора о молчании даже в отношении Шумилова. У Алексея Ивановича был большой соблазн явиться к Шидловскому и прямо потребовать объяснения случившемуся, ведь подобное можно было расценить как недоверие со стороны помощника прокурора. Но по здравому рассуждению он решил этого не делать, руководствуясь стародавней мудростью, согласно которой «прямо — короче, а в объезд — быстрее». В самом деле, пусть Шидловский пребывает в уверенности, что его тактика работает и Шумилов остаётся в полном неведении о скрытых обстоятельствах дела. Куда-то кривая выведет?
Скорое петербургское лето клонилось к концу. Ночи стали прохладными, дни заметно укоротились. В природе чувствовалось прощание с теплом и неотвратимое приближение осени. В конце августа 1878 г. парках и садах Санкт-Петербурга рано начала облетать листва; её разноцветные ворохи манили яркими красками и шелестели на дорожках. То и дело стал доноситься грустный запах костров, в которых сжигалось это осеннее великолепие. Все чаще на столичных улицах и проспектах стали попадаться вереницы телег, груженых сундуками и поклажей — это петербургские семьи возвращались с гостеприимных дач. С грустью Алексей Иванович возвращался мыслями к Мариэтте Жюжеван, к предстоящему в недалёком будущем суду и зиме, которая была уже не за горами.
На один из сентябрьских дней был назначен «прогон» прислуги семейства Прознанских. Вадим Данилович решил ещё раз пригласить к себе Яковлеву и Радионову, чтобы посмотреть как женщины себя чувствуют, сколь уверенно продолжают говорить о деле, каков их настрой в преддверии суда. На полицейском языке такое приватное общение, не ограничиваемое рамками формального допроса, называлось «пощупать свидетеля» или «пощупать материал». Шидловский, подобно выпускающему спектакль режиссеру, хотел убедиться в том, что артисты готовы к премьере, знают роли и горят энтузиазмом.
По установившейся традиции «свидетеля щупали» обычно вдвоём. Делалось это для того, чтобы человек столкнулся с предвзятым к себе отношением, почувствовал каким может быть скепсис и не испугался перекрёстного допроса в суде. Шидловский для разговора с Яковлевой пригласил в свой кабинет Шумилова.
Горничная Матрёна Яковлева, облаченное в строгое чёрное платье, была похожа на монашку. Она держалась сдержанно, строго, в глаза никому не смотрела, говорила коротко, четко и сухо.
Алексей Иванович вошел в кабинет как раз в ту минуту, когда Шидловский заканчивал рассказывать ей о процедуре судебного допроса.
— Вы будете свидетелем обвинения, поэтому Ваши заявления не будут оспариваться мною. Я не буду пытаться Вас запутать, поэтому меня Вам бояться не надо, — говорил женщине Вадим Данилович, — Но после ответа на мои вопросы с Вами начнет разговаривать защитник Жюжеван. Он будет задавать Вам вопросы неожиданные, призванные смутить Вас. Вы не должны дать себя запутать, иначе всё, сказанное Вами ранее, обесценится и потеряет смысл. Более того, сказанное Вами может обернуться против Вас обвинением во лжи. Вы не должны дать противной стороне оснований подозревать Вас в лжесвидетельстве. Вы понимаете серьёзность момента?
Алексей Иванович вглядывался в лицо Яковлевой, пытаясь заметить в нём какие-то перемены, но нет, оно было по-прежнему напряжено, бесстрастно, но и только. Шидловский между тем продолжал:
— Давайте поглядим, как это будет выглядеть в суде. Я буду говорить сам за себя, а мой любезный помощник (последовал поклон в сторону Шумилова) сыграет роль защитника француженки. Итак, начнём… Свидетель, что Вы можете сказать о характере отношений между гувернанткой Мариэттой Жюжеван и Николаем Прознанским?
— Спала она а с ним, — уронила Матрена. Губы её почти не шевельнулись. «Ну, чисто сомнамбула», — подумал Шумилов.
— Свидетель, Вы имеете ввиду плотские сексуальные отношения?
— Да, у них была плотская связь.
— А откуда вам это известно?
— Она сама рассказывала.
— Поясните, пожалуйста, от кого Вы слышали такого рода рассказы. Вы видите этого человека в этом зале? Вам придется показать на Жюжеван, — пояснил Шидловский женщине, что именно от неё требуется.
— Я слышала такой рассказ от обвиняемой Жюжеван, находящейся в этом зале, — ответила Яковлева.
— Прекрасно, — похвалил Шидловский, — При каких обстоятельствах это произошло?
Матрена уставилась в окно и ровным голосом сказала:
— Как-то раз на кухне сидели, я и говорю: скоро, мол, вас рассчитают. Дескать, Наденька-то подрастает, гувернантка не нужна будет. А Жюжеван мне и говорит, мол, не уволят, Николаша теперь без меня не сможет обходиться, я ему нужна как мужчине женщина. И засмеялась.
— Этот разговор проходил при свидетелях?
— Да, няня младшенькой Наденьки его слышала.
— Как зовут няню?
— Арина Радионова.
— Так, идём дальше. Расскажите об истории с рубашкой, что там произошло?
Матрена опять безразлично посмотрела в окно:
— Ну, однажды, перед Рождеством, я меняла белье и заметила на подоле ночной рубашки Николая пятна. Как на супружеских постелях бывают.
— Вы говорите о пятнах мужского семени?
— Ну да, семени. Николай заметил, что я их увидела и испугался. Запереживал так, схватил рубашку и одним махом подол и оторвал. А мне говорит: «Матрёна, не говори никому, что видела, скажешь, что прачка рубашку порвала». Я так и сделала, никому ничего не сказала. Да только мне же это и вышло боком.
— Что вы имеете ввиду?
— То и имею! Когда принесла белье от прачки, он же сам и начал при Софье Платоновне возмущаться: «Рубаха порвана! Кто это мою рубашку испортил!» Софья Платоновна давай меня корить, как это я не досмотрела и приняла у прачки испорченную рубаху. В общем, отругала меня хозяйка ни за что, а он не стал заступаться.
— «Он» — это кто? — задал уточняющий вопрос Шидловский.
— Николай Прознанский.
— Понятно. А почему же Вы матери Николая ничего не сказали? Ведь Вашей-то вины в случившемся не было!
— Никому не нужна прислуга, которая слишком много про хозяев понимает.
— Прекрасно, Матрёна, прекрасно! — похвалил женщину помощник прокурора, — Цицерон не ответил бы лучше!
Шидловский прошёлся по кабинету, перебирая свои карточки-шпаргалки, и наконец, продолжил.
— После этого я Вас благодарю. И говорю следующие слова: «Господин присяжный поверенный, свидетель Ваш», — церемонно провозгласил помощник прокурора, указывая рукой на сидевшего рядом Шумилова, — После этих слов, Матрёна, Ваш допрос переходит к защитнику Жюжеван. Это самый ответственный для Вас момент.
— Скажите, свидетель, — начал Шумилов, — Вы упомянули о разговоре, в ходе которого моя подзащитная, якобы, созналась в том, что была любовницей покойного Николая Прознанского. Не припомните, а когда этот любопытный разговор состоялся? Хотя бы примерно?
Матрёна настороженно взглянула на Алексей Ивановича.
— Не помню, — ответила она.
— Ну, месяц назад, полгода, год? — не отставал Шумилов.
— Не помню, — тупо, как попугай, однообразно повторила женщина.
— То есть Вы твёрдо помните, что разговор был, но когда именно, сказать не можете.
— А может, давешней осенью? — спросила Яковлева.
— Я этого не знаю, я от Вас хочу это услышать, — улыбнулся Шумилов, — Скажите, а Вы были дружны с гувернанткой?
— Я?! — в голосе горничной слышалось неподдельное изумление, — Да Бог с Вами, г-н следователь! Она такая фифа! С нами, прислугой я имею ввиду, дамой себя держала, считала себя ровней господам, а на самом-то деле как и мы на жизнь себе зарабатывала. И вся-то разница в том, что фартук не носила и тряпки в руках не держала. А туда же!.. Барыня!
В этом неожиданном после после прежних сухих ответов монологе зазвучало искреннее недоброжелательное чувство, долго копившееся и выплеснувшееся, наконец, наружу.
— Скажите, Матрёна, а как прошла последняя ночь перед смертью Николая? Во сколько Вы ушли спать?
— Я ложусь не позже 11 вечера. Встаю рано, поэтому ложусь никак не позже этого часа.
— Той ночью ничего не происходило? Может, кто-то ходил по квартире, что-то делал, раздавались какие-то звуки?
— Нет, я не слышала, спала, — она встревоженно смотрела то на Шидловского, то на Шумилова, пытаясь понять, куда он клонит.
— А утром? Ведь вы рано встаете?
— Да, встаю в половине шестого. По дому всегда много работы, семья-то большая: надо и пыль протереть, и к завтраку накрыть, и проверить костюмы господ перед выходом, чтоб ни пылинки, обувь, опять же. Софья Платоновна очень строга…
— И вы не слышали никаких звуков из комнаты Николая? Может, кто-то в неё заходил?
— Слышала!.. — остолбенело глядя на следователей, ответила горничная, — Слышала, как в комнате молодого барина, Николая, — поправилась она, — чиркнула спичка, потом табаком потянуло. Николай Дмитриевич закурил. Это было в половине седьмого, как раз Алевтина пошла барышню будить.
— А кто из домашних курит? — нервно спросил Вадим Данилович. Он даже не заметил, что перебил Шумилова, имитировавшего допрос адвоката.
— Г-н полковник курит, Николай курил и молодой барин, Алексей, тоже иногда прикладывается, — принялась припоминать горничная.
— Может, это Алексей закурил или его превосходительство полковник Дмитрий Павлович?
— Не-е, — замотала головой Матрена, — Оне-с точно-с спят до семи утра. И потом, Дмитрий Павлович натощак никогда не курит, только после завтрака.
Шидловский при этих словах только досадливо поджал губы. Какое-то время он прохаживался по кабинету, затем раздраженно буркнул:
— Ну, что ж, Матрена, ступай домой, явишься завтра к полудню!
Дождавшись, когда свидетельница вышла из кабинета, помощник окружного прокурора внимательно посмотрел на Шумилова.
— Вот видите, Вадим Данилович, как всё проясняется, стоит только чуточку отступить от шаблона, — заметил Алексей Иванович, — Вам не кажется, что обвинительное заключение следует из канцелярии Сабурова отозвать, а дело вернуть на доследование? Хотя, по-моему, доследовать там нечего: Жюжеван надо освобождать и притом с извинениями…
— Нет, не кажется! — рявкнул Шидловский. Он выглядел разъяренным и плохо владел собой, — Проясняться нечему, ибо и так все ясно.
— Что ж, выскажусь определённее, поскольку сейчас самое время, — Шумилов тоже повысил голос, показывая, что не позволит кричать на себя, — Вадим Данилович, я считаю, что виновность Жюжеван очень и очень сомнительна. И этому есть множество косвенных подтверждений. Посмотрите: с пузырьком — полная неясность. Вечером 17 апреля там не было яда, поскольку в половине седьмого следующего утра Николай Прознанский курил. Далее: внезапное обвинение со стороны родителей, которые до этого полностью доверяли Жюжеван объясняется банальным адюльтером полковника с нею же, с Жюжеван. Из записей в дневнике мы видим, что Николай в последние месяцы жизни находился в морально угнетённом состоянии и очень переживал из-за разрыва с Верой Пожалостиной. Горничная и няня, похоже, просто вызубрили свои показания про оторванный подол и про откровения француженки. Смотрите, Матрёна их повторила слово в слово, не припомнив ни одной побочной подробности. Она даже время разговора не называет, боясь попасть впросак. Я абсолютно убеждён, что никакой связи с покойным у Жюжеван не было вовсе.
Шидловский выслушал этот горячий монолог помощника не перебивая и как будто успокоился. Потом, тяжело глядя Шумилову в глаза, ответил:
— Я тебе даже более того скажу: этой связи просто физически не могло быть, по той простой причине, что мальчишка был болен, у него был фимоз. Это такая, уж извини за медицинские подробности, врожденная патология полового члена, когда из-за узости крайней плоти головка детородного органа не может обнажиться. Эрекция возможна, но она вызывает сильную боль из-за которой быстро пропадает. Мужчина с фимозом не может провести половой акт. Полковник с женой, разумеется, о фимозе сына знали.
Шумилов несколько секунд переваривал услышанное. Теперь все находило свои объяснения — и непонятный фрагмент из дневника Николая, и странная недосказанность в разговоре с Николаевским, и далеко не мужественное поведение молодого человека в публичном доме.
— Так что Вы делаете, Вадим Данилович? И что делают Прознанские?! Вы сознательно топите француженку?! — изумленно-негодующе воскликнул Шумилов.
— Как вы не понимаете??? События имеют необратимое течение!
— То есть как необратимое?! Вы человека губите! Вы в каторгу гоните невиновную! — изумился Шумилов, — Отпустите Жюжеван, вот и всё.
— Ну да, ну да, остаются сущие пустяки… Объяснить происхождение анонимного письма, на весь свет рассказать о вероятном самоубийстве сына, адюльтере самого полковника, из-за которого он лишился всякого душевного контакта с сыном, упомянуть о Пожалостиных, о бестактном поведении девушки из этой благородной семьи… Вы всерьёз думаете, что именно так и следует действовать? Вы думаете, что это кому-то нужно? Для полковника Прознанского предать гласности свои семейные передряги равносильно краху карьеры — кто же доверит охрану высочайших особ человеку, который не может навести порядок в собственной семье? Вся эта история с сыном, страдающим от депрессии, который, скорее всего покончил с собой, бьёт в первую очередь по самому Дмитрию Павловичу. И поэтому она не выйдет наружу ни при каких обстоятельствах! Вот так-то!
Шумилов не хотел верить своим ушам:
— Но, Вадим Данилович, Вы же фальсифицируете дело! Вы понимаете, что из-за чести мундира полковника Прознанского на каторгу пойдет невиновная женщина!
При этих словах помощника Шидловский поморщился и сказал веско, официальным голосом:
— Меньше пафоса, Алексей Иванович, меньше! В нашей работе он недопустим. Мы руководствуемся целесообразностью. Ну, и пойдет Жюжеван в Нерчинск, очень хорошо, будет тамошних детей учить французскому! Против нее есть главные улики — ОНА дала яд, ОНА написала анонимку, и у неё был роман с покойным, подтверждаемый богатой свидетельской базой.
— Да какие свидетели-то? Полковник Прознанский со своим рассказом об удовлетворении рукой — лжец. А прислуга подучена им.
— Эти улики перевесят все остальные, как Вы говорите, «косвенные доказательства», которые суть не что иное, как происки против уважаемого семейства, — веско заявил Шидловский, — А про фимоз никто никогда не узнает. Доктору даже лгать не придётся. Ибо в суде он просто не появится, его мы не будем вызывать. Защите же он не нужен, поскольку против Жюжеван никогда не свидетельствовал и никаких утверждений ей во вред не озвучивал. Самому Николаевскому на свидетельское место не резон напрашиваться, потому как он прекрасно знает, что «прокололся» с перевозкой органов Николая Прознанского, во время которой у него похитили сумку с печенью в формалине. Я с ним общался и доктор прекрасно понял, что обвинению от него надо.
Шумилов ужаснулся тому спокойному цинизму, с каким Шидловский спланировал страшную несправедливость. Уже и роли действующих лиц оказались расписаны и исход судебных слушаний предрешен. Хорош «беспристрастный страж законности и правопорядка»! И ведь тут было не добросовестное заблуждение какое-нибудь, а осознанное, намеренное злодейство, прикрытое рассуждениями о высоких целях — чести мундира, добром имени и пр.
Спорить и доказывать что-то в подобной ситуации было бесполезно. Но и смириться с творимым злом Шумилов тоже не мог. Он должен был найти выход и не допустить претворение в жизнь этого преступного — именно так! — замысла.
17
Досудебное расследование было закончено, обвинительный акт — утверждён прокурором окружного суда, обвиняемая и её адвокат получили в своё распоряжение материалы расследования для ознакомления с ними в полном объёме. Дело шло в окружной суд. Рассмотрение было намечено на ноябрь 1878 года.
В обвинительном заключении в число изобличающих обвиняемую улик и достоверных свидетельских показаний вошли: 1) склянка из-под микстуры, в которой находился раствор морфия, употребленный Николаем Познанским вечером 17 апреля 1878 г.; 2) записки покойного, содержавшие указания на глубокую его увлеченность своей знакомой — «девицей П.» (фамилию этой барышни было решено официально предложить суду не разглашать в ходе процесса); 3) показания отца и матери покойного в той их части, где содержались указания на заметное влияние гувернантки на сына с 15-ти лет и борьбу родителей с этим нездоровым влиянием; 4) показания Яковлевой и Радионовой в той их части, где свидетельствовалось о наличии следов «полового сближения» с гувернанткой на одной из ночных рубашек Николая Прознанского. Следствие считало доказанным, что Жюжеван убила молодого человека из чувства ревности, заметив неотвратимое падение интереса с его стороны к ее персоне. С этой целью, по мнению обвинения, Жюжеван похитила морфий, полученный Николаем Прознанским из экстракта опийного мака во время его химических экспериментов на даче летом 1977 года; гувернантка знала о существовании этого наркотика и имела возможность осуществить кражу задолго до 17 апреля. Обвиняемая не уничтожила смертельный раствор как в силу беспечности, поскольку не предполагала возникновение подозрений на отравление, так и в силу того обстоятельства, что пузырек с ядом на следующий день мать покойного забрала в свою комнату, где он стал недосягаем для преступницы.
Поддерживать обвинение в суде должен был Вадим Данилович Шидловский, помощник прокурора окружного суда. Защиту Жюжеван принял на себя Константин Федорович Хартулари, 37-летний присяжный поверенный. Алексею Ивановичу Шумилову в планах Шидловского отводилась сугубо техническая роль — он должен был следить за явкой свидетелей в суд.
Алексей Иванович обдумывал способ, как помочь француженке. Он видел, что часть показаний свидетелей, идущая вразрез с официальной версией, обвинительным заключением игнорировалась. Очевидно, это должен был заметить и адвокат. Задача последнего заключалась как раз в том, чтобы отыскать этих свидетелей и убедиться в том, что они могут выступить в суде. Теоретически, если защитник сможет задать свидетелям правильные вопросы и получит на них надлежащие ответы, можно было бы рассчитывать на то, что ни одно свидетельство в пользу обвиняемой не окажется утаенным от присяжных. Но на практике не всё оказывалось так просто.
Сильнейшим свидетелем защиты мог бы стать доктор Николаевский. Рассказ последнего о заболевании Николая Прознанского выбил бы у обвинения почву из-под ног, развенчав вымыслы о не существовавшей интимной связи между покойным и обвиняемой. Но кто мог гарантировать, что Николаевский проявит твёрдость и будет под присягой откровенен? Он мог и солгать. Стороны уголовного процесса не имели права выражать недоверие своим свидетелям. Если бы Николаевский стал врать, то Хартулари пришлось бы промолчать и сделать вид, что он слышит именно то, что рассчитывал услышать. И это означало бы провал защиты.
Был способ принудить Николаевского сказать правду. Дать понять, что защите известны те грубые нарушения процедур патологоанатомического и судебно-химического исследований, которые были допущены по вине доктора. Разумеется, не обвинять в этом доктора, но намекнуть, что наказание за подобные нарушения вполне возможны. Если бы Николаевский узнал, что адвокат знает о его прегрешениях, он бы не пытался его обмануть.
Вся беда заключалась в том, что следственные материалы, скомпонованные искусной рукой обвинителя, не содержали никаких указаний на нарушения процедур исследования тела и органов покойного. История с пропавшей печенью никак не фигурировала в документах, все протоколы были должным образом оформлены; адвокат при всем желании не смог бы доказать грубое нарушение, допущенное при аутопсии, проведенной без прозектора. Ну, вызвал бы Хартулари «подставного» адъюнкта в суд, явился бы военный офицер-медик, щелкнул бы каблуками, оттарабанил всё, что заучил со слов полковника Прознанского и… спокойно ушёл бы домой. Между тем, именно некачественно проведённое вскрытие тела Николая Прознанского лишило защиту свидетельств того, что молодой человек был жив в седьмом часу утра 18 апреля, а значит, он никак не мог быть отравлен Жюжеван накануне вечером.
Адвокат мог самым тщательным образом проштудировать уголовное дело, но это никоим образом не помогло бы ему при допросе Николаевского. Надо было признать, помощник прокурора очень грамотно работал с документами, ничего лишнего в следственное дело не попало!
Итак, защита не имела никаких выходов на доктора. Более того, адвокат из материалов дела даже догадаться не мог, что именно доктор Николаевский держит в руках самую существенную нить дела, является, фактически, самым важным для защиты свидетелем. Сам же доктор Николаевский в силу очевидных причин, требовать своего допроса никогда не станет. Ему надо жить в столице, ему надо кормить семью. Надо быть сумасшедшим, чтобы явиться в суд и сказать: «Желаю быть допрошенным меня по поводу врачебной тайны, доверенной мне пациентом!»
В сложившейся ситуации Шумилов видел только один выход.
Идти на официальную встречу в кабинет к присяжному поверенному было не совсем удобно прежде всего по соображениям служебной этики. Как ни крути, а Шумилов был представителем обвинения, т. е. прямым соперником Хартулари на предстоящем процессе. И выступая ходатаем в защиту обвиняемой, он совершал поступок в интересах противоположной стороны.
Разумнее было бы встретиться на нейтральной территории, в неофициальной обстановке. Трезво обдумав ситуацию, Шумилов послал мальчишку-курьера с запиской в контору Константину Федоровичу Хартулари, приглашая последнего прогуляться по Летнему саду. Хотя записка была оставлена без подписи, Шумилов не сомневался, что адвокат заинтересуется «важной информацией, касающейся дела, над которым Вы сейчас работаете». По крайней мере, сам бы Шумилов подобное предложение принял.
Алексей Иванович был много наслышан о прекрасных деловых качествах адвоката, о его вдумчивой работе со следственным материалом и особой манере вести дело в суде. Кто бы ни предложил Жюжеван этого защитника, она сделала очень хороший выбор. Хартулари сразу же внушал доверие спокойной убежденностью в своей правоте, деликатностью манер, которая порой так диссонировала с жестокостью и грубостью его подзащитных, настоящих убийц, насильников и прочих изуверов. Казалось, суд — это совсем не его место. Но на самом деле, в груди этого маленького худенького человека билось воистину львиное сердце искреннего защитника невинных. Можно было не сомневаться, этот адвокат, исполняя нравственный долг, сделает всё, что в человеческих силах и даже чуточку больше.
Наблюдая за бестолковыми утками, воцарившимися в пруду после удаления из него на зимовку лебедей, Шумилов отрешённо думал, что предстоящая встреча и то, что последует за ней, возможно, перечеркнёт его дальнейшую карьеру в прокуратуре. Но отступать он не хотел. Будь что будет.
Константин Федорович Хартулари зашёл в Летний сад со стороны Михайловского замка и неспешно двинулся по дорожке на противоположной стороне пруда. Он не знал, кто назначил ему встречу и теперь ждал, когда к нему подойдут. Шумилов, оглядевшись по сторонам — нет ли поблизости знакомых лиц? — двинулся наперерез. Они не были официально представлены друг другу, но в окружном суде встречались не раз и в лицо друг друга, конечно же, знали.
Шумилов быстро нагнал Хартулари.
— Константин Фёдорович, это я написал Вам записку, — заговорил Шумилов и прочитал в глазах присяжного поверенного недоумение, — Шумилов Алексей Иванович, первое отделение, следственная часть.
— Да-да, Алексей Иванович, разумеется, узнаю Вас. Хотя все это очень неожиданно.
Они сели на садовую скамью одну из многих на аллее вдоль Фонтанки. В Летнем саду в этот послеполуденный час было множество гуляющих: няни с детьми, стайки гимназистов и гимназисток, пожилые дамы с зонтиками.
— Я хочу сообщить Вам, Константин Фёдорович, о серьёзном процессуальном нарушении, о котором Вы при всем желании не смогли бы узнать иным способом, — начал Шумилов, — Дело касается судебно-химической экспертизы изъятых в процессе анатомировании Николая Прознанского органов. Доктор Николаевский, семейный врач Прознанских, лечивший Николая от краснухи, договорился об ускорении экспертизы и для этого повез извлеченные из тела Николая Прознанского органы в Петербургский университет. Но дело было вечером, везти их в университет было поздно. Он решил подержать их до утра у себя дома и уже утром отвезти экспертам. Но произошло непредвиденное — обычный уличный вор украл саквояж с печенью, и нашли его только на другой день на воровской малине. Всю эту историю скрыли, чтобы не подставлять доктора под удар — уж больно уважаемый, авторитетный человек.
— Что Вы говорите? — изумился Хартулари, — Правильно ли я понял, что доктор забрал органы из Медико-хирургической академии, отвёз их на свою квартиру и только на следующее утро доставил в университет?
— Именно так. Попутно у него украли саквояж с судком, в котором находилась печень Николая Прознанского.
— Невероятно. Одно это нарушение позволяет дезавуировать результат экспертизы. Ни один суд не примет результат, полученный с таким нарушением определенной законом процедуры, ведь её наиважнейшая задача — обеспечение недоступности исследуемого материала посторонним лицам. А доктор Николаевский именно такое постороннее лицо. И около полусуток внутренние органы Николая Прознанского находились в его бесконтрольном распоряжении. Вдруг доктор сам влил яд?
— Я уверен, что он этого не делал, — убежденно сказал Шумилов.
— Я тоже. Но допущенное нарушение позволяет на законном основании исключить экспертизу из числа доказательств, — сказал задумчиво Константин Федорович, — Неужели Шидловский, зная это, закрыл глаза?
— Представьте себе. И кстати, это не самое вопиющее нарушение закона с его стороны.
— Что ещё?
— Доктор Николаевский сообщил Шидловскому о том, что Николай Прознанский страдал фимозом. Молодой человек был физически неспособен осуществить половой акт. Разумеется, это сообщение полностью развенчивало миф об интимных отношениях Николая Прознанского с Жюжеван и разрушало всё обвинение. Вадим Данилович запретил доктору рассказывать об этом кому бы то ни было, даже мне. Потом, правда, Шидловский не удержался и сам поведал мне о существовании этого заболевания у Николая.
— Чудовищно… — пробормотал адвокат, — Но для чего Шидловский фальсифицирует дело? Ведь он должен снять обвинение!
— Я подозреваю, что помощник прокурора действует в крепкой связке с полковником Прознанским. Вольно или невольно Шидловский позволил манипулировать собою. На самом деле процесс фальсифицируют Дмитрий Павлович и Софья Платоновна Прознанские. Шидловский им просто не мешает. В силу каких-то соображений, полагаю, карьерных, ему выгоднее потрафить им.
— Вы полагаете, что показания прислуги — Яковлевой и Радионовой — организовал полковник? — уточнил Хартулари.
— Я в этом не сомневаюсь. Он манипулирует людьми на работе, он манипулирует людьми и дома.
— М-да, — задумчиво протянул адвокат, — Воистину, муж и жена — одна сатана. Видимо, смерть сына их очень сблизила. Адюльтер полковника прощён и забыт женою. Вот только Софья Платоновна не забыла и не простила свою обидчицу.
— Вы в курсе, что полковник имел интрижку с Жюжеван? — уточнил Шумилов.
— Да, моя подзащитная об этом мне рассказала. Скажите, Алексей Иванович, а Вам какой резон выступать защитником обвиняемой? Вы же рискуете карьерой! Если то, что Вы говорите является правдой хотя бы наполовину, то я просто уничтожу Шидловского в суде. А он в свою очередь уничтожит Вас. Вы же умный человек и способны смотреть вперёд.
Шумилов не любил выспренных разговоров о «долге и чести» и всячески избегал патетики в повседневном общении. Поэтому вопрос присяжного поверенного вызвал у него лёгкое раздражение. Он поднялся со скамейки, давая понять, что заканчивает разговор:
— Как тут ответить, Константин Фёдорович? Думаю, девять из десяти людей благородного звания посчитают меня дураком. И наверное, будут по-своему правы. Но раздумывая над тем, что я должен защищать — честь синего мундира жандармского полковника или честь невиновной женщины — я почему-то выбрал второе. Должно быть, воспитан скверно.
Хартулари поднялся следом, подал руку:
— Разыщите меня, пожалуйста, за день-два до процесса. Возможно, потребуется что-то уточнить.
На том они и расстались.
По прошествии трёх недель, 4 ноября 1878 г. Алексей Иванович опять встретился с адвокатом. До открытия судебных слушаний оставался один день. Председатель окружного суда Анатолий Федорович Кони уже разослал пригласительные билеты на места в зале. Ожидалось, что на процесс явятся высшие чиновники Сената, министерств госимуществ и внутренних дел, штаба корпуса жандармов. Пять билетов на процесс Жюжеван испросило министерство двора, стало быть, могли появиться персоны из ближайшего монаршего окружения.
Газеты оповестили о том, что дело кажется прозрачным и понятным, хотя и нетривиальным. А давеча Шумилов прочитал заметку, где упоминалось заявление адвоката, в котором Хартулари сказал, что «не допускает даже мысли об осуждении Жюжеван». Одним словом, дело об отравлении 18-летнего юноши было у всех на слуху и волновало многих в столице.
Шумилов и Хартулари встретились в Летнем саду на том же месте, где расстались.
— Я должен Вас поблагодарить, — начал адвокат, — С Вашей помощью, полагаю, мне удастся отбить обвинение.
— Благодарить рано. Сказанное ещё только предстоит сделать, — ответил Алексей Иванович.
— Я виделся с доктором Николаевским. Вы знаете, это честный человек. Он очень тяготился сложившейся ситуацией. Мне показалось, он даже обрадовался, что его тайна известна мне. Не беспокойтесь, он не знает источника моей осведомленности, — поспешил успокоить Шумилова адвокат.
— Ваша таинственность, боюсь, мало мне поможет. Шидловский поймет от кого произошла утечка. Скажу дальше больше: если он прямо меня спросит, я прямо ему и отвечу как есть. Молчать не стану. Вы лучше скажите, с Вашей стороны осечки не будет?
— Не будет, — тон Хартулари был уверенный и даже довольный, — Им придется её отпустить. Мы докажем её полную непричастность к смерти воспитанника.
— Вы отведёте экспертизу? — попробовал угадать Шумилов, — Я бы действовал именно так. Чтобы наверняка. Без экспертизы не может быть обвинительного приговора.
— Я пока не уверен в том, как буду действовать, — уклончиво ответил Хартулари, — Боюсь, Алексей Иванович, отвод экспертизы будет слишком банален. Кроме того, всегда в подобных случаях остается осадок — дескать, освобождение состоялось не силу невиновности обвиняемого, а потому лишь, что формальное нарушение процедуры помогло защите. И тот же Шидловский будет на всех углах проклинать Ваше имя и твердить, что если б не поспешность доктора, то уж порок точно бы был поражён в самое сердце. В дураках останетесь Вы и Николаевский, а Шидловский с полковником Прознанским останутся в белых фраках «чище снега альпийских вершин», как сказал Некрасов. Нет, тут надо шваркнуть от души, так чтобы Вадима Даниловича раздавить всмятку.
Это просторечное «шваркнуть», так неподходящее облику рафинированного адвоката, ярко показало кипевшее в нем негодование.
— Я склоняюсь к мысли, — продолжал Хартулари, — вызвать доктора в качестве свидетеля защиты. Каково?
— Это будет неприятным сюрпризом для Шидловского. Полагаю, он даже схватится за сердце.
— Очень на это надеюсь, — адвокат кивнул, — доктор Николаевский добропорядочный человек, он не станет лгать под присягой и расскажет о фимозе. Тогда всем станет ясно, что эти разговоры о связи Жюжеван с воспитанником яйца выеденного не стоят. Но и это еще не всё! — продолжал адвокат, — Я подробно расспросил доктора, с пристрастием, — Хартулари улыбнулся, — И прелюбопытную, знаете ли, подробность он поведал, такую, которая вконец освобождает нашу подзащитную от любых подозрений.
— И что же это?
Хартулари переждал минутуку, пока мимо скамейки проходила бонна с двумя маленькими девочками, так и порывавшимися залезть в громадную кучу опавшей листвы. Константин Федорович проводил их взглядом.
— Утром, в день смерти, когда доктор явился к Прознанским, он застал тело покойного еще теплым! Вы понимаете что это значит? Что смерть наступила сравнительно недавно. Горничной Яковлева рассказывала о том, что она в седьмом часу утра слышала чирканье спички в комнате Николая, выходит, она не врала.
— Я тоже думаю, что не врала, — согласился Шумилов, — Только больше от неё никто этих показаний не услышит. Думаю, полковник Прознанский провёл со свидетелем необходимую работу и Матрёна живо все забыла.
— Я даже не сомневаюсь, что она всё забыла, — согласился Хартулари, — но сейчас речь не об этом. Получается, что смерть Николая Прознанского действительно наступила около семи часов утра, примерно за полтора часа до момента, когда это обнаружила мать покойного. Если бы яд действительно давала Жюжеван накануне вечером, то к моменту приезда Николаевского тело молодого человека было бы не только холодным, но и уже окоченевшим.
— Свидетельство Николаевского подводит нас к однозначному выводу: убийства не было. — заключил Шумилов.
— Да, да, Алексей Иванович, получается, что Николай Прознанский покончил с собой. Знаете, есть самоубийцы поневоле, так сказать. Это когда у человека просто нет другого выхода: или тяжкая неизлечимая болезнь, или безвыходная жизненная ситуация, угроза позора, потери чести, плена, наконец. А тут другое. Тут сильнейшая юношеская депрессия, вызванная ощущением одиночества и непризнанности. Да еще эта болезнь вкупе с фиаско на любовном поприще — все это сыграло роль.
— Я бы иначе сказал. Николай Прознанский — самоубийца из мести, мести близким, так сказать, — добавил Шумилов, — Но он, хитрец, он всё устроил, чтобы придать видимость, будто с ним расправилась мифическая радикальная группировка. Он и письмецо настрочил в канцелярию градоначальника загодя. Чтобы потом, когда начнется розыск, это обстоятельство подкрепило его вымысел. Он и папиросы отравил. Он рассчитывал всех запутать. Дабы папа и мама, заламывая руки, скорбели о нем! Да чтобы Верочка Пожалостина сокрушалась, ах, каким романтичным был Николай Прознанский, в какую загадочную интригу он попал, а я-то и не распознала в нём человека незаурядной судьбы! Тьфу, противно! Заварил кашу, сопляк, и теперь невиновный человек который уже месяц находится в тюрьме.
— Не думаю, что Николай Прознанский специально хотел навести подозрение на Жюжеван, просто так вышло.
— Разумеется, — согласился Шумилов, — подозрение на неё навели Дмитрий Павлович и Софья Платоновна. Полагаю, сынок был бы страшно возмущён, если бы узнал во что трансформировался его глубокомысленный замысел. Он-то думал о карбонариях, о заговорах, о ядах, о том, как высшая полиция по всем углам Империи бросится трясти политических преступников. А вместо этого папа с мамой состряпали пошлый сюжет с гувернанткой в главной роли. Ожидалась трагическая рыцарская баллада, а получилась какая-то пошлейшая песнь менестреля!
Они поговорили еще немного. Но разговор на отвлеченные темы не вязался: каждый думал о предстоящем деле. Пожимая на прощание руки, Хартулари сказал задумчиво:
— Зло часто побеждает. Но не в этот раз. Ибо нравственный закон — это не абстракция, это то, что даёт силы правому человеку быть правым.
18
Настало 6 ноября, день суда. С раннего утра Алексей Иванович явился на службу для завершения последних приготовлений. Накануне он лично объехал свидетелей обвинения, заявленных для представления перед судом присяжных. Все были в городе, никто не заболел, не заявил об отказе выступить в суде. Шидловский расписал очерёдность их допросов на заседаниях, благодаря чему перед жюри присяжных должна была развернуться яркая картина нравственного падения уважаемой дотоле женщины под пагубным влиянием аморальной связи и необузданной ревности. И результатом этого безудержного падения явилась трагическая гибель прекрасного молодого человека, только вступавшего в жизнь.
Уже за два часа до открытия заседания, запланированного на десять утра, перед зданием окружного суда на Литейном стала собираться толпа, жаждавшая попасть на свободные места в зале. Ожидалось, что таковых мест будет не более пятидесяти, поскольку остальные были закреплены за гостями с пригласительными билетами. В числе последних была многочисленная родня потерпевшего, представители различных столичных ведомств (зачастую не имевших никакого отношения к правосудию), а также почти три десятка корреспондентов столичных газет.
Председательствовал на процессе Анатолий Федорович Кони, сравнительно молодой юрист, сделавший в министерстве юстиции головокружительную карьеру. Даже оправдательный приговор Вере Засулич, процесс по делу которой также вел Кони, не особенно повредил ему. Министр юстиции Пален предложил Кони уйти в отставку; последний этого не сделал. Уже одно то, что председатель окружного суда — пусть и столичного! — позволял себе манкировать мнением министра, свидетельствовало о том, что Анатолий Фёдорович чувствует себя в коридорах власти весьма уверенно. Говорили, что своим крепким положением в обществе Кони обязан сенатору Таганцеву, известному юристу, лекции которого Шумилов слушал в училище правоведения. Именно через Таганцева председатель суда имел приватные выходы на высших сановников Империи, способных защитить его от дурного расположения всесильного на тот момент Палена. Кони прошел все ступени прокурорской работы, не по наслышке знал следственное производство, разбирал дела сектантов; он был известен своим ироничным образным языком и по праву признавался всеми весьма компетентным юристом.
Шумилову очень хотелось своими глазами понаблюдать, как поведёт процесс Кони, но осуществить это намерение практически было нереально. Шидловский отвёл Алексею Ивановичу роль опекуна свидетелей. С одной стороны, Шумилов должен был обеспечить недоступность свидетелей обвинения посторонним лицам, в особенности журналистам, с другой стороны — гарантировать их своевременное прибытие для выступления в зал судебных заседаний. До выступления свидетели не могли находиться в зале, дабы не слышать ту информацию по делу, которая будет оглашена до их появления. После дачи показаний свидетель мог остаться для дальнейшего наблюдения за ходом процесса и занять отведённое ему место в зале.
До вызова же свидетели должны были находиться в особом помещении — камере свидетелей. Это была обычная комната с двумя высокими окнами, выходившими на Литейный проспект, и грубыми деревянными скамьями вдоль стен. Хотя это помещение и называлось «камерой», с тюремным застенком оно ничего общего не имело: здесь можно было читать газеты, курить, даже попросить принести чаю со сдобой, разумеется, за свой счет. У защиты и обвинения были свои свидетельские камеры, дабы представители противоборствующих сторон, вынужденно проводя время вместе, не вступили в конфликт. Теоретически на дверях свидетельских камер должны были стоять судебные курьеры, призванные пресекать попытки посторонних поговорить со свидетелями, но на практике это требование не всегда соблюдалось. Поэтому Шумилову надлежало проконтролировать должную изоляцию свидетелей обвинения. Руководствуясь соображениями этикета Шидловский распорядился родителей Николая Прознанского в свидетельскую камеру не помещать, а предложить им подождать вызова во французской кондитерской на Захарьевской улице. Лишь за десять минут до вызова Дмитрия Павловича для дачи показаний Шумилову надлежало провести их в здание суда и объяснить где можно оставить шинель, где остановиться, в какую дверь войти и пр. Одним словом, Шумилову предстояло много беготни и суеты, по большей части совершенно надуманной. Но Шидловский хотел, чтобы все прошло без сучка и задоринки.
Из-за этого Алексей Иванович наблюдал ход процесса фрагментарно, хотя большую часть времени находился буквально в нескольких метрах от дверей в зал заседаний.
Суд начался в положенное время с довольно продолжительной и насквозь формализованной процедуры отбора жюри присяжных. Хартулари задал несколько уточняющих вопросов по некоторым кандидатам в жюри, получил на них ответы и в конечном итоге никого отводить не стал. Председательствующий назначил основной состав жюри, двух запасных, отпустил тех лиц, которые в жюри не попали. Проинструктировав присяжных о порядке слушаний, их правах и обязанностях в ходе заседаний, Кони, наконец, открыл процесс. Он прочитал формулировку обвинения, поименно назвал представителей сторон, затем обратился к Жюжеван с вопросом, понимает ли она сущность выдвинутых против нее обвинений? Та ответила, что понимает. На следующий вопрос, признает ли себя виновной? ответила жестко: «Категорически нет!»
Шумилов имел возможность наблюдать эту часть процесса, находясь за столом обвинителя. Шидловский располагался рядом на хлипком для его тучной фигуры венском стуле, держа наготове стопку листов с текстом обвинительного заключения.
После того, как председательствующий обратился к нему с предложением огласить обвинение, Шидловский поднялся и приступил к зачитыванию текста. После оглашения обвинительного заключения секретарем были зачитаны протоколы осмотра тела Николая Прознанского и судебно-химического исследования его внутренних органов. Хартулари и Жюжеван в ход заседания не вмешивались, вопросов не задавали и ходатайств заявляли. Защита выглядела совершенно пассивной.
К концу третьего часа заседания Шидловский склонился к уху Шумилова: «Пожалуй, до перерыва успеем заслушать первого свидетеля. Сходи, предупреди и сам там оставайся, во время перерыва — чего доброго! — писаки в свидетельскую камеру полезут».
Допрос своих свидетелей Шидловский начал с друзей Николая Прознанского. Это были люди образованные, с хорошо развитыми навыками устной речи. Они произвели бы благоприятное впечатление на присяжных. Кроме того, не обвиняя прямо Жюжеван, они бы задали нужное направление суду, постепенно усиливая впечатление от сексуального компонента криминальной интриги. Спешнев, Павловский, Соловко — в таком порядке молодые люди должны были появляться за свидетельским местом. Шидловский их расставил таким образом, чтобы, по его словам, «с каждым свидетелем рос градус фривольности».
Первый допрос прошёл вполне успешно. После него был объявлен перерыв и Шидловский встретил Шумилова в коридоре перед камерой свидетелей.
«Всё идет хорошо», — бодро заверил помощник прокурора, — «Хартулари вял и безынициативен. На его месте следовало грызться за любую запятую, а он проглотил рассказ Спешнева почти без вопросов. Не знаю, далеко ли он уедет с таким отношением к делу!»
Многие адвокаты, как прекрасно знал Шумилов, прекрасно владеют методикой допроса свидетеля, сводящейся к запутыванию юридически неподготовленных людей и умение заметить мелкие несоответствия в их показаниях. Можно было спорить с тем, сколь нравственен был такой подход к делу, но он себя иногда весьма оправдывал. Обычно после работы таких адвокатов со свидетелями последние выкатывались из зала суда с потными перекошенными лицами и трясущимися руками. Зачастую они срывающимся звенящими голосами пытались продолжать полемику в коридоре, хотя там сказанное ими уже никого не интересовало. Видимо, Константин Фёдорович Хартулари решил отойти от подобной практики, не видя в ней особого смысла на данном процессе.
После перерыва допрос свидетелей обвинения продолжился. Шумилов же был в свидетельской камере неотлучно, поскольку основные казусы обычно начинались во второй половине дня. Кто-то из свидетелей мог из любопытства отправиться на экскурсию по зданию судебных установлений и заблудиться, такое бывало. У кого-то мог прихватить живот и такой свидетель тоже мог покинуть камеру без возврата. Третий мог отправиться за баранками с маком в ближайшую чайную и к моменту вызова для дачи показаний его могло не оказаться на месте. Одним словом, свидетели имели способность расползаться как жуки из коробки и Шумилов, зная последовательность допросов, следил, чтобы когда надо всяк был на своем месте.
В половине пятого пополудни был объявлен перерыв на четверть часа для проветривания помещения. Были открыты громадные — в три стекла — окна и публика, дабы не замерзнуть на ноябрьском сквозняке, потянулась на выход. Алексей Иванович, заглянув в опустевший зал, увидел поразительную сцену: пожилой сановник в вицмундире с «Анной» и «Владимиром», из тех, кто занимают почётные места за судейской кафедрой, опустился над корзиной для бумаг и что-то там перебирал. Корзина явно была извлечена из-под места судьи, поскольку свои манипуляции благообразный старец совершал подле кресла Кони. Розовая лысина уважаемого сановника блестела и всё его круглое толстенькое тело явно испытывало непривычное напряжение. Обладатель орденоносного вицмундира очень напоминал старого плешивого шимпанзе, копающегося в ведре в объедками — Шумилов видел однажды такую сцену во время перерыва циркового представления. Алексей Иванович едва не расхохотался, до такой степени благообразный старец был нелеп и смешон. Видимо, найдя то, что искал, сановник выпрямился, разложил на судейской кафедре какие-то клочки и принялся тщательно их складывать. Вид в эту минуту он имел задумчиво-преглупый. «Что здесь происходит?» — недоуменно спросил Алексей Иванович у стенографа, стоявшего подле него в дверях и тоже наблюдавшим за дикой сценой. Тот, кривя улыбкой губы, тихо ответил:
— Во время заседания свидетель Соловко постеснялся произнести вслух неприличное слово, которым покойный назвал обвиняемую, всё-таки судебная стенограмма — это официальный документ, понимаете? Соловко по предложению судьи написал это слово на листе бумаги. Кони листок этот прочитал и попросил старшину присяжных показать его членам жюри. Ну, показали, всё чин чином! Потом листок разорвали и бросили в мусорную корзину. И вот теперь главноуправляющий… — стенограф коротко хрюкнул, давясь смехом, — … Второго отделения… Его Императорского… Нет, я не могу это видеть!
Он выскочил за дверь, боясь привлечь к себе внимание вельможного сановника.
Шумилов увидел, как к старичку подошел Анатолий Федорович Кони и негромко произнес: «Ваше превосходительство, Вы подаете публике дурной пример, столь неосмотрительно рискуя своим здоровьем на опасном ноябрьском сквозняке. Если Вас так интересует написанное, то напомните мне об этом по окончании процесса и я удовлетворю Ваше возвышенное любопытство». Акустика в зале была прекрасной и Шумилов без затруднений расслышал сказанное.
После перерыва слушание дела возобновилось и продолжалось до конца дня. Всё по-прежнему шло спокойно, без отклонений от плана обвинения. Уже после закрытия заседания Шумилов встретил в коридоре помощника прокурора, на ходу отвечавшего на вопросы каких-то важных персон, наверняка, приглашенных на суд в качестве зрителей. Отделавшись от назойливых собеседников, рассчитывавших услышать от обвинителя истину в последней инстанции, Шидловский кратко проинструктировал Шумилова на следующий день и добавил:
— Завтра будут слушания в закрытом режиме. День начинаем с допросов прислуги и потом — завершающий аккорд! — выход Дмитрия Павловича. Хартулари закрутится у меня как уж на вилах!
На следующий день зал судебных заседаний был пуст. Ожидалось, что по крайней мере до обеда слушания будут проводиться без допуска зрителей, поскольку обстоятельства дела требовали оглашения интимных подробностей.
Прознанские уже с десяти утра сидели во французской кондитерской, хотя их вызов для дачи показаний ожидался не ранее половины двенадцатого. Шидловский положил на допрос каждой из служанок от сорока минут до часу, рассчитывая натолкнуться на затяжное противодействие Хартулари. Однако, защитник, как и в первый день, остался индифферентен к происходившему в зале.
Шумилов наблюдал допрос Матрены Яковлевой, с которого начался этот день, практически с самого начала. Матрёна, отвечая на вопросы Шидловского, бодро оттарабанила хорошо заученный текст и в целом её рассказ выглядел весьма реалистично. Шумилов обратил внимание на то, что в рассказе Матрёны появилось упоминание о зажжённой в седьмом часу утра в комнате Николая Прознанского спичке. Алексей Иванович был готов поклясться, что сделано это было неслучайно: Шидловский явно позволил появиться данной реплике в надежде, что Хартулари уцепится на эту фразу, начнёт вокруг неё крутиться, доказывать присяжным её значимость, а Матрёна, в конце-концов, признается, что ни в чем твердо не уверена и возможно ошибается. И тем самым выбьет из-под доводов защитника всякую почву.
«Ну стратег, ну теоретик!» — подумал Шумилов. От этих хитростей делалось как-то неприятно.
Когда Шидловский закончил опрос Матрёны Яковлевой и передал свидетеля адвокату, Хартулари вышел из-за своего стола и, заложив руки за спину, негромко сказал: «Второй уже день на глазах уважаемого жюри разворачивается удивительное действо, имеющее к правосудию столь же малое отношение, как и к жизненной правде. Защита испытывает сильный соблазн схватить за руку недобросовестное обвинение, но любопытство досмотреть до конца оригинальную постановку пересиливает раздражение на никуда не годных актеров. Защита многое могла бы сказать относительно только что заслушанных вами показаний, но вместо этого она просит членов уважаемого жюри потерпеть ещё немого до скорой уже развязки. К свидетелю Яковлевой защита вопросов не имеет.»
Шидловскому следовало бы призадуматься над многозначительными словами защитника. Впрочем, даже если он и заподозрил бы неладное, в его распоряжении уже не оставалось времени что-то изменять.
Пока обвинитель допрашивал Радионову, Шумилов сходил в кондитерскую и привёл полковника Прознанского в свидетельскую камеру. Супруга его была рядом на тот случай, если вдруг обвинитель сочтет нужным допросить и её. Хотя изначально такой допрос не планировался Шидловским, тот не исключал, что надобность в нём может возникнуть.
Полковник, дожидаясь приглашения в зал, взволнованно мерил шагами свидетельскую камеру и ему, как будто, было несколько не по себе. Такое волнение казалось неожиданным: Яковлева, например, на его месте вела себя куда спокойнее.
Впрочем, всякое волнение полковника Прознанского испарилось, едва он появился перед жюри присяжных. Шумилов имел возможность выслушать завершающий фрагмент допроса полковника обвинителем, как раз выяснение деталей весьма красочно описанной сцены сексуального контакта сына с гувернанткой. Дмитрий Павлович был обстоятелен, по-военному чёток в ответах и чрезвычайно хорош в шитом золоте мундире с орденами. Видимо, его рассказ произвел определенное впечатление на присяжных заседателей, поскольку Шидловский, передавая свидетелю защитнику, довольно потирал руки. Да и сам полковник выглядел удовлетворённым, как человек с честью выполнивший свой долг.
Хартулари заговорил с Прознанским несколько даже иронично, впрочем, такой тон можно было считать вполне даже адвокатским:
— Господин полковник, а покойный Николай Дмитриевич вообще-то читал по-немецки?
— Да, он знал довольно по-немецки, — с достоинством ответил Прознанский.
— А почему Вы предложили ему для чтения такую странную книгу?
— Чего же тут странного? Это книга как раз о том пороке, к которому у него могла развиться привязанность, — тон полковника был очень наставителен. Вопрос защитника, видимо, показался ему весьма наивным.
— Ну, а почему Вы не дали ему книгу, скажем, о вреде содомитской любви? Или о грехе скотоложества? — не унимался Хартулари.
— Да причём же здесь содомитская любовь?! — полковник аж даже фыркнул над непроходимой тупостью адвоката.
— Может, я что-то неправильно понял, тогда Вы меня пожалуйста поправьте, — кротко заговорил Хартулари, игнорируя очевидное высокомерие полковника, — Из Ваших живописных показаний следовало, что Николай Дмитриевич держал на коленях обвиняемую и она ласкала его детородный орган рукой. Правильно?
— Именно так.
— Но при чем же тогда в этом случае онанизм?
— То есть как… — поперхнулся полковник Прознанский и задумался; видимо, только сейчас он заподозрил, что угодил в какую-то ловушку, подстроенную адвокатом, но пока ещё непонятную его уму.
— Если женщина удовлетворяет мужчину рукой — это петтинг. Онанизм, или говоря по-русски, рукоблудие — это самоудовлетворение. То есть удовлетворение полового чувства без присутствия свидетелей и участников. Поэтому книжка на немецком языке не могла служить к пользе Николая Дмитриевича.
Полковник покраснел и отчеканил:
— Не требуйте от меня компетентного ответа! Я не знаток по части извращений!
Похоже, Дмитрий Павлович был чрезвычайно доволен своим находчивым ответом. Хартулари, впрочем, тоже.
— Вот именно, — легко согласился он, — Так почему же в этой ситуации Вы не обратились за помощью к компетентному специалисту?
Удар был хорош… Полковник сидел красный, как рак и хлопал глазами. Казалось, его сейчас хватит удар. Адвокат, выждав несколько секунд и убедившись, что Прознанский не в состоянии додуматься до сколько-нибудь разумного ответа, снисходительно махнул рукой:
— Да Бог с ним, со специалистом. Будем считать, что Вы такое обращение сочли нескромным. Но вот ответьте мне на другой вопрос: а почему Вы лично не поговорили с сыном, застав его за таким весьма пагубным — с Вашей точки зрения — занятием?
— Это было бы неуместным, — после паузы выдавил из себя полковник. Следовало признать, что ответ был неудачен.
— Правильно ли я понимаю, господин полковник, что пафосно рассказывать в суде о безнравственной связи сына Вы считаете уместным, а приватно объяснить это самому сыну — нет?
Шумилов мысленно заапплодировал адвокату. Полковник вытащил из кармана платок, поскольку по лицу его градом покатился пот. Возможно, появление платка послужило сигналом Шидловскому, тот подскочил и с пафосным гневом закричал:
— Я протестую против… адвокат пытается навязать жюри оценку личности… совершенно недопустимая манера проведения допроса…
Кони не успел ничего сказать, как Хартулари поднял вверх обе руки, словно сдаваясь, и с улыбкой проговорил:
— Что Вы, что Вы, я отказываюсь от вопроса. Можете не отвечать, господин полковник… И так уже многое понятно.
— И против этого я тоже протестую, — гневно закричал Шидловский, — Ваши комментарии после моих слов недопустимы.
— Вообще-то, это я веду допрос, — резонно возразил адвокат.
Тут Кони ударил молоточком и тем пресёк пререкания.
— Господа, призываю вас остановиться. Господин защитник имеет ещё вопросы по существу? — и обращаясь к стенографам, добавил, — Последний обмен репликами в стенограмму не включать.
— Да, — кивнул Хартулари, — всего один вопрос. Господин полковник, а Вы уверены что именно ВАШ СЫН держал на коленях обвиняемую? Вы ничего не перепутали?
Тут Шумилов ещё раз мысленно заапплодировал адвокату. Хартулари просто издевался над полковником. Конечно, до поры скрытый подтекст сказанного был непонятен присяжным заседателям, но когда всё станет на свои места, они должны будут по достоинству оценить последний вопрос.
Шидловский опять резво подскочил с места, грозя сломать свой хлипкий стул, и заверещал:
— И снова я протестую… Это вообще ни в какие рамки… Полчаса свидетель под присягой дает показания, а под конец ему задают вопрос, дескать, не перепутал ли о чем говорит? Это же суд, а не жёлтый дом!
— Ну отчего же, — философски заметил Кони, видимо, заподозривший в вопросе некий скрытый подтекст, — вопрос задан корректно и по существу, пусть свидетель ответит.
Ай да Кони! Председательствующий почувствовал намёк на интригу.
— Я ничего никогда не путаю, господин присяжный поверенный, — отчеканил полковник. Он буравил Хартулари ненавидящим взглядом и обильно потел; казалось, будь у полковника под рукой пистолет — затрелил бы ненавистного адвокатишку без рассуждений.
— Благодарю, — развел руками Константин Федорович, — Защита вопросов более не имеет.
Наверное, в эту минуту Шидловский испытал искреннюю радость. Перекрёстные допросы свидетелей обвинения закончились. Теперь роли на процессе радикально менялись: защита должна была представлять свидетелей, которых обвинитель мог терзать по своему разумению. Но если помощник прокурора действительно испытал радость, то уже через несколько минут она неизбежно должна была смениться ужасом.
Потому что Хартулари вызвал в качестве свидетеля защиты доктора Николаевского. Шидловский, видимо, почувствовал, что ситуация выходит из-под контроля, поскольку обвинитель неожиданно повёл себя совсем не так, как должен был; помощник прокурора встрепенулся, поднял взгляд на судью и невпопад сказал:
— Вся медицинская документация представлена и может быть обсуждаема экспертами… и какой резон обращаться к врачу, ведь… если вопрос был рассмотрен ещё вчера?
Сумбурная фраза явно не была заготовлена заранее и то, как Шидловский состругал её из неоконченных предложений, с очевидностью продемонстрировало его растерянность.
— Адвокат имеет право заявлять любого свидетеля, — кратко обронил Кони.
Николаевский занял свидетельское место и Хартулари сначала бегло расспросил его об образовании, стаже работы, времени знакомства с семьей Прознанских. Николай Ильич поначалу заметно волновался, с опаской посматривал в сторону стола обвинителей, затем понемногу успокоился и заговорил ровно.
— Скажите, Николай Ильич, — перешёл к существенной части допроса Хартулари, — а Николай Прознанский был вообще-то здоровым юношей?
— Да, в целом так можно сказать.
— А в частности? Он имел дефекты, способные повлиять на его половую сферу?
— Да, Николай Дмитриевич страдал фимозом, это врожденный дефект детородного органа, препятствовавший его интимному сближению.
— Объясните, пожалуйста, в чём это выражалось.
— Короткая уздечка полового органа не позволяла обнажиться его головке при эрекции. Из-за натяжения кожи возникала сильная боль, которая приводила к спаду возбуждения и исчезновению эрекции. Иногда всё же происходило принудительное обнажение головки детородного органа, но в этом случае она оказывалась пережатой слишком узкой крайней плотью и начинался застой крови, чрезвычайно болезненный и, в принципе, опасный.
— Почему опасный?
— Из-за застоя крови возникала угроза омертвения головки детородного органа. Кроме того, попытки заправить головку под крайнюю плоть могли привести к надрывам кожи, чреватым внесением заражения в ранки. Это очень нежные места, травматичные, — пояснил Николаевский.
Шумилов наблюдал за Шидловским. Тот сидел как истукан, боясь шелохнуться. И что же творилось в его голове в эти минуты?
— Медицина может помочь при фимозе? — спросил Хартулари.
— Есть операции, устраняющие этот дефект. Например, рассечение уздечки, либо обрезание крайней плоти.
— Как у иудеев?
— Именно, как у иудеев, мусульман. Только в данном случае операция эта совершается не по требованиям религиозного закона, а по медицинским показаниям.
— Может быть, в данном случае какая-то из этих операций была все же произведена?
— Нет. Я предлагал, но Николай Дмитриевич боялся операции. Рядом с уздечкой у него проходила большая вена, он боялся, что из-за ошибки хирурга произойдет её повреждение и он останется калекой. Очень переживал по этому поводу и никаких доводов не хотел слышать.
— Он сильно переживал из-за фимоза?
— Да, очень сильно. Он ведь был сильным молодым человеком, по большому счету здоровым. Кровь так и играла. Вы можете представить, каково это, терпеть такого ограничение?
— Ну, монахи же терпят плотские ограничения, — заметил Хартулари.
— Монахи для облегчения зова плоти постятся. И их эрекция не сопровождается болью. И потом, семнадцатилетнему юноше ведь не скажешь: будь монахом, правда? — весьма здраво возразил Николай Ильич.
— Может быть, всё же Николай Прознанский мог провести половой акт в какой-то ограниченной или особой форме?
— Нет, при той форме фимоза, которая была у него — категорически нет.
— Может быть, при помощи руки это было возможно?
— Я Вам повторяю: он фактически не мог терпеть эрекцию, какой уж тут половой акт!
Хартулари помолчал, прошёлся по перед своим столом, потом извлёк из бумаг исписанный лист бумаги:
— Николай Ильич, я прочитаю Вам выдержку из дневника Николая Прознанского, объясните присяжным заседателям о чём пишет автор.
Адвокат прочёл тот фрагмент дневника, в котором Николай описывал посещение публичного дома.
— Это как раз тот момент, когда Николай имел возможность осуществить половой акт. Из текста можно заключить, что он пытался контролировать возбуждение и не доводить дело до эрекции, но не справился с этим. Это вызвало самые неприятные для него переживания. Как Вы сами можете заключить, он не испытал никаких положительных переживаний.
— Что ж, спасибо за исчерпывающие ответы. Пожалуй, последнее: родители Николая Прознанского знали о недуге сына?
— Да, разумеется. Конечно же, переживали, думали как помочь.
— Конечно, — механически повторил Хартулари, — а помощник окружного прокурора, присутствующий в этом зале, был проинформирован Вами?
— Да, разумеется, — с готовностью кивнул Николаевский, — я поставил его в известность.
Хартулари неожиданно повернулся к Шидловскому, в два шага подошёл к столу обвинения и наклонился над ним. В эту секунду маленький худенький адвокат нависал над тучным помощником прокурора, сидевшем на стуле и немо таращившемся на него. Хартулари посмотрел прямо в глаза Шидловскому и неожиданно-зычным голосом спросил:
— Так что же Вы, Вадим Данилович, комедию здесь ломаете?!
— Шта-а-а?!! — заревел Шидловский; он был в страшном гневе и, казалось, сейчас пустит в ход кулаки, — Эти дешёвые адвокатские трюки… эти клоунские ужимки… эти мизансцены… я с самого начала знал, что нам представят дурную постановку и не ошибся!
Но тут Кони стукнул молоточком. Судья был мрачен и не расположен к сантиментам. В отличие от обвинителя, Кони всё понял…
— Представители сторон, подойдите ко мне! — сказал он тихо, — Последний обмен репликами стенографу в протокол не заносить!
Все трое — судья, прокурор и защитник — склонив головы («ну, прямо три грации», — подумал не без иронии Шумилов) о чём-то зашептались. О чём они разговаривали догадаться было довольно трудно, лишь изредка из невнятного бормотания вычленялись отдельные слова: «обвинение уничтожено»…«отозвать и извиниться»…«осталось посыпать голову пеплом»…«скажите, что это ложь, и я ещё раз раздавлю Вас в открытом заседании». Наконец, Кони выпрямился в своём кресле и вторично ударил молоточком.
— Перевыв на час. После перерыва заседание продолжится в прежнем режиме!
Стало быть, по-быстрому договориться не получилось. Судья решил увести представителей сторон в свой кабинет, чтобы там найти приемлемую форму соглашения.
Но договориться им не пришлось. Шидловский отсутствовал ровно час и вернулся в зал судебных заседаний мрачнее тучи. Он прошёл на своё место за столом по правую руку от судьи, молча уселся и какое-то время тупо смотрел перед собой. Потом обернулся к Шумилову, сидевшему сзади.
— Вот что, голубчик, — сказал он шипящим шепотом, — Пошел вон! Ты мне здесь не нужен.
Алексей Иванович мог бы многое сказать в ответ, но лучше это было сделать не здесь и не сейчас. Он поднялся и вышел из зала. На душе было неожиданно легко, как будто он долго-долго тащил в гору камень, наконец, бросил его и понял, какое же это удовольствие идти без этой бесполезной ноши!
Покинув зал судебных установлений, он направился по месту службы, сел за стол и написал на чистом листе бумаги: «Прошу освободить меня от работы в делопроизводстве помощника прокурора Санкт-Петербургского окружного суда Шидловского В. Д. ввиду моего несогласия с его методами искажения расследуемых дел и игнорирования материалов, клонящихся к оправданию обвиняемой Жюжеван М. С момента подачи сего заявления не могу являться на службу ввиду того, что был отстранён от исполнения обязанностей устным распоряжением Шидловского В. Д.» Текст выглядел довольно коряво, зато юридически корректно. Прокурор суда, несомненно, испытает большие затруднения при разрешении поставленного перед ним вопроса. Надписав шапку и подписавшись, Шумилов спустился в канцелярию и попросил зарегистрировать документ.
Секретарь, уже заканчивавший рабочий день, прочитав принесенную бумагу, схватился за голову и сначала стал уверять, что не примет «заявления с такой формулировкой», затем начал уговаривать Шумилова «подправить и изменить документ». В конце-концов, потеряв терпение, Шумилов прикрикнул на секретаря: «Напишите в углу, что Вы отказываете в приеме, поставьте дату и свою подпись. Когда я стану судиться с Шидловским на заседание суда будет приглашён Сабуров, где я и покажу ему Вашу писанину. Думаю, прокурору очень не понравится то, что Вы присвоили себе право решать, какие документы на его имя принимать, а какие нет!» Секретарь после этих слов сдался, поставил входящий номер и зарегистрировал заявление в журнале входящих документов.
Дело приняло необратимый характер.
Через два дня в комнату, служившую Шумилову кабинетом, заглянула госпожа Раухвельд, домохозяйка. Вид она заговорщический.
— К Вам пришли господин, — она подала визитку, — и дама.
Визитка принадлежала Константину Хартулари. Шумилов выскочил в длинный, изгибавшийся буквой «Г» коридор и за поворотом, возле входной двери, увидел Жюжеван и адвоката. Они улыбались.
— Незваный гость хуже татарина! — засмеялся Хартулари, — Надеюсь, мы опровергли эту пословицу.
— Поскольку Вы здесь, я не спрашиваю, чем закончился суд, — ответил Шумилов.
Он представил домохозяйке своих гостей и все вчетвером расположились в большой гостиной. Хартулари извлек из принесённой корзинки пару шампанского и лукошко с клубникой. Раухвельд быстро организовала стол с самоваром и сдобой.
— У Мари начинается напряженная светская жизнь, её график расписан на месяц вперед, все её желают видеть, все хотят узнать, что же такого загадочного произошло на закрытом заседании, — со смехом заговорил Хартулари.
— Да-да, по освобождении прямо в зале суда мне стали дарить цветы, — закивала Жюжеван, — какой-то господин порывался немедля везти меня кататься в своей карете, а другой предложил выйти в залив на зафрахтованном пароходе. Я не ожидала, что за три дня стала такой популярной персоной.
Они пили шампанское и веселились. Более весомого повода для веселья, чем освобождение в зале суда, и придумать труднее.
— Расскажите, что случилось после того, как меня удалил Шидловский, — попросил Алексей Иванович.
— Я признаюсь, думал, что Шидловский умнее, — признал Хартулари, — во время переговоров судья предложил ему отозвать обвинение. В этом бы случае суд закончился уже на второй день. Но Шидловский уперся. Он не мог сказать ничего разумного, он просто трясся и твердил, что не допустит оправдания Жюжеван. Поэтому получилось ещё хуже для него же самого. Кони после перерыва опять вызвал на свидетельское место полковника Прознанского и теперь уже сам допросил его. Полковник вынужден был признать, что сам составил вопросы, которые прокурор задавал на допросах прислуге, т. е. горничной Матрёне Яковлевой и няне Алевтине Радионовой. Всем присутствующим окончательно стало ясно, что свидетельства этих маленьких, зависимых от Прознанских людей никак не могут претендовать на истинность. Они просто вызубрили то, что он них требовал полковник.
— Если бы полковник был человеком чести, он бы, наверное, должен был застрелиться прямо в зале суда, — сказала Жюжеван.
— Не будем говорить в таком тоне, — примирительно сказал Хартулари, — Второго трупа не хватало нам в этом деле! Но позорище, конечно, было великим. По большому счету, Дмитрия Павловича Прознанского следовало судить.
— Полковник был страшен, — добавила Жюжеван, — он багровел, сверлил глазами судью, у него же сабля на боку висела, я боялась, он зарубит Кони!
— После допроса полковника судья еще раз подозвал нас к себе и вторично предложил Шидловскому отказаться от обвинения, — продолжил рассказ адвокат, — Но тот как рогом уперся. Кони дал ему время подумать до следующего утра и закрыл заседание. Поэтому Мари провела в тюремной камере лишнюю ночь. На следующий день — уже в открытом режиме — последовало оглашение графологической экспертизы, долгое беспросветное мудрствование по этому вопросу. Шидловский клянчил у графолога утверждения о полной идентичности почерка Жюжеван с почерком анонимки, но так ничего и не добился. Я даже не стал допрашивать графолога, не о чем было спорить. После обеда заслушали заключительные речи обвинения и защиты.
— Вы знаете, как перевернулся Шидловский, — перебила адвоката Жюжеван, — в заключительной речи он стал утверждать, что любовные отношения между мной и Николаем «могли быть не обязательно плотскими». Вы представляете! Всё обвинительное заключение построено на тезисе об интимной связи, весь процесс Шидловский пытался доказать, что она существовала, а в заключительном слове, он сделал вид, будто ничего такого не утверждал.
Тут уже засмеялся Шумилов:
— Бедный Вадим Данилович! Стало быть, он не спал всю ночь, переписывал заключительное слово…
— И во время выступления обвинителя в зале стоял некий непочтительный гул, — заметил Хартулари, — Люди почувствовали, что на закрытом заседании произошло нечто, разрушевшее версию обвинения, но конечно, не знали, что именно и терялись в догадках.
— Зато посетители очень внимательно слушали Константина Федоровича. Я даже записала его некоторые тезисы, он прекрасно выступил, — Жюжеван извлекла из сумочки тетрадку, намереваясь прочесть записанное (Хартулари тут замахал руками: «Избавьте меня от цитирования меня же!»), — Ага, вот: История с рубашкой такая же неудачная выдумка, как и откровенность подсудимой о своей любовной связи. И потом еще: Упомянутые доказательства обвинения, по мнению моему, настолько слабы, что ссылка на них равносильна просьбе поверить на слово. И тут кто-то в зале выкрикнул: Так кто же убил?
— Да, зрители поняли уже, что обвиняемая к смерти Николая Прознанского отношения не имеет, — кивнул Хартулари, — Ну я и рассказал о том, как понимаю его самоубийство. О том, что он был отчужден от родителей, меланхоличен, хотя и умён, но ленив и учиться не любил. Неслучаен, я полагаю, выбор даты — 18 апреля — спустя ровно месяц с того дня, когда Николай был отвергнут Верой Пожалостиной. Не желая, чтобы его уход из жизни выглядел как признак слабости и мужской несостоятельности, Прознанский обставил его романтически-загадочно: написал анонимку, заронил зерно сомнения в души близких… А вдруг и правда есть некая законспирированная организация, с которой Николай имел некие загадочные связи и которая уничтожила его? Нечаевщина еще ведь у всех в памяти. История с папиросами, пропитанными морфием тоже неслучайна. Николай понимал, что после его смерти начнут вспоминать и по-новому оценивать события последних дней и отравление странными папиросами предстанет необъяснимо-загадочным предостережением. Близкие будут вспоминать об этом и сетовать: как же мы не уберегли его после первого покушения? не поняли? не насторожились?
— Присяжные долго совещались? — спросил Шумилов.
— Час сорок. Для процесса по убийству это пустяк, — ответил Хартулари, — Вердикт был предсказуем. Один Шидловский не хотел этого понимать.
— Алексей Иванович, расскажите что с Вами? Какова Ваша будущность? — поинтересовалась Жюжеван.
Шумилов кратко поведал о собственном заявлении и том, что уже два дня сидит безвылазно дома, перечитывая романы любимого Федора Михайловича Достоевского.
— Я думаю, прокурор окружного суда Вас вызовет в ближайшие дни, — заметил Хартулари, — Ваше заявление в его нынешнем виде он принять не сможет. Станет уговаривать написать по собственному желанию, либо взять бессрочный отпуск без содержания. Вот тут Вам есть прямой резон с ним поторговаться.
— Я тоже так думаю, — кивнул Шумилов, — Я напишу, что увольняюсь по собственному желанию, но при этом потребую хорошей аттестации.
— Если надумаете судиться с этими канальями, адвокат Хартулари в Вашем полном распоряжении в любое время и в любом суде России, — сказал Константин Федорович, — В прокуратуре Вам в любом случае больше уже не работать, Вас там не простят, даже если признают, что Шидловский — каналья. Займитесь земельным правом, если сговоритесь с прокурором насчет хорошей рекомендации, то проблем с работой юристом в каком-нибудь обществе поземельного кредита не возникнет.
— А я буду рассказывать всем, что Алексей Иванович Шумилов — честнейший юрист и лучший человек в прокуратуре петербургского окружного суда, — добавила Жюжеван, — буду направлять на консультации к Вам всех, кому таковые понадобятся.
— Спасибо, спасибо. Думаю, у меня начинается новая жизнь, — улыбнулся Шумилов, — Полагаю, процесс по делу Жюжеван — неплохой повод начать жить с чистого листа.
Эпилог
Прошло время. Алексей Иванович больше не служил в прокуратуре. После суда по делу Мариэтты Жюжеван его уволили, не выдвигая, правда, никаких формальных обвинений. И хотя он никому не рассказывал о своей роли во всей этой истории, информация непостижимым образом просочилась, и он стал некой легендарной личностью в юридических кругах. Как тут было не вспомнить слова его тетушки Анны Тимофеевны — Петербург — город маленький. Но сам Алексей Иванович считал, что жизнь его отныне неразрывно связана с сыском, правда, пока ему самому было неясно, где найдется применения его силам.
Вадим Данилович Шидловский служил всё там же. Но репутация его в прокуратуре заметно пошатнулась. Да и здоровье стало пошаливать — сердце, знаете ли…
Мариэтта Жюжеван не покинула Россию, как предсказывали недоброжелатели. Она осталась в Петербурге и вновь занялась преподаванием. Недостатка в учениках она по вполне понятным причинам не испытывала.

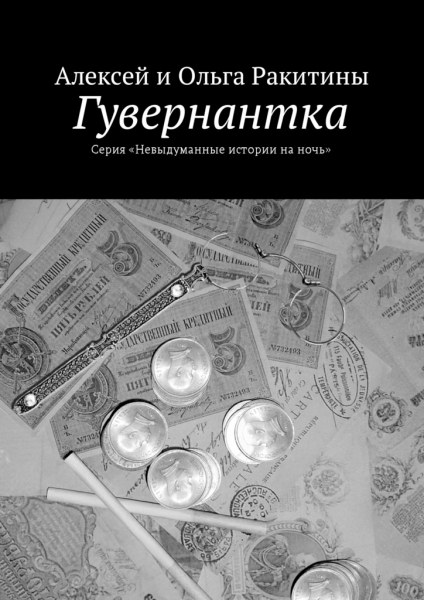





Комментарии к книге «Гувернантка», Алексей Иванович Ракитин
Всего 0 комментариев